Кристиан Синьол Унесенные войной
Памяти Эмильены Вирателль посвящается
Через двести, триста лет жизнь на земле будет невообразимо прекрасной, изумительной.
А.П. ЧеховВозможно, что человек идет по пути гуманизации, но не менее верным является и то, что и телом, и сомнительными инстинктами своими он остается глубоко ископаемым.
Теодор МонодВМЕСТО ПРОЛОГА
Судьба Франсуа, Матье и Люси Бартелеми, которые, несмотря на бедность родителей, были так счастливы в снежные рождественские ночи начала двадцатого века, сложилась по-разному. Франсуа, чудом вернувшийся с войны, обосновался на коррезской земле и женился на Алоизе, которая родила ему троих детей — Эдмона, Шарля и Луизу.
Матье отправился в Алжир, где купил хозяйство и женился на Марианне, дочери переселенцев. У них родились близнецы, что, впрочем, не мешает ему с ностальгией вспоминать родные земли.
Люси же уехала в Париж, как только ей исполнилось семнадцать лет, чтобы скрыть рождение Элизы, ребенка от Норбера Буассьера — сына владельцев замка, у которых служила Люси. Она вышла замуж за Яна, студента-немца, который увез Люси в Нюрнберг. Там Ян стал одним из самых ярых противников нацистского режима. Чтобы спастись от надвигающихся погромов, Люси вместе с сыном Гансом вернулась во Францию. Яна арестовали.
Ко времени, которое описано в конце романа «Noels blancs» («Снежное Рождество»), тридцать пять лет их жизни уже пролетели. Собравшись вместе в сочельник, 25 декабря, родня вспоминает путь, пройденный с первого дня тысяча девятисотого года, с того момента, когда они были так потрясены обыском в доме.
Действие книги «Унесенные войной» начинается летом тридцать девятого, в год, когда страшная угроза снова нависла над Европой. Франсуа с Алоизой все так же возделывают землю. В работе им помогает младший сын. Старший сын, Шарль, стал школьным учителем. Мать и отец им очень гордятся. Матье все так же далеко — он трудится в своем алжирском поместье, а Люси снова живет с Яном, которому удалось бежать из Германии. Они поселились в швейцарском городке на берегу озера Леман, где Ян преподает.
Но скоро война, и все это знают, и она придет, чтобы снова изменить ход их жизни, как и жизни тысяч других французов, которые прошли через двадцатый век, любя и страдая, стали свидетелями того, как неумолимо люди покидали деревни ради больших городов, свергая «старый мир» — тот, что сегодня уже почти растворился в тумане времени.
I МЯТЕЖНЫЕ ГОДЫ
1
Казалось, что июльское утро, как огромное зеркало, отражало свет, льющийся с неба. Луговые травы и листва деревьев блеском разбрызганной ночью росы приветствовали рождение нового дня в его первобытной красоте. Вчерашняя жара растворилась в приятной прохладе зари. Прозрачный рассвет на чистом небе, к которому Алоиза Бартелеми не могла поднять глаза, ослепительным взрывом сбрасывал бурлящие потоки серебристого света на еще дремавшую землю.
К счастью, в лесу свет был мягче. Держа корзинку в руке, Алоиза замедлила шаг, чтобы воспользоваться слабой тенью и вдохнуть тяжелый запах листвы, хвойных иголок и коры. Этот запах каждый раз убеждал ее в том, что она живет в мире, который создан для нее, в мире, который она никогда не покидала, где они были вместе с Франсуа вот уже… сколько же лет? Десять? Двадцать? Немного подумав, она вздохнула: вот уже двадцать восемь лет. Впрочем, война украла у них четыре года жизни, даже немного больше. Война чуть не стерла их с лица земли. Франсуа так до конца и не оправился от этого. Да и Алоиза тоже.
В прошлом году, когда Гитлер аннексировал Австрию, а за ней и Судеты, Франсуа охватила бешеная ярость. Он был убежден, что Франция и Германия снова на верном пути к войне. С того времени Франсуа почти не разговаривал. Успешное окончание Шарлем, их сыном, Эколь Нормаль[1] не вернуло ему былого веселья. Спокойствия ему не прибавило ни возвращение Эдмона, ни его женитьба на Одилии в 1937 году, ни помощь сына по хозяйству, ни взаимопонимание, которое царило в семье. Франсуа никак не мог прийти в себя. В его поведении появилась жестокость, иногда он срывался на скотине. Алоизу это тревожило. Она не узнавала мужа. Как-то вечером, когда она пыталась его подбодрить, он ответил с живостью:
— Один из наших сыновей скоро сам пойдет служить, а второго призовут. Если начнется война, то может статься, что через несколько месяцев у нас больше не будет сыновей. Тогда то, чего мы добились, то, что создавали всю нашу жизнь, окажется никому не нужным.
Франсуа вздохнул и добавил:
— Не забывай, что моя сестра Люси замужем за немцем.
В тот вечер Алоиза нашла слова, чтобы как-то утешить его, но с тех пор она видела, что муж одержим мыслью о неизбежной войне. Да и само время было не совсем обычным. В результате экономического кризиса в 1936 году к власти пришел Народный фронт, возглавляемый Леоном Блюмом. С тех пор все депутаты от департаментов были либо радикалами, либо социалистами, либо коммунистами. Большинство депутатов из сельской местности присоединились к Народному фронту, поскольку его члены предложили четкий план борьбы с падением цен на сельскохозяйственные товары. Франсуа Бартелеми вступил в ряды Фронта ради этого плана и, не в меньшей степени, ради лозунга «Хлеб! Мир! Свобода!» Алоиза поддержала мужа, убежденная, что новому правительству, которому, казалось, были близки их повседневные заботы, можно доверять. Тем не менее соглашения, подписанные во дворце Матиньон, согласно которым зарплата повышалась на двенадцать процентов, вводилась сорокачасовая рабочая неделя и оплачиваемый отпуск, мало отразились на деревне. Крестьян успокоило создание Государственного посреднического бюро по продаже зерна и выплата премий производителям. Стачки, парализовавшие страну, коснулись только городов и рабочих масс. Несмотря на все эти нововведения, экономическая ситуация не улучшилась, что привело к падению кабинета Блюма, место которого занял Даладье. С некоторых пор начали поговаривать о претензиях Гитлера на «Польский коридор»[2] и его угрозах начать войну с Польшей, но здесь, в горах, куда едва доходил шум цивилизации, все было спокойно этим чудесным летом.
Замерев на опушке леса в прохладной тени деревьев, Алоиза смотрела на поле ржи, где виднелись фигуры Франсуа и Эдмона, склонившихся над колосьями. По всему небу до самого горизонта серебристый утренний свет обретал золотистые оттенки.
Вместе с солнцем, растворенным в сиянии дня, поднималась жара, от которой начинали шелестеть колосья на полях, видневшихся из-за деревьев. Алоиза сидела на пне огромного дуба. Она наслаждалась такой редкой для нее минутой отдыха.
Душевное здоровье Алоизы стало хрупким после временного помешательства, которое охватило ее во время войны, когда женщина думала, что Франсуа погиб. Она часто вспоминала то время и боялась, что новая волна отчаяния может снова нахлынуть и — она в этом не сомневалась — уже не отпустить никогда. Именно поэтому время от времени Алоиза останавливалась, чтобы насладиться счастьем этих дней, несмотря на те изменения, которые произошли с Франсуа, несмотря на то, что Шарль все реже и реже приезжал к ним в Пюльубьер, и на то, что ее дочь Луиза, казалось, унаследовала слабое здоровье матери. Такие короткие передышки в ее жизни научили Алоизу ценить богатство тех моментов, когда их прекрасный горный край словно укутывал своих жителей покрывалом из тепла и света, защищая от грозы, бушевавшей в мире.
Алоиза вздрогнула, напуганная шорохом веток и дуновением ветра за спиной. Была середина июля, но лето еще не клонилось к закату и было видно, что оно обосновалось надолго, уверенное в своей силе, и так просто не сдастся бурям, которые не преминут разбушеваться. «Девятнадцатое июля тысяча девятьсот тридцать девятого года, — думала Алоиза. — Вот Франсуа и Эдмон в поле. Одилия и Луиза готовят обед. Мне очень хорошо. Как хочется, чтобы стрелки часов остановились навсегда. Я хочу видеть, как Франсуа улыбается, хочу всегда сидеть здесь, в тени, жить вечно, никогда не расставаться ним». Она встала, вышла на солнце и крикнула:
— Франсуа! Я оставлю бутылку в тени.
Алоиза показала на куст папоротника за спиной, но Франсуа знаком попросил ее подождать. Она смотрела, как он шел, освещенный белыми лучами, любовалась его обнаженными руками, худым лицом, стройным телом, прикрытыми от яркого света глазами, и это было как тогда, в день их первой встречи. Алоиза сделала несколько шагов ему навстречу, остановилась перед ним, не зная, что сказать. Франсуа взял ее за руку и увел в тень, где стал жадно пить, не сводя с нее взгляда.
Затем подошел и Эдмон: сильный, коренастый и подвижный, каким был всегда. Он присел и, утерев лоб, тоже отпил из бутылки. Алоиза и Франсуа смотрели друг другу в глаза. Они ничего не говорили вслух в присутствии Эдмона, но прекрасно понимали, что означал их взгляд. Это был не просто союз двух людей, но союз с миром: лесом, полями, лугами… безмолвное согласие, словно они были одним целым, будто они могли читать мысли друг друга и мгновенно понимать, как крепко их жизни связаны между собой. Франсуа было сорок семь, Алоизе — сорок шесть. Он сохранил стройность и худобу, но сил прибавилось, когда Эдмон стал помогать им в работе. Ее формы немного округлились, но глаза цвета лаванды остались теми же, сохранив печальную серьезность и глубокую загадочность.
Эдмон молча вернулся к работе. Франсуа, который остался стоять, повернулся к полю и казался в этот момент спокойным, счастливым, лишенным сомнений при виде светлых снопов на земле.
— Закончим сегодня к вечеру, — сказал он.
Он повернулся к Алоизе и снова заключил ее в теплые объятия своего взгляда. Она думала, он скажет еще что-то, но Франсуа молчал. Знакомым жестом он обнял ее за плечи, прижал на мгновение и, не оглядываясь, ушел своей мягкой, размеренной походкой. Алоиза не двигалась. У нее закружилась голова, и ее слегка зашатало. Этот силуэт, который удалялся без оглядки, напомнил ей, как Франсуа возвращался на фронт после увольнительной, и Алоиза не знала, увидит ли она его еще когда-нибудь. Она прислонилась к стволу дуба, подождала, пока не спадет пелена, застлавшая глаза, и вернулась в прохладу леса. По тропинке, белой от пыли, Алоиза поспешила в деревню. Крыши блестели от солнца.
Скоро настал полдень. Не успели Алоиза и Одилия накрыть на стол, как с поля вернулись проголодавшиеся Франсуа и Эдмон. Прежде чем сесть, Франсуа по привычке включил радио, чтобы послушать последние известия. Диктор рассказывал о заявлении французского министра иностранных дел Жоржа Бонне, который желал, «чтобы британское правительство объявило о совместном решении двух правительств выполнить свои обязательства о помощи перед Польшей, независимо от действий Германии».
Франсуа резко отодвинул стул и в приступе ярости уронил на пол тарелку, которая разбилась. Он выругался и вышел из комнаты, хлопнув дверью. Алоиза и Эдмон переглянулись и опустили глаза.
— Давайте есть, — сказала Алоиза.
Они принялись за еду, но вскоре замерли, услышав доносившиеся снаружи глухие удары. Алоиза поднялась, вышла во двор и направилась к сараю, где Франсуа колол дрова, с бешеной яростью опуская топор на колоду. Алоиза остановилась перед ним, и ее чуть не задело поленом. Она резко отскочила в сторону. Франсуа уронил топор и вздохнул.
— Ты себе же делаешь хуже, — сказала она.
— Они все забыли, — произнес он, — и начнут сначала.
Помолчав секунду, он крикнул:
— Я уверен, что они все начнут сначала!
— Не стоит волноваться раньше времени, — тихо сказала Алоиза.
Поскольку Франсуа не ответил, она продолжила:
— Несмотря на то что выпало на нашу долю, мы живем здесь и сейчас, вдвоем, в собственном доме.
Взгляд Франсуа встретился со взглядом жены, как будто до него наконец дошел смысл сказанных ею слов.
— Пойдем есть, — все так же мягко сказала она. — Главное сейчас — собрать урожай, пока не начались грозы.
— Иди! — ответил он. — Я приду.
Алоиза поняла, что ему нужно побыть несколько минут в одиночестве, чтобы прийти в себя. Выходя, она добавила:
— Рожь хороша в этом году. Нам хватит до следующего урожая, а может, даже удастся немного продать.
Франсуа покачал головой, но сил улыбнуться у него не хватило.
За три года Люси успели полюбиться прогулки на лодке по озеру Леман, филе окуня, которым она наслаждалась на тенистых террасах ресторанов, запивая его изысканным белым вином, приготовленным из винограда, растущего на крутых берегах озера, поднимавшихся вверх почти до самого неба. С первых дней пребывания в Вевейе Люси понравился этот городок, притаившийся между горой и озером, откуда в солнечные дни можно было видеть Савойские Альпы, Францию, совсем близко, как ей казалось, — достаточно просто сесть на один из этих белых пароходов, скользивших по водной глади, из Женевы добраться до Монтре, из Ле-Пюи или Моранжа — до Ивуара или Тонона-ле-Бен.
Однажды весной они с Яном сели на пароход, чтобы поплыть в Женеву, город с широкими авеню, по обеим сторонам которых выстроились шикарные многоэтажные дома, город суровый, но невероятно красивый, освещенный магическим светом и живущий, казалось, только ради озера, на котором стоял. За три года им также удалось выбраться в окрестности Вевейя — на гору Пелерин, возвышающуюся не более чем в километре от города, в Монтре с его роскошными отелями, в деревеньки, через которые проходит горная дорога на Лозанну.
Прошлой зимой поездка в Дьяблер, что в Водуазских Альпах[3], пробудила в Люси воспоминание о снежных зимах ее детства, и здесь, как и тогда, на берегу озера, она еще раз почувствовала, что дом где-то рядом. Подрастал Ганс, их сын. Ему было восемь лет, он ходил в школу, расположенную на той же улице, что и колледж, в котором Ян преподавал французский.
Ян объяснил Люси, что Швейцария разделена на четыре языковые зоны: французскую, немецкую, итальянскую и ретороманскую. Самой крупной была немецкая часть Швейцарии. Французский язык был наиболее распространен в кантоне Во и Женеве, ретороманский — в Гризоне, итальянский — в Тессине. Таким образом, Люси не чувствовала себя чужеземкой в Вевейе, кантоне Во, и прожила счастливо все эти годы после освобождения Яна.
Однако последнее время Ян казался тревожным. Люси не удалось добиться от него объяснений, но она чувствовала, что близится момент, когда Ян сам обо всем ей расскажет. Несомненно, ради этого он и предложил ей прогуляться по берегу озера этим июльским воскресным днем. Они прогуливались, наблюдая за рыбаками, Ганс играл на гальке. Затем они медленно поднялись до рыночной площади, где устроились за столиком в тенистом кафе, чтобы утолить жажду. Люси как раз собиралась спросить Яна, что его тревожит, когда он сам решился рассказать ей.
— Срок моего договора с колледжем истекает, — сказал он, — и его не продлят. На мое место ставят более именитого преподавателя.
Люси почувствовала, как ее сердце сжимается. Она спросила:
— Что же мы будем делать?
Ян не ответил.
— Ты же не хочешь сказать, что мы вернемся в Германию?! — вскричала Люси.
Он опять промолчал.
— Лучше уж вернуться в Париж, — добавила она.
— В наше-то время? Ты думаешь, они дадут работу немцу?
— Если ты не устроишься, я сама пойду работать!
— А я все это время буду прятаться, чтобы не угодить в тюрьму?
— Во Франции не сажают тех, кто не сделал ничего дурного.
— Нет, но французы могут расстрелять гражданина государства, воюющего с их страной.
Они замолчали. Тишину прервал теплоходный гудок. Люси повернулась к Яну и тихо спросила:
— Почему ты все время говоришь о войне?
— Да потому, что она совсем близко, ее не избежать. Гитлер хочет реванша, и он его получит.
— Откуда такая уверенность?
— Ему было мало оккупации Рейнской зоны[4]. Он аннексировал Австрию, а за ней и Судеты. Сегодня он в Данциге, а завтра, я не сомневаюсь, он будет в Варшаве. Он ни перед чем не остановится. Франция и Англия не сдадутся, как в Мюнхене.
Взволнованная такой уверенностью Люси вздохнула:
— Что с нами будет?
— Мне предложили другую должность в Цюрихе, в немецкой части Швейцарии, — сказал Ян.
— Это далеко?
— Недалеко от границы с Германией.
— Нет, Ян, я не хочу туда возвращаться.
Он вздохнул:
— Но это все еще Швейцария, а не Германия.
— Там говорят по-немецки?
— Да.
— Как далеко от границы?
— Пятьдесят километров.
— Нет, Ян. Я не смогу там жить.
Воцарилось молчание. Вот уже несколько дней Люси боялась, что услышит что-то подобное. Она не переставала говорить себе, что их жизнь в Вевейе — не что иное, как передышка, и что придется снова вернуться в ту страну, где их с Яном чуть не бросили в тюрьму. Люси отчаянно сопротивлялась этой мысли, думая не только о себе и муже, но и о маленьком Гансе, который, выпив свой лимонад, так безмятежно играл в тени деревьев. Конечно, он говорил и по-французски, и по-немецки, но это не могло спасти его от опасности.
— Будь благоразумна, — сказал Ян вполголоса. — Здесь, в Швейцарии, нам ничто не угрожает.
— Ты же прекрасно знаешь, они — везде.
— Но нет же, Швейцария сохраняет нейтралитет. Здесь мы в безопасности.
Люси подняла голову и прошептала:
— Я должна всегда видеть горы своей родины.
Ян вздохнул. Он чувствовал, что в их отношениях появляется трещина, но ни он, ни Люси ничего не могут с этим поделать.
— У меня есть еще неделя, чтобы обдумать предложение, — сказал Ян и, чувствуя, что ране, образовавшейся в ее душе, необходим бальзам, добавил:
— Если хочешь, мы завтра пересечем границу и проведем день в Тонон-ле-Бен.
Как объяснить ему, что не одной лишь французской земли ей не хватало, но и Парижа, Пюльубьера, ее семьи, дочери Элизы, о судьбе которой Люси ничего не знала, но о которой без конца думала, задавая себе вопрос, увидит ли ее когда-нибудь?
— Спасибо, — поблагодарила Люси, но в голосе ее не было ни капли теплоты.
Ян это почувствовал и с живостью продолжил:
— В конце концов, все это, вся наша теперешняя жизнь — это то, чего мы оба хотели.
Люси кивнула.
— Когда мы поженились, — сказал Ян, — мы решили переехать в Германию, ведь так?
— Так, — ответила она, — но тогда страной не правил Гитлер.
Этим все было сказано. Они оба это поняли и больше не разговаривали. Солнце клонилось к закату, и вместе с ним спадала жара. Ветер принес с собой запах моря, цветущих садов и жареной рыбы. Время ужина еще не наступило, и ни Ян, ни Люси не хотели возвращаться домой. Они знали, что их спор мог начаться снова, а им этого не хотелось.
Ян заплатил, и они одновременно, не сговариваясь, спустились к озеру и направились к выступу над водой, с которого так хорошо наблюдать закат. Голубое небо растворялось в голубой воде. Слева зелень горных хребтов Альп вторила зелени виноградников на склонах, а перед ними садилось солнце, оставляя отблески на вершинах гор. Ганс шагал впереди по узкой тропинке на склоне холма. Они шли, не держась за руки, и Люси думала, что этот метр, который отделял ее от мужа, сегодня, а может и завтра, преодолеть невозможно. Она злилась на себя, поскольку нуждалась в Яне, так же как и в сыне, но Люси помнила, как ей было страшно в тот день, когда арестовали Яна. Она и думать не могла о том, чтобы приблизиться к этой проклятой стране.
Так они шли долго, не проронив ни слова, пока не добрались до откоса, на котором устроились, чтобы полюбоваться наступлением ночи. Плеск воды, казалось, доносился до самой вершины холма. Ян и Люси слышали разговоры рыбаков, возвращавшихся в свои домики у подножия. Люси наблюдала за Яном, игравшим с Гансом на склоне. Ян был все тем же юношей с худым лицом, светлыми волосами и ясными глазами, и в то же время что-то в нем изменилось. Люси знала, что Ян одержим тем, что происходило в его родной стране, и были моменты, когда жена для него переставала существовать.
Скоро в быстро надвигавшихся сумерках Люси уже не могла разглядеть его лица, и ей казалось, что вместе с дневным светом в тень уходит и часть ее жизни. Вдруг женщина настолько явно осознала это, что на глаза навернулись слезы. Увидев мужа и сына, которые, смеясь, поднимались к ней, Люси резким движением смахнула каплю, катившуюся по щеке.
Земля трещала под палящим солнцем Матиджи, где Матье Бартелеми думал о предстоящем сборе винограда. Теперь он был не одинок в своем белом доме, крытом романской черепицей. Три года назад он женился во второй раз — на Марианне Бартез. Ее присутствие было дорого Матье не только потому, что, лишенный одной руки, он с трудом справлялся с домашним хозяйством. Марианна была внимательной, жизнерадостной — словом, отличалась от своих отца и матери, которые после их свадьбы повели себя как захватчики, так что Матье пришлось отстаивать свои права. Старик Бартез посчитал, что замужество дочери дает ему право присоединить соседнее поместье и на условиях совместного владения распоряжаться орудиями труда, скотом и, вероятно, урожаями. После недавней ссоры, в которой, нужно отметить, Марианна приняла сторону мужа, Бартезы перестали приезжать в Аб Дая, чему Матье не переставал радоваться: он прекрасно обходился помощью Хосина и его феллахов[5].
Впрочем, несколько дней спустя в Матидже начало нарастать беспокойство. Причиной тому было засушливое лето, которое в отличие от дождливой весны, удобрившей землю и наполнившей поливные каналы водой, с самого начала июня нещадно жгло людей, животных и растения. Возвращаясь этим вечером домой через виноградники, над которыми стоял запах медного купороса, Матье с беспокойством заметил, что ветер повернул на юг. Завтра будет дуть сирокко, он это знал, и этот ветер принесет с собой опасность все потерять. Уже неделю поговаривали о нашествии саранчи — беде, которую, к счастью, редко, но все же приносит ветер пустыни и которой поселенцы боятся больше всего.
— Плохо, — сказал Хосин, шагавший рядом с Матье. Они вошли во двор, на котором стоял насос, приводимый в движение не тощим ослом, ходившим по кругу, как раньше, а паровой машиной на угле.
Уставший, обливающийся потом Матье не ответил. Единственным его желанием сейчас было утолить жажду, поесть и укрыться от этой жары. Он умылся во дворе, побрызгал водой на лоб и затылок и вошел в дом, где его ждала жена. Пока разогревалась еда, Матье рассеянно осматривал комнату, которой он попытался придать подобие кухни в Пюльубьер: длинный стол из грубых досок, две деревянные скамьи, керосиновая лампа, беленые стены, сундук с солью, настенный календарь — простота и даже грубость, так удивившая Бартезов во время их первого визита.
Марианна тогда и глазом не моргнула. Она привыкла к своему новому мирку, как привыкла и к Матье, с той природной покорностью, которой веяло от ее округлой фигуры и лица с несколько тяжеловесными чертами и широко раскрытыми карими глазами. Женщина подала еду, а сама стала есть стоя у другого конца стола.
— Сядь, — сказал Матье. — Я уже говорил, что ты можешь сидеть со мной за столом.
Марианна послушалась, но ему показалось, что сделала она это с некоторым сожалением: жена Матье привыкла прислуживать мужчинам, и ей никогда не приходило в голову оспаривать рабское положение, в которое мужчины ставили женщин, унаследовав в колониях нравы своих предков — французских крестьян.
Какое-то время они ели молча. Потом Матье сказал:
— Боюсь, ночью будет дуть сирокко.
— Вполне возможно, — ответила Марианна.
Прожевав кусок хлеба, Матье добавил:
— Ты слышала разговоры о саранче?
Марианна покачала головой:
— Далеко на юге. Сюда она редко залетает.
— Это правда, — сказал он, но продолжал думать об угрозе, которой так боялись все колонисты.
Он не был голоден. Хотелось поспать, даже просто отдохнуть, если уснуть не удастся. Войдя в спальню, Матье полистал «Алжирские вести». Ему удалось забыться, но его разбудил ветер. Матье встал и выглянул в окно. Горячее дыхание ветра обожгло его влажные виски. Матье закрыл окно, вернулся в постель и пролежал, не сомкнув глаз, до самого утра, будто думал, что может защитить свое поместье, если не уснет.
Утром ветер только усилился. Как обычно, Матье ушел на виноградники и работал там до тех пор, пока не услышал крик Хосина. Со стороны гор огромная стрекочущая туча надвигалась на равнину, кружась, как гигантский осиный рой. Это была саранча. Ее полет напоминал стальное торнадо, центр которого то касался земли, то отрывался от нее, то снова обрушивался вниз с еще большей силой. В Матидже надеялись, что пшеничные поля Атласского плоскогорья остановят нашествие. Набеги саранчи случались и раньше, но никогда в Матидже ее не видели так близко.
Матье услышал выстрелы — смешные попытки отпугнуть насекомых, опускавшихся на виноградники и апельсиновые сады. Вот стая уже закрыла солнце, и дневной свет стал угасать. Феллахи были в ужасе. Один Хосин, стоя возле Матье, выкрикивал угрозы в сторону проклятых насекомых. И вдруг Матье услышал это: сводящий с ума стрекот тонких крыльев, голодных ртов, крючковатых лап — пугающее дребезжание, от которого хотелось зарыться в землю или убежать. Тем временем феллахи, приведенные в чувство воззваниями Хосина, бросились в бой против безумного роя, грозно размахивая своими орудиями и руками, подобно ветряным мельницам, впрочем, совершенно бесполезно и больше для собственной защиты, чем для спасения земли, отданной на растерзание.
Матье тоже начал было размахивать руками, но вскоре почувствовал, как саранча цепляется за кожу под рубашкой, штанами, по всему телу. Люди, атакованные со всех сторон, бросились бежать. Рой, закрывавший собой солнце, преследовал их.
— Защищайте сад! — крикнул Матье.
Они попытались защитить листья и плоды апельсинов, зревших на деревьях, но скоро им пришлось покинуть поле боя и укрыться в доме или хижинах. В доме Марианна метлой отбивалась от саранчи, которая неизвестно как проникла туда, несмотря на закрытые окна. Насекомые были везде, даже в кровати.
Это был день беспомощности, злости и скорби. Когда вечером Матье смог выйти из дома, его глазам предстала картина опустошения. Не осталось ни листьев, ни плодов. На деревьях сохранились лишь самые крупные ветки. С виноградниками было еще хуже: они были обглоданы полностью. Скорее всего, они погибли. Нужно было зажечь огни, чтобы избавиться от насекомых, которые не улетели. Матье шагал по ковру из раздавленной саранчи, омерзительно хрустевшей под ногами. Скоро спустилась ночь, озаренная кострами колонистов, зажженными в бесполезной попытке что-то еще спасти.
Наутро картина была еще мрачнее. Выжившие насекомые забрались в конюшни и амбары, откуда выгнать их не было никакой возможности, и уничтожили всю растительность. Вышел приказ как можно быстрее убрать и вспахать землю, чтобы уничтожить яйца, отложенные саранчой.
Матье с упорством возделывал землю всю следующую неделю, несмотря на единственную руку, движимый необходимостью выжить, ведь весь его труд в течение года был уничтожен всего за несколько часов. Возможно, придется даже вырвать лозу и посадить новые ростки. Однажды вечером, вернувшись домой изможденным, Матье задался вопросом, не отвергает ли эта земля, которую он так любил, людей, не рожденных на ней.
В Пюльубьер пришел сентябрь, раскрасив густые деревья золотыми и красными красками осени. На глубоком синем небе стали появляться серые тучи. Предрассветный лес подрагивал в первых лучах солнца во всей своей красе, но эта картина нисколько не уменьшала отчаяние Шарля Бартелеми. Вчера, третьего сентября, Франция объявила войну Германии, и Эдмона уже мобилизовали. Сам Шарль сегодня отправлялся в казармы Шаффарелли, что в Тулузе. Его отец, Франсуа, должен отвезти его на вокзал в Мерлине, откуда на этот раз Шарль поедет не в Тюльский педагогический университет, где он провел три увлекательных года под присмотром выдающихся преподавателей, а на войну. Шарль все еще не мог прийти в себя, когда, прогуливаясь в одиночку по лесу, вдыхал такие любимые запахи папоротника и мха. Отец был настолько ошеломлен, что не нашел сил составить сыну компанию в этом паломничестве к месту, которое было сердцем их маленькой вселенной.
Как мог Шарль после трех чудесных лет, в течение которых он не чувствовал холода в неотапливаемом общежитии, не придавал значения скудности пищи, отказаться от мысли в один прекрасный день войти в класс, где его будут ждать доверчивые лица учеников? Три года он жил лишь этой надеждой, переполняемый желанием поделиться своими знаниями. Успешное окончание университета переполняло его счастьем. Тогда Шарль точно знал, что будет учителем. Оставалось потерпеть два года — пройти срочную службу. И вот — война. Она отняла надежду и поселила в нем страх, что мечта, которая занимала все его мысли, никогда не сбудется и что за поворотом его подстерегает смерть.
Шагая между кустами папоротника, мокрого от росы, Шарль вспоминал разговоры с товарищами, приезды раз в месяц домой в Пюльубьер и встречу, которая перевернула всю его жизнь, ту, что произошла больше года назад во время университетского бала, — встречу с Матильдой, высокой и стройной девушкой со светлыми волосами, которая была одного с ним возраста и которую он часто навещал на каникулах в июле и августе, приезжая в Уссель, откуда она была родом. Накануне, прощаясь с Шарлем, она не скрывала своих чувств, и он понял, насколько был ей дорог. Они не говорили о женитьбе, но оба знали, что их жизни теперь неразрывно связаны.
Шарль почти не различал дыхания леса этим утром. Пришло время возвращаться. Война ждала его. Подобно отцу он долго отказывался в это поверить, но после событий в Мюнхене ему пришлось признать ее неизбежность. Гитлер был безумцем. После Австрии и Швеции он набросился на польский Данциг и скоро доберется до остальной Европы. Шарль понял, что, несмотря на нежелание отказываться от настоящей жизни, от счастья, которое было так близко, от этих прекрасных рассветов и запахов, которые пробуждали в нем воспоминания о детстве, об ушедших днях, о тех вещах, ощущать которые было для него так же необходимо, как и дышать, он должен стать на защиту родины.
Задумавшись, Шарль остановился. Вперед! Пора возвращаться. Он сорвал два листка березы, смял в руке, вдохнул их запах и все так же медленно, будто оттягивая момент прощания, развернулся и побрел к дому — тихому пристанищу двадцати восьми лет его жизни. Шарль вошел и увидел, что родственники уже собрались. Они все посмотрели на него: отец Франсуа, за последние месяцы сгорбившийся, как будто от бремени, которое слишком тяжело для него; Алоиза, бледные губы которой тщетно пытались изобразить улыбку; Одилия, жена Эдмона — невысокая зеленоглазая брюнетка, обычно светящаяся весельем и такая грустная и молчаливая сегодня; наконец, Луиза, такая же хрупкая, как ее мать, с удивительными светлыми глазами, в которых, казалось, можно было прочесть все ее мысли.
Шарль подошел к матери и молча поцеловал ее. Алоиза попыталась на мгновение прижать его к себе, но он отстранился от нее.
— Я скоро вернусь, — произнес Шарль, пытаясь придать голосу как можно больше уверенности.
Затем он быстро поцеловал Одилию и Луизу, схватил сумку и вышел. Отец уже ждал его во дворе. Они забрались в двуколку. Франсуа ударил вожжами по крупу лошади, и тележка тронулась в путь. Шарль не обернулся. Он всматривался вдаль, туда, где между верхушками сосен и синевой неба протянулась розовая полоска, подобная берегу, к которому стремятся путники. Шарль силился представить, что едет в колледж или университет, старался вызвать в себе чувство, которое возникало в нем каждый раз, когда отец провожал его, разделяя с сыном лучшие моменты его жизни. Но в это утро Франсуа молчал и даже не смотрел на сына. Казалось, что начало войны лишило его жизненных сил. Такой сильный когда-то, Франсуа стал хрупким, почти неузнаваемым.
Шарль попытался напомнить отцу о том, как много раз они проделывали этот путь вместе, но тот лишь покачал головой, не произнеся ни слова. В этот раз он не сделал обычной остановки, чтобы дать сыну советы и напомнить о важности тех моментов, которые они пережили вместе. Когда они прибыли на станцию, солнце уже показалось над лесом. На привокзальной площади Франсуа спрыгнул с тележки, чтобы привязать лошадь к стволу липы, а Шарль принялся разгружать багаж.
В какой-то момент они оказались совсем рядом, лицом к лицу, и Шарль заметил влажный блеск в глазах отца, поразивший его до глубины души. Таким Шарль никогда его не видел. Франсуа всегда был сильным человеком, на которого можно опереться, человеком-гранитом, который никогда не отступал, всегда находил в себе мужество подняться после поражения и идти вперед. Шарль сделал шаг, чтобы отойти в сторону, но понимание того, что он должен что-то сказать, что настал его черед прийти отцу на помощь, удерживало его на месте.
— Так нужно, понимаешь? — произнес он. — Сейчас не четырнадцатый год. Гитлер сумасшедший. Если его не остановить, то рано или поздно он и до нас доберется.
Франсуа снова покачал головой, но так ничего и не сказал.
— Не сердись. Я вернусь, — продолжил Шарль. — Обещаю.
Поскольку Франсуа не отвечал, Шарль повторил:
— Я уверен, что вернусь. Слышишь?
У Франсуа был вид, будто он очнулся от кошмара. Он провел рукой по лицу: так он делал, когда сильно уставал.
— Береги себя, сынок, — сказал он нерешительно.
И тут же почти неслышно добавил:
— Ты знаешь, что без тебя мне не справиться. Никак не справиться.
Шарль наклонился к отцу, схватил его за плечи, прижал к себе на мгновение и тут же отвернулся. Он поспешил пересечь площадь и зайти в вокзал. Стоя у окна и провожая взглядом удаляющуюся повозку и силуэт отца, сгорбившегося на ней, Шарль с болью в сердце думал, что, возможно, видит его в последний раз.
2
Этим утром десятого марта тысяча девятьсот сорок первого года Люси казалось, что ее поезд никогда не доедет до Парижа. Тем временем Орлеан уже остался позади и в окне показались закопченные паровозным дымом первые дома столицы, но женщина видела их словно в тумане. Перед ее глазами проносились картины из прошлого, и в первую очередь воспоминания о Цюрихе, куда, несмотря на ее колебания и вступление Франции в войну с Германией, Люси последовала за Яном осенью тысяча девятьсот тридцать девятого года.
Она впервые увидела этот красивейший город, раскинувшийся между поросшими склонами гор Ютлиберг и Цюрихберг, там, где в реку Лиммат, вытекающую из Цюрихского озера, впадает река Зиль. Обе эти реки с чистой водой окружены набережными с чудесными деревьями, лужайками и цветущими садами. Озеро напоминало Люси Леман, но не вселяло такой же уверенности. Франция была далеко отсюда, и в этом суровом городе, вызывавшем болезненные воспоминания о Нюрнберге, говорили по-немецки.
К тому же с самого начала их пребывания в Цюрихе Люси почувствовала угрозу, которую не отрицал и Ян: в городе имелась нацистская партия, как, впрочем, и в Лондоне, Праге и даже США, с тех пор как Гитлер поручил своему соратнику Эрнсту Боле распространять идею пангерманизма за границей. В адрес Яна вскоре посыпались прямые угрозы от лиц, связанных с нацистами, и он попросил Люси вернуться во Францию, чтобы не подвергать себя опасности. Поэтому она пробыла в Цюрихе не долее трех месяцев. Оттуда она уехала с Гансом в Париж, потом в Пюльубьер к Франсуа, который согласился еще раз приютить ее.
В Пюльубьере Люси пережила период «странной войны», туда ей приходили письма от Яна, с каждым разом все тревожнее, там она узнала об оккупации Франции в мае 1940 года, и вскоре после этого из письма матери Яна Люси узнала о его аресте в Германии, где ее муж попал в ловушку, расставленную нацистами. Фальшивой телеграммой они уведомили Яна о том, что его отец тяжело болен. Ян тайком приехал в Германию, где в доме родителей его арестовали как оппозиционера и иностранного шпиона. Теперь его держали не в камере предварительного заключения, как в первый раз, а в концентрационном лагере, и обвинение в измене грозило ему смертной казнью.
Алоизе и Франсуа пришлось проявить всю свою любовь и преданность, чтобы помочь Люси пережить удар. Они сами тревожились за судьбу Эдмона и Шарля, от которых не получали вестей со времени оккупации. Вдруг в конце июня вернулся изможденный Шарль. Разгром армии забросил его в окрестности Бордо, откуда он пешком добрался до Пюльубьера. От Эдмона не было известий, отчего его жена, Одилия, потеряла и сон, и аппетит. К счастью, их сын Робер, появившийся на свет в апреле тысяча девятьсот сорокового года, помогал ей перенести разлуку с мужем. Наконец в июле пришло письмо, в котором сообщалось, что Эдмон попал в плен и помещен в лагерь где-то под Берлином.
Вся семья сплотилась перед общим горем, но вечерами за столом все больше было тихо — каждый был погружен в свои мысли. Поправившись, Шарль решил не искать для себя место учителя, а остаться в Пюльубьере помогать родителям. Они нуждались в этом как никогда, особенно Алоиза, которая, казалось, постепенно погружалась в то состояние депрессии, что и в прошлую войну. Можно было подумать, что Франсуа потерял дар речи. Конечно, он продолжал работать и свойственное ему мужество не покинуло его, но он совсем не разговаривал. Наверное, Франсуа вспоминал лишения, которые ему пришлось пережить в лагере для военнопленных во время Первой мировой, и представлял себе страдания, которые испытывает его старший сын.
Шло время. Наступило Рождество, как всегда снежное, но на этот раз безрадостное. Не было застолья и огромного дубового пня в камине, в прошлые годы освещавшего большую комнату, где после ночного богослужения собиралась вся семья, чтобы вместе насладиться детским счастьем, которое много лет казалось незыблемым. Чего бы они только не отдали за возможность спеть вместе рождественскую песню и прожить несколько тихих часов, не связанных в воспоминаниях ни с угрозами, ни с бедой. Но те времена теперь казались им далекими, навсегда исчезнувшими, как исчезли те, с кем они когда-то праздновали Рождество.
Весной Люси, которая ждала вестей от Яна или его матери, почтальон принес письмо, адрес на котором был написан незнакомым ей почерком. Боясь прочесть о смерти Яна, Люси ушла к себе в комнату, но, взглянув на первые строчки, она поняла, что этот день будет первым счастливым днем за последнее время. Письмо было от Элизы, ее дочери, которую Люси считала навсегда потерянной. Не веря своим глазам, Люси несколько раз перечитала письмо дочери, чтобы убедиться в том, что это не сон.
Элиза писала, что к ней пришла женщина, которую она никогда раньше не видела и которая назвалась Мадлен. Женщина рассказала, что она смертельно больна. Дальше она продолжала рассказ так, словно ее часы были сочтены:
«Я долго думала, прежде чем прийти к вам. Мне кажется, что я должна сделать это перед тем, как уйти из жизни. Я не хочу уносить правду с собой в могилу. Вот что я скажу: я работала кухаркой в том же доме, что и ваша мать, в семье Дувранделль… Вы должны знать: мадам Буассьер и мадам Дувранделль требовали от вашей матери бросить вас сразу после родов. Но ваша мать никогда на это не соглашалась, наоборот — старалась сделать все, чтобы не расставаться с вами. Вы, наверное, помните, что вас отдали в семью фермеров, живших недалеко от Орлеана. Это была семья моих родителей. Мадам Буассьер решила удочерить вас только после смерти двух своих детей. Для этого она обвинила вашу мать во всех тяжких грехах, хотя та выбивалась из сил, чтобы вас вырастить. Ваша мать ни в чем не виновата. Если бы не она, у вас сейчас вообще не было бы семьи».
Тон, которым была рассказана эта история, убедил Элизу в ее правдивости, да и у женщины, стоявшей на пороге смерти, не было никаких причин обманывать. Она ничего не просила за свою тайну — она облегчала душу от тяжести тайны, которую носила.
Эта встреча перевернула жизнь Элизы, которая дала себе обещание как можно скорее найти свою мать. Элиза узнала, что та живет в Пюльубьере. Письмо, в котором она предлагала Люси встретиться, когда у той будет возможность, не заставило себя долго ждать. «Я не знаю, простишь ли ты меня за все то зло, которое я тебе сделала, — заканчивала письмо Элиза, — но с этой минуты моей единственной целью будет наверстать те годы, которые мы из-за меня прожили порознь».
Следующие два дня Люси все перечитывала столь долгожданное письмо. Она показала его Франсуа и Алоизе, которые настояли на том, чтобы она как можно быстрее назначила дочери встречу. Люси отправила ответ по указанному адресу, и, обменявшись несколькими письмами, мать и дочь наконец договорились встретиться у входа на Марсово поле. Место встречи предложила Люси: именно там десять лет назад Элиза перепугалась и убежала, увидев мать.
Было два часа дня, когда поезд остановился на парижском вокзале Аустерлиц. Люси была счастлива, и впервые за долгое время Париж не показался ей враждебным. Сейчас в центре этого города, который принес Люси столько разочарований, ее кто-то ждал.
На пасхальных каникулах Шарль представил родителям Матильду, и они, как он и ожидал, приняли ее, будто она уже была членом их семьи. Матильда два года работала учителем в школе городка Марсияк, тогда как Шарль никогда не преподавал: в октябре тридцать девятого он ушел на войну, а в октябре сорокового не стал просить должность, чтобы помочь отцу по хозяйству в отсутствие Эдмона. Это обстоятельство даже стало причиной конфликтов, которые Алоизе было все труднее сглаживать.
— Ты уже много сделал для нас, — говорил Франсуа, — пора подумать и о себе. Одилия нам помогает, пока нет ее мужа, да и мне всего сорок девять, так что я продержусь до возвращения Эдмона.
— Я не могу видеть, как ты надрываешься, — отвечал Шарль.
— Новый учебный год начнется только в октябре, — не унимался Франсуа. — К тому времени самая тяжелая часть работы будет закончена и мне твоя помощь больше не понадобится.
Шарль еще раздумывал. Был конец апреля. В Пюльубьере не ощущали войны и лишений, которые уже начали появляться в больших городах. Семья Бартелеми всегда жила почти натуральным хозяйством, и их местность попала в свободную зону, отдаленную от бурь, бушевавших в мире. Но если в прошлом году Франсуа с Алоизой с радостью приняли весть о перемирии, ожидая скорого возвращения сыновей, то восемнадцатого июня они услышали по радио, как некто де Голль призывал к сопротивлению оккупантам. С тех пор они больше об этом ничего не слышали и надеялись, что маршал Петен выведет страну из пропасти, в которую она погрузилась.
Несмотря на то что в их высокогорных краях никто никогда не видел немецкой униформы, присутствие захватчиков на родной земле было невыносимо как для Шарля, так и для Франсуа. По радио всегда передавали только ту информацию, которая выставляла в выгодном свете правительство Виши, но Бартелеми поддерживали призывы к Национальной революции, которые выдвигал Петен, видевший в реституции родной земли приоритетное условие для восстановления страны на крепкой основе. Настроение же в городах, куда иногда выезжал Шарль, было довольно странным. Больше всего его беспокоила обязанность выезжать в молодежные лагеря, которые организовывались для поднятия боевого духа населения. К счастью, ему уже минуло двадцать лет и его пребывание в Пюльубьере в отсутствие Эдмона должно было рассматриваться властями как необходимость.
Шарлю очень хотелось, чтобы сбылась его мечта и он начал преподавать, но он все еще сомневался. Однажды днем, когда Одилия отправилась за покупками в Сен-Винсен, Луиза была в колледже в Усселе, а Франсуа управлялся на конюшне, Шарль остался с матерью на кухне. Алоиза сильно изменилась с тех пор, как Эдмон оказался в лагере. Шарлю было известно о том, что мать чуть не сошла с ума во время предыдущей войны. В доме все за нее сильно переживали, окружали заботой, ухаживали за ней, но она часто уходила в себя и как будто застывала. В такие моменты в ее взгляде светился странный беспокойный огонек, который вызывал грустные воспоминания.
В тот день Шарль остался с матерью, потому что был уверен: ее никогда нельзя оставлять одну. Именно по этой причине он не решался уехать — его пугали моменты отрешенности, когда мать уходила мыслями в иные миры, известные ей одной. От этих приступов спасали только разговоры, которые не давали ей уйти далеко. Слова сплетались в ниточку, связывавшую Алоизу с миром живых.
— А что ты об этом думаешь? — спросил Шарль, подойдя к матери.
Алоиза подняла на него красивые печальные глаза.
— О чем?
— О начале нового учебного года.
Алоиза ответила сразу, не раздумывая:
— Ты должен работать учителем, сынок. Ты так об этом мечтал, так этого хотел.
— А как же ты?
— А что я?
— Я не хочу оставлять тебя одну.
— Я не одна.
— Но ты все время думаешь об Эдмоне.
— Конечно, я о нем думаю. А как же иначе?
Шарль обнял ее за плечи и сказал:
— Он вернется.
Алоиза кивнула головой и грустно улыбнулась. Поскольку Шарль продолжал смотреть на нее с некоторой тревогой, она добавила:
— Думаю, мне будет легче, если я буду знать, что ты счастлив.
— Где же я могу быть счастлив, как не здесь, с вами?
— В школе.
Он опустил руки и спросил:
— Ты уверена?
— Совершенно.
Этот разговор помог ему принять решение, так же как и замечание Матильды, которое она сделала относительно их будущего во время воскресной встречи в Марсияке:
— Если в следующем году мы поженимся и будем просить устроить нас на двойную ставку, нужно, чтобы у тебя был годичный опыт работы. Иначе тебе ее не дадут.
Следующим утром Шарль отправился на поезде в Тюль, где подал заявление на должность учителя с нового учебного года.
Люси вышла из метро на углу авеню Суффрен и авеню Ля-Монт-Пике. Оттуда женщина отправилась на аллею Марсового поля, где села на ту самую скамеечку, с которой десять лет назад ее дочь убежала, едва завидев ее. Пока Люси ждала, она все вспоминала слова из письма Элизы и спрашивала себя, не сон ли это.
Она так мечтала об этом моменте, так страдала, вспоминая испуганный взгляд дочери, пытаясь понять, почему Элиза не приняла ее, что не могла поверить в возможность этой встречи.
Элизу она узнала сразу, как только та появилась на аллее. Было почти четыре часа. Элиза надела синее платье, а волосы перевязала золотистой лентой. Ее походку отличала стремительность, плечи были слегка наклонены вперед, в девушке чувствовалась некая сила и уверенность, которую она, несомненно, унаследовала от своего отца. Люси подняла было руку, чтобы привлечь внимание Элизы, но та ее уже заметила, направилась к матери, замедляя темп, и остановилась в двух шагах от нее.
Прилив чувств будто парализовал Элизу и не давал преодолеть то небольшое расстояние, которое оставалось между ними. Люси же не осмеливалась даже пошевелиться, словно прошлое все еще давило на нее и не было письма дочери, которое принесло ей столько радости. Элиза поцеловала мать, прижала к себе и долго не отпускала. Когда же они наконец оторвались друг от друга, Люси подумала: «Как же она похожа на своего отца». И действительно, густые волосы девушки подчеркивали матовую бледность лица, совсем как у Норбера Буассьера. На мгновение Люси закрыла глаза и покачнулась.
— Давай присядем, — сказала она, взяв дочь за руку.
Элиза прижалась к ней, и Люси внезапно почувствовала нежность и удивительную радость прикосновения, которых она была лишена столько лет. Они сели на скамейку, но ни одна из них не решалась промолвить хотя бы слово. Их тут же окружили голуби и пугливые воробьи.
— Наверное, мне нужно начать, — прошептала Элиза. — Я не знаю, поймешь ли ты меня… несмотря на то что произошло, я никогда не переставала думать о тебе.
Она вздохнула и, немного поразмыслив, продолжила:
— Они настроили меня против тебя, так что я перестала видеть правду. Особенно бабушка. Она умерла два года назад. Она убеждала меня, что ты отдала меня на воспитание нехорошим женщинам, что ты не заботилась обо мне и била. Я ничего этого не помнила, кроме грязной, очень грязной няньки, которая морила меня голодом.
— Да, я знаю, — выдохнула Люси. — Это было на улице Фобур-Пуассоньер. У меня не было другого выхода.
— А еще бабушка мне говорила, что ты живешь с немцем, врагом Франции, и что ты увезешь меня в Германию, и я ее больше не увижу. Она все повторяла, что ты нищенка. Бабушка заваливала меня подарками, потакая всем моим капризам. Я была ребенком и не могла противиться всему этому. Ты же понимаешь?
Элиза замолчала, не в силах продолжать. Ослабевшая от переполнявших ее чувств Люси кивнула головой. Внезапно она почувствовала облегчение, осознав, что ее дочь была жертвой, а не виновницей происшедшего. Все пережитое ею, все страдания прошедших лет не были напрасными. Вот так, слушая о жизни Элизы в доме госпожи Буассьер, здесь, на лавочке, Люси обрела душевный покой, и мир вокруг нее стал ярче и светлее. Когда Элиза поведала о своем браке с Роланом Дестивелем и об их счастливой жизни, Люси прошептала:
— Я знаю. Однажды я видела вас на авеню Суффрен. Тогда я поняла, что во мне ты больше не нуждаешься.
— Возможно, на тот момент, но сейчас ты мне очень нужна.
Элиза наклонилась к Люси и умоляюще прошептала:
— Прошу тебя, поверь. У нас впереди еще столько времени. Нам есть чем поделиться друг с другом.
Мокрые от слез глаза дочери убедили Люси в ее искренности, хотя в этот момент она готова была поверить во что угодно, только бы не потерять Элизу снова, только бы наслаждаться счастьем, которое давало ее присутствие, прикосновение ее руки и все то, что когда-то Люси обрела с рождением дочери.
— Женщина, у которой я тогда работала, и госпожа Буассьер сделали все, чтобы я тебя оставила почти сразу после рождения, — объяснила Люси. — Я всячески сопротивлялась этому. Втайне от них я отдала тебя кормилице недалеко от улицы Турнон, где работала.
— Я знаю, — вздохнула Элиза. — Мадлен сообщила мне об этом.
Прижавшись к матери, она спросила:
— Сейчас ты можешь мне все рассказать?
Люси только и ждала этого вопроса. Она поведала о Норбере Буассьере, об их встрече в замке, о том, как он ушел на войну и вернулся оттуда с обезображенным лицом. Потом она поведала о борьбе за Норбера с госпожой Дувранделль и госпожой Буассьер. Рассказала о Яне, об их жизни в Германии, о сыне Гансе, о Швейцарии, о войне и постоянном страхе получить страшное известие. Когда она окончила свой рассказ, Элиза рыдала, прижавшись к ней. Немного успокоившись, девушка тихонько сказала:
— Пойдем ко мне домой, мамочка. У меня ты сможешь отдохнуть. С сегодняшнего дня, где бы я ни жила, мой дом будет твоим домом.
— У Буассьеров я никогда не буду чувствовать себя как дома.
— Но это больше не их дом. Это теперь мой дом, дом господина и госпожи Дестивель.
Она встала и протянула руку матери:
— Пойдем.
В этот миг солнечные лучи пробились сквозь голые ветви огромных деревьев и наполнили парк ясным весенним светом.
Очередное лето пришло в залитую светом Матиджу. Но для Матье Бартелеми это лето было не совсем обычным: землю, возделанную два года назад, этой весной он засеял пшеницей. Сейчас Матье был самым крупным землевладельцем в Матидже. От отца Марианны, который скончался от апоплексического удара, Матье унаследовал соседние земли. Он решил этим воспользоваться, чтобы разнообразить свое хозяйство, поскольку боялся очередного набега саранчи на апельсины, заморозков или болезни виноградников. Он решил вырастить пшеницу на четырнадцати гектарах из наследства жены. Марианна же ждала ребенка и должна была родить в один из августовских дней тысяча девятьсот сорок первого года. Матье надеялся, что у них будет мальчик — сын, о котором он всегда мечтал и который унаследует собранные по крупицам владения.
Вот уже неделю город был наполнен пылью и паром молотильных машин, шумом моторов, свистом приводных ремней и криками рабочих под палящим солнцем бесконечных алжирских дней. Этим утром работали в Аб Дая. Вчера вечером прибыла машина, ее установили между домом и апельсиновым садом, рядом со снопами, которые рабочие на тележках перевезли с полей.
На ферме было много народу: феллахи-рабочие, соседи землевладельцы, десяток кабилов, сопровождавших машину с начала уборочной страды. Кто-то засыпáл пшеницу в разверзнутую пасть этого парового монстра, другие относили в сторону мешки с зерном, укладывали солому в стога. Самые смышленые следили за работой машины, ремней и шестеренок, от которых в разные стороны разлеталось горячее машинное масло, и его сильный отвратительный запах смешивался с запахом соломы и зерна.
Матье наблюдал за процессом, ходил от одной группы рабочих к другой, старался предотвратить ссоры в толпе людей, возбужденных шумом, жарой и усталостью. В полдень машина издала свист, подобный свисту паровоза перед въездом в тоннель, и после пугающего пыхтения, скачков и встрясок остановилась. Феллахи спрятались в тень, чтобы поесть лепешек, принесенных женами. Кабилы устроились в стороне под присмотром Хосина. У них на обед был салат, приготовленный на ферме.
Матье и Марианна наняли повара-араба для приготовления еды кабилам и феллахам из соседних поместий, приходившим помочь с уборкой урожая. Марианна действительно плохо переносила последние дни беременности и не могла управляться на кухне. Она ходила с трудом и страдала от жары. Ее невестка, Симона, помогала как могла вместе с Раисой, молодой кабилкой, которая заменила Неджму, отказавшуюся переступать порог этого дома после смерти дочери Лейлы.
Матье пообедал вместе с женщинами и Роже, братом Марианны, унаследовавшим дело своего отца. Однако Роже был более покладистым, чем старик. После смерти отца он без колебаний отдал сестре причитающуюся ей часть земель и находился в дружеских отношениях с Матье, не проявляя никаких признаков беспокойства. Напротив, он отдалился от семейств Колонна и Гонзалес, которые жили все более замкнуто из-за жажды власти. Роже и Симона часто приезжали в Аб Дая, где женщины обсуждали приближающееся счастливое событие, а мужчины говорили о сельском хозяйстве и о войне в Европе.
В мае-июне тысяча девятьсот сорокового года Матье так и не понял, что происходит. Как могла столь сильная страна, как Франция, защищая которую он проливал кровь и лишился руки, так быстро потерпеть позорное поражение? Матье много раз в письмах просил Франсуа объяснить, что происходит, но ответы брата не пролили свет на события. Матье не мог понять причину разгрома, но был доволен, что во главе страны стоял маршал Петен. Матье считал, что только военный мог вернуть честь Франции и тех, кто защищал ее в четырнадцатом и восемнадцатом году, тогда как многие другие предали родину.
Алжирские газеты часто публиковали статьи и фотографии, которые в выгодном свете представляли правительство Виши, что придавало Матье уверенности в будущем страны. Однако Роже Бартес придерживался другого мнения, но старался не высказывать его при Матье, которому участие в прошлой войне и потерянная рука придавали неоспоримый авторитет. Роже старался больше говорить о сельскохозяйственных культурах, поскольку достаточно в этом разбирался благодаря полученному в Алжире образованию до службы в армии. В своем поместье он много экспериментировал с удобрениями и веществами для обработки растений. Так в отношениях между мужчинами установилось равновесие, которое устраивало обоих, так же как и их жен, которые неплохо ладили.
В тот самый день, который описан выше, после обеда у Марианны начались схватки. Матье уехал в Шебли за акушеркой и вернулся к четырем часам, в самый разгар жары. Тем временем, после короткой сиесты, Роже Бартес дал команду запустить машину, и рабочие, которые суетились в удушливой жаре, часто ходили напиться из колодца, но никак не могли утолить жажду. Небо над Аб Дая казалось белым. Соседнее селение Атлас скрылось в раскаленном мареве, которое подрагивало над равниной, насыщенное пылью и пряными ароматами, среди которых отчетливо выделялись запахи соломы и зерна.
Матье помог жене лечь и оставил на попечение акушерки с невесткой. После этого он вышел на улицу, задаваясь вопросом, не усложнит ли роды грохот и сильная жара, но скоро забыл о своих опасениях, когда увидел, что работа шла не так хорошо, как утром. Рабочие много говорили, ругались, а некоторые старались спрятаться, когда подходила их очередь таскать мешки с зерном или снопы. Они были истощены и, несмотря на беспомощные крики Хосина, толпились возле колодца.
Матье много раз поднимался в дом, чтобы узнать, как проходят роды. Невестка сказала, что процесс будет долгим, и попросила не беспокоиться. Тогда Матье попытался сосредоточиться на молотьбе, и, несмотря на шум машины, ему это удавалось, пока он явственно не услышал крики. Матье бросился на второй этаж, постучал в дверь спальни; вскоре вышла Симона и сказала:
— У ребенка ягодичное прилежание. Ей больно.
Не в состоянии выдержать криков Марианны, Матье бросился на улицу, где оставался до наступления сумерек. Охваченный беспокойством, он постоянно поглядывал на дверь фермы в ожидании, что из нее вот-вот выйдет Симона, но никого не было.
Наступала ночь, а молотилка продолжала работать. Наконец в нее загрузили последние колосья, и в плотном воздухе раздался паровозный свисток, на который вдалеке воем отозвались шакалы. Матье и Роже, который волновался не меньше, поужинали на первом этаже. На стол накрывала Раиса. Все были взволнованы тем, что ни из комнаты наверху, ни снаружи не доносилось никаких звуков, и боялись самого страшного. У хижин раздавалось жалобное пение феллахов.
— Все плохо, — прошептал Матье. — Случилось несчастье.
Он не выдержал и поднялся наверх. На лестнице он столкнулся с Симоной.
— Нужно ехать за доктором, — сказала Симона. — Она потеряла много крови. У тебя родился не один сын, а два!
— Два? — переспросил Матье.
— Да, два мальчика. Два прекрасных близнеца, но они заставили нас потрудиться. Все думали, что Марианна не сможет разродиться.
Матье хотел было тут же посмотреть на малышей, но вспомнил о враче и побежал вниз попросить Роже съездить в Буфарик. Затем он поднялся наверх и склонился над женой, которая, казалось, потеряла сознание. Но Марианна приоткрыла глаза, когда муж заговорил с ней. Он подошел к маленькой кроватке, в которую акушерка положила двух малышей.
— Двое, — произнес Матье. — Она подарила мне двух сыновей.
Он повернулся к Симоне:
— Ты понимаешь? Два мальчика!
— Но какой ценой. Ей будет нелегко отойти от этого.
— Я помогу ей, — сказал он, задыхаясь от наплыва чувств. — Слово Матье! Ошибается тот, кто думает, что она не может рассчитывать на мою поддержку.
Матье спустился на улицу и в одиночестве под песни феллахов побрел к виноградникам, время от времени поднимая мокрые от слез глаза к небу. Он плакал от мысли, что всемогущий Господь, которому он служил не так уж ревностно, подарил ему двух сыновей в качестве компенсации за потерянную руку.
Шарль получил назначение в августе. Его направили учителем в городок Спонтур, расположенный на берегу Дордони в пятидесяти километрах от Пюльубьера и недалеко от того места, где жила Матильда. В то утро, первого октября тысяча девятьсот сорок первого года, Шарль проснулся без труда, ведь всю ночь он не мог уснуть. В голове его мелькали воспоминания обо всех событиях, которые ему пришлось пережить, чтобы дойти до этого дня, который зарождался за приоткрытыми окнами. Это утро будет одним из самых прекрасных в его жизни — Шарль в этом не сомневался. Он приехал на место днем ранее, пообедал в гостинице неподалеку от порта, из которого раньше на Бордолез уходили лодки, груженные деревом. Речное судоходство было разорено всего через несколько лет после строительства здесь железной дороги.
Спонтур представлял собой населенный пункт из нескольких домиков, выстроенных вокруг церквушки с серой стройной колокольней. Городок, еще не совсем цивилизованный, но стоявший на пути к прогрессу, жил только рекой. Через несколько километров вверх по течению появилась целая деревня строителей дамбы, работы по возведению которой начались незадолго до войны. Все это рассказал Шарлю мэр, визит к которому был частью ритуала для вновь прибывших.
— Среди ваших учеников будут также беженцы, которые не говорят по-французски, — добавил он. — Среди них есть и поляки, и испанцы. Их родителей забрали из Аржелеза на строительство дамбы, и часть из них живет здесь, в городе. Кстати, именно из-за детей рабочих школа у нас переполнена.
Трудности не пугали Шарля, он был готов к ним. Наконец, мэр показал ему карандаши, перья, чернильницы, тетради и учебники, состояние которых оставляло желать лучшего.
— Это все, что у нас есть, — подытожил мэр. — Воспользуйтесь всем этим во благо.
— Именно это я и собираюсь сделать, — ответил Шарль, несколько удивленный подобным приемом, который мог показаться проявлением равнодушия, но причиной которого, в сущности, было отсутствие средств в этой горной местности, расположенной в стороне от «большой земли», где его предшественник, ветеран прошлой войны, пустил все на самотек.
В дальнем углу единственной классной комнаты с тремя рядами парт стояла дровяная печь. Между наклонными партами и скамьями было два прохода, по которым ученики и учитель могли передвигаться. Грубый учительский стол возвышался на небольшом постаменте слева от черной школьной доски, которая, к удивлению Шарля, оказалась свежевыкрашенной. Напротив окон, выходивших на школьный двор, висели административная и географическая карты Франции. На этажерке за печью лежала вязанка лучин разного цвета, счеты и коробка с мелом.
В квартире над классной комнатой, куда мэр отвел Шарля, не было ни уборной, ни ванной. Общая с учениками уборная находилась во дворе, а воду нужно было носить из колодца. Дровянная печь служила для обогрева трех комнат — спальни, гостиной и кухни, облупившийся потолок которой свидетельствовал о протекающей крыше.
— Ничего, — ответил Шарль на жест мэра, которым тот показывал свою беспомощность, — я как-нибудь управлюсь.
Он и не ожидал чего-то большего, да к тому же привык к подобным условиям жизни и в университете, и в Пюльубьере, где еще не было водопровода. Но это заботило Шарля меньше всего. Главное было там, на первом этаже, в классе, в котором он до вечера убирал, где отмывал парты и стол, пересчитывал тетради, готовил план урока. Завершив приготовления, Шарль своим каллиграфическим почерком большими буквами вывел на доске дату: среда, первое октября тысяча девятьсот сорок первого года.
Вечером он не пошел ужинать в гостиницу, а довольствовался хлебом и сыром, что захватил с собой. Потом, уже за полночь, он взялся приводить в порядок учебники, зная, что все равно не уснет. Ему хотелось, чтобы завтра, в тот момент, когда он первый раз будет входить в класс, его отец был здесь. Этой ночью Шарль испытывал потребность рассказать кому-то о том, как он счастлив, стоя на пороге своей мечты. Матильда смогла бы его понять и разделила бы с ним счастье на заре выбранной им судьбы, к которой он много лет шел сквозь тернии. Но он был один и в темноте представлял, как завтра дети заполнят школьный двор, думал о том, сколько их будет и удастся ли уделить им всем внимание.
Шарль встал, подошел к окну и увидел вдалеке отблески реки. День все не начинался в этой долине, скрытой среди лесистых холмов. Он умылся водой из ведра, принесенной накануне, позавтракал чашкой кофе и хлебом, оделся, надел длинный серый халат, купленный неделю назад в Борте, спустился в класс и сел за стол, чтобы подготовиться к учебному дню. Было еще не холодно, но Шарль знал, что уже в конце месяца нужно будет растапливать печь, вокруг которой будут собираться ученики, придя с улицы, как когда-то, давным-давно, делал он сам. На какое-то мгновение перед ним всплыл образ школы Сен-Винсена, он увидел своего учителя, господина Буссино, о смерти которого узнал из письма его жены, увидел всех тех, кто следовал с ним по этому долгому пути, кто помогал ему.
Занимался день. Приближалось начало урока. Шарль бросил взгляд на улицу, но там еще никого не было. Он медленно прошелся по проходу между партами, поправил две карты на стене, проверил, на месте ли два белых мелка и один красный, затем опять сел за свой стол и перечитал диктант, приготовленный для старших учеников: отрывок из произведения Мориса Женевуа, в котором рассказывалось о реке Луаре, текст, который позволил бы ему сделать плавный переход к уроку географии.
Подняв голову, Шарль увидел двух детей, спорящих у входа, и его сердце забилось быстрее. Один был постарше, а второй — совсем малыш. Похоже, они знали друг друга, поскольку о чем-то оживленно беседовали. Пока Шарль рассматривал их через окно, у решетчатых ворот появилось еще трое детей, потом — еще несколько: мальчики и девочки, одетые в рабочие халаты, которые претендовали на чистоту, но в силу того, что успели послужить старшим братьям и сестрам, выдавали поразительную бедность. Во дворе затевались игры, в которых самые маленькие могли легко пораниться.
Шарль вышел на улицу. Игры сразу прекратились, и все головы повернулись к нему. Он часто представлял себе этот момент, и какое-то теплое и ценное чувство появилось у него в душе. Шарль повернулся, подошел к стене и позвонил в колокол. Тут же ученики — малыши следовали примеру старших — выстроились в две шеренги у входа. Шарлю даже не пришлось призывать их к тишине, она воцарилась сама собой.
— Входите! — сказал он.
Через несколько мгновений из-за парт на Шарля смотрели доверчивые, встревоженные, упрямые, растерянные, испуганные, полные надежды и решимости лица. Он стоял возле доски, скрестив руки на груди, стараясь определить ученика, который больше всех нуждался в помощи, может быть, даже не говорил по-французски.
— Меня зовут Шарль Бартелеми, — произнес он уверенным голосом. — Я родился в тридцати километрах отсюда в семье крестьян и, как вы, ходил в сельскую школу.
Помолчав минуту, он продолжил:
— Я уверен, что мы поладим. Я научу вас читать, писать и считать и еще множеству интересных вещей: истории нашей страны, географии, естествознанию, морали и просто чистоте.
Шарлю показалось, что с лиц учеников немного спало напряжение. Он попросил их подниматься по очереди и называть свое имя и возраст, чтобы рассадить их по рядам — дети сидели вперемешку.
Первый поднялся и выдал слегка дрожащим голосом:
— Пьер Сермадирас.
— Когда родился?
— Девятого августа тысяча девятьсот тридцать первого года в Спонтуре.
— Хорошо, — сказал Шарль, — можешь садиться.
Мальчик сел, скрипнув галошами. Поднялся его сосед, потом еще один, и так вставали все остальные, называя имя и год рождения твердым, уверенным или дрожащим голосом, по которому можно было определить характер ребенка. Очередь дошла до светловолосого мальчишки, испуганные глаза которого смотрели то на Шарля, то на окно, будто он хотел убежать. Шарль поднялся, подошел к малышу, который сидел один на последней парте в дальнем углу класса. Ребенок действительно был крайне напуган, словно боялся, что его побьют, к чему он, скорее всего, привык. Шарль протянул к ребенку руку и мягко сказал:
— Не бойся, малыш.
Он положил руку на дрожащее плечо мальчика.
— Не бойся, — повторил Шарль.
И потом еще тише:
— Как тебя зовут?
Ответа не последовало.
— Ты — поляк?
— Да, — раздался голосок.
— Хорошо, скажешь свое имя после.
— Анджей, — сказал ребенок.
— Андре, хорошо, а дальше?
— Грегоржик.
— Спасибо, — сказал Шарль и быстро провел рукой по волосам малыша, на лице которого появилась улыбка.
Он понял, что мальчик был сыном польских евреев, сбежавших от немцев и нашедших работу на строительстве дамбы. Перекличка продолжилась. Оказалось, что в классе есть два испанца, которых было не так трудно понимать, как поляка, — их язык был схож с одним из диалектов французского. Шарль посадил детей по году рождения, раздал тетради, книги, дощечки для письма и мелки. Затем он попытался выяснить уровень знаний учеников. Средним он задал задачу, старшим — продиктовал диктант, а самых маленьких попросил нарисовать лист каштана. Вдруг он понял, что позабыл отпустить детей на перемену. Шарль заметил, что старшие дети начали проявлять нетерпение и шаркать галошами по полу. Он дал им пятнадцать минут отдыха. Маленький поляк выходил последним. Шарль задержал его, когда тот подошел к двери.
— Анджей, — позвал он.
Малыш с испугом посмотрел на учителя.
— Не нужно бояться, — сказал Шарль. — Здесь тебе никто не сделает ничего плохого. Ты меня понимаешь?
Малыш жестом показал, что понял.
— Я помогу тебе, — сказал Шарль. — Если что-то не получается, не стесняйся меня спрашивать.
Мальчик улыбнулся в ответ. Это была улыбка, которую Шарль ждал на протяжении долгих лет, и она оставалась перед его глазами весь день, который пролетел как во сне. Только вечером, когда ученики разошлись по домам, Шарль вспомнил о Матильде, о своих родителях и пожалел, что не может поделиться с ними теми чувствами, которые он испытывал, радостью, которую ему довелось пережить, счастьем, которое накапливалось внутри и вокруг него в этом утлом жилище, недостатков которого он почти не замечал: ни обшарпанных стен, ни покрытого пятнами потолка, ни скудности обстановки, ни шаткости стола из некрашеных досок, за которым Шарль проверял тетради.
3
Весной тысяча девятьсот сорок второго года Люси получила от Яна письмо, в котором он писал, что во избежание смертной казни записался в войска вермахта и оказался среди солдат, осуществлявших план «Барбаросса» по захвату СССР. Но больше писем не приходило, и Люси напрасно по утрам поджидала почтальона в своей маленькой квартирке на авеню Суффрен, в том же доме, где жила ее дочь Элиза. Люси уже могла снимать квартиру на собственные средства — она работала в одном из магазинов, который принадлежал ее дочери, где после испытательного срока ее назначили управляющей. Работа Люси очень нравилась. У нее всегда был отменный вкус на красивые туалеты, на роскошные вещи, редкие ткани, который она приобрела много лет назад, пожив в замке Буассьер.
Ганс ходил в школу неподалеку, понемногу взрослел, и все было бы прекрасно, если бы рядом был Ян, который с каждым днем, как ей казалось, все больше и больше отдалялся от нее. Удалось ли ему остаться в живых в этом вихре войны, который опустошал Европу и особенно Советский Союз, где немцы, дойдя до Москвы, были парализованы ударившими морозами и с началом весны отступали под напором Красной Армии?
По вечерам Люси слушала радио и читала газеты под недружелюбным взглядом Ролана, своего зятя, которого она не любила. Это был высокомерный человек, всегда хорошо одетый, чаще всего в клетчатый костюм. Галстук в горошек, аккуратный платочек в нагрудном кармане пиджака — весь этот наряд просто кричал о его идеях: он был членом Народной французской партии Жака Дорио, в котором Ролан видел будущего министра правительства Виши. Благодаря своим связям муж Элизы скупал нежилые помещения, в которых планировал открыть новые магазины, когда обстоятельства сложатся более благоприятно. Когда торговля одеждой шла не очень хорошо, он вкладывал средства в продукты питания, закупая благодаря своим пропускам продукты в пригородах и продавая в Париже с огромной наценкой. В квартире на авеню Суффрен жили в достатке, но Люси, несмотря на присутствие Элизы, чувствовала себя не в своей тарелке. В беседах с Элизой и ее мужем Люси не скрывала, что Ян был противником нацистов и сражался на их стороне только потому, что его к этому вынудили. Ролана оскорбили ее слова, что повлекло за собой серьезные изменения в их отношениях.
Окончательный разрыв был вызван письмом, которое пришло из Швеции на имя госпожи Хесслер — это Ян нашел способ дать о себе знать. Оказалось, что он был сильно ранен под Сталинградом и теперь восстанавливал силы у своих родителей после многих дней, проведенных в госпитале города Франкфурт. Ян ожидал, что Гитлер будет разбит, прежде чем он восстановит силы и будет обязан вернуться на фронт. Люси вбежала в квартиру дочери и неосторожно прочла вслух письмо Яна. Ролан был в ярости. Теперь и речи не могло идти о том, чтобы под одной с ним крышей жила жена немецкого солдата, мечтавшего о падении Рейха. Ролан не мог допустить такого положения дел — это противоречило его убеждениям и обязательствам.
Уже на следующий день, все еще пребывая в сильном потрясении, Люси с помощью Элизы нашла квартиру на улице Паради, во втором округе Парижа, недалеко от магазина, где она работала. Она не злилась на дочь. Наоборот, она была благодарна ей за то, что та дала ей кров и работу, за ее помощь и за то, что приютила их с маленьким Гансом в самом начале.
Однако через какое-то время Элиза принесла в магазин еще одну плохую новость:
— Ролан не хочет, чтобы ты работала здесь, — сказала она, искренне расстроенная.
Увидев, что мать побледнела и пребывает в полной растерянности, Элиза сказала:
— Не беспокойся, я не оставлю тебя. Я буду давать тебе деньги, и ты не будешь ни в чем нуждаться.
Люси отрицательно покачала головой и тихо сказала:
— Я не могу принимать деньги, ничего не делая.
Вздохнув, она добавила:
— Я не могу, ты понимаешь?
— Но я в долгу перед тобой, — настаивала Элиза. — Ты прекрасно знаешь, что у меня намного больше денег, чем мне нужно, и что я должна заплатить за все те годы, которые мы потеряли по моей вине.
— Но не деньгами, доченька, — прошептала Люси. — Думаю, что мне нужно вернуться в Пюльубьер. Там мне ничего не угрожает.
Элиза схватила мать за руку и стала умолять:
— Нет, я прошу тебя, останься в Париже.
И добавила с такой искренностью, что Люси была тронута:
— Ты нужна мне. После всех этих лет разлуки я не могу больше жить без тебя. Разве мы плохо ладим?
— Нет, но ты же сама видишь, что мое присутствие создает неприятности. Кроме того, когда я буду далеко, ты скорее убедишь своего мужа быть осторожнее. Знаешь, мне кажется, что все это плохо кончится.
Люси много раз заставала Ролана за разговором с загадочными собеседниками, которые ей совсем не нравились. Она ничего не говорила об этом Элизе, но была убеждена, что ее зять принимал участие в разорении торговцев-евреев, которые бесследно исчезали после ареста.
— Нет же, Ролан знает, что он делает, — ответила Элиза. — У нас с ним прекрасные отношения, поверь мне.
— Тем более не стоит их портить из-за меня.
На лице Элизы появилось печальное выражение, и она сказала:
— Подумай еще немного, тебе некуда торопиться.
— Обещаю подумать.
Тем не менее на следующий день она отправила Франсуа письмо, в котором просила еще раз приютить ее в его доме. Неделю спустя Люси с большим облегчением получила ответ от брата, который, как всегда, сообщал, что готов принять ее.
С легким сердцем она уезжала из Парижа, пообещав дочери часто писать и снова жить рядом с ней, как только это представится возможным. В Пюльубьере Люси поселилась в своей комнате, вспомнила старые привычки и была рада, что приняла такое решение: ее помощь Франсуа и Алоизе, в отсутствие их двоих сыновей, была неоценимой.
В двенадцать лет Ганс без всяких сложностей вернулся в школу в Сен-Винсене: он привык к частым переездам и не сильно страдал от этого. Единственное, что приводило его в уныние, — отсутствие отца, о котором он часто спрашивал. Люси старалась развеять беспокойство сына, но у нее не очень получалось. Она боялась, что после выздоровления Яну придется вернуться на фронт, если, конечно, ему не удастся перебраться в Швейцарию, где, судя по приходившим письмам, у него еще оставались друзья.
Она не напрасно беспокоилась. В мае, когда лес вокруг Пюльубьера наливался весенними красками, из Германии пришло письмо, отправленное матерью Яна. Случилось то, чего Люси боялась больше всего: вернувшись после выздоровления на Восточный фронт, Ян погиб под Новгородом, разорванный артиллерийским снарядом. Его останки собрать не удалось, так что у него не было даже могилы. Он перестал существовать. Совсем.
Читая последние строки, Люси потеряла сознание. Франсуа и Алоиза отнесли ее в комнату и не отходили, пока к ней не вернулось сознание. Ее первые мысли были о сыне:
— Господи, как я скажу ему об этом?
— Я могу это сделать, — предложил Франсуа.
— Спасибо, — ответила Люси, — но думаю, что будет лучше, если он узнает об этом от меня.
Она вздохнула и добавила:
— Во всяком случае, я попробую.
Было начало дня. Ганс возвращался из школы в пять часов. Некоторое время Люси лежала, вспоминая все, что они пережили вместе начиная с того дня, когда она услышала, как кашляет Ян в соседней комнате в доме Дувранделлей, отъезд в Германию, Кельн, Нюрнберг, Швейцарию, столько тяжелых моментов, пережитых в ожидании будущего, — войны, которая, они знали, должна будет разлучить их. Вспоминала она и самое прекрасное, что им довелось пережить вместе: их борьбу, с самого начала, против злой доли. Обещания вечной любви, несмотря ни на что, любви, заранее обреченной, но в которой они находили счастливые моменты.
У нее оставался Ганс, который так был похож на отца, становился все более светлым, как и Ян, с тонкими чертами лица, худощавый, со светлыми глазами, в которых, казалось, можно было разглядеть снежинки. Именно эти глаза, а также моменты, когда ребенок превращался в глыбу льда и до него не доходили слова, не трогали материнские ласки, и вызывали в Люси беспокойство. В такие моменты Ганс был способен на все что угодно.
Приближался час его возвращения из школы, и Люси старалась собраться с силами. Она встала, умылась в эмалированном тазу, стоявшем на столе в ее комнате, спустилась в кухню.
— Я могу сам с ним поговорить, — еще раз предложил Франсуа при виде растрепанной и отрешенной сестры.
— Нет, — ответила она. — Я смогу. Дай мне чего-нибудь выпить, немного водки.
Он налил Люси и остался вместе с Алоизой возле нее. Одилии не было дома уже два дня — она вместе с сыном гостила у своих родителей в Борте. Они попытались поговорить о чем-то другом, об успехах Луизы в колледже, об Элизе, которая часто писала матери, но очень скоро наступила неловкая пауза.
Когда в половине шестого двери распахнулись, Франсуа и Алоиза удалились, оставив Люси и Ганса наедине. Мальчик сразу понял, что случилось что-то серьезное. Улыбка, которая сияла на его лице, когда он входил, исчезла. Люси подошла к нему, но он отступил назад к окну, вытянув вперед руку, будто запрещал ей говорить.
— Твой отец погиб… — смогла выговорить Люси.
Ганс смотрел не моргая, уставившись, как обычно, в одну точку. Люси добавила:
— …на русском фронте.
Она ждала, что хотя бы слезинка появится на его лице, но мальчик по-прежнему смотрел на нее не моргая, будто она была виновата в том, о чем только что ему рассказала.
— Иди, иди ко мне, — сказала Люси.
Он сделал два шага к двери, все еще держась за стену.
— Иди ко мне, сынок, — повторила Люси.
— Нет.
Она хотела подойти к нему, но он пошатнулся и вышел. Она выбежала за ним и увидела, как Франсуа тщетно пытается удержать ребенка. Ганс бросился к лесу и на ходу издал крик, который до этого сдерживал, — душераздирающий крик, вспугнувший диких птиц на кронах деревьев и эхом улетевший в горы.
Из-за того, что шла война, на свадьбе Шарля и Матильды весной тысяча девятьсот сорок второго года гостей было не много. Гражданская церемония и венчание проходили в городе Уссель, а застолье — в Пюльубьере, в сарае, который специально на несколько дней освободили от сена и соломы. Гости немного потанцевали, но петь не стали. Было не до песен. Эдмон все еще находился в лагере, и дело было плохо: по договору о военном сотрудничестве в январе Германия освободила сто тысяч пленных, но Эдмона среди них не было. Несмотря на усилия Шарля, который помогал родителям на каникулах, Франсуа и Алоизе было все труднее справляться с хозяйством.
Эта свадьба по крайней мере позволила молодым получить двойное назначение в Борте. Не успели они обосноваться на новом месте и насладиться днями и ночами, проведенными вместе, как войска союзников высадились в Северной Африке, что привело к оккупации юга Франции. Теперь вся страна была занята немцами. Шарль и Матильда старались не думать об этом и полностью посвящали себя урокам, которые давали в двух смежных классах школы. Они могли быть счастливы, если бы не чувствовали угрозы, которую представляло собой правительство Виши. Под нажимом оккупантов французским властям приходилось следить за всеми учителями.
Прошла зима. Она была снежной и холодной. Люди все еще обсуждали создание Жозефом Дарнадом отрядов полицаев, когда в феврале вышел декрет об обязательных работах. По новому положению правительство должно было собирать работников, подлежащих отправке в Германию. Франция становилась простым протекторатом Рейха, а ее молодежь должна была поддерживать военные действия, навязанные Гитлером всему миру.
С июля Шарль с Матильдой гостили у родителей. Там они повстречались с убитой горем Люси, которую не смогли успокоить даже приезды дочери Элизы, и с ее сыном Гансом, который все время молчал и был крайне враждебно настроен по отношению к своей сводной сестре, чьи краткие визиты никто не мог предсказать. Была там и Одилия, все ожидавшая новостей от Эдмона, а также Луиза, в свои пятнадцать лет как две капли воды походившая на мать, охваченная желанием поехать в Африку учиться на сестру милосердия. Впрочем, Франсуа и Алоиза не придавали большого значения этим планам и были уверены, что дочь передумает еще до окончания учебы в колледже.
В Пюльубьере всего было вдоволь. Франсуа починил старую печь для выпечки хлеба и выращивал овощи, особенно много картофеля, которого вместе с птицей, двумя свиньями, грибами и каштанами хватало, чтобы прокормить семью. Матильде удавалось даже возить немного продуктов в Уссель своим родителям, старым учителям, у которых не было собственного сада и которые жили, как и большинство французов, лишь на продовольственные карточки.
Это было чудесное лето с длинными солнечными днями, которые позволили Франсуа, Шарлю и женщинам собрать хороший урожай. Было приятно отдыхать в тени августовскими вечерами в ожидании осенней уборочной поры. Мужчины вели долгие разговоры, подпитываемые все более пугающими новостями, услышанными по радио. Казалось, что вся страна встала на сторону оккупантов и всюду процветал коллаборационизм, который сильно беспокоил Шарля и Франсуа.
Даже в школе Шарль чувствовал, что за ним наблюдают и что за любую ошибку или случайную оговорку он может поплатиться. Ему и Матильде продлили двойной пост на следующий учебный год, но Шарль задавался вопросом, как себя держать. Об этом он спросил отца, помогая ему укладывать солому, оставшуюся после молотьбы.
— В Германию отправляют тысячи людей, — сообщил Шарль. — Я думаю, можно ли мне как-то этого избежать.
— Отправляют в основном рабочих, — уточнил Франсуа, — им нужны мастера на оружейные заводы.
— Это пока что, но неизвестно, как все сложится через несколько месяцев.
Франсуа вздохнул и ничего не ответил. Они оба были в растерянности. Маршал Петен и правительство Виши больше не имели никакой власти, поскольку немцы заняли всю страну. Все, кто поверил, что маршал спасет Францию от величайшего унижения, «отдав себя ей без остатка», поняли, что «жертва» старика была напрасной. Французский флот причалил в Тулоне, Национальная революция, которую обещали народу, превратилась в банальный принудительный коллаборационизм. Немцы были везде, и если их еще не видели в Пюльубьере, то в главных городах департамента и некоторых кантонов их было полным-полно.
Шарль обратил внимание на то, что отец сильно похудел: кожа да кости. Шарль любил наблюдать за его руками — руками, которые держали в своей жизни столько инструментов и до сих пор крепко сжимали их, несмотря на груз лет, несмотря на полное непонимание того, что происходит. Франсуа не отрываясь смотрел на сломанные зубцы вил, которыми он скирдовал сено, затем поднял глаза на сына. Шарль прошептал:
— Думаю, что пришло время сделать выводы из сложившейся обстановки.
— Я тоже так думаю, — ответил Франсуа, — но что мы можем предпринять?
— Я не хочу сидеть и ждать, когда полиция арестует меня на глазах у моих учеников, — я умру со стыда, — произнес Шарль и добавил чуть громче: — И ехать работать на Гитлера я тоже не желаю.
— Я понимаю, — согласился Франсуа. — Знаешь, меня сильнее всего огорчает то, что землю, которую мы с братом защищали на протяжении четырех лет, топчут вражеские войска, что все сделанное нами было напрасно.
— Я думаю, — чуть понизил голос Шарль, — что достаточно одного члена семьи, который вынужден работать на них.
Об Эдмоне говорили редко — тема была слишком болезненной. Франсуа покачал головой и спросил:
— Что ты будешь делать, если не вернешься в октябре в школу?
Шарль не отвечал, и Франсуа продолжил мысль:
— Если ты останешься здесь, тебя найдут.
— Я не останусь здесь, — ответил сын. — Я пойду к партизанам.
— Куда?
— В леса за дамбой в Эгле. Я знаю, что они там собираются — мне рассказал об этом один инженер в Спонтуре.
— А Матильда?
— Это меня и останавливает. В школе ей будет небезопасно. Ее могут допросить. Также и в Усселе — там быстро ее найдут. Единственное место, где Матильда будет в безопасности, — это Пюльубьер.
Франсуа понял, что сын именно ради этого затеял весь разговор: узнать, разделяет ли отец его мнение и готов ли принять Матильду.
Без колебаний Франсуа ответил:
— Конечно, она может остаться здесь.
— Ты понимаешь, что это может плохо кончиться, что вас могут допрашивать?
— Это меня не волнует. Пришло время что-то делать. Мы уже три года как затаились и ждем. Хватит!
Будто испытав прилив энергии, Франсуа вскочил со стога сена, на котором сидел, и добавил:
— Ты хотя бы с ней об этом поговорил? Ты уверен, что она согласится?
— Матильда всегда со мной согласна, — улыбнулся Шарль.
Мужчины замолчали. Все было сказано. Они даже не подозревали этим утром, насколько опасным будет путь, на который они решили ступить, и какие страдания выпадут еще на их долю.
В Алжире Матье также задавался вопросом о судьбе страны, беспокоился о Франсуа и его семье, живущей в Пюльубьере. Поскольку информация в газетах подвергалась цензуре, Матье раз в месяц стал наведываться в Алжир, где набирало силу сопротивление политике Виши. Событием, пробудившим сознание тысяч французов, живших в Алжире, стала высадка войск союзников в ночь с седьмого на восьмое ноября тысяча девятьсот сорок второго года. Для Матье это стало откровением: существовала иная Франция, помимо той, что склонилась под немецким ярмом, той, где жил Франсуа и его родня. Именно с этого дня Матье начал часто ездить в столицу Алжира, где находилась штаб-квартира Совета Империи под предводительством генерала Жиро, вступившего на этот пост после загадочной смерти адмирала Дарлана.
В начале тысяча девятьсот сорок третьего года в Касабланке прошла конференция, в которой приняли участие Черчилль, генерал де Голль, Рузвельт и Жиро. На конференции Жиро и де Голль достигли соглашения по плану действий. Результатом этого соглашения стал визит де Голля в Алжир в мае того же года и создание совместно с Жиро Французского комитета освобождения, с которым в начале лета Матье удалось связаться. Сделать это ему не составило никакого труда: свою роль сыграли его заслуги во время предыдущей войны, на которой в тысяча девятьсот семнадцатом он потерял руку, а также давнее знакомство со своим старым сослуживцем, офицером Монтандо. Благодаря этому Матье назначили представителем Комитета в городе Блида. В его задачи теперь входило быть рупором французского освобождения и собирать единомышленников в глубине страны. В те дни Францией был Комитет освобождения, а не марионеточное правительство Виши. Все, кто думал иначе, должны были рано или поздно ответить за все. Эту мысль и пытался донести Матье до жителей Матиджи и ее окрестностей.
Эта работа все чаще уводила его далеко от Аб Дая, от двух сыновей, которыми Матье очень гордился и которые должны были в будущем унаследовать имение, где они росли. Не без труда Матье различал своих сыновей — так они были похожи. К счастью, характер у них был разный: Виктор был более решительным, смелым, чем его брат Мартин, предпочитавший проводить больше времени с матерью, а не в компании феллахов, работавших в поле и на виноградниках. К этому времени владения их отца расширились за счет земель, купленных Матье в том году, когда у него родились дети. Теперь Аб Дая представляла собой сто гектаров пшеницы, виноградников и апельсиновых садов, дом, в котором у Марианны было все для спокойной жизни, и множество хозяйственных построек, где хранились самые современные инструменты для обработки земли, каждый кусочек которой использовался с толком.
В отсутствие Матье поместьем управляли Хосин и Роже Бартес. Матье мог спокойно отправляться в свои, как он их называл, «турне» на тракторе, купленном еще до тысяча девятьсот тридцать пятого года. Он ездил в Блиду, где любил захаживать в музыкальное кафе, приютившееся под огромной пальмой, или в «Отель-де-Франс», где встречался с офицерами гарнизона, чтобы узнать, о чем они думают и какие настроения витают в их среде. В действительности у Дарлана во время высадки в Алжире были сомнения насчет того, принимать ли лагерь союзников, и в отдельных гарнизонах, даже после изгнания вишистов, оставались колеблющиеся.
Из Блиды Матье поднимался в горы на высоту более тысячи метров, где заглядывал в селения каидов, чтобы донести до них информацию о происходящем и пояснить, в чем состоял их долг. Он проезжал через затерянные нищие деревни, опаленные солнцем и засыпанные пылью, жителям которых было плевать на то, что происходит за стенами их домов. Каиды жили согласно вековым патриархальным традициям, единственной их заботой было прожить, а точнее, выжить на ржаных лепешках, скудных запасах воды и без малейшего понятия о гигиене. За горами начиналась пустыня, куда Матье все собирался поехать, чтобы проверить, правду ли о ней говорят: дюны до горизонта, караваны, миражи, редкие оазисы и тысячи километров раскаленных песков, в которых легко заблудиться.
На юго-восток Матье ездил до Медеи — города, где также располагался гарнизон. Это было красивое место с городскими садами, кафе на террасах вокруг обсаженной деревьями площади, город, где процветала торговля и вокруг которого выстроилось множество мелких предместий. Вечера в Медее были свежи и приятны благодаря высоте, на которой располагался город, а также обилию воды. Закончив «турне», Матье возвращался в Аб Дая, делал двухнедельную передышку и уезжал в столицу Алжира с отчетом.
Со временем его частые отлучки стали плохо сказываться на делах поместья. Марианна тоже жаловалась на постоянное отсутствие мужа — ей не очень-то нравилось по ночам оставаться одной в большом доме. После очередной поездки Роже поделился с Матье своими опасениями по поводу слухов, ходивших в Матидже: Матье был слишком амбициозным, чего не любили в среде колонистов, где все завидовали друг другу. Об этом ему говорил и Гонзалес во время поездки Матье в Шебли за зерном.
— Знаешь, Матье, политика — опасная штука.
— Не лезь в мои дела. Я знаю, что делаю.
— У тебя слишком много амбиций, Матье, — продолжил Гонзалес. — Ты никогда не мог усидеть на одном месте.
Дальше он продолжил с коварством в голосе:
— Я знал тебя совсем маленьким. Чтобы быстро вырасти, ты наделал много долгов, здесь все об этом знают.
— Не вмешивайся не в свое дело, — ответил Матье.
— Хорошо, но ты тоже знай свое место.
В Аб Дая Матье вернулся в ярости. Он был потрясен. Он действительно брал в долг, но надеялся вернуть все за десять лет. Беря кредиты и расширяя хозяйство, он думал лишь о будущем своих сыновей, которые должны унаследовать поместье. Остальное не трудно было понять. Политика, как говорил Гонзалес, то, чем Матье сейчас занимался, было вызвано лишь нежеланием видеть свою страну поверженной и униженной теми, против кого он два года сражался на фронте, где потерял руку. Вот в чем заключалась политика Матье Бартелеми. Но такие вещи было непросто объяснить людям. Тем не менее, с этого дня он решил посвящать больше времени семье, тем более что основная часть его миссии была выполнена. Франция для него опять стала тем, чем была.
— Хорошо, — сказала Матильда Шарлю, после того как тот рассказал ей о своем желании уйти в партизаны, — но я пойду с тобой.
Пришлось потратить немало времени, чтобы объяснить ей, насколько это опасно, что нужно еще все организовать. Он пообещал разделить с ней свою судьбу, когда сложатся благоприятные обстоятельства.
— А что же я буду делать тем временем, уважаемый супруг? — с усмешкой спросила Матильда. — Я должна вернуться в школу?
— Нет, это было бы слишком опасным. Тебе лучше пожить в Пюльубьере. У моих родителей тебе нечего боятся. Здесь легко спрятаться.
— Я соглашусь, но при одном условии: ты пообещаешь забрать меня при первой же возможности.
— Я обещаю.
Однако в день отъезда Шарля оказалось, что молодым супругам не так-то легко расстаться друг с другом. Матильда не забыла о том, что они могли расстаться навсегда. Алоиза тоже пыталась остановить сына, посеяв в душе Матильды дурное предчувствие и страх, которые усиливались по мере приближения дня расставания. Шарль даже начал колебаться, но не сдался. Матильда проводила мужа до дороги на Сен-Винсент и поделилась с ним своей тревогой и боязнью смертельной опасности, витавшей над ними.
— Ну что ты, — успокаивал ее Шарль. — Нам ничего не угрожает. Не бойся.
Матильда постаралась взять себя в руки, чтобы не мешать Шарлю исполнить то, что он считал своим долгом. Но в самый момент расставания она почувствовала, что они больше не увидятся, и продолжала молча идти рядом с ним. Шарль был настолько тронут, что чуть было не отказался от своих планов. Но что-то внутри него придало ему сил, и он попросил Матильду вернуться в Пюльубьер. Шарль крепко обнял ее и ушел, не оборачиваясь на пустынную дорогу, где стояла любимая женщина, смотря ему вслед. С этого дня Матильда не преставая думала об отъезде мужа и уже явно ощущала, что опасность совсем близко.
Наступил октябрь с его золотисто-медными лесами и короткими холодными днями. Матильда последовала совету мужа и не вернулась в школу. Она вспоминала об учениках, которые привыкли к ней и которых она покинула. Она страдала от этого предательства, но сдержала слово, данное мужу, в надежде, что скоро он заберет ее к себе.
Матильда очень беспокоилась о своих пожилых одиноких родителях. По ее просьбе Франсуа один раз съездил в Уссель, чтобы отвезти им провизию и передать привет от дочери. Но Матильда страдала от разлуки с ними. Однажды в пасмурный понедельник, когда ветер гнал по небу свинцовые тучи, цеплявшиеся, казалось, за верхушки деревьев, она решилась съездить в Уссель на велосипеде, хотя Франсуа и Алоиза, как могли, отговаривали ее от этого.
Ледяной ливень застал ее на въезде в город, промочив до нитки, так что к родителям она приехала, вся дрожа от холода. Они жили в самом центре города, за церковью. Дверь дома выходила на улицу. Не успела Матильда как следует обсохнуть и переброситься несколькими словами с отцом и матерью, как раздался глухой стук в дверь. Матильда вдруг поняла, что за домом следили с тех пор, как она не вернулась в школу, уйдя таким образом в подполье. В доме был только один выход, и бежать было некуда. Отец попытался преградить вход, но полицаи оттолкнули его без лишних церемоний и без труда обнаружили молодую учительницу в шкафу ее комнаты.
Не обращая внимания на протесты родителей, полицаи увели Матильду в участок, который находился в одном здании с немецким штабом. Сидя на стуле перед тремя мужчинами, одетыми в черное и с беретами на голове, Матильда поняла, что попала в другой мир и что часы ее жизни сочтены. Допрос начался с причин ее отсутствия на работе.
— Я осталась помогать родителям мужа, — отвечала она.
— А где же ваш муж?
— Не знаю.
— Как это вы не знаете? Если вы решили посмеяться над нами, дамочка, то вы об этом сильно пожалеете.
Высокий худощавый мужчина, судя по всему, главный среди них, с черными глазами и шрамом на щеке, подошел к ней и, когда она совсем не ожидала этого, сильно ударил ее по лицу, так сильно, что Матильда упала со стула, не совсем понимая, что произошло.
Она почувствовала, как ее усаживают обратно.
— Итак, дамочка, где находится сейчас ваш муж, Шарль Бартелеми? Не должен ли он тоже помогать своим родителям?
Она не ответила, пытаясь убедить себя в том, что у них ничего против нее нет и что им нужен только Шарль. Но в течение следующего часа допроса Матильда не один раз подумала, что ей не удастся выйти живой из этой грязной комнаты, где пахло табачным дымом и вином. Все кончилось бы надругательством, если бы не немецкий офицер, который вовремя вошел в комнату. Этот визит утихомирил полицаев. Они перебросились несколькими словами, и тот, что со шрамом, вышел с офицером СС. Матильда осталась наедине с двумя полицаями. Она старалась уйти в себя и без остановки дрожала. Она поняла, что запущен механизм, силы и жестокости которого она не представляла, и приготовилась к худшему.
Человек со шрамом вернулся в комнату через десять минут и дал команду отпустить Матильду. Вероятно, они надеялись, что она приведет их к Шарлю. Было два часа дня. Растерянная, она стояла на улице, не зная ни что делать, ни куда податься. Матильда решила вернуться в дом родителей, чтобы успокоить их. У матери случился приступ, и отец был рядом с ней в спальне. Увидев дочь, они немного успокоились, но тревожное состояние не покидало их. Что же ей теперь делать? Отправиться в Пюльубьер или остаться в Усселе? Она решила вернуться в Пюльубьер, куда Шарлю было бы легче добраться. Здесь, в Усселе, их врагам было легче следить за домом.
— Они и там будут следить за деревней, — вмешалась мать Матильды, которая хотела во что бы то ни стало оставить дочь рядом с собой.
— Первое время — да, но они не могут быть повсюду. Рано или поздно им это надоест.
Сердце Матильды колотилось от страха, когда она уезжала. Все время оглядываясь, чтобы проверить, не следят ли за ней, к пяти часам она добралась до Пюльубьера. Дождь закончился, и с тяжелых ветвей падали тяжелые капли, издавая знакомый с детства звук, который немного успокоил Матильду.
Рассказ Матильды встревожил Франсуа и Алоизу. Теперь следовало быть предельно осторожными. Конечно, в жителях деревни можно было не сомневаться, но за домом могли наблюдать с гор. Они также не исключали вероятность обыска со стороны полицаев или немцев. Выбор был сделан: теперь им придется постоянно жить в ожидании ареста кого-то из семьи. Наибольшая опасность грозила Шарлю, который, к счастью, в течение нескольких дней, последовавших за описанными событиями, в Пюльубьере не появлялся.
О том, что произошло, он узнал от повстанцев из Усселя. Шарлю было опасно приезжать самому, но он прислал в Пюльубьер связного под видом торговца скотом, который передал Матильде его слова: оставаться в Пюльубьере и ждать новых инструкций. Шарль появился через несколько дней, темной ноябрьской ночью, убедившись, что за дорогой не следят. Матильда рассказала мужу о своих мыслях: она не желала подвергать опасности Франсуа и Алоизу, оставаясь в их доме; по той же причине она не могла вернуться в Уссель. Она хотела, чтобы Шарль забрал ее с собой.
— У меня нет постоянного жилья, — ответил он. — Я сплю то здесь, то там. Я постоянно скрываюсь. Но я обещал, что возьму тебя с собой, и я сдержу слово.
Все давалось Шарлю нелегко теперь, когда он обосновался в гористой местности над Спонтуром, в самой чаще леса. Андре, главный инженер строительства, на котором были задействованы десятки рабочих, настроенных против оккупантов, основал Вооруженную организацию сопротивления рабочих дамбы, которая действовала от Корреза до Шанталя и Пюи-де-Дома. После отъезда из Пюльубьера Шарлю оставалось просто разыскать Андре, поскольку они познакомились, когда Шарль работал в этом городке, и сразу поняли, что взгляды их совпадают. Через месяц работы Шарля назначили представителем по связям с Секретной армией Верхнего Корреза. В ноябре тысяча девятьсот сорок третьего года при поддержке инженера Шарль перешел из одной организации в другую и стал единственным руководителем Секретной армии в районе дамб под именем Мареж. Теперь он налаживал контакты с Тюлем, подпольщики которого получали распоряжения прямо из лондонского штаба Сопротивления.
Через несколько дней Шарль получил задание найти и подготовить участок плоскогорья для приема парашютного груза с оружием, доставка которого была намечена на конец года. Уже пошел первый снег, который укутал высокогорье белым покрывалом, приглушил звуки. Дороги сделались небезопасными, и в труднодоступные районы стало трудно добираться.
Шарль не раз обращал внимание своего связного в Тюле на сложности, которые могут возникнуть при встрече и переправке оружия, но приказ исполнил. Он нашел площадку на горном хребте, недалеко от Сен-Винсена: труднодоступную поляну, на которую не вела ни одна дорога. Стоял декабрь. Воздух был прозрачным, но северный ветер покрыл снег ледяной коркой.
Этим вечером Шарль с пятью помощниками ожидали секретной радиограммы из Лондона, укрывшись на заброшенной ферме между Усселем и Сен-Винсентом. Уже была глубокая ночь, когда из радиоприемника послышался позывной: «Бом-бом-бом! Говорит Лондон. В эфире французское радио». Шарль и его ребята напряженно слушали выпуск новостей. Передача подходила к концу, когда знакомый голос диктора произнес шифрованное послание, которого они ожидали: «Прерии усыпаны цветами, повторяю: прерии усыпаны цветами».
Нужно было уходить. Ночь была морозной. На небе блестела луна и миллионы искорок-звезд. Больше всего подпольщики опасались гололеда. Чтобы свести к минимуму возможный риск, Шарль нашел ферму, расположенную недалеко от площадки. У них должно было уйти не больше четверти часа, чтобы добраться до места, даже если их средство передвижения — грузовичок на газогенераторе — будет с трудом подниматься по скользкой дороге.
В этот поздний час они не встретили никого, кроме косули, перебежавшей дорогу в свете фар. Кто, кроме них, мог рискнуть отправиться ночью на удаленное плато, открытое всем ветрам? Мотобригады не решались пока забираться на такие высоты и ограничивались работой на магистралях национального значения, в частности на трассе Тюль — Клермон-Ферран.
Бригада Шарля быстро зажгла факелы по периметру площадки, которая казалась крохотной на фоне величественных буков, массивных дубов и карельских берез, окружавших ее. Оставалось ждать не более пятнадцати минут. Дул сильный северный ветер, продувавший ожидавших насквозь. Шарль уже начал думать, что в такую погоду десант не сможет высадиться на столь узкую площадку, когда вдалеке послышался рев самолетных двигателей. Вскоре шум превратился в оглушительный рев. С замирающим сердцем Шарль передал азбукой Морзе опознавательный сигнал: три тире, обозначающие букву «О».
Самолет сделал первый заход, затем развернулся и опустился еще ниже. В какой-то момент Шарлю показалось, что он заденет верхушки деревьев. Но все обошлось: на землю приземлились два блестящих в лунном свете контейнера, а самолет удалился в том направлении, откуда и появился. Наступила тишина. Странная и тревожная. Люди прислушались, но с плато доносился лишь гул ветра и шум деревьев. Они поспешили загрузить контейнеры в грузовик и отвезти их в старый заброшенный сарай. Там нужно было спрятать оружие: противотанковые гранаты, автоматы Стена, базуку, револьверы. Затем все следовало раздать солдатам Секретной армии Верхнего Корреза.
С этим заданием группа Шарля справилась за сорок восемь часов, несмотря на рейды жандармов из города Новик, которые были предупреждены вишистами. Связной Шарля в Тюле, получивший псевдоним Скала за твердость характера и большой рост, сообщил, что до лета будет еще одна доставка оружия. Тем временем Шарль должен был найти человека, который смог бы достать в Тюле для его бригады поддельные документы, продуктовые карточки и пропуска. Согласно новому приказу следовало привлечь и организовать как можно больше людей на случай высадки десанта. В задачи объединенных групп Сопротивления входила подготовка к окружению немецких войск совместно с силами союзников.
Наступило Рождество, и снегопады парализовали движение на дорогах высокогорья. Шарль не мог хотя бы на один день не наведаться в Пюльубьер и Эглетон, чтобы обнять Матильду. Из осторожности он решил появиться там не в рождественскую ночь, а лишь на следующий день. Через неделю он добрался до Эглетона, где его с нетерпением ждала Матильда. Они смогли провести вместе одну ночь в гараже, где дядя жены поставил печь для своих рабочих, которые тоже отправились навестить своих родных. Это была первая ночь, проведенная Шарлем и Матильдой вместе за последние три месяца.
Следующим утром Шарль дал Матильде задание отправиться в Тюль, чтобы достать документы.
— Ты уверена, что действительно хочешь этого? — спросил Шарль перед уходом.
— Абсолютно.
— Тебе уже приходилось сталкиваться с полицаями, и ты знаешь, что все это может плохо кончиться.
— А ты, ты сам это понимаешь?
— Да! Но это мой выбор.
— И мой тоже, — ответила Матильда. — Я тоже хочу бороться.
Шарль долго не мог уйти этим утром, как будто хотел запечатлеть в памяти ее светлые волосы, ясные глаза, в которых читались одновременно и сила и слабость этой женщины.
— Матильда, — сказал он, выпуская жену из своих объятий, — береги себя.
— Шарль, — ответила она с улыбкой, — береги и ты себя.
Да, нужно было улыбаться, пока была возможность. Уходя, Шарль думал о том, не станет ли этот начинающийся год годом слез для них обоих.
4
На железной дороге постоянно проводились проверки, так что не могло быть и речи о поездке в Тюль на поезде: Матильда никак не могла бы объяснить визит в главный город департамента. Она также не могла воспользоваться возможностью поехать в управление образованием, поскольку уже не работала в школе. Оставались дороги, покрытые толстым слоем снега, на которые январский ветер нагонял метели, делавшие видимость практически нулевой.
Дядя Матильды, Анри, несмотря на все трудности, вызвался сопровождать племянницу. Для этого он сделал тайник в кузове грузовика, прямо за кабиной, укрыв его дровами, которые он намеревался доставить своим тюльским клиентам. Матильда дрожала от холода, когда грузовик пробирался между заснеженных сосен по обледенелой дороге. Дядя ждал до одиннадцати часов, надеясь, что погода улучшится, но туман все не рассеивался. Анри вел машину очень осторожно, но боялся, что они не успеют обернуться засветло.
У них ушло два часа на преодоление тридцати километров, отделявших Эглетон от столицы департамента. Там, внизу, снег не растаял, а, наоборот, налип коркой на обочинах дороги и на поворотах, куда редко проникали лучи солнца. Много раз колеса буксовали на льду, но дяде Матильды, опытному водителю, каждый раз удавалось удержать грузовик на узкой дороге с ее бесконечными изгибами и поворотами.
В городе он остановился на маленькой площади за собором, повернув грузовик к стене. Убедившись, что за ними никто не следит, Анри дал знак Матильде вылезать. Она не стала долго задерживаться возле грузовика, чтобы не компрометировать дядю, и сразу отправилась на первое задание. Матильда часто оборачивалась, чтобы проверить, нет ли за ней «хвоста» — Шарль предупредил о том, что ей следует быть предельно осторожной. Время от времени в голове всплывали воспоминания о допросе в Усселе, отчего Матильду бросало в дрожь. Впрочем, ей было не страшно, поскольку она не могла представить себе всю опасность ситуации или по крайней мере старалась не думать о ней. Женщина ускорила шаг, прошла мимо собора, полная решимости выполнить возложенную на нее миссию.
Встреча была назначена в мастерской сапожника на улице, параллельной той, что вела к префектуре. Матильда прошла мимо лавчонки до угла улицы, вернулась назад и остановилась, увидев внутри двух женщин. Одна из них вышла, и Матильде ничего не оставалось, как войти. Сердце ее бешено колотилось. У нее было время отдышаться, пока сапожник, старик в очках и берете, обслуживал последнюю клиентку. Матильде показалось, что та бросила на нее подозрительный взгляд, но мягкий голос сапожника ее успокоил:
— Чего желаете, мадам? — произнес он.
— Я очень люблю горы, — ответила Матильда, — и мне нужны надежные ботинки для прогулок.
Старик не проявил ни малейшего удивления. Он встал, открыл дверь, возле которой сидел, затем подошел к входу в мастерскую, чтобы посмотреть, нет ли кого-нибудь на улице, и сказал:
— По коридору направо.
Она вошла в узкий коридор, в котором пахло плесенью и кислыми яблоками. Идя по нему, Матильда думала, не попала ли она в ловушку, но, вспомнив Шарля, открыла нужную дверь без стука. Мужчина, сидевший за кухонным столом, покрытым зеленой клеенкой, встал и поприветствовал Матильду.
— Я очень люблю горы, — произнесла Матильда.
— Проходите, садитесь, — ответил мужчина.
Она ни минуты не колебалась. В этом человеке все внушало доверие. Он был высоким и крепким, с черными глазами и коротко остриженными каштановыми волосами. В руках он держал коробку для обуви.
— Здесь все, что нужно, — сказал он, открывая коробку. — Паспорта, пропускные листы, продуктовые карточки.
— Спасибо, — поблагодарила его Матильда, принимая коробку.
— Вас будут звать Вереск, — продолжил мужчина.
Она кивнула и спросила:
— Куда я должна это доставить?
— Не беспокойтесь, — ответил он, — вам сообщат. Долго вам хранить их не придется.
И добавил, переходя на шепот:
— Будьте осторожны на обратном пути. На дорогах усилились проверки. Дорогу Розьер — Эглетон прочесывают дважды в неделю.
Какое-то время он молча смотрел на Матильду, а потом сказал:
— Вы понимаете, что если что-то случится, вы будете одна?
— Я знаю, — ответила она.
— И последнее: скажите Марежу, до конца марта — начала апреля новых операций не будет. У него есть время передать бумаги и укрепить сеть.
— Понятно, — ответила Матильда.
— Это все, Вереск, не задерживайтесь.
Он крепко пожал ей руку, что укрепило уверенность Матильды в этом человеке. Он проводил ее по коридору к другой двери, выходившей в тупик, из которого можно было пройти на улицу. Коробка для обуви исчезла на дне большой хозяйственной корзины. Матильда направилась в сторону собора, не оглядываясь и избегая взглядов прохожих. Она спешила как можно быстрее добраться до грузовика и там спрятаться.
Через десять минут женщина нашла Анри, который ждал ее в кабине.
— Нужно избегать дороги Розьер — Эглетон, — сказала она ему.
— Понял, — ответил дядя.
Он помог ей забраться в кузов и устроиться в своем тайнике, где Матильда с трудом могла сидеть. Ее трясло, трясло от холода и от напряжения, которое она испытывала при выполнении своего первого задания. Что ее удивляло, так это легкость, с которой ей удалось с ним справиться. Действительно, в этот день они вернулись в Эглетон до наступления ночи, которой боялись не меньше чем патрулей. Матильде оставалось дождаться прихода связного, о котором говорил Скала. Она так надеялась, что это будет Шарль, который придет и крепко обнимет ее.
В середине января тысяча девятьсот сорок четвертого года впервые за долгое время поместье Аб Дая накрыло нежное покрывало снега, что привело Матье Бартелеми в невообразимый восторг, напомнив ему о жизни до переселения в Алжир. Несмотря на протесты Марианны, он вывел своих трехлетних сыновей на улицу и слепил им снеговика прямо перед входом в дом. Потом он забросал их легкими снежками, отчего малыши смеялись, а затем стали плакать, впервые в жизни почувствовав, как мороз щиплет руки.
Матье был на седьмом небе от счастья. Все эти годы, проведенные в Матидже, не притупили воспоминаний детства — снежные баталии с Франсуа по дороге в школу и обратно во время сильных морозов. Он знал, что этот североафриканский снег не пролежит долго и что увидеть его здесь — уже чудо. Матье собирался воспользоваться этим.
Когда дети согрелись и мать окружила их своей заботой, Матье тепло оделся и пошел осмотреть поместье, где не было ни души. Феллахи, укрывшиеся в хижинах, чтобы переждать снегопад возле скудного очага, плохо переносили наступившие холода. Впрочем, снег не позволял на полную развернуть работы по хозяйству. Хосин заперся в своей пристройке, где он, преданный слуга, без которого Матье пришлось бы туго, жил со своей женой.
Слой снега был не толстым — всего пять или шесть сантиметров — но этого хватило, чтобы его хруст под ногами пробудил в Матье целый ворох забытых чувств. Эта тишина, приглушавшая шаги, запах, или, скорее, его отсутствие, были связаны с далеким и таким бесценным счастьем. Сколько же лет он не был во Франции, не видел брата? Семь, восемь? Сбившись со счета, Матье приближался к винограднику, где черные стволы пробивались сквозь белизну такого непривычного в этой местности снега.
Матье долго бродил, пока не дошел до берега неглубокой речки, поверхность которой кое-где покрылась ледяной коркой. Перед ним вдалеке виднелись Атласные горы, заснеженные вершины которых так напоминали сегодня Матье о родных Альпах, о времени, когда он и Франсуа забирались на самые высокие обрывы, а отец поджидал их внизу. Вдруг он вспомнил о том, как они с братом встречали на вершине новый тысяча девятисотый год, и сердце защемило от тоски по Франсуа. Возвращаясь не спеша домой, Матье дал себе слово навестить брата, как только закончится война.
Подойдя к дому, из трубы которого струился дымок, Матье не решился войти, а продолжил бродить по Аб Дая, постепенно приближаясь, сам не замечая того, к поместью Роже Бартеса. Само собой получилось, что он подошел к дому, все еще взволнованный внезапным снегопадом и погруженный в мысли о своей далекой родине. Матье подумал о войне, о своей войне, на которой он потерял руку, но мрачные мысли быстро растворились в белоснежной вселенной, которая неумолимо рисовала перед ним образы из детства. В голове мелькали воспоминания, такие дорогие, такие забытые. Он все шел и шел вперед, не отдавая себе отчета в пройденном расстоянии, полностью погруженный в прошлое, которое выдернуло его из сегодняшнего дня. Два пса, которых он хорошо знал, встретили его и вернули в настоящее.
Дверь открыла Симона, жена Роже. Он обнял ее, вошел в дом и сел напротив Роже Бартеса, который был занят чисткой ружья.
— Зайцам и фазанам придется туго, — сказал Матье.
Ему было жаль, что он не мог охотиться, имея только одну руку. Симона налила гостю кофе, который слегка обжег ему язык.
— У меня есть новости, — сказал Роже.
Матье удивился: какие новости он имел в виду?
— Во Франции движение Сопротивления с каждым днем становится все сильнее, — рассказал Роже. — Правительству Виши даже пришлось создать военные трибуналы, которые судят так называемых «террористов»!
Роже добавил, чтобы придать своим словам больший вес:
— Это я прочел в «Ла Депеш».
Затем он сообщил несколько подробностей, на которых Матье не сосредоточил внимания. Этим утром он был далек от реальности.
— Пойдешь со мной на охоту сегодня вечером? — спросил Роже.
— Наверное, нет.
— Ты какой-то странный сегодня.
Как объяснить переворот, совершенный в нем внезапным снегопадом, это путешествие в пространстве и во времени, которое вывело наружу забытую сторону его души, наверное, лучшую?
— Тебе показалось. Все хорошо.
В другой раз он задал бы Роже кучу вопросов, попросил бы посмотреть газету — обычно они листали ее наперебой, выхватывая из рук друг у друга, — но сегодня все это казалось Матье таким незначительным и даже смешным.
— Ты заболел? — спросила Симона.
— Нет же, говорю вам, все в порядке. Мне пора возвращаться. Марианна, наверное, уже волнуется.
И с улыбкой добавил:
— Я гулял с детьми и слепил им снеговика.
Матье замолчал, вспомнив, что Роже и Симона не могли иметь детей.
— Я зайду к вам сегодня после охоты, — поспешил сменить тему разговора Роже. — Можешь передать Марианне, чтобы она приготовилась разделывать дичь.
— Я скажу ей, — ответил Матье. — До вечера.
Он был рад снова оказаться на улице, рассматривать свои следы на снегу, удивляясь с какой-то почти сумасшедшей радостью отсутствию других следов, следов Франсуа, который не стал ждать его по дороге из школы. Франсуа… Что делал его брат в этот час? Несомненно, он грелся у камина, как и их сестра Люси, отказавшаяся жить в Париже. Тут Матье испытал непреодолимое желание посидеть возле своего камина в огромной кухне, так похожей на кухню в Праделе. Он поспешил вернуться. Марианна с детьми сидели за столом.
— Они хотели есть, — сказала она, словно оправдываясь в том, что его не подождали.
— Я сам виноват: потерял чувство времени.
Он сел напротив сыновей, которые ели с таким аппетитом, что едва поднимали головы от тарелок. В кухне вкусно пахло. Марианна зажгла большой огонь, тот, о котором мечтал Матье по дороге домой. Наблюдая за тем, как его сыновья ужинают, он понял, что никогда не был так счастлив. И этот снег, и огонь, напоминавший о далеком детстве, вызвали прилив теплых, приятных чувств, и Матье сказал себе, что это, наверное, и называется счастьем.
Солнце вернулось в горы вместе с прозрачным небом, в котором, казалось, отражалась земля. Была такая стужа, что по утрам люди находили на порогах домов замерзших птиц. Прошла уже неделя с того времени, как Матильда выполнила свое первое задание. Она начинала беспокоиться об отсутствии новостей от Шарля, когда однажды, ближе к полудню, в доме появился торговец из Эйгранда и передал послание. Шарль назначал ей встречу в Марсияке во время ярмарки, в ресторанчике, расположенном совсем рядом с базарной площадью. Она догадалась, что он специально выбрал этот город, помня, что Матильда работала там учителем и знала все закоулки. К тому же между городком Лашассань и Марсияком было всего каких-то тринадцать километров, а ажиотаж, вызванный ярмаркой, позволит им остаться незамеченными.
Матильда дрожала от нетерпения, отправляясь с дядей в его грузовике на ярмарку. На этот раз она не стала прятаться, а села на пассажирское сиденье. Собственно, в том, что кто-то отправляется на одну из таких редких во время войны ярмарок, не было ничего необычного. И народу должно было перебывать множество — всем хотелось собраться вместе, да еще и продать или купить дефицитный провиант. Несмотря на небольшое расстояние, которое нужно было преодолеть, на дорогу ушел целый час: грузовик скользил по предательскому льду, не желавшему таять даже под лучами солнца.
Анри поставил грузовик недалеко от базарной площади, но выходить не стал, а принялся рассматривать содержимое корзины, собранной в дорогу его женой. Матильда помнила о грандиозных ярмарках мирного времени и была удивлена тем, как мало народу пришло. Она огляделась и, не заметив ничего подозрительного, взяла свою кошелку, вышла из грузовика и направилась к хорошо знакомому ресторану, где она обедала целую неделю, пока обустраивалась на своей учительской квартирке.
Никто не обращал внимания на Матильду, прокладывающую себе путь между мужчинами в рабочих халатах и хозяйками, продающими яйца и птицу. Подходя к ресторану, она оглянулась, а когда опять повернулась к входу, то увидела Шарля, вышедшего ей навстречу. Какая-то сверхъестественная сила бросила ее навстречу мужу, но он делал вид, что не замечает ее. Он не смотрел на Матильду, хотя увидел ее — она это знала. Он прошел мимо, даже не взглянув на нее. Через несколько мгновений из той же двери вышли еще трое мужчин, и холодок пробежал по ее спине. Среди них был один из полицаев, которые арестовали Матильду. Но, к счастью, на этот раз он ее не узнал.
Не колеблясь ни минуты, она зашагала вперед, прошла мимо трех мужчин, не подняв головы, и вошла в ресторан. Хозяйка тут же узнала Матильду, расцеловала ее и предложила глинтвейна. Матильда согласилась, но с тяжелым сердцем, понимая, что может скомпрометировать добрую женщину. Но что больше всего тревожило Матильду, это невозможность встречи с Шарлем, когда они были уже так близко друг к другу. По дороге в Марсияк Матильда представляла, как они с Шарлем будут обедать в давно знакомой маленькой кухоньке, скрытые от посторонних взглядов, проведут целый час вместе. Теперь женщина понимала, что это невозможно. Хуже того — опасность подстерегала их везде, такая близкая, осязаемая, и Матильда не представляла, что ей делать дальше: оставаться здесь и ждать Шарля или уйти.
Долго раздумывать не пришлось, поскольку хозяйка ресторана, тучная женщина с шиньоном в волосах, огромными руками и благодушным взглядом, за руку отвела Матильду в кухню и налила ей горячего супу. Матильда старалась как можно быстрее проглотить его, время от времени поглядывая в общий зал, где посетители собрались на обед. Все еще находясь во власти страха, Матильда думала. Она не могла оставаться здесь. Она не имела права компрометировать своим присутствием ничего не подозревающую женщину.
— У вас там яйца? — спросила хозяйка, показывая на корзину Матильды.
— Тетя попросила купить десяток.
— Вам повезло. Знаете, их сейчас трудно достать.
Хозяйка все продолжала рассматривать корзину, и Матильда уже подумала, не работает ли она на Шарля. Но поняла, что в таком случае хозяйка произнесла бы пароль. Беспокойство Матильды возросло, когда в ресторан вернулся один из тех мужчин, которых она встретила. Но он не был среди тех, кто ее допрашивал. Он ее не узнал, по крайней мере, она на это надеялась.
Вдруг Матильда поняла, что в большей опасности был Шарль. Она быстро поблагодарила хозяйку и поспешила уйти. На улице было множество народу. Крестьяне сновали между площадью и рестораном. Что же ей делать? Она решила вернуться к грузовику, из кабины которого можно было осматривать окрестности.
Там, рядом с дядей, который уже справился с припасами из корзины, Матильда почувствовала себя более уверенно. Она стала осматривать площадь, которая постепенно пустела, соседние улицы, освещенные тусклыми лучами солнца, которое не приносило никакого тепла, людей, спешащих разойтись или разъехаться по домам. Шарль исчез, как и трое мужчин, которых Матильда боялась. Разумнее всего было вернуться домой, но она не решалась: а вдруг с Шарлем случилась беда?
С этой мыслью она выскочила из грузовика, прошлась до центра площади и вернулась на улицу, не выпуская корзинку из рук. И вдруг в тот момент, когда Матильда поворачивала направо, направляясь опять к ресторану, она почувствовала на себе чей-то взгляд. Посмотрев на противоположную сторону улицы, она увидела наблюдавшего за ней человека. Матильда его не знала. Он был маленького роста, худой, несмотря на широкую меховую куртку, с непокрытой головой — в такой-то мороз! — совсем непохожий на того, с кем она встречалась в Тюле.
Не успела Матильда и глазом моргнуть, как человек перешел через улицу, быстро подошел к ней и сказал:
— Вы можете продать мне яйца для Марежа?
Что было делать?! Он положил руку на корзину и нервно потянул к себе, будто чего-то боялся. Человек часто моргал и вел себя беспокойно.
— Дайте мне яйца и быстро уходите, — сказал он.
Поскольку Матильда не решалась отпустить корзину, он добавил:
— Ему пришлось уйти. Не переживайте. Меня зовут Люзеж. Вам потом все объяснят.
Матильда отпустила корзину, еще раз столкнулась с испуганным взглядом мужчины, который показался ей немного не в себе. Но как еще поступить? Она поспешила вернуться к грузовику и сказала дяде, устраиваясь возле него в кабине:
— Быстро. Уезжаем.
Он не стал задавать вопросов, а сразу завел машину. Матильда начала приходить в себя только тогда, когда они выехали из города на знакомую дорогу, вдоль которой росли деревья и молодой папоротник, заметенный снегом. Но ощущение близкой опасности не покидало Матильду ни этим вечером, ни все последующие дни. Она не переставала думать о том, что произошло тем утром, от которого у нее осталось смутное предчувствие беды, и оно скорее касалось Шарля, чем ее самой. Она всей душой желала ему помочь, но встреча, которой она так ждала, не состоялась. Тревожась о судьбе мужа, Матильда собралась ехать в Эгюранд к торговцу животными, чтобы выведать у него что-нибудь, но дядя отсоветовал ей это делать, и Матильда взяла себя в руки и стала ждать.
Зима немного сдала свои позиции, однако то там, то здесь на дорогах еще встречались почерневшие сугробы. Ветер дул с севера в этот весенний вечер двадцать второго марта тысяча девятьсот сорок четвертого года — день, когда по радио сообщили шифрованное послание о готовящемся десанте нового груза: «Небо будет звездное, повторяю: небо будет звездное», — сказал диктор. Шарлю пришлось искать новую площадку для приема груза, поскольку он был уже не уверен в надежности первой. Он также был вынужден реквизировать другой грузовик, поскольку первый испустил дух после долгих поездок по горным дорогам.
Ночь была темной, безлунной. По небу бежали свинцовые тучи. Прибыв на площадку, Шарль подумал, что самолет может не заметить света факелов, но что-то менять было уже поздно. Через десять минут в ночной тишине раздался гул самолетных винтов. Пилоту пришлось сделать несколько кругов над отмеченным огнями районом, прежде чем он смог сбросить ящики. Шарль и его помощники поспешили загрузить ящики в кузов и быстро уехать, поскольку недалеко от площадки находилась деревушка, жители которой не внушали им доверия. Шарль с помощниками уже проехали больше трех километров по направлению к плато, когда грузовик внезапно заглох. Водитель предпринял тщетную попытку его починить. Шарль приказал толкать грузовик до ближайшей тропы, уходящей в лес, оставил вооруженную охрану и отправился на поиски другого транспортного средства.
Он ушел, пронизываемый ледяным ветром, надеясь вернуться до восхода солнца. В пяти километрах от места выброса груза находилась ферма, с хозяевами которой Шарль был немного знаком. Там ему удалось раздобыть грузовичок. Когда он вернулся к ожидавшим его людям, уже занимался день — белый, холодный, сыпавший с неба ледяным дождем, который заливал ветровое стекло. Из-за неработавших стеклоочистителей Шарль поздно заметил большую машину, которая двигалась навстречу и резко преградила путь. Не успел Шарль схватиться за револьвер, соскользнувший на пол от резкого торможения, как машина уже была окружена полицаями с автоматами в руках. Внезапно в голове Шарля возник образ Матильды, отца, школы, где он провел свой первый урок, и маленького ученика, польского еврея, к которому он так привязался за учебный год. Какой-то бунтарский порыв толкнул Шарля вступить в бой с окружившими его людьми. От удара в затылок он потерял сознание. Непроглядная холодная ночь сомкнулась над ним.
Очнулся Шарль на полу грузовика, ехавшего по направлению к Усселю. Голова раскалывалась от боли. Через пелену, которая застилала его глаза, Шарль разглядывал полицаев, сидевших по обеим сторонам от него. Руки у него были связаны, и он стал прислушиваться к разговору, чтобы понять, что произошло. Говорили о двух раненых в утренней перестрелке с людьми, охранявшими грузовик в лесу. Наряд туда был отправлен не случайно: кто-то сообщил по телефону о самолете, пролетевшем над фермой. Все партизаны были убиты. Эта новость была настолько страшной, что Шарль погрузился в болезненное оцепенение и пролежал всю дорогу с закрытыми глазами.
В Усселе его отвели в участок, откуда полицаи позвонили в тюльское гестапо. Похоже, его узнали — у него даже имя не спросили. Его усадили в другой грузовик и повезли в Тюль. Был дождь и сильный ветер. Шарль старался подготовить себя к тому, что его ожидало. Проезжая Эглетон, он думал о Матильде, о том, что она сейчас делает, и вдруг ему показалось, что он больше ее не увидит. Конечно, он и раньше знал, что рисковал жизнью, что мог потерять все, но только теперь, в этом грузовике, он осознал всю неизмеримость опасности. Сердце сжималось при мысли об отце. Шарль вспоминал, с какой гордостью отец отвозил его на поезд, как он работал не покладая рук, чтобы Шарль мог стать учителем. Неужели все это было напрасно? Шарль сцепил зубы, чтобы не дать слезам покатиться из глаз. Ему это удалось, и Шарль с облегчением вздохнул, будто одержал первую победу над этими людьми.
В отеле «Модерн», немецком штабе города Тюль, состоялся первый допрос Шарля, на котором он назвал свое имя, но полностью отрицал связь с Сопротивлением. Вечером его перевели в казарму неподалеку от Марсового поля, где подвергли новому допросу до самого утра. Тут он узнал, что такое допросы в гестапо, о которых часто говорили на подпольных собраниях. Но разве можно было представить себе то, что человек представить не может? Боль, которая длится невыносимо долго и усиливается, пока дух не сдастся окончательно. Какое-то время Шарль пытался убежать от страданий, прячась за самыми счастливыми воспоминаниями своей жизни: школьный класс, доска, карта Франции на стене, ученики за партами, запах мела и фиолетовых чернил… Но под конец его дух сдался и светлые образы больше не приходили в голову.
Сознание вернулось к нему уже в камере, где кроме него было еще трое мужчин, которых тоже подвергли пыткам. Шарль не помнил, сказал он что-то или нет. Болело все тело, а особенно — руки. Он смог рассмотреть правую: на ней больше не было ногтей. Левая была залита кровью. Один из сокамерников подошел и вкрадчиво заговорил.
— Не говори ему ничего, — послышался голос из противоположного угла камеры, — это подсадная утка.
Мужчина отошел в сторону и замолчал. Шарль хотел уснуть, но в полдень за ним пришли. По крайней мере ему казалось, что был полдень. На самом деле был уже вечер. И снова были пытки, и снова боль, которую невозможно выдержать. В камеру его привели избитым, потерявшим много крови. Про себя он шептал только одно: «Матильда, Матильда…»
В Пюльубьере об аресте Шарля узнали двадцать пятого марта. Франсуа и Алоиза чуть не сошли с ума. Тридцатого марта торговец из Эгюранда сообщил, что Шарля перевели в Париж, откуда его могут депортировать в Германию, как большинство пленников. Узнав об этом, Алоиза перестала разговаривать и впала в состояние, которого так боялся Франсуа. Она даже не могла работать. К счастью, им на помощь пришла Люси, которая постаралась их немного утешить: у нее в Париже были знакомые, которые могли помочь спасти Шарля. Этим же вечером она уехала в столицу. И если сама она не очень верила в успех, Франсуа и Алоиза ухватились за эту идею как сумасшедшие.
Сев на вечерний поезд, следующим утром Люси уже была в Париже, выдержав в поездке две проверки паспортов. После гибели Яна Люси с помощью дочери поменяла паспорт и взяла девичью фамилию Бартелеми. Она сразу направилась на улицу Суффрен, но не в квартиру, а в бутик, где Элиза обычно была одна. Дочь была там и обрадовалась встрече с матерью. Люси в нескольких словах объяснила причину своего приезда. Элиза не была ни удивлена, ни раздосадована просьбой матери. Она пообещала попросить мужа помочь спасти Шарля, если еще было не слишком поздно.
В полдень состоялась довольно холодная встреча с членом Народной партии, мужем Элизы. Он стал немного более покладистым, узнав, что Ян Хесслер погиб как герой Рейха под Новгородом. Он согласился принять Люси в своей квартире на несколько дней и даже проявлял некоторую любезность. Но женщины не стали переходить к главному вопросу при первой встрече, да и не успели — с тех пор как три члена партии, Марсель Деа, Филипп Генрио и Жозеф Дарнан, вошли в правительство после перестановок в кабинете по требованию немцев, Ролан Дестивель пошел на повышение.
Париж жил в страхе и нужде. Чтобы не умереть с голоду, нужно было доставать продуктовые карточки и талоны. Для Элизы это не составляло труда, учитывая положение ее мужа. Повсюду на стенах домов были развешены списки «расстрелянных террористов» или обещания вознаграждения за сведения, которые помогут их арестовать. Везде висели пропагандистские плакаты, призывавшие «спасти Европу от большевизма» или ехать в Германию освобождать пленников. На улицах то здесь, то там можно было встретить немецких солдат, и никто не чувствовал себя в безопасности. Люси помогала Элизе в бутике, но клиентов было мало, и у матери и дочери было время поговорить.
Люси рассказала, как нелегко ей было утешить сына, после того как он узнал о смерти отца. Для Люси, как и для Ганса, дни, последовавшие за получением страшной новости из Германии, было нелегко пережить, но мысль о том, что нужно заботиться о сыне, немного смягчила боль утраты для нее. За прошедшие месяцы и недели душевная рана зарубцевалась. Люси ведь знала заранее, что их с Яном любовь обречена. Теперь Люси ожидала, когда закончится война, чтобы последний раз поехать повидаться с родителями Яна, если, конечно, они остались живы.
Люси рассказала дочери и о том, как тяжело было Франсуа и Алоизе справляться с хозяйством без обоих сыновей.
— Но откуда это желание совершать безумные поступки?! — воскликнула Элиза. — Откуда это недоверие к людям, стоящим во главе страны?
Люси поняла, что ее дочь не имела ни малейшего представления о том, что происходит за пределами узкого круга, в котором она жила. Женщина рассказала Элизе о том, что Сопротивление в провинции набирает силу и что скоро планируется высадка союзников. Элиза не поверила ни одному слову и была поражена, когда мать сказала:
— Если ситуация изменится, в чем я ни минуты не сомневаюсь, те, кто сегодня у власти, должны будут дать ответ. Думаю, что твоему мужу не помешает иметь в активе одного спасенного сопротивленца.
Это не очень убедило Элизу, но она пообещала сделать все, чтобы уговорить мужа помочь. Люси не сомневалась в искренности дочери и поблагодарила ее от всей души. Ей больше нечего было делать в Париже, и она отправилась обратно в Пюльубьер, чтобы вселить надежду в сердца Франсуа и Алоизы.
Матильда также знала об аресте мужа. Как только она услышала об этом от торговца из Эгюранда, она забыла всякую осторожность и поехала на поезде в Тюль к сапожнику, который мог связаться со Скалой. Скала пришел ближе к ночи, посетовал на неосторожность Матильды и отвел ее на улицу Пон-Неф, в квартирку на последнем этаже, где их ждала его жена Эмильена, также работавшая на Секретную Армию.
— Называйте ее Фужер, — сказал Скала Матильде, представляя жену.
За скромным ужином они обсудили ситуацию, и Матильда не удержалась — потребовала провести операцию по освобождению Шарля.
— Это невозможно, — ответил Скала, — его уже перевели в Дранси.
Матильда возлагала столько надежд на эту поездку в Тюль, и все растаяло в один момент. Ей потребовалось собрать все свое мужество, чтобы перенести этот удар. Скала продолжал рассказывать, в какой опасности была вся сеть подпольщиков их района.
— Придется все начинать сначала, и как можно быстрее. Кто-то из наших проболтался.
Она прекрасно знала, что такое возможно.
— Вы можете взять на себя эту работу?
Матильда согласилась не раздумывая, поскольку теперь это была единственная возможность приблизиться к Шарлю и спасти его, пока не поздно, так же как и тысячи других французов. Скала назвал псевдонимы трех человек, с которыми Матильда могла связаться в Спонтуре: Вентадур, торговец из Эгюранда, Люзеж, с которым Матильда встретилась в Марсияке, и Андре, инженер на плотине в Эгле. Скала попросил Матильду занять место Шарля под псевдонимом Вереск. Он ушел, оставив Матильду ночевать в квартире с его женой. Утром Матильда должна была вернуться в Эглетон на поезде. Ей разрешалось ездить только в грузовике своего дяди, который получил псевдоним Береза для работы в Сопротивлении.
Как и было договорено, с этого дня Матильда ездила по окрестностям, спрятавшись в грузовике дяди за вязанками дров, выискивая слабые звенья в цепи Сопротивления, пытаясь узнать, не следят ли за ними. Инженер Андре вселил в Матильду своеобразное спокойствие, сообщив, что все, кто был с Шарлем в день его ареста, мертвы. Допросу подвергся только Шарль, что все-таки снижало риск предательства. Женщина была благодарна Андре за его веру в ее мужа, с которым он работал с самого начала. Андре пояснил Матильде, что лучше всего было восстановить связи с корреспондентами и проверить, все ли были на местах. Он посоветовал ей больше полагаться на Вентадура, чем на Люзежа, что она и сама собиралась сделать: Матильда не слишком доверяла человеку, с которым встретилась на улице Марсияка.
Матильда постаралась как можно быстрее связать все ниточки сети, предварительно проверив их надежность. Ей легко это удалось в секторе, за который отвечал Вентадур, поскольку он сам предпринял все меры предосторожности. Это был человек, похожий на Скалу, — сильный, плечистый, с ясным открытым взглядом и крепкими руками.
Все было намного хуже в секторе Люзежа, который запаниковал и скрывался в окрестностях местечка Лапло, бросив своих людей в неведении и опасности. После их встречи в заброшенном сарае неподалеку от деревушки Шабанн Матильда поняла, что он — предатель.
Когда она приехала в Тюль получить указания, то была поражена решением Скалы:
— От него нужно избавиться.
— Нет, просто отстранить от работы, — протестовала Матильда.
— Подумайте сами! Еще до наступления лета намечена высадка союзников, а вы хотите подвергнуть операцию такому риску. Если вы не можете, то я займусь этим сам.
Она вдруг почувствовала, что слаба и не может просто так лишить человека жизни. Матильда призналась в этом Скале, который тут же отдал ей приказ:
— Вы переходите под начало Вентадура. В будущем вы будете выполнять только функцию связного в Тюле, как и раньше. Не более того.
Она и не думала сопротивляться. Эта борьба иногда была выше ее сил.
— Устройте мне встречу с Вентадуром в Эглетоне. Вы тоже должны на ней присутствовать.
Матильда кивнула и поспешила уйти, но Скала взял ее за руку и сказал:
— Я не могу поступить иначе. Это слишком опасно.
— Я знаю, — ответила она.
И Матильда уехала, терзаемая мыслью о том, что она становится соучастницей убийства. А если она ошиблась? А если Люзеж был не тем, кем его считали?
Вернувшись в Эглетон, Матильда, невзирая на риск, назначила Люзежу новую встречу. Она не могла поступить иначе. Она должна была убедиться в своей правоте, иначе всю оставшуюся жизнь ей пришлось бы мучиться угрызениями совести. Мысль о том, что в этот самый момент Шарля, возможно, пытают, придала ей сил пойти на встречу с Люзежем в заброшенный сарай, который служил ему штабом.
Был пасмурный день. Землю окутал туман. Грузовичок медленно пробирался по узкой дороге между рядами стройных елей, ветви которых клонились к земле под тяжестью снега. Встреча была назначена в полдень, но Матильда с дядей решили приехать заранее, опасаясь подвоха. Они прибыли намного раньше назначенного времени и спрятали грузовик на глухой тропинке, скрытой от основной дороги густыми елями. Оттуда Матильда и Анри вышли на опушку, с которой хорошо был виден сарай, стоящий возле ручья. Его вода блестела между голых ветвей деревьев, как стекло.
Они пробыли на месте не дольше десяти минут, когда на дороге с другой стороны равнины появился автомобиль и подъехал к сараю. Из машины вышли четверо, и один из них приковал взгляд Матильды. Несколько секунд она пыталась припомнить, и вдруг ледяная дрожь пробежала по спине: он был среди тех, кто следил за Шарлем в ресторане во время ярмарки.
— Уезжаем! — скомандовала она дяде.
Они добрались до грузовика и поспешили уехать. Матильда была огорчена: «Нужно все начинать сначала».
Она рассказала обо всем Скале во время его встречи с Вентадуром в Лашассани, в доме дяди Анри. Матильда понимала, что своими словами подписывает человеку смертный приговор, но теперь она была уверена: Люзеж — предатель. Она не знала, когда и как его завербовали, но была убеждена, что цену этого предательства заплатил Шарль. И голос ее не дрогнул тем утром, когда она делала свои выводы в присутствии Скалы. Скала повернулся к Вентадуру:
— Нужно действовать быстро, очень быстро. Ты можешь это сделать или мне приехать со своими людьми?
— Я займусь сам, — сказал Вентадур.
— Нужно также обрезать подгнившие ветви.
— Да, я понял.
Матильда была бледна, сурова и вся дрожала. Когда взгляд Скалы упал на нее, она не смогла выдержать его. Кто же был этот человек-скала? Чем он занимался раньше? Можно было подумать, что он работает в префектуре, но он не был похож на чиновника, а руки выдавали в нем рабочего.
— Вы займете место Люзежа, — сказал Скала дяде Анри. — Будьте осторожны, это опасно.
И после вздоха добавил:
— Не рискуйте. Десятка человек будет достаточно. У нас уже очень мало времени.
Они не стали задерживаться. Скала уехал на грузовичке с тремя телохранителями, которые во время встречи охраняли дом. Потом ушел Вентадур с совершенно бесстрастным лицом. Это были не люди, это были камни, несомненно, дети этих гор и этих лесов, где их жизнь и жизнь их семей была полна трудностей. Они не знали слова «слабость» и были готовы на все, чтобы защитить свою землю.
Через десять дней, вечером, вернувшись домой, дядя сказал Матильде, что «с этим было покончено». Словно холодной иглой пронзило желудок Матильды, но она попыталась подумать о Шарле и о том, что это была ее месть. Однако в течение следующих дней ее не покидало беспокойство. Один, а может быть, даже несколько человек убиты из-за нее. Она не переставала размышлять об этом. Ночью женщина плакала в своей постели, пока не погружалась в сон, в котором теплые руки Шарля обнимали ее. Только так она могла спокойно заснуть и забыться.
5
Франсуа встал рано этим солнечным утром, чтобы воспользоваться наступившими погожими днями. Он быстро оделся, выпил стакан кофе и вышел на улицу, где занимавшаяся заря освещала странным розовым ореолом темно-зеленую макушку леса. Воздух был по-весеннему мягким, и на ветвях деревьев, в первой молодой листве, уже перекликались звонкими голосами птицы. Но далеко за лесом разорванное деревьями на мелкие кусочки ясное небо уступало место пугающей картине, где на темно-сером фоне блестели искры молний.
Франсуа услышал шум в доме. Это встала Алоиза или Одилия, которая почти не спала с тех пор, как муж ушел на войну, даже если их маленький сын Робер засыпал рядом с ней.
Вот уже четыре года, как Эдмон покинул родной дом. Теперь в неизвестном направлении исчез и Шарль, неся свой тяжкий крест. Как только у Франсуа выпадала свободная минутка, он размышлял о своих двух сыновьях. Он с головой уходил в работу, чтобы не думать об их судьбе, особенно когда сошел снег. Франсуа черпал силы в благодатных днях прекрасного времени года, в величии и красоте диких земель, там, где ему всегда удавалось справляться с испытаниями, которые посылала жизнь.
Труднее всего было каждый день находить слова утешения для Алоизы и Одилии. К счастью, у него в помощниках была Люси. Ее поездка в Париж и новости, которые она оттуда привезла, позволяли не терять надежду. Между тем повседневная жизнь тоже была заполнена трудностями, и нужно было держать себя в руках, не позволять опуститься, находить в этих прекрасных деньках немного радости и сил и верить в наступление лучших времен. Именно в этом убеждал себя Франсуа весенним утром, любуясь пейзажем, как обычно он любил делать это с Алоизой, — пихтовой рощей, упиравшейся верхушками в небо.
Он вошел в хлев и с удовольствием вдохнул запах животных и сена. Франсуа начал доить корову, уткнувшись лбом в ее теплый бок, и тепло шкуры, звук молока, льющегося в ведро, постепенно вернули его в состояние спокойствия и счастья. Нужно всего-навсего быть терпеливым, не терять надежды, верить в Провидение, которое вставало на его защиту все четыре года войны и вернуло обратно к Алоизе. Больше всего в эти дни Франсуа сожалел, что у него уже не было прежней энергии, чтобы воевать рядом с сыновьями. Сражаться не ради борьбы как таковой, поскольку он всегда ненавидел войну, а чтобы помочь своим детям. В этом и заключалась его боль: знать, что оба его мальчика в беде, и не иметь сил им помочь. Он готов был отдать все, даже остаток своей жизни, лишь бы спасти их и вернуть к тем, кто их ждет. Франсуа был одержим этой мыслью и не мог от нее избавиться. Он поспешил закончить с дойкой и вернуться в дом к завтраку. По дороге он встретил Ганса, сына Люси, которого все называли Жан. Мальчик направлялся в школу в Сен-Винсен. Франсуа потрепал его по голове, и мальчик, опаздывавший на занятия, припустил бегом по тропинке.
Франсуа вошел в дом, сел за стол, отрезал хлеба и понял, что в доме было три женщины, потерявшие кто мужа, кто сына. Один из них не вернется уже никогда, но двое других… Соберутся ли они снова за этим столом? Алоиза, будто почувствовав, что мужа что-то беспокоит, подошла и села рядом с ним. Одилия кормила Робера, а Люси прибирала в своей комнате. Луиза была на занятиях в Усселе. Она возвращалась домой только в конце недели, все еще одержимая идеей когда-нибудь уехать с миссией в Африку.
В тот момент, когда Франсуа начал есть хлеб с ломтиком сала, на улице раздался шум двигателей. Сначала он не придал этому значения, думая, что машины проедут мимо, но шум приближался, и вскоре стало ясно, что ехали именно две машины. Это были два черных грузовика. Франсуа услышал, как хлопнули дверцы машин. Не успел он подняться, как в дом вошли полицаи, одетые в черные плащи с черными повязками на рукавах. Все были в беретах, кроме одного — блондина, который, похоже, командовал остальными. Всего их было шестеро, и у каждого в руках было оружие. Франсуа понял, что случилось то, чего он опасался с того момента, как Шарль вступил в ряды Сопротивления. Но страха не было. Наоборот: теперь он занимал свое место рядом с сыновьями. Франсуа взял Алоизу за руку и отошел к стене, на которой висело заряженное ружье. Полицаи не произнесли ни слова. По знаку старшего трое из них прошли в комнаты и начали обыск. Трое других пошли в сарай и хлев. Блондин подошел к Франсуа и Алоизе и смерил их взглядом. В руках у него был хлыст, которым он постукивал по швам своих коричневых галифе. Все так же молча он подошел к Люси, затем к Одилии и резко замахнулся на нее хлыстом.
— Что вам нужно? — вмешался Франсуа. — Если в этом доме и есть виновный, то это я!
Блондин резко повернулся к нему и заорал:
— Молчать! Здесь приказы отдаю я!
Франсуа почувствовал, как Алоиза пошатнулась рядом с ним, хотел ее удержать, но не успел. Она повалилась на пол, и Люси с Одилией бросились к ней. Они подняли ее с пола и усадили на скамью, в то время как Франсуа не пошевелился — он не хотел отходить от ружья.
Полицаи, закончив обыск в комнатах, стали рыться в кухонных ящиках и шкафах. Вскоре вернулись и те, которые обыскивали хозяйственные постройки. Что же они искали? Поддельные бумаги? Оружие? Франсуа не знал. Блондин с недовольным видом вышел с двумя мужчинами, обыскивавшими сарай. Трое оставшихся с улыбкой подошли к Одилии, которая все еще дрожала, стоя у камина. Она была моложе и симпатичнее других женщин, а полицаи считали, что им позволено все. Они взяли ее под руки и повели в другую комнату, а у нее даже не было сил сопротивляться. Не успели они дойти до двери, как Франсуа схватил ружье и выкрикнул:
— Отпустите ее!
Те двое, что вели Одилию, обернулись. Третий, который шел за ними следом, тоже посмотрел на Франсуа и, к счастью, оказался на мушке. То, что они прочитали во взгляде Франсуа, не оставляло ни малейшего сомнения: он выстрелит, даже рискуя собственной жизнью. Так они и стояли, опустив оружие, под прицелом Франсуа. Он мог пристрелить всех троих двумя выстрелами, а они даже не успели бы пошевелиться. Несколько секунд они колебались, оценивая шансы изменить ситуацию в свою пользу и не отпустить жертву, которую все еще держали за руки.
Казалось, что время остановилось. Палец Франсуа лежал на спусковом крючке. Послышались голоса, и дверь открылась. Блондин сразу оценил ситуацию и бросил своим людям:
— Отпустите ее!
Одилия подошла к Люси и Алоизе, которая едва очнулась от обморока. Франсуа опустил ружье, но продолжал держать его в руках.
— Хранить оружие запрещено, — сказал блондин. — Вы были обязаны сдать ружье в супрефектуру.
— Я хожу на охоту. Без этого здесь не прожить.
— Да, я об этом слышал.
Франсуа колебался. Полицай тоже.
— Мне придется вас арестовать.
— Меня одного, — сказал Франсуа, слегка приподнимая ружье. — Пусть ваши люди выйдут.
— Буду решать я, а не вы.
Полицай все еще колебался, это было заметно. Как и его коллеги несколько минут назад, он взвешивал опасность. Он понимал, что Франсуа может выстрелить до того, как они успеют его разоружить. Полицай сделал своим людям знак головой, и они вышли один за другим с недовольным видом. Франсуа пытался предположить, что будет, когда он отдаст ружье.
— Сдайте оружие, — сказал полицай. — После этого я проверю документы женщин, и мы уедем.
— Я отдам его потом.
— Не испытывайте мое терпение. Быстро отдавайте или потеряете все.
Что-то подсказывало Франсуа, что он должен подчиниться. Он понял, что они искали не только фальшивые документы и оружие, но еще и Матильду. Он убедился в этом, когда после проверки документов у женщин блондин сказал с раздражением:
— Нет, это не может быть она.
И продолжил, кивнув головой в сторону Франсуа:
— Идите вперед.
Франсуа послушался. Ему ничего, или почти ничего, не угрожало. Он мягко отодвинул в сторону Алоизу, успокоил ее. Больше всего он хотел избавить от опасности трех женщин, которые жили под его крышей. Франсуа сел в грузовик между блондином и одним из полицаев, которые пытались увести Одилию. Первый грузовик уехал. За ним последовал второй. Внезапно Франсуа почувствовал облегчение. Своя судьба его не занимала. Он чувствовал себя так, будто встретился с сыновьями и вступил в бой, который они слишком долго вели без него.
Матильда узнала о том, что произошло в Пюльубьере, два дня назад. Об этом ей сообщила Эмильена, жена Скалы, которая работала в префектуре и была главным информатором своего мужа. Ночь с восьмого на девятое июня Матильда провела в их комнатке в Тюле. Несмотря на время, прошедшее с момента ареста Шарля, и трудности борьбы, Матильда не теряла надежды. Она узнала о поездке Люси в Париж, о том, что женщина пыталась выручить Шарля. С момента высадки войск союзников шестого июня Матильда была уверена, что у немцев нет свободного времени и людей на депортацию арестантов. От Эмильены она узнала, что Шарль пятого июня был все еще в Париже, и Матильда надеялась, что он до сих пор там.
В Тюле она осталась ночевать потому, что не могла выбраться из города. За день до этого произошли важные события: войска Сопротивления напали на немецкий гарнизон и завладели городом. Боясь репрессий, члены Секретной Армии не участвовали в операции: префект Пьер Труйе предупредил их, что дивизия «Дас Рейх», базирующаяся в Монтобане, направлена в Нормандию, чтобы нейтрализовать зоны Сопротивления, контролируемые вооруженными группами. Дивизия, а в особенности ее ведущий полк «Дер Фюрер», несколько раз подвергалась нападениям сопротивленцев, особенно в Дордони и неподалеку от Брива, пока не добралась до Тюля.
Матильда, которая утром приехала в город за инструкциями, ожидала у окна возвращения Эмильены из префектуры, когда заметила в окне немецкие колонны. Она была в ловушке и не могла выйти из квартиры. Ночью слышались стрельба, крики, виднелось зарево взрывов, но утро девятого июня принесло с собой тишину, будто ничего серьезного не произошло, в подтверждение того, что жизнь продолжалась несмотря ни на что.
Эмильена ушла рано, чтобы принести новости, которые, нужно сказать, были малоутешительными. Поговаривали, что немцы готовят репрессии среди населения за уничтожение гарнизона, базировавшегося в Эколь Нормаль, трупы офицеров которого были изуродованы до неузнаваемости. И действительно, из окна было видно, как сотни людей медленно шли к Марсовому полю. Скалу предупредили заранее, и он скрылся из города под покровом ночи. И вовремя — немцы заходили в каждый дом под предлогом проверки документов, а на самом деле для того, чтобы провести репрессии, о которых префекту говорили майор Ковач и генерал Ламмердинг.
Сотни, а может быть, тысячи жителей, из которых должны были отобрать жертв, медленно и без особого волнения продвигались к оружейному заводу. Там немцы разбивали людей на две группы, потом еще на несколько групп согласно только им понятному принципу. Сопротивленцы давно ушли из города в деревни и леса. Матильда никак не могла понять, почему немцы не отпускают людей, у которых проверили паспорта, и в ее душу начала закрадываться смутная тревога, которую разделяла и Эмильена.
Тревога стала явной, когда на другом берегу реки женщины заметили отряд солдат, которые тащили лестницы, табуреты и веревки.
— Бог мой! — застонала Эмильена. — Они их повесят.
— Нет, — возразила Матильда, — это невозможно.
— Они были в ярости вчера вечером, когда нашли тела своих солдат там, возле кладбища.
— Нет, это невозможно, — повторила Матильда.
— Я говорю, они их повесят.
— Я уверена, что «маки» придут на помощь.
— Речь шла о ста двадцати жертвах, — не унималась Эмильена.
— Я уверена, что ты неверно поняла.
В этот момент Матильда почувствовала облегчение оттого, что Шарль сейчас был далеко от Тюля.
Женщины отошли от окна, чтобы перекусить — они не ели с прошлого вечера, — но не смогли. Вернувшись к окну, они заметили, что с балконов и фонарей свисают веревки. Вокруг суетились эсэсовцы и полицаи лагерей, устанавливая лестницы. В это время из-за поворота вывели группу пленных. Рядом с ними, преимущественно молодыми людьми, ослепленными солнцем, шел священник. Пленные не понимали, что происходит. Увидев виселицы, идущие первыми остановились. Немцы ударами прикладов и сапог заставили их двигаться вперед.
По приказу эсэсовца, командовавшего операцией, от группы отделился один из заложников и встал на первую перекладину лестницы. Матильда увидела, что трое из группы смотрели по сторонам в поисках помощи или пути к бегству. Когда она перевела взгляд на лестницу, заложник, мужчина с темными волосами, одетый в зеленую рубашку и черные брюки, уже стоял на четвертой перекладине. На другой лестнице, прислоненной к первой, немецкий солдат надевал ему на шею петлю. Матильда закрыла глаза, но до нее донесся крик. Она отступила от окна и опустилась на стул. Вскоре к ней присоединилась дрожащая Эмильена.
Немногим позже, услышав крики немцев, женщины вернулись к окну и увидели, как один из заложников, руки которого были связаны за спиной, бежал к реке. Солдаты целились в него из автоматов. Он упал на берегу, наполовину в воде, и больше не шевелился.
Прибывали новые заложники группами по десять человек, в то время как с виселиц снимали предыдущих жертв, и трупами уже была устлана земля.
— Скольких они повесят? — простонала Матильда.
— Я тебе говорила: сто двадцать человек, — ответила Эмильена сдавленным голосом.
Шествие пленных продолжалось бóльшую часть дня. Откуда-то доносились звуки аккордеона, такие неуместные, придававшие этой Голгофе вид дикого празднества. Некоторые пленные отказались взбираться на лестницу и были жестоко избиты прикладами, другие поднимались, не произнося ни слова, с гордым взглядом, и выкрикивали слова о свободе, пока лестницу не выбивали у них из-под ног. Большинство умирало быстро, под смех и шутки эсэсовцев, отталкивавших трупы ногами. Один раз веревка оборвалась, что привело немцев в ярость, и они прервали агонию повешенного револьверным выстрелом.
Опускался вечер, наполнивший воздух запахами сена и теплой листвы. Небо приобретало бирюзовые оттенки, но над домами не было видно ни одной ласточки. Эсэсовцы повесили девяносто девять человек и перевезли на свалку их трупы для захоронения. Оставшихся в живых усадили в грузовики и повезли в Лимож, откуда, без сомнения, их должны были отправить в Германию. На следующий день эта же дивизия «Дас Рейх» свирепствовала в Орадуре, где они расстреляли всех мужчин, а женщин с детьми сожгли в церкви. Эту новость Матильда узнала в Усселе, куда немецкий гарнизон направился после кровопролитных боев с отрядами Сопротивления. Но образ молодого черноволосого парня, поднимавшегося на виселицу, не покидал ее. С тех пор лицо этого человека стало лицом Шарля. В воскресенье 11 июня Матильда наконец добралась до дома своих родителей. Она была уверена, что больше не увидит Шарля.
Но Шарль был жив. Он, потеряв всякую надежду, лежал в тюремной камере в центре Парижа. Шарль задавался вопросом, почему он еще был здесь, когда всех остальных его сокамерников через две — максимум три недели уводили в неизвестном направлении. Он только знал, что их увозили на грузовиках, шум двигателей которых время от времени слышался на тюремном дворе. А он, Шарль, был все еще жив и мучался от неопределенности своего положения.
Было около пяти часов вечера, когда он услышал, как во двор въехали грузовики. Послышались крики, приказы, топот сапог. Потом гомон переместился в коридоры. Дверь камеры резко открылась, и кто-то крикнул по-немецки:
— Все на выход! Быстро.
Шарля и четверых сокамерников прикладами столкнули вниз по лестнице, по которой, много раз спотыкаясь и падая, они вышли во двор, ослепленные ярким солнечным светом. Их усадили в грузовик. Завелись двигатели. Шарль сидел во второй машине возле двери. Когда первый грузовик отъезжал, офицер, стоявший в глубине двора, крикнул:
— Бартелеми! Выйти!
Шарль похолодел. Он не нашел сил подняться.
— Бартелеми Шарль! На выход!
Шарль медленно поднялся.
— Бартелеми? — повторил офицер.
— Да, — ответил Шарль.
— Подойди!
Ноги не несли Шарля. Солдаты вытолкнули его наружу и подняли деревянное ограждение кузова. Шарль не двигался, не понимая, что происходит, боясь опять попасть на допрос, подвергнуться пыткам, как это было много раз. Впервые он позавидовал тем, кого увозили. Но тяжелее всего было видеть изумление в глазах сокамерников: они приняли Шарля за «стукача». Он попытался жестом опровергнуть их догадки, но это было бесполезно. Грузовики уехали.
— Пойдем! — повторил офицер, толкая Шарля впереди себя.
Но вместо того чтобы отвести его в допросную, офицер вернул Шарля в камеру. Там Шарль приготовился провести самую страшную ночь в своей жизни, но в десять часов вечера дверь открылась и тот же офицер приказал Шарлю следовать за ним.
Не произнося ни слова, немец отвел заключенного на задний двор тюрьмы по коридору, в котором Шарль никогда не был, хотя был уверен, что его ведут на расстрел. Из коридора дверь вела на пустынную улицу, по которой мирно прогуливались голуби. Офицер протянул Шарлю клочок бумаги, на котором было написано: «Ул. Фобур-Сен-Мартен, 46», и, грубо вытолкнув его наружу, захлопнул за ним дверь. Сначала Шарль подумал, что это западня и что ему выстрелят в спину «при попытке к бегству», но поскольку ничего не произошло, он поспешил удалиться.
Улица вывела его на бульвар, где бурлила восхитительная вечерняя парижская жизнь. Он прошел сотню метров, заметил сквер, где уселся на лавочку, сбитый с толку, не понимая, что он здесь делает. Шарль пришел к выводу, что во время пыток он проговорился и предал своих, находясь то ли в полусознании, то ли в полузабытьи, что часто случалось во время допросов. Он горько заплакал. Он оплакивал свои изувеченные руки, свою жизнь, теплый летний вечер, наполненный ароматами скошенной травы, этот прекрасный мир, в котором он уже никогда не сможет быть счастлив.
В начале июля Матильда получила письмо от Элизы, в котором та сообщала, что Шарль жив и прячется в ее магазинчике на улице Фобур-Сен-Мартен. Женщина тут же решила, невзирая на опасность, отправиться в Париж. Поскольку Матильда не знала столицы, она попросила Люси поехать с ней, и вот десятого июля две женщины поездом отправились в Париж, где царила напряженная атмосфера. Со времени высадки союзников немцы были в невыгодном положении. Немецкие войска еще вели бои, в основном в Нормандии, в то время как Центральная Франция и провинция Лимузен в июне уже были освобождены.
Поздним вечером десятого июля Матильда и Люси прибыли в осажденный город и поехали на улицу Фобур-Сен-Мартен. Там Матильда наконец встретилась с Шарлем, который прятался в задней части магазинчика на кровати, наскоро устроенной для него Элизой. Состояние его было плачевным: глубокие раны на теле, руках и ногах — свидетельства пережитых жестоких пыток. Люси и Элиза оставили мужа и жену наедине. Шарль пытался улыбнуться, но от этой улыбки Матильде делалось еще больнее. Она склонилась над ним и не могла сдержать слез при виде незатейливых повязок, из-под которых проступали раны от гестаповских побоев.
Элиза объяснила, что не могла перевести Шарля в больницу, поскольку все они контролировались немцами. Она сама с помощью надежной санитарки ухаживала за Шарлем. Также она не могла поселить его на улице Суффрен, поскольку нельзя было требовать от Ролана, ее мужа, больше, чем он уже сделал, хотя он сам чувствовал, что ветер поворачивает в другую сторону. Матильда поблагодарила Элизу, понимая опасность, которой та подвергалась, приютив Шарля в то время, когда немцы свирепствовали, усиливали проверки, аресты и казни.
Первую ночь Матильда пожелала провести рядом с мужем. Элиза и Люси ушли после прихода санитарки, которая, боясь развития гангрены, каждый вечер приходила осматривать Шарля. Она настаивала на госпитализации вопреки всем опасностям, но Элиза была против, и Матильда была с ней согласна.
Матильда легла рядом с Шарлем, рассказала ему о том, что произошло в его отсутствие, как арестовали и на следующий день отпустили Франсуа, о страшных событиях в Тюле и Орадуре, об освобождении городов в провинции Лимузен в июне. Шарль, который ничего об этом не знал, воспрял духом. Он ничего не сказал ей о том, что с ним произошло. И есть ли слова, которыми можно описать подобную жестокость? Несколько раз, поднимая руки, Шарль спрашивал Матильду:
— Смогут ли они когда-нибудь держать мел и перо?
— Конечно, — отвечала она.
Они замолчали и попытались забыться в порыве страсти, неловко обнимая друг друга из-за ран на теле Шарля, не думая о том, что могли еще дороже заплатить за свою борьбу. Потом, изнеможенные, они уснули, крепко обнимая друг друга.
Со следующего дня дела пошли лучше, и в основном благодаря Люси. Если положение мужа не позволяло Элизе иметь широкий круг общения, то Люси знала Париж хорошо и смогла достать нужные лекарства. В умелых руках санитарки лекарства сделали свое дело, и опасные раны Шарля начали затягиваться. Матильда не отходила от него ни на шаг.
— Пойди подыши воздухом, — говорила ей Люси. — Я посижу с Шарлем.
— А вдруг меня задержат? — отвечала Матильда.
Очень редко она подходила к витринам магазина, закрытого Элизой после приезда матери и Матильды, и смотрела на улицу, залитую чудесным летним солнцем, а затем опять возвращалась к Шарлю, который был еще настолько слаб, что не мог вставать.
Шли дни в ожидании и страхе. Затем будущее начало проясняться, когда в Париже узнали о прорыве войсками союзников Нормандского фронта. Теперь пришло время Элизе волноваться за судьбу мужа. Она все реже приходила на улицу Фобур-Сен-Мартен, понимая, что в ней там не нуждались — Матильда и Люси делали для больного все необходимое. Поскольку магазин был закрыт, Люси устроилась в торговом зале на раскладушке. Через заднюю дверь она выходила во внутренний дворик, стараясь оставаться незамеченной, приносила еду и новости, украдкой собранные то там, то здесь.
Утром двадцать пятого августа раздались выстрелы и взрывы — это было наступление Внутренних сил Франции и Второй танковой дивизии генерала Леклерка на двадцатитысячную армию генерала фон Шольтица. Вооруженное восстание в Париже началось еще 20 августа с покушений на немецкие позиции, атак коммандос, которые привели к многочисленным жертвам как с одной, так и с другой стороны. С этого дня Шарль начал вставать. Он мог уже сделать несколько шагов по комнате, опираясь на Матильду. Душевные силы возвращались к нему по мере восстановления организма, а также с новыми завоеваниями союзников.
Двадцать пятого августа около пяти часов вечера на улице раздались радостные крики и пение. Люси вышла узнать, в чем дело, и тут же вернулась, принеся новость, которой все так ожидали: немецкий гарнизон капитулировал, Париж освобожден, и даже поговаривали, что сам генерал де Голль уже был в столице.
Впервые за четыре месяца Шарль вышел на улицу, опираясь на руку Матильды. Ему трудно было вспомнить забытые движения, такие простые, шаги свободного человека. Соседство с людьми, вид деревьев, машин, пение, смех, просто жизнь этим жарким летом — все снова казалось возможным. По улице Шато-д’О они вышли на площадь Республики, где собралась огромная толпа. Еще были слышны выстрелы где-то вдалеке, с крыш, но никто не знал, кто стреляет.
— Нам лучше не задерживаться, — сказала Матильда.
Да и Шарль очень устал. Они вернулись в свое убежище, договорившись снова выйти на следующий день, чтобы воспользоваться вдохновляющими первыми днями свободы, которые для Матильды, Люси и Шарля, вынужденных прятаться и не получавших новостей, стали неожиданностью.
Эта ночь была первой полноценной ночью любви для Шарля и Матильды. Люси поехала на авеню Суффрен к дочери, которая беспокоилась о муже. Эти часы эйфории от победы в самом сердце Парижа, пережитые бок о бок, были незабываемы.
Насладиться победой они смогли и на следующий день на площади Согласия, куда их отвела Люси. Там приветствовали освободителей Парижа, ехавших в грузовиках, на которых развевались французские, американские и британские флаги. Был ясный день, по небу тянулись тонкие нити облаков, белых, словно молоко в фарфоровом кувшине.
После часа, проведенного на площади, они компанией направились к Елисейским Полям, где им удалось застать генерала де Голля, с непередаваемым энтузиазмом прошедшего по улице в окружении членов Национального комитета Сопротивления и офицеров Второй танковой дивизии. Всюду радовались, кричали «ура!», заводили патриотические песни. Выстрелы с крыши дома на площади Согласия вызвали всеобщую панику. Народ бросился в сторону Елисейских Полей. Матильда и Шарль в страхе прижались к стене дома. Они искали глазами Люси, но толпа далеко оттеснила ее. Им удалось спуститься в метро, где они чудесным образом нашли Люси. Шарль был без сил. Ноги почти не слушались его. Женщины взяли его под руки и отвели на улицу Фобур-Сен-Мартен.
Там они решили, что пришло время возвращаться домой. Люси оставалась в Париже, поскольку теперь Элиза нуждалась в ней. Люси оставила мужа и жену наедине, и они провели еще одну ночь в мечтаниях. Шарль и Матильда строили планы на будущее, думали об учениках, о детях, которые у них родятся.
— Трое, — настаивал Шарль.
— Двое, — уверяла Матильда.
Думали они и о том, в какую школу пойти преподавать, в какой деревне поселиться, чтобы уже ничто и никогда их не разлучило.
Все еще под впечатлением от пережитого, от этого восхитительного дня, но в полной решимости провести часы, дни и годы, которые им отпущены, у себя дома, в прохладной тени лесов, Шарль и Матильда уснули лишь под утро, обессиленные от мечтаний и любви.
6
Уходящий год был годом тревог для Люси: после мучительной разлуки с дочерью она каждый день боялась потерять ее снова. И все это из-за мужа Элизы Ролана, который в конце августа сорок четвертого года заплатил за поддержку режима Виши в столице. Он был арестован на улице Суффрен, где прятался в своей квартире. За ним пришли люди с повязками партизанского стрелкового отряда Сопротивления и передали в карающие руки новых хозяев Парижа — организаторов восстания против немцев под предводительством полковника Роль-Танги, которого де Голль старался отстранить от власти, не желая опираться в правлении на повстанцев.
В день ареста Люси и Элиза были дома. Несмотря на протесты Люси, Элизу тоже арестовали, поскольку в ее паспорте значилась та же фамилия, что и у мужа. Люси пришлось приложить нечеловеческие усилия, чтобы освободить дочь. Она даже вызвала в Париж Шарля, давшего показания в пользу Элизы. Его авторитет как руководителя вооруженных сил Сопротивления в провинции Лимузен позволил освободить ту, что спасла и выходила его, но Шарль ничего не смог сделать для Ролана Дестивеля. Все, что удалось, — это перевести его дело из полевого суда в суд специальной юрисдикции Временного правительства Республики. Но этого было недостаточно. Участие в деле Шарля не отменяло активного сотрудничества Дестивеля с оккупантами. В сентябре Ролан был расстрелян без суда в пригороде Парижа с десятком своих приспешников.
Люси и Элиза с трудом отыскали его тело и тайком похоронили на кладбище Монпарнас на участке, выкупленном еще его покойными родителями. Затем началась долгая тяжба за снятие ареста с имущества коллаборациониста. В этой борьбе за спасение того, что еще можно было спасти, Люси оказывала неоценимую поддержку дочери, которая с лета была беременна от покойного Ролана. Элиза будто предчувствовала беду и хотела продлить жизнь рода, над которым нависла опасность.
Выжить было нелегко, поскольку приходилось покупать продукты на карточки — оба магазина Элизы были закрыты и денег у нее практически не оставалось. Паек составлял всего двести пятьдесят граммов хлеба в день, а молока и угля было не достать.
Люси собиралась было увезти дочь в Пюльубьер, когда в декабре Элиза получила разрешение открыть свои магазины, так как выяснилось, что приобрела она их, вместе с квартирой на улице Суффрен, на собственные средства, полученные в наследство от семьи Буассьер. Собственность Ролана Дестивеля оставалась под арестом. Это мало заботило Элизу, поскольку все средства теперь были пущены на закупку товаров и возобновление торговли. Усилия, которые она приложила для этого, помогли справиться с печалью, которая чуть не свела Элизу с ума. Впрочем, немалую роль сыграла и Люси, без которой Элизе было бы совсем плохо — настолько болезненно она переживала потерю мужа. Три месяца, прошедшие с момента смерти Ролана, были сплошным кошмаром, от которого Элиза редко пробуждалась.
Тем не менее беременность, которую Элиза переносила легко, лишь помогала ей. Теперь женщина боролась не только за себя, но и за ребенка, который должен был скоро появиться на свет. Она надеялась, что ребенок станет живым свидетельством прошлой жизни, которую она не собиралась забывать: ей было неинтересно, что творилось за пределами их совместной жизни с мужем. К тому же Шарля Бартелеми освободил именно Ролан, а она только прятала и выхаживала его. Об остальном Элиза думать не желала. Она жила в мире с собой, с матерью, со своей семьей и не хотела платить за то, что делал ее муж и в чем она не принимала никакого участия. Единственное значение для нее теперь имел ребенок, который должен был родиться и который смягчит боль от утраты мужа, которого Элиза продолжала любить и после его смерти.
Схватки начались десятого апреля тысяча девятьсот сорок пятого года. Люси, не отходившая от дочери, побежала за акушеркой, которая к двум часам дня помогла Элизе без особых страданий произвести на свет девочку.
— Как ты ее назовешь? — спросила Люси, показывая дочери малышку, лежавшую на руках бабушки с закрытыми глазками.
— Паула, — ответила Элиза. — Мы так хотели с Роланом.
Обе женщины подумали о том, что ребенок уже при рождении был наполовину сиротой. Что ждет Паулу в жизни? Будет ли она страдать? Люси надеялась, что когда-нибудь ее дочь снова выйдет замуж. А пока у матери Паулы была крыша над головой и достаточно средств, чтобы вырастить дочь. Совсем в другом положении была Люси, когда решила не отдавать Элизу после рождения. Теперь они были втроем в залитой солнцем комнате, вместе навсегда — думала Люси, и поэтому еще более сильные вступали в новую жизнь без мужской поддержки.
Стояло ясное прохладное утро восьмого мая тысяча девятьсот сорок пятого года. Раздавался звон колоколов церквей Сен-Винсена, Авеза, Сен-Круа-Ла-Монтаня. Во всех деревнях праздновали окончательное наступление мира, и солнечные лучи играли на влажных от росы листьях деревьев. Конечно, вот уже почти год как во Францию вернулся мир, но никто не мог быть спокоен, пока окончательно не убедится, что ужасы прошлых пяти лет не повторятся снова.
Особенно ждал этого момента Шарль Бартелеми, еще не до конца залечивший тяжелые раны на руках. Восемь месяцев назад он вернулся к отцу, который сильно похудел, к матери, состарившейся за это время, сестре Луизе, все такой же скрытной и преданной, Одилии, которая каждый день ожидала возвращения Эдмона. Матильда вернулась на работу в новом учебном сорок четвертом году, но Шарлю пришлось отказаться: ему нужно было подлечиться и отдохнуть. Он страдал оттого, что не помогает отцу, но держать в руках инструменты пока не мог. Однако своим присутствием он подбадривал родителей и Одилию, вселял в них надежду на долгожданное возвращение Эдмона. Младший сын Франсуа должен был скоро вернуться — теперь все были в этом уверены, ведь четырнадцать дней назад от него пришло письмо.
Когда смолкли колокола, Франсуа и Шарль пошли в каштановую рощу, где уселись друг против друга на поваленных деревьях, чтобы разделить радость этого момента. После нескольких минут молчания Франсуа спросил:
— Как твои руки?
— Лучше.
Франсуа вздохнул.
— К счастью, тебе не придется больше держать в руках лопату.
— Да, но мне нужно заново научиться держать мел.
Франсуа попытался улыбнуться:
— Мел легче лопаты.
Шарль кивнул и улыбнулся в ответ.
В ветвях резвился ветер, еще обдававший зимним холодком.
— Вот Эдмон скоро приедет, — сказал Шарль, уловив в голосе отца некую подавленность.
И его можно было понять — силы Франсуа были на исходе после нескольких лет тяжелой работы в одиночку.
— Твой брат дорого заплатил, — произнес Франсуа.
Шарль покачал головой и ответил:
— Разве есть что-то дороже свободы?
— И все же.
И повторил несколько раз, будто в этих трех словах была сосредоточена вся печаль, с которой он жил с момента ареста сына:
— И все же, все же…
Франсуа вспоминал четыре года своей войны, страдание Алоизы, Эдмона, прожившего пять лет вдалеке от своего дома.
— А ты подумал о тех, кого больше нет? Мы хотя бы живы и вместе.
— Да, — прошептал Франсуа, — живы.
Это прозвучало так, будто он сам не верил в то, что жив.
— Смотри, — сказал Шарль, — почки распускаются.
Франсуа поднял голову и улыбнулся. Из деревни доносился голос: Луиза звала обедать.
— Пойдем, — сказал он Шарлю. — Теперь все у нас пойдет на лад.
Они пошли домой плечо к плечу, подставив лица первым теплым лучам солнца.
После обеда все собрались возле радиоприемника, слушали последние новости, все еще не веря, что кошмар закончился, что Эдмон скоро будет рядом, среди них. Вечером Луиза рассказала, что на площади готовится гулянье, и все отправились туда, чтобы потанцевать вместе с односельчанами под звуки аккордеона. Франсуа танцевал с Алоизой и Одилией, потом присел у деревянной эстрады, чтобы полюбоваться, как танцуют Шарль с Матильдой. Люди пели, окликали друг друга, обнимались… Казалось, они были счастливы всегда, но скольким из них пришлось переживать за своих родных и близких.
Шарль и Матильда, устав кружиться, присели отдохнуть. Счастье, которое в этот момент светилось на их лицах, было соизмеримо со страданиями, которые им пришлось пережить. Чтобы жить дальше, о прошлом нужно забыть. Или хотя бы попытаться сделать это.
Праздник продолжался всю ночь, но Бартелеми ушли в половине первого, овеваемые первым теплым весенним ветерком. Тысячи звезд следили за тем, что происходит на земле, и казалось, даже опустились ниже, чтобы принять участие в праздничных гуляньях, которые охватили все города и деревни Франции.
В конце мая Бартелеми ожидал сюрприз. К ним приехал Матье с Марианной, которую до этого никто не видел, с двумя сыновьями — Виктором и Мартином.
— Мне захотелось отпраздновать победу с вами, пока не началась жатва и сбор винограда, — объяснил Матье свой неожиданный приезд.
У него был счастливый и здоровый вид, но Франсуа никак не мог привыкнуть к тому, что у брата нет одной руки. Матье же, казалось, вовсе не обращал на это внимания. Он так проворно стал помогать брату, что было видно: он прекрасно научился компенсировать свой недостаток.
Поскольку в доме все разместиться не смогли, Шарль решил уехать в Уссель к Матильде, а Одилия отправилась погостить к родителям. Люси узнала о визите брата из письма, которое тот прислал ей в Париж за несколько дней до приезда. Она ответила, что не уверена, сможет ли оставить дочь и внучку, но обещала постараться приехать. Днем Марианна помогала Алоизе и Люси по хозяйству, вместе они следили за мальчишками, привыкшими свободно бегать возле дома, за которыми нужен был глаз да глаз. Матье и Франсуа снова обрели единство, которое было между ними с детства и которое они со временем не потеряли. Они не могли удержаться, чтобы не вспомнить о родном Праделе, о детстве, которое невозможно забыть, о том, что пережили они на долгой дороге жизни.
Матье говорил без умолку, наверное, оттого, что жил далеко от мест, которые навевают все эти воспоминания. «А помнишь…» — говорил он всякий раз, вспоминая какой-то случай, слово, сказанное отцом или матерью, обыск первого января тысяча девятисотого года, восхитительное платье, полученное как-то их матерью в подарок, августовский праздник, — все то, что вызывало у Франсуа прилив счастья и наполняло его душу солнечным светом. В эти минуты он забывал о своей усталости, о страданиях в годы войны, о том, что чувствовал себя загнанной лошадью, которая может околеть, если пробежит еще пару верст. Как-то вечером он поделился этой мыслью с Матье, на что брат ответил:
— Не выдумывай! Тебе всего пятьдесят три!
Франсуа рассказал брату обо всем, что ему пришлось пережить: о пятилетнем отсутствии Эдмона, об изнурительном труде, о полицаях в доме, об аресте Шарля… Тут Матье понял, чем на самом деле была для его родных война, в то время как он в Алжире не испытывал никаких лишений.
— Иногда я жалею, что живу так далеко от тебя, — сказал Матье. — Если бы я был рядом, я бы тебе помог.
— Вернется Эдмон. Надеюсь, что он не задержится. Шарль не в состоянии держать инструменты. Ты видел его руки?
— Да, видел.
Руки сына постоянно были у Франсуа перед глазами: пальцы не сжимались, ногти отрастали из ужасных на вид складок кожи, образовавшихся на кончиках пальцев. Ладони растрескались и начинали кровоточить каждый раз, когда Шарль слишком долго держал в руках инструменты. Видеть это для Франсуа было настоящей пыткой, и он предпочел бы, чтобы сын пошел работать в школу, а не остался помогать ему.
— Будто мы с тобой мало заплатили в четырнадцатом, — говорил Матье, приходя в ярость. — У меня война забрала одну руку, ему — покалечила обе.
— А в каком состоянии вернется Эдмон? — вздохнул Франсуа.
— Не волнуйся, он молод и быстро поправится.
— Нужно надеяться. Если не успеет к посевной, то хотя бы приехал к жатве.
— Да, теперь он точно вернется.
Но первой приехала субботним вечером Люси, сдержав свое обещание.
— Я побуду всего пару дней, — объяснила она. — Я не могу оставлять Элизу надолго.
Она растаяла при виде близнецов, подолгу беседовала с Алоизой и Марианной, рассказывала, какое удовольствие ей доставлял уход за внучкой. Она так же, как и Матье с Франсуа, вспоминала Прадель, будто там они узнали, что такое «рай земной», хотя жизнь в нем была отнюдь не сладкой. Франсуа не мог удержаться, чтобы не заметить:
— Мы всегда думаем, что раньше было хорошо, но прекрасно знаем, что это не так. Вспомните, как многого нам тогда недоставало, как тяжело было выжить.
Матье и Люси спорили для виду, но знали, что Франсуа прав. Эта встреча была поводом вспомнить о том, что было и что никогда не повторится, — о трагедии всей жизни, которая наносит незаживающие раны и вселяет ужасное чувство неоправданных потерь, перед лицом которых они бессильны, порабощенные судьбой.
Люси очень скоро уехала, и Матье был благодарен, что она смогла найти хоть немного времени для него, несмотря на свою занятость в Париже. В последующие дни они много беседовали с Шарлем, внушавшим ему чувство восхищения и преклонения. Его племянник стал преподавателем в школе. Матье, призывая Франсуа в свидетели, восклицал:
— Ты хоть понимаешь? Твой сын — школьный учитель!
И добавлял уже не так громко:
— Как бы были счастливы родители, если бы дожили до этих дней!
Однажды, оставшись наедине с Шарлем в сушилке для каштанов, когда Франсуа уехал в деревню за необходимыми инструментами, Матье сказал Шарлю, как гордится его поведением на войне.
— Мы делали все, что могли. Но ты сделал намного больше.
И, склонив голову, он добавил:
— Наверно, это было невыносимо.
Шарль не отвечал. Он не мог ни с кем обсуждать то, что пережил в тюрьме, даже с Матильдой. Но иногда ему казалось, что если он выговорится, то станет легче все забыть. Но он пока не мог. По ночам он иногда громко кричал, видя кошмары во сне. Матильда будила его, но, несмотря на теплоту ее рук, ему требовалось больше часа, чтобы успокоиться и снова заснуть. Он все еще не помнил, поддался ли пыткам. Ему казалось, что нет. К тому же он теперь знал, кому обязан своим освобождением. Но иногда ему казалось, что было невозможно смолчать в тот день, когда ему вырывали ногти или когда дробили кости рук в тисках с железными шипами.
— Это было ужасно, — говорил он Матильде, — и поэтому я предпочитаю говорить о чем-нибудь другом.
— Прости меня, малыш, — проговорил Матье.
Они провели этот день в сушилке для каштанов, в приятной для знойного лета прохладной тени. Матье хотел было остаться с Шарлем до покоса, чтобы помогать, но до него оставалось еще много времени, урожай в этом году запаздывал. А в Аб Дая Матье тоже ждала работа, и он вспоминал о ней каждый день. И поэтому он уехал с Марианной и детьми, удивляющимися огромным деревьям плоскогорья, пообещав приезжать почаще.
— А может, вернешься сюда навсегда? — спросил Франсуа накануне отъезда.
— Я уже больше не могу этого сделать, — отвечал Матье. — Я никогда не смогу оставить то, что построил там. Я вложил туда слишком много усилий, работы и пота.
Вздохнув, он добавил:
— Пообещай мне, что обязательно приедешь посмотреть, что мне удалось там создать. Ты доставишь мне огромное удовольствие.
— Не могу тебе обещать, что приеду, — отвечал на это Франсуа, — но обещаю, что постараюсь.
Матье сделал вид, что ответ его устраивает. Да, они виделись редко, годы уходили, они старели… Но как иначе, когда все время приходится трудиться? Провожая брата в этот раз, Франсуа думал, что, возможно, уже не увидится с ним никогда, но старался гнать от себя эту мысль.
Десятого июня небо затянулось тяжелыми тучами, предвещавшими бурю, и Франсуа порадовался, что не поспешил с сенокосом. Был час сиесты. Шарль пошел вздремнуть в каштановую рощу, а Франсуа предпочел прохладу спальни. Жара не давала уснуть, и он слышал разговор Алоизы и Одилии в кухне за стеной. Говорили шепотом, так, что не различить слов, но этот равномерный гул накладывался на его собственные мысли. А думал Франсуа о новости, которую услышал по радио сегодня за обедом: правые партии, скомпрометированные вишистами, отошли в сторону, а на выборах в муниципальные собрания, прошедшие в прошлом месяце, большинство получили социалисты и коммунисты. Де Голль готовил к концу года референдум по новой конституции и ограничению власти Генеральной Ассамблеи. Возвращение военнопленных задерживалось из-за карантина, введенного освободителями. К тому же условия репатриации различались в зависимости от сектора, в котором они находились: американском, британском или русском. Франсуа знал, что Эдмон вот уже два года находился не в предместьях Берлина, а в лагере Китцинген к северо-востоку от Мангейма, в той части Германии, которую контролировали американцы. Франсуа с Шарлем достали старый атлас, нашли на нем Мангейм и с радостью констатировали, что город находится не очень далеко от французской границы. С того дня Франсуа больше не возвращался к этой теме, но надеялся, что сын скоро вернется.
Женские голоса на кухне смолкли. Франсуа наконец удалось задремать, а скоро и уснуть крепким сном. В три часа на дороге залаяла собака и послышались возгласы. Он не различал, чей это был голос — Алоизы или Элизы, и подумал, что случилась какая-то неприятность. Франсуа вскочил, наспех оделся и открыл дверь. Он сперва не понял, кто был человек, стоявший между Одилией и Шарлем, в солдатской форме, с двумя ремнями, скрещенными на груди, в берете, — человек, смотревший на Франсуа незнакомыми глазами.
— Это Эдмон, — сказала Алоиза.
Человек шагнул к Франсуа, и он узнал сына, даже не по внешнему виду, а по движениям. Эдмон подошел, обнял его и спросил:
— Неужели я так изменился?
— Нет, — поспешил оправдаться Франсуа. — Просто я вышел из темноты, и свет ударил мне в глаза.
— А, понятно.
Тем не менее все видели, что Эдмон стал совсем другим. Он ссутулился, глаза резко выделялись на сильно похудевшем лице, и в их отблеске появилась какая-то искра безумства, которой раньше не было. Вся семья была здесь, все стояли неподвижно, словно пригвожденные, и не знали, что сказать.
— Ты, наверное, голоден? — спросила Алоиза, первая придя в себя.
— Немного, — ответил Эдмон, снимая гимнастерку и вещмешок.
Все расселись вокруг него, боясь задавать вопросы. Позже, поев и немного освоившись, Эдмон рассказал, как ему удалось избежать карантина в американском лагере. Он не мог ждать. Ему удалось спрятаться в товарном вагоне, который и привез его в Страсбург. Потом Эдмон долго шел, где-то украл велосипед, опять сел на поезд, снова шел и наконец добрался до дому. Теперь, в домашней обстановке, он начал принимать человеческий облик. Волнение первых минут встречи утихло, и Эдмон попросил рассказать, что произошло в Пюльубьере за годы его отсутствия. Шарль и Франсуа рассказали ему. Эдмон удивлялся чуть ли не каждому слову, но постепенно приходил в себя. Он рассказал о приходе двенадцатой танковой дивизии американцев, о том, как хотел скорее попасть домой, но ни словом не обмолвился о времени, проведенном в концлагере, и, впрочем, никому не приходило в голову спросить его об этом.
Франсуа все смотрел на Алоизу и Одилию: так они не улыбались уже много лет. Алоиза не сводила глаз с Эдмона и, казалось, еще не до конца поверила в столь долгожданное возвращение. Несмотря на усталость, Эдмон захотел осмотреть хозяйство. Они вышли все вместе. Алоиза и Одилия держали его под руки с обеих сторон, но у Эдмона не хватило сил на долгую прогулку. Они вернулись домой, поговорили о предстоящих полевых работах, о сенокосе, о Луизе, которая в это время была в школе, и спокойствие вернулось в дом Бартелеми. Франсуа убеждал себя, что через несколько дней сын станет таким, как раньше, и что нужно просто подождать.
Он вышел и сел на лавку возле дома. Тучи еще закрывали небо, но гроза прошла стороной, и все вокруг, даже свежий запах листвы, обещало хорошую погоду. Франсуа подумал, что если хорошая погода установится, то скоро можно будет начать сенокос. Чтобы оставить Одилию с Эдмоном наедине, Франсуа предложил Алоизе пройтись к ельнику, служившему им ангелом-хранителем все эти годы. Каждое утро из окна своей спальни они видели темные заросли на вершине и считали, что деревья защищают их.
Жара спала. Франсуа и Алоиза шли по дороге, поросшей высокой травой и дикими цветами. Франсуа был счастлив, хоть резкий подъем и заставил его сердце биться быстрее. Алоиза шла рядом, взяв мужа под руку, и грустно улыбалась. Глубокие синие глаза были прекрасны. На середине подъема они сделали передышку и продолжили свой путь таким же неспешным шагом.
Прохладный ветер на вершине был приятен после жары, царившей в долине. Лапы елей вздыхали при порывах ветра. Высокий травяной ковер с каждой весной становился все гуще, все красивее, будто обновленный зимними снегами. Франсуа и Алоиза молча наслаждались чистотой момента, потом Франсуа сказал:
— Ты помнишь, как в тринадцатом году я впервые вошел в твой дом?
Алоиза посмотрела на него своим печальным взглядом и ответила:
— Я не забыла ничего из нашей совместной жизни, Франсуа. Ты это знаешь.
Он кивнул и улыбнулся. Ему казалось, что после войны рождался совершенно новый мир.
— Мы пережили две войны, — сказал он, — мы много работали, но вот теперь стоим здесь, уцелев, словно эти ели, которые чуть не погибли когда-то в огне. Помнишь?
— Да, помню, — ответила Алоиза. — Я так испугалась в тот день.
Над холмами парили большие птицы, будто вечные стражники этих мест.
— Еще одно лето, — продолжил Франсуа.
Он задумался и добавил:
— Сколько их нам осталось?
— Тысячи, — ответила Алоиза.
Он повернулся к ней, встретился взглядом:
— Тысячи?
— Тысячи, в этой жизни и в той, что нас ждет потом.
Далеко впереди в облаках образовалась брешь, через которую хлынул поток света, а затем показалось чистое голубое небо.
— Если бы это было так, — сказал Франсуа.
— Но так и будет, — ответила Алоиза с удивительной уверенностью.
Он взял ее за плечи и прижал к себе.
— Конечно, так и будет, — сказал Франсуа.
Он посмотрел вверх и показал рукой на белую птицу, летевшую в сторону островка голубого неба, затерянного среди туч и казавшегося входом в другой мир.
II ВРЕМЯ ШКОЛ
7
Утром восемнадцатого ноября тысяча девятьсот сорок восьмого года Шарль Бартелеми проснулся, как обычно, в шесть часов утра. Вот уже три года он и Матильда преподавали в городке Ла-Рош, приютившемся на склоне холма, открытого всем ветрам. Ла-Рош стоял в отдалении, за грядой холмов и лощин, и добраться к нему было нелегко.
Вот уже три года они по-настоящему занимались своей профессией, преподавали детям так, как их учили в педагогическом университете, а точнее, как велело им сердце. За эти годы случилось много событий. В тысяча девятьсот сорок шестом родился их первый ребенок — сын Пьер. Матильда рожала дома, в присутствии только одного врача и повитухи — Тюль был далеко, да и принято было в этих краях рожать в таких почти первобытных условиях.
К счастью, все закончилось хорошо и Матильда смогла отдохнуть во время летних каникул, которые они провели в Усселе и Пюльубьере. Матильда сильно уставала, ведь кроме ухода за своим ребенком ей приходилось преподавать тридцати ученикам подготовительного класса в кабинете рядом с классом Шарля. Школа находилась в двухэтажном здании мэрии. В главном корпусе располагалась канцелярия мэра и квартира учителей. Удобств практически не было, если не считать туалета на первом этаже, но и это уже было большим комфортом — на предыдущем месте работы Шарлю и Матильде приходилось пользоваться с учениками одним туалетом во дворе школы. В течение дня Матильда несколько раз поднималась в свою комнату, чтобы проверить, как дела у малыша, с которым, всего за несколько франков, нянчилась старуха, жившая недалеко от церкви.
В этом скучном, затерянном среди лесистых холмов городишке не было никаких развлечений, но Шарль и Матильда к этому привыкли. Руки Шарля, изувеченные в гестапо, постепенно почти полностью обрели былую ловкость. Их сын рос, как и полагается детям, без особых проблем. Шарль, по традиции, занимал должность секретаря мэра, что позволило супругам оплачивать услуги няни, которую звали Евгения. От городской площади узкие извилистые улицы расходились в разных направлениях: на Тюль, на Эглетон, на Аржантан. Зимы были снежные, несмотря на то что Ла-Рош находился не так высоко, как Пюльубьер, и иногда казался вымершим и неприступным для жителей равнин.
Но Матильда и Шарль были счастливы. Они сохранили в памяти ужасы войны, и в сравнении с ними десятки внимательных детских лиц, глядящих на них из-за парт, наполняли их оптимизмом и радостью. Они любили запах загорающейся бумаги, которой разжигали хворост в печи, и Шарль часто оставлял дверцу немного приоткрытой, чтобы этот запах смешался с запахом мела, чернил и парт. Затем Шарль проверял тетради, сидя в своем еще пустующем «дворце», потом поднимался наверх, чтобы приготовить Матильде кофе. Он одевался и шел к сыну, чтобы дать жене одеться. Беременность совершенно не испортила ее фигуру: Матильда была все такой же стройной, а усталость можно было прочесть только в глазах, слегка потерявших блеск, но Шарль не обращал на это внимания. Борьба, которую они вели вместе во время войны, связала их сильнее, чем любые другие узы.
Утром, дожидаясь начала урока, Шарль пролистывал книги для средних классов, обернутые синей бумагой: литература, история, география, арифметика, наглядные материалы. Он поискал тему сочинения для четвертого класса, перечитал урок истории для третьеклашек. Была среда, и с неба срывался первый ноябрьский снежок. На следующий день, в четверг, Шарль должен будет первую половину дня посвятить работе в мэрии, а после обеда заняться библиотекой, которую терпеливо собирал и переплетал собственными руками.
Слышно было, как в класс на первом этаже заходили ученики.
— Я спускаюсь, — сказал Шарль Матильде. — Уже без четверти девять.
Во дворе его встретил порыв холодного ветра, и Шарль с сожалением отметил, что большинство детей опять были одеты не по погоде. Некоторые дрожали от холода, и Шарль завел их в класс, где они обступили растопленную печь. В восемь пятьдесят он позвонил в колокол, висевший во дворе, призывая опаздывавших поторопиться. Среди них были братья Шовиня — три бедных мальчугана, одетых в лохмотья. Они жили в лесном доме с отцом-лесорубом и матерью-инвалидом. Шарль пытался привить им любовь к чистоте, а ребята отчаянно старались быть достойными своего учителя. Для них это было невероятно тяжело. Каждое утро они умывались в фонтанчике у входа в Ла-Рош, но внешний вид их все равно был жалок: на рубахах не хватало пуговиц, куртки из грубой шерсти были в дырах. Штаны, забрызганные дорожной грязью и навозом из конюшни, были залатаны сзади и на коленях.
И братья Шовиня были такие не одни — на заброшенных фермах этого плато царила бедность, а местами и нищета. И если в институте преподавателей учили, как искоренять невежество, то никто никогда не рассказывал им, как бороться с бедностью.
Шарль и Матильда должны были учиться сами. Но как обучать детей правилам гигиены, если большинство родителей не могли позволить себе купить мыло? Как научить школьников не пачкать одежду, если у многих не было других вещей, кроме тех, что на них? По вечерам, возвратившись из школы, им нужно было помогать родителям в конюшнях, сараях или в поле. Дети старались как могли, но оставаться опрятными было выше их сил. И уроки гигиены по утрам казались Шарлю смехотворными и ненужными.
Ему больше нравилось начинать день с урока морали — на таких уроках дети часто неожиданно давали блестящие ответы, их живым умам были свойственны яркие вспышки. Главное препятствие для таких проблесков представляли правила, навязанные ежедневными обязанностями, в частности тем, что их родителям необходимо было кормить семью в ущерб любым другим приоритетам. Остальное считалось роскошью: эти люди давно перестали задумываться или задавать себе вопросы о чем-либо, помимо удовлетворения своих насущных потребностей.
Некоторые дети, не имеющие возможности вернуться домой в обед из-за отдаленности их дома от школы, утоляли голод только куском хлеба или яблоком. С первой зимы в Ла-Рош Шарль с Матильдой с помощью Эжена готовили хлебный суп и разливали его по детским тарелкам, которые так часто бывали пустыми. Хозяин предостерег учителей против этого занятия, сказав, что родители могут плохо это воспринять, но Шарль и Матильда пренебрегли предупреждением. Важнее всего, чтобы ученики согрели себя чем-нибудь горячим. А потом, согретые и удовлетворившие запросы желудков, они внимательнее относились к учебе.
Шарлю нравились утренние диктанты по текстам, тщательно подобранным в книгах его любимых авторов: Луи Гийу, Луи Перго, Жана Геено и многих других, чьи книги он сам любил читать, когда наступал вечер. Так класс становился особым местом, защищенным от превратностей внешнего мира, и Шарль чувствовал, что несет ответственность за будущее своих учеников, за их судьбы. Он медленно диктовал, правильно расставляя паузы, отчетливо произнося каждый слог:
«Поскольку сестры, все взрослее меня, были в школе на занятиях, большую часть дня я проводил наедине с матерью. Занимаясь рукоделием, она развлекала меня историями о кузене из Парижа или о кораблекрушении нашего дядюшки возле Мадагаскара…»
Шарль отрывался на время от Луи Гийу и, пользуясь возможностью, переходил к уроку географии, а потом продолжал диктант, перехватывая взгляды, останавливаясь за согнувшимися спинами сосредоточенных учеников, повторяя плохо услышанные слоги, делая ударение на трудных словах.
Самым любимым занятием было написать на доске стихотворение, затем объяснить его и выучить всем классом. Для таких случаев Шарль выбирал произведения, которые больше всего любил в детском возрасте, и ему казалось тогда, что он возвращается в Сен-Винсен, в школу, очень напоминающую вот эту, и жизнь как будто замыкалась сама на себе в идеальный круг. Эмиль Верхарн, Андре Шенье, Поль Арен, Жан Ришпан, Марсели Десборд-Вальмор или Теофиль Готье чередовались каждую неделю по его выбору:
Голубка, как печальны Все песенки твои, Лети дорогой дальней, Служи моей любви[6].Время после полудня было посвящено чтению с пятиклассниками, в то время как шестиклассники, не поднимая головы, работали над сочинениями. Затем, после перемены, был черед урока истории и общего образования, затем Шарль записывал на доске задания на следующий день красивым почерком, который ему наконец удалось вернуть себе после увечий, полученных на войне, ценой больших усилий. Башмаки уже начинали нетерпеливо стучать по полу. Иногда он оставлял какого-нибудь ученика после занятий, объясняя ему то, что он не совсем понял, но в таких случаях ребенок почти не слушал: он должен был доить корову, его уже ждали срочные дела. И Шарль отпускал его на свободу. Ребенок убегал со всех ног, иногда забывая книги и тетради с заданиями на завтра.
Но в конце концов, разве все эти сложности были так уж важны? В детских глазах Шарль часто замечал искорки, которые не спутаешь ни с чем: в них был другой мир, догадки о скрытых богатствах, радость узнавания ранее неизвестных слов. С высоко поднятой головой, с удивленным, но счастливым взглядом, они дрожали от волнения, сполна возмещая Шарлю все его труды. И он начинал придумывать для них благополучную жизнь, в которой знания принесут им счастье.
Никогда Париж не был так печален, как тогда, в начале зимы 1948 года. Элиза и Люси изо всех сил старались забыть об этом, но добыть уголь было очень трудно, людям не хватало денег на еду и одежду, выставленную на прилавках магазинов. Элиза и Люси жили на одном этаже на авеню Суффрен, а до этого, по окончании войны, ютились в одной квартире, так как Ролан Дестивель, расстрелянный в 1944 году, уже не мог обеспечить их.
В таких плачевных обстоятельствах для Люси имело большое значение, что Элиза была рядом вместе со своей дочерью Паулой, появившейся на свет в апреле 1945 года. Одно только обстоятельство осложняло их жизнь — присутствие Ганса, сводного брата Элизы, питающего к сестре глубокую неприязнь. Элиза, однако же, предпринимала попытки расположить его к себе, но до мальчика дошли слухи о Ролане Дестивеле и его преступных деяниях. Гансу была невыносима мысль, что в одной комнате с ним находилась его сводная сестра, огорченная фактом смерти преступника, и из-за этого Люси пришлось снимать отдельную квартиру, пусть даже Элиза находилась в том же здании и на том же этаже, что и они.
Между тем, намереваясь искоренить все свидетельства их родственной связи с Роланом, угрожающие им дополнительными неприятностями, Элиза сменила род деятельности: она продавала теперь не одежду, а старинную мебель. Подала ей такую идею мадам де Буассьер, рассказав Элизе об этом новом, совершенно особом мирке. Теперь, накопив уже богатый опыт, Элиза одинаково хорошо умела оценить красоту шкафа Женес XVIII столетия и английского письменного стола в стиле королевы Анны. За четыре года она завоевала репутацию компетентного эксперта по венецианской мебели, а также по французской мебели начала века. Оба ее магазина стали приобретать популярность у покупателей, к ней зачастили богатые путешественники, ненадолго приезжавшие во Францию, и дела пошли на лад.
Кстати, в поместье Буассьер, в Верхнем Коррезе[7], также доставшемся ей по наследству, Элиза продала почти все земли и оставила только замок, вопреки словам нотариуса, советовавшего ей поступить наоборот.
— Мы поедем туда отдыхать, — говорила она, обращаясь к Люси, — или хотя бы ты уедешь и возьмешь с собой Паулу. Ей это будет весьма полезно.
— Даже не думай об этом, — ответила тогда Люси. — Я никогда не осмелюсь жить в замке.
— Значит, мы поедем туда вместе, — примирительно заключала Элиза. — Я приглашаю тебя в гости.
Они разделили работу в двух магазинах в Париже. По настоянию дочери Люси тоже изучила секреты оценки старинной мебели. Таким образом, они жили общими интересами, имели общие хлопоты, радовались одному и тому же в компании единственного мужчины, точнее сказать, молодого человека: Ганса, которому недавно исполнилось семнадцать и который причинял немало беспокойства обеим женщинам, поскольку был наделен скрытным, иногда жестоким характером и без конца задавал вопросы о своем исчезнувшем отце. Люси с большим трудом удавалось объяснять, почему она так часто вынуждена была жить вдали от Яна: это происходило только из-за необходимости скрываться от нацистов.
— Тебе следовало больше помогать ему, — упрекал ее Ганс. — Он нуждался в тебе.
— Ты был тогда беззащитен, и надо было ограждать тебя от опасности. В Германии тогда было очень неспокойно.
— А в Швейцарии было опасно?
— Точно так же. Тогда нацисты были повсюду.
Ганс упорно не хотел понимать этого, отдалялся от матери. Напрасно та рассказывала, как сильно любила Яна, как долго они сражались бок о бок в тяжелейшем бою, — в глазах сына был только упрек. Ганс прочитал всех немецких романтиков: Гете, Новалиса, Гельдерлина и с тех пор как начал учиться в философском классе, увлекался Гегелем и Марксом. Часто Люси не могла понять того, что Ганс пытался ей объяснить. Он жил обожанием своего пропавшего отца, беспрерывно мечтал о том, как продолжит его бой, причин которого он даже не знал, и называл себя коммунистом.
— Твой отец не был коммунистом, — убеждала сына Люси. — Он сражался против нацистов, не более того.
— Лучше всего с ними сражались коммунисты, во Франции и за ее пределами, — отвечал на это Ганс.
— Мой брат и племянник не коммунисты, — возражала Люси, — но при этом они сражались в Сопротивлении.
— К тем, кто живет здесь, в Париже, это не относится.
Ганс очевидно намекал на Элизу, свою сводную сестру, которая была замужем за человеком, угождавшим нацистам, тем самым, которые бросили в тюрьму его отца, замучили и стали причиной его смерти.
Однажды вечером, не видев своего сына целых восемь дней, Люси пошла в комиссариат полиции своего квартала, терзаемая тревогой. Ночью о пропаже не объявляли, по крайней мере в седьмом округе, где Ганс жил в комнате под крышей, по улице Валадон, снимаемой для него уже в течение трех месяцев матерью, желающей избежать конфликтов, которые вспыхивали у него со сводной сестрой. Люси никак не удавалось успокоиться.
— Не волнуйтесь так, — говорил начальник отдела, — вашему сыну уже семнадцать, он способен за себя постоять.
Люси выяснила, что в лицее его не видели уже неделю, и она терзалась волнениями еще сутки. Наконец она получила телеграмму из Страсбурга: Ганс был задержан без документов, без денег на немецкой границе. Надо было поехать забрать его, и Люси, не мешкая, собралась и села в ближайший поезд до Эльзаса.
Прибыв на место, она не сразу смогла убедить Ганса: тот не желал возвращаться в Париж. Она была вынуждена пообещать ему позволить жить где он пожелает, как только он достигнет совершеннолетия. На таких условиях Ганс согласился вернуться, но оставался неприветливым, чужим, враждебно относился к способу жизни обеих женщин, приводя их в отчаяние.
В Пюльубьере Алоиза смотрела, как первый в этом году снег медленно падал за окном. Было одиннадцать часов утра, и она выглядывала Франсуа, запаздывавшего почему-то из каштановой рощи. В последнее время она стала беспокоиться о его здоровье, поскольку он сильно кашлял, а зима была уже не за горами. Его нельзя было заставить сидеть дома. Франсуа хотел выполнить свою часть обязанностей во что бы то ни стало, независимо от погодных условий, желая доказать всем, и прежде всего Эдмону, что он еще в силах работать наравне с сыном.
С течением времени отношения между двумя мужчинами необъяснимо ухудшались. Алоиза и Одилия, жена Эдмона, без конца мирили их, но это становилось с каждым разом все сложнее. Франсуа хотел сам распоряжаться всеми работами в доме и способом их исполнения. Эдмон, огрубевший и озлобленный после немецкого плена, относился к нему со все нарастающей антипатией. Одному было пятьдесят шесть лет, другому — тридцать два. Имущество было совместным, и распоряжался им Франсуа, выделяя немного денег Эдмону. Жизнь в подобной коммуне была совсем несладкой, однако же Алоиза и Одилия были в хороших отношениях. Да и разве такая жизнь была чем-то особенным? Разве не всегда они так жили?
Алоиза отвернулась от окна и встретилась взглядом с Одилией, уже накрывавшей на стол к обеду. Та немного замешкалась, а потом прошептала:
— В этот раз он по-настоящему собрался уходить.
Алоизе показалось, что мир вокруг раскалывается на части.
— Это же невозможно, — сказала она. — Почему он так решил?
— Я пытаюсь образумить его, — добавила Одилия, — но он больше не слушает меня.
— Где вы найдете условия лучше, чем здесь?
— В городе. В Тюле много рабочих мест на заводах.
— Но он не может работать там! — воскликнула Алоиза. — Скажи ему, что я хочу с ним поговорить.
Она замолчала, услышав шарканье ботинок на крыльце. Дрожа от холода, вошел Франсуа. Растирая руки, он подошел к огню и, согревая их теплом языков пламени, вздохнул с облегчением.
— Думаешь, разумно выходить в такой холод? — спросила его Алоиза. — Разве нельзя было подождать немного?
— Я уже вышел из возраста, когда нужно совершать разумные поступки, — живо парировал Франсуа. — Надо непременно закончить до снега. А кто это сделает за меня?
Алоизе в его словах послышался скрытый упрек в адрес Эдмона, часто пренебрегавшего работой, в которой не было особой необходимости. Боже мой! Почему сегодня между сыном и отцом возникает столько разногласий, ведь Франсуа так долго ждал, так надеялся на приезд Эдмона? Алоиза стремилась понять, пыталась убедить Франсуа не работать много, позволить Эдмону обрабатывать землю как ему угодно, но муж не хотел ничего слышать.
— Разве я в своем возрасте больше ни на что не годен? — возмущался Франсуа.
— Ну что ты, совсем наоборот.
— Тогда почему ты меня об этом просишь?
Иногда Алоиза переставала его узнавать. Где был тот Франсуа, который вошел в дом в 1913 году как долгожданный спаситель? Тот, кто терпеливо возвращал ее к жизни после окончания войны? А еще тот, который так долго сражался за свою собственность, так замечательно умел ее слушать? Алоиза не понимала, почему он теперь стал таким черствым, таким непреклонным по отношению к сыну, в котором нуждался. И все же по вечерам, когда они оставались в комнате наедине, Франсуа вновь становился ближе. Тогда она пыталась убедить его позволить Эдмону взять инициативу на себя. Франсуа обещал, но забывал об этом на следующий день. Это было сильнее его. Он вложил слишком много своих сил и здоровья в имение, чтобы утратить свое значение для этого места.
В тот день трапеза прошла в тишине, и Эдмон ушел, едва допив свой кофе. Франсуа ненадолго задержался у камина, а затем набросил меховую куртку и тоже вышел. Алоиза видела, как он направился к сушилке каштанов, куда раньше ушел Эдмон. Она испугалась новой ссоры, хотела тоже пойти туда, но в конце концов отказалась от этой мысли. Однако же она устроилась у окна и смотрела на слой снега, тающий под бледным, ненадолго вернувшимся солнцем.
Вдруг, когда женщина хотела обернуться, из сушилки появилась фигура Франсуа. Он грубо хлопнул дверью и широким шагом удалился по улице Сен-Винсен. Алоиза поняла, что произошло то, чего она так боялась. Она оделась, вышла, позвала Франсуа, но он все не возвращался. Она побежала к сушилке и нашла там Эдмона, дрожавшего всем телом, с вилами в руке.
— Что произошло? — спросила Алоиза. — Что случилось?
Прибежала и встревоженная Одилия. Эдмон не мог заставить себя заговорить. Он будто лишился дара речи. Одилия взяла у него из рук вилы, поставила их у стены за его спиной. Алоиза с ужасом взирала на сына, а тот смотрел на нее и ничего не видел, гнев блестел в его черных глазах, сотрясал его коренастое могучее тело, закованное в мышцы тяжелым трудом и полевыми работами. И в то же время она видела, как Франсуа исхудал, ослабел, он перестал светиться энергией, и она поняла, что их так отличало теперь: Франсуа, на склоне своей жизни, не мог вынести вида своей силы и своей молодости, уходящих в сына.
Одилия взяла мужа за руку и нежно с ним заговорила:
— Ничего страшного, не переживай, — шептала она ему.
Эдмон, казалось, начинал приходить в себя.
— Я мог его убить, — сказал он.
— Забудь, — перебила Алоиза. — Расскажи лучше, что произошло.
Эдмон несколько раз перевел взгляд с матери на жену и обратно, затем пробормотал:
— Всегда только упреки. У меня больше нет сил. Надо уходить, иначе это плохо кончится.
Он искал поддержки в глазах Одилии и нашел ее. Одилия была так напугана, видя его в подобном состоянии, что сейчас хотела только избежать самого худшего.
— Хорошо, мы уедем, — сказала она.
— Нет, — воспротивилась Алоиза, — подождите, я поговорю с ним, мы все уладим.
— Это уже невозможно, — произнес Эдмон, — я слишком долго терпел. Сегодня терпение лопнуло.
Алоиза искала слова, способные изменить решение Эдмона, и не могла ничего придумать, кроме последнего аргумента:
— Ваш уход убьет его.
— Нет, — возразил Эдмон, — ему никто, кроме него самого, не нужен.
— Надо быть более снисходительным, — попросила Алоиза.
— Снисходительным?! — вскрикнул Эдмон. — Да я терплю уже три года. Сегодня терпение кончилось. Вечером я сообщу ему об уходе.
— Нет, прошу тебя! — взмолилась Алоиза. — Подожди еще немного: несколько дней, до конца месяца. Нужно, чтобы я поговорила с ним и он все понял. Потом сделаешь, как сочтешь нужным.
Эдмон взглянул на Одилию и прошептал:
— До конца месяца, не дольше.
— Да, — сказала Алоиза, — договорились.
И, взяв руку Эдмона в свои руки, добавила:
— Спасибо, мой родной.
Оставив Эдмона и Одилию, она отправилась на поиски пропавшего Франсуа. Его не было ни в сарае с зерном, ни в сушилке для каштанов, ни на соседних полях. «Куда же он мог пойти по такому холоду?» — спрашивала она себя, возвращаясь в дом. И на пороге ей пришла в голову мысль написать Шарлю, чтобы он приехал в Пюльубьер. Он сможет поговорить с братом и отцом, и ему удастся их убедить. Она была в этом уверена.
Алоиза собралась сесть за письмо, как только немного отогреется. И когда она писала, к ней возвращалась надежда. Только Шарль мог образумить своего отца, отец прислушивался только к его мнению. Оставалось лишь надеяться, что обильный снегопад не помешает отыскать Шарля на вокзале в Мерлине. Для него, их сына, ставшего школьным учителем, Франсуа прошел бы километры и в худших условиях, и Алоиза знала об этом. Она торопливо дописала письмо и пошла отправлять его. Теперь надо будет постараться предотвратить новые ссоры до приезда Шарля. Женщина поклялась себе приложить к этому все усилия.
Уже больше недели в Матидже лили дожди. В нескольких километрах от дома был слышен рокот вади[8] Эль Харраш, сейчас он казался безумным. Матье не спал. Он слушал возле себя спокойное дыхание Марианны, но также и этот тревожный рокот с востока, оттуда, где древние болота были ниже всего, почти на уровне кровати.
Было четыре утра, когда Матье услышал зов со двора. Он поднялся и заметил Хосина, освещающего себя лампой.
— Надо идти, патрон, вода прибывает.
Матье быстро оделся, бесшумно, чтобы не разбудить Марианну и детей. На нижнем этаже он захватил куртку и вышел.
— Она перевалила за дамбу и прибывает, — сообщил Хосин, и Матье заметил тревогу на его лице.
Да, Хосин всегда немного побаивался Харраша. Без сомнения, ему уже когда-то приходилось видеть реку в ее самом яростном гневе, приходилось видеть, как она в несколько заходов захватывает низовья, которые должны были защищать сомнительные, наспех сооруженные дамбы. Матье часто думал о их укреплении, но никак не находил на это времени, и к тому же до сих пор Харраш никогда не пытался всерьез выйти из своих берегов.
Матье заметил впереди силуэты и остановился.
— Я разбудил мужчин, — сообщил Хосин.
— Правильное решение.
Чем ближе они подходили к вади, тем опаснее казался рокот воды. Вдруг Матье заметил, что идет по воде. Отсутствие луны сделало это открытие еще более пугающим, и феллахи, кажется, успели осознать происходящее до него. «Сколько отсюда до дома? — задумался Матье. — Пятьсот метров? Километр?» Он знал, что Харраш мог разлиться на три километра вокруг. Это означает, что он занял уже более двух километров земель и успел покрыть старые болота. Настоящая катастрофа для виноградников — их может полностью залить.
И затем вдруг Матье подумал о доме, о Марианне и о двух спокойно спящих сыновьях.
— Быстрей! — закричал Хосин.
За домом стояли трущобы феллахов, в которых обитали их семьи. Феллахи бросились со всех ног к своим жилищам под вновь хлынувшим дождем.
— Быстрей, берите мотыги! — кричал Матье.
Мужчины принялись набрасывать невысокий земляной вал в тридцати метрах от стен, которые, к счастью, стояли на самой высокой части берега. Но незначительная возвышенность в несколько квадратных метров не поднималась и на два метра от самого низкого уровня. И хижины находились на том же уровне.
Затем стали доноситься первые возгласы: женские, а затем и детские. Феллахи тут же бросили кирки и кинулись к своим лачугам, уже затапливаемым водой. Вокруг Матье царила паника. Он хотел отправить Хосина к феллахам, чтобы тот попытался исправить ситуацию:
— Все в дом!
Феллахи сдерживали воющих и бегающих в панике женщин, чтобы те ненароком не утонули. Когда они поняли, в чем состоит угроза, то принялись бежать с детьми на руках или толкая детей перед собой, к дому хозяина, где было спасение. Внизу, во внутреннем дворике, вскоре собралось более шестидесяти обезумевших людей, и Хосину никак не удавалось их успокоить. Сам Матье и присоединившаяся к нему Марианна пытались восстановить тишину, но, думая о приближающейся воде, спрашивали себя, не придется ли скоро пустить феллахов к себе на первый этаж.
Снаружи лил дождь, как лил он уже восемь дней кряду. Луны не было видно. Который мог быть час? Четыре часа? Пять? Матье попросил Марианну подняться в комнату мальчиков — их, несомненно, разбудил шум с улицы, — зажег лампу и вышел на крыльцо. Вода была уже у порога. Вдали, из окрестных ферм, доносились крики, и Матье переживал, не угрожает ли опасность также Роже Бартесу и его жене. Но чем он мог им помочь? Матье предупредил Марианну, что придется пустить на нижний этаж феллахов и их семьи, и она совсем не удивилась.
— Я отопру для них две комнаты в глубине коридора, — сказала она.
Это были две нежилые комнаты из четырех, находящихся на первом этаже. Матье вышел и с огромным трудом объяснил феллахам, что им можно зайти в дом. Они согласились, только когда заметили, что во дворик прибыла вода. Тогда феллахи устроились в коридоре и в комнатах, расселись на полу, поскольку всем не хватало места, чтобы лечь. Дети плакали, женщины причитали, а снаружи по-прежнему лил дождь.
Оставалось только ждать. Все оказались в плену у вод Харраша. Все могли только молиться, чтобы вода не поднялась больше чем на два метра, хоть в это слабо верилось. Однако на рассвете дождь все так же шел, и во дворике уровень воды стал выше на полметра. Из окна своей комнаты Матье видел затопленные земли, идущие от оранжереи по виноградникам, и виднелись только верхушки лоз. Он знал, к чему это приведет — паразиты разведутся повсюду, все покроется плесенью, мучнистой росой, грибком, несомненно, придется все выкапывать. На пшеничных же полях, приложив усилия, можно надеяться побороть паразитов. Надо верить в лучшее. Матье чувствовал, как изнеможение наполняет его, когда рука жены опустилась ему на плечо. Марианна произнесла с нежностью:
— Мы смогли вынести все, даже саранчу. В этот раз тоже выстоим.
Она не знала, что Матье с большим трудом выплачивал свои долги. Отогнав эту мысль, он подумал о сыновьях, и дух борьбы вернулся к нему — он сражался против стихий ради них. Для своих таких долгожданных детей Матье был готов побороть любое препятствие.
Паводок начал убывать через два дня. Два дня, в течение которых приходилось кормить шестьдесят человек, пребывавших в бесконечных волнениях и спорах даже ночью. Вода дошла до середины лестницы первого этажа, затем утром третьего дня начала спадать, и ее уход был таким же быстрым, как и приток. Дождь прекратился. Матиджа принимала понемногу свой привычный вид. Но кое-что в ней так и не восстановилось — когда ушла вода, от нее остался слой коричневой тины, местами достигающий тридцати сантиметров. Покрытые илом виноградные лозы казались мертвыми. Их попытались очистить, но скоро стало ясно, что это бесполезно, поскольку они пропитались влагой, и этого было достаточно для начала гниения. Надо было дождаться, пока все просохнет, ждать солнца, хотя небо все не прояснялось.
Несмотря на то что Роже Бартес и его жена Симона не пострадали во время потопа, их имение было также разрушено наводнением. Но они не отчаивались. Они помнили о саранче, о сирокко, о многочисленных преодоленных ими и другими земледельцами трудностях. Свой первый визит они нанесли Матье в тот день, когда ближе к полудню над блидийским Атласом засветило солнце. Свет был очень слабым, но этого было достаточно, чтобы просушить лозы и тину за несколько дней, на которые он задержался. Матиджа, казалось, изменилась за несколько минут. Она вновь была такой, какой они ее любили, несмотря на ее бури, ее неблагодарность. Итак, лицом к лицу, сидя за столом, Матье Бартелеми и Роже Бартес, успокоившись, стали говорить о планах на будущее.
Шарль приехал в Пюльубьер, как и просила мать, в первое воскресенье декабря. Он оставил Матильду в Ла-Рош, ведь Пьер был еще слишком мал для путешествий в такой колючий, сухой мороз, пришедший за первым снегом. Приехав, Шарль быстро убедил Эдмона не предпринимать ничего до нового года и пригласил Алоизу и Франсуа провести Рождество у него в доме, в Ла-Рош.
— Вы же не оставите нас одних на Рождество? — притворно возмутился Шарль в беседе с родителями.
Франсуа дал себя убедить, и утром 24 декабря они с Алоизой сели в поезд до Тюля, куда Шарль приехал на машине мэра забрать их. Хоть на улицах префектуры не лежал снег, его было предостаточно на плато, где находился Ла-Рош. Им понадобилось два часа, чтобы доехать до городка, затерянного на такой высоте, где все было покрыто белым: деревья, долины, поля и крыши домов. Только маковка церкви выделялась черной пикой, уходящей в серое небо над казавшимся безлюдным городишком, и в это небо безропотно уносилось сбитое с толку ветром воронье.
Шарль заметил, как растрогался отец, входя на школьный двор впервые за такое долгое время, а затем в их с Матильдой и Пьером квартиру. Для Франсуа было честью быть принятым на несколько дней в этом жилище, выглядящем в его глазах бесконечной роскошью. Он втайне гордился этим, эти места были для него показателем достижений собственного сына и немного его собственных. Алоиза и Франсуа устроились в маленькой комнате, где обычно спал Пьер, а его на пару дней переместили на матрас в родительскую комнату.
Готовя рождественский ужин, они болтали о том о сем, потом, около шести, Шарль спросил у отца:
— Хочешь посмотреть классы?
— Да, очень хочу.
Алоиза сослалась на холод и отказалась присоединиться к ним. Она знала, что Шарль воспользуется этим осмотром, чтобы поговорить с отцом. Мужчины спустились на первый этаж и вошли в класс, где, конечно же, стоял пробирающий до костей холод.
— Я растоплю печь, у нас много времени, — сказал Шарль.
Пока он возился с печью, Франсуа ходил взад-вперед между рядами. Наконец он уселся за парту, лицом к доске, затем поднялся и пошел к столу. И там он увидел, что Шарль, закончив разжигать огонь, спускается к нему.
— Садись, — сказал Шарль.
— Нет, нет, нет, — ответил Франсуа.
— Почему же?
— У меня нет на это права, — сказал Франсуа.
— Есть, это же мой класс.
— Ты думаешь, я правда могу?
— Ну да, конечно же.
Франсуа не решался еще мгновение, потом отодвинул стул и медленно и осторожно сел лицом к пустому классу. Он долго ничего не говорил, затем пробормотал:
— Знал бы ты, малыш, как много это значит для меня.
— Догадываюсь, — сказал Шарль, садясь за парту в двух шагах от отца.
— Я бы тоже очень хотел этого на твоем месте.
Франсуа вздохнул.
— А вместо этого отлучен от школы с двенадцати лет, чтобы жить на ферме.
Он пожал плечами, добавив:
— Ты хотя бы в итоге добился желаемого.
Шарль глядел на этого человека, своего отца, худеющего на глазах, кожа да кости, который сражался всю жизнь за то, чтобы дети были счастливее его, и вдруг почувствовал, что не в силах хоть в чем-нибудь его упрекнуть. Хотя именно для этого он и пригласил Франсуа сюда, в Ла-Рош, на Рождество. Но в чем он мог упрекнуть этого человека? Это же благодаря ему они оба были здесь сегодня. Именно потому, что он слишком много работал, слишком страдал, его непреклонному, но любимому отцу (Шарль не сомневался в этом) придется умереть до срока. Что он мог сказать ему? Как упрекнуть его во владении браздами правления в семье, в нежелании разделить с кем-то имение, которое он сохранял, прилагая к этому огромные усилия?
Теперь Франсуа нерешительно дотрагивался до длинной деревянной линейки, до перьевой ручки, до чернильницы, окрашенной на дне красными чернилами, и не мог поднять головы от этих сокровищ. Тронутый не меньше его, Шарль подошел к печи, без надобности открыл заслонку и пошевелил весело горящие поленца.
— Я знаю, зачем ты нас пригласил, — тихо обратился к нему Франсуа.
Шарль притворился, что кладет книгу под крышку парты, а потом подошел к столу, не глядя на отца.
— Я понимаю, что ты прав, — продолжал Франсуа. — Но это сильнее меня.
— Да, — произнес Шарль, — я уверен, что это так…
— И все-таки, видишь, здесь, за этим столом, сегодня вечером мне кажется, что я не так все себе представляю. Не знаю, как тебе объяснить…
Франсуа вздохнул и продолжил:
— Это словно я победил, понимаешь?
— Конечно понимаю.
Наступило продолжительное молчание, во время которого взгляды отца и сына наконец пересеклись.
— Я только что осознал, что мой труд закончен, — произнес Франсуа.
— Нет, не говори так… Речь совсем не об этом.
— Об этом. Ты и сам знаешь.
— Нужно просто предоставить Эдмону больше свободы в действиях.
— Позволить ему отдавать указания в моем доме?
— Нет, просто больше к нему прислушиваться, вот и все.
— Слушать его как хозяина?
И еще более скорбным голосом Франсуа добавил:
— Я слишком долго был слугой, чтобы снова стать им в моем возрасте.
— Так вот в чем дело! Да об этом и речи не идет! — запротестовал Шарль.
— Для меня как раз только в этом.
И снова воцарилась тишина. Некоторое время было слышно только ворчание печи.
— Во всяком случае, это был единственный вопрос до сегодняшнего вечера, — вновь заговорил Франсуа. — Но теперь, здесь, сидя за этим столом, я все вижу совсем по-другому.
И Франсуа неожиданно смолк, в глазах его читалась растерянность.
— Ты сделал для своих детей намного больше, чем кто бы то ни было, — сказал Шарль. — Подумай только! Я стал директором школы, Луиза станет медсестрой, а Эдмон только и мечтал, чтобы работать на земле. Ты же не хочешь в такой благоприятный момент вынуждать его идти в рабочие?
— Нет, — задумчиво ответил Франсуа. — Не волнуйся. Здесь, сегодняшним вечером я многое понял.
Они замолчали. Все было сказано. Но они еще долго сидели в классе, Франсуа рассматривал карты на стенах, маленькую библиотеку, а потом они вернулись в комнаты. О том, чтобы пойти на полуночную мессу, не могло быть и речи, поскольку нельзя было оставить Пьера без присмотра. Поэтому в тот вечер они рано уселись за рождественский ужин в маленькой школьной кухне-столовой. Франсуа рассказывал о старых рождественских традициях Пюльубьера, когда они ездили на повозке в Сен-Винсен. Он выглядел оживленным, будто сбросившим тяжкий груз. Алоиза несколько раз встречалась глазами с Шарлем, но поговорить наедине они смогли только утром следующего дня.
— Все будет хорошо, — сообщил он ей, когда Франсуа вышел на небольшую прогулку. — Все наладится.
— Ты в этом уверен?
— Абсолютно.
В Ла-Рош Франсуа и Алоиза остались не на два, а на четыре дня, поскольку снегопад не прекращался. Он закончился только к концу недели, и Шарль наконец смог отвезти отца и мать в Тюль, чтобы посадить их на поезд. Хотя на дорогах снег немного подтаял, деревья стояли все в белом.
— Это первое наше Рождество вдали от дома, — заметила Алоиза, восседая на заднем сиденье.
— Надо будет обязательно вернуться, — произнес Франсуа. — Все пойдет на лад, — продолжал он, глядя на солнечные лучи, наконец-то пробившиеся из-за туч у подножия холмов.
На вокзале Шарль помог родителям сесть в поезд, подождал его отправления и только потом покинул вокзал. Отец подбадривающе улыбнулся ему, прежде чем исчезнуть в вагоне, и эта улыбка стояла у Шарля перед глазами всю дорогу обратно в Ла-Рош, вселяя уверенность, что этот день принес всем много счастливых моментов.
Радости стало еще больше, когда перед сном, поздно вечером, Матильда сообщила ему, что ждет второго ребенка.
— Ты уверена? — спросил Шарль с легким удивлением.
— Ну конечно, я ждала полной уверенности, чтобы рассказать тебе эту новость.
— Это будет девочка?
— Возможно.
Но она тут же добавила:
— А может быть, и мальчик.
Шарль взял жену за руки, исполнил несколько танцевальных па, остановился, все еще прижимая ее к себе, глядя на снег за окном. Ему казалось, что снег падал, чтобы еще больше оградить их счастье, в котором они остались сейчас наедине, на долгие дни до начала занятий.
8
В начале мая 1951 года Элиза поручила Люси подыскать новых жильцов для замка Буассьер, поскольку люди, жившие в нем ранее и поддерживавшие там порядок, недавно скончались. Люси отнеслась к выполнению задачи с большим усердием, поскольку в замок она не возвращалась со времени своего недолгого брака с Норбером де Буассьером, оборвавшегося трагически тридцать лет тому. Женщина испытывала странную смесь желания помочь и любопытства: найдет ли она там вновь все то, что очаровало когда-то ту молоденькую девочку, которой она была, ничего не знающую о порядке в замке, о его нравах и обитателях? Люси жаждала узнать, остались ли в этих местах пережитки той прошлой жизни, и особенно ей хотелось увидеть тени тех, кто населял этот замок раньше, вернуться в прошлое в воспоминаниях, где еще теплились былые впечатления и были живы прежние волнения.
Люси отправилась в путь ночью, прибыла в Пюльубьер в девять часов утра, там провела все утро в компании Алоизы, позавтракала в ее доме, несмотря на свое нетерпение. За завтраком семья была почти в полном составе: Франсуа и Алоиза, конечно же, но также Эдмон и Одилия с сыном. Как и всегда, Люси было приятно находиться в родительском доме, куда она так часто убегала от парижских хлопот, от одолевающих ее и дочь трудностей послевоенного времени.
Во второй половине дня Франсуа отвез сестру в Борт, к нотариусу, у которого хранились ключи от замка. Господин Клавир вернул ключи, заметив, что здание сильно обветшало, его запустили предыдущие хозяева, поскольку, старея и слабея, они вынуждены были понемногу отказываться от возложенных на них обязанностей по причине ухудшающегося здоровья.
— Я не ставил вопрос о смене обитателей замка, — заметил нотариус. — Однажды я направил вашей дочери письмо с пояснением ситуации, но ответа так и не получил.
— Вы все сделали правильно, — заметила Люси.
Они с Франсуа направились в замок, не подозревая даже, насколько слова нотариуса о запустении окажутся недалеки от истины. Это стало ясно, как только они отодвинули решетку: в огромном, совершенно заброшенном парке ничего не осталось от огромных цветочных клумб прежних времен. Вместо них во дворе буйствовали ежевика и сорные травы, простираясь до самого крыльца. На заднем дворе дела обстояли еще хуже: с содроганием сердца Люси заметила, что из огромных величественных деревьев времен ее молодости выжить удалось только нескольким дубам, опоясанным плющом, и некоторые их ветви жалко свисали, поломанные многочисленными ураганами, выпавшими на их долю. Бассейн в форме огромной ванной был наполовину разрушен, аллеи испещрены выбоинами, их бордюрные камни округлой формы были перекинуты набок каким-то недоброжелателем.
На самом здании, там, где на ставнях облупилась краска, образовались разъедающие древесину наросты плесени, а на крыше обвалились оба дымохода. Угловые камни крыши обломились, никем не подобранная черепица валялась на земле. Все решетки и кованые ограды покрывала ржавчина, свидетельствующая о длительном запустении.
Однако сердце Луизы трепетно забилось, когда она поднималась по ступеням крыльца и открывала огромную входную дверь. Пока Франсуа оглядывал нижние комнаты, она поднялась наверх, в спальню, когда-то занимаемую Норбером, ту, в которой он впервые заключил ее в свои объятия. Она вдруг вновь почувствовала себя шестнадцатилетней девушкой: ее захлестнула, выбила из равновесия сильнейшая волна смешанного ощущения счастья и отчаяния. Все осталось нетронутым: кровать из орехового дерева, ночные столики в стиле ампир, покрытые золотыми звездами, секретер, обитый красным деревом, венецианское зеркало, красно-бордовый ковер, стеклянная люстра, двухстворчатое окно, выходящее в парк. Женщина закрыла глаза и услышала знакомый шепот:
«Скажите, как вас зовут?»
— Люси, — ответила она шепотом.
«Вы давно здесь?»
— Почти пять месяцев.
Ей казалось, что Норбер кладет свои руки ей на плечи, и стало ясно, что она жила все это время только ради него, для того, чтобы найти его однажды, так или иначе воссоединиться с ним, вопреки пространству и времени. С этого момента Люси решила, что будет отныне приезжать сюда на несколько месяцев каждый год, чтобы оживлять в себе эти яркие чувства, оставшиеся для нее в прошлом.
Ее окликнули с крыльца: Франсуа переживал, почему ее нигде не слышно. Люси спустилась к брату. Они вновь вдвоем обошли парк, и, глядя на эти удручающие виды, Люси вдруг очень захотелось уехать прочь. В машине они пришли к общему выводу: нужно срочно что-то предпринять, иначе имение и замок будут бесповоротно разрушены. Они снова нанесли визит нотариусу, и тот, стараясь не делать намеков на длительное пренебрежение замком как его хозяев, так и обитателей, объявил, что он взял инициативу в свои руки и отыскал одну чету из городишка, у которой не осталось больше средств к существованию, согласившуюся взять на себя обязанности по сохранению и восстановлению замка при условии бесплатного проживания в нем. Их звали Жорж и Ноэми Жоншер, и они могли переехать немедленно. Люси договорилась встретиться с ними во дворце на следующий же день.
Она прибыла на встречу в компании нотариуса, — Франсуа в этот раз был занят делами, — и сама встретила чету, которая сразу же расположила ее к себе. Жена была маленькой и крепко сбитой, с белоснежными волосами, но темным, полным энергии взглядом; муж — намного крупнее ее, крепкого телосложения, курносый; он создавал впечатление очень решительного человека. Сложность поставленной задачи не пугала их. Таким образом, Люси и супруги Жоншер условились, что они могут переезжать, как только пожелают, и чем раньше, тем лучше. Будущие жильцы уехали в машине адвоката, и Люси осталась одна в замке, ожидая Франсуа. Он обещал заехать за ней ближе к вечеру.
Она не чувствовала одиночества. Женщина даже запланировала эти час или два, чтобы побыть одной, вернуться мыслями в прошлое, вероятно, в самую лучшую часть своей жизни. Люси села у крыльца, где когда-то по большим августовским праздникам лицедействовали скрипачи, и, закрыв глаза, увидела перед собой женщин в самых нарядных туалетах, мужчин в сюртуках и фраках, припаркованные в конце аллеи машины. Она ощутила запах сигарет и пачули, услышала звуки музыки, еще едва знакомой ей, и, как тогда казалось, перед ней неожиданно стали открываться двери в фантастические миры. Люси долго сидела, глядя в одну точку, а затем обошла замок, остановилась у бассейна, в тени величественных, но запущенных и страдающих деревьев; пробралась в конюшню, где все еще был слышен запах конского навоза и соломенных подстилок; вспомнила день, когда на нее здесь набросился кучер, и поспешила выйти, как будто тени в углах могли таить в себе новую опасность.
Думая об ушедшем времени, Люси вновь обошла парк, а затем вошла в замок. Со вчерашнего дня она поняла, чего ей недоставало. И сейчас вновь обдумывала решение, принятое накануне. Она поднялась на второй этаж, зашла в комнату Норбера, стала осматривать предметы, мебель, принадлежавшую ему когда-то, затем растянулась на кровати, куда он бережно уложил ее тогда, в первый раз, так нежно и властно одновременно. Она почувствовала его присутствие, как в тот день; его руки касались ее тела; и в этот миг утратило значение все, кроме мыслей об усопшем мужчине, чей запах, тепло рук, дыхание возле ее лица, его власть над ней вновь ощущались ею здесь так отчетливо и живо, что сознание оставило ее.
Придя в себя, Люси поняла, что из глаз ее льются слезы. Она не знала, было ли это от вновь обретенного мимолетного счастья или от осознания своей потери. Обе причины, без сомнения, были верны. Но мысль о том, что она могла бы спать на этой кровати каждый раз, приезжая в замок, будила в ней странное чувство, очень схожее со счастьем.
Однажды июльским утром, когда Шарль с Матильдой готовились закрыть школу и направиться в Пюльубьер, их сын Пьер не смог подняться с кровати. У него очень болело горло, он с трудом глотал и жаловался на головные боли. Шарль отправился за доктором, но того не было на месте — он уехал по вызову на окрестные фермы. Вернулся он только к полудню. Ожидая его, Матильда все утро оставалась подле Пьера, охваченная сильной тревогой, думая, что, если его болезнь окажется заразной, ей нужно бы поберечь второго сына, Жака, родившегося два года назад. Она никак не могла решиться и ожидала только врача, немного успокоенная словами Шарля, что это обыкновенная ангина.
Старый врач Ла-Роша приехал в школу сразу же после своего возвращения в деревню, даже не пообедав. Это был невозмутимый старичок, имеющий постоянный доход от ежедневных вызовов к умирающим столетним крестьянам, не доверяющим традиционной медицине. Часто, когда его звали, было уже слишком поздно. Ему доводилось делать то, что было еще в его силах: смягчать страдания, к которым люди привыкли здесь, в горах, вдали от комфортной жизни.
Конечно, у Шарля и Матильды Бартелеми был совсем другой случай, они вызывали старого доктора при каждой детской болезни сыновей. Ведя бесконечный бой против столетних привычек и прибегая к «колдовству» в борьбе с болезнями и несчастьем, они стали хорошими друзьями.
— Что с нашим малышом на этот раз? — спросил врач, готовясь осмотреть Пьера и приближаясь к его кровати.
Ребенок был весь в поту, с трудом сглатывал слюну и едва мог говорить.
— Какая температура? — обратился врач к Матильде.
— Тридцать девять.
Матильда стояла возле Шарля, за спиной у доктора, удивляясь его хмурому лицу и требованию исследовать горло малыша ложечкой. Затем он прощупал горло и затылок ребенка и недовольное выражение его лица не ускользнуло от супругов.
— Это ангина? — спросил Шарль.
— Хотел бы я быть в этом уверен, — ответил врач, уложив ребенка в постель. — Скажите мне его точный возраст.
— Пять лет.
— А Жаку?
— Два года, — ответила Матильда.
И тут же тревожно добавила:
— А почему вы спросили об этом?
— Потому что их нужно изолировать друг от друга.
Матильда почувствовала, как подкашиваются ноги, оперлась на руку Шарля и спросила:
— Почему? Что случилось?
Врач ответил не сразу. Он уложил стетоскоп в футляр, поднялся, сделал им знак следовать за ним в кухню, где открыл свои опасения:
— Я еще не совсем уверен, но есть подозрение, что это дифтерия.
— Нет, это невозможно, — запротестовала Матильда.
— Увы! Здесь она случается довольно часто.
Оправившись от шока, Шарль поинтересовался:
— Что мы должны делать?
— Я бы советовал изолировать малыша. Так безопаснее. Надо доверить его какой-нибудь бездетной семье, например.
— Моим родителям в Усселе? — предложила Матильда.
— Да, почему бы и нет. Но выезжайте сегодня же.
— Я отвезу его, — сказал Шарль.
— А для Пьера, если это действительно то, что я подозреваю, антибиотики и изоляция на тридцать дней.
— Его нужно госпитализировать? — в отчаянии спросила Матильда.
— Нет. Не прямо сейчас. Он может быть источником заражения. Но если в домашних условиях не справимся, возможно, придется так и поступить.
Все знали, что эта болезнь все еще иногда имела летальный исход в детском возрасте, несмотря на прогресс в развитии послевоенной медицины.
— Я зайду вечером, — произнес врач, — но отвезите быстрее младшего сына в Уссель, так будет лучше.
Как только врач ушел, Шарль отправился к мэру одолжить его автомобиль, и тот позаимствовал его с радостью, ибо ни в чем не мог отказать своему секретарю. Матильда осталась наедине со старшим сыном, терзаемая мыслью о предстоящей долгой разлуке с Жаком, с которым не расставалась надолго со дня его рождения. Так как в Ла-Рош не было аптеки, Шарлю приходилось ездить за лекарствами в Уссель. Ожидая мужа и доктора, Матильда сидела у изголовья больного ребенка и с ужасом наблюдала за его тяжелым дыханием, поднимала его, чтобы облегчить страдания, протирала ему лоб, считала часы до возвращения Шарля. В тот день он не вернулся до сумерек. К счастью, врач опередил его.
Доктор зашел навестить больного, как и обещал. С хмурым видом он сделал ребенку укол и ушел, как показалось Матильде, в сильном беспокойстве. И она снова осталась наедине с тревогой, слушая, как трудно дышать ее сынишке, чувствуя, что в ее жизни начинается самый сложный этап. Даже приезд Шарля в десять вечера не уменьшил ощущения опасности, страха возможной потери ребенка, уже зарождавшегося в сознании и еще усиливаемого найденной в журнале статьей о тревожных показателях смертности во Франции из-за дифтерии в послевоенный период.
В первую ночь, расположившись на стульях по обе стороны кровати, Шарль и Матильда не смыкая глаз следили за Пьером, слушали его тяжелое дыхание, усаживали его, затем снова клали в постель, вытирали лоб, с точностью соблюдали прописанные врачом указания о приеме лекарств. Врач взял за правило наведываться в их дом по три раза на день.
В последующие ночи, устав до изнеможения, они договорились спать по очереди, но одиночество в темноте и тишине было невыносимым. Особенно тяжело приходилось Матильде, сильно скучавшей по своему второму сыну, и в эти тревожные моменты, когда Пьер начинал задыхаться, она вскакивала, хватала его на руки в молчаливом призыве, и ее наполнял страх намного больший, чем пережитый за все время войны. Тогда она бежала в комнату к Шарлю и умоляла его побыть с ней. И они снова оставались бок о бок у кровати сына, не в состоянии даже заговорить.
Дни шли, и заключения врача были все менее оптимистичны. Однажды ночью, ближе к двум часам, Шарлю и Матильде показалось, что их сын умирает от удушья, и решено было положить его в больницу. Снова пришлось просить машину у мэра и отправляться туда, где риск обострения еще более увеличивался. Приняв решение, на следующий вечер они также засыпали рядом с сыном, но уже в номере отеля, находящегося возле больницы.
Прошло две недели, а болезнь все не отступала. Силы Пьера, как и у Шарля с Матильдой, были на исходе. Наступил ужасный день — понедельник, Шарлю с Матильдой никогда его не забыть. Медсестры и врач не покидали палату их ребенка. Два раза Пьера считали мертвым, но затем удавалось привести его в чувство. К вечеру приступы прекратились. Следующей ночью было только два приступа удушья. А утром ребенок открыл глаза.
— Если так будет продолжаться, — сказал врач, лечивший Пьера со дня его прибытия, — может быть, ему станет легче.
Шарль и Матильда не очень верили в это, во всяком случае, не верили, что ребенок сможет быстро поправиться. Но Пьеру дышалось уже легче. Казалось, температура начала спадать. Следующей ночью он просыпался только один раз. Затем температура резко понизилась. Они выиграли бой, но какой ценой: Пьер исхудал до невозможности, его лицо казалось обглоданным болезнью. Матильда и Шарль не стояли на ногах после этих бессонных ночей, от измотавшей их тревоги, заставившей забыть обо всем, что существовало вокруг, — о школе, о Пюльубьере, об ожидавшем их отпуске.
Через неделю они отбыли в Тюль с целым и невредимым Пьером, не осмеливаясь верить, что этот кошмар наконец-то закончился. Однако же лето царило в высоких холмах — лето, тепло, свет и вечернюю негу которого им было некогда заметить раньше. Им казалось, что мир был так же прекрасен, как и всегда, но лето придавало ему особую прелесть. Вернувшись в Пюльубьер, вновь забрав домой Жака и любуясь зеленью высокогорья, они прожили эту августовскую пору в непроходящем ощущении нависшей опасности. Несмотря на красоту елей под удивительно глубокими небесами, несмотря на радушный прием Франсуа и его семьи, они знали теперь, что даже без войны вокруг было множество угроз, о которых они так легкомысленно забывали.
— Мы постарели, — однажды вечером признался Шарль, когда они брели по дороге из Сен-Винсена, под оживленный шорох листьев в порывах ветра, разгоняющего обеденную жару.
— Да, — вздохнула Матильда, — мы состарились.
А проходя под грандиозным навесом из великолепных буков, в которых играли уходящие лучи солнца, добавила едва слышно:
— Совсем не годы приносят старость, а страдания, которые мы испытываем.
Франсуа давно пообещал Алоизе взять ее с собой куда-нибудь далеко. Хотя бы однажды в своей жизни ей стоит увидеть что-то, кроме лесов плоскогорья. Ему никак не удавалось выполнить это обещание, поскольку не позволяла работа, и к тому же путешествия требовали непозволительных затрат. Однако этой осенью Франсуа понял, что пришло время исполнять обещанное. Ему было пятьдесят девять, а ей пятьдесят восемь. Он боялся, что потом сил может уже не найтись.
Когда они упомянули о своем путешествии в компании всей семьи, Шарль поинтересовался:
— Куда вы собираетесь поехать?
— Я всегда мечтала увидеть море, — ответила Алоиза.
— Море или океан?
— Океан, знаешь, со стороны Бордо.
— Там, куда уходили наши лодочники по Дордони, — добавил Франсуа.
Бог знает, как часто Франсуа и Алоиза обсуждали это путешествие к океану, настолько часто, что теперь уже и не знали, не побывали ли там однажды? И так ли уж сильно им этого хотелось? Может, Франсуа и не так сильно, но вот Алоизе точно хотелось. Никогда не покидавшая пределов Пюльубьера, она думала об этих местах как о невероятно огромной, слишком прекрасной, чтобы навеки остаться недостижимой, вселенной. Женщине казалось, что в ее столетней жизни оставалось нечто недоделанное, какая-то брешь, мир был известен ей лишь по рассказам других, но оставалась разверзшаяся пропасть того непознанного, что было намного больше, шире. Один только вид его раскрасит ярко ее существование, в котором единственным контуром горизонта раньше были лишь верхушки леса вдали.
Когда Шарль предложил поехать с ними, Франсуа принял предложение. Он не чувствовал в себе сил взяться за организацию всей поездки, опасался трудностей, которые ожидали их в этом, по его мнению, принимающем устрашающие размеры путешествии. Он покидал плоскогорье лишь при трагических обстоятельствах, когда уходил на войну. У Франсуа сложилось впечатление, что там, вне Пюльубьера, он натолкнется на ту же угрозу или на те же опасные для жизни условия. Такие мысли были абсурдны, он сам знал это, но нельзя прожить долгие годы вдали от мира и не трепетать перед ожидаемой встречей с ним. Поэтому он с облегчением принял предложение Шарля сопровождать их во время поездки к океану, о которой Алоиза всегда говорила с особым ярким светом глаз, загорающимся вдруг в углах их лавандовых вселенных.
Эдмон отвез их на вокзал в Мерлин однажды утром, в понедельник, в сентябре, в такое время, когда первая рассветная свежесть уже предвещала наступление осени. Там они сели на поезд до Браива, а затем до Бордо, куда приехали после полудня. Шарль радовался, что поехал с родителями. Они так переживали, так беспокоились в купе поезда, что он удивлялся, как они собирались сами уезжать далеко от дома. Кроме того, он был счастлив сопровождать их в этом единственном путешествии их жизни, и он знал, чем эта дорога была для них: доказательством, что жизнь не такая маленькая, как они могли подумать, и не такая узкая и что, может быть, она еще не заканчивается. Жизнь, в которой они были еще в силах изменить что-то к лучшему, увеличить что-то, потому что работа, ежедневный тяжкий труд, пригибавший их к земле, к сожалению, не расширял горизонты. Мир, над которым стоишь склонившись, уменьшается для стариков с каждым днем.
После привала на вокзальном дворе они сели в поезд по направлению к Аркашону, куда прибыли в пять часов пополудни. С вокзала еще нельзя было увидеть океан, его огромные водные просторы. Из маленького отеля, обнаруженного ими как раз напротив вокзала, также не было видно воды. Но как только они отнесли багаж и передохнули несколько минут, Шарль предложил направиться к берегу, больше не мешкая.
Они дошли до центра города, затем свернули вправо, на улицу, спускающуюся к пляжу. Франсуа взял Алоизу под руку, Шарль шел впереди, время от времени оборачиваясь к ним. Пройдя не больше пятидесяти шагов, они добрались до синей гавани, открывшейся перед ними, уходящей в небо, за светлый горизонт, невероятной голубизной.
— Смотри! — произнес Шарль, оборачиваясь к матери.
— Куда?
— Там, впереди, смотри.
Алоиза напрягла зрение и увидела подвижную гладь воды, но невозможность измерить величину открывшегося перед ней пейзажа была новой и необыкновенной.
— Иди сюда, быстрее, — позвал Шарль.
Через несколько минут они подошли к краю дамбы, покрытой водой прилива, и вдруг перед Франсуа и Алоизой открылась гавань, и они застыли на месте, потрясенные невероятной широтой разлива воды, ограниченной только горизонтом там, в стороне мыса Феррет, белым клочком земли, обросшим соснами, отделяющим гавань от океана.
— Боже мой! — пошатываясь, воскликнула Алоиза. — Как он огромен!
Она улыбалась, все еще поддерживаемая Франсуа под руку, ему же уже доводилось видеть океан в 1916 году. Они присели на скамью, лицом к воде, источавшей запах водорослей, соли и горячего песка. Шарль, желая оставить их одних, прошелся до края дамбы, где ловили рыбу люди, такие же смуглые от солнца, как и крестьяне. Он был растроган, видя своих родителей на отдыхе первый раз в их жизни, но не хотел выдавать своих чувств. Понаблюдав немного за рыбаками, он стал возвращаться. Франсуа с Алоизой не сдвинулись с места. Их словно заворожило сияние неба и воды, и они глядели прямо на солнце, которое садилось за горизонт, окрашивая рябь моря в кровавый цвет, а вдали, казалось, безуспешно пытались скрыться огромные белые птицы.
Шарль вернулся к родителям и предложил им пройтись вдоль берега до конца пляжа. Они поднялись и проследовали за ним по полосе набережной, разделяющей пляж и крупные здания отелей с зелеными ставнями.
— Как он огромен! — все время повторяла Алоиза.
На пляже еще оставались купальщики, устроившиеся на узенькой полоске белоснежного песка, там, где скопились черные водоросли у края воды. В лицо дул морской ветер, и был он таким свежим и живым, что оставлял тонкую пленку соли на губах.
Остановившись, Алоиза поинтересовалась:
— А океан, он еще огромнее?
— Намного огромнее, — уверил ее Шарль. — Мы завтра пойдем посмотреть, сама увидишь.
Она все улыбалась, ослепленная этой неизведанной вселенной, удивленная, что сейчас ничем не занята, наслаждаясь праздными объятиями с Франсуа, ведь дома они всегда были слишком заняты и минуты счастья приходили так редко. В то же время ей было немного совестно, что она забросила сейчас работу и напоминала в эти мгновения, пусть даже совсем чуть-чуть, этих прохожих, которых ничто не заботило, ни одно дело не торопило домой. Франсуа и Алоиза также обнаружили роскошь легкой одежды, спортивных машин на улицах, примыкающих к отелям, где на крыльце посетителей ожидали швейцары в красных костюмах. Супруги испытывали легкое опьянение от новых ощущений и гуляли так до ночи, совсем не разговаривая, чтобы полнее воспользоваться этой передышкой в их жизни, как и все простые люди, знающие, что такие моменты не длятся долго.
Поужинав, утомленные переездом и еще во власти чар увиденного и пережитого, Алоиза и Франсуа направились прямиком к кровати и тут же уснули, тогда как Шарль отправился узнавать у владельца гостиницы, как добраться до пляжа, выходящего прямо на океан. Тот сказал, что завтра собирался в Бискарос и мог бы с утра довезти их до огромного пляжа Пти-Нис, сразу за Лё Пиля, и забрать их оттуда ближе к вечеру. Шарль тут же принял предложение радушного хозяина, который, казалось, старался сделать все возможное для своих постояльцев.
Таким образом, на следующий день в десять утра они выехали на черном автомобиле хозяина, и на секунду Шарля охватили неприятные воспоминания. Он сидел впереди, Франсуа и Алоиза сзади. Во все глаза они смотрели на дорогу, врезающуюся в сосновый бор, где местами среди деревьев просматривалась синева гавани. Дальше хозяин показал им справа большую дюну Пиля, затем машина начала спускаться во все редеющий лес. Через два километра они остановились. Справа от дороги отходила песчаная дорожка, ведущая прямо через сосновый бор.
— Идите по этой дорожке, — сказал хозяин, — и выйдете к большому пляжу. Я вас подберу вечером на этом же месте.
Он уехал, помахав рукой на прощание, а Шарль, Франсуа и Алоиза зашагали по песчаной дорожке среди душистых сентябрьских утренних сосен. Погода стояла отменная, пройтись среди пахнущих смолой деревьев, прячась в их тени, лишь кое-где зияющей пятнышками от солнечных лучей, было одно удовольствие. Шарль шел впереди, будто показывая дорогу.
Вскоре за ветвями стал различим синий блеск, а затем неожиданно лужайка открыла перед ними бесконечность, которая, казалось, сливалась с небом. Высокие волны с белыми гребнями разбивались о пляж, простирающийся куда хватало глаз. Все казалось обширным, диким, необжитым, но больше всего впечатлял шум океана, бьющегося о незапятнанный белый песок.
— Боже мой! — вырвалось у Алоизы.
— Пойдем спустимся к воде, — предложил Шарль.
Она не решалась, с трудом держась на ногах, как и накануне, повисла на руке Франсуа. Тот также, казалось, был потрясен этой бесконечностью и подозревал ее необузданную силу. Тем временем они спустились и подошли к океану, несмотря на хорошую погоду, бушующему, будто кто-то держал в неволе землю, песок и воду в этом месте. Шарль тоже взял маму за руку. Так они и шли вперед, все втроем, на грани воды, к безграничному горизонту, во власти шума и света. Они не смогли уйти далеко. Алоизе потребовалось присесть. Они надолго застыли неподвижно, лицом обращенные к океану, о котором она так мечтала и которого сегодня побаивалась, или по крайней мере чувствовала себя в сравнении с ним слишком незначительной. Лес никогда не давал такого ощущения.
Они шли все в том же направлении, но вдруг Алоиза резко остановилась.
— Он слишком большой, — вымолвила она.
Она почувствовала странное недомогание, заставившее ее еще больше опереться на руки мужчин, и улыбнулась, извиняясь за свою слабость. Шарль отвел родителей к соснам, чтобы передохнуть в тени. Они присели в роще, защищаясь от яркого неба и блеска воды, и Алоизе тут же полегчало. Здесь меньше слышался шум океана, только звук, напоминающий глухое размеренное дыхание, который, скорее, обнадеживал, поскольку вокруг не было видно ни души. Это были дикие места, оставленные людьми, и здесь в яростной битве без отдыха сходились вода, земля и небо.
Путешественники позавтракали в этой прохладной тени тем, что заботливо уложил им в корзинку хозяин гостиницы. Во время завтрака Шарль разглядывал родителей, которые за пределами своей вселенной превратились в беспомощных детей, не понимающих, счастливы ли они оттого, что мечта исполнилась, или же страдают, что у них больше нет мечты, заветной мечты всей их жизни. Однако Алоиза теперь улыбалась. Она оглядывалась временами на океан и, кивая головой, произносила:
— Как он прекрасен.
И они не знали, как назвать свое теперешнее ощущение — страданием или счастьем. Франсуа же больше любовался Алоизой, чем океаном. Он все искал доказательства счастья, которого так ей желал. Но ни у него, ни у нее не хватало слов, чтобы описать их подлинные чувства.
— Мы будем часто вспоминать об этом месте, — просто сказала Алоиза, закончив есть, будто бы отправляя уже в прошлое этот не успевший закончиться день.
Она сидела рядом с Франсуа. Оба были в одежде из грубого крестьянского сукна, неуклюжими жестами передавали свои эмоции, и со слезами на глазах Шарль видел, насколько эти мужчина и женщина принадлежали только одной местности — плоскогорью, с которого пришли. Они обнаружили, что не смогли бы жить в любом другом месте, как выкопанные из земли цветы не могут прижиться вдали от родных мест. Этот фатализм было больно осознавать, но они еще раз порадовались, что им все-таки удалось осуществить это путешествие в страну их снов.
После пикника Франсуа вздремнул, опершись на ствол дерева. Шарль с Алоизой немного прогулялись в глубь рощи. Ему казалось, что так ее волнение немного утихнет. Она постепенно привыкала к безграничности окружающих просторов, так потрясших ее сегодня утром. Алоиза захотела вернуться на опушку и присела в тени, но в этот раз лицом к океану.
— Никогда не могла себе представить, — пробормотала она, — что где-то может быть столько воды. Я знала, что он огромный, но не могла по-настоящему вообразить себе величественность нашего мира. Я чувствую себя совсем крошечной, понимаешь? А с другой стороны, я говорю себе, что если бы я умерла, не увидев всей этой воды, то ушла бы без всего, что необходимо иметь внутри, не подготовленная, в ту жизнь, которая будет не меньше, чем Океан, а может, даже и больше…
И, повернувшись к Шарлю, добавила:
— Спасибо.
Она не произнесла больше ни слова. Они оставались там, бок о бок, вызывая перед глазами подвижные образы, которые, казалось, длятся целую вечность, а затем Франсуа присоединился к ним. Они терпеливо ждали часа отъезда, в тишине, ласкаемые тенью, с глазами, утомленными ярким светом, ниспадающим с небес прозрачными потоками, отражаемыми кипящими и пенящимися водами океана.
Вечером в Аркашоне они снова отправились на последнюю уже прогулку по набережной, туда же, где были накануне. Шарль с трудом убедил родителей пойти отдохнуть. Сейчас они будто начали осознавать, что не вернутся сюда никогда больше, не увидят уже заката солнца в бесконечные просторы вод.
— Пойдем, — убеждал Франсуа Алоизу. — Нужно возвращаться.
Она немного дрожала и не произносила ни слова. Когда они медленно побрели к гостинице, Алоиза часто озиралась.
На следующее утро, прежде чем сесть в поезд до Бордо, она захотела в последний раз вернуться в гавань и на минутку присела на скамью, как в первый вечер. В ее глазах был блеск. Она улыбалась, но эта улыбка была свидетельством полученной здесь сладостной раны.
В этом месяце, в сентябре, Матье должен был бы приниматься за сбор винограда, если бы разлив Харраша не опустошил его земли тремя годами ранее. Как он и подозревал, пришлось вырвать добрую половину лоз, пораженных порчей, и засадить их вновь следующей весной, заранее возведя с Роже Бартесом защитную насыпь по краю вади. Это был тяжкий труд, и они были измотаны до крайности.
К счастью, к Матье пришла на помощь его жена, Марианна, она активно участвовала в этих изнуряющих работах и никогда не жаловалась. В этой ситуации он открыл нечто новое в своей жене, такой верной и сильной, ни в чем не сомневающейся, всегда находящей нужные слова, обладающей терпением и упорством, принимающей верные решения, когда нужно было занимать деньги, необходимые для закупки новых саженцев.
— Нет, больше не нужно брать взаймы, — говорила она. — Мы просто обождем какое-то время, и в этом не будет необходимости.
Он слушал ее. Они жили как могли, обрабатывали часть виноградника, которая уцелела, правда, без особого успеха. Если бы только они могли полностью извести ложную мучнистую росу и плесень! Иногда им приходилось жалеть, что они не вырвали все растения, настолько оставшиеся лозы были поражены.
Утомление, которое приносили все эти тяжелые работы, все чаще и чаще вызывало у Матье приступы малярии. Они приходили по вечерам, всегда только по вечерам. Он начинал дрожать, зубы стучали, и он ложился в постель. Таблетки хинина не помогали — приступы были очень сильны, и он неделями отходил от них, не в силах подняться на ноги. Естественно, после озноба тело охватывала горячка, обезвоживание, и Матье приходилось постоянно пить воду, чтобы не усохнуть. Марианна отстранила детей как можно дальше, но поднималась к нему сама, приносила попить, протирала лоб и тело от выступающего пота, подолгу говорила с мужем успокаивающим нежным голосом.
В конце августа с Матье случился еще более сильный приступ, и врач из Шебли предложил забрать его в госпиталь. Матье отказался, и Марианна одобрила это решение. Он и думать об этом уже забыл в то утро, когда пошел осматривать свои виноградники, созерцать их плачевный вид, жалкие свисающие кисти с незреющими ягодами и мелкими косточками. Эти лозы тоже придется вырвать, иначе они заразят соседние растения. Но у Матье не оставалось денег на закупку новых лоз. Хоть три года назад он и прислушался к совету Марианны, сегодня уже нельзя было обойтись без займа, иначе они могли все потерять. К тому же в декабре он не сможет выплатить ежегодный взнос господину Бенамару из Блида, позволившему ему купить больше земли и увеличить размеры имения.
Труднее всего для Матье в это утро было рассказать Марианне о сложившейся ситуации. Он все никак не решался вернуться в дом, мешкал в сентябрьской прохладной тени, под фарфоровым небом, сожалея, что не может собрать урожай, не принимает участия в беспрестанных снованиях феллахов, не видит груженных виноградом повозок, не чувствует запаха винных бочек и сусла, такого типичного для этого времени года, которое он так сильно любил.
Занять денег! Занять денег! Ему, Матье, было уже пятьдесят семь. Кто же согласится дать ему займ? Он много раз обдумывал этот вопрос, но все время приходил к выводу, что подвергнется огромному риску, и виноградники могут снова испортиться, а он не сможет выплатить декабрьский взнос. Ему оставалось только два месяца, чтобы найти решение, и отступать было уже некуда.
Матье вернулся в дом, прошел мимо Хосина, даже не замечая его, и направился в кухню, где Марианна готовила обед. Близнецы были в это время в школе в Шебли. Матье присел и быстро, в двух словах, рассказал Марианне, как обстоят дела. Она вытерла о фартук руки, села напротив и стала спокойно глядеть на него своими ореховыми глазами.
— Остается только одно, — сказала она нежным голосом, — продать несколько гектаров.
Матье будто почувствовал удар молнии.
— Ты действительно хочешь продать землю?
— Да, — продолжала она тем же спокойным голосом, — продать эти несколько гектаров, где придется вырвать весь виноград. Нам от этого будет двойная польза — не придется закупать саженцы и у нас появятся деньги, чтобы заплатить взнос.
Всю свою жизнь, с тех пор как он приехал в Алжир, и тем более после появления двух сыновей, Матье думал только о том, как увеличить свое имение. Все его действия, вся энергия были направлены на это. Как можно продать земли, на которых он столько страдал и трудился? Он рассердился на Марианну за эти слова, ударил кулаком по столу, поднялся и, бросив на нее взгляд, который невозможно было вынести, вышел из комнаты. Не зная, куда направиться, он спустился в погреб, где два феллаха мыли ненужные уже винные бочки. Матье сердито закричал:
— Убирайтесь отсюда!
Они убежали в страхе, пошли предупредить Хосина, вскоре появившегося на пороге. Матье еще был в гневе от сказанных женой слов. Они были неожиданны и разумны и потому причиняли такую боль. Продать землю! Ему, Матье Бартелеми! И кому? Колонистам, которые только того и ждали? Он уже представлял улыбку Гонзалеса, поселенцев, которых он встречал в Шебли и Блиде. Некоторые завистливо насмехались над ним, так же как из-за его политических взглядов во время войны, когда он стоял горой за де Голля и Жиро и тем самым занимал позицию, которой его соседи из Матиджи никак не могли ему простить.
Нет, он не мог продать свои земли, будь то даже четыре или пять гектаров. Это было бы признанием своего поражения, ошибкой, преступлением против детей, которые однажды поделят между собой имение, — он был в этом уверен, иного взгляда быть не могло. Матье зациклился на этой безвыходной точке зрения, и дни снова потекли, приближая его к декабрьским выплатам. Он решился нанести визит Бенамару и обсудить отсрочку выплаты. Но это тоже казалось невозможным. Матье знал, что этот ювелир из Блида ожидал любого прокола, чтобы лишить его земель, — он уже поступил так с переселенцем по имени Ариетта, жившим в Буфарике. Нет, нужно было держаться, найти банк в Алжире, который согласится дать ему займ на приемлемых условиях.
Матье уже собирался в дорогу в конце октября, когда новый приступ обессилил его на целую неделю и повлек угрозы врача из Шебли, сказавшего ему в одно утро:
— Будете так продолжать — долго не протянете.
Марианна тоже была сильно напугана — однажды ночью Матье чуть не умер. В день, когда он встал с постели, жена сказала ему решительным голосом:
— Мой брат Роже хочет выкупить и засадить десять гектаров. Итак, они останутся в семье.
Матье об этом не подумал. Если Роже выкупит его виноградники, он сможет продолжать работать со своими лозами, потому что соседи всегда помогали друг другу в сентябре во время сбора винограда. К тому же Роже был его другом. Кто знает, не вернутся ли к нему его земли в один прекрасный день? И все равно ему остается больше пятидесяти гектаров, которых с лихвой хватит на жизнь и на выплату долгов господину Бенамару. Так он не будет больше никому должен, будет полновластным хозяином имения, и его перестанут терзать опасения, истощать тяжкие работы, которые уже больше тридцати лет заставляли трудиться не покладая рук и так дорого платить сейчас. Матье также не забыл, что мальчикам было только десять, и он хотел увидеть, как они растут и обосновываются на этих землях, заработанных ради них его потом и кровью.
Матье принял решение в тот же день и пошел разыскивать Роже Бартеса, с которым Марианна уже успела обсудить эти планы. Они легко сговорились о цене, заключили договор в ноябре и по возвращении отпраздновали это событие в доме Бартеса вместе с Марианной и двумя детьми. В тот день Матье больше не испытывал никакой горечи. Наоборот, ему казалось, что он обрел мир в душе, которому прежде мешала неуместная гордость. Теперь у него не оставалось больше долгов, больше не будет выплат, виноградники больше не были под угрозой, и если бы с ним что-нибудь произошло, дети смогли бы получить имение в свое полное распоряжение. Возвращаясь в Аб Дая, в подпрыгивающем на камнях автомобиле Матье вдруг ощутил, что наступило время спокойствия и мудрости.
9
С конца 1954 года солнце надолго обосновалось над парижскими крышами в темно-голубом небе, которого Люси, однако, даже не замечала. Она утратила вкус ко всему, разъедаемая горем с тех пор, как ее сын отправился в Германию. Это произошло двумя годами ранее. Она все испробовала, чтобы удержать его, но наутро после своего совершеннолетия Ганс собрал чемодан и поспешно уехал, охваченный радостным порывом.
Несмотря ни на что, оставаясь верна своему обещанию, Люси несколько раз начинала вместе с Гансом разыскивать его отца по другую сторону Рейна, надеясь, что сын получит истинное представление о Германии, так сильно приукрашенной им в мечтах. Но вопреки ее ожиданиям, эти путешествия только укрепили желание Ганса жить в этой стране, где был рожден его отец, где он сражался, защищая свои идеи, против режима, заставившего его исчезнуть. Она не могла противиться отъезду сына и только спросила на перроне, когда провожала: — Ты вернешься?
Ганс не ответил. Он вошел в поезд, не выказывая никаких эмоций, и исчез. А Люси возвратилась на улицу Суффрен в полном отчаянии. Там ее уже ждала Элиза, которая, желая помочь, предложила:
— Не хочешь ли провести несколько дней в замке, в Коррезе? Это поможет тебе отвлечься.
Люси отказалась. Она хотела скорее загрузить себя работой, попытаться забыть об отъезде сына, который с течением времени, от месяца к месяцу, становился для нее таким же далеким, как и Ян к концу ее жизни. Люси казалось, что она больше не увидит Ганса никогда, как и его отца. И эта мысль терзала ее сознание, пока она хлопотала днем вокруг Элизы, а та не всегда находила способ успокоить мать, несмотря на все свои попытки. Конечно же, клиенты, заказы, выплаты по счетам, необходимые покупки требовали много внимания и большую часть ее времени.
По вечерам Элиза выходила из дома все чаще: в тридцать девять она все еще была привлекательной и не испытывала недостатка в кавалерах, к тому же слыла зажиточной. Люси тогда оставалась с Паулой и пыталась завязать со своей в то время девятилетней внучкой прочные отношения. Люси помнила, как жестоко она была разлучена со своей дочерью когда-то, и благодаря Пауле у нее складывалось впечатление, что сейчас она могла наверстать упущенное. Ребенок нуждался в ней, это было ясно. Элиза, вечно занятая, вынашивала грандиозные планы. Она всерьез обдумывала возможность открыть магазины в Лондоне и Нью-Йорке. Люси не знала, нужно ли ее поддержать в этом или же, наоборот, попытаться отговорить. Это был рискованный план, и она опасалась, как бы дочь ненароком не лишилась всего, что нажила в послевоенное время.
Этим утром, зайдя в лавочку на авеню Суффрен, Люси вдруг заметила, что лето подходит к концу — листва на деревьях из зеленой превратилась в желтую и бронзовую, и в воздухе, даже днем, уже ощущался аромат осени, будивший в женщине забытые переживания. Ей начинало казаться, что кто-то или что-то ждало ее в другом месте, там, где, возможно, она нашла бы душевное равновесие и вновь обрела жизненные силы. Замок. Ей надо уехать, быстро, очень быстро, воспользоваться последними ясными деньками, такими же, какие предшествовали отъезду Норбера в Париж. Люси поделилась своим желанием с Элизой, и та ответила:
— До начала учебы осталось несколько дней. Возьми с собой Паулу.
— Ты же будешь скучать одна в Париже.
— Ни за что. У меня куча работы.
— Так что, решено? Ты начнешь дело в Нью-Йорке?
— Не знаю пока. Скоро приму решение. Все очень сложно — нужно одновременно получить займы и найти помещения.
— Поехали с нами, так ты сможешь принять решение в спокойной обстановке.
— Ты права. Может быть, стоит поехать.
— Обещаешь?
— Попробую.
Люси уехала в замок на следующий день после этого разговора, стремясь утолить это внезапно возникшее в глубине ее сердца желание. И действительно, приехав в замок, она была приятно удивлена и обрадована, обнаружив его в очень неплохом состоянии. Люси не была здесь уже два года, ей все не хватало духу уехать из Парижа, она боялась одиночества, которое оставит ее наедине с тяжелыми воспоминаниями. Аллеи парка вновь были засажены цветами. Деревья были аккуратно обрезаны и смотрелись почти так же торжественно, как в былые дни. Жорж и Ноэми Жоншер потрудились на славу. Они занимали только три комнаты на нижнем этаже, ведя скромное существование, зимой отапливая дом дровами, обрабатывая три ближайших к замку участка, оставшихся после распродажи замковых земель.
Люси устроилась с Паулой на втором этаже, в комнате Норбера, и чувство, что она возвращает себе нечто самое ценное, обосновалось в ее душе. В Париже Элиза убедила мать научиться водить автомобиль, и Люси занималась этим, чтобы развлечься и забыться. Поэтому в Коррез она приехала на купленном Элизой «паккарде» кремового цвета и вела его осторожно, поражая встречных, поскольку никто в высокогорье раньше не видал такого дива.
На следующий день по прибытии Люси с Паулой смогли наведаться в Пюльубьер, в дом Франсуа и Алоизы, где девочка покорила всех. В течение следующих дней, оставив внучку Жоншерам, Люси решила посетить места, в которых провела детство, а именно Прадель. Там она навестила родительский дом, где была когда-то так счастлива.
Однажды она привела сюда Франсуа, и тот, растрогавшись, замер в удивлении у порога, не в силах вымолвить ни слова. Ставни дома были закрыты. Теперь уже никто не жил в нем.
— Я бы отдала все замки мира, чтобы выкупить этот дом, — пробормотала Люси.
— Нет, — перебил Франсуа, понемногу обретая дар речи. — Не надо так говорить.
И, отвечая на ее удивленный взгляд, добавил:
— Пройден слишком долгий путь. Не стоит идти обратно.
Люси не совсем поняла, что он хотел выразить этими словами, и немного растерялась. Они долго стояли, не шевелясь, перед домом, казавшимся им крошечным, тогда как в воспоминаниях он был намного больше, как и сушилка, и заброшенный сарай там, у края дороги.
— У меня не осталось ничего, кроме этого, — пробормотала Люси надтреснутым голосом. — Ничего, кроме прошлого.
Франсуа живо обернулся к ней и возразил:
— Надо сделать над собой усилие, не то… С точки зрения обитателя замка это не те слова, которые мама и папа, живя в этом доме, хотели бы услышать.
Краска стыда залила лоб Люси. Женщина пошла к машине, завела двигатель, подождала Франсуа, в последний раз обходящего сарай. Они покинули это место, не говоря ни слова. Но она не забыла слов Франсуа и начала обустраивать комнаты замка на свой вкус, решив жить, глядя если и не в неясное будущее впереди, то хотя бы настоящим — этим концом лета, заливающим яркими красками леса высокогорья.
В шестьдесят два года Франсуа пытался еще работать столько же, как и в сорок, но сильно уставал. Он доверил решение хозяйственных дел Эдмону, но все еще много помогал ему, не жалея сил. Причиняя Алоизе, настаивавшей, чтобы он поберег себя, массу беспокойства, Франсуа начинал легко раздражаться, стал враждебно относиться к миру, в котором, казалось, перестал что-либо понимать. Так, вместе со многими другими людьми он негодовал из-за строительства дамбы в недавно затопленной долине. Сначала был затоплен Эгль, затем Шастанг, а после, в 1951 году, — Борт, остатки которого Франсуа замечал каждый раз, попадая в город, и думал о затопленных кладбищах, школах и церквах, о домах, в которых столетиями жили семьи, сегодня вынужденные покинуть насиженные гнезда.
— Сколько затопленных деревень и лишенных крова людей! — печалился он. — Разве в этом есть смысл?
Еще меньше он понимал в выращиваемых Эдмоном культурах, считал, что сын использует слишком много новшеств, спрашивал, в чем выгода его членства в национальном центре молодых фермеров, проводящих какие-то бессмысленные манифестации. Франсуа так же возмущали передаваемые по радио новости, он ругал сменяющие друг друга правительства, которые не решали накопившихся проблем, бранил социалистов, не сходящихся во взглядах на колонии, и инфляцию, поразившую страну. К счастью, с 1952 года эксперимент Пинея немного стабилизировал национальную валюту. Был разработан план механизации сельского хозяйства. Но, без сомнения, было уже слишком поздно — было очевидно, что страна уже стала на путь промышленного развития и ничто не могло остановить упадок сельского хозяйства. Эта перспектива тревожила Франсуа больше всего остального. Он боялся, что все усилия Эдмона будут напрасны. Что предлагало будущее тем, кто выбрал жизнь в деревне?
Франсуа получил от Матье письмо, в котором брат делился с ним опасениями: после Женевского соглашения, подписанного Мендесом, Франция потеряла Индокитай. Сегодня велись переговоры с Тунисом и Марокко. А Алжир? — задавался вопросом Матье. Не придется ли ему в один прекрасный день оставить все, что он здесь построил? Франсуа не знал. Он, скорее, остался доволен концом войны в Индокитае после поражения Дьен Бьен Фу. Роберу, сыну Эдмона и Одилии, исполнилось четырнадцать, старшему сыну Шарля и Матильды — восемь. Франсуа все еще боялся войны, но этим волшебным летом не думал о том, что Алжир может принять в ней участие.
И еще он много размышлял о своей дочери Луизе, которая после нескольких лет работы в госпитале в Тюле решила уехать медсестрой в Африку, точнее, в Яунде, с религиозной миссией. Она уехала в июне, приведя в отчаяние Алоизу, которая до последнего момента не оставляла попыток переубедить дочь, рассказывая, сколько вреда принесет такое решение. Но Луизе было двадцать шесть лет, и она все еще искала свое призвание.
В действительности это призвание было причиной многочисленных стычек Луизы и ее родителей, и они в итоге проиграли. Упрямая девушка, так сильно похожая на мать, долго ждала возможности осуществить то, чего ждала с юных лет, и не хотела отказываться от задуманного. Ее отъезд нанес глубокую рану как ей, так и Франсуа с Алоизой. Когда родители поняли, что не могут больше удержать дочь, то вдвоем отвезли ее на вокзал однажды утром, и царившее между ними тогда молчание оставило неизгладимые рубцы на их душах. Уже на перроне Алоиза еще раз попыталась образумить дочь. Луиза рыдала. «Не надо, мама, не надо, — молила она. — Это моя жизнь, она необходима мне, понимаешь? Пожалуйста, дай мне уехать». Франсуа пришлось увести Алоизу за руку, и их единственная дочь исчезла, а они остались осознавать это новое чувство безвозвратной потери.
Они стали избегать разговоров о дочери, даже когда им нечего было делать, как в этот воскресный день, когда давящая жара завладела всей страной. Эдмон и его жена уехали к родителям Одилии в Уссель и взяли Робера с собой. Поэтому Франсуа и Алоиза остались совсем одни в полумраке кухни, ожидая заката солнца, чтобы выйти на прогулку.
— Не припомню такой жары, — вздохнул Франсуа, выключая радио.
— Я тоже, — подтвердила Алоиза, чистя овощи.
— И все же давай пройдемся до соснового бора. Вся дорога туда идет в тени.
— Давай еще немного подождем, — попросила она. — Все равно дети не приедут до темноты.
Она незаметно наблюдала за Франсуа. С наступлением жарких дней он дышал с трудом и, казалось, не совсем хорошо себя чувствовал. Он положил локти на стол, сидя напротив жены, возле буфета с радио, и склонил голову, погруженный в свои мысли. Франсуа еще больше похудел. Но все же иногда Алоиза замечала за ним жесты, привычки, напоминавшие о молодости, наполнявшие ее мимолетным, но всеохватывающим приливом счастья.
— Ты думаешь о Луизе? — спросила она.
Он резко поднялся, удивленный, будто вернувшийся из другого мира.
— Нет, — ответил он, — я думал о дне, когда прибыл сюда, оставляя позади долину, сегодня затопленную водой.
Вздохнув, Франсуа добавил:
— С тех пор много воды утекло.
— Да, — согласилась Алоиза, — многое изменилось.
Она опустила глаза к миске, а затем вновь подняла взгляд — муж все так же смотрел на нее.
— Только твои глаза не изменились, — вздохнул Франсуа. — Ты стояла возле мойки, а потом резко обернулась, помнишь?
— Да, хорошо помню.
Алоиза пугалась его изменившегося за последние несколько дней голоса, полного сомнений. Она знала, что каждый раз, когда Франсуа погружался в воспоминания, это было вызвано какой-то болью, терзающей его мыслью. Он не отводил от нее взгляда, смотрел во все глаза.
— Прошло больше сорока лет, — произнес он.
— Ну и что?
— А то, что впереди у нас больше нет такого времени.
Алоиза оставила свою работу и присела около него.
— Что с тобой? — спросила она мужа.
Иногда ей доводилось жалеть, что она уговорила Франсуа уступить, доверить Эдмону распоряжаться имением. Изо дня в день Франсуа, казалось, теряет силы. В нем будто что-то сломалось, и Алоиза ощущала вину. Ей больно было видеть слабость мужа, она вспоминала, как он вернул ее к жизни, когда окончилась война в восемнадцатом году, как он всегда был близок ей, особенно в трудные минуты, например когда умер ее едва успевший родиться ребенок. Алоиза беспокоилась сейчас: почему плечи Франсуа опущены, почему в его взгляде ей приходится замечать временами черные искры отречения от всего? Она отвела глаза и, поднимаясь, произнесла:
— Вставай! Пойдем пройдемся.
Франсуа будто не решался, затем принял решение и с трудом поднялся.
Через открытую Алоизой дверь комнату заполнил поток ослепительной синевы неба, поколебавший их решение. Но, выйдя на улицу, ступив на дорожку в сосновой чаще, под сень огромных деревьев, они погрузились в безопасную густую тень.
Быстро преодолев пятьдесят метров, отделяющих их от дубов и каштанов, они с облегчением ступили под зеленые кроны и на миг приостановились. Алоиза поворошила палочкой листву у края дороги, проверяя, нет ли под ней белых грибов, но в такую жару едва ли это было возможно. Немного дальше тропинка выходила из-под прикрытия деревьев на поляну, но она также была затенена, кроме нескольких метров, отделявших ее от сосен.
Проходя эти несколько метров, Франсуа чувствовал себя так, будто его поместили в духовку. Сердце заколотилось, колени задрожали, и он с большим трудом дошел до сосен, возле которых опустился с пеленой перед глазами на землю.
— Жара и вправду невыносимая, — сказала Алоиза, опускаясь рядом с ним.
Франсуа был рад, что жена не заметила этого приступа слабости, и вытер пот со лба. Он терял сознание. Тяжесть внутри мешала ему дышать полной грудью, но он и это постарался скрыть. Вдали деревня выплясывала в раскаленном сероватом, почти белом тумане. Франсуа искал глазами окно их комнаты, откуда он так часто заглядывался в глубь рощи, проверяя, ждет ли она их еще к себе в гости.
Пелена перед глазами рассеивалась, и дышать стало легче. Алоиза молчала. Она уже пожалела, что предложила прогулку в столь ранний час. Ей тоже дышалось с трудом. Небо над лесом было белоснежным, а воздух казался густым, как мука. Они долго молчали, затем Алоиза прошептала:
— Надо возвращаться, жара по-настоящему невыносимая.
— Как хочешь, — ответил Франсуа, про себя только и мечтая о прохладе родных стен.
Он с трудом встал на ноги, взял жену под руку. Перед глазами снова сгустился туман. Едва они прошли десяток метров, коричневые клешни сдавили его грудь. Алоиза и опомниться не успела, как он рухнул на придорожную траву.
Шарль и Матильда, несколько дней отдыхавшие в Усселе, на следующий день узнали о плохом самочувствии Франсуа. Они приехали в Пюльубьер, беспокоясь и предлагая Алоизе помощь, и послали за доктором в Сен-Винсен. Тот не сообщил ничего обнадеживающего. «Ваш отец очень утомлен, — сказал он. — Его сердце износилось. Ему просто нужен отдых, всего лишь отдых». Шарль заставил Франсуа пообещать прислушаться к предписанию, а Алоизу — присматривать за отцом, зная, что в этом не было особого толку. Но чем тут было помочь? Он не мог все время смотреть за отцом, да это и не помогло бы. Конечно же, сейчас лучше всего предоставить отцу делать то, что он считает нужным сам, не принуждать его ни к чему в оставшиеся несколько лет жизни.
В начале сентября Шарль и Матильда вернулись в Ла-Рош готовиться к переезду, поскольку они оба получили должность в Аржанта, маленьком городке на обоих берегах Дордони, в долине. Шарль и Матильда очень радовались перемене — она, несомненно, была к лучшему.
Они поселились в новом здании школы коммуны, на маленькой улочке, отходящей от центрального проспекта и выходящей на широкую ярмарочную площадь, где, как им сказали, дважды в месяц проходили ярмарки. А от площади было только пять минут ходьбы до набережной, откуда в далекие времена отплывали баржи из высокогорья в нижние долины — Либурн и Бордо, где распродавали древесину дубов и каштанов изготовителям винных бочек. Шарль подумал, что со времен Спонтура, его первого рабочего места, он всегда оставался верен Дордони, чьи воды под величественными сводами моста Аржанта казались прозрачными и манили на поиски приключений, других миров, океана, воспоминания о котором он бережно хранил в своей душе.
Их сразу покорила мирная атмосфера городка с серыми крышами, где стоял такой теплый октябрь, совсем не похожий на погоду в Ла-Рош. Здесь все казалось более современным, прежде всего печи, но даже классы оказались намного лучше оборудованы, книги были не такими старыми, а их квартиру недавно отремонтировали. Она находилась под учебными комнатами в двухэтажном здании и выходила окнами на крыльцо во внутренний дворик, в тенистый парк. Городок находился на пересечении возвышенностей и низовий, Оверни и Лимузена, с оживленным транспортом на дорогах, что было так не похоже на деревню, где зимой Шарль с Матильдой иногда начинали ощущать себя узниками.
Их жизнь в школе тоже изменилась: у них уже не было сада, как у сельских преподавателей, что было значительным недостатком, но организовать учебный процесс было легче. Шарль выполнял обязанности директора, не имея для этого необходимого образования, и для него не было препятствий в закупке новых учебников, тетрадей, а также перьев, чернил и географических карт. Он заказывал для школы перья «Сержант-Майор» и «Бэньоль и Фараон», потому что они писали мягче других, необходимое количество промокашек и резинок, а также чернил, как красных, так и фиолетовых. Всего было достаточно: и карт «Видаль-Лабланш», и глобусов, и внушительной таблицы метрической системы, и весов Роберваля, и латунных гирь, и гравюр с изображением Эйфелевой башни и Наполеона в Аустерлице.
Даже сами ученики были другими. Их родители преимущественно были не крестьянами, а торговцами, и дети жили в довольно роскошных условиях по сравнению с условиями жизни на высокогорье. Пеналы были лучшего качества, как и блузы, и рубахи, и обувь, и зимние пальто. Дети не страдали ни от голода, ни от холода. Постоянные контакты с чужестранцами, нередкие в этой местности на перекрестке дорог, помогали им лучше осознать веяния наступившей эпохи, ее новые заботы, приносили знания о фермах высокогорья.
Но больше всего удивила Шарля с Матильдой впервые появившаяся в их карьере необходимость конкурировать с религиозной школой, которая занимала два помещения в городе. Одно из них пользовалось особой популярностью: частная школа Жанны д’Арк, обучающая детей не только из Аржанта, но и из всего округа. Ею руководили компетентные сестры из Эльзаса, вынужденные бежать оттуда во время войны и умудрившиеся основать одно из самых уважаемых заведений региона.
Для Шарля с Матильдой инструкции, полученные в Эколь Нормаль, были очевидны: уважение, но и дистанция. И потому в Ла-Рош они ввели обычай ежегодно 11 ноября сопровождать детей к могилам на кладбище, а затем отпускали их одних в церковь. Здесь это правило соблюдалось намного строже. Они представляли республиканскую школу и обязывались защищать ее честь, поэтому должны были отдавать ей все свои силы, в том числе и в субботу, и в воскресенье, вовлекая мальчиков в спортивные игры, а всех желающих девочек приглашая заниматься в театральном кружке или шитьем.
Преподаватели быстро поняли, насколько возрос объем их обязанностей, особенно Матильда, у которой на подготовительном курсе девочек было больше, чем мальчиков. Одна из них происходила из самой влиятельной семьи в городе. В конце первой недели, когда Матильда уже смогла выставить оценки, они пришлись не по вкусу уважаемым родителям, которые сочли их несправедливыми ввиду очевидных талантов их чада. Однажды вечером Матильде нанесла визит мама девочки и решительно выразила желание перевести своего ребенка в другую школу, если в этой ее не будут ценить по достоинству. Матильду это заявление застало врасплох, она не знала, как на это ответить, неумело оправдывалась и, считая себя виноватой, поделилась переживаниями с Шарлем.
— Что я могу сделать? — спрашивала она. — Мама пригрозила зачислить дочь в школу Жанны д’Арк.
— В этой ситуации ты можешь лишь оставаться беспристрастной и справедливой по отношению к остальным ученикам.
— А если мы потеряем ученицу, что нам скажет инспектор?
— Я объясню ему. Самое главное, нельзя позволять собой манипулировать, особенно родителям, способным влиять на общественное мнение в городе. Тщательно следи за словами на уроке нравственности по утрам.
Матильда стала плохо спать из-за происходящего. Она все откладывала проверку тетрадей, не зная, как разрешить дилемму. Шарль пришел ей на помощь. Оставаясь справедливыми в глазах других детей, они были строгими судьями, не делали никаких уступок. И последствия не заставили себя ждать: через неделю девочка, из-за которой поднялся шум, была переведена в учебное заведение Жанны д’Арк. Матильда, обрадовавшаяся поначалу, что приехала работать в этот маленький милый городок, сейчас слегла от переживаний.
— Ты воспринимаешь все слишком близко к сердцу, — упрекал ее Шарль.
— А ты сам как бы такое воспринимал?
— Главное — выполнять нашу работу как можно добросовестнее: остальное от нас не зависит.
— Легко сказать. Мне сейчас кажется, что я не справилась со своей задачей.
— Ну что ты! Мы просто даем объективные оценки, соответствующие уровню детской работы.
Сам он очень скрупулезно вел бухгалтерию кооператива в школьной тетради, четко разделяя школьные принадлежности и свои собственные. То же касалось и дров. Отдельно хранились дрова для класса и для их квартиры. Шарль не смог бы вынести обвинения в том, что пользовался чем-то, не принадлежащим ему. Так же он вел счета спортивной ассоциации, которую основал. Несмотря на все эти меры предосторожности, они все же потеряли еще одну ученицу, что вынудило инспектора прийти на урок к Матильде.
— Немного мягкости в отношениях совсем не повредит, — порекомендовал этот грозный мужчина, облаченный в строгий темный костюм-тройку, в конце своего посещения. — Вы еще молоды, необходимо учиться подстраиваться. Здесь живут не так, как в глухой деревеньке. Я уверен, вы сможете найти верные решения. Я вам полностью доверяю.
— Если бы я знала, что все так произойдет, — делилась с Шарлем Матильда, — то не уезжала бы из Ла-Роша.
— Не надо так переживать, все наладится, — успокаивал он.
Правда, сам он в этом не был так уверен. Ему казалось, что за ним ведется постоянное наблюдение, что все его поступки и жесты без конца анализируются. Несмотря на все усилия, он также совершил однажды ошибку, когда сопровождал учащихся после матча в кафе. Учитель — в кафе! Человек, ежеутренне обучающий их тлетворности действия алкоголя!
— Мы пили только лимонад, — отчитывался он встревоженному событием мэру.
— Это не имеет значения. Вы не должны водить своих учащихся в кафе, вам это прекрасно известно.
— Заверяю вас, больше это не повторится.
— Очень надеюсь. Это в ваших интересах.
Вследствие происходящего Шарль с Матильдой действительно стали чувствовать враждебность. Они мужественно встречали препятствия, но это сильно отражалось на их отношениях с учениками. Преподаватели должны быть всегда безупречны. Они прилагали к этому все усилия, как и многие другие, олицетворяя порядочность, единство, беспрекословное соблюдение правил.
Этой ночью Матье никак не удавалось уснуть, хотя лето и осень полностью оправдывали его ожидания: хорошая жатва и обильные виноградные лозы, впервые со времени затопления его имения по-настоящему излеченные от плесени и мучнистой росы. С той поры Роже Бартес успел высадить в землю здоровые саженцы, и болезни ушли с его собственных лоз и с соседских. Нет, совсем не денежные затруднения не давали Матье заснуть этой ночью 1 ноября 1954 года, было кое-что другое: лай собак, лай шакалов на дороге в Креа, необычный шум, и, так же как и он, никто не мог заснуть в Матидже.
Матье посмотрел на часы — было полпервого ночи. Рядом, как обычно, спала Марианна, а в соседней комнате — сыновья. Вечером, вернувшись из школы, они вместо занятий стали бегать по всему имению, а затем свалились от усталости и заснули.
Матье поднялся, подошел к окну и тихонько открыл его. Было еще не холодно: Матиджа медленно брела к зиме по дороге, залитой солнцем осени, без малейшего дождя, так не похожей на все предыдущие годы. В середине оранжереи оставалась зажженной лампа. Между ней и домом пробежала тень. Матье подумал, что тень принадлежала Хосину, которому тоже, как и хозяину, не спалось этой странной ночью, полной необычных звуков, звонкого эха, шепота ветра.
Матье вернулся в постель, ненадолго вздремнул, оставаясь в полусознании — что-то не давало ему позволить сну овладеть телом. Через некоторое время он услышал взрывы в направлении Блида. Матье поспешно вскочил, подбежал к окну и заметил отблески огромного пламени в стороне Буфарика. Он поспешно оделся и вышел под мерцающее звездами небо. К нему приблизилась тень — Хосин, как и Матье, заметивший ночное зарево.
— Это плохой знак, — сказал Хосин. — Что-то происходит.
— Что, по-твоему, может происходить?
— Что-то нехорошее, — повторил Хосин.
Феллахи тоже проснулись и собирались вокруг них. Хосин велел им возвращаться в постели.
— Что же это такое? — не унимался Матье.
В тот момент, когда они как раз обернулись в противоположную сторону, к имению шурина, Роже Бартеса, они также заметили пламя, уже не такое высокое, будто горел стог сена.
— Подожди здесь, — сказал Матье Хосину. — Смотри за домом. Я пойду к Роже.
Он сел в машину, скорее влекомый любопытством, чем встревоженный, и приехал к шурину, как раз когда тот заканчивал гасить пламя. Ничего страшного не произошло — только излишки соломы, которые он не занес в сарай, сгорели.
— Я будто бы слышал взрыв со стороны Блида, — сообщил Матье. — Там тоже что-то горит.
— Да, — подтвердил Роже, — я тоже видел.
И добавил:
— Я все думаю, кто мог тут поджечь солому. Было бы это днем — я бы еще понял: от солнца через осколок стекла, от окурка это еще могло бы произойти случайно, но среди ночи?
Они поразмыслили немного, а затем Матье подумал о Марианне и детях и отправился в сторону Аб Дая. Вдали пожар достигал уже неба, от земли до небес стояла туча густого дыма. Казалось, этой ночью вся Матиджа была на ногах, будто происходили невероятные события, которых все давно боялись.
Вернувшись к себе, Матье присел на стул перед домом, с заряженным ружьем, в сопровождении Хосина. Они сторожили дом до двух ночи, время от времени глядя на все не затухающее пламя вдали.
— Как плохо, — много раз повторял Хосин опечаленно.
— Если ты что-то знаешь, — сердито говорил Матье, — лучше расскажи.
— Это приходит с гор. Несколько дней назад в мешке для муки я нашел патроны.
— Патроны?
— Да, патроны.
— Здесь, в моем доме?! — вскричал Матье.
— Я уволил его тут же, хозяин.
— Но кто это был?
— Сын Булауда. Он пришел с гор, из Креа, ты знаешь его.
Да, Матье помнил о поездках в Атлас, об узеньких дорожках в кедровых чащах, об изолированном городишке.
— Что он собирался делать со своими патронами?
— Он их нес.
— Кому?
— Я не знаю, — произнес Хосин. — Я только знаю, что перевозится много патронов.
— И ты не сообщил мне!
— Я же отрезал больную ветку.
— Следовало все же мне рассказать.
Хосин не отвечал. Упреки Матье его всегда глубоко затрагивали. И сейчас он обижался и упрямо молчал, что еще больше выводило Матье из себя.
— Я пошел спать, — сказал он. — До завтра.
Он вернулся в кровать, но сон по-прежнему не шел. Происшествия этой ночи не предвещали ничего хорошего. Если «Депеш Алжерьен» предвидела наказание для бандитов, грабящих автомобили на границе с Тунисом несколькими днями ранее, то «Алжир Републикан» уже несколько раз совершал попытки устроить политические заварушки. Матье знал, что со дня на день должен вспыхнуть подпольный бунт, подобный происшедшему в Алжире в 1930 году после убийства полковника Батистини. Он не думал, что это случится 1 ноября 1954 года, но был начеку. Как, например, этой ночью, когда он прислушивался к каждому шороху с широко раскрытыми глазами.
Матье поднялся до рассвета и отправился в Креа за новостями. Говорили, что в Алжире взорвались бомбы, одна казарма в окрестностях Блида подверглась нападению, а в Буфарике сгорел кооператив, как и склад в Баба-Али. Матье возвращался весьма встревоженным. Он застал Роже с Марианной за серьезной беседой, и рассказал им, что удалось узнать. Они не соглашались поверить в восстание. Эти события были совпадением. Они не знали ни одного араба, способного выстрелить в европейца и тем более подложить бомбу. Матье не стал настаивать.
Однако в течение всего дня новости приходили безостановочно: были раздроблены два столба линии электропередачи между Блидой и Алжиром, попытались взорвать мост над вади Эль Терро, разжечь пожар на пробковом складе возле Лабы. Марианна и Роже Бартес начали всерьез задумываться над словами Матье. Представление о происходящем они получили со страниц «Ла Депеш» следующим утром: в Батне и Кенчеле были убиты французские солдаты, в Мадриде, а также в Оресе и Кабиле были взорваны бомбы. Самым невероятным было сообщение об убийстве двух французских учителей, четы Моннеро, испещренных снарядами в ущелье Тигханимин.
— Не могу в это поверить, — сказал Роже Бартес.
— Хосин мне признался, что уволил сына Булауда, потому что он переносил патроны, — сообщил ему Матье.
— У них нет оружия, — уверенно произнес Роже.
— Но однажды они его достанут.
— Это невозможно.
— Ну зато уж точно возможно поджечь в твоем доме кучу соломы посреди ночи.
— Это так, но достаточно привести войска, и все они в страхе разбегутся, как насекомые.
— Может быть, — с сомнением проговорил Матье, — все может быть.
Он в это не верил, но не хотел пугать Марианну и подошедших детей. В глубине души он все же знал с 1930 года, что однажды придется защищать эту землю от тех, кто занял ее раньше французов.
10
В феврале было так холодно, что Дордонь замерзла до самого порта Аржанта. Лед был не очень толстым, но самые отчаянные ребятишки отваживались скользить по нему на противоположный берег. Каждое утро, вставая на рассвете, Шарль находил во дворе мертвых птиц: синиц, воробьев, а еще дроздов, не выдержавших наступивших арктических холодов. Он всегда любил рано просыпаться — чтобы включить печи и насладиться одиночеством, тишиной пустынного класса, готовиться к наступающему дню, а также размышлять об очень ослабевшем после последнего Рождества и сильно тревожащем его отце. Во время работы он еще успевал подумать о своих еще спящих детях, о Матильде, которая должна была их разбудить, и спрашивал себя, долго ли ему удастся видеть возле себя всех тех, кого он любит, и наслаждаться этими бесценными утренними часами в школе, не терзаясь воспоминаниями об ушедших близких. Он знал, что такое время близилось. Франсуа, так много сделавший для него любящий отец, человек, любимый им больше всех на свете, без сомнения, не сможет пережить этот год, начавшийся сильными ветрами и снегом. При этой мысли запахи печи, меловой пыли, налитого в чернильницы чернила приобретали для Шарля совсем другое значение. «Ему так плохо из-за холода», — говорил он себе, но еще боялся, что эти суровые месяцы укорачивают срок жизни отцу с матерью, после всех лет их тяжкого труда, и расплата уже не за горами.
Зато в школе, напротив, дела наладились. Жители Аржанта подвергли Матильду и Шарля своему суровому суду и приняли их в свой круг. Год на год не приходился, и соотношение между уходом из школы и переходом из других школ менялось. Супруги Бартелеми были на хорошем счету. Инспектор объявил Шарлю о своем следующем визите и перспективе возможного повышения. Со временем, может быть, он не будет навещать их так часто. Это было сделано не наперекор Шарлю, который чувствовал себя таким счастливым в этой изоляции в снегу и холоде, ведь теперь он сможет посвятить себя самообразованию, работе со счетами в различных ассоциациях, подготовке уроков, чтению газет, которые здесь достать будет легче, чем в Ла-Роше.
Один из коллег настойчиво советовал ему вступить в социалистическую партию, но Шарль отказался. Ги Молле, которому сулили предводительство в Совете, Шарль предпочитал Мендеса Франса, политической смелостью которого не переставал восхищаться после Женевского соглашения, положившего конец войне в Индокитае. Он также ценил талант Эдгара Фора, когда тот, оказавшись в меньшинстве, спровоцировал перевыборы 1955 года. Люди были симпатичны Шарлю даже больше, чем режимы. И его печалила война в Алжире из-за дядюшки Матье и его семьи, а не из-за судьбы земли, которая, по его мнению, должна была возвратиться к своим коренным обитателям.
Шарль иногда подумывал стать активным членом радикальной партии, которая исповедовала бы ценности, созвучные его морали, и которая когда-то сделала школьное образование общеобязательным. Он считал себя еще слишком молодым, но эта идея была ему по душе. Шарль мечтал присоединиться к партии, но тогда пришлось бы меньше времени посвящать ученикам, и решение все откладывалось. А еще у него росли собственные дети, которые тоже требовали много внимания. Пьер, занимавшийся сейчас в обычной школе, во втором классе, следующей осенью собирался перейти в колледж. Он был способным, даже очень способным учеником, ему сулили большое будущее. Жак в семь лет ходил еще в мамин класс, но переходил сразу во второй класс начальной школы в следующем сентябре. У него не было таких блестящих данных для учебы, как у брата, ему не хватало Ла-Роша, деревенских и лесных пейзажей, и город был ему не по душе.
Была среда. На улице стоял все такой же холод. За ночь чернила замерзли в чернильницах. Но, к счастью, было только семь часов, еще достаточно времени, чтобы разморозить их к приходу детей. Он искал в книге приготовленный на сегодня урок нравственности, вновь думая об отце. Шарль остановился на тридцатой странице, текст которой больше всего волновал его из года в год. Там рассказывалось про старика, который ел в одиночестве, вдали от семейного стола, из миски. Ребенок из этой крестьянской семьи был поражен и не понимал, почему так происходило. Однажды отец застал его вырезающим что-то из дерева ножом и поинтересовался, что тот делает. Ребенок сказал, что он делает миску для тех времен, когда его собственный отец тоже состарится. В тот же вечер отец пригласил праотца за стол со всеми и дал ему тарелку, как и всем членам семьи.
Уже два или три года этот старик в воображении Шарля имел лицо его отца. Франсуа не то чтобы ел вдали от семейного стола из деревянной миски, но у него был такой же безропотный взгляд, иногда та же печаль в глубине глаз.
Шарлю нравился этот урок потому, что он нес на себе отпечаток щедрой философии, где доброта, уважение к ближнему были продемонстрированы в трогательных картинах, производивших сильное впечатление на учеников. Он знал, что их податливые умы навсегда сохранят впечатление от этого рассказа. Накануне он был счастлив, глядя, как расцветали их лица, когда они слушали историю о бедняге-осле с огромным грузом на спине, который старался не задавить жабу в колее дороги. Шарль читал облегчение в их глазах, когда повозка наконец проехала мимо, а затем огорчение на лицах, когда осел свалился от усталости через несколько шагов. И каждое утро первую радость Шарлю доставляло чтение таких текстов, подобранных специально, чтобы растрогать детей, дать им осознать себя в этой окружающей их естественной среде, полной страдающих и нуждающихся в помощи.
Так было и в это утро, когда он окончил чтение к 9.15 утра, но не был наедине со своими учениками. Инспектор приехал ровно в девять, к великому удивлению Шарля, полагавшего, что на дорогах пробки. Инспектор, низенький мужчина в очках и с бородкой, был небезызвестен Шарлю по первому году работы здесь, когда у них с Матильдой возникли сложности. Он объяснил, что приехал вчера вечером и провел ночь в отеле «Сен-Жак», а затем пригласил его продолжать занятия. Сам же инспектор уселся за одну из парт.
— Я не буду вас прерывать. Продолжайте, будто меня здесь нет.
Шарлю удалось привлечь детское внимание, несмотря на то что учеников сильно отвлекало присутствие такого сомнительного персонажа на занятии. Затем учитель объявил диктант — отрывок из Эжена Фромантена и отворил одну створку доски, где для старших учеников, собирающихся сдавать выпускные экзамены, сегодня была подготовлена особо сложная задача:
«Рабочий зарабатывает 9 франков в неделю и работает 300 дней в году, но теряет 3/25 своего времени в кабаках и выкладывает за алкогольные напитки 32/85 своего заработка. Вычислите, каков его годовой заработок и сколько он тратит на алкоголь».
Дроби были самой сложной частью программы, и Шарль знал, что не многим задача придется по силам. Он заставил себя быстро напомнить учащимся о правилах, изученных на предыдущих занятиях, но понятия не имел, каким будет конечный результат.
Часом позже он с удивлением отметил, что больше половины учащихся старшего класса смогли дать ответ на оба вопроса. И только потому, что в тот день они поняли: судьба их учителя зависит от них, они приложили к решению необыкновенные усилия. Шарль был польщен, он чувствовал такое удовлетворение, которое во много раз превзошло даже похвалы инспектора, полученные им в полдень того же дня.
— Вы отличный учитель, — говорил инспектор. — И заслуживаете большего. Знаете ли вы, что после отбора, основанного на моем докладе и моих оценках, вы могли бы стать профессором колледжа?
— Мне это известно, господин инспектор, но мне нравится то, чем я занимаюсь. Эти дети приносят мне вдохновение. А к тому же мне нравятся начальные классы, вся их суть, все предметы, изучаемые в них.
— Это означает, что вы отказались бы от должности в колледже?
— Вероятнее всего, да, месье.
— Это нечто незаурядное.
— Может, и так, — возразил Шарль, — но я не знаю, как смогу жить без этих детей.
— Мы еще вернемся к этому разговору. Не забывайте, что вы находитесь на службе у Национального министерства образования и ваша роль не ограничивается начальной школой.
— Я помню об этом, господин инспектор.
Инспектор ушел, немного смущенный, но заинтригованный. Шарль вернулся в класс, который оставил под надзором старшего, пока сам беседовал с инспектором в нижних комнатах. На всех обращенных к нему лицах читалось беспокойство, будто дети не были уверены, что показали себя с лучшей стороны.
— Все прошло очень хорошо, — обратился к ним Шарль. — Я вам очень благодарен.
Он никогда не сможет забыть улыбки, засиявшие в тот момент на лицах всех детей, от самых больших до самых маленьких.
Никто не помнил подобных холодов на высокогорье. При этом январь был еще не особо суровым, со снежком, но без сильных морозов. Затем за несколько дней температура упала до минус тридцати. На улице все заледенело, было сковано слоем льда, включая деревья, хруст которых по ночам напоминал раскаты ружейных выстрелов. В Пюльубьере дров хватало сполна, но вот воды было недостаточно, особенно чтобы напоить животных. Эдмон весь день рубил лед, ему помогала Одилия, в то время как Алоиза и Франсуа оставались у огня, ожидая тепла.
К тому же Франсуа не мог им помочь, даже если бы холода были не такими суровыми. После сердечного приступа врачи запретили ему всяческие нагрузки. Алоиза видела, как он в отчаянии бродил по дому или из дому в сарай, и тщетно искала для него слова надежды.
— Скоро придут погожие деньки, — говорила она, — имей немного терпения; тебе можно будет выходить гулять, и дни уже не покажутся такими невыносимо долгими.
Он не отвечал, погруженный в пугающее Алоизу молчание. Меньше чем за год Франсуа значительно изменился. Даже взгляд стал совсем другим, будто стеклянным. Казалось, что глаза глубже ушли в орбиты, а сам Франсуа выглядел таким хрупким, что Алоиза не могла смотреть на него без боли. Она тоже сильно изменилась, глядя, как увядает этот мужчина, который когда-то был таким сильным и так много и неустанно работал. Она не могла вынести призыва о помощи, иногда возникающего в его глазах. Муж был для нее глубокой раной. Она знала, что жить ему оставалось недолго, и говорила себе, что не сможет оставаться на этом свете без него. Франсуа никогда не жаловался, и Алоиза не знала, испытывает ли он страдания. Но вряд ли, она никогда не замечала этого, а может, он просто умело скрывал. Его страдания были скорее духовными — ощущение близости конца земного пути. Она ждала его слов, а их все не было и, безусловно, никогда не будет. И потому она говорила, брала на себя его роль, делала то, что раньше, когда ей было необходимо, выполнял он.
Она говорила с ним об их жизни, особенно о самом ее начале, когда Алоиза только приехала в Пюльубьер, вспоминала их свадьбу в Сен-Винсене, их занятия в военное время, когда они были на фронте, о рождении детей, о возвращении их в школу, об их разорванной одежде после драки с учениками религиозной школы, и иногда ей удавалось вызвать у него улыбку. Женщина также рассказывала мужу о настоящем, о сильных холодах, сковавших Коррез и Тюль, о Шарле и его новом рабочем месте в Аржента, где, возможно, Дордонь также покрылась льдом, о Луизе, которая однажды вернется из Яунде. Они очень скучали по дочери. Франсуа закрывал глаза каждый раз, когда Алоиза говорила о ее возвращении, будто эта разлука невыносимо терзала его.
Температура воздуха на улице вынуждала их прижиматься друг к другу, переживать эти казавшиеся последними дни рядом. Действительно, в начале января Франсуа снова занемог, и его пришлось на две недели госпитализировать. Потом недомогания случались все чаще, хоть иногда Франсуа удавалось скрыть, когда он чувствовал слабость. Что она могла сделать, кроме того, чтобы быть подле него, совсем рядом, давать ему почувствовать, как ей хотелось последовать за ним в другую жизнь, чтобы продолжать быть вместе там, где-то очень далеко, вероятно, но все же вдвоем, вести такое же существование, как здесь, на земле.
22 февраля во второй половине дня Франсуа показался Алоизе более отстраненным, чем обычно, он будто отдалялся, уходил куда-то. Ему раньше, чем обычно, захотелось спать, у него не было сил, чтобы поесть. Она отвела его в спальню и долго сидела рядом на кровати. Франсуа выглядел очень спокойным, ничем не обеспокоенным.
— Я помогу Одилии помыть посуду и сразу вернусь к тебе, — сказала Алоиза.
Он протянул ей правую руку, попросил дотронуться до него. Она крепко сжала его ладонь, а потом осторожно положила на кровать.
— Хочешь, чтобы я осталась? — спросила Алоиза.
— Нет, иди, — сказал он ей сонным голосом.
Она замешкалась, затем прошла в кухню, полная предчувствий, звавших ее поторопиться. Потом вернулась в комнату, где уже уснул Франсуа. Она прилегла, прислушалась к его ровному дыханию и тоже уснула.
В шесть утра ее разбудило внезапное ощущение холода рядом. Она открыла глаза, дотронулась до руки Франсуа — она была ледяной. Алоиза звала мужа, но он не отвечал. Она трясла его, но он никак не реагировал. Дыхание прекратилось. Он оставил ее, этот человек, словно солнце, освещавший ее жизнь, деливший с ней радость и горе, отдающий ей все лучшее, что у него было. Беззвучно рыдая, Алоиза восстанавливала перед глазами картину его возвращения с войны, с одержимым взглядом спрашивающего себя: «Откуда я пришел?» И воспоминания о страданиях тех времен мучили ее больше всего в то утро, воспоминания о страданиях, подорвавших сердце ее храброго мужа, чей окончательный уход пробудил в памяти Алоизы видение синей шинели, исчезающей за поворотом дороги, за деревьями любимого ею леса.
Она долго лежала, прижавшись к нему, не решаясь оповестить детей. Изо всех сил вцепившись в безжизненное тело, будто желая удержать возле себя, она чувствовала, как изнутри поднимается в ней волна отчаяния, готовая вновь накрыть ее с головой. Алоиза понимала. Она была согласна. Она не могла жить без него. Ей не хватало на это сил.
Наступившее утро она прожила с ощущением какой-то пустоты, предвестницы боли. Дети много суетились вокруг Алоизы, но она не очень понимала, почему. С ней говорила Одилия, а потом Шарль, и еще, как ей казалось, Луиза, которая на самом деле находилась в Африке. Все это длилось очень долго. Земля слишком замерзла, и не было возможности похоронить Франсуа. Нужно было ждать неделю до процедуры его захоронения в Сен-Винсене. Холода прошли, но падал снег. Как ни странно, в этот день к Алоизе ненадолго вернулась ясность сознания.
Но пришел вечер, а с ним вернулось отчаяние и перед глазами сгустилась уже знакомая непроницаемая дымка. Среди ночи Алоиза поднялась, беззвучно оделась и вышла в мерцающую звездами ночь. Шел легкий снежок. Она направилась в сторону Сен-Винсена ровным решительным шагом, немного проваливаясь в свежие сугробы. Через час она уже была на кладбище Сен-Винсена, открыла решетку, направилась к могиле Франсуа и заговорила с ним. Снег падал уже обильнее. Ей казалось, что могила нуждалась в защите, что Франсуа, наверно, замерз. Женщина медленно легла на серый мрамор и больше не двигалась.
В Аб Дая Матье с каждым днем охватывало все большее беспокойство, потому что ему не удалось попасть на похороны Франсуа и Алоизы, и он очень огорчался из-за этого. Даже через месяц он никак не мог свыкнуться с мыслью, что его брата и Алоизы больше нет. Матье еще помнил первый день 1900 года, когда они бок о бок с Франсуа искали признаки нового мира; помнил белые дни Рождества в Праделе и Пюльубьере; вспоминал, как они находили друг друга после войны, на фронте, и ему казалось, что без Франсуа его жизнь уже никогда не будет такой счастливой, как прежде.
К тому же в Алжире все менялось: с апреля 1955 года Жак Сустрель объявил чрезвычайное положение в стране и сверг правительство, незадолго до этого назначенное Мендесом Франсом. Французские войска были задействованы в миротворческих действиях, встретивших довольно сильный отпор, особенно в Оресе и Кабуле. «Эко д’Алже» и «Ла Депеш» вели регулярные подсчеты количества гранат и бомб, сброшенных на кафетерии и улицы городов.
В Матидже французская армия сражалась не против каких-то вооруженных группировок, как везде в округе. Восстание имело более скрытый вид: обрезанные телеграфные провода и перекрытые пути, и тех, кто тайно содействовал Национальному фронту освобождения, даже окрестили «феллахами». Они также организовывали поджоги в домах и подвергали репрессиям мусульман, хранивших верность и преданность европейцам. Это был самый эффективный способ, найденный Национальной освободительной армией, чтобы продемонстрировать людям, что делают с теми, кто содействует вражескому лагерю. Национальная освободительная армия нападала на всех, кто носил французскую государственную военную форму: на сельских полицейских, на жандармов и само собой на солдат.
Матье не раз сходился в оживленном споре с Роже Бартесом, братом своей жены.
— Надо защищаться, — отчеканивал Роже.
— Вспомни, что произошло в Филипвиле в прошлом году: сто двадцать три европейца были вырезаны арабами, — отвечал Матье. — Вот как начинаются насильственные действия. Одно влечет за собой другое, и потом уже ничего нельзя остановить.
Однажды, когда они спорили больше часа, Роже пришел в ярость:
— Значит, нужно позволить им перерезать нам глотки!
— Конечно же нет. Ты ведь знаешь, что прибыло подкрепление. Армия найдет источник бунта, я в этом уверен.
— Не с помощью пушечных выстрелов по воробьям. Как, по-твоему, танки доберутся сюда, в самый конец шауйа[9], в Орес?
— Но ведь необходимо что-то предпринимать, разве нет? Хорошо высказываться против Ги Молле и топтать цветы, возлагаемые им на памятники мертвым, но это не решит проблемы.
— 6 февраля европейцы выступали не против него, а против поста Мендеса Франса в его правительстве. После Туниса и Индокитая придет черед Алжира. Знаешь, как колонисты называют между собой Мендеса Франса? Бен Суссан — старьевщик.
Матье вздохнул и отвечал голосом, который хотел выдать за спокойный, но который был скорее слабым:
— Необходимо пытаться интегрироваться в местную жизнь, а не воевать. Сам же знаешь, что все феллахи под угрозой расправы жандармов будут собирать вооруженные отряды.
— Интегрироваться! — Роже ухмыльнулся. — Ты думаешь, что можно стать одним из арабов?
— Интегрироваться не значит ассимилироваться. Лично я доверяю Ги Молле. Он объявил в палате 16 февраля, что «нельзя позволять восьми миллионам мусульман диктовать свой закон полутора миллионам европейцев».
— Ты еще будешь жалеть об этом. Социалисты потеряли Тунис и Индокитай. Алжир им тоже не покорится.
— Я не о социалистах говорю. О радикалах.
— Да, можно и так сказать, — согласился Роже. — Это одно и то же.
Матье не возражал. Его утомили напрасные споры, противопоставляющие его брату Марианны, хотя до этого они отлично ладили. В действительности Матье не думал, что его земли находятся под угрозой. Он был уверен, что французская армия, которой он полностью доверял, положит конец восстаниям. Больше всего он беспокоился о семье. Он должен был все время быть начеку, не удаляться далеко от имения, чтобы не подвергать опасности своих близких.
Заканчивался март, и в Матидже поднялся ветер, приносящий с собой весеннее тепло. Хосин вел себя странно. Он попросил у Матье оружие, и тот дал ему ружье, таким образом проявляя свое доверие. Они оба остерегались феллахов. Несмотря на запрет Матье, в трущобах среди них все время появлялись и таинственно исчезали новые лица. Матье запрещал сыновьям, которым было уже по пятнадцать лет, одним далеко отходить от имения.
8 марта наступила ночь, полная шепота и странного шума, приносимого ветром. Кипарисы начали петь. Матье поставил кресло возле окна и наблюдал, зондируя ночь, за движущимися тенями арабов, двором, трущобами. В два часа ночи он заметил, как Хосин ходит вокруг дома с ружьем на ремне. Через десять минут Матье понял, что не видел, как он вновь появился. Матье еще немного подождал, затем взял свое ружье, спустился во двор и пошел вправо по направлению к виноградникам.
Дул сильный ветер с Атласа. Было невозможно услышать ничего, кроме его порывов, сгибающих ветви кипарисов. Луны не было видно. Матье шел вперед, согнувшись, сжимая под плечом приклад ружья, сильно давящий на его единственную руку, и знал, что не сможет быстро воспользоваться им, если вдруг возникнет необходимость.
Он на миг остановился, затем медленно пошел дальше и натолкнулся на что-то. Едва не упав, он оттолкнул препятствие ногой и понял, что это чье-то тело. Матье встал на колени, узнал ружье и понял, что это мог быть только Хосин. Матье заговорил с ним, но Хосин не отвечал. Матье попытался нести его к дому, но у него не получалось. Тогда он вернулся, разбудил сыновей и с ними уже вернулся к этому месту, с лампой в руках. Конечно, это был Хосин. Ему перерезали горло. Матье с сыновьями отнесли его в дом и попытались скрыть от жены Хосина то, что произошло, но обеспокоенная его отсутствием Неджма прибежала и подняла свой обычный визг. Марианна с трудом заставила ее замолчать. Встревоженные криками феллахи зажгли лампы в трущобах. Матье отправил их спать, когда они подошли с вопросами, затем поставил своего сына Виктора с оружием Хосина перед домом. Около правой ноги Хосина отпечатался след клейма с тремя буквами ФНО (Фронт национального освобождения).
На следующее утро, после ночи в карауле и тревоги, Матье пошел за советом к Роже Бартесу.
— Теперь ты понял? — спросил Роже. — Понимаешь теперь, в каком мы находимся положении?
Матье только что осознал, что на этой прекрасной земле наступил сейчас критический момент. С этого дня он прогнал феллахов, оставив только две семьи, давно работавшие в его имении. Остальные умоляли его не прогонять их, но Матье не уступил. Он выдал оружие сыновьям и защитил вход в дом колючей проволокой. Теперь он знал: чтобы остаться на этой земле, нужно сражаться и проливать кровь.
Через одиннадцать лет после окончания войны Люси оценила, как много было приложено усилий к восстановлению Германии. Даже в самых разрушенных городах исчезли следы бомбардировок союзников. Женщина имела возможность еще больше в этом убедиться, сравнивая пейзажи с представшими перед ней во время путешествия с Гансом много лет назад, когда она видела Германию разрушенной. Теперь же, весной 1956 года, это была вновь родившаяся страна, особенно в «американском» секторе, протянувшемся от Мюнхена на юг до Кельна. На севере находилась «английская» зона, на западе — «французская», на востоке — Демократическая республика под контролем русских.
Было очень сложно попасть из Западной Германии в Восточную. Но Люси нужно было именно туда, поскольку последнее письмо Ганса, полученное больше года назад, содержало берлинский адрес: 84, аллея Сталина. Люси ждала визы во Франкфурте, в гостинице на Берлинштрассе, за церковью Полскирхе. Она очень любила этот город, поскольку Ян получал здесь университетское образование. Они с Гансом навещали его летом, когда Люси сопровождала Ганса в Германию. Ей также нравился холмистый регион Хессе, напоминавший пейзажи ее родного высокогорья, замок Буассьер, где она проводила четыре месяца в году, терзаемая тревогой за сына, казалось, исчезнувшего бесследно.
Люси долго не решалась отправиться на его поиски. Ей стало казаться, что у нее такая судьба — быть разлученной со своими детьми. А потом она думала об Элизе, вновь обретенной после долгих лет расставания, и надежда вновь возвращалась к ней. Сегодня Гансу исполнялось двадцать пять, и он не мог исчезнуть. В любом случае ей казалась невыносимой мысль о потере еще и сына, ведь Ян уже ушел навсегда.
Как только виза была получена, Люси села на утренний поезд, направлявшийся к западному сектору Берлина, и прибыла туда в полдень. Все центральные здания были новыми, между ними — красивые зеленые насаждения, особенно в квартале, куда они попали, неподалеку от «русского» сектора и парка Тьергартен. В Берлине царила странная атмосфера подозрительности и недоверия. Западный и советский блоки стояли лицом к лицу, и по улицам курсировали вооруженные солдаты, полиция, много настороженных людей в униформе. Люси казалось, что даже за ней наблюдают. Ей было известно о происшедших здесь после окончания войны событиях: о блокаде Берлина, который «западники» захватили при помощи воздушного моста, о провозглашении на востоке Демократической республики с 1949 года, народном восстании в июле 1953 года и ужасных репрессиях, спровоцировавших массовые переселения в Западную Германию.
Ганс же прошел обратный путь. Она знала его мотивы, но отказывалась верить, что он не образумится. Люси направилась пешком к пограничному посту, расположенному между Рейхстагом и Фридрихштрассе. Там, несмотря на необходимые бумаги и визу, соответствовавшие всем требованиям, она вынуждена была ждать два часа разрешения пройти на другую сторону, предварительно ответив на ряд вопросов о причине, толкавшей ее на переход восточной границы. Наконец Люси позволили пройти, и она направилась вдоль широкой улицы, окруженной огромными зданиями, такими зловещими и не похожими на здания Западного Берлина. Она не прошла и двухсот метров, как подошли двое полицейских, взяли ее за руки и вынудили сесть в большую черную машину, не дав ей ни времени, ни возможности защититься.
— Куда вы меня везете? — спрашивала она.
Но никто не отвечал. Машина около четверти часа ехала на юго-восток и остановилась перед многоэтажным зданием на берегу Шарле. Полицейские вытащили Люси из машины и повели по бесконечному коридору, завели в лифт с десятком мужчин в форме, и Люси даже не знала, были ли это солдаты или полицейские. Затем ее заставили ждать в маленьком кабинете, не давая при этом никаких объяснений. Ей было страшно, она боялась, что впуталась в дело, которое может плохо закончиться. Люси много читала в газетах о том, что касалось Восточной Германии, и сейчас боялась, что ее засудят — а она так и не узнает за что — и бросят в тюрьму.
И потому женщина почувствовала необыкновенное облегчение, когда перед ней появился Ганс. Он почти не изменился, если не считать двух морщинок в углах губ и некоторой скованности движений. Она хотела поцеловать его, стиснуть в объятиях, но он остановил ее руку и зло спросил:
— Зачем ты сюда приехала?
— Я приехала увидеть тебя, Ганс, потому что уже два года от тебя нет никаких известий.
— Какое ты имела право?
— Ты мой сын.
— И что же? Это дает тебе право выслеживать меня, искать мое жилье?
У Люси подкосились ноги, она упала на кресло, стоявшее за спиной, и пробормотала:
— Я не преследую тебя. Я просто хотела узнать, все ли у тебя в порядке.
— Мне неудобно твое присутствие в этом месте. Тебе не следовало приезжать. Это может губительно повлиять на мою карьеру.
— Твою карьеру?
— Да. Я не имею права поддерживать никаких отношений с западным миром. Я обязался. Ты должна уехать и никогда больше не возвращаться. В любом случае ты и не сможешь. Я приму необходимые меры.
Люси была ошеломлена. Она прошептала, всхлипывая:
— Ганс, ты ли это? Точно ли это ты?
— Естественно, я. Ты разве не узнаешь меня?
— Нет, — сказала она. — Совсем не узнаю.
— Это из-за того, что я выбрал приоритеты, отличные от твоих. Моя жизнь изменилась. Она стала такой, о которой я всегда мечтал.
— Твой отец… — начала было Люси.
— Нет! Перестань! Не говори мне об отце. Он хотел примирить непримиримое. И потому он мертв. Я же знаю, чего хочу. Я отомщу тем, кто умертвил его.
— Уже слишком поздно, Ганс.
— Нет, еще не слишком поздно. Это прогнившая структура западного мира позволила нацизму разрастись. Такого больше не случится. В Европе рождается новый мир. Я выбрал его для себя, но не ты. Твоим он никогда не станет.
— Как ты можешь говорить такие вещи?
— Ты сама прекрасно знаешь. Я скажу, чтобы тебя провели.
— Нет, подожди, пожалуйста.
Люси больше не знала, что сказать, и пыталась задержать сына словами, но чувствовала, что они бесполезны:
— Будешь ли ты мне писать хоть иногда?
— Нет.
— Есть ли у тебя жена, дети?
— Это тебя не касается.
Последние его слова совсем опустошили ее. Женщина поднялась на ватные ноги и смиренно попросила:
— Позволь мне обнять тебя перед тем, как уйти.
Она подождала минуту и была вынуждена сесть, поскольку ноги больше не слушались. Появились те же полицейские, которые арестовали ее, и кивком головы пригласили следовать за ними. Она машинально подчинилась, даже не осознавая, что один из них, когда они спустились на первый этаж, успел ее сфотографировать.
По дороге назад Люси не видела ничего вокруг себя. Перед глазами стоял только Ганс, говоривший роковые слова. Сознание вернулось к ней только на западной стороне. Она не знала, не во сне ли все произошло. Сильнее всего было не разочарование и не горечь, а поселившийся в ней теперь страх. У нее оставалось только одно желание: убежать из этого мира, из этого города, несмотря на все его красивые пруды и огромные сады, возвратиться на улицу Суффрен, в замок Буассьер, где больше ничто не напомнит ей о Германии.
11
Оказывая партизанам французского Алжира моральную и физическую поддержку, Матье Бартелеми и Роже Бартес 13 мая 1958 года находились в Алжире и распевали «Марсельезу» возле памятника погибшим. За два года армии удалось изменить ситуацию к лучшему: уменьшилось количество покушений, и военные сборы проходили ежедневно, так что теперь уже пять тысяч харка[10] служили во вспомогательных войсках французской армии. Кроме того, со времени бомбардировки Сакьет-Сиди-Юсефа Армия национального освобождения была полностью отрезана от своих баз в Тунисе.
Матье и Роже все же не верили в стабильность ситуации, так как полагали, что в парижских политических кругах и министерских кабинетах царило опасное неведение сути проблемы. Президент Коти не знал, чью сторону выбрать. Пользуясь его бессилием, ассоциации алжирцев взяли дело в свои руки, желая показать Парижу, какому направлению следует отдать предпочтение: и речи быть не могло, чтобы провозгласить Пфимлина президентом палаты Советов, поскольку партизаны французского Алжира считали его поборником освобождения, а это грозило полным поражением, подобным происшедшему в Индокитае.
После убийства Хосина Матье больше не доверял армии. К тому же люди, благосклонно относящиеся к идее французского Алжира, были отозваны в столицу: Сустрель, Робер Лакост и многие другие — они, будучи вовлечены в дело, отлично понимали ситуацию и умело руководили ею. Матье без колебаний отправился на машине в компании Роже Бартеса в Алжир по призыву Ассоциации защиты арабов, в которой они состояли уже более двух лет. Матье оставил Виктора и Мартина охранять имение — в свои семнадцать они уже были способны постоять за себя.
В это полуденное время их собралось в Алжире больше сотни тысяч, чтобы высказать свое недовольство Национальному фронту освобождения, недавно приговорившему к смерти трех молодых солдат-призывников, и высказаться против возможного командования Пьера Пфимлина в Париже. В восемнадцать тридцать, когда представители власти ушли от памятника погибшим, Матье и Роже оказались захвачены неистовой толпой, и этот водоворот отнес их к площади правительства страны, охраняемой жандармами Республиканской кампании по безопасности.
Площадь была черной от большого количества людей. Будто все манифестанты хлынули сюда по какому-то приказу. Над этой суматохой раздавались крики, сменяющиеся политическими песнями: «Да здравствует Салан!», «Армия с нами!», «Французский Алжир!» Толпа разлучила Матье и Роже. Матье пытался выбраться из толпы, сжавшей его в тридцати метрах от решетчатой ограды правительства, и в этот момент перед ним взорвалась первая слезоточивая граната. Она спровоцировала волну отступления, но это только усилило ярость демонстрантов. В следующий момент Роже ощутил, как его относит к ограде, а на толпу падали все новые гранаты, не оказывающие особого эффекта на бунтовщиков. Жандармы Республиканской кампании по безопасности слабо сопротивлялись. Охрана быстро уступила напору, без единого выстрела. Тогда толпа с криками бросилась к ступеням и проникла в середину здания, разбив стеклянные двери.
Матье следовал за толпой, даже не задумываясь над своими действиями. В коридоре он видел, как его протащили мимо генерала Массю, охраняемого четырьмя солдатами в костюмах парашютистов. Кто-то рядом показал ему голлиста Дельбека и, в нескольких метрах, Пьера Лагайарда, депутата. Матье понял в этот момент, что произошло нечто, имеющее колоссальное значение. Манифестантам хватило получаса, чтобы завладеть Домом правительства. Теперь начнется совсем другая жизнь.
Он попытался найти Роже и обнаружил его на ступенях перед Домом. Они остановились, переводя дыхание и осознавая случившееся, обдумывая, что делать дальше.
— Нужно подождать, — сказал Роже. — Неизвестно, что еще может произойти.
Матье больше не волновался. В помещение уже вошли войска. С Саланом и Массю Париж ничего не мог предпринять против тех, кто хотел оставить Алжир французской территорией. Друзья еще больше уверились в этом, когда узнали, что Массю стал во главе только что созданного Комитета народного спасения. Матье уже готов был возвращаться в Аб Дая, но Роже заметил ему, что ночью это будет довольно опасно. Они решили дождаться утра и отправились на поиски ночлега в охваченный безумием, пахнущий порохом и дымом город. Манифестанты не расходились. Везде, на каждой улице были солдаты, даже у подножия городской крепости — Касбаха. Матье и Роже нашли комнатку в гостинице «Бабель-Уед» и, поскольку сон к ним не шел, беседовали всю ночь напролет, полные новых надежд.
На следующее утро они с рассветом отправились на поиски новостей. В Париже к власти пришло правительство Пфимлина, но приближенные Бельбека уверяли: Салан и Массю не отступят. Правильным решением было возвращение в Алжир и учреждение комитетов гражданской помощи в своих коммунах. Руководствуясь такой официальной инструкцией, Матье и Роже отправились в Матиджу и были там к обеду.
Дома они узнали, что Гонзалес, управляющий колонией, был убит автоматной очередью по дороге в Буфарик, куда он направлялся за семенами. Матье вспомнились их прошлые столкновения, их различия во взглядах, и ему показалось, что сейчас он лучше понимал аргументы, приводимые Гонзалесом. Он долгое время верил в мирное сосуществование с арабами, но сегодня Матье знал, что оно невозможно. Таково было положение вещей. Никто не мог этому помочь. Матье терпеливо скупал и обрабатывал земли, которые сейчас Фронт национального освобождения требовал отдать. Что же он мог теперь делать, если не защищать свои земли бок о бок с теми, кто был способен на это, — в составе армии? Как он мог отказаться от сорока лет напряженной работы, от будущего своих детей? Это было невообразимо. Он больше не имел права отступать.
Вместе с Роже Бартесом и другими арабами, в том числе и Колонной, они основали Комитет гражданского спасения в Шелли и не переставая слушали новости, приходившие из Алжира. И не напрасно: 15 мая на балконе Дома правительства Салан выкрикнул: «Да здравствует де Голль!», что наполнило души партизан французского Алжира неизъяснимой радостью. Последствия не заставили себя ждать: 28 мая Пфимлин подал в отставку, и 1 июня генерал де Голль был назначен главой государства и получил все полномочия.
— Мы спасены, — сообщил Роже Матье, когда новость дошла до Шебли.
Они тут же приступили к роспуску своего комитета и вернулись домой уверенные, что их будущее спасено.
Шарль Бартелеми очень тяжело переживал смерть своих родителей. Они оставили мир два года назад, и все же их отсутствие сильно поражало его при каждом приезде в Пюльубьер. Ему не удавалось свыкнуться с этой мыслью. Ему не давала покоя даже не смерть отца, а скорее навязчивые картины трагического, одинокого ухода из жизни матери. Выбрать смерть, чтобы не пережить мужа — эта идея казалась Шарлю очень красивой, но умирать так, в одиночестве, под снегом и в сильный мороз — это событие заставляло его обвинять самого себя, что не предвидел подобного хода событий. Но стал бы он мешать матери? Может быть, попытался бы, но имел ли он на это право? Не переставая он размышлял над этим вопросом и не находил ответа, несмотря на два прошедших года.
Сегодня он сожалел, что не может рассказать родителям о предложении стать преподавателем колледжа. Он отказался, но его интересовало, поступил бы он так, если бы Франсуа и Алоиза были еще на этом свете.
— В любом случае, — говорил ему инспектор, — вы не сможете отказаться от должности директора школы, которая скоро будет вам предложена.
— У меня будет время подготовиться к новым обязанностям? — спросил Шарль.
— Меньше, чем вы полагаете, — был ответ инспектора, которому не удалось скрыть негодование.
Шарль принял такое решение из боязни быть разлученным с Матильдой, но это было не главной причиной. Кроме того, что ему нравилось преподавать в начальной школе, он не мог допустить мысли, что Матильде не будут предоставлены те же предложения о повышении служебного положения, что и ему, из-за первых оценок, полученных ею в Аржанта. Это казалось ему большой несправедливостью. И так он протестовал против судьбы, уготованной его жене. Матильда, со своей стороны, уговаривала его принять предложение, но Шарль не уступал. В начале года, в октябре они вновь учили детей бок о бок, как и раньше.
Как обычно, они провели это лето в Усселе и Пюльубьере. Теперь им легче было ездить, поскольку в 1955 году они приобрели свою первую машину: «рено» в четыре лошадиные силы зеленого цвета, с которой Эдмон не сводил глаз. К тому же Шарль слышал в речах младшего брата все больше и больше горечи. По словам Эдмона, он с трудом перебивался в этом крохотном имении. Ему потребовался займ на закупку оборудования, и сегодня сумма долга достигала почти его годового заработка.
Шарль подумал, что ни он, ни Луиза не требовали компенсации в момент раздела имущества. Родители дали им больше, чем Эдмону, оплатив их обучение, и Шарль сочувствовал горю брата. Несмотря на его желчность, Шарль старался не вступать с Эдмоном в конфликты, наоборот, пытался помочь изо всех сил.
— Я могу быть твоим гарантом, если хочешь, — предлагал Шарль, — и ты сможешь купить больше земли. Здесь она стоит не очень дорого.
Эдмон и вправду мог бы докупить земли, ведь в поселке жила только одна крестьянская семья. Остальные же оставили участки, уехали в города.
— А если я не смогу выплатить долг, что произойдет тогда? — спрашивал его Эдмон.
— Есть только одно решение — увеличивать размеры имения, — отвечал на это Шарль.
— Зачем увеличивать? Робер пойдет в армию, может быть, даже в Алжир. Кто будет помогать мне, когда он уедет? И кто знает, вернется ли он?
— Перестань! — успокаивал Шарль. — Я надеюсь, что война закончится прежде, чем твоего сына призовут. А тебе всего сорок два. А еще, вспомни, ты всегда хотел остаться здесь.
— Это была не самая лучшая моя идея.
Иногда их споры проходили в болезненном для Шарля тоне. Было ясно, что жить с Эдмоном сложно, но что было делать? Шарлю нравился Пюльубьер. Он давно запланировал купить здесь маленький домик, брошенный, например, семьей Ребер, но Матильда, родившаяся и выросшая в Усселе, невысоко ценила опустевшую деревушку.
— Детям тут хорошо, — настаивал Шарль. — Здесь они отдыхают от города.
Матильда не отвечала. Она поняла, что он не отступится от своей мысли. Правдой было также, что дети были счастливы побегать здесь по лесам и полям, помогать в полевых работах, пожить жизнью, так сильно отличающейся от той, которая была в Аржанта. Но Матильда говорила, что они потратили свои сбережения на машину в прошлом году. И разумно ли занимать деньги, чтобы купить небольшой, никому не нужный домик Реберов, который отдавали за двести тысяч франков?
Дело удалось быстро уладить. Уже давно наследники Реберов искали покупателя. Шарль и Матильда смогли немного заняться обустройством в середине августа, но дел было немного. Большая гостиная, обложенная плиткой, отапливалась огромным камином с чугунной подставкой для котла, и в этой комнате можно было и готовить, и собираться во время обеда. Оттуда можно было пройти в две спальни направо, в комнатушку, служившую уборной. Это был и весь дом. Еще при необходимости можно было обустроить чердак на втором этаже. Однако пока для него не было мебели. Но до следующих длинных каникул оставалось много времени. К тому же на Рождество они должны были быть в Усселе.
Эдмон никак не показал этого, но в глубине души был очень разочарован покупкой брата. Ему нравились их беседы, их обмен новостями о событиях в городе, и Эдмону были очень симпатичны как Шарль, так и Матильда. Эдмон с семьей жили в одиночестве в Пюльубьере целый год, вдали от всего мира, и Робер скоро должен был уйти в армию. Вернувшись, он женится, во всяком случае, они на это надеялись, но как же тогда они смогут жить в имении двумя семьями, если им и так средств едва хватало? Нет, Шарль правильно сделал, что купил дом в деревне. Это было разумное решение: о нем не следовало жалеть.
К тому же, несмотря на все трудности и нерешенные вопросы относительно будущего, Эдмон знал, что он не сможет жить нигде, кроме Пюльубьера. Он сам выбрал такую жизнь. И даже если у Шарля жизнь сильно отличалась от его собственной, даже если он купил отдельный дом и таким образом немного отдалился от него, Эдмон не сомневался, что может полностью рассчитывать на брата, чтобы продолжать жить той же жизнью, какой жили их ушедшие родители.
Элиза наконец решилась открыть магазин в Лондоне, а затем, через год, еще один в Нью-Йорке, но не скрывала от Люси всех трудностей, которые повлечет за собой это решение.
— Надо уметь противостоять трудностям, запастись терпением, пока не начнут приходить первые дивиденды, — убеждала Элиза мать, не рассеяв, однако, до конца и собственных сомнений.
Она приняла меры предосторожности, тщательно обдумав решение открыть магазин в очень оживленном районе возле Центрального парка, но не могла предвидеть, что понадобится так много времени, чтобы появились постоянные клиенты.
— Будь осторожна, — советовала Люси, — не рискуй слишком многим. Лучше приезжай в Коррез. Отдых там поможет тебе обдумать объективное положение вещей.
— Не в ближайшем будущем, — отвечала Элиза, — но обещаю, приеду.
Уезжая с Паулой в замок Буассьер, Люси была охвачена беспокойством. Ей не удавалось почувствовать прелесть нежной прохлады лета в тени большого парка, насладиться воспоминаниями в комнате Норбера. Она слишком много думала о Париже, а также о покинувших этот свет Франсуа и Алоизе. Люси тосковала по Пюльубьеру. Она побывала там еще пару раз, но отношения с Эдмоном и Одилией, конечно же, были совсем не те, что с братом и его женой. Она намного лучше ладила с Шарлем и Матильдой, которые регулярно ее навещали.
Подобные часы в приятной компании отвлекали ее от раны, нанесенной сыном Гансом, не подававшим о себе никаких вестей. Эта тишина, вдобавок к трудностям Элизы, лишала Люси сна. Во время бессонницы Люси ловила себя на мыслях о смерти. Она часто ходила на кладбище Сен-Винсена, думала о том, что разменяла уже седьмой десяток, что большая часть жизни позади. К счастью, Элиза и Паула оставались возле нее. Но Элиза также была причиной для беспокойств. Она ведь пошла на риск и могла разориться!
К слову, Элиза приехала в конце месяца весьма обеспокоенная. По дороге от вокзала до замка она ни о чем не говорила, но как только они прибыли, не стала скрывать решение, которое была вынуждена принять.
— Придется продать замок, — объявила она.
Люси не знала, что и сказать, и Элиза добавила:
— Мне очень жаль, но я не могу поступить по-другому. Мне нужны деньги, и очень быстро.
— Замок принадлежит тебе, доченька, и ты вправе распоряжаться им.
— Да, но я знаю, как много он стал значить для тебя в последнее время. Мне так жаль.
Паула возмутилась: ей тоже было очень хорошо в этих полюбившихся стенах.
— Ты, может быть, однажды поблагодаришь меня, — сказала ей Элиза. — В любом случае, у меня нет выбора. К тому же мне надо быстро возвращаться, но я хотела сообщить тебе новость с глазу на глаз.
Люси поняла тогда, что дочь приехала к ней почерпнуть необходимые силы для боя, который вряд ли будет легким.
— Не переживай, — успокаивала она дочь. — Я уверена, тебе все удастся.
Элиза уехала через два дня, попросив Люси заняться продажей. Необходимо было действовать так быстро, как только возможно, потому что велика была угроза все потерять. Поэтому на следующий день после отъезда дочери Люси направилась к нотариусу в Борт, и он нисколько не удивился. Он наверняка был в курсе финансовых проблем Элизы. Нотариус дал понять Люси, что найти покупателя будет несложно. Теперь, когда политическая ситуация стабилизировалась, дела у всех пошли на лад.
Вернувшись в замок, Люси предупредила Жоржа и Ноэми Жоншер и пообещала им сделать все, что в ее силах, чтобы новые владельцы оставили их у себя на службе. Затем она попыталась прожить как можно лучше последние дни, отделявшие ее от окончательного разрыва с важной частью жизни. Она больше никогда не сможет спать в комнате Норбера. Никогда больше он не привидится ей, склоненный над ней в ночной полутьме. Ей казалось, что Норбер умирал во второй раз. Теперь Люси целыми днями бродила по комнатам первого этажа, по коридорам, спальням, трогала мебель, предметы, картины, а затем надолго скрывалась в комнате Норбера, чтобы предаваться продолжительным видениям, забывая все, что ее заботило и беспокоило. «Я будто готовлю себе запасы», — думала она про себя. И так оно и было: она намеревалась запечатлеть в памяти цвета и мельчайшие детали этого заколдованного места, которое скоро потеряет навсегда.
В последние дни Люси подолгу гуляла в парке, усаживалась перед умывальником, где когда-то стирала белье, на крыльце, видевшем столько празднеств, перед ее глазами вновь проносились восхитительные туалеты дам, глубоко поражавшие ее, слышался смех гостей, большинство из которых сегодня были уже мертвы. Это прошлое оставалось жить только в ее воспоминаниях, но долго ли они продержатся? Она и не думала, что настолько привязана к этому замку, в который прибыла в возрасте шестнадцати лет. Люси так горевала, что покинула замок на два дня раньше.
Это произошло однажды утром в конце августа. Она окинула взором парк, где листья уже начали приобретать золотистый цвет конца лета. Люси повернулась, мысленно прошлась по комнате, в которой ей вновь было шестнадцать, где Норбер часто держал ее в своих объятиях. Она решилась выйти, только когда все впереди заволокло туманом. В слезах тонул и уходил навсегда в прошлое ее волшебный мир. Она едва набралась духу в последний раз пройтись по парку, залитому горячими лучами солнца.
Подойдя к машине, Люси не могла сдвинуться с места, не в силах оторвать взгляд от комнаты Норбера. Ей казалось, что чья-то рука отодвигает занавеску. Ей захотелось еще раз туда подняться, но ноги едва держали ее. Женщина открыла дверцу машины, села возле Паулы и не решалась повернуть ключ зажигания.
— Мы поедем или корни тут будем пускать?! — нетерпеливо воскликнула Паула.
Голос внучки наконец пробудил Люси от грез. Маленькая ладошка Паулы легла на ее руку, и Люси ощутила, что рядом с ней дорогое существо. Она не имела права жить, обращаясь взглядом только в прошлое, — ее дочь и внучка нуждались в ней. Люси не торопясь завела двигатель, проехала по аллее, не оборачиваясь, выехала на дорогу, наконец прибавила скорость, уверенная, что сможет прожить остаток лет счастливо только при условии, что будет изо всех сил помогать этим существам, которые сегодня были рядом с ней.
В Аб Дая сбор виноград проходил с большим трудом, поскольку Матье, охваченный подозрениями, прогнал всех феллахов. Поступая так, он знал, что, возможно, толкает их на восстание, но что ему еще оставалось? Достаточно было одного незамеченного Национальным освободительным фронтом ненадежного элемента, чтобы подвергнуть риску всю семью. Большинство арабов поступали так же, даже если жили одни, в эти суровые времена они предпочитали сами работать на земле. Они также помогали друг другу в самой сложной работе, еще больше отстраняясь от общества, не выпускали оружия из рук, жили под угрозой расправы со стороны Национальной освободительной армии, численность которой росла даже в самых отдаленных районах.
В Матидже уже спала эйфория от прихода к власти генерала де Голля. Хоть он и назначил премьер-министром Мишеля Дебре, партизана французского Алжира, но при этом удалил Сустеля с поста министра внутренних дел. Некоторые благосклонные к генералу парижские газеты начали поговаривать о «самоопределении». Что это могло значить? Куда направлял де Голль свою политику? Роже Бартес перестал ему доверять, но Матье еще верил в действия и в личность генерала. Он все время повторял: никогда самый пламенный боец французской армии не оставит Алжир.
А тем временем надо было обрабатывать землю, жать, собирать виноград. К счастью, Виктор и Мартин работали сейчас как взрослые мужчины. Матье очень гордился ими. Мартин долго оставался хрупким, проводил больше времени рядом с матерью, чем с отцом, но сейчас он догнал брата: жизнь научила его выносливости. Теперь, как и Виктор, Мартин носил оружие и не меньше брата работал на земле. Они были так называемыми разнояйцевыми близнецами. У Виктора глаза были черными, а у Мартина — зелеными. Мартин был немного ниже, но всегда доминировал в отношениях. Но они всегда ладили: Матье никогда не видел, чтобы они дрались, даже в переходном возрасте, когда мальчики превращаются в мужчин. Эти мальчики вообще приносили ему только радость.
Как можно было управиться со сбором винограда вдесятером, когда в предыдущие годы они с феллахами едва справлялись? А ведь тогда их было тридцать. Единственным выходом было по ночам выдавливать в пещерах виноградный сок, при свете ламп. Матье и сыновья отдыхали по очереди, почти не оставляя времени на сон. Сложнее всего было переправлять бадьи с виноградом в дом по вечерам.
В частности, в последний вечер, когда Роже и Матье принялись мять виноград, Мартин и Виктор пригнали грузовичок, чтобы последний раз съездить к виноградникам. Наступала душная жаркая ночь, насыщенная запахом сусла, зажигающая над Атласом красивое красное зарево. За рулем сидел Виктор. Мартин, убаюканный, от усталости заснул рядом с ним, склонив голову. Виктор оставил грузовик у въезда в виноградник, затем братья вышли из машины без ружей: им нужны были руки, чтобы донести чан до машины. Это было не так уж и просто. Нужно было действовать в два этапа: сначала поднять бадью одним махом, затем, прижимая ее к краю кузова, перевести дух, вновь напрячь мускулы, чтоб еще поднять ее, но не опрокинуть.
Виктор оставил фары включенными. Ни у одного из братьев не было никаких опасений. Они привыкли к жизни в напряженной обстановке и в тот вечер думали только о том, как бы быстрее отвезти домой последнюю бадью и отправиться ужинать и отдыхать. Но последняя бадья находилась как раз дальше всего от грузовика. Виктор зашагал по тропинке, Мартин позади него вытирал пот с лица. Когда в кипарисах блеснул приклад ружья, он успел только упасть на землю. Виктор сделал то же. Мартин позвал его, но Виктор не отвечал. Мартин подкатился к машине, добрался до ружья и выстрелил в направлении кипарисов. Звук выстрела многоголосым эхом прозвучал над Матиджей, вызвав лай шакалов у стен Атласа, вдоль дороги в Креа. Затем наступила тишина, нарушаемая только шепотом кипарисовых ветвей.
— Виктор! — закричал Мартин.
Он подбежал к брату, лежавшему лицом к земле, повернул его и издал стон: Виктор был весь в крови, от живота до шеи. Он больше не дышал. Мартин перезарядил ружье и с криком побежал к кипарисам. Он стрелял, перезаряжал, вновь стрелял, охваченный гневом и болью, затем медленно вернулся к брату и обнял его, будто желая защитить.
В этом положении его застали Матье и Роже, прибежавшие с оружием в руках. Матье сначала подумал, что Виктор просто ранен, но когда он понял, что его сын ушел из жизни, обезумел. Роже пришлось крепко держать его. Но Матье, чьи силы удесятерила боль утраты, смог вырваться.
— Помоги мне! — закричал Роже Мартину. — Возьми ружье!
После полуминутной борьбы Матье вдруг опустился на землю и обхватил голову руками.
— Быстрее! — закричал Роже. — Они могут вернуться.
Они отнесли тело Виктора к машине, положили его между бадьями, и Мартин сел за руль, а Роже и Матье сели рядом. Над молчаливой Матиджей сомкнулась ночь. Через десять минут ее пронзили крики Марианны, и у Матье даже не было сил утешать ее. Он весь был охвачен болью, сидя на ступенях, с согнутой спиной, и не мог думать ни о чем, кроме окровавленного тела своего ребенка.
III КРАСНЫЕ ВЕСНЫ
12
Летом 1961 года высокогорье раскрасилось яркими цветами. Шарль, Матильда и их сыновья приехали сюда на два месяца каникул. Но в эти каникулы им не удалось побездельничать: Шарль помогал брату Эдмону в его многочисленных делах и приобщал к этому детей: Пьеру уже исполнилось пятнадцать, а Жак в свои двенадцать не заставлял себя упрашивать заносить сено и участвовать в молотьбе. Ему нравились эти занятия, он с удовольствием работал в поле и надеялся в будущем осесть в Пюльубьере на всю жизнь.
— Вот если бы мой сын был похож на твоего! — с сожалением восклицал Эдмон.
— Он скоро вернется, твой сын, — отвечал ему Шарль. — Я уверен, в Алжире это все скоро закончится.
Однако приходящие оттуда новости были тревожны: засады и покушения в городах и селах не прекращались. Некоторое время даже поговаривали, что бомбы были подложены арабами, противящимися самоопределению, принятому решением референдума в январе прошлого года.
— Даже если он вернется, не думаю, что он останется жить с нами, — говорил Эдмон.
— Я останусь, — говорил Жак, ловя на себе скептический взгляд отца, знавшего, какие трудности предстоят тем, кто решил связать свою жизнь с работой на земле.
Несмотря на новые франки и стабильность валюты, в действительности в южных, центральных и западных деревнях было все труднее следовать условиям, диктуемым современным Общим рынком. И если крупные сельские хозяйства соответствовали этим условиям с легкостью, удваивая количество удобрений и достигая рекордных урожаев, то два миллиона усадеб площадью меньше чем пятьдесят гектаров едва могли прокормить тех, кто остался им предан. Общества земельного обустройства и сельского учредительства были основаны в департаментах, чтобы внедрить право первой руки (преимущественное право покупки) на продажу земель с целью их приобретения и последующего распределения юным фермерам. Но эта задача в нуждающихся регионах была настолько невыполнимой, что ситуация не продвигалась и не изменялась в лучшую сторону. С полученных таким способом земель сложно было получать прибыль, и мелкие фермеры все больше обрастали долгами.
— Лучше учись профессии, которая прокормит тебя в городе, — говорил Эдмон Жаку, ласково теребя его выгоревшую на солнце шевелюру.
— Нет, — возражал ребенок, — я хочу жить здесь, косить сено, жать пшеницу. Не хочу я жить в городе.
Шарль был очень осторожен. Он видел, с каким трудом перебиваются Эдмон и Одилия здесь, в Пюльубьере, и знал, что этот мир маленьких угодий был обречен, но он также не забывал, что и отец, и мать работали на земле всю свою жизнь, а следовательно, было в этих неблагодарных землях нечто святое, что нельзя было оставить.
— Я больше не хочу ходить в школу. Хочу остаться здесь, в Пюльубьере, и быть фермером, — твердил Жак. — Мне не нравится школа, и мне не нравится жить в городе.
Пьеру же так легко давались занятия, что Шарль и Матильда не переставая удивлялись бунтарскому настрою второго сына. Матильда считала, что Жак хотел стать фермером не потому, что был чем-то недоволен. В Тюле и других городах было немало специальных училищ, где он мог бы выучиться достойному ремеслу. Шарль и Матильда даже спорили об этом.
— Если бы мы не купили этот дом здесь, — вздыхала она иногда, — ребенок не забивал бы себе голову смехотворными мыслями.
— Нет ничего постыдного в том, чтобы быть крестьянином, — отвечал задетый за живое Шарль.
— Я не это имела в виду. Ты прекрасно знаешь.
— А что?
— Я хотела сказать, что если у нас есть возможность учиться чему-нибудь, не стоит ее упускать. Вспомни сам, как сильно твой отец хотел заняться обучением, но был вынужден оставаться на ферме с двенадцати лет.
— Это вопрос темперамента. Этому ребенку не нравится город. Он счастлив только в Пюльубьере. Разве не стоит считаться с его мнением?
— В двенадцать лет что можно знать о жизни? И к тому же земля не твоя, а твоего брата. А у него есть сын, который все унаследует.
Шарль вздыхал и не настаивал. Он подозревал, что Матильда просто боялась, что дети слишком быстро покинут семейный круг. Пьер ведь и вправду скоро должен был начать учебу в лицее Эдмон-Перриер в Тюле, в сентябре он поступит во второй класс лицея, потому что его обучение в колледже Аржанта с третьего по шестой класс уже подходило к концу. Жак поступал в тот же колледж, что и брат, по меньшей мере на год или два, а может, и до получения аттестата. А там будет видно. Вопрос о техникуме или сельскохозяйственной специализированной школе пока так остро не стоял.
— Еще рано об этом думать, — говорила Матильда. — Через два-три года он наверняка изменит мнение.
Все каникулы прошли в оживленных обсуждениях, споры продолжались до самого отъезда. Они покинули Пюльубьер одним сентябрьским утром, когда небо было необычайно глубоким, а звуки необыкновенно звонкими. Казалось, что по лесу, как по пещере с зелеными сводами, гуляло эхо. Глухое эхо гуляло по долине и терялось в степи, меняющей цвет. Плоскогорье, медленно покачиваясь и вздыхая, встречало осень.
Время приближалось к полудню. Они собирались садиться за последний во время этих каникул обед, когда услышали в верхней части деревни громкие крики. Они узнали голос Одилии, вышли из дому и увидели ее, быстро приближающуюся к ним по тропе.
— Эдмон! Быстрее! Быстрее!
— Что произошло? — спросил Шарль.
— Туда! Туда!
Она была не в состоянии что-либо пояснить. Женщина рукой показывала на лес, на то место, где виднелся спуск к долине. Шарль хотел остановить ее и попросить объяснений, но она словно потеряла рассудок и все время повторяла одно:
— Эдмон! Там! Там!
Шарль и Матильда помчались за ней к тому месту, куда она показала, приказав детям вернуться в дом. Но они не послушались и бежали за ними на расстоянии, притягиваемые страхом, охватившим всю семью, когда Одилия появилась на дороге. Им понадобилось пять минут, чтобы добежать до гребня, с которого открывался вид на необработанные земли, на которых Эдмон, как он сообщил неделю назад Шарлю, собирался производить глубокую вспашку. Первое, что увидел Шарль — внизу, возле леса, — колеса перевернутого трактора. Он сразу все понял и повернулся к Матильде:
— Забери детей! Не надо, чтобы они приближались.
Он поспешил к трактору, под которым заметил тело брата. Шарлю стало понятно, что произошло: целина была такой бугристой, что трос не выдержал, и трактор перевернулся, раздавив водителя, не успевшего выскочить. Шарль надеялся, что Эдмон был только ранен. Но когда он склонился над братом, то понял, что жизнь уже покинула его тело. Шарль поднялся со слезами на глазах и крикнул Матильде и детям, приближавшимся, как завороженные, несмотря на его советы:
— Не подходи! Уведи их!
Матильда будто очнулась от страшного сна, взяла детей за руки и отвела их к перевалу. Одилия же склонила колени перед телом мужа, держа его голову в своих руках. Шарль хотел помочь ей подняться и прошептал:
— Идем! Мы больше ничем не можем помочь.
Но она оттолкнула его и легла возле Эдмона, чья грудь скрывалась под трактором. Струйка крови текла у него изо рта. Его глаза смотрели в небо, но больше не могли моргать. Их напряженность и гримаса страдания на губах говорили об ужасе последних пережитых мгновений.
— Едь на машине в Сен-Винсен! — закричал Шарль Матильде. — Скажи мэру, чтобы приезжал с мужчинами и трактором. Я останусь тут.
Матильда немного замешкалась, а затем уехала, забрав с собой сыновей. У Шарля сразу отлегло от сердца. Он сел возле Одилии, взял ее за руку, попытался увести.
— Идем, — говорил он, — давай уйдем.
Ему удалось немного ее отстранить, и она, дрожа, прижалась к нему. С того места, где они были сейчас, не было видно тела Эдмона, только трактор. Шарль вспоминал, как брат ходил в школу по дороге в Сен-Винсен, залезал на деревья в поисках гнезд, дрался с встречаемыми им по дороге хулиганами. Он также вспоминал Эдмона в вечернюю пору, за семейным ужином, когда тот сидел лицом к нему, обеспокоенный своими плохими школьными отметками, и думал только о том, как будет в будущем работать бок о бок с отцом на своем родном плоскогорье. И это плоскогорье убило его. Шарль успел еще подумать, что у него не осталось больше ни отца, ни матери, ни брата. У него была только Луиза, его уехавшая в Африку сестра, от которой давно не было вестей. Несмотря на то что Одилия была рядом, Шарль вдруг ощутил невероятное одиночество, захотел уйти, но она крепко держалась за него, и ему не удавалось отстраниться. Тогда он решился ждать и вдруг почувствовал себя чужаком среди красот плоскогорья, начинавших уже покрываться медью и золотом, на этом южном ветру, веявшим над целиной теплым дыханием, приносящим запах каштанов и опавшей листвы.
В августе Люси узнала печальную новость о возведении берлинской стены. С тех пор ей стало казаться, что барьер, отделяющий ее от сына, стал непреодолимым. Ганс был навсегда потерян для нее. Она думала именно об этом, глядя в иллюминатор пассажирского лайнера «Эйр Франс» на океан, пересекаемый ею впервые, по приглашению Элизы, жившей теперь в Нью-Йорке.
За три года ее дочь пережила цепь счастливых событий, ее дела процветали. А все благодаря ее мужу, Джону В. Бредли, с которым Элиза познакомилась во время своего первого приезда в США и который с тех пор стал ее компаньоном. Элиза быстро перебралась из своего магазинчика на Восьмой авеню в великолепный и огромный бутик Джона Бредли на Пятой авеню, между Центральным парком и Рокфеллер-центром. Люси взяла на себя управление бутиком в Париже и присматривала за Паулой, поскольку Элизе приходилось много путешествовать. Она сама поставляла в бутики редкую европейскую и американскую мебель. Люси и Джон Бредли продавали низенькие столики, письменные столы, серванты, кресла из Италии, Голландии, Франции, Германии, и не только богатым коллекционерам, но также дизайнерам, с которыми Джон Бредли был в партнерских отношениях.
Люси и сама стала специалистом по антикварной мебели, особенно увлекаясь французской мебелью XIX столетия в стиле ампир, как та, что находилась в замке Буассьер и от которой у нее остались волнующие воспоминания. Однако же Люси раз и навсегда решила обратиться мыслями в будущее, забыть про свой возраст — шестьдесят шесть лет — и наслаждаться всем тем, что благодаря дочери было теперь доступно ей. Например, Нью-Йорком или Лондоном, куда она дважды ездила за прошедшие несколько лет.
Она часто думала о своей судьбе — судьбе крестьянки, уроженицы Праделя, умудрившейся попутешествовать по всему миру; побывать в Германии, Швеции, Англии, а теперь еще и в Штатах. Люси также думала о деньгах, заработанных ею с тех пор, как Элиза доверила ей магазин в Париже, обо всей роскоши вокруг нее, о людях из мира, всегда казавшегося ей запретным, и иногда у нее начинала немного кружиться голова и ей было жаль, что не хватает времени наведаться в Пюльубьер.
Ее жизнь, раньше, казалось, подходившая к концу, сейчас вела ее к горизонтам невероятной величины и красоты, как этим утром, когда Люси смотрела на океан сквозь облака, а самолет уже начинал снижаться. Она рассматривала небоскребы Нью-Йорка, огромные размеры города по обе стороны Манхэттена, над Ист-Ривер, где открывалась огромная бухта невероятно чистого искрящегося голубого цвета, и пристегнула ремень, как рекомендовала стюардесса, молодая брюнетка, улыбающаяся и элегантная в своем шелковом костюме.
Меньше чем через час Люси уже ехала в такси в компании дочери по направлению к Манхэттену, где находились и бутик, и квартира Элизы, магазин — на первом этаже, а квартира — на двадцать пятом, и из окна открывался вид на Квинс, Бруклин и бухту, испещренную большими белыми кораблями. Люси никогда не видела подобной красоты. Она думала, что спит, спрашивала себя, не разница ли во времени погрузила ее в эти мысли наяву, слушала, как Элиза говорит о проблемах поставки и возрастающем спросе на французскую и итальянскую мебель по эту сторону Атлантики, о Джоне Бредли, ожидающем их внизу.
— Ты, наверно, хотела бы немного отдохнуть? — спросила Элиза.
— Если мне удастся вздремнуть часок, думаю, я буду в полном порядке.
— Тогда поднимайся в свою комнату.
Это были великолепные апартаменты, меблированные с большим вкусом. Люси отметила комод из Прамы с палисандровой фанеровкой розового и фиолетового дерева, книжный шкаф из вишневого дерева, состоящий из двух частей, и в спальне, от одного до другого конца, тосканскую кровать-лодку, два прикроватных столика из Ломбардии с мраморными крышками. Женщина не решалась подходить к окнам, казавшимся ей уходящими в бесконечную пустоту, которые Элиза не разрешила ей открывать.
«Ну и хорошо, — думала Люси. — А то голова закружится».
Она легла, проспала два часа, подождала, пока дочь придет за ней, и сильно сожалела, что не взяла с собой Паулу: девочка провела в Нью-Йорке два месяца каникул, но сейчас было время школьных занятий, и она осталась под присмотром соседки по этажу, мадам Лессейн, которая также подменяла Люси в магазине.
Немного позже Люси с удовольствием встретилась с Джоном Бредли: это был жизнерадостный человек, огромный, как медведь, бородатый, всегда в безупречном кашемировом костюме с шелковыми карманами цвета бронзы. Он был старше Элизы примерно на пять лет, беспрестанно вращал своими круглыми глазами, и создавалось впечатление, что он хочет проглотить своего собеседника. Люси его очень любила: она нашла в нем неповторимую жизнерадостность и пылкую щедрость, и ее переполняло счастье от решения Элизы связать жизнь с таким мужчиной.
Джон провел для Люси экскурсию в гигантском магазине площадью более чем двести квадратных метров, представил ей двух продавщиц, дизайнера, приехавшего искать французскую мебель начала века, и другого, нуждавшегося в шведских комодах. И Люси поняла, что здесь масштабы намного больше, чем в Париже.
Элиза продала два магазина на улице Суффрен и в пригороде Сен-Мартен, чтобы купить другой, выгоднее расположенный, — в квартале, который понемногу стал кварталом антикваров и тянулся от Сены до бульвара Сен-Жермен, через улицу Сен-Пьер и улицу Бонапарт. Элиза также купила склад неподалеку от этого места, на улице Мазаре, но все же, несмотря на прибыльность бизнеса, этот магазин приносил смехотворный доход по сравнению с получаемым на Пятой авеню в Нью-Йорке. Прибыв сюда, Люси начала лучше понимать, почему дочь, приехав в Америку, стала зарабатывать столько денег и так радовалась отношениям с Джоном Бредли.
Вечером они отправились ужинать во французский ресторан на Бродвее, вновь повстречались там с клиентами из западной части города и говорили весь вечер исключительно о редкостной мебели.
Весь следующий день Элиза посвятила общению с матерью. Они посетили деревеньку Гринвич, где поужинали в маленьком ресторанчике из красного кирпича. Там, наедине, они наконец погрузились ненадолго в доверительную атмосферу, подобную той, которая царила на авеню Суффрен, в то время когда дела позволяли им больше общаться, узнавать и доверять друг другу.
— Я не переставая думаю об этой стене в Берлине, — рассказывала Люси. — Мне кажется, что я больше никогда не увижу Ганса. До августа прошлого года у меня еще оставалась слабая надежда, но сегодня, знаешь, я уже уверена, что потеряла его навсегда.
— Я надеялась, что это путешествие в Нью-Йорк поможет тебе забыть твое горе, — вздыхала Элиза.
— Я тоже. Но вижу, что не помогает. А еще мне здесь очень не хватает Паулы. Знаешь, наверно, я не смогу остаться здесь надолго.
И, увидев разочарование на лице Элизы, добавила:
— Не стоит упрекать меня, это место слишком велико, я не привыкла к таким размерам.
— Да, — произнесла Элиза. — Я понимаю.
И тут же, радостно улыбаясь, добавила:
— Знаешь, что я сделаю? Я выкуплю замок Буассьер. Я слышала, что новые владельцы хотят продать его.
— О, не нужно, — уверяла ее Люси. — Он того совсем не стоит.
— Да почему же, вспомни, как тебе там было хорошо.
— Нет, правда, не стоит, прошу тебя.
— Почему?
— Потому что я решила смотреть вперед, забыть о прошлом. Это единственный способ наслаждаться жизнью, понимаешь?
— Ты же была счастлива там.
— Я так думала поначалу. Но если бы я там осталась, то не дожила бы до сегодняшнего дня.
— Что ты такое говоришь?
— Это правда. Верь мне. Продав замок, ты вернула меня к жизни.
Они замолчали, глубоко погрузившись в свои мысли. Затем заговорили о том, что увлекало их обеих: о редкостной мебели. После Италии коллекционеры, казалось, заинтересовались Швецией и Германией. Через несколько дней Элиза с Джоном Бредли должна была уезжать в Стокгольм.
— Надо бы поторопиться, — сказала она. — Я еще столько всего хочу тебе показать.
Она отвезла Люси в Бруклин, к старому мосту 1883 года, и они увидели величественную Статую Свободы. Вечером мать и дочь были уже без сил. В квартире на двадцать пятом этаже Элиза без конца звонила, чтобы наверстать упущенное время.
— Завтра я погуляю одна, — сказала Люси. — И улечу ближайшим самолетом.
— Ты точно хочешь этого? Ты хорошо подумала?
— Я уверена. Понимаешь, тут и вправду все слишком большое.
— Да, понимаю, — отвечала Элиза.
У Люси было сейчас только одно желание — лечь в постель и уснуть. Что она и сделала, поглядев немного в окно, не слишком, правда, приближаясь к нему, на миллионы огней, зажженных в гигантском городе, где ей казалось, несмотря на высоту, что она может различить биение сердца.
За тысячу километров оттуда Пьер, сын Матильды и Шарля, уже третью ночь проводил в Тюле, в лицее Эдмон-Перриер, и никак не мог заснуть из-за сильного запаха воска в спальне для шестидесяти мальчиков, как и он, прибывших из соседних деревень. Он впервые находился вдали от семьи и пребывал в сильном волнении, несмотря на свои пятнадцать лет, с того момента, как отец и мать оставили его во дворе, а сами вернулись в Аржента.
Пьер вспоминал о двух последних днях, проведенных в Пюльубьере, о смерти дяди Эдмона, о его похоронах на Сен-Винсене, о горе его жены, а также об этих двух месяцах, прожитых среди бескрайних просторов полей и лесов. Больше всего по приезде в лицей, расположенный на холмах Тюля, мальчика поразили в ранний полдень в прошлое воскресенье стены забора, асфальт вокруг здания школы, строгие правила, которые организовывали жизнь школьников, ничего не оставляя на волю случая. Беспощадный звонок отсчитывал часы, отмечал приход и уход детей. Надзиратели не отходили от них ни в столовой, ни в спальне. И Пьер не переставая вспоминал о своей утраченной свободе во время каникул, о своей жизни в Аржента, о прогулках по набережным Дордони, купаниях, побегах в лодке к островам по нижнему течению реки, в прохладной тени ольхи и серебряных ив.
Как далеко это все теперь! Он только три дня был здесь на обучении, а ему казалось, что прошел уже месяц. Как он протянет еще десять дней, отделяющих его от разрешения выйти из этих стен? Может быть, погрузившись в чтение, потому что часы учебы длились бесконечно — одно-два занятия в течение дня, еще два дольше чем с пяти до семи вечера, и еще одно с без пятнадцати восемь до без пятнадцати девять.
Способности позволяли Пьеру быстро делать домашние задания, и затем его мысли уносились далеко, возвращались в Аржента, к родителям, к брату, которому повезло, что он все еще живет там и, может быть, даже никогда не уедет.
За три дня Пьер уже познакомился со всеми преподавателями. Больше всего ему пришелся по душе преподаватель французского, господин Марсийак, низкорослый жизнерадостный мужчина, а также преподаватель истории, господин Портефе, и эти двое, в отличие от остальных, больше думали о преподаваемых ими предметах, чем о дисциплине. На переменах, с половины первого до половины второго и с четырех до пяти часов, Пьер понял, что значит жестокость учеников выпускного класса, принуждавших учеников младших классов оставаться в коридорах школы, чтобы те не мешали их футбольным матчам, занимавшим весь двор, но самое главное — он встретил Даниеля, учившегося, как и он, во втором лицейском классе и приехавшего из Монтсо-на-Дордони, деревеньки, лежащей в нескольких километрах от Аржанта. Между мальчиками с первой секунды завязалась дружба, помогавшая обоим адаптироваться к новой жизни, позволявшая делиться знаниями и воспоминаниями, выручать друг друга в несчастье, поскольку насмешки сыпались часто, как на переменах, так и в столовой, и доставались от старших младшим ученикам, более слабым и занимающим их территорию.
Даниель был сыном крестьянина и, следовательно, получал стипендию. Раньше он учился в колледже в Болье до третьего класса и, как Пьер, стал учеником в Тюле до получения степени бакалавра, как велел закон, и затем желал поступить в университет, получить доступ к высшим знаниям, к другой жизни. Но как раз в тот вечер, когда надсмотрщики уже погасили огни, Пьер задумался, а не слишком ли дорого он платил за это. И его особенно беспокоило, что эта новая жизнь станет очень отличаться от прошлой, приносившей ему столько радости. Ах! Эти беззаботные годы в колледже Аржанта, эти уроки и эти домашние задания, сделанные на скорую руку, эта свобода лугов вдоль Дордони, эти каникулы в лесах плоскогорья! Как это все было далеко от него сегодня! Происходило ли это с ним на самом деле?
Пьер напрасно ждал сна — заснуть никак не удавалось. Он не был подготовлен к жизни в мире, так сильно замкнутом на самом себе, таком страшном. Его отец, Шарль, несколько раз говорил ему о пансионате, в котором учился сам, об Эглетоне, но никогда не рассказывал о первом годе обучения, во время которого приходилось от столького отказываться. Правда, Шарль попал туда в более раннем возрасте и до этого никогда не покидал Пюльубьера. У Пьера же все было по-другому — в свои пятнадцать лет он узнал в Аржанта намного больше, чем знал его отец в этом возрасте. Но все-таки они почувствовали в этот период одно и то же: лишение свободы, тяжесть новой жизни, открываемую в лицее, разлуку с семьей — имело ли это какое-либо отношение к смутным надеждам? В глубине души Пьер знал, что это было важно. Единственное, что оставалось делать — попытаться привыкнуть, приловчиться, правильно распределять время, и вскоре новая жизнь станет для него привычной, как он надеялся.
Было около одиннадцати часов, когда в спальне, освещенной только ночником, включенным в кабине наблюдающего, слева от Пьера раздался вдруг крик птицы, тут же подхваченный детьми на кровати в противоположном ряду. Остальные вторили ему эхом, пробежавшим от одной стены спальни до другой. Направленный надсмотрщиком из открывшейся двери луч света ослепил всех, и резко наступила тишина. Высокий темноволосый надзиратель с острым лицом большими шагами направился к месту, из которого раздались первые крики, то есть к Пьеру, и закричал:
— Вы, впятером, встать!
Послышались вялые протесты, но все названные мальчики поднялись, в том числе и Пьер.
— Станьте перед кроватями, руки за спину, ни на что не опираясь.
Мальчики подчинились, все с видом оскорбленных жертв, кроме Пьера, остававшегося очень спокойным, с лицом, сохранившим естественное выражение, едва тронутое недовольством.
— Вы останетесь стоять, пока тот, кто издал первый крик, не выдаст себя! — заорал надсмотрщик. — И если понадобится, будете стоять всю ночь!
Он повернулся в другой конец спальни и добавил с нотками ликования в голосе:
— С этого момента ваши товарищи могут наслаждаться светом. И, таким образом, завтра они будут иметь возможность выразить свою благодарность тому, кто устроил им эту бессонную ночь.
Послышались крики, протесты, но надзиратель и ухом не повел. Он вернулся в свою комнату, и в освещенной спальне вновь воцарилась тишина.
Пьер знал, кто поднял шум, но и мысли не имел выдавать его. И не потому, что боялся мести, но оттого, что считал, что виновный во всем признается через несколько минут упорства. Но ничего не происходило. Несмотря на крики о мести, раздающиеся со всех сторон, надзиратель, удалившийся в свою кабину, оставался невозмутим. Однако через полчаса он выключил лампу, которая была напротив пяти наказанных, но другую оставил включенной. Время от времени Пьер поворачивался к виновному — его кровать была соседней, — но ученик первого обычного класса продолжал молчать. Это весьма болезненное ожидание продолжалось. Протесты стихли, лежавшие ближе всех к наказанным детям ученики укрылись одеялами с головой. Пьеру очень хотелось спать. Он время от времени опирался на металлическую спинку кровати и думал, когда же все это закончится.
Через час надзиратель снова пришел, склонился над пятью наказанными и пригрозил:
— Поскольку вы не хотите образумиться, мы поиграем в другую игру: кто обопрется на кровать, лишится права выйти из лицея в следующее воскресенье.
И вместо того, чтобы вернуться в свою комнату, он стал прохаживаться туда-сюда перед мальчиками. Так прошло полчаса, и Пьер старался держаться прямо, иногда закрывая глаза и изо всех сил сражаясь со сном. Потеряв надежду и, несомненно, не менее уставший надсмотрщик постановил:
— Вы все не сможете выйти, если до воскресенья виновный сам о себе не заявит. Сегодня же можете возвращаться в постели.
Со всех кроватей послышались вздохи облегчения, и скоро свет погас. Несмотря на все нависшие над ним угрозы, Пьер сразу же погрузился в сон.
На следующее утро, как только он проснулся, ему вспомнились слова надсмотрщика, и сердце сжалось. Несмотря на утешительные слова Даниеля, боль не проходила весь день, к тому же на переменах приходилось выслушивать запугивания виновника и его друзей из старшего класса: если он заговорит, то пожалеет об этом.
Пьер и не собирался никого выдавать. Он просто был удручен их трусостью, этими приемами запугивания, исходящими одновременно от надсмотрщиков и от учащихся, и думал о воскресенье, которое должно было принести ему встречу с Аржента, с родителями. Они, как и он, наверняка ждали этого первого выхода из пансионата. Проходящий день показался Пьеру совершенно бесцветным, несмотря на солнечную осеннюю погоду. Он едва ли слушал преподавателей и с большим трудом доделал домашние задания.
— Не переживай, — говорил ему Даниель. — Все наладится.
Но Пьер его не слышал. Без пятнадцати девять, во время последней перемены перед сном, надсмотрщик задержал его в классе, когда другие ученики уже вышли. Он смотрел некоторое время на Пьера не моргая, затем теплым голосом, так сильно отличающимся от того, которым отдавал приказы, сказал:
— Я поздравляю вас. Вы очень храбры, хотя я уверен, что они вас неоднократно запугивали.
Немного помолчав, он добавил:
— Не переживайте. Я знаю, что это не могли быть вы. Новенькие никогда не делают ничего подобного через три дня после поступления в школу. Вы не будете наказаны.
Пьер опустил глаза.
— Нет, конечно, это не я, — сказал он.
И добавил:
— Спасибо, месье.
— Вы можете идти.
Пьер убежал, разыскал Даниеля в коридоре и, несмотря на подозрительные взгляды старшеклассников, почувствовал себя счастливым, освобожденным. Конечно же, этот мир был суров, мальчик убеждался в этом каждый миг, но в нем было место отваге и справедливости, если быть сильным. Это был урок, который он не сможет забыть никогда.
Эта осень принесла всевозможные неприятности на алжирские земли. Матье, ехавший в Алжир в компании Роже Бартеса, спрашивал себя, не достиг ли он предела, после которого уже нельзя ничего спасти — ни семью, ни себя самого. Он все же пытался удержать Роже, объяснить ему, что слепое насилие ничего не исправит, а наоборот, но не смог помешать шурину вступить в Организацию секретной армии, штабы которой распространились повсюду с прошлой зимы. Поскольку с тех пор все было уже ясно: референдумом января 1961 года де Голль оправдал свою политику самоопределения. Для арабов оставался только один выход — протест. Даже армия встала на их сторону: в апреле четыре генерала захватили власть в Алжире, арестовали делегатов французского правительства, высказывавших намерение распространить влияние французских сил на территориях, которые правительство не имело права покидать. Генералы Шалль, Зеллер, Салан и Жухо были арестованы. Поговаривали, что начались секретные переговоры между французским правительством и временным правительством Алжирской республики. В прошлом месяце де Голль едва избежал покушения в Нижнем Кламаре. В Алжире нападения все учащались, особенно в городах, и насчитывали уже сотни жертв.
— Мы победим, — говорил Роже. — Я уверен, что Париж пойдет на попятную.
Матье же после смерти сына больше ни во что не верил. А следовать за своим шурином в Алжир этим утром решил только для того, чтобы помочь ему, защитить как можно лучше, как о том просила Марианна, сильно переживавшая за брата. Они оставили Мартина охранять имение, в котором укрылась и Симона, жена Роже. Арабы и в самом деле собирались группами, чтобы защищаться от действий Национальной освободительной армии, желающей истребить как предателей алжирской идеи, так и колонизаторов. Алжир стал пороховой бочкой, в которой уже нельзя было выжить.
Они доехали до возвышенностей Мустафа-Сюперьор на рассвете. Проехав первую заставу, после того как машина Матье была подвергнута обыску, они увидели белый город и море в самом низу, колыхавшееся волнами в немеркнущей синеве лета. По дороге к госпиталю Матье еще раз предпринял попытку переубедить Роже действовать, как того требовала Организация секретной армии. Она все чаще набирала рекрутов из соседних городов, поскольку за алжирцами теперь велось наблюдение.
— Это же безумие. Бессмысленно заставлять невинных расплачиваться, — повторял Матье.
— Я уже говорил тебе, что мы больше не можем выбирать средства. Оставь меня и возвращайся в Матиджу. Я сам справлюсь.
— А если тебя арестуют?
— Не важно. Пусть лучше меня расстреляют, чем я уйду из этих мест. Они предали нас и должны теперь заплатить.
— Нас предали не те, кого ты собираешься подорвать своей бомбой.
— Они все здесь работают на Национальную освободительную армию.
— Но ты также убьешь арабов.
— Это же произойдет не в арабском квартале.
— Они убьют тебя раньше.
— Ни в коем случае. Я знаю Алжир как свои пять пальцев. За улицей Мишлет достаточно подняться по лестнице и добраться до рынка Рандон у подножия Касбаха.
— Ах вот куда ты идешь, — вздохнул Матье.
Поняв, что сболтнул лишнее, Роже не отвечал.
— Припаркуйся там, на набережной, возле адмиралтейства, — просто произнес он. — Мы уедем через Хуссеин-Деи и Биркхадем.
Матье нечего было больше сказать. Он спустился к кромке моря, остановился в тени пальмы, вновь попытался удержать Роже, но тот удалился, не сказав ни слова, к месту доставки своего смертоносного механизма. Матье повернулся к морю, и ноги его дрожали. Он искал тень и медленно, с трудом поплелся к скверику Брессон, где смог присесть на скамью и отдохнуть от одолевавшей его усталости. Матье почувствовал себя немного лучше, оглядел набережную и ниже справа — адмиралтейскую крепость, посмотрел на часовых — моряков в синей униформе, и маленькие парусники, легко покачивавшиеся на волнах. Накатил сильный запах смолы, винных бочек и прилива, и ему стало легче, он вспомнил забытые и потому бесценные ощущения.
Возле Матье в скверике прогуливался маленький ослик с красным седлом, на нем сидел ребенок и держал маму за руку. Здесь царил мир, все еще было спокойно. Синева моря сливалась с синевой неба в союз, который мог бы своим примером вдохновить людей. Но беда была рядом, невидимая, долго остававшаяся под землей: Матье вспоминал о сотой годовщине завоевания в 1930 году, в тот вечер он так же любовался морем с Касбаха, и о чувстве угрозы, которое пришло к нему в тот вечер, незадолго до убийства Батистини. Он вспомнил о пробежавшем тогда слухе: «Французы отмечают сотую годовщину, но второго столетия им не отмечать никогда». Уже тогда все было сказано. Матье знал уже долгое время, но все боялся признать, что однажды придется уехать. И этот день приближался. Покушения и бомбы не помогут. Сегодня значение имела только защита близких. Он не смог защитить Виктора, своего сына, но оставались еще Марианна и Мартин, Роже Бартес, его жена, несколько друзей. Отныне это было главнее всего.
Было, наверно, десять часов, когда в верхнем городе раздался взрыв, всколыхнув утреннюю тишь. Несмотря на большое расстояние, Матье услышал вдалеке крики, затем немного запоздавший звук взрыва, подхваченный сиренами, сигналами клаксона, шумом, спускающимся к морю и поднявшим в небо стаю белых птиц, которые взмыли ввысь и исчезли в глубине неба. Матье с удрученным видом поднялся и направился к машине. Он заметил танки, маневрирующие на пристанях, и уезжающие на восток, в сторону Пуссен-Дея, джипы. Он сел за руль своего автомобиля, подождал, думая о завалах, которые теперь придется преодолеть Роже, если он вернется. Но минуты шли, а его шурин все не появлялся. Матье завел мотор, стал так, чтобы легко было тронуться с места, капотом к морю.
Уже прошло четверть часа с момента взрыва бомбы, а Роже не появлялся. Матье все еще не трогался, когда заметил с правой стороны французских солдат, устанавливающих рогатки, чтобы строить первые заграждения. Подумать только: он, Матье, служил в этой армии, и еще с таким рвением, а сегодня эта же армия представляла для него угрозу! Мир и вправду сходит с ума.
Когда дверца открылась, Матье подпрыгнул от неожиданности. Не говоря ни слова, Роже сел возле него с угрюмым неузнаваемым лицом, весь в поту.
— Прямо на нашем пути на пристани выстроили ограду.
— Подожди немного, — сказал Роже.
Он вытер лицо, руки, пальцы, выбросил носовой платок в окно, глубоко вздохнул, а потом сказал:
— Поехали.
Матье поехал вдоль моря, повернул направо и остановился перед заграждением. К ним приблизились два французских солдата, с автоматами на ремнях, и попросили документы. Казалось, что Матье и Роже, да и сама машина, пахли порохом. Должно быть, это было ложное ощущение.
— Откуда вы прибыли? — спросил сержант.
— С рынка Мейсонньер, — ответил им Роже.
Офицер взглянул на пустые ящики на заднем сиденье машины и приказал:
— Выходите!
Роже вышел из машины, открыл багажник, в котором лежало еще несколько пустых ящиков, затем несколько минут постоял без движения перед офицером, внимательно осматривавшим его своими очень светлыми, почти белыми глазами. Роже не чувствовал страха. Эти проверки не имели никакого смысла. Арабы были не настолько глупы, чтобы перевозить бомбы в машинах. Бомбы собирались уже в самом городе, куда террористы сносили все необходимое пешком.
— Вы можете проезжать, — сказал сержант.
Роже вернулся в машину, и Матье отъехал, как только он захлопнул дверь.
— Поверни направо к Институту Пастера, — сказал Роже. — Не обязательно ехать к Хусейну. Сократим через Эль Маданью.
Так они объехали остальные посты, выехали на дорогу в Буфарик и вскоре, миновав холмы, повернули на большое плато. Тогда Матье повернулся к Роже и едва узнал его. Шурин выглядел так, будто его руки были в крови. Этим утром, видя Матиджу далеко внизу, в ясной зелени оранжерей и виноградников, Матье понял, что уедет отсюда навсегда. Он не поделился этой мыслью с Роже, но для себя уже решил, что этот бой был проигран и что мужчины, выбравшие тактику взрывания бомб, уносящих жизни детей и женщин, погибнут.
Вернувшись из Алжира, Робер, сын Эдмона и Одилии, решил заменить отца и обосноваться в Пюльубьере. Узнав об этом решении, Матильда успокоилась: больше не стоял вопрос о том, что Жаку однажды придется жить в имении Бартелеми. Он сможет продолжить учебу в колледже и наконец окончательно отречется от своего сумасбродного проекта посвятить жизнь работе на земле. Матильда была принципиальна: она бы ни за что не допустила, чтобы ее сын совершил подобную глупость.
Она не могла понять отношения Шарля, не высказывавшего неодобрения по поводу этого желания возвращения к земле: несомненно, это было вызвано любовью к родителям и уважением к их делу, их самоотверженному и упорному труду. Это различие во мнениях было причиной их первой настоящей размолвки, и с тех пор Матильда не выносила Пюльубьер, этот дом семьи Ребер, недавно купленный ими, в котором так хорошо было детям. Для нее подобная жизнь казалась жизнью со взглядом, обращенным в прошлое. Будущее было в другом, она точно знала: на равнинах, в городах, а не в этом плоскогорье, замкнутом в себе самом, несмотря на всю свою красоту. Матильда также радовалась тому, что Пьер был сейчас в Тюле и его ожидало блестящее будущее. Женщина очень рано обнаружила в своем старшем сыне незаурядные способности. Она мечтала о его будущих достижениях, недоступных ей самой прежде всего по причине ее женского положения. Место учителя было уже большим счастьем в этой плоскогорной местности, где традиции еще накладывали сильный отпечаток на обыденную жизнь.
К тому же даже в своей работе Матильда вынуждена была демонстрировать больше положительных качеств, больше проницательности, чем кто бы то ни было. Она не забыла ни одной трудности, подстерегавшей ее по приезде в Аржанта, когда родители учащихся, а также инспектор ставили под сомнение ее компетентность. Она решила тогда принять вызов, и не только ради себя самой, но также ради всех женщин вообще, чтобы однажды с них были сняты все запреты. Разве она не рисковала наравне с мужчинами во время движения Сопротивления? Разве не работала она наравне с ними, а иногда и больше, несмотря на необходимость воспитывать двух детей, тетради, нуждающиеся в проверке, глажку, болезни, постоянное внимание к каждому из ее учеников? Нет, Матильда ни о чем не жалела. Она отлично справлялась с обязанностями. Но она решила действовать активно, чтобы в один прекрасный день женщины могли питать те же надежды, что и мужчины, чтобы им ни в чем не отказывали.
Но в октябре 1961 года ее основной заботой было совсем не это — она уже две недели точно знала, что беременна. Матильда еще ничего не сказала Шарлю, проводила ночи в раздумьях, не веря в то, что казалось невероятным в сорок один год. Она иногда сердилась на мужа за его беззаботность, за его увлеченность политическими проектами, за его личные, никого не интересующие заботы, и думала, как он может воспринять неожиданную новость. Следовало ли ему так рано раскрывать ее секрет? Не должна ли она была действовать по собственному разумению, так, как она решила в ходе череды дней молчания: она не оставит ребенка. Она не могла себе этого позволить. Матильда больше не чувствовала в себе на это сил. Она знала, что новая беременность превратит ее в изношенную до срока женщину, предающуюся заботам деревенских тетушек, никогда не живущих для себя, но исключительно для мужей, детей, домашней работы. Ей казалось, что она не вынесет взглядов, намеков, насмешек, может быть, из уст тех, для кого любовь и удовольствие — преступление, навсегда остающееся грехом. Она будто слышала их голоса: школьная учительница, беременная в сорок один год: ну и пример! Тогда Матильда решила не допустить этого ни за что.
Ее честность и природная открытость побудили ее довериться наконец Шарлю. Матильда не сомневалась, что он поймет ее. Итак, она воспользовалась ранним утром в среду, когда Жак был с друзьями в пригороде, и пришла к мужу в класс, где тот проверял тетради. Шарль поднял голову и, взглянув на жену, понял, что что-то было не так. Он встал, подошел к ней, обнял за плечи и спросил:
— Что произошло?
Матильда вдруг засомневалась, боясь утратить свободу действий из-за необходимости в очередной раз оправдываться, но и это она уже успела обдумать.
— Я жду ребенка, — сказала она.
И тут же добавила, будто боясь, что потом не найдет сил выразить свою решимость:
— Я не буду его рожать.
Шарль распахнул глаза, переменился в лице, затем, чтобы не выдать своего смущения — как подумалось ей, — обнял ее.
— Ты уверена в этом? — прошептал он ей на ухо.
— Абсолютно уверена.
Матильда немного пожалела, что говорила таким равнодушным голосом с металлическим звоном, жесткость которого поразила их обоих. Шарль тихонько отстранился от нее, изобразил улыбку и сказал:
— Это может быть девочка.
— Нет, — сказала она, — ни мальчик ни девочка.
— Подожди, нельзя так говорить.
— Почему?
Он обеспокоенно пробормотал:
— Мы бы могли…
— Я бы не могла, — оборвала она его.
Он был поражен. Больше не глядя на жену, он отвел ее в квартиру, будто обсуждать это в школьном классе считал святотатством. Во всяком случае, ей так показалось, что привело ее только в большее оцепенение. Шарль усадил жену в кухне, лицом к себе, снова улыбнулся и мягко сказал:
— Не бойся, я буду рядом, и мы не настолько стары, чтобы отказываться от нежданного подарка.
— Я не хочу, — сказала она.
— Но почему?
— Потому что. Это касается только меня.
— Меня тоже немного касается, ты так не думаешь?
— Именно поэтому я и говорю с тобой. Но я могла принять решение и сама, и ты бы ничего не узнал.
Шарль глядел на нее, будто впервые видел.
— Но что ты такое говоришь? — пробормотал он.
— Ты же прекрасно слышал.
Он вздохнул, немного подумал и вновь заговорил:
— Ты привыкнешь, вот увидишь.
— Нет.
Шарль вновь задумался, сдвинул брови, нахмурил лоб и добавил:
— Этого нельзя делать.
— Почему?
— Потому что, потому что… ты знаешь почему.
— Нет, не понимаю.
— Потому что это нехорошо.
— Нехорошо для кого? И кто решает, хорошо это или нет?
Он пробормотал смущенно:
— Ты понимаешь, что я хочу сказать.
— Нет. Совсем не понимаю.
Матильда еще раз осознала, что в их воспитании — огромная разница. Она была воспитана в женских нерелигиозных школах, он же — сын крестьян, получивший образование в рамках определенной религии, как и все, кто жил в непосредственной близости от земли. Матильда не была верующей, но у ее мужа образование не совсем искоренило идеи, поведение, мораль, свойственные Алоизе и Франсуа, его родителям. Во всяком случае, не до конца искоренило. Матильда уже не раз в этом не без удивления убеждалась.
— И что ты будешь делать? — спросил Шарль тоном, который совершенно не пришелся ей по душе.
— Сделаю то, что понадобится.
Он вздохнул, пробормотал:
— Подумай еще.
— Я уже почти месяц думаю, каждый день и каждую ночь.
— Это может быть опасно.
— Это я тоже знаю.
Он поднял руку, хотел погладить ее по голове, но она отстранилась, изобразив подобие улыбки.
— Нет, — сказала Матильда. — Прошу тебя.
Он вышел, направился в класс, а к ней вновь вернулось ощущение одиночества, захлестывавшее ее уже в течение нескольких недель. Ей мог помочь только один человек — мать, которая однажды и сама столкнулась с подобной проблемой. Она должна была знать, к кому можно обратиться, что нужно сделать. Матильда решила поехать навестить ее, как только позволит случай, в воскресенье, например, потому что Пьер еще не вернется из Тюля. С этого момента ей казалось, что она уже справилась с самой большой сложностью, но она и понятия тогда не имела, сколько еще важных решений ей предстоит принять в жизни.
13
Наступил 1962 год, лето уже давало о себе знать. Матиджа потрескивала под солнцем, но обычная прохлада этого времени года никуда не ушла, и Матье всегда любил весну больше всего. Но вставая этим утром и оглядывая имение, где уже стали пробиваться из земли первые цветы, Матье думал, будут ли все весны, которые он встретит в другом месте, такими же прекрасными. Он собирался уезжать, и уже навсегда. Бой был проигран. Несмотря на все меры предосторожности, однажды ночью в декабре прошлого года Роже и Симона, попав в засаду на дороге между Буфариком и их имением, были убиты. Недавно были подписаны Эвианские соглашения[11].
То, что Матье предчувствовал уже давно, произошло. В этом месте больше нечего было делать европейским колонизаторам, им осталось выбирать между чемоданами и гробом, несмотря на распоряжения и соглашения, подписанные французским правительством и временным правительством Республики Алжир, предусматривающие, что исполнительный комитет под управлением Кристиана Фуше обязуется гарантировать порядок.
Никто не мог забыть происшедшего: убийств, умерщвлений, бомб, пыток, мести, увечий — всего списка ужасов, сопровождавшего это жестокое недоразумение между двумя народами, каждый из которых с одинаковой силой любил эти земли. Но уже давно разрыв отношений стал необратимым и непоправимым. Арабы начали уезжать.
В январе Матье отослал жену и сына в центр региона с целью найти там небольшое имение с виноградниками, похожее на то, которое было у них в Алжире. Он легко убедил Марианну, которая после смерти брата и его жены больше не могла спать, дрожала и плакала днем, но на Мартина пришлось потратить больше времени: он хотел оставаться с отцом до конца. Матье объяснил ему, что нужно вывезти из Алжира его небольшие денежные сбережения, а самое главное — нельзя рисковать и оставлять Марианну одну, если вдруг здесь что-нибудь произойдет.
— Тогда почему бы тебе не уехать с нами?
— Потому что нам там многое понадобится, и я хочу попытаться продать как можно больше вещей, хотя бы инструменты и мебель.
— Уезжай с ней, я попробую все продать. Потом я к вам присоединюсь.
— Послушай, малыш, — отвечал ему Матье, — мне сейчас шестьдесят восемь лет, а тебе — двадцать один. Твоей матери нужен кто-то, кто мог бы работать, помогать ей жить. Ты с этим справишься лучше, чем я, и главное, ты сможешь это делать дольше.
— Ты ничего не выручишь здесь за наше имущество.
— Это еще неизвестно. Может, кто-то хочет остаться и с удовольствием воспользуется дешевизной.
— Ты прекрасно знаешь, что вряд ли.
— Нужно попробовать.
Мартин и мать уехали. Матье отвез их в Алжир с двумя чемоданами, один из них содержал все заработанные их трудом сбережения на жизнь, а именно тридцать тысяч франков. Сам же он быстро понял, что напрасно остался. Арабов охватило всеобщее безумие, они уезжали и бросали все: дома, сельскохозяйственные машины, земли, в которые вложили столько непосильного труда. Некоторые семьи жили здесь уже в третьем поколении. Матье знал, что одному оставаться в Аб Дая ему было опасно. Ночью он почти не спал, держал ружье возле себя. Но он понимал, что едва ли успеет им воспользоваться одной рукой. Тогда чем покоряла его эта опустевшая Матиджа? Чего он искал? Хотел последний раз оглядеть свое имение? Он даже этого не мог сделать. Это было бы самоубийством. Нет, что он действительно не хотел оставлять, так это могилу своего сына Виктора, родившегося и умершего на этой земле, которую он, Матье, несомненно покидал навсегда. Эта мысль причиняла ему огромные страдания. Матье любил своего сына больше всего на свете, и ему казалось, что так он его предает, оставляет одного во враждебной стране, без помощи, без защиты, ведь сам Виктор не мог себя защитить.
И все же пора было уезжать. Мартин с Марианной нуждались в нем. Там, во Франции, по-прежнему была Люси, с ней можно было поговорить о Праделе, вернуться в Пюльубьер, отыскать детей Франсуа, восстановить связи с теми, кто принадлежал к его семье, и таким образом замкнуть круг своей жизни.
Матье даже не знал, какой был день. Наверное, воскресенье. Руководствуясь инстинктом самосохранения, он принял меры предосторожности и оставил достаточно бензина, чтобы при необходимости хватило до Алжира, а в бумажнике он хранил билет, купленный вместе с Мартином и Марианной. Однако что-то еще держало его тут. Он хотел в последний раз сходить на могилу Виктора, возле виноградников, которые они с огромными усилиями пересаживали вместе с Роже.
Матье пообедал куском хлеба и сыром, и как раз в тот миг, когда собирался подняться, почувствовал запах горелого. Он поторопился к окну и увидел пламя: сарай и хлев пылали. Матье выбежал, как безумный, приблизился к огню, стал искать воду, но черпак давно не работал. Тогда он схватился за вилы, стал бороться с уже высоким пламенем, быстро понял, что ничего не может исправить, у него не было никаких подручных инструментов, и вдобавок — только одна рука, чтобы защитить свой дом. Он долго стоял в оцепенении перед этим пламенем, символизирующим крах всех его усилий, всех его надежд, а затем подумал о машине. Матье открыл дверь гаража, затем сел в машину, надеясь, что получится завестись с первого раза. К счастью, так и вышло. Выехав из гаража, он вышел из машины, еще раз посмотрел на дом — он тоже горел. Матье с облегчением нащупал бумажник в заднем кармане брюк, вернулся в автомобиль, завел его, выехал на дорогу, ведущую к трассе, услышал странные удары о кузов и понял, что по нему стреляют. В этот момент разбилось заднее стекло.
Матье пригнулся, чуть не врезался в эвкалипт у края дороги, с трудом вернулся на трассу и больше уже ничего не слышал, на всех парах мчал в Шелли, где свернул направо, в направлении Биртуты, находящейся на национальной трассе через Буфарик — на дороге, ведущей в Алжир. У него появился соблазн остановиться, чтобы еще раз посмотреть на свое имение, но мысль о жене и сыне заставила его не поддаться желанию, и с блестящими от слез глазами Матье продолжал путь, терзаемый мыслью, что не смог даже преклонить колени у могилы сына, чтобы попрощаться с ним.
Трасса департамента освещалась с обеих сторон. Матье был начеку. Он в любой момент ожидал, что на пути может появиться грузовик, а в нем — банда феллахов, готовых наброситься. Но они, очевидно, были заняты на фермах. Как только он добрался до национальной трассы, ему стали встречаться первые французские посты, и он понял, что теперь в безопасности. Он предъявил документы, получил право въезда, доехал до белого города к девяти утра и припарковался на набережной, возле маленького сквера, в котором когда-то ждал Роже Бартеса в тот день, когда шурин привез с собой бомбу. Матье спустился к порту с кораблями, но там не было «Города Марселя», на который должен был взойти Матье.
— Сегодня после обеда, — сообщил ему служащий компании, — будьте в порту с четырех часов.
Пристани были наводнены обезумевшими арабами, тянувшими за собой чемоданы или переполненные сумки. Сандалии, брюки, рубаха, бумажник: все богатства Матье были при нем. Невыносимый шум стоял над пристанью в увеличивающейся с каждой минутой жаре. Сигналы клаксона, сирены, крики, плач детей и все это в запахе смолы, железа корпусов кораблей, машинного масла, но также и моря. Моря! Матье захотелось посмотреть на него в последний раз, и он поднялся в город, который, казалось, совсем не изменился. Алжир был на том же месте, все такой же белый, с зелеными островками, с возвышающимся над ним Касбахом, и, как обычно, город дышал: выдыхал пары жареного кофе, жасмина, овощей, не проявляя не малейшего интереса к тому, что происходило внизу, замкнутый сам в себе, но пульсирующий, словно сердце в неприступном теле.
Матье остановился в сквере Брессон, а не поднялся благоразумно повыше. Здесь не было уже ни ослов, ни детей. Ему казалось, что вся жизнь стекла к морю и разлилась по пристани, освещенной сейчас странным светом, уже не белым, а фиолетовым, какой бывает иногда осенью перед грозой. Патруль французских солдат вошел в сквер и приблизился к Матье.
— Не оставайтесь здесь, это опасно, — сказал Матье лейтенант, который, казалось, вот-вот лишится сил. На правой щеке у него была разорванная и плохо затягивающаяся рана.
Матье спустился к пристани, купил два арбуза и примостился у ангара, чтобы отведать их. Немного погодя он заснул в тени и проснулся, когда жара достигла своего апогея. На пристани людей было еще больше, чем утром. И опять слышались крики, детский плач, сирены, скрежет погрузочных кранов, обезумевшие мужчины и женщины в слезах тянули за собой свои убогие пожитки.
Матье, не смыкавший глаз уже несколько ночей, опять погрузился в сон в тени. Когда он проснулся, возле него сидел мужчина дикого вида.
— Откуда вы прибыли? — спросил он Матье.
— Из Матиджи.
— А я из Шершеля.
И больше говорить было не о чем. К пристани подплыл корабль, это был «Город Марсель». Как только он причалил, даже не дожидаясь, пока будут спущены трапы, к нему хлынула толпа, сталкивая тех, кто был ближе всего к причалу, в море. Матье на минуту испугался, что не сможет взойти на борт, но после часа усилий ему это все же удалось. Он был изнурен, равно как и мужчины, и женщины, и дети, стоявшие сейчас на палубе, улегшиеся на пол как пришлось, будто попрошайки из бедных кварталов. Вдалеке трепетали платки, раздавались жалкие и бессмысленные выкрики посреди этого иранского муравейника, в котором все непрерывно двигались. Офицеру не удавалось поднять трап. Были вынуждены вмешаться солдаты. Наконец швартовы были отданы, и корабль отчалил от пристани.
Удаляясь, Матье долго-долго смотрел на тающий в синем небе белый город, на зелень Бузаэра, кубы Касбаха, какими они предстали перед ним однажды утром, почти пятьдесят лет назад. Пятьдесят лет, в течение которых он всем сердцем любил эту страну, много работал, сражался, чтобы уберечь ее, но от которой отдалялся сейчас, и в его душе появлялась рана, углубляющаяся тем сильнее, чем ближе было открытое море, и из-за которой, как Матье уже точно знал, он долго не протянет.
В Париже уже палящее весеннее солнце напоминало Люси о солнце плоскогорья, когда снег наконец сходил и все деревья в лесу облачались в нежно-зеленую листву, темнеющую день ото дня, придающую холмам необычный вид, а их жителям — ощущение рождения нового мира. Ее удивляло, что с той жизнью, которая была у нее сейчас, она еще не забыла Прадель, Пюльубьер, это необычное существование, которое было привычно ей до того, как обнаружилась ее дочь Элиза. Люси с трепетом следила за событиями в Алжире и радовалась, зная, что сегодня Матье и его семья уже в безопасности — они осели в департаменте Лот, возле Кахорса, где им удалось приобрести небольшое имение. К тому же женщина все время собиралась наведаться к ним, как только представится возможность, и удивлялась, что у нее все еще есть брат, с которым они вместе жили в Праделе, казалось, вечность назад. Она была только на год младше Матье. Он всегда был ей ближе, чем Франсуа, их старший брат, поскольку Франсуа часто жил не дома, а затем ушел в армию.
Да, она обязательно навестит Матье и его семью при первой же возможности, летом — непременно, потому что в свои семнадцать Паула стала уже юной девушкой, оставившей школу, чтобы учиться профессии подле своей матери, и большую часть времени проводила в Нью-Йорке, готовясь принять управление делами в Париже. Поэтому Люси вновь стала чувствовать себя одинокой и много думала о Гансе, о Берлине, откуда не приходило никаких известий. Она спрашивала себя, пришла весна к ее сыну там, так же как к ней здесь, или больше запоздала, или явилась раньше, и думал ли он о ней хоть когда-нибудь, и вернется ли к ней однажды, забудет ли об этих идеях, увлекших его в тот мир, в жизнь, заключившую его отныне в непроходимые стены.
К счастью, коммерция в Париже процветала, и ее увлечение мебелью и ценностями было все так же актуально. Оно помогало Люси дожидаться возвращения Паулы и Элизы, забыть обо всем, что причиняло страдания, и ей было хорошо в ее магазинчике на улице Дофин, где женщина проводила весь день, приходя туда поутру из своей квартиры на авеню Суффрен, которую не захотела менять, — так много воспоминаний связывали ее с тем местом.
С самого начала весны Люси завела привычку каждое утро прогуливаться по полчаса от станции метро Сен-Жермен-де-Пре по узким улочкам квартала, который полюбился ей со временем, до набережной Сены, где женщина поворачивала направо, выходя на улицу Дофин. В это утро погода стояла такая прекрасная, что Люси намеренно замедляла шаг, неторопливо рассматривала картинные галереи, старые книжные магазины, магазины антикваров-конкурентов. Она также решила сходить на улицу Мазарин, на свой склад за гостиницей «Де ля Моне».
Выйдя оттуда с мадам Лессейн, ответственной за это место, после проверки доставленной вечером предыдущего дня венецианской консоли, Люси натолкнулась на мужчину, который задержал ее за руку и извинился голосом с необычным акцентом.
— Не вы ли мадам Хесслер? — От взгляда его серых глаз Люси охватил ужас.
— Да, — ответила она, понимая, что уже очень давно никто не называл ее так.
Она также поняла, что эта встреча не была случайной, что этот мужчина не случайно оказался на ее пути.
— Я хотел бы сообщить вам новости о вашем сыне, — сказал он.
Люси почувствовала, как ноги ее слабеют, и спросила:
— С ним что-то произошло?
— Я не могу вам ответить здесь, — сказал незнакомец.
— Пройдемте в мой магазин, это в двух шагах.
— Нет, улица Шарлемань, дом 18, это четвертый квартал. Там есть внутренний дворик. Я буду ждать вас там до полуночи, не дольше, дверь напротив лестницы, на втором этаже.
— Скажите мне хотя бы…
Но незнакомец уже удалялся, и она осталась одна на тротуаре, пытаясь понять, пробираемая дрожью, теряющая рассудок, но также охваченная странной надеждой: Ганс наконец-то передавал новости о себе. Люси медленно направилась к магазину, где, как и каждое утро, она не устояла перед соблазном провести рукой по великолепнейшему комоду из Неаполя, обработанному орнаментом розового дерева, затем присела и попыталась подчинить себе эмоции. Кем был этот мужчина? Она вспоминала тяжелую и грозную атмосферу, царившую в Берлине, страх, охвативший ее там, вспоминала о сыне, которого едва узнала тогда, и не могла отделаться от страха, гнетущего ее фактически с самого пробуждения сегодня утром, в новом свете весны.
Она работала до десяти, звонила насчет доставок, принимала клиента, затем еще одного, дожидаясь, пока мадам Лессейн не придет за распоряжениями на завтрашний день. Люси попросила ее присмотреть за магазином и, вызвав такси, отправилась на улицу Шарлемань, находившуюся в старом квартале Святого Павла, в котором ей приходилось бывать несколько раз, и этот район был ей очень симпатичен из-за старинных особняков, зданий с башенками, тайных внутренних двориков. Люси полагала, что здесь скрывался мир исчезнувших из замков дворян, и каждый раз она вспоминала о Норбере Буассьере.
Она без труда нашла упомянутый сероглазым незнакомцем адрес, толкнула тяжелую дверь с железным замком, оказавшуюся незапертой, торопливо пересекла дворик, поднялась по лестнице на второй этаж и уперлась в дверь, которая тут же отворилась.
— У меня очень мало времени, — сказал мужчина, указывая рукой на кресло с бледно-синей спинкой, будто выжженной солнцем.
Незнакомец снял свой плащ и был сейчас одет в зеленый костюм, белую рубашку и галстук цвета его глаз. Он не садился и все оставался стоять напротив нее, посреди этой грязной комнаты, отвратительной, так не похожей на него.
— Я работаю с вашим сыном, — резко начал он. — Я уехал с миссией во Францию и не вернулся в Германию. С тех пор я прячусь, потому что у них везде шпионы. Я перебежал на западную сторону, как вы здесь это называете.
Он немного помешкал, Люси же, не отрываясь, следила за движением его губ:
— Ваш сын уже шесть месяцев под арестом.
— Господи, но почему? — воскликнула Люси и вскочила.
— Неправильная идеология, мадам. Его обвинили в шпионаже в пользу иностранных властей.
Мужчина вздохнул и добавил:
— Из-за писем.
— Нет! — закричала Люси. — Это невозможно.
— Там все возможно, мадам. К тому же им нужно немного, чтобы достичь своей цели.
— Какой цели?
— Доказать его связь с вражеской нацией. Они умеют взяться за дело, если захотят, знаете ли.
— Где он сейчас? — простонала Люси.
— В психиатрической лечебнице.
— В психиатрической лечебнице? — недоверчиво переспросила она шепотом.
— Да, там такое правило.
— И сколько ему там быть?
— Неизвестно.
Видя горе на лице столь достойной женщины, он добавил:
— Неизвестно, мадам, удастся ли ему оттуда выйти и в каком состоянии.
Мужчина умолк, тут же пожалев о своих словах, добавил быстро:
— Простите меня, но такова правда.
Вздохнув, он еще добавил:
— Ганс попросил найти вас и поговорить, если мне удастся выехать.
Люси стало нехорошо. Ее преследовала навязчивая мысль: Ганса обвинили в том же, в чем когда-то и Яна по ее вине: в шпионаже в пользу зарубежных властей. Яна обвинили нацисты, Ганса — коммунисты, те, кто отчаянно сражался с фашистами. Она не понимала. Она уже не могла понимать, что происходит вокруг, что ей говорят.
— Вы сумасшедший! — выпалила Люси.
И тут же пожалела о своих словах. Незнакомец с серыми глазами опешил.
— Нет, мадам, Ганс сам попросил рассказать вам о том, что с ним произошло, если однажды мне удастся бежать. Вопреки вашим предположениям, он думал о вас, но там, знаете ли, совсем не приветствуются контакты с западным миром.
Затем, поняв, что объяснения ничего не дадут, он, казалось, поспешил закончить этот разговор.
— Я не могу здесь больше оставаться, — произнес мужчина. — Надейтесь. Возможно, однажды его выпустят.
— Выпустят? — пробормотала Люси.
— Да, все может быть.
Она не знала, произнес ли он эти слова из сострадания к ней или вправду верил в то, что говорил. Во всяком случае, он дал ей небольшую надежду.
— Я должен уезжать, мадам, — повторил он, заметив, что Люси не двигается с места.
— Да, да. — Она словно проснулась от кошмара. — Но, может быть, нам удастся увидеться вновь.
— Нет, мадам, никогда.
И он вновь добавил, как бы оправдываясь:
— Я пообещал, но и так уже слишком рискую.
И, указав на дверь, произнес:
— Прошу вас.
Люси с трудом поднялась на ноги. Она прошлась неровным шагом, едва не упала. Мужчина взял ее под руку, провел до двери и, прежде чем отпустить ее, поцеловал ей руку. Люси в последний раз встретилась глазами с его серым взглядом, заставившим ее вздрогнуть, затем повернулась и спустилась по ступеням, держась за перила. Выйдя на улицу, она пересекла двор так быстро, как только могла, не оборачиваясь. Оказавшись на улице, она пошла к Сене, спрашивая себя, не приснилось ли ей все это. То же давящее чувство, что и в Берлине, не покидало ее. Несмотря на то что она находилась в Париже и весна украшала город, рана была все же слишком болезненной.
Люси долго шла, никуда не сворачивая, и заблудилась. К полудню она вышла на площадь Нации и села в такси, чтобы вернуться на улицу Дофин. Она все еще пыталась понять, что сказал ей сероглазый незнакомец, но никак не могла собраться с мыслями. Единственное, что она понимала, так это то, что из-за нее ее муж и сын должны были страдать. И эта мысль была для нее невыносимой.
Как только Люси прибыла в магазин, она сняла трубку и позвонила Элизе в Нью-Йорк. Услышав сонный голос своей дочери, она попросила ее детским голосом:
— Приезжай, Элиза, приезжай быстрее, пожалуйста.
Матильда так и не оправилась от событий прошлой осени. Все прошло намного хуже, чем она предполагала. Ее мать дала ей адрес пожилой женщины с равнин, которая могла бы дать микстуру, способную сделать так, чтобы «ребенок прошел мимо», но от этого не было никакого проку — зелье оказалось недейственным. Без чьей-либо помощи Матильда вынуждена была отказаться от своего плана. Она пережила две недели кошмара, пока ей не удалось добыть адрес той, которую называли «сотворительницей ангелов».
После первого посещения пещеры монахини, жившей в соседнем с Усселем поселке, Матильда была вынуждена отказаться от своего плана. Она сомневалась еще неделю, неся в одиночестве этот слишком тяжкий крест, не в состоянии рассчитывать ни на Шарля, ни на свою мать, ни на детей. Она чувствовала себя как никогда одинокой и решилась встретиться лицом к лицу с кошмаром, преследовавшим ее со времени коротких осенних каникул на день Благодарения. У нее остались яркие воспоминания о том, как она вошла в мерзкую комнату, о невыносимой боли, затем она потеряла сознание. Когда же Матильда полностью пришла в себя, намного позже, Шарль был возле нее, прибежав на призыв старухи, напуганной кровотечением. Шарль не колебался ни минуты, отвез жену в больницу, где ее записали со случаем ложных родов. Она провела там неделю под надзором опытного врача, который не вчера родился. В Аржента Матильда вернулась обессиленной, измученной ужасом пережитого, более страшного, чем все, что она представляла.
С тех пор Шарль стал относиться к ней враждебно. Взгляд, которым он смотрел на нее, изменился. Он будто открыл для себя другую Матильду, перед ним сейчас была не та женщина, которую он знал ранее. Она и вправду изменилась после такого испытания. Она осознала, что не до конца оценила все последствия такого поступка. Матильда чувствовала, что предала нечто, что казалось ей священным, а сама она называла это просто жизнью. Силой и красотой жизни. Однако она также чувствовала удовлетворенность, оттого что смогла выстоять этот женский бой. Но Матильда невероятно страдала от этой победы. Даже этот парадокс ей не удавалось осознать уже шесть месяцев, он трогал ее до глубины души, где, как она полагала, жизнь брала истоки.
Матильда скептически спрашивала себя, будет ли когда-нибудь существовать средство для женщин, обеспечивающее им свободу без необходимости прибегать к этим зловещим махинациям, во время которых они могут легко потерять самое лучшее, чем обладают. Она решила бороться за эту идею, но не чувствовала в себе сил. Не сейчас. При этом она тщательно скрывала моменты слабости от обоих сыновей, а также от своих учеников, но иногда ее накрывала волна уныния, вселенской тоски, как в это воскресенье, едва за полдень, когда Жак уже уехал, а Шарль собирался присоединиться к нему на стадионе, оставив ее одну, потому что Пьер все не возвращался из Тюля.
Стояла хорошая погода, весна на улице одевала деревья в листву нежных цветов, и воздух пах сиренью. Матильда открыла окно и удивилась, что больше не может отчетливо видеть деревья в маленьком парке, в который дети выбегали на перемене. Она почувствовала, что глаза ее полны слез, когда они стали стекать по щекам.
Она тут же смахнула их, услышав голос Шарля в парадном.
— Я пошел, — сказал он.
— Хорошо, — ответила Матильда, не в силах скрыть слабости в голосе.
Он заметил, что что-то не так, и подошел к ней:
— Что случилось?
— Все нормально, — отвечала она.
Но когда Шарль попытался поймать ее взгляд, женщина проворно отвернулась, не сумев, однако, скрыть своих слез. Он никогда не видел, как она плакала, даже во время войны, в моменты их разлуки и их воссоединения.
— Пожалуйста, оставь меня, — проговорила Матильда.
Вместо того чтобы уйти, Шарль взял стул и сел около нее. Он знал, что ей пришлось пережить за последний месяц и, даже если и не одобрял ее решения, заставил себя быть к ней как можно ближе, но наверняка недостаточно, как он это сейчас понимал. Но ведь он отказался от участия в политических делах, даже уже не был президентом регби-клуба, который сам основал и в котором сегодня после обеда Жак будет состязаться за победу в составе юношеской команды. Он также отказался от места преподавателя колледжа, ступив на путь, ведущий его к руководству начальной школой. И все это ради нее. И теперь он выяснил, что этого было недостаточно, что он был недостаточно близок ей в этом бою, чуть не стоившем ей жизни.
— Идем, — сказал Шарль и взял жену за руку. — Давай пройдемся. Погода такая хорошая — тебе сразу полегчает.
Сначала Матильда не ответила, не пошевелилась, но когда он поднялся и взял ее за руку, она поддалась, только попросила подождать минутку, пока она приведет себя в порядок в ванной.
Выйдя на улицу, они зашагали к набережной, прошли мимо красивой церкви Сен-Пьер, свернули на улочку между домами с деревянными балконами и скоро заметили впереди речку, отражающую свет окон. Матильда уже давно не ходила, опираясь на руку мужа. После войны скорее он опирался на нее. Она вспоминала их первые прогулки в Париже, после того как раны Шарля затянулись. Это время казалось ей давно ушедшим, хоть и не выветрившимся из памяти. Семнадцать лет! С тех пор столько всего произошло. Матильда считала, что может быть сильной в одиночестве, но никогда еще она не нуждалась так сильно в поддержке Шарля.
Они свернули вправо, к низовью, к набережной, засаженной цветущими садами, ивами, фруктовыми деревьями, пестрящими мягкими весенними цветами. Супруги долго шли, не говоря ни слова, затем Шарль пробормотал:
— Ты же знаешь, что я рядом, что ты не одна.
— Да, я знаю, — отвечала Матильда. Но в то же время понимала, что как мужчина он никогда не сможет испытать того, что она почувствовала в кресле в самой сокровенной части своего тела.
Рыбаки садились в лодки несколькими ступенями ниже, обсуждали, какой стратегии придерживаться, сдержанно приветствовали их. Матильда и Шарль ответили на их приветствие, прошли дальше вдоль пристани и присели на скамью на солнце. У Матильды вырвался вздох облегчения. Она закрыла глаза, подняла голову к теплым лучам цвета меда, навевающим мысли о лете. Напротив огромные густые дубы заканчивали одеваться в лиственный покров и уже скрывали домики возле берега.
— Ты приняла решение о своей жизни, — мягко сказал Шарль. — Ты одна из первых женщин, решившихся на это здесь, в деревнях, и тебе пришлось заплатить за это.
— Еще как заплатить, — пробормотала она.
— Но ты сделала это.
— Я знаю, что сегодня нужно бороться за то, чтобы женщины имели детей только в случае, если они сами того желают. Я думаю, именно этот бой надо вести, а не другой, слишком сложный, слишком болезненный. Я хочу взяться за это.
— Если хочешь, мы можем запросить два рабочих места в большом городе, например в Тюле. Не два директорских места, конечно, но два места с возможностью карьерного роста, таким образом перед нами откроются большие перспективы.
Матильда вздохнула и ответила не сразу.
— Тут красиво, — произнесла она.
Слышно было, как в низовье реки играли дети. Серые птицы кружили над дубами, а слабый ветер приносил запах жимолости и сирени.
— Давай немного подождем, — решила Матильда. — Пусть Пьер получит свой диплом бакалавра. Два года ничего не меняют. А здесь предстоит еще столько сделать.
Шарль не ответил. Он подумал, что Жак к тому времени получит аттестат о базовом образовании и ему нужно будет искать лицей с профессиональным уклоном. Он также подумал, что жизнь все больше отдаляла его от Пюльубьера, его родной земли. Что от нее останется в скором времени? Робер не нашел себе жену, а Одилия угасала в беспросветном вдовстве. Мир менялся. Деревни все больше пустели. Бой, который вел его отец, Франсуа Бартелеми, казался Шарлю уже далеким прошлым. Франсуа, начавший работать на земле еще с двенадцати лет, умудрившийся стать владельцем имения, дать образование своим детям, уже давно ушел из жизни…
— Кто знает, как повернется жизнь наших детей, — прошептал Шарль.
— Они станут теми, кем хотят стать, потому что будут иметь такую возможность, — ответила Матильда.
Это было так похоже на нее, и Шарль улыбнулся.
— Вставай, — сказал он, — давай пройдемся.
Они ушли с набережной и направились к верхней части города, все еще овеянные ароматом моря и садовых цветов и трав. Узнавая их, прохожие уважительно здоровались. Вот кем они стали: учителями, перед которыми люди снимают шляпы, выказывая таким образом свое уважение, почет, давая им почувствовать удовлетворение от прожитой не напрасно жизни.
Однажды июньским вечером, когда ласточки описывали большие круги в сиреневом небе, Матье делал обход виноградника. Только одного! А в Матидже у него их было пятнадцать гектаров, среди которых был убит Виктор, его сын, покинутый в земле, которую, несомненно, Матье больше никогда не увидит. Мысли об убитом ребенке, который остался один, так далеко и навсегда, несказанно мучили его. Он также думал о Лейле, своей первой жене, о ее ребенке, умершем в раннем возрасте, о Хосине, тоже убитом в тех землях, о Роже Бартесе и его супруге, умерщвленных вместе с другими, и иногда удивлялся, как ему удалось выжить, пережить эту трагедию. Он снова видел исчезающий в знойной жаре белый город, навсегда уходящий за горизонт, палубу корабля, где нельзя было и пошевелиться — столько было на нем людей, а затем Францию, Марсель, поезд, доставивший его в Тулузу, а потом в Кагор, где его ждали Марианна и Мартин, добравшиеся сюда на позаимствованной у соседа машине.
Они мало говорили, настолько сильны были их эмоции от воссоединения. Марианна и Мартин боялись самого худшего и места себе не находили, пока не получили телеграмму от Матье. Они послали ему свой адрес, как только нашли, где жить: деревня Кустале, в районе Эспер, округ Лот. Там им удалось найти маленькую ферму и небольшой сдаваемый участок земли с виноградником, на известняковых землях, которые из-за своей сухости и неплодородности немного напоминали холмы Алжира вдоль дороги в Креа. Хозяин, живший в соседней деревне Лабастид-дю-Вер, пообещал потом продать им эти земли. Мартин и Марианна пошли на сделку без колебаний. Плата за пользование землей была низкой, деньги, которые были в их распоряжении, позволяли им купить скот, необходимые машины и инструменты и получить первые урожаи. Кроме того, само название деревни — Эспер[12] — убедило их. Они стали выращивать овец, обрабатывать виноградники, как и в Матидже, занялись скотным двором и садом, помогающим им протянуть до первых денежных поступлений.
Матье совсем не противился их выбору, скорее наоборот. Ему сразу понравилась эта грубая земля, поросшая можжевельником и карликовыми дубами, которые иногда, как в Матидже, приобретали красноватый оттенок. Ферма из желто-оранжевого камня была расположена в двух километрах от деревни, то есть изолированно, как раньше располагалась Аб Дая. К тому же Лот не очень отличался от Корреза. Родственники, которым они нанесли визит, пообещали им помочь. Матье вновь повидал Шарля, его жену и двоих сыновей; Робера и Одилию, сына и жену Эдмона, а также Люси, свою родную сестру, приезжавшую на прошлой неделе в Кустале и предлагавшую ему деньги на покупку земель, таких незаменимых для их семьи, чтобы начать новую жизнь. Матье обещал сообщить ей, как только все будет организовано. Он видел, как изменилась его сестра, как сильно она переживала за сына, ныне заключенного в Германии, но они говорили о Праделе, о родителях, и Матье немного пришел в себя, он больше не чувствовал себя одиноким, как в последние недели, проведенные в Алжире. Теперь его окружали родные, близкие и дальние родственники, и самое главное — теперь он был в безопасности.
Конечно же, рана не затянулась, и он часто просыпался ночью, вскакивая с кровати, но ему стало казаться, что здесь он вновь научится жить с женой и сыном. И этим вечером, когда уже стемнело, уходя с Мартином с только что обработанных купоросом виноградников, Матье пообещал себе переправить сюда тело Виктора, сделать ему здесь новую могилу, рядом с ними, чтобы они вновь были все вместе, как в прежние времена. Он часто об этом думал, обсуждал свою идею с Марианной, и его жена всегда рыдала при таком разговоре.
— Мы никогда не сможем этого сделать, — говорила она ему.
— Сможем, — отвечал Матье. — Через два-три года, когда там наведут порядок, мы сможем вернуться за ним.
Эта навязчивая мысль немного беспокоила его жену и сына, но они притворялись, что верят в его замысел.
Матье медленно шел по тропинке и глядел влево, на красное яблоко заходящего солнца, садившегося за окружающие долину Лот холмы, вдыхал неповторимый аромат разогретых солнцем дубов и жимолости, насыщавших воздух и дававших Матье ощущение прогулки по землям Аб Дая. Это ощущение было, конечно же, мимолетным, но несказанно приятным. Зимой тут, конечно, все будет по-другому, но до этого времени можно трудиться на виноградниках, вдыхать аромат сусла, полных чанов для винограда, раздавленного винограда и первого вина, стекающего в чан.
Одна за другой зажигались звезды, когда Матье подошел к маленькому домику, такому непохожему снаружи на их дом в Аб Дая. Но все же ему здесь было хорошо, потому что внутри была похожая меблировка: большой дубовый стол, посудный шкаф, соломенные стулья, и у них также было канту, то есть большой черный от сажи камин, в середине которого был крюк для котла, на котором стряпала Марианна. Все было крестьянским, скромным, но Матье, который уезжал из Алжира, не имея даже чемодана в руках, не мог и надеяться на такое.
То же чувствовала и Марианна, которая, даже если и привыкала с большим трудом к новому месту, хотя бы не содрогалась больше, заставляя себя забыть прошлое. Это было не так легко сделать, но с ней еще были рядом муж и сын, а ведь она могла потерять их обоих, как Виктора, своего брата и его жену. Марианна сильно изменилась, ведь время оставляло свой отпечаток, хоть она и была на двенадцать лет младше мужа. Ее полнота, огромные каштановые глаза, спокойное выражение лица успокаивали Матье. Он с огромным удовольствием возвращался к ней с виноградников по вечерам, для него было удовольствием смотреть, как она накрывает на стол, приятно было есть рядом с ней.
Этим вечером на столе было только две тарелки, что удивило Матье.
— А где Мартин? — спросил он.
— Он не будет ужинать с нами, — ответила Марианна таинственным голосом.
— Ах вот как! Почему же?
— У него, кажется, есть дела поважнее, — ответила она хитро.
— Поважнее, чем ужин с родителями?
Марианна ответила не сразу. Она будто злорадно наслаждалась тем, что знала какую-то тайну, очевидно неизвестную Матье.
— Да скажешь ли ты мне наконец, где он?
— Он пошел повидаться с малышкой.
— С малышкой, — обомлел Матье. — С какой еще малышкой?
— Ее зовут Клодин.
— Что это еще за истории?
— Ты знаешь, сколько лет твоему сыну?
— Конечно же знаю.
— И?..
Матье не отвечал. Он принялся за хлебный суп, затем долго пил, а потом поинтересовался:
— Ты ее знаешь?
— Нет, но я с ней разговаривала.
— И как она тебе?
— Она живет в Лабастид, где у ее родителей свое имение.
И Марианна тут же прибавила:
— Такое же имение, какие здесь у всех. Они занимаются виноделием.
— Ах вот как! — удивился Матье.
Он умолк и продолжил ужин, вспоминая Мартина в компании его брата Виктора, когда они бегали по огромному участку в самом сердце Матиджи. Того, кто бегал быстрее, скорее догнала смерть. Мартин, долгое время остававшийся более слабым, теперь стал настоящим мужчиной. И каким красавцем! Зеленоглазым, с угловатым, потемневшим от солнца лицом, со стройной фигурой, не испорченной даже тяжелым трудом. Ему тоже выпали на долю суровые испытания. Видеть своими глазами смерть брата, бросить все, начать все заново… Матье понимал, что именно в этот вечер его сын сделал выбор в пользу будущего и новой жизни, оставляя позади прошлое и страдания. Конечно, этот выбор казался Матье слишком поспешным, но в то же время он давал успокоение.
— Сядь, — сказал он Марианне, которая, несмотря на совет Матье, часто ела стоя, никак не решаясь отказаться от этой привычки прислуживать мужчинам, как она делала с детства. Она неуверенно села возле него.
— Я подумала, что это лучшее, что могло с нами произойти.
— Я тоже так считаю, — согласился Матье. — Может, мне выпадет счастье увидеть внука перед смертью.
— Конечно, — ответила она, — и все начнется заново.
Они закончили ужин в тишине, затем Матье поднялся и позвал:
— Пойдем.
Марианна быстро убрала со стола, положила приборы в промывочный бак, служивший ей мойкой, затем присоединилась к нему и взяла его под руку. Снаружи стояла синяя ночь, густая, как бархат. Пение сверчков словно делало воздух еще насыщеннее. Звезды были совсем близко: казалось, их можно достать рукой.
— Думаешь, он нас видит? — спросил Матье.
Марианна поняла, что он говорит о Викторе.
— Надеюсь, — ответила она.
— Я бы хотел, чтобы в назначенный час он смог увидеть, как женится его брат, — добавил Матье взволнованно. — Мне кажется, он бы радовался не меньше нас.
— Да, — подтвердила Марианна. — В этот день он тоже будет радоваться.
По окончании бесконечного семестра в лицее Эдмон-Перриер Пьера приняли на первый курс бакалаврата с поздравлениями совета преподавателей. Его незаурядный талант был особенно силен в сфере математики, но хорошие отметки он получал по всем предметам, к великой радости Шарля и Матильды, мечтавших о большом будущем для сына. Жак же решил поступать в технический лицей. Но в начале этого лета все думали не об учебе, а о каникулах. Их предполагалось провести в Пюльубьере, как и обычно, в этом плоскогорном районе, знакомом им с ранних лет, куда каждый год их семья направлялась с одинаковым удовольствием.
Хоть Пьер и помогал в покосе и молотьбе, у него оставалось еще много времени, чтобы гулять по деревне, и больше не пешком, а на велосипеде, подаренном ему по случаю успешной аттестации. Он ненадолго оставлял Жака и их обычные забавы, чтобы съездить в Сен-Винсен, где было больше подростков, чем в их пустеющей деревне. Там он познакомился с мальчиками и девочками своего возраста, проводил с ними все дни за беседами и прогулками. Они уходили в лес, где играли, как будто потерялись, спускались в овраги, ведущие к берегам Дордони, и ее воды иногда отражали лучи солнца, такие яркие, что им удавалось заметить эти искры издалека. Однажды пришел день, когда Пьер остался один на один с Кристель, дочерью пекаря из Сен-Винсена, шестнадцатилетней, как и он, девушкой с темными волосами и глазами, дикой и свободной, как ветер, без остановки петляющей по самым извилистым дорожкам в самой чаще леса.
Тогда они в изнеможении присели на мох вдали от тропинки, под огромными буковыми деревьями. Лес вокруг часто дышал, задыхаясь под жаркими летними лучами. Но под деревьями, к счастью, было прохладно. И Пьер вдруг почувствовал сильное волнение от того, что был сейчас рядом с этой девочкой в одежде без рукавов, с золотистыми загорелыми плечами, подчеркнутыми еще более короткой стрижкой, не скрывающей нескольких капелек пота, выступивших на тонкой шее. Кристель тоже была взволнована, Пьер заметил это, из-за близости мальчика, ведь он был менее чем в двадцати сантиметрах от нее. Слегка опустив голову, она ворошила веточкой мох, притворяясь, что живо интересуется червячками и жуками, копошащимися в нем. Пьер ничего не знал о девочках, об их мечтах и секретах, кроме того, что приходилось слышать в лицее и что совсем не украшало его собственных представлений. Нашептываемые на занятиях истории, слишком грубые, мало походили на его собственные надежды, и он инстинктивно не воспринимал их как правдивые.
Но на изолированной от всего мира лесной поляне Пьер, не робея, положил руку на едва вздрогнувшие плечи. Кристель ничего не сказала, продолжая ворошить мох с надутым видом, но не выражала протеста. Тогда Пьер обнял ее за плечи, насколько позволяла рука, прижал ее к себе, и вдруг девушка неожиданно подняла к нему лицо с закрытыми глазами и приоткрытым ртом. Пьер склонился над ней и поцеловал. Она пахла мукой и свежей выпечкой. Даже если это и продлилось только мгновение, он знал, что этот миг станет для него незабываемым, так же как и этот лес, и запах деревьев навсегда оставят в его памяти воспоминание об этой прекрасной девочке.
Как только их губы разъединились, Кристель, в полном смущении, немного отодвинулась от юноши, оставаясь для него все такой же непонятной. Она поднялась и отправилась в путь. Пьеру больше ничего и не требовалось. Он только что узнал нечто намного более значительнее, чем то, с чем встречался раньше, и красота, серьезность этого новшества его немного пугали. Ему нужно было свыкнуться с новыми ощущениями. И ей, несомненно, тоже, потому что она шла впереди, не оборачивалась, но и дожидалась его в то же время, наслаждаясь его присутствием и не одаривая его больше ничем, кроме разве что негласного обещания, о котором он догадывался.
Пьер почти не удивился, когда они быстро вышли на дорогу к дому, и спрашивал себя, а не специально ли завела она его так далеко, чтобы сделать вид, что они заблудились, но тут же отогнал эту недостойную мысль. Неожиданно они услышали крики впереди на дороге. Их разыскивали остальные. Однако прежде чем показаться из чащи, Пьер задержал Кристель за руку, и она не сопротивлялась. Они оказались лицом к лицу, и он на миг поймал ее взволнованный взгляд. Она позволила обнять себя, положила голову ему на плечо, затем очень быстро отстранилась и побежала прочь.
Выйдя на дорогу, она снова стала спокойной, но Пьер никак не мог совладать с собой. Ему казалось, что друзья странно на него посматривают. И в этом не было ничего удивительного, ведь он сильно изменился. После долгого молчания они продолжили путь. Даже в тени их дорогу, как казалось Пьеру, озарял свет. В этот незабываемый полдень поездка на велосипеде в Сен-Винсен казалась ему полетом. Кристель крутила педали впереди него, и он смотрел на ее развевающееся над коленями платье, на слегка покачивающиеся плечи цвета абрикоса, представлял ее губы, тающие от прикосновения его губ, и чувствовал, как в груди колотилось обезумевшее сердце.
Они расстались на площади Сен-Винсена, договорившись встретиться завтра в то же время, и Пьер поехал обратно в направлении к Пюльубьеру, в тени старых деревьев, дававших, как всегда в этот час, приятную прохладу, несмотря на стоявшую жару.
Ему казалось, что все было сном. Вправду ли держал он ее в своих руках? Он помнил ее аромат, ее запрокинутое лицо, нежность ее губ. Пьер ненадолго остановился на дороге, присел, чтобы поразмыслить о происшедшем, о событиях, как ему казалось, отпечатавшихся на его лице. Невозможно было скрыть от родителей и брата недавнее событие. Как утаить этот странный, изменивший его трепет? Он сколько мог задерживал свое возвращение, даже опоздал на ужин, и смущение его достигло предела, когда он сел напротив отца с матерью, хоть они и не задали ему ни одного вопроса.
К тому же отец продолжил прерванную беседу с Жаком, но Пьер чувствовал на себе взгляд матери и ел не поднимая головы. Он всегда был ближе к Матильде, чем к Шарлю. Так близок, что уже год чувствовал, что с матерью произошли какие-то болезненные изменения, будто случилось что-то очень серьезное, в чем она не решалась признаться. Пьер вспоминал декабрьские воскресенья и рождественские каникулы, когда она подолгу закрывалась в своей комнате, ее натянутые улыбки, тяжелое молчание, так не свойственное ей. Он пытался спрашивать ее, но она оставалась далекой, недоступной, в противоположность своим привычкам, и он очень переживал за нее. Сегодня взгляд, обращенный на него, стал таким, как прежде, но Пьер еще задавался вопросом о тех днях, неделях, когда ей пришлось так сильно страдать.
Он не решился заговорить в тот вечер, и мать также не задавала ему вопросов. Она догадалась. На следующее утро, когда Пьер доедал свой завтрак, а Жак и Шарль уже ушли, она мягко, с доброй улыбкой, напомнившей, что рядом с ним всегда была его сильная и внимательная мать, спросила:
— Как же ее зовут?
Он почти не таился.
— Кристель, — выпалил Пьер одним махом.
— Она красивая?
— Еще какая!
Это был и весь их разговор, но его было достаточно, чтобы Пьер понял, что временно разорванная связь с матерью была восстановлена, стала такой же прочной и ему можно было вновь ездить в лес, даже если его ждали там новые свидания.
И они не заставили себя ждать. Их компания быстро поняла, что к чему. Они вместе уезжали по тенистой дороге, но останавливались на заросших папоротником тропинках, глубоко уходивших в чащу леса, и оставляли Пьера и Кристель вдвоем. Она была уже не такой нелюдимой, понемногу поддавалась приручению, но все еще была далекой. Он с большим трудом добился от нее причин такого поведения.
— Я не могу идти учиться. Со следующего года мне придется начать работать. А ты станешь кем-то стоящим, ты уедешь и забудешь обо мне.
Пьер напрасно уверял ее в своих искренних чувствах к ней, она не могла в это поверить, разве что на короткие мгновения, когда их губы соединялись, и это были уже открываемые ею для него двери в какой-то неведомый рай.
Они каждый раз пытались все дальше уйти в лес, где, удобно устроившись на настиле из ветвей, она говорила ему:
— Нас никто никогда здесь не найдет. Здесь ты принадлежишь лишь мне. И никто тебя не заберет.
Ее хрупкость, ее опасения глубоко трогали его. Взгляд полузакрытых глаз был так нежен, и никогда не доводилось ему видеть подобного ранее, даже в глазах матери. Пьер также открыл для себя еще нечто новое: неизмеримое счастье, в которое погружает человека первая любовь, чувство, что мир смотрит на тебя и одобряет, что все ваши поступки оправданы.
У них вошло в привычку оставаться вдвоем, больше они не участвовали в играх и бесконечных спорах товарищей. Пьер и Кристель назначали свидания в только им известных местах, сворачиваясь клубочком в центре мира, уверенные, что переживают незабываемые времена, слушая, как дышит лес и бьются их сердца, и никогда он не переступал за установленный ею рубеж, когда его рука ложилась на ее колени, или немного выше, и встречалась с ее рукой. Им было по шестнадцать лет, и вся жизнь была впереди. Они хотели в это верить. И об этом им также нашептывали большие деревья с нежными листьями, склоняясь над ними.
14
Люси была несказанно счастлива, имея возможность несколько раз повидать Матье и его семью в течение двух прошлых лет. К ней уже давно не приходили никакие новости от сына, и словно для того, чтобы возместить это болезненное молчание, ей было необходимо сблизиться с другими членами своей семьи. Она без колебаний пришла на помощь брату, вернувшемуся из Алжира, но особенно была рада помочь Мартину, своему племяннику, у которого ничего не было, и он собирался вступать в брак. В Париже Люси жила вместе с Паулой, которая также была обучена профессии антиквара и подменяла теперь бабушку в магазине на улице Дофин.
В прошлом году, в сентябре, Люси осуществила поездку в Берлин, чтобы попытаться раздобыть известия о сыне, но между двумя секторами контакт стал уже невозможен. Она видела Стену, огромную и устрашающую, навсегда разлучившую ее с Гансом. Когда Люси вернулась в Париж, то стала жаловаться на плохое самочувствие, иногда путалась во времени и пространстве и время от времени теряла память. Паула предупредила Элизу, свою мать, и та взяла Люси в США, чтобы показать самым блестящим медикам. Они выписали ей кое-какие лекарства, но их прогнозы были не слишком оптимистичны: постоянное подавленное состояние ухудшало проблемное кровообращение, свойственное ее возрасту. Помочь было особо нечем. В любом случае, лучше заниматься каким-либо делом, чем сидеть сложа руки. Поэтому Люси каждое утро направлялась в магазин в компании внучки и работала как могла, несмотря на быстро приходящую усталость.
Тогда, в середине августа 1964 года, когда магазин должен был закрыться на пару недель, Люси выразила желание провести неделю в Пюльубьере, но не в доме Шарля, а в том, в котором когда-то жили Франсуа и Алоиза, а сегодня в нем обитали Робер и Одилия. Люси так часто пряталась там от жизненных невзгод, что была уверена, что и теперь почерпнет новые силы. Дорога очень утомила ее тогда, 17 марта, так сильно, что Шарль, забиравший Люси с вокзала Мерлина на машине, настоял, чтобы она оставалась в его доме, а не у Одилии с Робером, сильно занятых в поле. Она отказалась, пояснив, что не хочет портить отношения с Одилией. Шарль кивнул, но сказал:
— Ты знаешь, что можешь приезжать к нам, когда захочешь. Не забудь, наш дом совсем рядом.
— Ну конечно, — ответила она.
Она хорошо понимала, что ей проще было оставаться у Шарля с Матильдой, они жили в более современных условиях, чем Робер с Одилией, но Люси действительно необходимо было вновь побывать в доме Франсуа, часто дававшем ей убежище, когда жизнь была чересчур жестока к ней.
Однако Люси ждало разочарование — дом изменился и был немного запущен. Одилия все еще не решалась заняться домашним хозяйством, после того как они с сыном привели дом в порядок снаружи. Она подталкивала сына к женитьбе, но с тех пор как Робер вернулся из Алжира, он стал очень молчалив. Он никуда не выходил — ни в Сен-Винсен, ни куда-либо еще. Робер изводил себя работой, ел, спал, жил, как человек из лесу, не помышляя даже о поисках женщины. «К тому же, — говорил он матери, — вряд литы выдержишь в доме еще кого-то, кроме меня».
Понемногу они стали жить каждый в своем одиночестве, сталкивались, но по-настоящему не встречались, и это было для них привычной жизнью. В сорок шесть лет Одилия решила посвятить жизнь сыну, а сын принял решение не оставлять мать в имении, которое ей самой обрабатывать было не под силу. Но они стали двумя смирившимися, потрепанными жизнью существами, и Люси с первого дня почувствовала себя не в своей тарелке. Поэтому она предпочитала больше времени проводить в компании Шарля и Матильды, при этом, однако, не меняя решения, принятого в первый день, о том, что она будет ночевать в доме Франсуа.
Шарль, желая доставить Люси удовольствие, отвез ее на машине в Прадель, где она провела свое детство, но она не смогла долго оставаться возле маленького обветшалого, готового рухнуть домика, а от сушилки уже остались одни руины. На следующий день Люси наведалась к Матильде, и им так понравилось общество друг друга, что затем Люси много разговаривала с женой своего племянника, такой уверенной в себе и публично высказывающей авангардные идеи о правах женщин и необходимости избавления их от опеки мужчин и религии. Люси не всегда ее понимала, но сила и решимость Матильды придавали ей уверенности, благоприятно на нее влияли.
Однажды ночью, по истечении первой недели в Пюльубьере, Люси стало очень плохо, но она решила не тревожить Одилию, заснувшую после изнурительного труда. Люси с трудом удалось заснуть. Проснулась она очень поздно, утром бродила по пустому дому и никак не могла припомнить, как называется это знакомое ей почему-то здание. В ее мозгу нарушилась какая-то необходимая связь, и ей больше не удавалось сопоставить места, в которых она сейчас находилась, со своей собственной жизнью. Люси смущенно осознавала, что с ее здоровьем случилось что-то очень серьезное, но никак не могла начать действовать в соответствии с этим пониманием.
Она машинально оделась, вышла, но вместо того чтобы спуститься к дому Шарля и Матильды, пошла в противоположном направлении, к Сен-Винсену. Она бодро шагала, купаясь в золотых утренних лучах позднего августа, когда первые признаки осени уже витали в воздухе, в темнеющей, искрящейся от ночной росы листве. Люси всего этого даже не замечала. Она шла вперед ровным размеренным шагом, немного согнувшись, но решительно, будто было важно выйти навстречу чему-то или кому-то.
Пройдя два километра, женщина, не колеблясь, повернула налево. Ее взгляд заблудился на миг в рисунке холмов и чаще леса, невероятно густого и темно-зеленого, ярко выделяющегося на фоне бледной синевы неба. Ее будто влек какой-то голос, и она удивлялась, откуда он взялся. Маленькая дорожка провела Люси между гигантских каштанов, спустилась в чащу, где журчали затерянные ручьи, затем женщина взобралась на плато, покрытое фиолетовыми цветами, и вышла в долину, где, поскрипывая, работала мельница. Люси ненадолго присела на ограду, словно ожидая, что кто-то придет за ней, а затем, поскольку никто не появлялся, продолжила свой путь тем же неторопливым шагом, немного склонив голову вперед. Она время от времени прикладывала ко лбу руку, будто чувствовала головную боль.
В полдень, когда стало невыносимо жарко и ноги уже иногда подкашивались, Люси присела в тени сосновой опушки, затем прилегла и заснула. Через час, проснувшись, она с испугом огляделась, будто спрашивая себя, где находится, затем поднялась и продолжила путь. Теперь Люси продвигалась не так быстро, ибо силы покидали ее, но она все еще упорно шла вперед, веря, что знает, куда направляется.
Когда усталость становилась слишком сильной, женщина с суровым и немного дрожащим лицом останавливалась, отдыхала недолго, затем вновь отправлялась в путь, слегка пошатываясь, будто с похмелья, хоть Люси и не пила, просто силы ее уже были на исходе. Женщина пришла к определенному месту к пяти часам пополудни. Она подошла к ограде, за которой виднелся огромный парк, а в глубине — замок, вид которого вызвал на ее лице потоки слез. Калитка была не закрыта. Она вошла в заброшенный парк, сделала несколько шагов и вдруг упала лицом к входу, на ковер из мха, среди высоких полевых цветов, в которых скрылась с головой. Ее уста пробормотали двусложное слово… Она была мертва, и на лице ее играла улыбка.
Многое произошло за два года с семьей Матье на этом плато департамента Лот, на земле, которую они с женой Марианной и сыном Мартином научились крепко любить. Мартин женился на Клодин весной 1963 года, и они вдвоем остались жить в родительском доме. Вернее, не совсем, поскольку мужчины сделали пристройку к маленькому фермерскому домику, где молодые могли пользоваться относительной независимостью. Ферма и земли перешли в их собственность благодаря поддержке Люси, парижанки, давшей Матье недостающие деньги со словами:
— Тебе не надо возвращать их мне. Моя дочь и внучка сейчас ни в чем не нуждаются. Думай о том, что эти деньги перейдут твоему сыну, его жене, их детям. Необходимо, чтобы они возобновили здесь то, что было у них там, и жили как можно лучше.
Матье никогда не принял бы подношений для себя, но, подумав о будущем Мартина, взял деньги. Мартин точно не знал, каким был уговор между отцом и тетей, но ему было известно, что он унаследует все имущество как единственный сын. Таким образом, он мог полностью посвятить себя работе в этом имении, к которому добавились шесть гектаров виноградников, дающих вино кагор. Истребленные филлоксерой в конце прошлого века, виноградные лозы терпеливо восстанавливались, как в долине, так и на окружающих ее холмах. Бартелеми изготовляли вино хорошего качества, одновременно терпкое и бархатистое, легко расходившееся после каждого виноградного сбора. К тому же Матье и Мартин хорошо владели искусством виноделия. Они совместно решили направить на это занятие всю свою энергию, как в то утро, когда они стригли зеленые виноградники перед сбором винограда. Урожай обещал быть обильным.
Они поднимались с рассветом, брались за работу, пока не наступал зной, который в этих местах часто оканчивался ливнями. Град представлял здесь большую опасность, поскольку мог побить лозы и за несколько минут уничтожить урожай целого года. Но риск здесь был меньше, чем в Аб Дая, там природа была куда более враждебна, чем в Керси. Тут не было ни саранчи, ни наводнений, и виноградники более-менее регулярно давали хороший урожай.
В девять часов Матье и Мартин прекратили работу и отправились в тень налегать на завтрак, принесенный в тряпичном рюкзаке. Они примостились, облокотившись о стену круглой постройки из камня, куда они складывали инструменты и необходимые для обработки растений вещества. Сначала они отпивали из бутылки разбавленное водой вино, затем принимались за хлеб с сыром, глядя прямо перед собой, как поднимается жара густыми слоями над карликовыми дубами и над можжевельником.
— Я должен тебе кое-что сказать, — произнес Мартин после долгого молчания.
Матье повернул голову к сыну, ожидая, что последует за этим. Но Мартин все не решался.
— Что ты хотел сообщить? — поторопил его отец.
— В начале следующего года ты станешь дедушкой.
Матье, долгое время ожидавший этой новости, не смог проглотить кусок хлеба. У него в груди что-то сжалось, и фигура Виктора, он сам не понимал почему, появилась перед его глазами: Виктор, ребенком бегавший между виноградных лоз в Матидже, смеющийся Виктор, Виктор, которого он подбрасывает на коленях, сам смеясь вместе с ним.
— Какая замечательная новость, — произнес он, положив тяжелую руку на предплечье Мартина. — Я уверен, это будет сын.
— Надеюсь, — произнес Мартин.
— Я тоже очень надеюсь.
Но как мог Матье объяснить, почему будущий ребенок соединялся в его сознании с утраченным им самим? Ему вдруг показалось, что все плохое компенсировано, что жизнь была справедливой и что она продолжалась здесь, под синим фаянсовым небом.
— Это очень хорошо, малыш, — подбодрил Матье сына, пытаясь скрыть свое волнение. — Надеюсь, он появится скоро, потому что в моем возрасте время поджимает.
— Не говори так, — попросил Мартин. — Осталось подождать шесть месяцев, разве это так долго?
— Каждый день важен, когда тебе семьдесят.
И Матье, вздохнув, добавил:
— Все, на что я надеюсь, — что смогу подержать его за ручку хоть мгновение, как я держал вас обоих.
— Конечно, ты сможешь это сделать.
— Тогда я умру спокойно.
Они замолчали. Напоминание об утраченном члене семьи, изолированном от всех них, наполнило грустью воздух, который становился все гуще и нес запахи сухого мха, камней и нагретой земли. Отец и сын поднялись, вновь принялись за работу, но время от времени Матье останавливался, поднимал голову к небу и, вытирая пот, думал о младенце, который скоро должен был родиться. Он надеялся, что этот ребенок заполнит наконец пустоту, образовавшуюся после трагической смерти Виктора.
Около одиннадцати часов они прекратили работу и пошли на ферму по тропе в зарослях можжевельника, на котором уже голубели ягоды. Матье и Мартин торопились сейчас быстрей спрятаться в тень и напиться, ожидая обеденного времени.
Когда они были еще далеко, Матье заметил на крыльце Марианну. То, что она стояла там в такую жару, показалось ему неестественным, к тому же Марианна, вместо того чтобы скрыться в доме, побежала им навстречу под испепеляющим полуденным солнцем. Он подумал, что что-то стряслось, решил, что с Клодин произошло несчастье, и заметил на лице Мартина ту же тревогу. Но Клодин вышла следом за остановившейся посреди двора Марианной, подождала, пока Матье приблизился к ней, и сказала, нежно взяв его за руку:
— Звонил Шарль. Ваша сестра Люси умерла. Ее тело обнаружили в парке замка Буассьер. Он сказал, что, вероятно, у нее произошло кровоизлияние в мозг. Завтра в Сен-Винсене состоятся похороны.
Матье постепенно пришел в себя, немного подумал и затем направился к сараю. Мартин, услышавший новость, хотел последовать за ним, но Марианна его остановила.
— Оставь его, — сказала она сыну.
Матье один вошел в свежую тень и закрыл за собой дверь. Там он недолго оставался без движения, затем сел на ореховое бревно, служившее колодой при колке дров. За одно утро ему пришлось узнать новость о будущем рождении и о смерти. Значит, вот как устроена жизнь? Значит, кому-то необходимо было умереть, чтобы новый ребенок мог жить. Эти мысли показались Матье абсурдными, и он почувствовал сильную усталость. Теперь он оставался последним уроженцем Праделя из их семьи, потому что Франсуа и Люси уже покинули этот мир. Он смутно помнил первое января 1900 года, когда они с Франсуа искали знаки, знаки перемен в жизни людей, так расплодившихся с тех пор. Матье казалось, что он был не на своем месте, что он тоже должен исчезнуть, а затем он подумал о будущем внуке и нашел в себе силы. Он еще немного повоюет. Ему необходимо было знать, не будет ли угадываться Виктор хотя бы в одной черте младенца, в его улыбке; только тогда Матье узнает, подошла ли его жизнь к концу.
В конце сентября 1962 года Пьер открыл для себя Париж со смешанным чувством боязни и любопытства. К большой радости родителей, благодаря отличным отметкам он был принят в класс высшей математики в лицей Людовика Великого по адресу улица Сен-Жак, 123 в четвертом округе Парижа. Настрадавшись за время жизни в пансионате, Пьер сейчас получил возможность снимать маленькую комнатку и, таким образом, стать настоящим студентом, без всех ограничений пансионата, кроме необходимости обедать в помещении лицея. Родители нашли ему жилье на улице По-де-Фер, на возвышенности Сен-Женевьев, не слишком далеко от лицея. В его комнате не было никаких удобств, она находилась на последнем этаже очень старого здания, но для Пьера символизировала свободу, которую он так долго лелеял в мечтах.
Юноша обдумывал свой отъезд в Париж все каникулы, но мать все же помогла ему побороть страх, объяснив, что этот отъезд был великолепным шансом однажды стать кем-либо неординарным, подняться на другую ступень в обществе, жить другой, не похожей на его нынешнюю, провинциальную, жизнью, жить в городе, где принимались решения, собирались самые блестящие умы, хранители знаний, то есть все, на что мог только надеяться молодой человек в восемнадцать лет. И все же ему было нелегко уезжать после трех месяцев, проведенных в Пюльубьере, большей частью в компании Кристель, одарившей его всем, чем только может одарить расцветающая юная девушка. Он с трепетом вспоминал длинные послеобеденные часы в густом ароматном воздухе леса, на кровати из мха, о гладкой и теплой коже, о своей отрешенности и, наконец, о часе расставания, когда Кристель сказала ему без единой слезинки, но голосом, пронзившим его насквозь:
— Все кончено. Там ты непременно забудешь обо мне.
Он запротестовал, искренне уверенный, что вернется к ней, как только сможет, и сейчас уезжает только по крайней необходимости — во всяком случае, ему говорили, что это необходимо. Так говорил, конечно же, отец, но самое главное — мать, сильно переживающая и недовольная их ставшей такой значимой для Пьера связью, несопоставимой с будущим, которого она желала для своего старшего сына. Пьер забрал с собой фотографию Кристель и украдкой смотрел на нее, иногда даже на занятиях. И тогда в нем поднималась волна сожаления, с которой приходилось отчаянно бороться. Он решил в конце каждой четверти приезжать теперь не в Аржанта, а в Тюль, куда были переведены его родители в этом учебном 1964 году.
Чего ему еще недоставало в этом огромном городе, где он чувствовал себя затерянным, так это деревьев, их дыхания и тяжелого аромата, контуров лесной тени, пространства, в которое уводили тропинки, чувства, что вокруг обитаемый мир, без единой стены, каким-либо образом нарушающей его бесконечность. Пьера мучило уродство старых улиц, по которым он поднимался на холм, поворачивая затем на улицу Сен-Жак, угнетали гнилостные запахи этих старых кварталов, в которых билось сердце большого города, но ему совсем не в тягость была его жизнь в лицее. Годы учебы в лицее подготовили Пьера к небольшим неприятностям студенческой жизни. К тому же учеба не казалась ему сложной, несмотря на большую, чем в Тюле, конкуренцию, и он все еще оставался в числе лучших учащихся класса.
Нет, больше всего страдал Пьер от странного чувства неполноценности. В Тюле, как, собственно, и в Аржанта, он жил с детьми из семей такого же, как у него, достатка, а положение родителей делало его одним из привилегированных учеников. В Париже все было наоборот: учащиеся, посещающие лицей Людовика Великого, были в большинстве своем выходцами из высших слоев общества — некая парижская элита, понимающая свое превосходство и требующая соответствующего отношения к себе. Такое положение вещей отражалось не только в речи, жестах, но и, конечно же, в манере одеваться. Пьеру всегда казалось, что его одежда вполне нормальна, но тут он понял, что на самом деле одевался бедно. Это открытие сильно его задело. И равно его уязвила манера, с которой некоторые учащиеся тратили свои деньги, например, в кафе около Сорбонны, тогда как он сам изредка бывал там, экономя каждый франк, отказываясь от походов в кино по воскресеньям, несмотря на сильное желание. Он понял, что ничего из себя не представлял, что ему придется сражаться больше, чем кому бы то ни было, чтобы достичь своей цели, что всем его богатством были его неординарные данные и легкость, с которой он обучался будущей профессии.
Иногда, находясь в компании своих товарищей, юношей или девушек, Пьер был вынужден стыдиться своей одежды, своей ограниченности в средствах, и больше всего ему было стыдно из-за того, что он испытывал этот стыд. Он думал о родителях, об усилиях, приложенных ими, чтобы он мог учиться в Париже, о том, что они всегда значили для него, и упрекал себя за свою слабость, за чувство неполноценности, невозможность ни выдающимися способностями, ни особыми заслугами привлечь взгляды окружающих его девочек, думающих уже о поисках мужа, который дал бы им возможность продолжать жить в этой роскоши, к которой они здесь привыкли. И потому он сбегал от них, возвращался в свою комнату под крышей и работал всю ночь, уверяя себя, что сможет подняться по этой горе, возвышающейся перед ним.
Однажды он все же заметил мальчика, очень похожего на него и так же избегавшего посиделок в кафе: его звали Бернар Ф., и он, кажется, приехал из провинции и не принимал участия в разговорах в коридорах лицея или классных комнатах. Однажды после занятий они вдвоем остались на тротуаре и немного прошлись до улицы Кюжас, по направлению к Пантеону.
— Где ты живешь? — спросил его Пьер.
— На улице Арен, — ответил юноша. — Со стороны математического корпуса Жюсье.
— Это далеко?
— Нет, всего в четверти часа ходьбы.
— Ты ходишь через площадь возле Пантеона?
— Да, могу пройти и так.
— Я тоже, — обрадовался Пьер. — Я живу на улице По-де-Фер. Она расположена перпендикулярно улице Муфтар.
И он добавил, почувствовав, что может довериться Бернару:
— Не самая ужасная улица, но в пансионате условия были лучше.
— У меня та же ситуация.
Скоро они вышли на площадь возле Пантеона, размеры и величие которой невероятно угнетали их, и в момент расставания Пьер спросил:
— Откуда ты приехал?
— Из Шартреза. Моя мать — учительница.
— А твой отец? — спросил Пьер и тут же пожалел об этом.
— Он умер.
— Прости, пожалуйста, — попросил Пьер.
— Ничего, я уже смирился.
Теплый воздух, подувший неизвестно откуда, дохнул на площадь, дойдя до самых отдаленных уголков, принося запах листвы. Казалось, Бернар так же обрадовался ветру, как и Пьер. Одному надо было идти направо, второму — налево, но они все не решались расстаться.
— Что ты делаешь по субботам? — спросил Пьер.
— Занимаюсь.
— А по воскресеньям?
— Тоже занимаюсь.
— Ты никогда не ходишь гулять?
— Нет.
— Я тоже не выхожу.
Получая сдержанные ответы однокурсника на свои вопросы, Пьер спросил, не встретиться ли им на следующий день, в воскресенье, чтобы познакомиться.
— Если ты хочешь, — ответил Бернар.
— Мы пройдемся по набережной.
— Договорились.
Пьеру казалось, что в голосе нового товарища прозвучало нетерпение, и, направляясь в свою комнату под крышей, он не сомневался, что ему удалось найти союзника для предстоящего боя.
В этом октябре, шуршащем листьями на заднем дворе школы Марсель-Бертело в самом сердце Тюля, Шарлю и Матильде казалось, что они попали в другой мир. Они наконец переехали в префектуру департамента, в настоящий большой город, ярусами расположенный на холмах с обеих сторон возвышенности над рекой Коррез. Это был шумный рабочий город, раскинувшийся вдоль двух основных улиц, поднимающийся на севере к плоскогорью и выходящий в огромные долины.
Шарль согласился на должность директора школы, ответственного за все начальные классы: от подготовительного до третьего. Матильда преподавала в смешанном первом и втором классах, но она также могла получить должность управляющего в одной из многочисленных школ города со следующего учебного года. Именно это обстоятельство побудило Шарля принять продвижение по службе после беседы с инспектором академии, не давшим ему никакого определенного обещания, но намекнувшим, что все так и будет. Жак был записан в технический лицей, чтобы получить диплом о среднем специальном образовании, но ему не нравилось жить в этом слишком большом для него городе. Он сожалел, что пришлось оставить Аржанта, Пюльубьер, деревню, леса, и не проявлял особого рвения в занятиях.
С самого начала первого учебного года на должности директора Шарль смог быстро понять объем своих новых обязанностей. У него значительно увеличилось количество рабочего времени. Помимо занятий в третьем классе необходимо было устраивать собрания с коллегами, и некоторые из них, старше его, не считали Шарля достойным внимания. Но особенно тяжело приходилось с родителями учеников — выслушивать их требования, но не уступать им, или соглашаться с тем, от чего он не мог отказаться без вовлечения в разбирательства управляющих академией, всегда держащих ухо востро. Он быстро понял, где может торговаться, а где рисковать было нельзя: никогда не следовало соглашаться переводить ученика в другой класс, если родителям не нравился преподаватель, но переводить его без колебаний, если учитель или учительница не могли справиться с трудностями, возникшими у ребенка. Не уступать в вопросах дисциплины, никогда наотрез не отказываться от вмешательства академии, помогать коллегам при возникновении сложностей, очень ненавязчиво внедрять изменения в программу, дипломатично, но никогда не уступая в главном, улаживать конфликтные ситуации.
Матильда помогала мужу как только могла и таким образом осваивала обязанности, которые в скором времени могли лечь и на ее плечи. Но главным ее планом на текущий год было развитие организации по планированию семьи, созданной в конце пятидесятых годов. Это был ее способ сражаться за то, чтобы женщинам никогда не пришлось пережить тот ужас, с которым она недавно столкнулась. Эта одержимость немного беспокоила Шарля, он знал, насколько безупречной должна была оставаться школьная учительница, а именно: никогда ни в чем не выделяться помимо своей работы, но он также понимал, что бесполезно пытаться помешать жене, если она что-либо задумала. Он решил для себя, что однажды ему придется стоять горой за Матильду, что произойдет, несомненно, в ущерб их главным обязанностям перед учениками.
Сегодня после обеда они оба работали в столовой своей квартиры на первом этаже здания с заложенными кирпичом окнами, в глубине маленького дворика. Эта новая квартира была большой, слишком большой для их семьи, но очень старое здание было уже не в лучшем состоянии. В квартире был санитарный узел без душа, отапливалось помещение все еще мазутной печью, и доски деревянного пола местами непрочно держались и прогибались, или свидетельствовали о присутствии термитов. Но разве это было важно? Еще в Ла-Рош Шарль и Матильда свыклись с подобными условиями, работа и миссия, которая была на них возложена, требовали всей их энергии. В тот день, должно быть, около четырех часов пополудни, в их дверь позвонили. Это происходило не так редко, и потому их дверь часто оставалась открытой: по субботам после полудня почти всегда, а иногда и в воскресенье по утрам, и они всегда были готовы к визитам родителей, своих коллег, всех тех, кому требовался совет или поддержка.
— Я открою, — сказал Шарль Матильде. — Не отрывайся.
Он положил свое перо с красными чернилами и спустился по скрипящим под ногами деревянным ступеням. Шарль открыл дверь и был весьма удивлен, увидев на пороге монашку. Однако же ее светлые зеленые глаза кого-то напоминали.
— Ты не узнаешь меня? — произнесла монахиня, и этого оказалось достаточно, чтобы Шарль понял, что эта дама, эта монахиня, была его сестрой Луизой, давно уехавшей в Африку и не присылавшей оттуда никаких вестей.
— Луиза, — произнес он. — Но возможно ли это?
— Я уже два года как постриглась в монахини, — сообщила она. — Я не хотела тебе писать, думала, что ты вряд ли поймешь, и решила приехать поговорить с тобой с глазу на глаз.
И еще добавила странным голосом:
— Меня так сильно удерживали от этого.
Он не ответил, долго рассматривая сестру, не в состоянии произнести ни слова или сделать хоть малейшее движение.
— Ты не хочешь обнять меня? То, что я стала сестрой Марией Луизой, еще не значит, что я не могу обнять своего старшего брата.
Шарль нагнулся, неуклюже обнял ее и, отстраняясь, улыбнулся.
— Луиза, сколько же времени мы не виделись? — пробормотал он.
— Я не приезжала во Францию шесть лет.
— Пойдем в дом, поднимайся за мной, — пригласил Шарль.
Они поднялись на второй этаж, и Матильда тоже была немало удивлена, но постаралась не показывать этого. Они остались в гостиной с глазу на глаз, немного стесненные, будто ставшие чужими друг другу после такой долгой разлуки и стольких событий.
— Итак, — начал Шарль, стремясь быстрее разорвать нависшую тишину.
— Итак, я оставалась единственной медсестрой, не принадлежавшей к ордену, и потому решилась в конце концов присоединиться к своим сестрам. Вот и все. Это произошло очень естественно, я каждый день подолгу находилась в их компании, жила среди них, страдала и любила наравне с ними.
Луиза улыбнулась, продолжая:
— В нашем диспансере лечатся сотни детей.
— Ты все так же живешь в Яунде? — поинтересовался Шарль.
— Нет. Мы сейчас переместились в центр страны, на плато Адамуа, на высоту восьмисот метров над уровнем моря, где сухой сезон длится семь месяцев.
— Не слишком ли суровые условия?
— Я уже привыкла.
На ее лице и вправду читалось некое спокойствие, сильно впечатлившее Матильду и Шарля. Но особенно Матильду, которая всегда очень сдержанно относилась к служителям культа. Ее атеизм был унаследован от родителей — учителей и был еще больше привит воспитанием в Эколь Нормаль. Шарль же в глубине души сохранил понимание религии, переданное ему матерью, а у Луизы это выразилось в поступке, в действительности не особенно его удивившем.
Луиза с воодушевлением рассказывала о проблемах, которые приходилось преодолевать в Африке: соперничество между племенами, не менее чем двумя сотнями народов, среди которых банту занимали доминирующую позицию; нехватка гигиенического комфорта, засухи, плохое питание, африканские эпидемии, для борьбы с которыми они приложили все усилия: малярия, корь, туберкулез и иногда еще проказа, от которой никак не удавалось избавиться окончательно.
Рассказывая, Луиза улыбалась, будто ей нечего было страшиться жизни в подобных условиях и словно ее миссия, наоборот, полностью ее удовлетворяла. Пока она говорила, Шарль видел, как Матильда замыкалась в себе, и подозревал, что ей захочется задать много вопросов, как только Луиза закончит свой рассказ. Он также теперь замечал, насколько его сестра похожа на их мать, Алоизу, и это сходство очень трогало его.
— А разве не существует больниц и диспансеров вне религиозных орденов? — вдруг спросила Матильда.
— Есть несколько в больших городах, — отвечала Луиза, — но настоящие проблемы возникают в глубинке. После объявления независимости в 1960 году страна раскололась надвое: север сблизился с Нигерией, а юг — с бывшим французским Камеруном. Это событие обострило многие проблемы. Никто не знает, объединятся ли эти земли однажды в единое государство или их ждет окончательный раскол. Там очень сложная обстановка, как и во всех африканских странах, недавно получивших независимость.
— Но это же наверняка лучше, чем колонизация, — заметила Матильда, уязвленная в своих убеждениях.
— Однажды станет лучше, — ответила Луиза все с той же уверенностью в голосе. — Во всяком случае, все на это надеются.
Спокойствие Луизы уменьшило опасения Шарля. Он понял, что ничто — ни слова, ни вопросы — не в силах прогнать улыбку с лица сестры и сделать ее голос строже. Луиза нашла в своей жизни смысл, так сильно не похожий на смысл его жизни, но она несомненно была счастлива, и даже больше, чем счастлива: ее радовала жизнь в этой далекой от родины стране. Матильда также поняла это. Никак не проявив это внешне, она втайне была взволнована, и ее отношение к Луизе заметно смягчилось.
Все два дня, пока Луиза оставалась в Тюле, Матильда изо всех сил старалась понять Африку и положение женщин в ней, совсем забыв, что разговаривает с монахиней.
В воскресенье они отправились на могилу Эдмона и родителей в Сен-Винсен, затем побывали в Пюльубьере, куда Луиза возвратилась с большой радостью. Она нашла Одилию и Робера очень изменившимися, молчаливыми, почти угрюмыми, но даже в их компании ей удавалось находить слова, смягчающие резкость их нелегкого разговора. Луиза захотела посмотреть окрестности, дорожки, по которым ходила ребенком, останавливалась перед каждым домом деревушки, пешком пошла по дороге в Сен-Винсен, по которой она ходила в школу, а затем сказала всем, что время ее отпуска подошло к концу. И в ее голосе не прозвучало ни намека на сожаление, ни капли ностальгии. Все та же улыбка играла на ее устах, когда Шарль с Матильдой прощались с ней на перроне Тюльского вокзала. Когда поезд тронулся, Шарль подумал, что, наверное, никогда больше не увидит вновь свою странную, сильно изменившуюся сестру, в которой никогда раньше не замечал подобного внутреннего богатства, даже по вечерам, когда после школы они засиживались вместе под присмотром их матери Алоизы на большой кухне.
Паула очень болезненно восприняла бабушкину смерть. Она столько времени прожила рядом с Люси, что боль от утраты никак не отпускала ее. В конце концов, ее ведь вырастила именно бабушка, и она была рядом намного чаще, чем мать Элиза, слишком увлеченная своими делами. Даже сейчас бóльшую часть времени Элиза проводила в Соединенных Штатах, возлагая на Паулу ответственность за магазин в Париже, и девушке по-настоящему во многом помогала мадам Лессейн, хорошо разбирающаяся в этой профессии. Поскольку Пауле было всего девятнадцать, она хоть и получила основные понятия — научилась распознавать регентский столик или низенький столик XVIII века, торговаться с клиентами и вести счета, — но еще не достигла совершеннолетия, когда имела бы право сама зарабатывать себе на жизнь.
Мать пообещала, что отдаст в ее распоряжение дело, как только Паула достигнет совершеннолетия, но девушка не торопилась. Несколько месяцев, проведенных ею в Штатах с матерью, лишь подтвердили разницу во вкусах и часто противоположные представления о жизни. Паула несколько раз яростно спорила с Элизой, не понимающей ее девичьей беззаботности, ее незаинтересованности в делах — и прибыли, — как называла это Паула, — ее неприязни к Нью-Йорку и в конечном счете пренебрежительного отношения к ожидавшему ее блестящему будущему. Все обстояло так потому, что, в противоположность матери, Паула познала и нечто другое, кроме подобной жизни, когда жила с бабушкой Люси. Нечто отличное от высокого света и мира бизнеса. Как все подростки, она искала свою собственную правду и не могла забыть ту, которая научила ее понимать истинную ценность и смысл вещей, в Париже и в месте, которое она называла плоскогорьем, там, в Коррезе.
Паула чувствовала себя одинокой, очень одинокой, и когда бабушки не стало, то ей показалось, что не осталось ничего стóящего. Она теперь думала, как бы суметь поддерживать в себе — спасти, как она считала, — эту связь, так много значащую для нее, и старалась сберечь все, чем Люси особо дорожила. Сегодня девушка кое-что придумала и с нетерпением ждала приезда матери, чтобы обсудить с ней это.
И желанный день наконец настал. Однажды вечером они остались один на один в квартире по улице Суффрен, за ужином, доставленным из соседнего трактира. Элиза, произнеся несколько слов в утешение печальной дочери, рассказывала ей о доставках, заказах, сложностях в обслуживании все более и более занятых клиентов, когда Паула, очнувшись от своих грез, вдруг сказала, остановив мать движением руки:
— Надо съездить в замок Буассьер.
— В замок? Какой замок?
— Замок, куда бабушка пошла умирать.
Женщина с недоумением посмотрела на свою дочь, неожиданно поняв, что они жили в двух сильно отличающихся вселенных.
— Что произошло? — спросила она. — Ты заболела? Тебе нездоровится?
— Я не очень хорошо себя чувствую, но это, кажется, не имеет значения.
Элизе показалось, что небо свалилось на голову.
— Тебе не нравится твоя работа? — спросила она дочь.
— Работа мне нравится, но бабушка умерла, — произнесла Паула и тихо прибавила, так тихо, что не знала, были ли ее слова услышаны: — Твоя мать тоже.
Элиза, казалось, отбросила мысли о повседневной жизни. Она словно вдруг открыла для себя, что эта девушка так мало похожа на нее саму: голубые глаза, светлые волосы, хрупкая и сильная одновременно, и серьезность, так мало сочетающаяся с ее юным возрастом. К тому же Паула была более чем серьезна: в ее глазах читалась потребность в неизвестно каком плане, какой надежде.
— Тебе чего-нибудь не хватает? — спросила Элиза.
— Мне столького еще не хватает, — вздохнула в ответ Паула.
— Чего же? Скажи, я здесь, чтобы помогать тебе.
Паула замялась, будто боясь травмировать мать.
— Мне не хватает того, что я не знаю другой жизни, кроме полностью обеспеченной.
— И ты при этом хочешь, чтобы я выкупила тебе замок? — возмутилась Элиза.
— Я бы хотела, чтобы ты выкупила не замок, а землю. Если бы там на его месте была хижина, мне она была бы точно так же дорога.
— В финансовом аспекте это не совсем одно и то же.
— Я возмещу тебе эти затраты позднее.
— Из каких средств? Деньгами, которые я даю тебе?
Паула вздохнула и добавила:
— Давай больше не будем говорить об этом.
Элиза хотела взять ее за руку, на Паула резко вырвалась.
— Мне ее тоже очень не хватает, — прошептала Элиза. — С тех пор, как она нашлась, жизнь стала прекрасной. Не думай, что я равнодушна к ней. Но я потому стала еще больше работать, чтобы не чувствовать утраты, ее отсутствия возле себя.
— Нет, — возразила Паула. — Она жила возле меня, а не возле тебя.
— Да, это так, — согласилась Элиза, немного поразмыслив, — но это не значит, что я не сожалею о том, что она уже не с нами.
— Я этого не заметила.
И наступило тяжелое молчание. Элиза, вздохнув, произнесла:
— Я думаю, ты сегодня как-то слишком строго относишься к некой особе, которая всегда думала только о том, как бы устроить получше твою жизнь, давшей тебе профессию, открывшей тебе весь мир.
— Наверное, это потому, что я не смогла достичь всего этого сама.
— Наверняка все именно поэтому, — прошептала Элиза, опуская голову.
Затем она добавила строгим тоном:
— Как ты можешь одновременно упрекать меня в том, что я недостаточно была рядом и что я сделала за тебя выбор?
— Потому что и то и другое верно.
— Ладно, — произнесла Элиза. — Давай оставим этот разговор, — скажи мне, чего ты по-настоящему хочешь.
— Я уже сказала тебе: выкупи замок.
— И что ты с ним будешь делать?
— Это не для меня, это для нее. То есть, я хотела сказать — это для них, моего дедушки и моей бабушки.
Элиза выглядела изумленной.
— Значит, ты все знаешь, — прошептала она. — Она тебе рассказала.
— Естественно, — произнесла Паула. — Повторяю тебе, мы проводили там все каникулы, каждое лето, только вдвоем. Я и сама, казалось, видела, как Норбер Буассьер все еще ходил по аллеям.
Элиза вздохнула, попыталась привести еще один довод:
— Но в каком состоянии сейчас этот замок?
— Я узнавала. Он почти разрушен. Он почти ничего не стоит.
— Это значит, что придется сделать ремонт.
— Я беру это на себя.
— А где ты возьмешь деньги?
— Я найду где.
Элиза немного подумала, посмотрела на дочь, словно видела ее в первый раз.
— Договорились, — сказала она.
— Благодарю тебя за нее, — сказала Паула.
— Я не уверена, что она этого хотела, — продолжила разговор Элиза. — Я предлагала ей выкупить замок, но она ответила, что не стóит, что единственный способ оставаться жить — это смотреть в будущее, а не в прошлое.
— Но она пошла туда умирать.
— Это правда, но что ты будешь делать там?
Паула немного подумала и ответила:
— Пойду искать там то, что не смогла найти здесь.
— Что же?
— То, что не продается.
Элиза серьезно смотрела на дочь. Она была немного уязвлена, но в то же время, казалось, понимала.
— Могу ли я сделать для тебя что-нибудь еще? — спросила она беззлобно.
— Нет, спасибо. К тому же я надеюсь, что мне не придется больше ничего у тебя просить.
Паула, немного подумав, добавила:
— И если однажды, например, в день моего совершеннолетия, я попытаюсь найти себе работу сама — что ты на это скажешь?
— Знаешь, я огорчусь. Все, что я сделала на сегодняшний день, я сделала для тебя.
— Нельзя прожить жизнь вместо кого-то другого, сама знаешь, даже когда речь идет о собственных детях.
— Это правда, — прошептала Элиза, — я только что это поняла.
— Если ты не против, я в субботу уеду в Коррез и попытаюсь быстро все сделать.
— Ну конечно, моя маленькая. Спеши, пока кто-нибудь не выкупил твой славный замок до тебя.
И, направляясь к холодильнику за бутылкой шампанского, Элиза добавила:
— Нам остается только отпраздновать это решение.
— Ты права, давай отпразднуем. Надеюсь, что эта покупка не принесет нам несчастья.
Через три дня, с доверенностью на руках, Паула уехала в Коррез, чтобы осуществить план, который глубоко запал ей в душу. Она успокоилась, только приехав к нотариусу в Борт. Нотариус подтвердил, что замок все еще выставлен на продажу. Как же иначе, ведь сейчас его состояние было просто плачевным. Однако Паула не колебалась ни минуты. Она подписала договор купли-продажи, уверенная, что делает решительный шаг в исполнении своего секретного плана, который никому не открывала, даже своей матери: она хотела переправить тело бабушки в эти места, где та познакомилась и влюбилась в дедушку в самом начале века.
15
Глядя в небо, Ганс Хесслер лежал на плато Меклембург и пытался собрать все свои силы, наблюдая за тем, как чередой следуют с Балтийского моря тучи. Он был изнурен настолько, что несколько раз этой зимой его посещала мысль, что следующей зимы он больше не увидит. Уже четыре года, то есть с тех пор, как Штази пришла арестовывать его в офис, он похудел на пятнадцать килограммов, щеки запали так, что страшно было смотреть, и никто не узнал бы его больше в его семье во Франции, о которой он иногда думал как о возможном прибежище, чтобы избавиться от испытаний, градом обрушившихся на него.
Он не забыл ни минуты из первых месяцев своего пребывания в берлинской тюрьме, бесконечные допросы, признания, которые они хотели вырвать у него, в то время как ему не в чем было себя упрекнуть, наоборот: он добровольно прервал все отношения с матерью, с Францией, пытаясь стереть ее из своей памяти, полностью забыть ее, чтобы избежать этих разбирательств, которые время от времени случались с каждым членом политического бюро партии. Кто предал его из выбранных в районный комитет Берлина? Ганс никогда так и не узнал. Единственное, что было ему известно, — несмотря на свои усилия и тот факт, что отец сражался с нацистами, он по причине происхождения матери с большим трудом смог получить место в Политбюро одного из районов, заменивших Lander[13] в завоеванной Германии. Он всегда должен был проявлять большее усердие на работе, в анализировании, организации, чем все его товарищи. Но и этого оказалось недостаточно. Ганс рисковал попасть в мясорубку обвинений в шпионаже в пользу иностранного государства. У него не было возможности защищаться, возможности что-либо доказать, поскольку здесь он жил в изоляции, фактически не имел друзей и выстроил, как и все политические уполномоченные, отношения с окружающими на страхе, а не на солидарности.
Он ничего не признал, несмотря на часы, дни и месяцы пыток, скорее моральных, чем физических, и его палачи сменяли один другого, пытаясь вырвать из его уст признание. Он выдержал. Месяц. Два месяца. Ганс не допускал мысли, что от него отказались, что его уничтожали те, к кому он стремился присоединиться с самых ранних лет, те, кто олицетворял для него борьбу с нацизмом — коммунисты. Эта мысль была для него невыносима. Его несколько раз едва не лишили жизни, но в нем каждый раз не угасал слабый огонек: образ его матери, добравшейся до самого Берлина в поисках сына. Его живая мать, без сомнения, ожидавшая сына где-то, как и всегда, чтобы отвести в свои темно-зеленые горы, отрывочные воспоминания о которых порой смягчали его муки.
После пародии на суд он был приговорен к перевоспитанию в психиатрической лечебнице. Тогда Ганса отвезли в Померанию, возле города Росток, где среди многочисленных заключенных он стал словно блуждающей тенью, одуревшей от транквилизаторов, от лекарств, которые на них испытывало правительство, от галлюциногенных препаратов, несомненно применяемых с целью свести с ума. И он почти уже потерял рассудок, поскольку его сознание подавлялось длительный период, который сам Ганс оценивал как шесть месяцев, но который фактически длился уже год. В конце концов Ганс подписал признание, не осознавая даже, что он подписывает, и был переправлен в трудовой лагерь на плато Меклембург, на северо-западе бывшего нацистского лагеря в Равенсбурге, на огромную стройку, суть которой, казалось, сводилась к бесконечному копанию ям и погребению в них заключенных.
Гансу потребовался год, чтобы частично восстановить свое здоровье и понять, что, возможно, они строят ядерную базу, предназначенную для хранения баллистических ракет, приготовленных для Западной Европы. Но он не был в этом уверен. Собственно, как и ни в чем другом, поскольку после психологических пыток пришло время физических испытаний. Изнуряющая работа с шести утра до восьми вечера, катание туда-сюда тележек, груженных камнем и мореной, свидетельствующих о том, что здесь когда-то проходил ледниковый фронт. Суровые холода зимой, сведенное до минимума питание, болезни, теснота, люди с пустым взглядом, с кругами под глазами, живущие в молчании и страхе… Наверняка точно так же было в построенных нацистами лагерях, вновь появляющихся теперь под другими предлогами, после их решительного уничтожения СССР в целях борьбы с нацистами.
Сам того не осознавая, Ганс попал в жернова Истории, так же унесшей жизнь его отца Яна, чей бой Ганс хотел продолжать. Происходящее было таким абсурдным, причиняло такую боль, что он удивлялся, как еще остался в живых и вновь мог смотреть на весну и новый рассвет жизни, слышать ароматы и чувствовать кожей дуновение ветра, и он закрывал глаза от удовольствия, в то время как по лицу его стекали слезы. Он понимал, что во всем мире весны одинаковы. Везде весной происходил огромный всплеск новых сил, приходящий издалека, из самых первых рассветов, самых первых времен года. Именно эта сила заставила людей очнуться от забвения, в то время как они полагали себя всемогущими. Такова уж их природа: их гордость, их инстинкт выживания выражались в забвении этой очевидной части прошлого: мир мог бы прекрасно обойтись без людей и их смехотворных делишек.
Ганс вспоминал о весне в Пюльубьере, о листве на лесных деревьях по обе стороны от деревенской дороги, по которой он ходил в школу. Как называлась та дорога? Ганс все никак не мог вспомнить. И ему почему-то вдруг стало очень важно вспомнить об этом, но он никак не мог уже в течение нескольких дней — а именно с утра, когда он почувствовал первое теплое дуновение ветра на коже, заметил на березе возле их стройки первую листву.
Сегодня Ганс чувствовал себя не просто разбитым, а полностью обессилевшим. У него сломалась лопата, и он на несколько мгновений нашел убежище между двумя дощатыми сараями, где хранились инструменты, в ста метрах от гигантской дыры, выкопанной им в земле. Ему никак не удавалось подняться. У него на это не оставалось ни желания, ни сил. Он чувствовал, как чуждо ему все происходящее, к нему приходили мимолетные видения Парижа и Пюльубьера, его родной деревни, куда он ходил в школу и название которой никак не мог вспомнить, будто это воспоминание может спасти его, снять всю его усталость, удрученность, вернуть ему необходимые для выживания силы. Он также видел перед собой свой кабинет на аллее Карла Маркса, свою квартиру на Александерплатц, куда он возвращался по широкому проспекту Унтер ден Линден, такому тенистому и приятному в летний зной, и он до самого дома добирался в укрытии липовых крон, чтобы отдохнуть несколько часов после работы. Ганс Хесслер никогда не женился. Он посвятил себя выполнению обязанностей на посту директора промышленного выпуска района, своим непомерным обязанностям, все силы отдавая главной цели: принести победу коммунизму, так славно поборовшему забравший жизнь его отца фашизм. Но коммунизм растоптал его. Он убьет и его тоже, Ганс в этом уже не сомневался.
Над ним через тонкие облака просвечивалась такая синева, которой, ему казалось, он никогда не видел. Во всяком случае, не во время бесконечной зимы в Померании, когда в течение долгих месяцев снег падал без остановки, погребая под собой окрестности, лес, плато, казалось, изолированное от всего мира, чтобы надежней держать взаперти узников. Эта мысль укоренилась в его сознании, несмотря на теплый весенний воздух: он уже никогда отсюда не выберется. И сегодня Ганс слишком долго боролся, слишком много страдал. Переступив предел изнеможения, проведя здесь четыре года, Ганс больше не мог выносить такой жизни.
Он получил несколько сладостных минут передышки, когда его мысли блуждали где-то далеко от этих мест, там, где ему довелось побывать: в Швейцарии, из которой он вынес воспоминание об огромном, невероятно синем озере; Гансу вспоминался тенистый парк в Париже, оканчивающийся Эйфелевой башней; он видел полуночную мессу в своей деревне, название которой так и не смог припомнить. Ему было тридцать пять лет, и он об этом не знал. Он полагал, что ему тридцать четыре. Один год жизни был полностью стерт из его памяти. У него больше не осталось желания сражаться. Зачем? Ради кого? Ради матери, которую он оттолкнул от себя и которая, возможно, была уже мертва? Ради партии, превратившей его в бродячего призрака? Ради идей, которые, как он полагал, делали мир справедливее, счастливее и в которые он сегодня больше не мог верить? Его ничто больше не держало в этой жизни, кроме теплого дыхания весны.
Когда появились два капо[14], Ганс их почти не слышал. Они стали угрожать ему оружием и с ненавистью кричать:
— Aufstehen! Schnell! («Встать! Быстро!»)
Ганс Хесслер не двигался с места. Он закрыл глаза, но в них все еще стояло видение молодой березовой листвы, подрагивающей от ветра. Он почувствовал удары ботинок на своих ногах, ребрах, но его глаза оставались закрытыми. Пулеметная очередь его почти не удивила. Он уходил из жизни, увидев вдруг название на дорожном указателе, в отдаленном уголке Франции, в сердце лесного края, где жили мужчины и женщины с благородным сердцем: Сен-Винсен-ла-Форе.
Проснувшись однажды июльским утром, Пьер смотрел, как лучи встающего над плоскогорьем солнца пробиваются сквозь закрытые ставни. Открывая глаза, он все еще полагал, что сейчас находится в Париже, в своей маленькой комнатушке под крышами, затем он вернулся в действительность: ему вспомнилось путешествие из Парижа в Тюль накануне, отъезд в Пюльубьер после полудня того же дня вместе с отцом. Жак был тут уже три дня, помогая Роберу, а их мать, Матильда, должна была приехать не раньше чем через неделю. У нее было много работы на посту президента ассоциации по планированию семьи. К тому же она никогда не была в восторге от Пюльубьера — его отдаленность, его рутинные нравы, сохранившиеся от предков и по которым здесь все еще жили, были ей не по душе, она предпочитала городскую жизнь, где она могла наконец заниматься деятельностью, соответствующей ее убеждениям.
У нее было достаточно времени порадоваться успехам старшего сына накануне во время обеда. Два года изучения высшей и специальной математики в школе Людовика Великого позволили Пьеру принять участие в конкурсе Эколь Сентраль, — или просто Сентраль, — и занять двадцать четвертое место среди тысячи кандидатов. Его литературные способности сыграли не меньшую роль, чем математические успехи, а в конкурсе играло роль как одно, так и другое. Так, если все пойдет хорошо, через три года Пьер должен был стать одним из самых востребованных предприятиями инженеров, и юношу ждала карьера, достойная его исключительных способностей.
Пьер еще успевал перед отъездом зайти в Монгольфьер, в третьем округе Парижа, неподалеку от консерватории искусств и ремесел, где находилась престижная школа, милостиво принявшая его в свои стены. Достаточно было всего лишь бросить взгляд на галерею портретов великих людей прошлого, бывших выпускников школы: Блерио, Эйфель, Лекланше, Мишле, Пежо, Шлюмбергер, чтобы измерить, как сильно он смог возвыситься после своего колледжа. Пьер гордился своими успехами, но был чрезмерно утомлен ночами, проведенными за занятиями. Он должен был отдохнуть, выбросить из головы хлопоты, перед тем как взяться за задания для нового учебного года. Поэтому он и оказался сегодня утром в Пюльубьере. И потому его мать, Матильда, не стала просить сына остаться с ней в Тюле, пусть даже на несколько дней. Здесь, на плоскогорье, он наверняка сможет набраться новых сил, необходимых для того, чтобы с большей энергией взяться за учебу в сентябре.
Пьер поднялся с кровати в полутьме, отворил ставни. Его поразил свежий утренний воздух, от которого он так отвык. Который мог быть час? Он посмотрел на часы, было девять утра. Давненько ему не удавалось поспать до девяти утра. Юноша уже привык вставать по утрам в пять часов, что не отменяло работы допоздна: он никогда не ложился до полуночи. И потому Пьер наслаждался сегодня своим первым утром на каникулах, завтракая в одиночестве в огромной кухне, потому что отец и брат уже давно успели уйти. Невольно Пьер возвращался мыслями в Париж, и каждый раз, когда его взгляд останавливался на предметах в доме, он не мог сдержать удивления, ему все никак не удавалось привыкнуть к новой обстановке.
Закончив завтракать, он вышел на улицу и примостился на деревянной скамье справа от входной двери. Вся деревня утопала в темной зелени лесов, уходящих, казалось, к самому небу. Не было слышно ни шороха, ни даже пения петухов. Прикрыв глаза, Пьер подумал, как сейчас весело оживлена улица Муфтар, что возле площади и Пантеона, и ему уже была неприемлема, чужда тишина, царящая на плоскогорье. Ему впервые начало казаться, что она была чем-то непреодолимым, и это открытие удивило и слегка огорчило его, будто это недоразумение грозило вырасти в более серьезное и принести в будущем много страданий.
В действительности же Пьер так поспешно вернулся в Пюльубьер потому, что ему не терпелось отыскать ту, которая время от времени писала ему письма и которой он отвечал с неизменной искренностью. В Париже ему не приходилось по-настоящему заглядываться на девушек, а тем более на женщин, встречи с ними были очень короткими. Он думал только о работе, хотя ему и удалось побороть уже развившийся было в нем комплекс неполноценности, не позволявший приближаться ни к одному из этих созданий, подчеркивавших свою недоступность каждым грациозным жестом, взглядом, уверенной речью. За два года Пьер понемногу начинал становиться парижанином, и это придало ему уверенности в возможности достижения высот, раньше казавшихся недосягаемыми. Но он все еще был убежден, что должен работать больше, чем его однокурсники, чтобы убедить окружающих в своих способностях, а все из-за его низкого положения, его провинциального происхождения, не подготовившего Пьера к суровым сражениям.
Его настоящий мир был здесь, вокруг него, здесь он мог проявить свою силу, свою правдивость, привычное ему постоянство. И все же он вновь почувствовал этим утром некую свою отстраненность от этих мест, повергшую его в раздумья. Как он сможет совмещать свои успехи, карьеру, на которую претендовал, с этим миром, где нет горизонта и, вероятно, будущего? Ему казалось, что между ними была полная несовместимость, тяжело давившая на него.
Чтобы избежать этого, Пьер выбрал бегство и отправился на велосипеде к тайному месту, где его ждала Кристель. Ни он, ни она не забыли, где это: в двух километрах от Сен-Винсена, по дороге в Уссель, по одной из тропинок, уходящих вправо, до огромного каштана, затем один километр по лесу, и в глубине небольшого ущелья — лесная сторожка, ложе из папоротников в самом сердце мира, под прикрытием деревьев. Пьер сообщил письмом о своем приезде и назначил Кристель свидание в первое утро, как можно раньше. И она ждала его там. Он не сомневался. Он думал только о встрече, на полной скорости мча под сенью огромных деревьев по узкой дорожке, едва-едва освещенной солнцем. Он не видел Кристель уже шесть месяцев, потому что не смог приехать на Пасху, усиленно готовясь к конкурсу.
По дорожке, заросшей слишком высокой травой и папоротниками, было невозможно ехать дальше. Пьер толкал свой велосипед рукой, стараясь передвигаться как можно быстрее, временами почти переходя на бег, в густой тени деревьев, источающих аромат мха и влажной листвы в теплый утренний воздух.
Кристель стояла возле хижины, опершись на одно из бревен дверного косяка, слегка склонив голову набок с недовольным выражением, как обычно, спрятав лицо в темных волосах. Пьер поспешил к ней, грубо обнял. Они, обнимаясь, добрались до папоротникового ложа, куда и свалились, словно подстреленные птицы, и вновь она ни в чем ему не отказала, и даже напротив, уступила во всем, чего он потребовал от нее, с неким подобием отчаяния, не сразу замеченным Пьером, — так сильно был он счастлив вновь ощутить аромат ее кожи, мышцы ее рук, ног, сильное тело, тянущееся к нему. Кристель вновь без остатка и без задних мыслей отдала ему все, что имела самого драгоценного, ненадолго забыв о замкнутости, спровоцированной иногда ее суровой красотой, каким-то отчаянием, в которых она порою надолго закрывалась от внешнего мира.
Затем они долго лежали рядом в тишине. Кристель положила голову ему на грудь, и он слышал ее тихое дыхание, гладил ее волосы. Немного позже она поднялась, села рядом и спросила без тени улыбки:
— Итак, тебя приняли?
— Да, — ответил Пьер. — В Сентраль, представляешь себе?
Она не отвечала и продолжала угрюмо на него смотреть.
— Что с тобой? — спросил Пьер. — Что-то не так?
Она снова промолчала, с ней часто происходило подобное — девушка внезапно уходила в себя, скрывалась тогда от него на недосягаемую глубину. Пьер сел рядом, обнял ее за плечи и повторил:
— Скажи мне, что не так? Что произошло?
— Мы потеряем друг друга, — быстро произнесла Кристель.
— Как это — потеряем?
— Чем дальше, тем все больше ты отдаляешься от меня.
— Но сейчас же я рядом.
— Да, конечно, но этот конкурс, твоя высшая школа и все, что ждет тебя там. Ты забудешь меня, я уверена.
— Погоди, — перебил ее Пьер, прижимая к себе. — Ты же прекрасно знаешь, что я не забуду тебя.
— Забудешь, конечно.
И она добавила шепотом, так безнадежно и уверенно, что глубоко задела его:
— Забудешь, это непременно произойдет.
Все время, пока они были вместе, Пьер, несмотря на усилия, не мог перестать думать о разных судьбах, ожидавших их. Даже наедине с Кристель, в самой чаще леса, он понимал, как изменился, как сильно преобразили два года в Париже его мировоззрение, его былое представление о мире вдали от Пюльубьера. И хотя Пьер тщательно скрывал свои чувства, он пребывал сейчас не в меньшем отчаянии, чем она, осознавая некую утрату, отсутствие шума, но также слов, оживленных споров, разминающих ум упражнений. Он был втайне ранен, чувствовал себя виновным в измене. Теперь в его жизни появилась неизлечимая рана, и даже если он отказывался сейчас признать ее, то никак не сможет бороться впоследствии. Но он все так же пытался уверить Кристель, по-прежнему угрюмую, не враждебно, но осуждающе глядящую на него, глубоко несчастную, верящую, что уже потеряла его.
После первой встречи они будто бы отогнали от себя мысль, что однажды каникулы закончатся, но каждый раз, уходя от Кристель, Пьер думал, что скоро, против своей воли, придется навсегда оставить ее. Теперь он даже перестал замечать высокие деревья, всегда сопровождавшие его на узкой дорожке к счастью, и он будто бы шел по ней в незнакомый мир, где в детстве вокруг него плясали странные тени в семимильных сапогах. Июль 1966 года наполнял сердце Матье радостью, напоминая об Алжире предвестием сильной жары, недосягаемым синим небом, неистовым кружением ласточек, удручающей тишиной, спускавшейся на землю в середине дня, и длинными вечерами, когда он сидел на крыльце в ожидании ночи. Ему нравился его новый клочок земли, он был доволен. Марианна, в свою очередь, завела более тесные отношения с семьями выходцев из Алжира, во множестве заселившими деревни Керси, в том числе Кагор, куда Матье иногда отвозил ее за покупками. Он не любил оживлять слишком болезненные воспоминания. Прошлое, Алжир, Аб Дая хранились в его памяти, и ему не надо было вызывать воспоминания о них, часто меняя и приукрашивая действительность, делая их не похожими на его собственные видения. Его Алжир был слишком старым, слишком ранящим, слишком красивым, чтобы Матье мог делить его с другими. Марианна жаловалась ему, но он не уступал. Каждому свое, так намного лучше.
К тому же в Кустале они были не одни: у Мартина и Клодин в феврале прошлого года родился сын. Мальчика назвали Оливье, и Матье души не чаял в ребенке. Как только малыш научился ходить, дед отвел его на известняковые плато, водил его там по дорогам, держа за руку (как долго об этом мечтал), счастливый, показывал малышу места, которые в будущем станут его имением, таким, которое хотя бы здесь никто и никогда у него не отнимет. Малыш сильно походил на Виктора, его убитого сына: у Оливье была такая же темная шевелюра и такие же черные глаза, как были у него, и Матье порой, глядя на внука, начинал вспоминать Аб Дая двадцатью годами ранее, когда он вот так же водил за руку Мартина и Виктора. Он пытался убедить себя, что ничего не произошло, что он все еще в Алжире, что, повернув голову, он сможет увидеть Блидийский Атлас, укрытый в знойной дымке, их теплицу, виноградники, дом, построенный его собственными руками.
— Ты спишь? — спрашивал ребенок.
— Не совсем, — отвечал Матье. — Я грежу.
— Грезить нехорошо, — говорил ребенок.
— Да? Почему же это?
Матье никогда не признавался, чем объяснялась его привязанность к внуку, но он не испытывал никаких угрызений совести. И к тому же Мартин был жив, жив и здоров, рядом с ним, и Матье был счастлив находиться с ним рядом, даже если в семьдесят два года его собственные силы заметно поубавились. Большей частью Мартину помогала на виноградниках Клодин. Это была стройная молодая женщина, полная сил, отважная и всегда с уважением относящаяся к своим новым родителям. Матье и Марианна не могли на нее нарадоваться. Поскольку в ее семье остался брат, которому в будущем полагалось все семейное имущество, Клодин полностью посвятила себя новой жизни, новой семье, своему домику и виноградникам. Мартин устроил с соседними фермерами соревнование за место в классификации качества винограда. Они надеялись получить его как можно быстрее и затем продавать свое вино за большие деньги, к тому же кагор всегда пользовался спросом. Это было крепкое вино, забравшее силу у разогретого солнцем кальция, даже у самого света, который теперь сладостно обжигал ротовую полость, оставаясь затем бархатным фруктовым послевкусием. Нельзя не признать, они правильно сделали, что приехали сюда, на холмы Лота, с которых начинался Юг, Великий Юг, доходящий до моря и продолжающийся за ним в Алжире.
Было одиннадцать часов, и в то утро Матье привел домой внука после прогулки вокруг дома. Матье выпил полстакана разбавленного водой вина, затем, уже выходя, сообщил жене, что хочет спуститься вниз — обработать бочки.
— В такую жару дела могут и подождать, — заметила ему Марианна.
Он не ответил. Невозможность помогать сыну и невестке, как ему бы того хотелось, начинала раздражать Матье. И если вдобавок он не сможет работать в тени, это будет уже печально. Он пересек двор, толкнул дверь гаража, спустился в погреб под полом, высеченный в камне, где царил приятный полумрак. На утоптанном земляном полу Матье заметил обрывок веревки и наклонился, чтобы поднять его, как он привык делать в Аб Дая, когда еще строил свой дом и старался пустить в дело все, даже самый маленький предмет, ничтожные остатки материалов.
В тот самый момент, когда Матье согнулся пополам, а его руки коснулись веревки, он ощутил давление страшной силы, стиснувшее намертво его грудь в нескольких сантиметрах ниже горла. Боль была настолько сильной, что он застонал, затем его взор затуманился и Матье упал на камень, пытаясь вдохнуть воздух, которого вдруг стало не хватать. С ним стряслось что-то серьезное, что-то, чего он всегда опасался, зная, что придет день расплаты за ежедневный тяжкий труд, часто изматывавший его. Матье пытался дышать, широко открыв рот, но боль в груди все не утихала. Он сел, опираясь спиной на бочку, не в состоянии вытереть пот, выступающий на лбу и стекающий обильно на щеки и шею. Старик нашел положение, в котором мог хотя бы нормально дышать. Нужно было немного выждать: боль уйдет так же незаметно, как и пришла. Но скоро взор окончательно затуманился, и Матье потерял сознание и свалился набок с громким, не услышанным им самим стоном.
Когда он пришел в себя, намного позже, то первой увидел Марианну, затем Мартина и, наконец, врача из Эспера, прятавшего шприц в свой саквояж.
— Не переживайте, «скорая помощь» вот-вот будет, — говорил он.
— Скорая помощь? Какая скорая помощь?
— У вас был сердечный приступ. Вас сейчас отвезут в больницу в Кагор.
Матье хотел возразить, но на это уже не осталось сил, поскольку боль не унималась, уже не такая сильная, но все еще не дававшая забыть о себе ни на миг. Чтобы больше не встречаться с встревоженным взглядом жены и сына, он закрыл глаза. Тогда ему показалось, что он снова теряет сознание, но что-то еще связывало его с этим миром живых.
— Малыш, — прошептал он. — Оливье.
— Он здесь, — раздался голос, должно быть, принадлежащий Марианне.
Матье сразу успокоился. Позже он осознал, что находится в машине, из-за разбудившей боль тряски. Он смог открыть глаза, заметил какие-то деревья и ясное синее небо, такое синее, что старик подумал, что он снова в Алжире. Тогда Матье с облегчением вновь закрыл глаза. Ему приснились кошмары войны и отъезд на большом белом корабле. Он ехал по дороге из Аб Дая и мог видеть в окно апельсиновые деревья, чьи плоды были словно фонарики в наступающей ночи.
Паула решила провести август в замке Буассьер. Она почувствовала потребность вновь побывать в этих местах, где продолжало жить нечто редкое и священное. Успев побывать в Париже, Нью-Йорке и повидав мир, она нашла здесь пристанище, ориентиры, дающие ей опору, подобную каменной стене среди ее неблагополучия. Девушка никогда не знала своего отца, его расстреляли до ее рождения по причинам, которые она никогда так и не смогла для себя прояснить. Ей необходимо было взвесить свое существование, пожив немного в местах, где сошлись ее дедушка с бабушкой по материнской линии. Это и была в действительности основная цель ее приезда, даже если покупка замка была ей нужна, чтобы исполнить желание бабушки, вернуть ей навсегда то место, к которому она пришла в свой смертный час.
Пауле необходимо было поразмыслить. В апреле она стала совершеннолетней и пришло время делать выбор: будет ли она продолжать работать на мать, попытается ли жить самостоятельно или вообще откажется от этой профессии, которой была обучена с детства? Она пока не знала. Девушка растерялась. Жизнь, которой она жила уже год, не давала ей возможности разобраться в себе. Паула стала гулять по вечерам с парнем по имени Антуан, познакомившим ее со своей компанией юных бездельников, думавших только о том, как прожигать жизнь и тратить деньги, текущие рекой благодаря родителям, работающим где-то в других странах, так же как мать Паулы.
Проводя с ними белые ночи на левом берегу Сены, Паула начала курить, сначала коноплю, затем, с подачи Антуана, гашиш, и постепенно втягивалась в это удовольствие. В легком и беззаботном мире иллюзий временно рассеивалась ее нелюбовь к жизни, обеспокоенность своим будущим, все вопросы, которые она задавала себе, с самого детства обеспеченная всем, чего только желала. Эти безумные ночи, в течение которых Паула пыталась полностью забыться, прекратились в то утро, когда она, проснувшись, заметила на ночном столике шприц. Тогда ей стало страшно, очень страшно. Она тут же попыталась оборвать все связи с Антуаном, но он ее не отпускал. Чтобы отделаться от него, Паула сбежала в замок, одна, чтобы найти путь к самой себе, обдумать жизнь, ставшую такой безумной.
Первые дни ей было очень тяжело. Она сблизилась с кузенами из Пюльубьера, успокоившими ее своим способом жизни, уравновешенностью, уверенностью. Паула ходила на прогулки в лес, работала в замковом парке — садовник из Сен-Винсена смог придать ему почти что пристойный вид. Уже год как кровля была залатана и все замки переставлены, только внутренняя часть требовала хорошего ремонта. Паула поселилась на первом этаже в правом крыле, в нескольких комнатах, где раньше жили сторожа замка, и потому здесь помещения были в лучшем состоянии. Паула попробовала сама покрасить стены на первом этаже и поняла, что ей нравится физический труд. Закончив одну комнату, она перешла в другую и отвлекалась только на ремесленников, которых по телефону приглашала в сентябре к себе на восстановительные работы. Они были удивлены, что такая юная девушка занималась всем сама, но знали о ее положении и о том, что с ними щедро расплатятся, не в пример многим другим работодателям.
Когда Паула перекрасила две комнаты, то обнаружила старый комод XVIII века в очень плохом состоянии и взялась за его реставрацию. Она отправилась в Уссель, где закупила клей, мастику, маленькую ножовку, краску и с удовольствием отдалась этому труду, представляя, что больше не спекулирует на продаже ценной мебели, а дает вторую жизнь предметам. С тех пор Паула почувствовала себя лучше и начала вести другой образ жизни, который, как она узнала в Париже, обещал быть не легче, чем прежний.
Когда она рассказала мэру Сен-Винсена, что желала бы перезахоронить тело бабушки в парке замка Буассьер, тот возвел руки к небу, возражая, что они живут не в прошлом веке и что привилегии крупных землевладельцев остались в прошлом, что сегодня действуют четкие законы, оговаривающие вопрос о захоронении, и все должны им подчиняться.
— Даже если бы я хотел разрешить вам, — заключил престарелый фермер-пенсионер, без особой радости принимавший посетителей, — я бы не смог: мне нужно для этого согласие супрефектуры.
— Тогда я съезжу и испрошу его, — сказала Паула, решив не отступать.
Ей не удалось добиться встречи с супрефектом Усселя, но ей был назначен прием у его секретаря, который немного обнадежил ее:
— Напишите заявку, и мы доведем ее до его ведома.
— Когда?
— Как только представится возможность. Знаете ли, у нас есть и более срочные вопросы. И кроме того, потребуется согласие Дирекции Санитарной и Социальной помощи, Общественных работ, в общем, всех государственных органов.
— Это займет много времени?
— Вероятно, около года, но нет гарантии, что ваша просьба будет удовлетворена: достаточно одного мнения против, и господин супрефект не сможет ответить удовлетворительно.
— Я подожду, — произнесла Паула, — но через год вернусь.
Она ушла вне себя, но все так же решительно настроена. Чтобы развеять гнев, Паула нанесла визит своему дедушке Матье, который, как она знала от Шарля, своего дяди-преподавателя, недавно пережил инфаркт, и, как и каждый раз, знакомясь с членами своей семьи, почувствовала себя лучше. Матье приходился братом Люси, бабушке, к которой она была так привязана. Люси вновь говорила с ней через него, и Паула была под сильным впечатлением. Его мимика, взгляды, неторопливая манера разговаривать были такими же, как у его сестры, хотя они прожили абсолютно разные жизни. В этом сходстве Паула с удивлением замечала некое постоянство, глубинную идентичность, каждый раз глубоко волновавшие ее. Среди своей семьи, в этих местах, она, казалось, начинала понимать, кто она такая и какой смысл ей надо придать своей жизни. С течением времени ей все очевиднее становилось, что она не может продолжать работать по профессии, которую не выбирала, пользоваться деньгами, которые сама не заработала. Ее жизнь, ее дело должны были создаваться ее собственными руками, даже если придется платить за это высокую цену.
Паула так и написала матери, попросив найти другую управляющую магазином в Париже. Таким образом, в конце месяца, когда Паула возвратилась на улицу Суффрен, встревоженная Элиза уже поджидала ее там.
— Чем ты планируешь заниматься? — спросила мать скорее обеспокоенно, чем рассерженно.
— Пока еще не знаю. Но я точно знаю, что больше не могу делать, — ответила Паула.
— Что же?
— Я больше не хочу продавать мебель, даже прекрасную мебель, даже если она стоит баснословных денег.
— А на что ты будешь жить, пока не найдешь другую работу?
— У меня остались некоторые сбережения.
— На какое время?
— На то, которое понадобится.
И, поразмыслив, Паула добавила:
— К тому же я уйду из твоей квартиры и буду снимать комнату на свое имя.
— Но что на тебя нашло, в конце концов? Все, что я делала до сегодняшнего дня, было для тебя, чтобы ты жила счастливо, я уже говорила тебе и думала, что ты меня поняла.
— Так и есть, я живу хорошо, но не счастливо.
Паула бросила на мать вызывающий взгляд и добавила:
— Ты знаешь почему?
— Полагаю, ты мне скажешь.
— Потому что я еще не решила, чем буду заниматься в жизни. С самого моего рождения ты думаешь за меня, работаешь за меня, решаешь за меня. Но есть нечто, чего ты не сможешь сделать за меня: прожить мою жизнь.
Элиза посмотрела на дочь с удивлением, затем опустила голову. Она быстро вытерла слезы в уголках век, поднялась и сказала:
— Договорились. Ты сможешь жить сама, раз ты об этом так красиво говоришь, но ты быстро поймешь, что это не так легко, как ты полагаешь.
И, помешкав, уже выходя из комнаты, она добавила:
— К счастью, в этот день я буду рядом.
Лето 1966 года выдалось неприветливое, непрерывно шел дождь, что дало Матильде повод не задерживаться надолго в Пюльубьере. К тому же, если бы там не было Пьера, она бы туда вообще не поехала, так много времени отнимало у нее Движение за планирование семьи. Часть ее боя была выиграна — ассоциация добилась разрешения для женщин на использование противозачаточных таблеток. Теперь необходимо было прийти на помощь всем тем, кто в этом нуждался, объяснить, как действует таблетка, и особенно — как ее получить по медицинскому рецепту. Самыми заинтересованными были женщины из необеспеченных семей, часто многодетные матери, но также молоденькие девушки, не решающиеся сообщить матерям о слишком далеко зашедших отношениях со своими возлюбленными. Как раз для них аборт превращался в настоящую драму и был значительным риском. Потому Матильда полагала, что ее задача не была выполнена до конца: она победит только тогда, когда будет легализировано прерывание беременности, но за это придется еще долго бороться, и женщина это знала.
В конце августа Матильда была вызвана в кабинет инспектора академии и удивлялась, что тому могло понадобиться. Прошлой осенью она была назначена директором и не ждала ничего большего, чем достижение высокого профессионализма на своем новом посту. Приближаясь к зданию Инспекции академии, где была назначена встреча, женщина спрашивала себя, в чем же будут состоять изменения в программе или методиках этого года, разработанные выпускниками Национальной школы администрации из министерства. Добравшись на место, она с удивлением обнаружила, что была в коридоре одна, хотя обычно тут можно было повстречать коллег.
Очень важная и заносчивая секретарша, давно знакомая ей, не заставила ждать. Она с серьезным видом отвела Матильду в кабинет инспектора, мужчины с острым лицом, серыми волосами и в очках с тонкой оправой, пенсия которого была не за горами. Он усадил Матильду, и той сразу же не понравилось, как он на нее смотрел, будто она в чем-то провинилась. Но в чем она могла провиниться? Она никак не могла придумать ответ, когда инспектор со вздохом начал говорить с ней голосом скорее печальным, чем агрессивным:
— Я вызвал вас, мадам Бартелеми, чтобы напомнить вам несколько основных принципов нашего устава.
Матильда никак не могла понять, к чему он клонит.
— Вам прекрасно известно, — продолжал инспектор, — что люди, находящиеся на государственных постах, должны вести себя скромно.
— Мне это действительно известно, — подтвердила Матильда, — и я полагаю…
— Погодите, — тут же перебил ее огорченно инспектор, — люди на службе у государства, кем вы и являетесь, не так ли, также обязаны полностью посвящать себя выполнению своих функций.
Матильда начинала понимать, и какое-то болезненное чувство стало подкатывать к горлу.
— А как мне кажется, вы не уважаете ни то, ни другое правило, несмотря на полученное в прошлом году продвижение по службе.
— Что вы имеете в виду, господин инспектор? — безжизненным голосом спросила Матильда.
— Я хочу сказать, что вы проповедуете идеи, идущие наперекор законам Республики в рамках ассоциации, не имеющей отношения к вашим функциям.
— Если вы говорите о контрацепции, господин инспектор, так она недавно была легализирована.
— Я также говорю о прерывании беременности, другими словами — об аборте, который вы защищаете и который, напоминаю вам, карается законом большим сроком заключения как для той, кто получила от него выгоду, так и для той, которая им… скажем, воспользовалась.
— Как раз этот закон мы и хотим изменить.
— Нарушая обязанности вашего устава и вдобавок подавая пример, неожиданный для директрисы школьного заведения.
— Моя работа никогда не страдала от идей, которые я защищала, и…
— Они шли вразрез с вашими уставными обязательствами! — оборвал ее инспектор, резко переходя на крик.
Вздохнув, он продолжил:
— Потому, согласовав свои действия с министерством, я решил сделать вам выговор без записи в ваше личное дело, во всяком случае в ближайшее время. Если вы не понимаете, какое сообщение я пытаюсь вам передать сегодня, само собой разумеется, дело осложнится.
Матильда не отвечала. Она испытывала только возмущение и гнев, но старалась не произносить резких высказываний, вскипающих в ней. Ее глаза метали молнии.
Инспектор заметил это и продолжил уже спокойнее:
— Послушайте, мадам Бартелеми, мне бы действительно пришлось с сожалением наложить серьезные штрафные санкции на такую замечательную директрису, как вы. Но вы ни в коем случае не должны среди бела дня защищать идеи, идущие вразрез с законом. Это недопустимо. Мне ежедневно поступают жалобы. Министерство больше не станет с этим мириться. Я уверен, что вы войдете в мое положение.
— Я всегда полагала, что образование должно быть источником прогресса, — возразила Матильда непримиримым тоном.
— При условии соответствия законам.
— Нет другого способа выйти из теперешнего плачевного положения, как путем влияния на сознание масс. Так было всегда. Многие дорого поплатились, чтобы сегодня мы не жили больше в средневековых условиях.
— Я этого и не отрицаю, мадам. На меня всего лишь возложена обязанность указать вам, что за каждое трудное дело приходится всегда дорого платить. И вам решать, готовы ли вы пойти на подобный шаг или нет.
— Даже не сомневайтесь, я готова к испытаниям.
— В таком случае я не смогу больше ничего для вас сделать, несмотря на все мое расположение и высокую оценку вашей профессиональной деятельности, как, собственно, и касательно вашего мужа. Знайте же, что мне пришлось использовать свое положение, чтобы санкции, предполагаемые министерством, не были простым и незамысловатым увольнением с работы.
Матильда остолбенела. Ее руки дрожали, но она крепко их сжала, чтобы не выдать себя.
— Я прекрасно вас поняла, — проговорила она. — Это и все, что вы хотели мне сказать, господин инспектор?
— Это все на сегодня. Вы можете быть свободны. Я надеюсь, что мне не придется с вами встречаться вновь в ближайшем будущем ни по каким вопросам, за исключением педагогических.
Матильда поднялась, не сделав ни шага в его направлении, чтобы не пришлось жать ему руку.
Она поспешно села в машину и на свежем воздухе сразу почувствовала себя лучше, но когда взялась за руль, ее руки все еще дрожали. Она не до конца отдавала себе отчет в своих действиях, когда выехала на дорогу к Пюльубьеру.
Выехав из Тюля, женщина резко свернула к плоскогорью на дорогу, усаженную грандиозными деревьями, в эту пору уже начинавшими менять цвет. Затем, выйдя на плато, дорога запетляла между заболоченными, покрытыми камышом лугами, среди луж и одиноких ферм. Матильда быстро ехала, все еще охваченная негодованием, но окончательно решив не отказываться от боя, в который ввязалась. В Усселе она повернула направо, на дорогу в Пюльубьер, где Шарль остался еще на несколько дней, прежде чем спуститься в долину. Матильда прибыла туда к полудню и застала его за стряпней в домике, не слишком любимом ею, но без которого ее муж уже не мог обходиться. Она ему тут же рассказала, что произошло, вкратце сообщила об угрозах инспектора и замолчала, выбившись из сил. И вновь, оставаясь верным своему отношению к ней, Шарль нашел для жены достаточно нужных слов утешения и поддержки.
— Несомненно, можно найти какой-либо выход, — сказал он после недолгих размышлений. — Достаточно, чтобы ты больше не была официальным директором своей ассоциации. Ты сможешь участвовать в ней, сколько захочешь, но не заниматься сама проблемами представительства в Париже и где-нибудь еще. Тебя больше не смогут упрекнуть в невыполнении твоих прямых обязанностей, и в то же время официально ты сможешь соответствовать уставу и демонстрировать сдержанность.
Матильда пообещала подумать, согласилась возвратиться в Тюль завтра, к тому же в его сопровождении, потому что Шарль решил, что ему тоже пора возвращаться. Ей надо было с кем-то поговорить, оправдать себя, потому что она была уязвлена намного больше, чем показывала. Весь день она без остановки пересказывала ему детали встречи с инспектором, ни разу не пытаясь забыть это событие. Матильда снова чувствовала, как сильно Шарль был близок ей, как во время войны, как во время испытательного срока, выпавшего на их долю. Уходя все глубже в лес, они живо вспомнили свои прошлые ощущения, когда опасность подстерегала отовсюду, вспомнили отчаянные дни своей юности, ее аромат, свежие силы, и Матильда поняла, что она снова была сейчас там, где и всегда — на стороне сражающихся, а не покоренных.
Пьер вернулся в Париж в конце августа, но в голове его еще звучали мотивы из транзистора, который они слушали вдвоем с Кристель в их убежище в самом сердце лета, те популярные песни, которые каждый год были аккомпанементом для тысяч влюбленных подростков. «Strangers in the night», «Emmenez-moi» Шарля Азнавура, музыка из фильма «Доктор Живаго» стали для них символом свободы и счастья, которые вот-вот закончатся. Это было неизбежно, и Кристель овладевало все большее отчаяние. Она была приговорена к жизни в Сен-Винсене и должна была помогать больной матери. Пьер пообещал не забывать ее. Он поклялся в этом всем, что было для него самым важным, и его слова были искренними. Но другой мир, добровольно открытый им, подхватил его сразу по прибытии. Пусть даже Пьер напевал мотивчики плоскогорья, исполненные в сени вековых деревьев голосом Азнавура: «Поведи меня на край земли, поведи меня в страну мечты…»
Пьер вновь виделся с Бернаром, которого, как и его, приняли в Сентраль. Бернар жил все на той же улице Арен. Пьер не изменил улице По-де-Фер, где квартирная плата была соотносима с его средствами, пусть даже оттуда было не так просто добраться в третий округ, в котором находилась его новая престижная школа. Париж гудел и оживленно шевелился, все возвращались с каникул, и все казалось новым, все было достижимо, а в глазах и ушах все еще стояли картины и звуки беззаботного времени. Пьер утром садился в автобус, но возвращался пешком, иногда по вечерам в компании Бернара, через остров Ситэ, по мосту Турнель, делясь впечатлениями от прожитого дня, о больших переменах после учебы в лицее Людовика Великого.
В Сентраль и правда образование подразумевало получение знаний в различных направлениях, углубленное изучение большого количества научных дисциплин, гарантировавших впоследствии легкую адаптацию к быстрым технологическим изменениям. И это было еще не все: здесь требовалась также значительная культурная база, хорошие предварительные знания по экономике и в гуманитарных науках. Именно это и привлекло Пьера, которому всегда в равной степени нравились как прикладные науки, так и более интеллектуальные теоретические.
К тому же, хоть классы были обветшалыми и плохо приспособленными, в учебном заведении царил удивительный дух современности, а программа была направлена исключительно на легкую промышленность. Новые ультрамодные здания строились на Шатней-Малабри, и планировалось перейти туда через год или два. Преподаватели были выдающимися личностями, еще более известными, чем в «Людовике Великом», и все они работали над развитием инженерной науки, в исследовательской сфере, а также в управлении предприятием. После трех лет учебы эта школа выпускала дипломированных специалистов «французской инженерной школы», способных работать на любом европейском предприятии.
— Нам еще далеко до этого, — вздыхал Бернар в тот вечер, проходя по мосту Турнель.
— Но мы в скором времени сможем достичь всего этого, — отвечал Пьер, более уверенный в себе, более рассудительный. Его чувство неполноценности сильно уменьшилось за последние два года, когда однокурсники смогли наконец оценить его способности.
Сейчас он почти не чувствовал себя изгоем в этом элитном мире, пытался к нему адаптироваться, пусть даже для этого пришлось изменить стиль одежды, манеру речи, привычки. К тому же в Сентраль ему было проще, чем в «Людовике Великом». Отношение к девушкам с его курса изменилось. Они больше не казались ему далекими, недоступными. И хоть Пьер думал много о Кристель, он все равно пускался здесь в отношения, которые, как он знал, не могли остаться невинными.
Он все так же непомерно работал, просыпался в пять утра, мало выходил, только, может быть, на час или два по воскресеньям после полудня, чтобы поговорить с Бернаром в кафе на улице Суффлот, излюбленном месте студентов. Им больше не требовалось ходить вдоль берегов Сены, чтобы развеять стеснение. Труд и способности Пьера сменили комплекс провинциального бунтаря на парижские нравы. Он знал, что сильно изменился, но в то же время был рад, что не страдает больше от своего стеснения. Ему стало проще жить, он был счастлив, хоть и чувствовал еще привязанность к миру своего детства.
Однажды в воскресенье после полудня, когда они спокойно болтали с Бернаром в кафе, откуда был виден Пантеон, две девушки, знакомые им по «Людовику Великому», подошли к ним, и Бернар пригласил их присесть. Одну звали Едвига, вторую — Франсуаза. Они смеялись и, казалось, были рады, что снова встретили друзей, хотя в прошлом году не обращали на них ни малейшего внимания. Едвига, замкнутая блондинка славянского типа, рассказала, что изучает право на улице Ассас; Франсуаза, с роскошной рыжей шевелюрой, изучала литературу в Сорбонне. Юноши рассказали о своей учебе в Сентраль, и в этот вечер Пьер поздно возвратился в свою комнатку под крышей. Он попытался написать Кристель, но у него никак не выходило. Каникулы, плоскогорье, леса казались ему теперь далеким прошлым.
В следующее воскресенье девушки снова, будто случайно, встретили их, и эта встреча казалась очень естественной — кафе было их любимым местом, так как они учились в двух шагах. Они жили вдвоем на бульваре Сен-Мишель, в квартире, принадлежащей родителям Едвиги. Этот факт вызвал небольшое смущение, дав понять, как сильно различался их статус. Однако же Бернар не отказался навестить девочек, когда Франсуаза пригласила их с искренней, ничего не скрывающей улыбкой. Едвига в смущении осталась с Пьером, когда парочка удалилась. Было ясно, что они сделали свой выбор, и этот выбор соответствовал бы решению Пьера, если бы он принимал его. Насколько рыжая девушка была общительной, настолько же Едвига оказалась замкнутой, скромной, Пьер даже удивлялся — как они могли жить вместе.
— Франсуаза — моя кузина, — пояснила Едвига, будто предугадав его вопрос.
У нее были фарфоровые глаза очень мягкого светло-синего цвета, светлые волосы, ниспадавшие ей на плечи, высокий, гладкий, как морской камень, лоб, тонкий правильный нос и красивые губы без следов помады. Пьер вспомнил, как ненароком чувствовал на себе ее взгляд в прошлом году, но тогда ему сказали, что он наверняка ошибается.
— А где ты живешь? — спросила девушка.
И тут же опустила глаза, опасаясь, что ее не так поймут.
— Снимаю мрачную комнатку на улице По-де-Фер. Мне было бы стыдно пригласить тебя туда.
И добавил, боясь ее обидеть:
— Может, однажды ты побываешь там.
— Конечно, — ответила Едвига.
Пьер пытался понять смысл этих слов, читал волнение в ее часто мигающих глазах, но не поднимался с места.
— А давай пройдемся, — предложила она.
— Если ты хочешь.
Они спустились по улице Суффлот, бок о бок, ни о чем не разговаривая, повернули направо на улицу Сен-Жак, откуда далеко внизу был виден бульвар Сен-Жермен, набережные Сены, и над ними — сердце Парижа. Едвига неожиданно остановилась и прошептала, не глядя на Пьера:
— Я давно мечтала об этом дне.
— Как мило, — ответил Пьер и взял ее за руку.
И ему казалось, что так он держит в своей власти, подчиняет своей воле огромный город мистической красоты, расстилающийся перед ним.
16
В начале мая 1968 года Шарль Бартелеми не смог в должной мере оценить значение событий, парализовавших страну. Ни беспокойства в лицеях, ни вспышки протеста в университетах Нантера и Каена, ни манифестации в апреле и баррикады в Латинском квартале не давали ему понятия об истинных размерах движения, которое вскоре охватит страну на несколько недель. Скоро работники присоединились к студентам, заводы закрылись, как и почты, не хватало бензина, и в провинции наконец поняли, что происходит нечто значительное, затрагивающее самые основы общества. Сцены пожаров и уличных драк, ежевечерне передаваемые по телевизору, давали теперь возможность представить масштабы потрясений, которые неизвестно было как останавливать.
В Тюле манифестации рабочих и лицеистов происходили почти ежедневно, занимая две основные улицы, препятствуя движению на дорогах, открыто бросая вызов общественным устоям, способствуя сковыванию повседневной жизни. И если Шарль еще сомневался, присоединяться ли ему к профсоюзу учителей, то Матильда шла во главе движения. Что-то удерживало Шарля от этого сумасшедшего порыва в этом прекрасном мае, и он пытался найти ответ, не в силах осознать смысл происходящего. В действительности он думал о своем отце Франсуа, работавшем с двенадцати лет и всю жизнь боровшемся за правду с кулаками: он сражался, чтобы жить лучше. Но Франсуа вел бой в одиночку, никем не поддерживаемый, никогда не жалуясь. Его жизнь была намного сложнее, мучительнее, чем у рабочих или студентов сейчас. Какой-то стыд мешал Шарлю пойти на манифестацию и требовать лучшей жизни, в то время как его теперешняя жизнь была гораздо лучше, чем у его отца и матери.
— Это не имеет отношения к делу, — говорила Матильда на его неловкие оправдания. — Нельзя сравнивать две эпохи. И жизнь в нужде нельзя принимать только потому, что люди жили так раньше. Как раз эти идеи мы сейчас пытаемся отстаивать, в противоположность тоталитарным режимам в Испании и много где еще.
Конечно, она была права. Но что ей было известно о ежедневных сражениях безземельных людей, всех тех, кто не знал, что будет есть на следующий день? Ее родители — учителя — всегда получали зарплату и жили в достатке. Она не знала, как это — экономить хлеб, штопать одежду, считать и пересчитывать монеты вечером за кухонным столом. Она всегда хотела влиять на обстоятельства и менять их, как должен был, несомненно, делать и он, если бы его теперешнее положение не давало ему ощущения больших привилегий.
— А другие? — возмущалась Матильда. — Ты подумал о них?
— Да, подумал, но я не уверен, что сжигание машин и разбивание витрин улучшит их жизнь.
— Двадцать лет назад ты бы так не говорил.
— Ты несомненно права, — подтвердил Шарль, — но я думаю о своем отце.
— Твой отец уже давно не с нами.
— Так ли уж давно?
— Уже двенадцать лет. Мир продолжает вращаться. Нравы, к счастью, меняются. Что бы ты хотел для наших детей? Чтобы они оставались вдалеке от всех событий?
— От них есть новости?
— От Пьера нет, но от Жака — да. Он был назначен ответственным за рабочую силу и подумывает о своем заводе.
— А Пьер в Париже?
— Последнее письмо от него пришло около месяца назад, ты сам знаешь. Он ни о чем не переживает, даже наоборот.
Шарль не отвечал. Он всегда ожидал новостей по радио, опасаясь начала нападений и забастовок, тогда как десятью годами ранее сам бы непременно присоединился к ним. Он также беспокоился о Пьере в Париже, переживал, чтобы ему не пришлось остаться на второй год, чтобы все его труды были не напрасны. Каждое утро Шарль спускался в классы, садился за рабочий стол, оглядывал пустые скамьи, решал текущие проблемы как мог, так как он больше не поддерживал связь с академией.
Однажды утром три представителя от Национального профсоюза педагогов — коллеги, с которыми он ежедневно встречался — пришли к нему требовать ключи от классов, сообщив ему, что они решили захватить школу.
— Возьмите их, если хотите, — ответил им Шарль, — но я вам их не отдам.
С тех пор он не выходил из квартиры, сожалея о вынужденной экономии бензина, которого почти не осталось, и о том, что он не мог уже добраться до Пюльубьера, как всегда делал по выходным в это время года.
В их отношениях с Матильдой впервые возникла сильная натянутость. Его жена чувствовала, что победа в великом бою ее жизни находится сейчас на расстоянии вытянутой руки.
— Наши идеи нашли отклик, — радовалась она. — После всего, что произошло, нам понадобится не много времени, чтобы получить разрешение на прерывание беременности. Никто больше не осмелится отступать. Как ты можешь стоять в стороне от такого несущего надежду движения? Я не узнаю тебя.
— Может быть, потому, что я сражался в более серьезных битвах, — ответил Шарль ей однажды вечером, и в его голосе послышались нотки враждебности.
Матильда была ошеломлена, затем мягко сказала:
— Шарль, это же было двадцать пять лет назад.
— Может быть, но я не уверен, что те, кто сегодня вышел на улицы, нашли бы в себе смелость пойти в бой тогда.
— Как ты можешь говорить такое? Почему ты думаешь, что современная молодежь хуже? Почему они, по-твоему, не способны проявлять столько же мужества, сколько мы?
— Возможно, потому, что их не так воспитывали.
— Как это?
— Ты прекрасно понимаешь, о чем я.
— Не совсем.
— Ну конечно. Ты же никогда не держала в руках ни вилы, ни рукоятки плуга.
Матильда подошла к нему нерешительно, но, боясь нагрубить, отказалась от своего намерения. Она отвернулась и вышла из комнаты, оставив мужа наедине с его идеями, которые он так неумело выражал, но так отчетливо чувствовал. Он защищал свою страну от захватчиков, тогда как сегодня те, кто заполонил улицы, сами разрушали страну. Разве это тот же бой? Но в то же время Матильда сражалась так же, как тогда, много лет назад. Шарль пытался и все никак не мог понять. Он углубился в удручающее одиночество и испытывал попеременно то стыд, то гнев, думая о своем отношении к событиям.
Он решился навестить своего дядю Матье, зная, как близок тот был его отцу Франсуа, желая спросить его мнение о происходящем. Чертова нехватка бензина! Ему необходимо было найти то, что внутри него не позволяло присоединиться к этому сумасшедшему ветру, закружившему страну в радостном вихре.
Пьера отправили в Париж в ночь с 10 на 11 мая, и теперь он жил на улице Гей-Люссака. Схваченные на баррикадах, которые он помогал возводить, четыре манифестанта были приговорены к двум месяцам строгой изоляции. Франсуаза, подруга Едвиги, была избита и на два дня помещена в больницу. С тех пор приговоры и расправа полиции крепко объединили против себя всех парижских студентов, даже таких, как Пьер, из Сентраль и других подобных школ, на которые не распространился непосредственно срыв занятий или закрытие школ. Ежевечерние бунты охватывали Латинский квартал. Пьер немало участвовал в подрывной деятельности и был уже во власти неосознанного безумия молодежи, готовой все перевернуть.
Если в начале месяца, боясь потерять год, он держался на расстоянии, то долго вдалеке от урагана он оставаться не мог, как не мог оставить Едвигу в опасности. За два года они и вправду прошли вместе долгий путь, так часто пересекающийся, что прошлым летом Пьер даже не возвращался в Пюльубьер. Он стал парижанином и в объятиях Едвиги забыл о далеких местах, об аромате леса и о Кристель, даже если порой его сердце сжималось, когда набегали воспоминания и сердце начинало судорожно биться, когда он думал о ставшем таким далеким с начала месяца прошлом.
Вернувшись из Ирана 11 мая, Помпиду освободил задержанных арестантов, 13-го полиция ушла из Сорбонны, которую тут же наводнили студенты, равно как и Одеон несколькими днями позже. Де Голль, вернувшись из Румынии, произнес по телевидению свой вердикт: «Реформе — да, беспорядкам — нет», но ему не удалось успокоить ни неистовство студентов, ни забастовки, охватившие теперь всю страну. 22 мая Кон-Бенди был уволен, и стычки и уличные драки стали повседневным явлением.
Вечером 23 числа, когда Пьер находился в компании Едвиги, Франсуазы и Бернара на углу бульваров Сен-Мишель и Сен-Жермен, манифестанты, как обычно, взялись за немногочисленные еще решавшиеся парковаться в этом районе машины. Немного позже студенты отхлынули к площади Сен-Мишель и зажгли огни, скандируя лозунги, распевая «Интернационал», слушая речи своих предводителей с Соважо и Гейсмаром во главе, требующих возвращения Кон-Бенди.
С начала беспорядков смекалка и храбрость Едвиги не переставали удивлять Пьера, так же как и ее решительные действия в движении, которое прямо не затрагивало ее интересов, поскольку она являлась выходцем из очень обеспеченной среды. Но Пьер понял, что студенческие восстания были основаны совсем не на материальной выгоде. Это была жажда свободы в эпоху, когда в обществе все еще действовали нормы морали послевоенного времени, тогда как экономический взлет разрывал их по швам. В общем, новой морали стала неотступно требовать молодежь, воспитанная в эпоху, сильно отличающуюся от той, в которой воспитывались их родители и руководители.
Все будто потеряли рассудок в этот веселый месяц май. Энтузиазм, страсть, беззаботность влекли новую молодежь к незнакомым и потому таким заманчивым и желанным берегам. К ним присоединились рабочие, и их протест принял намного менее невинные формы, но был так же решителен. Стояла прекрасная погода, было жарко, и каменные тротуары уже манили, напоминая о заветном пляже и приближающихся каникулах. Больше никто и никогда не сможет ничего запретить, поскольку запрещать стало запрещено.
Пьер прекрасно осознавал происходящее, но впервые в жизни после такой упорной работы и такой сильной нехватки сна, после соблюдения всех правил он открывал новое удовольствие подчинения общему потоку. Его увлекало за собой беззаботное течение рядом с Едвигой, юными веселыми парнями и девушками, ни капли не сомневавшимися в их новой власти, наводнившей парижские улицы.
Уже спустилась ночь, когда сотня одержимых сели в грузовики «CRS», но они все же старались быть как можно осторожнее на перпендикулярных улицах Парижа. Они неистово ринулись на тротуары, с силой и проворством, приобретенными в ежедневных стычках. Очень быстро на площадь стали падать слезоточивые гранаты, где студенты, направляемые своими предводителями, вышли маршем на улицу Дантон по направлению к Одеону. Не решаясь идти в колонне по одному, чувствуя себя незащищенными, они отхлынули на площадь Сен-Андре-дез-Ар, где дым больно резал глаза. Пьер крепко сжимал руку Едвиги, а та все еще искала взглядом свою кузину Франсуазу, но ей не удавалось следить за ней. Было невероятно, как бесстрашно вели себя тогда девочки — иногда храбрее, чем мальчики — в такие вечера, когда опасность контакта с полицией нависала уже непосредственно.
Поток студентов поднимался теперь по бульвару Сен-Мишель и разделялся надвое на углу бульвара Сен-Жермен. Одна волна хлынула по направлению к Сорбонне, другая — направо, по бульвару к Одеону. В ней и оказались Пьер с Едвигой, и где-то рядом также мелькал Бернар, сильно беспокоившийся о Франсуазе, чья рыжая шевелюра появлялась иногда во главе шествия и тут же исчезала. Их увлекал за собой поток, выходящий с бульвара, чтобы добраться до Одеона по улице Эколь-де-Медсин. Студенческий авангард атаковал «CRS» на углу улицы Дюбуа и улицы Делавинь. Последовал отпор неслыханной силы. «CRS», оснащенные дубинками и гранатами, стали причиной беспорядочного бегства толпы студентов, которые инстинктивно возвращались на бульвар Сен-Мишель для перегруппировки. Но проход туда был закрыт на углу улиц Расина и Эколь-де-Медсин двумя отрядами «CRS». Студенты, попав в ловушку, пытались выбраться, но их было слишком много, чтобы пройти.
Пьер мчался, крепко сжимая руку Едвиги, но она часто озиралась и мешала бежать. Бернар исчез — наверняка задержался, чтобы перехватить Франсуазу. Из-за дыма почти ничего не было видно. Отовсюду слышались крики и ритмичный стук по тротуарам, это были звуки шагов подбитых гвоздями сапог «CRS», неумолимо приближающихся к ним. На улице Корнеля Едвига споткнулась и упала. Пьер попытался ее поднять, но девушка жаловалась на боль в колене. Едва они успели прижаться к стене, как волна «CRS» с дубинками в руках захлестнула улицу, и Пьер с Едвигой успели только стать на четвереньки, чтобы защититься от ударов. Но защититься не удалось — они попытались спрятать головы в плечи, но их тела ощутили ужасающие удары дубинок. К счастью, «CRS» не остановились, а побежали дальше к концу улицы. Преодолевая боль в плечах и черепе, Пьер поднялся и почувствовал нечто горячее на лбу. Он поднес руку к глазам и понял, что это кровь. У Едвиги тоже была кровь на губах. Он взял девушку за руку, толкнул на всякий случай большую дверь за спиной, и она, к удивлению, поддалась и открылась во внутренний дворик. Другие студенты следом за ними поспешили воспользоваться удачной находкой.
Мощеный внутренний дворик вел к спиральным лестницам. Пьер с Едвигой поплелись к одной из них и укрылись на ней. Их трясло, но не от боли, а от гнева. Им открылось насилие, о котором они раньше не догадывались. Смутное понимание того, что с ними произошло нечто незабываемое, пришло к ним обоим. В этой беззаботной и веселой манифестации одна сторона не играла: она защищалась тем яростнее, чем больше сдавала свои позиции. Пьеру и Едвиге происходящее казалось игрой, но в действительности оно ею не было.
Пьер взял Едвигу за плечи и прижал к себе. Девушка не смеялась, она была очень бледна. У нее был приступ тошноты, ее стошнило, и Пьеру показалось, что она теряет сознание. Он прислонил ее к стене, поднялся до лестничной площадки, позвонил в дверь, но никто не открыл. Тогда он позвонил в дверь напротив, и им открыла элегантного вида пожилая дама.
— Моя подруга ранена, — сказал ей Пьер.
— Так приведите ее сюда, молодой человек, — ответила дама.
Он торопливо спустился и отнес Едвигу на второй этаж.
— Ах, молодость, молодость! — произнесла дама, наливая спирт в стакан.
Затем она протянула стакан Едвиге, и та с трудом приподнялась на зеленом диване. У старухи были очень бледные синие глаза и халат цвета майского неба.
— Спасибо, — поблагодарил ее Пьер, — огромное спасибо. Мы уйдем, как только она сможет.
— Жаль будет, если вам придется скоро уйти. Впервые за такое долгое время молодежь поднялась ко мне в дом!
Женщина села в кресло напротив дивана, улыбнулась и попросила, сверкая глазами:
— Молодой человек, пожалуйста, расскажите мне!
В пяти километрах от этого места Жак Бартелеми, брат Пьера, находился в составе рабочей бригады в Тюле в цехе своего захваченного завода. Здесь собрались представители профсоюзов трех предприятий: «CTG», «Force Ouvrière» и «CFDT». Сам он согласился выполнять обязанности помощника главного секретаря профсоюза «Force Ouvrière», в который вступил с первого дня работы в «SOCAVIM», предприятии по производству сменных деталей, дочернего предприятия «Regie Renault». Жак исполнял там обязанности мастера, несмотря на свой юный возраст — благодаря своему образованию, как теоретическому, как и практическому в техническом лицее, которое он успел получить до призыва в армию будущей осенью.
Несмотря на выгодное положение, занимаемое им из-за престижного образования, Жак не колеблясь вступил в борьбу на стороне профсоюзов, инстинктивно присоединившись к лагерю рабочих, а не их руководителей, как будто он ждал этого события уже давно. Под внешним единством соперничество противопоставляло различные профсоюзы, в особенности «CTG» и «Force Ouvrière». Раскол, возникший при их образовании, так и не был забыт, и долгая история их развития как во Франции, так и в Испании только обострила разногласия. Люди из «Force Ouvrière» больше всего упрекали работников «CTG» в полном подчинении коммунистической партии. Эти противоречия были всегда, а в эти дни проявились как никогда остро.
С тех пор как студенческое движение расшевелило страну, коммунистическая партия, как и другие «левые», быстро поняли, что им выпала уникальная возможность прийти к власти. Они вырастали из профсоюзов, уверенные после оглашения де Голлем референдума 24 мая, что яблочко созрело и готово упасть с дерева. Было 27 мая. Вопрос заключался в том, принимать или нет Гренельский акт, составленный после первых переговоров между правительством и рабочими. «Force Ouvrière» был скорее «за», но «CTG» противился и проводил по этому поводу кампанию в Париже, на «Рено» и «Ситроене». Результат голосования был очевиден.
Все также ожидали новостей после встречи на стадионе «Шарлети», где видные деятели левых сил должны были выступать с речами. Радиостанции работали беспрерывно, короткие выпуски новостей приносили известия каждые полчаса. Когда в тот вечер дверь цеха открылась, секретарь «CTG» улыбался — в Париже Гренельский акт был отклонен.
— Они у нас в руках! — говорил он, ни к кому конкретно не обращаясь. — В этот раз они проиграли.
Жака же раздирали противоречия, но он был, скорее, за продолжение выступлений. Поэтому его новость не расстроила, а даже совсем наоборот. Он понял, что борьба будет долгой, и подумывал на следующий день отправиться восстанавливать силы в горы в Пюльубьер, поскольку он не должен был пребывать на посту постоянно и в ближайшее время манифестаций не предвиделось. Он нашел работу в Тюле по причине близости к любимому селению, хотя в Бриве рынок сбыта был значительно больше. И сегодня Жак был очень рад своему выбору, поскольку бензина больше не оставалось, а три часа на велосипеде, чтобы попасть в Пюльубьер, не пугали его.
Он хранил в памяти воспоминания о плоскогорье, где прошла лучшая часть его детства. И хоть ему и пришлось уступить родителям и поступить в технический лицей, вместо того чтобы заниматься земледелием, сегодня Жак все еще сожалел об этом выборе, хотя солидарность рабочего класса казалась ему более приемлемой и удобной для жизни, чем изоляция крестьян, привязанных к неблагодарной земле высоко в горах, где Рождество всегда было белым, а условия жизни — все такими же суровыми.
Но с недавних пор существовало кое-что еще, притягивавшее Жака наверху: девушка Кристель, которую он столько утешал, потерявшая свою первую любовь прошлым летом. Это произошло очень естественно, так как она часто приходила в их деревню из Сен-Винсена узнать новости, и Жак провожал ее, не в силах оставаться безучастным при виде отчаяния, причиной которого был его собственный брат. Так они сблизились, тем не менее не преодолевая барьер, возведенный между ними недавней раной. Жак решил позволить времени делать свое дело, уверенный, что Кристель однажды забудет Пьера, как теряются в воспоминаниях пейзажи, уже не мелькающие перед глазами. И он будет рядом и никогда никому не расскажет, как плакало его сердце при виде сближения Кристель с его братом, тогда как он сам всегда был влюблен в нее.
Его ноги в то утро не ощущали неровностей долгой дороги, когда он крутил педали среди блестящих от ночной росы деревьев. Жаку казалось, что он остался один в мире, а какое-то гигантское землетрясение уничтожило всех людей. Весна тоже напоминала весны прошлых дет, будто суматоха внизу не имела для этих мест никакого значения, кроме отсутствия машин, к тому же эта неизменность была проявлением некой истинности этого мира, и Жак отчетливо ощущал это. Здесь небо, деревья придавали уличным демонстрациям смехотворный и тщеславный вид. Жак подумал о заводе, о речах, о лозунгах, и ему в голову пришел образ муравейника. Здесь царили тишина и нерушимое спокойствие. Жак всегда знал, что для него дилемма жизни заключалась в следующем выборе: тишина плоскогорья, его суровое одиночество или безостановочное движение мира людей. Сегодня вопрос так и не был решен, во всяком случае окончательно. Каждый раз, когда он поднимался наверх, сладостные тиски сжимали его сердце. Он будто возвращался домой.
Жак прибыл в Пюльубьер ближе к полудню, позавтракал с Одилией и Робером, которым всегда помогал летом в тяжелых полевых работах, а затем поехал в Сен-Винсен, где застал Кристель за мытьем посуды. С тех пор как умерла ее мать, девушка естественным образом заняла ее место. Она работала в доме и магазине, продавала вкусный хлеб, который ночью выпекал ее отец. Он же днем устраивал сиесту. Это был мужчина огромных размеров, в неизменных синих брюках и белой, обсыпанной мукой майке; колосс, который, несмотря на свою изолированность, работу, занимающую все время, понимал, насколько сильно его дочь мечтала о другой жизни. Как, впрочем, и все в деревне, видя по телевизору чудеснейший мир, к которому они не были допущены. Девушки были счастливы найти мужа во время недолгой учебы в городе и никогда не возвращались, или разве что для того, чтобы наспех поцеловать стареющих родителей и быстрее уехать, сбежать, как бегут от призраков, грозящих оставить вас навечно в своих владениях, если вы не проявите достаточную осмотрительность. Этот славный мужчина понимал, что сейчас жизнь спустилась в долины, в городские районы и что в горах она была обречена. И потому он обвинял себя в том, что был вынужден держать дочь возле себя, и с неодобрением относился к визитам Жака.
— Дай мне два года, малышка, — говорил булочник дочери, — затем я что-нибудь придумаю.
Она же точно знала, что Пьер был потерян навсегда, но не могла еще решиться принять другие объятия. Кристель, конечно же, думала об этом с лета прошлого года, но ее решение было определенно отрицательным, слишком болела еще полученная рана. Когда Жак объяснил ей в тот день, что он поднялся на велосипеде, она не могла ему поверить.
— Из Тюля? На велосипеде?
— Да, — убеждал ее он, — у меня закончился бензин.
— У нас тоже, — отвечала девушка, — уже неделю мой отец не делает объездов.
Задумавшись, она спросила:
— А сколько времени у тебя это заняло?
— Чуть меньше трех часов.
Жаку показалось, что что-то засветилось в ее взгляде, нечто — свет или вспышка, — всегда волновавшая его и не появлявшаяся уже много месяцев. Они больше часа разговаривали новым сообщническим тоном, во всяком случае Жаку хотелось в это верить. Он был убежден, что ей нравилось слушать его рассказы о жизни в Тюле, о суматохе, от которой она осталась в стороне здесь, в Сен-Винсене, и что Кристель была благодарна за впечатления, которыми он с ней делился. Когда они расставались, Кристель поцеловала его.
— Спасибо, — сказала она.
И быстро добавила:
— Мне нужно еще немного времени.
— Конечно, — согласился Жак. — Не переживай — я подожду.
Возвращаясь по залитой солнцем дороге, он больше не чувствовал педалей, к тому же спусков сейчас было больше, чем подъемов. Его сопровождала свежая тень, пахнущая прохладой и весенними дождями. Жак напевал, сидя на своем велосипеде, не имея ни малейшего понятия о том, что ждало его внизу. Он собирался вернуться на свое место в строю с начала следующего месяца, но также знал, что за несколько часов стал намного сильнее и эти силы его не покинут.
После того как де Голль, поддержанный наконец проникнувшимися его идеями манифестантами, провел переговоры с Национальной Ассамблеей и объявил о выборах, в июне стали гаснуть пожары, захлестнувшие было всю Францию. 14 июня полиция очистила от манифестантов Одеон и Сорбонну. 17-го возобновил работу «Рено», 20-го — «Пежо» и «Ситроен». 23-го и 29-го выборы спровоцировали напор голлистов, регулировавших беспорядки предыдущих месяцев и проявлявших неподдельное желание организовать стабильную и безопасную жизнь во Франции. Летние каникулы окончательно дестабилизировали протестантов, все еще удивленных тем, насколько они смогли потрясти устои.
В Париже все магазины Латинского квартала были закрыты, и Паула от нечего делать возобновила свои старинные связи с людьми, которые поторопились принять участие в «живой революции», как это называл Антуан, с недавних пор объявивший себя буддистом, как и его друзья, искавшие в движении хиппи продолжение майских костров. Элиза, мать Паулы, попыталась забрать дочь в Соединенные Штаты, пока ситуация не наладится, но эта страна символизировала все, что Паула ненавидела всем сердцем, то есть власть денег — как раз то, против чего были направлены майские волнения. В основном как раз по этой причине Паула и сблизилась с этим движением, вместо того чтобы удалиться в замок Буассьер, как она однажды сделала, и нашла в манифестациях способ выражения своего отказа от легкой жизни, которой жила до сих пор или, скорее, которую ей навязывали.
Майский ветер увлек и ее тоже, но для нее он был гораздо опаснее, чем для других. И вправду в кругу друзей ее Антуана, — который, кстати, отрастил бороду и носил гирлянды из цветов, — они вместе курили марихуану и говорили только о свободе, о жизни без денег, полной мира и любви. «Peace and love» стали отныне лозунгом содружества, основанного на Рюей-Мальмезон, к которому присоединились голландцы, датчане и один американец, доллары которого обеспечивали бесперебойные поставки травки и пищи.
Паула вновь пристрастилась к наркотикам и потому забыла обо всем, что прежде мешало ей уйти в этот мрачный мир: о воспоминаниях о бабушке, о замке, восстановленном ее стараниями, но сегодня, в искаженном сознании Паулы, символизировавшем все то, что нужно было ненавидеть. Высокогорная область Коррез исчезала в тумане, все сгущавшемся и в конце концов накрывшем собой все. Паула еще настойчивее отталкивала от себя эту картину, потому что, несмотря на все ее усилия, ей не удалось перевезти тело бабушки в парк, куда та пришла умирать. Из-за этого у девушки осталось чувство поражения большой важности, и эта неудача наложила, как она считала, глубокий отпечаток на всю ее жизнь. Вследствие всего этого Паула позволила себе катиться по наклонной плоскости, и притом рисковала разбиться, не имея сил что-либо предпринять.
Сначала необходимо было черпать знания в индусской философии. В ней была вся правда: в отрешении от мира, от богатства, от западных ценностей. Необходимо было подняться к источнику духовности, чтобы почерпнуть там то, что послужит материалом для строительства новой жизни. А источником был Катманду в Непале, где родился и умер Будда и куда, следовательно, нужно было отправиться, чтобы достичь нирваны — полного отрешения от этого неприемлемого мира, никогда не приносившего живым счастья.
Поэтому у Паулы не было ни малейшего страха, ни капли сомнения, когда они вшестером 10 июля 1968 года уехали по направлению к Нью-Дели, с билетами на самолет, купленными Джоном-американцем. После промежуточной пересадки в Бахрейне, в Персидском заливе и еще одной в Бомбее они прибыли в Дели, где на них враз свалилась вся индусская реальность, которая была так не похожа на их городскую западноевропейскую. Сначала они были подвергнуты жесткому допросу о причинах их пребывания в Индии, и им пришлось общаться с враждебно настроенным чиновником, твердо решившим не делать никаких поблажек этим взбалмошным обеспеченным чужестранцам, приезжающим в Непал как в священное место, в то время как там царила бедность. Затем, проехав квартал красивых жилищ, маленькие домишки которого скрывались в тени огромных деревьев, утопая в роскоши цветов, такси свернуло на улочки, где изголодавшиеся призраки искали тень возле стен с хронической отрешенностью индусов, ожидавших дождя, и падали как мухи без единого крика, умирая от голода и от покорности судьбе.
Сидя в раскаленной машине, Паула заметила огромные глаза, следящие за ней так, будто она была виновата в ужасающей худобе тел, и девушка поняла, что никогда этого не забудет. Священная корова не давала такси проехать. Шофер терпеливо ждал, пока она не соизволит сдвинуться с места на метр, а Джон все угрожал выйти и надрать ей задницу. Летний зной и бедность, казалось, усугублялись мухами, которых даже дети не прогоняли со своих лиц. Паула заметила уложенные вдоль стены два трупа, но никто и не думал хоронить. Такси почти не продвигалось вперед. Вдруг в середину машины просунулись руки, одна из них уцепилась за Паулу, и та закричала. Понадобилась помощь мальчиков, чтобы освободиться. Несмотря на изнуряющую жару, пришлось закрыть окна. Наконец через два часа пути они прибыли в гостиницу, откуда и не выходили до следующего дня, все под сильным впечатлением от увиденных на улицах сцен, и спрашивали себя, а не привиделось ли им все это.
Антуан и Джон поспешили вновь придать Непалу и Катманду воображаемое духовное величие и преуменьшали увиденную убогость жизни, ведь она не имела, равно как и богатство, ни малейшего значения. Нужно было жить, отстранившись от этой неблагодарной земли. Счастье было не в этом: оно заключалось в любви, в мире, в самопожертвовании, в вознесении к Будде.
На следующий день они сели в поезд, идущий в сторону Рампура — города, находящегося возле непальской границы, где им снова нужно было пересесть. Они попали в битком набитый душный поезд, где одинаковые широко распахнутые черные глаза смотрели на иностранцев, будто на пришельцев с другой планеты, и все с тем же смирением, так сильно впечатлившим Паулу, в то время как она сама подбадривала Антуана в его неизменной цветочной гирлянде. Пережив день и ночь дороги в постоянно останавливающемся поезде, они добрались до окраины, усеянной хижинами, населенными париями — неприкасаемыми, которые были рабами для руководящей касты и с пугающей смиренностью принимали свою судьбу. Антуан восторгался этой безответностью, казавшейся ему символом высшей меры человеческой отрешенности. Паула же до смерти боялась этих призраков, и впервые после отъезда в ней начал зарождаться некий стыд при виде всех этих людей, проводящих жизнь в смирении, страдании, в то время как другие люди, во Франции и в Европе, вели такую комфортную жизнь. Зачем приехали они, привилегированный класс, в эту страну, если не могли по-настоящему помочь всем этим несчастным? В тот вечер Паула курила больше, чем обычно, и еще больше на следующее утро, когда Джон объявил, что им нужно будет подождать здесь, пока он получит деньги от отца, чтобы вновь погрузиться в переполненный трясущийся поезд, который отвезет их на границу Непала.
— Не больше недели, — утверждал он. — И поскольку у нас осталось еще много времени, давайте воспользуемся им и ближе познакомимся с этими любезными людьми.
Паула с Антуаном поехали в самые богатые кварталы, где смешались с суровой толпой, в которой мужчины в белом и женщины в сари всех цветов слегка касались их, не обращая при этом никакого внимания. Везде были попрошайки, и ужасная вонь поднималась над разгоряченными улицами, заполненными роями мух.
И там, среди ужаснейших лишений, среди этой прискорбной и невыносимой убогости, в Пауле начал подниматься протест. Там, на углу двух торговых улиц, где дети в лохмотьях избивали друг друга за право выпрашивать милостыню в этом стратегически выгодном месте, что-то потаенное в самой глубине души Паулы задрожало. Что-то, похожее на отвагу и упорный труд тех, кто намного раньше них населял эту землю. Она знала, что не поедет в Катманду, но деньги, обещанные Джоном, наверняка смогут обеспечить ей обратную дорогу.
В конце июля 1968 года Матье Бартелеми пришлось отказаться от своей идеи последний раз вернуться в Алжир на могилу сына Виктора. Он понял, что никогда не получит визу, Матиджа навсегда останется закрытой для него и он не сможет ступить в последний раз перед тем, как уйти из жизни, на столь сильно любимую им землю. Смерть была уже не за горами — Матье хорошо это знал. После сердечного приступа, случившегося два года назад, он так и не смог оправиться окончательно. Да в этом и не было ничего удивительного: после стольких лет упорной работы, стольких страданий военного времени, потери сына силы его уже подходили к концу. Только присутствие Оливье, внука, дарило Матье немного радости, вполне достаточной для него в последнее время. Ему также повезло находиться в окружении, когда был не в состоянии работать, своей жены, сына Мартина и невестки, и все по мере сил проявляли заботу о нем. Но работа всегда была смыслом жизни для Матье. А теперь его истощал даже малейший жест, и он чувствовал в груди уже знакомую боль, которую научился подчинять своей воле.
Не имея возможности отправиться в Алжир, он однажды июльским утром попросил Мартина отвезти его в Пюльубьер, словно для того, чтобы совершить последнее паломничество в страну своего детства. Матье хотел снова увидеть леса, дом, где он смог вновь увидеться с Робером, своим внуком, и Шарлем, племянником, приезжавшим повидаться с ним в мае, когда события вокруг кипели. Старик знал, что между ними будто существовал некий сговор: они имели сходные суждения о восстаниях и забастовках. Вся эта суматоха казалась немного смехотворной тем, кто работал от зари до ночи, без наименьшей гарантии заработка в случае, если град или болезнь обрушатся на урожай. Крестьянский мир следил за развитием событий со скептической сдержанностью: требования рабочих не соответствовали их собственным, требования студентов тем более, разве что чей-то сын или дочь получат возможность посещать учебное заведение, тогда не стоит упускать эту возможность. Но, по большому счету, работы на земле не ждали. И Шарль, хоть и был учителем, прекрасно осознавал это.
Мартин и Матье выехали на рассвете, в воскресенье, по национальной трассе номер двадцать до Брива, затем повернули на дорогу в Тюль и Уссель, а после медленно поднялись на плоскогорье. Каждый раз, когда они туда приезжали, Матье не переставал удивляться контрасту между природой известнякового плато, на котором он жил, и этими лесами, пастбищами, темно-зелеными даже летом кронами, казалось, еще больше подчеркивающими незабудковое, синее небо, чтобы привлекать восхищенные взгляды. В то утро он чувствовал себя таким счастливым, каким давно уже не был: свежесть утра, без сомнения, и этот трепет зелени вокруг машины, словно приглашение раствориться в ней, будили в потаенных глубинах его души забытую негу. После зноя последних дней Матье дышал здесь с облегчением.
В Пюльубьере он смог недалеко прогуляться до обеда, зайти в дом, где они так часто собирались вместе после Первой мировой войны. Здесь за стаканчиком вина он вновь увидел перед собой тени прошлого: тень Паулины, матери Алоизы, и саму Алоизу, сидящую напротив него, рядом с Франсуа, когда она едва не потеряла сознание в 1918 году, и пугающую пустоту, промелькнувшую в ее прекрасных глазах.
Затем они пообедали в доме Шарля и Матильды, но старались не обсуждать происходящие события. С приходом лета месяц май, казалось, остался далеко позади, и все уже было сказано по поводу всего происшедшего. Они говорили о Пьере, решившем остаться в Париже на каникулы, и о Жаке, завтракавшем сегодня в Сен-Винсене, о кагоре, за который Матье собирался вскорости получить приз вина наивысшего сорта с зарегистрированным наименованием места производства. Затем Матье понадобилось прилечь во время сиесты, как он привык это делать в Алжире, поскольку вставать приходилось очень рано. Ненадолго: только на полчасика, после чего он захотел вернуться, поскольку Шарль собирался в тот день еще в Прадель.
Мартин выехал на трассу в Борт, повернул вправо, легко нашел дорогу на ферму, где Матье жил с Франсуа и Люси долгие годы, вместе с родителями, умершими в тяжелых условиях, почти в нищете. Мартин остановил машину возле двора небольшого разрушенного домика, и они вышли из машины, чтобы обойти вокруг него, по крапиве, пырею и репейнику. Крыша дома обвалилась. Матье молчал. Он безнадежно пытался вновь увидеть сценки из своего детства, но они убегали от него: слишком много времени прошло. Старик понял, что не сможет запастись тем, за чем сюда приехал, и испытал разочарование. Он больше ничего не узнавал, как не узнавал он больше мир, рождающийся из майских событий. Мужчины и женщины никогда больше не будут жить так, как раньше. Очевидность перемен заставила его пошатнуться. Матье смотрел на холмы — он хотел знать, остался ли еще крест в вышине. Старику показалось, что удалось рассмотреть его там, на пересечении дорог, оставшийся с той поры, когда они с Франсуа 1 января 1900 года высматривали признаки наступления новой жизни. Франсуа уже давно был мертв, как и Люси и их родители. Он, Матье, остался последним, кто в состоянии был вспомнить о тех временах, тех людях, не знавших, хватит ли им хлеба на грядущую зиму. «Тем лучше, — говорил он себе, — ни мои дети, ни внуки никогда не познают такого», — и в то же время у него было чувство некой измены, манящее его к тому холму.
— Ты же не будешь подниматься туда! — запротестовал Мартин.
— Буду. Подожди меня здесь.
Мартин вздохнул и вернулся к машине. Матье инстинктивно нашел старинную тропку и проследовал по ней с чувством опьянения, не дающим ему ощутить усталость, во всяком случае на первых метрах подъема. Затем боль в груди усилилась и заставила его несколько раз остановиться. Но как только Матье оказался наверху, он как будто почувствовал победу над временем. Он сел на каменный выступ и снова подчинил воле дыхание, глядя вдаль, как они когда-то смотрели вместе с братом первого января 1900 года. Матье не различал ни елей, ни берез, которые когда-то показывал ему Франсуа там, на круглых вершинах горы.
— Франсуа, — прошептал Матье, — на этот раз мир действительно изменился.
И ему показалось, что кто-то стоит рядом с ним, Матье даже протянул руку, чтобы дотронуться до пришедшего. Он повернул голову, никого не увидел, совсем никого, и боль в груди всколыхнулась с новой силой. Старик еще долго сидел на выступе скалы, немного растерявшись, не зная, где находится. Крик Мартина снизу вернул Матье в сознание. Он поднялся и, бросив последний взгляд на горизонт, начал спуск.
Возвращение прошло в тишине. К тому же Матье почти не разговаривал последние несколько месяцев. Сильно озабоченный болью в груди, не оставлявшей его в покое, он готовился к неизбежному и неуклонно приближающемуся, он был в этом уверен.
Он не спал всю ночь, и Марианна утром предложила вызвать доктора.
— Нет, спасибо, не стоит беспокоиться, — ответил Матье.
Но боль оставалась все такой же сильной. После завтрака, когда все занялись делом, Матье пошел к виноградникам под жгучим солнцем, с единственной мыслью в голове: дойти туда, пока не стало слишком поздно. Обливаясь потом, стиснув зубы, он еле дошел и тут же прилег среди виноградных лоз, как обычно, вдали от взглядов, как он делал уже два года, когда боль в груди поднималась и причиняла ему нестерпимые страдания. Он почувствовал себя намного лучше, подумал о своем сыне Викторе с намерением скорее сблизиться с ним наконец, а затем боль, вместо того чтобы утихнуть, резко усилилась. Матье понял, что этим утром ничто его не удержит. Через несколько минут ему показалось, что огромное солнце разбилось вдруг о его череп. Он пережил миг невероятного счастья, думая не только о солнце Матиджи, но также и о том, которое поднималось там, в Праделе, много лет назад, над вековыми лесами.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Учебные заведения во Франции, где готовят преподавателей высокого уровня. (Примеч. пер.)
(обратно)2
«Польский коридор» («Данцигский коридор») — в литературе: название полосы земли, полученной Польшей по Версальскому мирному договору 1919 г. и дававшей ей доступ к Балтийскому морю. (Примеч. пер.)
(обратно)3
Кантон Во в Швейцарских Альпах. (Примеч. пер.)
(обратно)4
Рейнская демилитаризированная зона — установленная Версальским мирным договором 1919 г. территория по берегам Рейна, на которой запрещалось размещать германские войска и военные укрепления; ликвидирована в марте 1936 г. с введением туда войск фашистской Германии. (Примеч. ред.)
(обратно)5
Феллахи — в арабских странах оседлое население, занятое земледелием. (Примеч. ред.)
(обратно)6
Теофиль Готье. Печальная голубка (перевод Н. Гумилева). (Примеч. пер.)
(обратно)7
Коррез (фр. Corruze) — департамент на юге центральной части Франции, один из департаментов региона Лимузен. (Примеч. пер.)
(обратно)8
Вади — пересыхающее русло реки в Африке. (Примеч. пер.)
(обратно)9
Шауйа — регион Марокко. (Примеч. пер.)
(обратно)10
Харка (от араб. harka) — вспомогательные войска, нанятые французской армией с 1957 по 1962 г. во время войны в Алжире. (Примеч. пер.)
(обратно)11
Эвианские соглашения, заключенные в 1962 году правительством Франции и Временным правительством Алжирской республики, дали Алжиру право самоопределения. (Примеч. пер.)
(обратно)12
Эспер — «надеюсь». (Примеч. пер.)
(обратно)13
Lander — земли. (Примеч. пер.)
(обратно)14
Капо — охранники, приставленные к заключенным в лагерях. (Примеч. пер.)
(обратно)
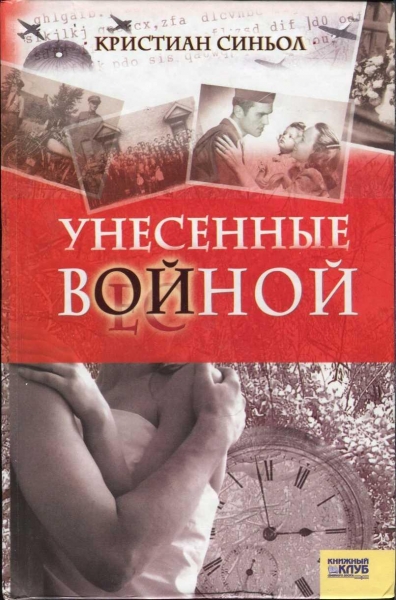



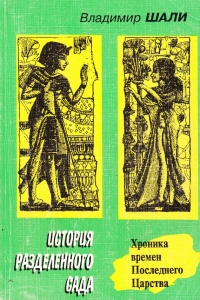


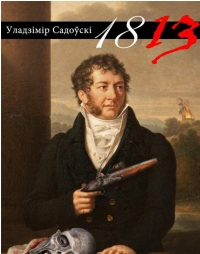

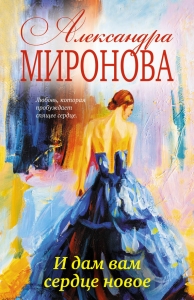
Комментарии к книге «Унесенные войной», Кристиан Синьол
Всего 0 комментариев