Раймон Кено
I
На улице капли дождя — шлеп-шлеп, то там, то сям; такой вот был влажный вечер на улице. Фонари пускали слюни — на тротуарах лужи. На перекрестке улицы Данте и бульвара Сен-Жермен переминался старик — не перейти ему на другую сторону. Грузовик задел его зонтик; пес вскарабкался на груду ящиков и залаял во всю пасть. Старичок отпрянул, что-то брюзжа в усы, а усы он носил длинные и густые. Снуют тут всякие: такси, автомобили хозяев, автомобили слуг, велосипеды, конные драндулеты, трамваи. Как он их всех ненавидел. Не так давно ему прижал ребра грузовой мотороллер — погладил и наградил рваным дыханием и повышенной осторожностью; старик дал себе слово, что в один прекрасный день раз и навсегда расправится с этими смертоносными болидами, но прекрасный день так и маячил в прекрасной дали. Иногда он подумывал исподтишка прокалывать шины тем, кто паркуется у тротуаров; с перочинным ножичком это совсем не трудно. Однако свой план он не осуществлял: риск все-таки — вдруг начнут пинать ногами. Оставалось надеяться, что в эту собачью погоду какая-нибудь металлическая дура перевернется на дороге и на глазах превратится в месиво вместе с ездоком. Вообще, погода была — то, что надо. Октябрь сделал «пшик!», подрезал на вираже и вильнул хвостом, рыбьим масляным хвостом, хвостом сардины в масле. Как сказано, а? Разве не масло эта морось? Он не любил, когда масла много; его даже в уксусный соус не надо переливать. Другой старик подошел к краю тротуара и стал дожидаться просвета, чтобы перейти.
Они походили друг на друга, как два брата. Хотя родственниками не были; ни близкими, ни даже дальними. Видимо, их роднили густые длинные усы. Как один неискушенный глаз видит во всех «околонизованных» туземцах множество экземпляров одной и той же модели, так и другой, по-своему неискушенный глаз, видит во всех стариках с длинными густыми усами двойников одного и того же индивида. Впрочем, один из стариков, наоборот, считал, что это молодых не отличить друг от друга — у всех лица ворсятся. Но он хотя бы не писал мелом над писсуарами призывы: «Мочи бритые рожи».
Имя его было месье Браббан. Он повернулся ко второму старику, чье имя было месье Толю. Месье Толю посмотрел на месье Браббана. Браббан сказал Толю:
— Всё как будто масляное, правда? По мне, так это не дождь, а масло.
— Что делать, после войны всё так: взрывами времена года перемешало. Помните, как было в октябре до войны? Красивые были дожди. И солнце, когда показывалось, тоже было красивым. А сейчас все перепутано — божий дар с яичницей, Рождество с Сен-Жаном, который празднуют летом[1]. Не поймешь, когда надеть плащ, когда снять…
— Мое мнение — это из-за пушек все промаслилось.
— И я так считаю. К счастью, это последняя война, а иначе, повторяю вам, Рождество случилось бы в Сен-Жан.
Браббан взглянул на Толю из-под зонтика.
— Так-так, уважаемый, кажется, я вас где-то видел. Мы с вами точно встречались.
Уважаемый задумался.
— Может, в Архиве[2]?
— Нет, исключено. Что за архив? Я знаю только Архивную улицу. И все же ваше лицо кажется мне знакомым. Вот я и думаю, где же я мог вас видеть?
— А если у моего свояка?
— У свояка?
— Да, у Бреннюира, он издает книги по искусству — не слышали? Вы могли видеть меня у него дома. Там многие бывают: писатели, художники, журналисты и даже поэты.
Браббан усмехнулся.
— Ах, поэты! — многозначительно произнес он.
— Среди них есть очень хорошие, — обиженно заметил Толю.
Нельзя сказать, что он сам не пугался всего поэтического; просто он общался с поэтами у свояка и поэтому считал своим долгом относиться к ним с уважением. И все же, малодушно подыгрывая собеседнику, он добавил:
— Как поэты, конечно.
Маслянистая влага перестала сочиться с черного неба. Толю закрыл зонтик. Браббан повторил его жест и воскликнул:
— Теперь-то я вас вспомнил! Летом вы часто сидели в Люксембургском саду…
— Недалеко от оранжереи? Ну да, точно. Я вас тоже вспоминаю. Кажется, у вас была привычка садиться возле статуи…
— Совершенно верно, — сказал Браббан, протягивая ему руку. — Меня зовут Браббан, Антуан Браббан. Ветеран войны семидесятого года[3]. Во время битвы при Бапоме мне было семнадцать.
— 3 января 1871 года. Ее выиграл генерал Федерб[4], которого немцы прозвали Пырей[5] — неистребим был, как сорняк.
— О, надо же. Вы участвовали?
— Нет. Я преподаю… преподавал… историю. Меня зовут Толю, Жером Толю. Ученики дали мне прозвище Пилюля.
— Глупые эти дети, — заметил Браббан.
— Есть и смышленые. Помню таких, кто мог назвать все даты из курса современной истории, которые нужно знать к экзамену на бакалавра.
Они беседовали, продолжая стоять у края тротуара.
— Смотрите, можно перейти, — сказал Браббан.
Между трамваем и автобусом зажало грузовик.
— Идемте, пока свободно.
Оба осторожно пошли вперед.
— Скользко, как будто жир. Или масло. Еще не нашли хорошего способа мостить улицы.
Они оказались на другой стороне.
— Мостить парижские улицы начали при Филиппе Августе, — сообщил Толю.
— Неужели? Никогда бы не подумал. Бесконечно рад, месье, что мы с вами познакомились. Когда я видел вас в Люксембургском саду, я все время думал: интересно, чем занимается этот господин? Коммерцией? Юриспруденцией? Военным делом? Признаться, я склонен был предполагать последнюю ипостась.
— Вот и не угадали. Преподавание! Месье, я тридцать пять лет преподавал историю. Древнюю, новую и современную, французскую и всеобщую, греческую и римскую. А еще географию, месье, я преподавал географию: Франция, Европа, великие мировые державы. Я даже написал несколько небольших работ о ходе Французской революции в департаменте Морская Сена, поскольку последние двадцать лет трудился в лицее Гавра.
— Морская Сена, административный центр — Гавр. Супрефектуры — Фекамп, Больбек, Пон-Одемер, Онфлер, — отчеканил Браббан.
Толю с обеспокоенным видом остановился; мгновение постоял в нерешительности, а затем вновь зашагал, изучая дырочки для шнурков в ботинках. Его спутник обернулся вслед незнакомой девчушке; после чего изобразил несколько круговых пассов зонтиком.
— История — это ужасно интересно, — воскликнул он с воодушевлением, — это дает знания о людях…
— И о событиях.
— Как же здорово, что я с вами познакомился, месье, — подытожил Браббан.
Они дошли до бульвара Сен-Мишель. Поднялись к Люксембургскому саду. Снова закапал дождь, пуще прежнего. Старики опять раскрыли зонтики.
— Вот теперь это похоже на воду, — удовлетворенно заметил Браббан.
— Пушками все времена года растерзали. Проклятая война! До сих пор чувствуется.
— Да еще этот дождь, похоже, никогда не пройдет.
— Похоже.
— А что, если нам, месье, посидеть и выпить чего-нибудь бодрящего?
— Какие могут быть возражения?
— Как вы смотрите на то, чтобы пойти в «Суффле»?
— Я бывал там в юности, в старости вернусь, — продекламировал Толю.
— Ха! В старости! Скажете тоже.
— Ну, мальчиком меня не назовешь.
Они вошли в кафе, залихватски закрыли зонтики; на душе у них было радостно. Посетителей набилось битком; на вешалках плащи расставались с влагой. Пахло, как от пса, как от мокрого пса, от мокрого пса, который в придачу выкурил целую трубку. Старики с трудом примостились вдвоем за столиком между группкой молодых людей провинциального вида и какой-то шлюшкой. Молодые люди пытались что-то из себя строить и старательно шумели; шлюшка мечтала. Было слышно, как дождь стучит по асфальту. Соприкоснувшись со скамьей, Браббан и Толю облегченно завздыхали. Краля, вальяжно приподняв тяжелые веки, смерила их томным взором. А затем вновь размечталась. Что касается юных провинциалов, то они не обратили на стариков никакого внимания.
— Я буду перно[6], — сказал Браббан.
— Я тоже, — сказал Толю, который его вообще не пил.
— С абсентом его, конечно, не сравнить.
— Конечно, — согласился Толю.
В тепле их разморило. Но от перно они оживились.
— Вы были на войне, месье?
— Увы, нет, ни на одной. Но я исполнил свой долг иначе; для меня профессия стала служением.
— Понимаю.
— Я научил уму-разуму многих молодых, месье. Дал им представление о людях… об истории… о поражениях… о победах… о хронологии событий…
Устав от его разглагольствований, Браббан влил в себя несколько больших глотков зеленоватого алкоголя.
— Нашим политикам как раз не хватает знания истории. И географии. Не будем о ней забывать. Слышали, что говорят о французах?
Браббан сидел с каменным лицом. Толю его посвятил. Определение их позабавило. Они обнаружили, что ни капельки ему не соответствуют; действительно, у обоих были награды — у одного боевые, полученные в семидесятом на войне, у другого «Академические пальмы», — но при этом оба имели значительные познания в географии, что для второго было естественно и даже необходимо, зато для первого отнюдь не обязательно. Браббан объяснил это так:
— Приходилось, знаете ли, путешествовать.
— Много путешествовали?
— Даже слишком.
— Ну, а я не слишком много ездил. Почти нигде не бывал. А хотелось бы…
Его ус задумчиво тонул в стакане, где таял кубик льда.
— Хотел бы я попутешествовать, — продолжал старик. — Ах, месье, сколько раз я провожал взглядом корабли, исчезавшие за горизонтом! И встречал их из Индии, из Америк. Так говорили раньше: из Америк. Двадцать лет я преподавал в лицее, в Гавре, а ведь город-то портовый. Портовый город, говорю, а не этот понтовый лицей.
— Хе-хе.
— О чем я говорил? Ах да, Гавр. Я видел, как корабли отправляются в дальние плавания, да-да, в дальние плавания. Одни к полюсам, другие к антиподам. А я ни разу не плавал даже в Трувиль. Теперь-то я слишком стар, чтобы странствовать по горам и по долам или болтаться по морям в какой-нибудь скорлупке. Слишком стар.
Казалось, он сейчас распустит нюни. Браббан кашлянул. Собеседник отчасти вернул себе достойный вид.
— У меня были ученики, которые теперь плавают или живут в колониях. От некоторых я получал открытки; они были почти отовсюду. Почти отовсюду…
Повторив это эхом, он замолчал. Взяв слово, его новый знакомый упомянул несколько мест, где ему якобы приходилось бывать, но он мог бы рассказать еще и о том, что из всех стран лучше всего знал некую французскую колонию в Южной Америке, где отбыл пятнадцать лет каторги — так ему порой казалось.
II
Народу у Бреннюира уже порядком, когда Роэль пробирается в гостиную. Жорж Бреннюир представляет его отцу и гостям — деятелям пера и кисти, чьи имена известны у Ванье[7] и в «Меркюр»[8]. Здесь и поэты-импрессионисты, и художники-символисты; они были знакомы с друзьями Поля Верлена; они хранят воспоминания о туберкулезниках и алкоголиках, скончавшихся в первые годы века, — жертвах редких слов и пунктуации. Кое-кто помнит первые опусы Гийома Аполлинера. Гийом Аполлинер умер ровно два года и два дня назад[9].
Ж.-А. Корнуа излагает свои remembrances[10]: вот Гийом в Германии на берегах Рейна, а вот погружается в преисподнюю Национальной библиотеки, служит артиллеристом в Ниме, ранен на фронте и умирает от испанки.
— От испанки! — хмыкает кто-то. — А от чумы не хотите? От черной чумы. Всего-навсего. Как в тысяча триста сорок восьмом!
Роэль немало удивлен; он узнал голос Пилюли. Жорж забыл представить приятелю своего дядю. Но вот дядя поднимает глаза и внезапно узнает бывшего ученика.
— Надо же, Роэль! — восклицает Жером Толю своим скрипучим голосом. — Оказывается, вы в Париже. Будете поступать в «Нормаль»[11]?
— Да, месье.
Не будет он поступать в «Нормаль».
— Прекрасно, прекрасно. Помнится, вы были неплохим учеником, но я слышал, что тот год, когда вы изучали философию, не обошелся без приключений, да уж, не обошелся.
В день, когда объявили перемирие, Роэль лишил девственности барышню из благородной семьи и нажил себе неприятностей. Историю обсуждал весь город. Но Роэль об этом уже забыл.
— Где учитесь? В «Луи-ле-Гран»[12]?
— Да, месье, в «Луи-ле-Гран».
Не учится он в «Луи-ле-Гран».
— Прекрасно, прекрасно, — произносит старый преподаватель.
Старый преподаватель изрядно раздражает Роэля, да еще сестра Бреннюира куда-то подевалась. А он так надеялся ее встретить. Но ее нет. (Ж.-А. Корнуа предается воспоминаниям.) Раньше Роэлю было лестно находиться в кругу поэтов, которых он знал только по книгам. У него были некоторые тщеславные помыслы, связанные с изящной словесностью. Но теперь ему это неинтересно. Его тщеславие спит; больше того — похрапывает. Он видит вокруг себя лишь паяцев.
Вот поэт Сибарис Тюлль, обладатель грязных ногтей и любитель поковырять в носу; он похож на старика, на глубокого старика, глубокого дряхлого старика. Этого и бенедиктин[13] устроит. Помнится, он сравнил свою душу с испуганной ланью, а тоску — с осенним дождем. С.-Т. Караван, романист, забыл застегнуть ширинку; он что-то цедит сквозь гнилые зубы. Этот тоже не отказался бы от бенедиктина, но его коллега прибрал к рукам бутылку. Никак не перехватить. (Ж.-А. Корнуа продолжает предаваться воспоминаниям).
Роэль то и дело натыкается на отвратительные подробности обыденного существования. Презренная наружность не может скрывать гения. Грязные ногти поэтов больше его не забавляют. Бенедиктин — гадость, от которой мутит. Роэль отводит Жоржа в уголок, где на старинном столике стоит вычурная ваза.
— Не смешно.
«Тебя знакомят с великими», — думает Жорж. Но правильно делает, что молчит, ведь Роэль ответит: «Не такие уж они великие; жалкие они, эти твои великие; парижская провинция».
— Не смешно, — шепчет Роэль. — Мог бы предупредить, что здесь будет мой бывший преподаватель.
— Мой дядя? Он тебя учил?
— Несложно догадаться. Впрочем, ладно, не беда. Значит, он твой дядя?
— Я не подумал, что ты мог быть его учеником. Знаешь, он впадает в маразм.
— Он из него и не выбирался.
Роэль начинает раздражать Бреннюира. Не провел в Париже и шести месяцев, а уже корчит из себя невесть что. Его приводят в литературный салон, который посещают лучшие авторы, а он нос воротит! Сам ты провинциал, ясно?
— Неужели они пьют только сладкие ликерчики? У твоего отца не найдется коньяка?
Найдется, конечно; лучший сорт, но гостям его не предлагают. Жорж знает, где он спрятан; они с Роэлем крадутся в столовую, чтобы пропустить по рюмочке.
— Почему все-таки нет твоей сестры?
— Она не приходит на эти вечера. Ей здесь скучно.
— И правильно. Она совершенно права. Твоя сестра симпатичная.
— Не вздумай ее обхаживать.
— Налей мне еще.
— Хватит. А то он заметит, что мы тут прикладывались.
— Трус ты. Дай, я себе налью. Нет, правда, ты трус.
— Ладно. Наливай. Но на этом — всё.
Сам он воздерживается.
Роэль возвращается в гостиную; в желудке тепло, в голове — аналогично. Ж.-А. Корнуа заканчивает предаваться воспоминаниям о Гийоме Аполлинере. Роэль слушает с крайним интересом. Он расселся в кресле, положив ногу на ногу и задрав ботинок до носа. В желудке тепло, в голове — аналогично. Ж.-А. Корнуа закончил предаваться воспоминаниям о Гийоме Аполлинере.
— Жаль, конечно, что он умер, — говорит Сибарис Тюлль, — тем более в такой день. Я также признаю, что он честно защищал свою вторую родину, но вы никогда не заставите меня считать его… каллиграммы поэзией. Ни за что.
— Конечно, это просто оригинальничание, — произносит Караван.
— Прошу меня извинить, — возражает Ж.-А. Корнуа. — Это стихотворения, более того — гениальные стихотворения.
Браво, Корнуа, получите все! Вот славный малый, понимает молодых. Как показать ему свое расположение? Выдать, где папаша Бреннюир прячет коньяк?
Разговор о современной поэзии становится вязким. Одни кричат, что это чушь собачья, другие принимают снисходительный вид. Все начинают волноваться. Бенедиктин часто так действует. Роэль назло Жоржу Бреннюиру читает «кубистский» стих. Выпад производит более или менее желанный эффект. Пока все разбирают по косточкам услышанное, Ж.-А. Корнуа отводит Роэля в сторону. Роэль может наконец доказать ему свое расположение. Он тащит Корнуа в столовую и откупоривает бутылку с крепким питьем.
— Месье Бреннюир плохо потчует гостей, — говорит он. — Постараюсь принять вас, как полагается.
Он наполняет два стакана. Они сердечно чокаются.
— Вы не напомните мне ваше имя?
— Роэль. Арман Роэль.
— Вы студент?
— Пишу диплом по литературе[14].
— А стихи пишете?
— Иногда.
Он улыбается дерзко и смущенно, как будто и впрямь пишет стихи, причем искренне стесняется того, что их пишет. На самом деле не пишет он никаких стихов.
— С удовольствием взглянул бы на них.
— С удовольствием вам их покажу.
Теперь он «в своей тарелке». Если этот чудак желает увидеть стихи Роэля, значит, Роэль что-нибудь сварганит. Алкоголь приятен тем, что от него к самой макушке подступает тепло и кажется, что вас приподнимает к потолку. Ого, а вот и Бреннюир-старший.
— Видите, дорогой друг, мы совсем как дома, — говорит Корнуа.
— Декламация современной поэзии должна сопровождаться поглощением старых добрых напитков. Между прочим, это я сделал так, чтобы гостю было хорошо.
Гостюшка, скривившись, посмеивается. Будет так прихихикивать — ему, чего доброго, портрет перекосит.
— У вас восхитительный коньяк, месье. Согревает сердце авангардной молодежи в моем скромном лице. Дивная вещь — не какой-нибудь факел, который поколение отцов передает детям, а бутылка «Наполеона». Месье Бреннюир, от имени кубизма, футуризма и дадаизма искренне вас благодарю.
Месье Бреннюир улыбается, вздернув верхнюю губу — ну, точно грызун. Он обращает к Корнуа свое кроличье лицо.
— Я вас искал, любезный. Наш друг Караван хотел задать вам какой-то вопрос.
И он похищает гения.
Оставшись один, Роэль впадает в веселье. Нет, он решительно никогда не состарится. Он отказывается стареть и писать стихи. Вот так. Ничто не мешает ему выпить еще стаканчик. Дивная вещь — не какой-нибудь факел, который поколение отцов передает детям, а бутылка «Наполеона». Отлично. Ага, Бреннюира-отца сменил Бреннюир-сын. Наш друг Жорж.
— Знаешь, отец на тебя зол. Как он на тебя зол, это что-то.
— Почему? Что ему не нравится? Я разливался соловьем по поводу его коньяка.
— Ты нахал.
— А ты вечно трясешься, как осиновый лист. Знаешь, что я сказал твоему папаше? «Месье, — сказал я ему, — сальную свечу, которую поколение отцов протягивало сыновьям, вы удачно подменили бутылкой бенедиктина». Не в бровь, а в глаз, да? Жаль, что ты не слышал.
— Ты пьян.
— Где твоя сестра? О, прости, это без всяких задних мыслей, ты же знаешь. Сестра у тебя очаровательная. Ей-ей, просто очаровательная. Почему она сегодня не пришла?
— Отец накричал на меня…
— Правильно сделал.
— …за то, что я тебя привел. Думаю, он не захочет, чтобы ты снова приходил.
— Правда? Он что, выставляет меня за дверь? За то, что я рассказал кубистский стих! Месье Бреннюир выставил меня за дверь за то, что я рассказал кубистский стих.
— Тебе лучше уйти прямо сейчас. Ты пьян, еще выкинешь что-нибудь. Нечего тебе здесь делать.
Несколько секунд Роэль молчит, затем шепчет:
— Месье Бреннюир выставил меня за дверь, потому что я знал наизусть кубистский стих.
Он с достоинством ретируется из комнаты, берет шляпу, плащ и хлопает на прощание дверью. На улице ему тут же становится легко. Больше он даже ногой не шаркнет о коврик у этого старого «бреннюирода». А на Бреннюира-младшего можно не обращать внимания, что с него возьмешь?
В метро напротив него сидит обалденно красивая женщина. Ему везет: ей нравятся молоденькие и она вовсе не хочет возвращаться домой одна. Он горд и приходит к выводу, что перемирие и его годовщины всегда приносят ему то, что теперь он решается назвать удачным приключением.
III
Винсен Тюкден сошел с гаврского поезда скромником, индивидуалистом-анархистом и атеистом. Очков он не носил, хотя был близорук, зато отращивал волосы как свидетельство своих взглядов. Источником всего этого были прочитанные книги, много книг, огромное количество книг.
Мышцы у него были хилые, и он с трудом удерживал оттягивавший руку тяжеленный чемодан, пока, спотыкаясь, шел к маленькому отелю на Кабульской улице возле вокзала Сен-Лазар. Комнату там подыскали ему родители; они хорошо знали хозяйку, мадам Забор, и были уверены, что она не позволит их сыну даже на шаг отступить от правил поведения, которое они считали добропорядочным. Мадам Забор встретила Винсена Тюкдена, выказав условные знаки глубочайшего расположения, и выделила ему в своем заведении самую дрянную комнатенку — темную, возле туалетов. У Тюкдена мелькнула мысль, что отец договаривался совсем не о ней, но возражать он не решился и позволил себя надуть.
Он не стал рассиживаться в своей душномансардной клетушке и устремился в метро, чтобы по линии север-юг добраться до Латинского квартала. По ошибке вышел на станции «Ренн», полагая, что сделает пересадку до «Сен-Мишель», и, тем не менее, поразился, до чего легко ориентируется. Записался на филологический факультет, выбрав новую программу. Провел в университете весь день, с презрением поглядывая на окружавшую его безголовую молодежь, жадную до дипломов и бестолково крикливую. Все это очень напоминало начало учебного года в лицее Гавра.
К четырем Тюкден получил зачетную книжку и студенческий билет, украшенный его фотографией. (Он неплохо вышел на этом фото; похож на человека, читавшего Штирнера и Бергсона[15]). Часы на здании Сорбонны сообщали, что было пять минут пятого; непонятно, чем заниматься до ужина. Он прогулялся вверх по бульвару Сен-Мишель до улицы Гей-Люссака, а потом по нему же спустился к Сене. Затем вновь тем же путем поднялся до улицы Гей-Люссака и тем же путем спустился к Сене. Измерив шагами правый тротуар, он перешел на левый. На город улеглась ночь. Винсен Тюкден по-прежнему убивал время, чеканно впечатывая подошвами ботинок в землю мучительно пустые минуты, которые он не умел заполнить даже кофе со сливками. Когда пробило семь, он зашел в ресторанчик «Шартье» на улице Расина — его отец посоветовал, — поднялся на второй этаж, занял столик слева от входа и под бокал красного вина затолкал в себя филе сельди в масле, сосиску с картофелем и ягодный десерт. Потом, на площади Сен-Мишель, он воспользовался маршрутом A-I[16] и без труда вернулся в отель «У барабанщика» — так называлась эта дыра.
Когда дверь за ним закрылась, он обнаружил, что в комнате, кроме него, никого нет. Попытался побороть одиночество, раскладывая предметы туалета, одежду, книги. Попробовал воодушевиться от мысли, что живет на Кабульской улице, а Кабул — столица Афганистана; но куда там. То и дело подавал голос сливной бачок. Он придвинул небольшой столик под лампу, взял непользованную тетрадь, сел перед чистой страницей и стал карябать по ней пером. Винсен Тюкден знал, что этот день был великим днем и что открывается новый этап его жизни. Так что для дневника требовалась новая тетрадь. На первой странице он написал только: «Дневник, начат 12 ноября 1920 г.», а на второй вывел несколько с претензией выбранных эпиграфов:
О, есть в твоем характере что-то таинственное и сумрачное, что заставляет меня содрогаться; Бог знает, к чему приведет тебя чтение столь многих книг!
(Стендаль)
Διχα δ’αλλων μονοφρων ειμι
(Эсхил)[17][18]
Октав считал, что склонен к философии и глубокомыслию.
(Стендаль)
Затем ему захотелось описать свой первый день, но ничего не вышло. Живучая тоска жирнючим клопом впилась ему в самое темечко. Когда-то он представлял, он предполагал, он был уверен, что в первый же день в Париже, а точнее, в первую ночь он… ну да, переспит с женщиной. Но этого не случилось. И не случится — разве что служанка поднимется сюда и с притворным видом спросит, не нужна ли ему пепельница, и это будет означать, что она в порыве страсти готова пасть в его объятья.
Но что-то она не шла.
Он услышал, как рядом кто-то дернул за цепочку. Да уж, хуже комнаты в отеле нет, а он, трус, не посмел возмутиться. Впрочем, он пробудет здесь только полтора месяца; арии сливного бачка полтора месяца можно потерпеть. Облечь день в прозу не удавалось. Тогда он попробовал облечь его в стихи. Вот что получилось:
НОЯБРЬ 1920
Мир печальный и нелепый служащие метро великолепны Кабул — столица Афганистана песнь затихает часы идут неустанно ключ № 18 поток не устает рваться срывая запоры под барабанную дробь смешные все-таки люди мы былого слова позабудем поздно, пора а мечты прошлых лет где? простыл следВЫХОД НА ПРАВУЮ СТОРОНУ
Это было коротко и плохо.
Он побродил по нескольким квадратным метрам комнаты, разделся, почистил зубы, праведником лег в постель и уснул, испытывая душевную пустоту и томление в чреслах, но прежде вспомнил, что семейные традиции требуют навестить бабушку, жившую на улице Конвента.
На следующее утро он отправился проведать Жана Ублена, одноклассника, снимавшего меблированную комнату на улице Галланд. Застал: тот читает книгу о покойничках, вещающих во мраке.
— Ты никак спиритом заделался?
— Да нет. Почитываю от случая к случаю. Здорово интересно. Нашел на книжном развале.
— Знаем такое. Спиритизм — это чушь.
— Потом обсудим.
— Ладно. Увидишь, что это несерьезно.
— Ладно, обсудим потом. Когда ты приехал?
— Вчера в час. Буду жить в отеле на Кабульской улице, пока родители не переедут в Париж.
— Отель-то ничего?
— Да. Совсем не для студентов. Для туристов, для тех, кто здесь проездом. В Квартале[19] я бы жить не хотел.
— Где ешь?
— Вчера в «Шартье». Сегодня посмотрим. Где-нибудь еще.
— А я ем здесь. Гляди.
За ширмой стояла маленькая газовая плитка и большая кастрюля. Ублен показывает ее содержимое.
— Я варю рис на неделю. И не знаю забот. Иногда покупаю рыбу. Ем почти задаром, как японцы.
— Значит, ты веришь в реинкарнацию?
— Не вижу связи. Хотя в реинкарнацию я, естественно, верю. Я вегетарианец по убеждению.
— Но рыбу ешь?
— Как японцы.
— Про спиритизм я все знаю. Ты поймешь, что это несерьезно.
— А ты, значит, за серьезное?
— Я за жизнь. А эти людишки жизнь ненавидят. Ненавидят обыденную жизнь.
— «Ах, как обыденна жизнь», писал поэт, которого ты цитировал мне в прошлом году.
— Паршивый поэт. Да здравствует метро, долой реинкарнацию!
— Тебе бы все шутить.
— Я люблю жизнь.
— Что успел сделать в Париже?
— А что, по-твоему, я мог успеть?
— Я тебя спрашиваю.
— А ты чем занимаешься?
— Хожу в Святую Женевьеву.
— Ты ходишь в церковь?
— Ты что, это библиотека. Увидишь, там можно найти что угодно. Еще есть библиотека в Сорбонне. Кстати, ты выбрал старую программу или новую?
— Новую.
— А я старую, она проще.
— А я новую. Она сложнее.
— Неужели ты думаешь, что экзамены — это важно?
— Нет, конечно. Плевал я на экзамены.
— Кстати, ты по-прежнему бергсонец?
— Это влияние я испытывал. В настоящее время я дадаист.
— Кто?
— Я за движение Дада.
— Ты это всерьез?
— Разумеется. Еще как всерьез.
— До чего же ты любишь парадоксы!
— Я люблю жизнь.
— Что ты знаешь о жизни?
— Ничего. Еще один парадокс.
— Мне тебя не понять. Впрочем, нет, твоя позиция проста. А меня преследует… сказать, что меня преследует? Мысль о смерти. Точнее, о жизни после смерти. Ты не пробовал вращать стол?
— Ты уже до этого дошел?
— Если бы можно было экспериментально доказать, что есть загробная жизнь, это произвело бы грандиозную революцию в умах. Если бы существовала уверенность, что после смерти мы будем жить… причем жить с начала…
— Ты что? Веришь, что в ножках столов живут призраки?
— Не знаю. Но вопрос такой себе задаю.
— Я его тоже себе задавал. Ответ отрицательный.
— Как мы в себе уверены.
— Чушь собачья — все, что рассказывают эти люди. И потом, они ненавидят жизнь. Ницше читал?
— Да. Не люблю его. Он сошел с ума.
— Лучше сумасшедшая жизнь, чем чинная смерть.
— Брось, твои парадоксы меня не впечатляют.
— Пообедаешь со мной?
— Нет, старик, не могу. Вот, приходится выкручиваться таким образом. Рис, рыба.
— Я думал, все дело в реинкарнации.
— И в том, и в другом.
— И не пойдешь никуда?
— Нет, старик. Останусь почитать.
— Ну и ладно. Скажи, где библиотека Святой Женевьевы?
— Слева от Пантеона, если идти к нему по улице Суффло.
— Туда всем можно?
— Да. Увидишь, там что угодно можно найти. Ты также имеешь право ходить в библиотеку Сорбонны.
— Спасибо тебе.
— Встретимся во вторник на лекции Брюнсвика[20]?
— Давай. Во вторник на лекции Брюнсвика.
— Пока, старик.
— Пока, старик.
IV
— Мне правда жаль, но я уже взял человека. Вы, кажется, умны и предприимчивы. Думаю, мы нашли бы общий язык. Но что делать, я не могу изменить решение. Мне искренне жаль.
— И мне жаль, месье.
— Можете оставить мне ваш адрес. Вдруг однажды я дам о себе знать.
— Хорошо, месье.
— Итак, ваша фамилия, имя и адрес?
— Роэль, через «э», Арман, колледж Сюлли.
— Надо же, колледж Сюлли.
— Да, я воспитатель.
— О, воспитатель. Ясно, почему вы ищете другое место. Это не привлекательное занятие.
— Не слишком.
— Как жаль, что я уже нанял человека. Что ж вы так поздно пришли? Ну, если что, я вам напишу.
Молодой человек встал, попрощался и исчез. Несколько секунд месье Мартен-Мартен хранил задумчивый вид, затем позвал машинистку.
— Как он вам?
— Хорошенький мальчик.
— Ох уж эти шелковые чулки, — вздохнул он, разглядывая ноги девицы, — от этой моды недолго сойти с ума. Вы свободны.
Изящной походкой она удалилась. Месье Мартен-Мартен снова на несколько секунд застыл в нерешительности, а затем, взяв плащ и котелок, вышел.
Было прохладно, а вообще — славный ноябрьский денек. Он прошелся пешком до Севастопольского бульвара. Сел в 8-й автобус и доехал до Люксембургского сада. Колючий ветерок холодил скамьи и стулья и гнал из сада последних посетителей. Месье Толю среди них не наблюдалось. Месье Мартен-Мартен покинул это место слегка раздосадованный, слегка продрогший. И подумал, что немного грога ему не повредит. Он выбрал «Суффле», где можно с комфортом принять любимое снадобье. Вливая в себя принесенную Альфредом «американку», месье Мартен-Мартен рассеянно смотрел по сторонам. Его в очередной раз ждало разочарование. К нему подошел Альфред.
— Месье кого-то ищет?
— Нет, Альфред, не беспокойтесь. Вот и зима началась.
— Да уж, никуда не годная зима, месье.
— Думаете, зима будет никуда не годной, Альфред?
— Да, месье, из-за планет.
— Очень интересно.
— Планеты прямо-таки налезают друг на друга, месье. Так что зима будет никуда не годная.
— Сколько я должен, Альфред?
Щедрой рукой месье Мартен-Мартен отсыпал ему немного на чай. На следующий день он пришел в то же время. Холод стал еще холоднее.
— Видите, месье, что я вам вчера говорил? — произнес Альфред, подавая ему «американку». — То ли еще будет.
— Вы ведь не играете на скачках, Альфред?
— Месье сразу догадался.
— Естественно, догадался.
— Вас не проведешь. Действительно, я не играю на скачках. В моей семье была настоящая трагедия, месье. Мой отец разорился на лошадях, как другие разоряются на юбках, или на кокотках, как тогда говорили.
— Ох уж эти кокотки, — вздохнул месье Мартен-Мартен.
— Мой отец разорился, месье. Скажу больше: он покончил с собой. Это было ужасно. У его одра я поклялся никогда не играть на скачках. Мне было пятнадцать. До сих пор я держал слово, но…
— Но?
— Я тайно разрабатываю безотказную систему, чтобы выигрывать на ипподромах «Лонгшан»[21], в Винсенском лесу, в Отее и в Ангьене. Когда эта система будет доведена до ума, я отыграю все деньги, которые потерял отец, само собой, с учетом роста стоимости жизни.
— На чем основана ваша система?
— Прежде всего, на географическом положении ипподромов и направлении магнитных потоков, которые через них проходят; затем, на движении планет; наконец, на статистических исследованиях, затрагивающих девяносто один составляющий элемент конного спорта.
— A-а. Рассчитываете скоро закончить?
— Через два-три года, месье.
— Принесите маленький кофе, покрепче и погорячее, — раздался скрипучий голос клиента, вдруг возникшего за одним из столиков.
— Ба, какие люди! — воскликнул месье Мартен-Мартен. — Это же месье Толю!
— Кажется, я вас узнаю, — отозвался вышеназванный.
— Я месье Браббан. Помните, битва при Бапоме, дальние странствия…
— А, помню, помню. Приятно снова вас встретить.
— А мне как приятно! Мой круг общения в Париже так невелик, что встретить знакомого — одно удовольствие. У меня ни родственников, ни друзей: один, как перст. Позвольте, месье, называть вас «мой дорогой Толю».
Толю изучал его со старческой подозрительностью.
— Вы играете в бильярд, месье Браббан?
— А как же, — ответил Браббан.
— Что ж, не помериться ли нам силой?
Второй старик с восторгом согласился.
Они отправились в «Людо», где им пришлось некоторое время подождать, когда освободится бильярдный стол. Партия началась со всяких «давненько я не играл» и «раньше я был на высоте, но практики не хватает». Ветеран войны семидесятого года был вынужден покориться лейтенантишке народного образования, который обыграл его с двадцатью семью очками из ста. Они расстались, весьма довольные друг другом. На следующий день месье Толю одержал новую победу, а через два дня месье Браббан вновь был вынужден признать себя побежденным; через три дня ему-таки пришлось согласиться на фору в двадцать пять очков, но, несмотря на это, он опять пал лицом в грязь, неравномерно покрывавшую паркетный пол в «Людо».
— Завтра я отыграюсь.
— Нет, мой дорогой Браббан…
— Как это, нет? Сегодня чуть-чуть не хватило.
— Да, но завтра воскресенье, я не смогу прийти.
— Ну, тогда до понедельника.
— Я иду к свояку.
— Ах да, к свояку. Месье… Бреннюиру?
— Именно так. Вообразите, что на днях один мой бывший ученик, которого я случайно там встретил, хотя, честно говоря, не случайно, поскольку он друг моего племянника и племянник-то его и привел, так вот, этот юноша рассказал нам кубистский стих.
— Не может быть, — искренне удивился Браббан.
— Признаюсь вам, я ничего не понял и мой великий друг, знаменитый поэт Сибарис Тюлль, тоже.
Имя Сибариса Тюлля, похоже, не впечатлило Браббана, и Толю продолжил:
— Сибарис Тюлль, вы наверняка знаете, автор «Аметистового башмачка», один из основателей «Меркюра».
— Как я завидую, что вы можете бывать у людей такого уровня, — взволнованно заявил Браббан.
— Для меня это большая честь.
— Я бесконечно восхищаюсь месье Тюллем, — сказал Браббан не слишком уверенно.
— Вы читали его стихи?
— Можно, я вам признаюсь? «Аметистовый башмачок» — моя настольная книга. Ведь поэзия — это ни больше ни меньше мое страстное увлечение.
— Уж не поэт ли вы? — спросил Толю, у которого дух перехватило от столь необычного признания.
— О нет, о нет. Но я читаю, так сказать, только поэзию. С ней я отдыхаю от дел, от суеты дня. Меня не только поэзия интересует, но и сами поэты, собственной персоной, во плоти.
— Вам хотелось бы познакомиться с Сибарисом Тюллем?
— Я бы не посмел…
— Нет ничего проще! — вскричал Толю. — Приходите в ближайший четверг. Мой свояк будет рад.
— Мне неудобно…
— Вот еще! Я его завтра предупрежу. Нет ничего проще. Он наверняка будет рад. На понедельник договорились?
— На понедельник договорились, мой дорогой Толю, и спасибо за приглашение.
— Не за что, не за что.
Толю опаздывал на ужин; он столовался в определенные часы в семейном пансионе, где отсутствие пунктуальности обрекало виновного на стыд и вызывало у окружающих самые нехорошие подозрения; он быстро удалился. Браббан же вышел не спеша. Он поужинал в первом попавшемся ресторанчике, активно работая челюстью, а затем отправился посидеть в «Суффле». Альфред принес ему черный кофе.
— Как по-вашему, Альфред, можно предсказать успех дела, которое собираешься предпринять?
— Это зависит от планет, месье, и от результатов статистики.
— От каких?
— По-разному, месье. Если месье угодно рассказать в двух словах, что это за дело, возможно, я смогу его проконсультировать.
— Ну… в общем… это не так-то просто.
— Вот уже подсказка.
— Я вам больше скажу, Альфред, это… дело должно остаться в тайне.
— Важная деталь, но не достаточная. Не могли бы вы, например, сказать, когда это начнется?
— Целый месяц, как началось.
— В какой день?
— Увы, уже не помню.
— А время не припомните?
— Было часов шесть.
— Утра?
— Вечера.
Альфред посмотрел в потолок.
— Должно остаться в тайне. Начато неизвестно в какой день около восемнадцати часов.
Он достал из кармана блокнот, на каждой странице которого, испещренной цифрами, были видны отпечатки пальцев. Альфред листал его, слюнявя указательный палец правой руки.
— Я смогу дать лишь примерный ответ, — пояснил он. — Мне не хватает дня, сами понимаете.
— Скажите, что можете, — попросил Браббан.
— В общем, это не сложно. У меня тут есть расчеты, что-то вроде таблиц логарифмов. Посмотрим. Ага, вот.
Он улыбнулся.
— Месье родился в нечетный день?
— Первого числа.
— И в нечетном месяце?
— Как это?
— В январе, в марте, в мае?
— Угадали.
— Месье родился 1-го мая?
— Точно.
— Тогда девять шансов из десяти, что ваше дело выгорит.
И добавил:
— Но не так, как вы думаете.
Браббан ушел в задумчивости и в котелке.
V
15 ноября
кофе…………… 1.
обед…………… 5.90
табак…………… 1.
спички…………… 0.20
метро…………… 1.
ужин…………… 6.30
газета…………… 0.15
16 ноября
кофе…………… 1.50
обед…………… 5.30
спички…………… 0.20
метро…………… 1.
ужин…………… 5.50
газета…………… 0.15
17 ноября
кофе…………… 1.
бритье…………… 1.
«Л’Ордр Натюрель»…………… 0.25
обед…………… 4.65
табак…………… 1.
спички…………… 0.20
метро…………… 1.
ужин…………… 5.15
газета…………… 0.15
18 ноября
кофе…………… 1.
обед…………… 5.90
спички…………… 0.20
метро…………… 1.
ужин…………… 5. ровно
газета…………… 0.15
19 ноября
кофе…………… 1.
бритье…………… 1.
обед…………… 4.75
табак…………… 1.
спички…………… 0.20
метро…………… 1.
ужин…………… 6.05
газета…………… 0.15
20 ноября
кофе…………… 1.
обед…………… 5.30
«Не Либертер»[22]…………… 0.20
спички…………… 0.20
метро…………… 1.
ужин…………… 5.90
газета…………… 0.15
так жил Винсен Тюкден.
Однажды декабрьским днем он спускался по бульвару Сен-Мишель и, проходя мимо кафе «Ла Сурс», наткнулся на молодежь, которая собиралась отметиться в этом известном заведении.
— Да здесь большие люди! — воскликнул кто-то.
Тут Винсен узнал Мюро и Понсека, которые были с двумя неизвестными личностями. Мюро представил своих сотоварищей:
— Вюльмар, Ф.М.[23]; Бреннюир, твой коллега.
И указал на него самого:
— Тюкден, человек, который все читал. Сейчас в Сорбонне.
— По-моему, я видел вас на лекции Брюнсвика, — сказал Бреннюир.
— Возможно. Я готовлюсь к экзамену по общ(ей) фило(софии).
— Я узнал вас по волосам.
— Пора стричься, — сказал Понсек. — А то ходишь с сальными патлами.
Тюкден не отреагировал.
— Может, пойдем с нами? — предложил Мюро. — Мы хотим выпить пива.
Он вместе с Понсеком был одним из самых упорных лентяев в лицее Гавра. Им пожаловали аттестат, словно какой-нибудь военный крест по причине героической гибели их родителей. Теперь они рассчитывали долго-долго сидеть на медицинском факультете и продлить свое пребывание в Латинском квартале до преклонных лет.
Все пятеро устроились в дальнем зале. Два хрыча играли в бильярд — плохо.
— Ну, старина, где живешь? — спросил Мюро.
— На Кабульской улице.
— На Кабульской улице?
— Это в районе вокзала Сен-Лазар.
— Взбрендило тебе там окопаться, — сказал Понсек. — Мы вот живем на улице Гей-Люссака.
— В районе вокзала Сен-Лазар полно борделей, — заметил Бреннюир.
— Да, хватает, — подтвердил Тюкден, хотя не смог бы назвать ни одного адреса.
— Вы знаете Роэля? Он тоже пишет диплом по фило(софии).
— В Сорбонне я его не встречал.
— У него не так много времени там появляться. Он воспитатель.
— Еще один из Гавра, — сказал Понсек, испытывавший местечковую гордость.
— А Ублен что поделывает? — спросил Мюро.
— Он стал медиумом, — ответил Тюкден. — Ест только рис и проповедует воздержание.
Все покатились со смеху.
— Это тот парень с пышной шевелюрой, который был с вами? — спросил Бреннюир.
— Кто же еще? — сказал Мюро.
— Я их обоих запомнил, — сообщил Бреннюир.
Соотечественники снова схватились за бока от хохота. Что касается Вюльмара, то он до веселья не снизошел и хранил молчание. Бреннюир не унимался:
— Вы тоже медиум?
— Ни в коем случае.
— Он бергсонец, — сообщил Мюро.
— Когда пишешь диплом по фило(софии), лучше отказаться от личных взглядов, — заметил Бреннюир.
— У вас их нет? — спросил изумленный Тюкден.
— Они у меня те же, что у преподавателей, так надежнее.
— Мне все равно, какие у них взгляды.
— Это не все равно для экзаменов.
— Бреннюир прав, — вмешался Мюро. — Личные взгляды — залог провала.
— Особенно на Ф.М., — вставил Винсен.
— Он думает, что на Ф.М. одни идиоты, — сказал Вюльмар, внимательно изучая кружку с пивом. — Достал со своей фило(софией).
Тюкден улыбнулся. Лучше было принять это за шутку.
Его знакомые заговорили о юбках. Мюро только что бросил одну девчонку, которая работала у хозяина канцелярского магазина, что на углу улицы Сен-Жак и улицы Суффло. Она за ним бегала, но все без толку, он не хотел с ней связываться. Понсек, как это часто бывает, сох по мулатке, будущей медичке, и ходил взбудораженный и днем, и ночью. Ничего, он готов ждать, сколько потребуется, но в конце концов уложит ее. Бреннюир решительно отверг любовь студенток и теперь восторгался служанками. Он не скрывал, что каждый вечер имеет папину горничную. Вюльмар принялся восхвалять дома терпимости. По этому поводу убежденный антиклерикал Мюро заметил, что церкви следует называть домами нетерпимости. Бреннюир окрестил его омэ[24] и обвинил в том, что фразу он где-то свистнул. Тогда Вюльмар стал уверять, что однажды строил глазки монашке. Беседы вольного содержания продолжились еще немного, затем компания разделилась; студенты Ф.М. отправились в одну сторону, Бреннюир — в другую, а Тюкден — в третью.
Винсен уходил от них, как в воду опущенный. Он корил себя:
во-первых, за то, что иронично отозвался о своем лучшем друге, а это низость;
во-вторых, за то, что не обругал Вюльмара, а это трусость;
и в-третьих, за то, что у других есть сексуальные радости. Весь день он пережевывал горькую правду: он девственник и трус. Вечером, садясь в метро, он решил, что отчаиваться рано, но на следующий день при встрече с Убленом по-прежнему оставался девственником и трусом.
— Вчера видел Мюро и Понсека. Кретины, только юбки на уме. А понту — будто они уже доктора. Тоска слушать.
— Вообще-то Мюро парень ничего.
— С ним был друг Роэля, он пишет диплом. Хвастается, что не имеет личных взглядов. Знаешь, такой парижанин-выскочка.
Ублен не обращал внимания на бухтение Тюкдена, который, заметив это, умолк. Некоторое время они вышагивали молча.
— Будь ты настоящим бергсонцем, — сказал вдруг Ублен, — ты стал бы медиумом.
— Возможно, только я не настоящий бергсонец.
— Ну, я имел в виду, что ты бы интересовался психическими исследованиями. Ты не можешь игнорировать эту часть психологии. Если бы удалось доказать, что душа продолжает жить хотя бы несколько дней, это уже был бы грандиозный результат.
— Мне плевать. Меня интересует только жизнь, жизнь на этой земле. Остальное — досужие домыслы душевнобольных, как говорил Ницше.
— То есть, по-твоему, я больной? А сам Ницше не был больным?
Они дошли до угла бульвара Сен-Жермен и улицы Сен-Жак, когда два сутенера в каскетках и габардиновых синих пальто обогнали их и обернулись. Один сказал:
— Ну и видок у этих двоих, бараны нечесаные.
Второй сказал:
— Противно смотреть.
И оба, посмеиваясь, пошли своей дорогой.
Тюкден и Ублен продолжили спор. При этом Тюкден вернулся домой не менее удрученным, чем накануне. Он замышлял убийство и спрашивал себя: может, Ублен еще трусливее, чем он? При этом Ублен также мечтал о мести и поскольку верил, что мысли материализуются, то старался компенсировать зло своих желаний, испуская астральные формы в нежных тонах.
Семнадцатого числа декабря месяца Винсен Тюкден выпил кофе (один франк), пообедал на сумму пять франков тридцать, купил пачку табака за один франк, коробок спичек за ноль франков двадцать сантимов, дважды проехал в метро (один франк) и купил газету «Журналь». Последняя трата составила ноль франков пятнадцать сантимов.
Восемнадцатого он уехал в Гавр, поскольку начались каникулы и, кроме того, родители переезжали. С первого января они должны были жить на улице Конвента у бабушки Тюкдена, из-за кризиса. В день отъезда обратно он пошел в последний раз взглянуть на море; пытался курить трубку, которую гасил настойчивый дождь. В поезде пассажиры говорили о Ландрю[25]. Неделю после Рождества он провел в отеле «У барабанщика», но, поскольку здесь были его родители, мадам Забор дала ему комнату поприличнее. Неделя была скучная: хлопоты в связи с переездом, семейные выходы. К концу года семейство переселилось, а затем, довольно быстро, укрепились и новые семейные привычки.
VI АЛЬФРЕД
Когда точно начал приходить сюда этот господин, вам знать ни к чему. Важно, что он приходит и каждый раз, приходя, общается со мной, мы беседуем; ему интересно то, что говорю я, ну, а я делаю вид, будто мне интересно то, что говорит он, хотя он никогда не рассказывает, что он делает, кто он такой, откуда он взялся, что ему нужно и какая у него профессия. У меня много клиентов — старые и молодые, мужчины и женщины, толстые и тощие, гражданские и военные. В начале года публика обновляется: одни студенты уезжают, другие приезжают, старики умирают, молодые стареют. Зато в январе месяце ко мне за столики приходят, можно сказать, одни и те же. В этом году здесь регулярно появляется несколько групп молодых людей. Одних заботит политика, другим интересна литература, есть такие, кто говорит о спорте и о женщинах; каждый год одно и то же; что бы ни происходило, представлены, так сказать, все виды. Так было даже во время войны. Я не случайно занимаюсь статистикой. В этом году они такие? Прекрасно! На будущий год ничего не изменится. Одни станут разглагольствовать о литературе, другие — о политике, третьи заведут пластинку о спорте и все будут говорить о сексе, кроме тех, кто носит длинные волосы и что-то о себе мнит, а также тех, кто все больше молчит, так что возникает вопрос, чему они учатся и чем забиты их головы, но, в конце концов, это не мое дело. А еще есть старики — те, что приходят сюда уже лет пятнадцать и посему обросли привычками. А еще женщины. Эти особи — миленькие вертихвостки, которых приводят сюда их дружки; поскольку они все под присмотром, то, честное слово, заработки у них так себе. На месте женщины, которая из-за безденежья пошла в проститутки, я не стал бы стаптывать свои высокие каблучки в Квартале; этим сыт не будешь. Со мной они приветливы; еще бы — чуть ли не целыми днями сидят с кружкой пива, больших чаевых на этом никак не получишь. Если бы все были, как они, моя прибыль за день составляла бы с гулькин нос; тем более что подобная привычка водится в Квартале чуть ли не за всеми. Невероятно, сколько времени люди убивают в таком вот кафе.
В этом году одну вещь я нахожу странной. Никто из молодых людей еще не основал журнала. Кажется, такое происходит впервые. Сколько раз я видел, как основываются журналы! Но теперь вынужден признать, что с ними в Квартале покончено, а передовая молодежь, та, что знает в этом деле толк, больше сюда не захаживает и предпочитает кварталы более «экс-центричные»[26]. Впрочем, это ее дело; сами понимаете, основывают на моих глазах журналы или не основывают — мне от этого ни жарко, ни холодно.
Если вернуться к этому господину, то скажу, что он стал приходить в начале года — учебного года, естественно. Я волей-неволей веду счет по учебным годам: в октябре все съезжаются, в июле разъезжаются. В общем, он начал приходить где-то в октябре. В прошлом году он не приходил. Он приходит то один, то с другим господином вроде него. Оба они пожилые и гладко разговаривают. Мне кажется, что познакомились они не случайно, а потому что он так захотел. Он — это господин, которого я упомянул первым. Его зовут месье Браббан. Второго зовут месье Толю. Так вот, пусть мне это только кажется, но я думаю, что именно месье Браббан захотел познакомиться с месье Толю. Зачем? Меня это, конечно же, не касается, и все же я помню, как однажды зимой месье Браббан спросил мое мнение о том, выгорит ли его дело, а я спросил у него, что это за дело; а он тогда ответил, что это секрет. Я достал из кармана свой блокнот и ответил ему, что есть хорошие шансы, чтобы дело выгорело, но не так, как он думает. Однако он так и не сказал мне, о чем идет речь. В любом случае мой ответ был верным — это точно, что есть хорошие шансы, чтобы дело выгорело, но не так, как он думает. С тех пор я часто вижу их обоих; они приходят к половине седьмого, к семи и вместе пьют аперитив. До этого они играют в бильярд, а после приходят сюда. И так каждый день. Они болтают, и я выяснил, что месье Толю в бильярде посильнее месье Браббана. С некоторых пор они приходят втроем. Они здесь каждый день; я стараюсь сохранить для них столик, они садятся, болтают, пьют перно. Третьего зовут месье Бреннюир. Все трое напоминают старых приятелей, однако я-то знаю, что не прошло и полгода, как они познакомились, или, по крайней мере, знакомы с месье Браббаном, потому что двое других знают друг друга уже давно, поскольку один из них женат на сестре другого. Я называю их свояками, а второй называет первого предпринимателем, потому что тот предпринимает какие-то дела. Понятно, что это игра слов, и это он так насмехается. В общем, они приходят сюда втроем почти каждый день, и я подаю им перно. А они болтают. Обсуждают политику, литературу, погоду, которой следовало бы установиться, а еще ведут разговоры по поводу Ландрю. Спорт, судя по всему, их особо не интересует, а о женщинах они рассуждают, пуская сальные слюнки. Я понимаю, что спорт их не интересует, но о женщинах они могли бы говорить в другом тоне. Разговорами все и ограничивается — что до дела, то они явно поизносились, кроме месье Браббана, который, как мне кажется, бегает за молоденькими. Думаю, это зависит от звезд. Тот, кто родился под одной звездой, сохраняет силы для женщин до преклонных лет, а кто под другой — уже в молодости слабак. И так в жизни всё; мы получаемся теми или иными из-за планет и звезд. А еще нужно учитывать статистику. Естественно, статистику, связанную с лошадьми, рассматривать можно смело, поскольку она официальная, ее печатают. Но когда нужно выяснить, кто занимается любовью, сколько раз в неделю и с каких пор, тут, понятное дело, официальных цифр не будет, и мы вынуждены рассуждать отчасти наугад, без серьезной научной основы. Разумеется, если бы я захотел, я бы и здесь смог прибегнуть к статистике, но я в основном занимаюсь другим направлением науки.
Кстати, о науке; я читал статьи в газетах о немце по имени Эйнштейн и о его относительности. Это сейчас в моде, и, кажется, понимать там нечего. Я слышал, как один господин, утверждавший, будто хорошо в этом разбирается, говорил, что против фактов не пойдешь и что когда на вокзале восемь часов, то в поезде не может быть без пяти восемь, даже если он едет очень быстро. А Эйнштейн так и рассуждал. Похоже, он измеряет скорость времени по пушечным выстрелам, часам в Манчжурии и поездам, идущим во всех направлениях — от этого, в конце концов, голова кругом пойдет. Моя же система будет научной, и с помощью этой системы можно будет обеспечить себе верный выигрыш на скачках. Она будет одновременно основана на магнитных потоках, на положении планет и на статистике, а значит, если все предусмотреть, то точно выиграешь. С моей системой я отыграю все деньги, которые украли у моего отца, плюс проценты, которые натекли, а затем поселюсь в деревне, если только снова не окажусь здесь, но это уже не будет иметь никакого значения.
Если вернуться к Эйнштейну, то я слышал, как молодые люди говорили: это перевернет все принятые до сих пор представления. Но я знаю, что все повторяется, и через десять лет их младшие братья наверняка придут сюда пить кофе со сливками, и их сердца будет будоражить какая-нибудь мучительница или же великая честолюбивая цель, и относительность ничегошеньки здесь не изменит. Ведь я — философ, но никто и не подозревает, сколько может знать о мире старый официант кафе. То, чего нет, ничего не перевернет. Даже хода войны. Я провел войну здесь, помню и «готу»[27], и «Берту»[28], клиентура менялась, захаживали авиаторы и американцы, и, в общем-то, разницы не было никакой, я так и оставался официантом кафе. Этого Эйнштейн и его относительность тоже не изменят.
Если вернуться к предпринимателю, то я заметил одну любопытную вещь: он, кажется, куда более дружен с месье Бреннюиром, чем с месье Толю. Возможно, ему больше симпатичен один, чем другой, если только нет иной причины. В конце концов, я вижу в этом лишь появление у меня компании новых клиентов, верных и постоянных, что компенсирует скудость чаевых, поскольку в этом смысле наши господа не склонны к широким жестам.
В общем, они приходят, возникает публика. Приходят молодые, старики, мужчины, женщины, толстые, тощие, гражданские, военные. А я подаю им напитки. То, что я слышу, и то, что я вижу, нисколько не влияет на то, что я думаю. Я уже все повидал. То, что я слышу, и то, что я вижу, меня не касается. Я подаю им напитки и провожу вычисления. Через два-три года я закончу, моя система будет доведена до ума, и я верну состояние моего отца. После этого я удалюсь в деревню, если только не вернусь сюда, но это уже не будет иметь никакого значения.
VII
Роэль и Бреннюир застали Вюльмара сидящим за кружкой пива.
— Терпеть не могу пиво по утрам, — сказал Роэль.
— Ваше здоровье, — откликнулся Вюльмар и опорожнил кружку.
— А я буду коньяк.
Роэль хотел его поразить, но Вюльмар и не такое видал. Бреннюир попросил кофе со сливками.
— Ну что, промариновали вас с утра по полной? — спросил Вюльмар.
Роэль решил описать, как это было, и попытался нарисовать яркую картину лекции в Сорбонне со стадом молодых ученых ослят и нескладных пташек, не забыв также субъекта, который гримасничал и пускал слюни с кафедры. Он добавлял и добавлял красочности и карикатурности, сатиричности и поэтичности. Но Вюльмар хранил гробовое молчание и сидел с умным видом, придававшим ему значительность. Роэль хотел завязать с ним дружбу, но тот с гроссмейстерской точностью отражал все его атаки. Пришлось уйти ни с чем; одно утешение оставалось — отправиться лопать чечевицу в компании полупансионеров и полных пансионеров.
— Этот парень еще не совсем съехал на фило(софии), — сказал Вюльмар. — Непонятно только, зачем он кривляется. Будто гомик.
— Не похож, — отозвался Бреннюир. — К тому же он влюблен в Терезу.
— Это ни о чем не говорит, — возразил Вюльмар.
Через паузу:
— Тебе бы понравилось, если бы он спал с Терезой?
— Ну и гад же ты.
— А что, резонный вопрос.
Бреннюир пожал плечами.
— Правда, — не унимался Вюльмар. — Чего ты хвастаешься, что Роэль влюблен в Терезу? Во-первых, в следующий раз, когда я его увижу, спрошу, правда ли это, а во-вторых, ты бы не обрадовался, если бы они вместе спали.
— Я? Мне-то что?
— Я тебя знаю. Будь твоя воля, ты не дал бы сестре заниматься любовью, пока она замуж не выйдет, бедная девочка. Как будто ей нельзя до этого немного попробовать. Я не говорю, что со мной — она меня на дух не переносит — но, например, с Роэлем. Была бы хорошая парочка. Могу себе представить…
— Хватит. Я пошел.
— Правильно. Скатертью дорога.
И удержал приятеля за рукав.
— А знаешь, что из всех девушек, которых я встречал, только с Терезой мне хотелось бы заняться любовью?
— Ты меня достал.
Бреннюир вырвал руку и с достоинством удалился.
К обеду его не дождались. Так что он съел чуть теплое рагу, читая газету, а затем выпил кофе с тошнотворным запахом.
— Сегодня было невкусно, — сказал он Мелани, которая стремительно убирала со стола.
— Пришли бы вовремя, или думаете, я буду вам отдельно готовить? — отозвалась добрая старушка-служанка.
Она его тоже достала. Он постучался в комнату Терезы. Ему ответили «войдите»; он решил все-таки войти.
— Что тебе?
— Ничего.
— Тогда зачем мешаешь?
Он сел, водрузив правую лодыжку на левую коленку.
— Ты случайно не получала письмо?
— От кого?
— От одного моего друга.
— Хочешь, чтобы я сказала, не приходило ли мне письмо?
— Именно.
— Какой же ты бываешь дурак.
— Так он тебе написал или нет?
— Кто может мне написать?
— Не скажу.
— Ну и глупо.
Он встал с важным видом.
— Напрасно нос задираешь, — сказала Тереза.
Он закрылся в своей комнате, чтобы написать сочинение о динамизме мышления[29], которое намеревался изобразить в трех пунктах. Остановился на начале второго — подвыдохся. Ему вдруг захотелось повидать в «Майе» приятелей с факультета права, которые, как и он, собирались стать составителями бумаг в каком-нибудь министерстве в надежде вести не обремененную работой жизнь и, возможно, посвятить себя Литературе.
На бульваре Сен-Мишель ему попались косматики. Пожалуй, можно перекинуться с ними парой слов. Он предложил вместе что-нибудь выпить. Ублен взял теплого молока, а Тюкден — кофе со сливками. Бреннюир заказал коньяк, чтобы их поразить. И от дел перешел к словам.
— Мы тут как-то вечером неплохо провели время с Мюро, Понсеком и другими ребятами, вы их не знаете. Поймали Понсека на известной шутке — выколотый глаз, слышали?
Косматики о таком не слышали.
— Кому-нибудь завязывают глаза и заставляют идти с выставленным вперед указательным пальцем. Ему говорят: «Сейчас ты выколешь глаз такому-то». А в это время подставку для яиц набивают смоченным хлебным мякишем. Парень пихает туда палец и думает, что и впрямь выколол приятелю глаз. Мы проделали это с Понсеком. Он потерял сознание.
— Есть отчего, — сказал Ублен.
— Славно повеселились. Пили белое винцо. Мюро и Понсек — хорошие приятели. Потом мы отправились на улицу Блондель. Славно повеселились.
Двое молчали. Бреннюир продолжал, строча, как из пулемета:
— Почему вы не пошли на медицинский? Спорим, я знаю почему? Из-за жмуриков. Я тоже жмуриков терпеть не могу. Представляете, перед тем как перенести их в анатомичку, из них вытаскивают червей, которые ползают внутри.
— Мертвых следует уважать, — сказал Ублен.
— Пф-ф! Что такое труп? Отличная пища для личинок! — заявил Бреннюир.
Тюкден слушал его без тени нетерпения.
— А что ваши, с проеденными мозгами[30]? — спросил у него Бреннюир. — Все читаете книжки этих дуриков?
— Каких дуриков?
— Дадаистов?
Винсен протянул ему книгу, на которую опирался локтями. Бреннюир открыл ее наугад и прочел:
— ДАДА — неуловимость, Подобная несовершенству. Нет красивых женщин, Как нет на свете истин.Неправда. Есть красивые женщины!
— Истины тоже есть, — сказал Тюкден.
— Как же это понимать? — спросил Бреннюир.
— Маска скептицизма. Я как Декарт: Larvatus prodeo[31][32].
— Это несерьезно, — сказал Бреннюир.
— Если бы я принимал Дада всерьез, я не был бы дадаистом, а если бы я не принимал Дада всерьез, я не был бы лейбницианцем.
— Пойду к друзьям в «Майе», — с отвращением закончил разговор Бреннюир. — Отдохну от ваших выкрутасов.
Тюкден был скорее доволен тем, как ему удалось заткнуть рот бывшему ученику заведения имени Людовика Великого, который все детство провел в Париже.
— Омерзительная шутка, — сказал вдруг Ублен.
— Какая шутка?
— Выколотый глаз.
— Это врачебные штучки, — рассеянно ответил Тюкден.
Он попросил дать ему ручку или карандаш и на одном дыхании изобразил общие положения своей философской системы.
1. Философский метод состоит: а) в индивидуальном поиске, который приводит либо к принятию уже существующей системы, либо к созданию новой; б) в согласовании результата собственного поиска и результатов, полученных другими мыслителями.
2. Различие философских систем состоит единственно в различии точек зрения.
3. Признается существование явлений двух видов: одни именуются внешними (чувства, ощущения), другие — внутренними (образы, воспоминания).
4. Все явления наделены двумя свойствами: длительностью и протяженностью.
5. Время и пространство — не что иное, как продукты схематических искажений длительности и протяженности; допустимо рассматривать их как априорно интуитивные факторы.
6. Понятия освобождаются от длительности и протяженности.
7. Наблюдение за внутренними явлениями показывает, что длительность скрывает под собой некую неизменность.
8. Наблюдение за внешними явлениями выявляет составные и делимые объекты.
9. То, что остается постоянным в текущей длительности, русло потока внутренних явлений, есть субстанция.
10. Все, что не является составным и делимым, есть субстанция.
11. Субстанция, выявленная посредством внутренней интуиции, идентична субстанции, выявленной внешним анализом.
12. Не следует путать последнюю с атомом — понятием противоречивым.
13. Субстанция существует вне пространства и времени.
14. Субстанции множественны.
15. Совокупность явлений составляет физический мир; совокупность субстанций (и сущностей) — метафизический мир.
16. Восприятие есть призма, преобразующая метафизический мир в мир физический.
17. Материя проявляется в прохождении организованных субстанциональных форм через эту преобразующую призму. Сопротивляемость есть индивидуальная особенность субстанции. Сила есть стремление к организации.
18. Таким образом, индивидуальная субстанция выступает как нечто бесконечно активное, поскольку преобразующая призма заложена в ней самой.
19. Кроме того, являясь вневременной в метафизическом мире, она, тем не менее, развивается, и это развитие, преобразованное призмой внутреннего восприятия, заставляет говорить о текучести внутренних явлений.
20. Метафизический мир находится вне любых категорий времени, пространства, причинности и т. д., и даже вне субстанции.
21. Любая проблема, возникающая в связи с метафизическим миром, неразрешима, так как язык подчинен категориям. Этот мир останется для нас непостижимым, пока язык будет выступать посредником между ним и нами.
22. Метафизический мир не существует, поскольку существование есть категория.
23. «Субстанция», выделяющаяся из остального метафизического мира, формируется для применения категорий.
24. Мир субстанций (и сущностей), рассматриваемый через категории, составляет мир явлений.
25. «Субстанция», выделяющаяся из других субстанций, рассматривает метафизический мир в прогрессирующем искажении.
26. Бытие-над-Бытием есть метафизический мир; Бытие-утверждающее-Небытие есть мир выделяющихся субстанций; Бытие-Небытие есть мир явлений.
27. Наука и религии суть ограничения метафизики.
28. История есть неподвижное развитие.
Винсен Тюкден не смог удержаться на уровне этих двадцати восьми пунктов. Весна все в нем перевернула. Он зашлепал по черным лужам эрудиции. Читал он теперь только книжные каталоги, библиографии, справочники. Он бродил по улицам, но улицы были всегда одни и те же. Он принялся писать стихи, например, вот такие:
ГИПСОВАЯ СТАТУЯ
Повисла в небе лилового цвета радуга едва заметная наметила нить историй темных из снов мертвецов оскопленных Разноцветных ракет верченью помешать ничто не должно а большие афиши кино приглашают познать приключенья На радость арлекину иностранки цветами черными украсят вещицу диковинную — коловорот странный продырявивший продавщицуОн продолжал готовиться к экзамену по (общ)ей (фило)софии и логике.
VIII
Когда настало время вишен[33], месье Мартен-Мартен ощутил, как в нем пробуждается интерес к женщинам.
— Ох уж эти шелковые чулки, — говорил он, разглядывая ноги своей машинистки, — от них с ума можно сойти.
— Других писем сегодня не будет?
— Если бы я предложил вам вечером вместе поужинать, вы бы согласились?
— Сегодня день рождения моей тетушки, месье. Так что у нас семейный ужин.
— Я так и знал. Нет, мадемуазель, других писем сегодня не будет.
Месье Мартен-Мартен вздохнул. Он поправил бумаги, слегка прибрался вокруг, а затем, надев котелок, вышел. В это время он привык встречаться в каком-нибудь кафе Латинского квартала с двумя своими новыми друзьями: преподавателем истории на пенсии, звавшимся Толю, и его свояком, издателем книг по искусству Бреннюиром. Но в тот день он направился туда не сразу, а взял такси и велел отвезти себя на улицу Пти-Шам к дому 80-бис. Он вскарабкался аж на шестой этаж и встал, тяжело дыша, перед дверью, медная табличка которой указывала на принадлежность этой квартиры некой мадам Дютийель. Он позвонил и вошел.
— Как вас представить? — спросила горничная.
— Хм, и давно вы здесь работаете? — спросил месье Мартен-Мартен, смерив ее взглядом от ягодиц до бюста.
— Нет, месье, всего месяц. Как вас представить?
— Скажите: месье Дютийель.
Она вышла и тотчас вернулась.
— Мадам вас ждет.
Посетитель прошел в небольшую гостиную, напичканную мебелью и безделушками, коврами и подушками. В кресле, обитом тканью цвета перванш[34], сидела старая сводница. Она приветливо ему улыбнулась, сверкнув вставной челюстью и перстнями на пальцах.
— Луи, старина, — сказала она ласково. — Давненько ты не приходил меня навестить.
Он чмокнул ее в лоб и уселся в почтительной позе на вычурном стуле.
— Всю зиму было много дел. А теперь наконец настало время развлечений.
— Они у тебя все те же?
— Что можно изменить в моем возрасте?
Мадам Дютийель задумалась.
— Я вспоминала тебя в последнее время. Подумала: ах, прекрасные дни, скоро Луи придет меня навестить. Я попробовала для тебя кое-что поискать.
— Очень любезно.
— И нашла.
— И что же это?
— Пятнадцать лет. Работает в белошвейной мастерской.
— А, белошвейка… Белошвейка — это хорошо… Белошвейки мне еще не попадались…
— Тебе понравится, вот увидишь.
— Где она?
— Надо назначить время. Когда ты хочешь?
— Чем скорее, тем лучше.
— Постараюсь устроить на завтра.
— Хорошо, завтра… белошвейка…
Он поднялся и снова поцеловал мадам Дютийель в лоб.
— Тогда до завтра, милый Луи, — с нежностью выдохнула она.
Но он не стал задерживаться ради этих бесплодных проявлений скрытой сентиментальности и удалился. Когда он появился в «Суффле», господа Бреннюир и Толю допивали перно.
— Опаздываете, старина, — сказал Бреннюир. — Что это с вами стряслось? Ходили к своим дамочкам, хе-хе?
— Альфред, перно! Надеюсь, вы не бросите меня одного? Альфред, три перно!
— Я ждал вас в «Людо», чтобы поиграть в бильярд, — сказал Толю. — Поскольку вы все не появлялись, я сыграл с молоденьким студентом.
— Побили его?
— Он плохо играл, все время промахивался. Впрочем, я и сам был не в форме.
— Прошу меня извинить, — сказал Браббан. — Мне пришлось сопровождать родственника из провинции, он проездом в Париже.
— Держу пари, что вы водили его в особый дом дурного толка, — сказал Бреннюир. — Особый дом с недурными особами[35], — добавил он, оживившись и по очереди глядя на присутствующих.
— Вас туда явно тянет, — раздраженно отозвался Бреннюир.
— Дорогой друг, я не хотел вас обидеть.
Браббан глотнул своей отравы.
— Бр-р-р! — буркнул он. — А какой был абсент до войны! Как вспоминаю, грустно делается. Теперь от абсента отказались, и думаете, стало меньше алкоголиков[36]?
— Нет, — бодро подхватил Бреннюир, — конечно же нет.
— Кстати, последний раз я пил абсент в девятнадцатом, в Константинополе. Два года тому назад, так вы не поверите — до сих пор чувствую вкус во рту.
— Вы не говорили, что были в Константинополе, — заметил Толю.
— Я вам еще о многом не говорил, — ответил Браббан, подмигивая.
Два его приятеля рассмеялись с таким азартом, какой бывает от двойной порции перно.
— Ха-ха-ха, — веселился Толю.
— Ха-ха-ха, — веселился Бреннюир.
— Ха-ха-ха, — веселились оба, ничего не понимая.
— Ха-ха-ха, — не веселился Браббан. — А как дети?
— Скоро экзамены, трудятся.
— Я точно помню, что ваша дочь готовится к экзамену на бакалавра, к «баку», как теперь говорят, но вот не могу сообразить, как называется экзамен, который будет сдавать ваш сын. Удивительно.
— У него будут экзамены по психологии и морали-и-социологии, он получает диплом по философии.
— Черт побери! Это должно быть ужасно интересно — философия, психология и все прочее. Но и сложно.
Он опустошил стакан, по стенкам которого стекало несколько капель мутной жидкости; маленький кусочек льда, блеском напоминавший тусклый изумруд, лежал на дне, превращаясь в жижу. Браббан стал рассматривать все вместе: капли, стакан, стенки, лед, и сказал:
— Странно, что философии учат детей. Философом становишься с годами. Насмотришься, как я, войн, катастроф, страданий, тогда и начинаешь философствовать. Но на чем может основываться философия восемнадцатилетнего юноши, хотел бы я знать?
— Вы путаете, Друг мой, — вмешался Толю, — путаете.
— Что я путаю?
— Это заблуждение часто бывает у тех, кто далек от университетских занятий. Слово «философия» не всегда означает одно и то же. В Сорбонне под философией понимают определенный набор дисциплин, таких, как психология, социология, история философии, логика, которые не имеют ничего общего с тем, что в обиходе называют философией.
— Что поразительно, — пробормотал Браббан.
— Вот дьявол, уже полвосьмого, — протявкал себе под нос Бреннюир, глядя на карманные часы с секундной стрелкой.
— А психология? — спросил Браббан. — Разве психологу не нужен определенный опыт наблюдения за людьми?
— Все то же заблуждение! Научная психология и психология, как ее понимает обыватель, — это абсолютно разные вещи. И только первая существенна на экзаменах.
— Нам пора идти, — сказал Бреннюир, доставая из кармана жилета мелочь.
— За один круг плачу я, — сказал Браббан.
Толю и его свояк ушли. Философ-обыватель остался один. Подошел Альфред.
— Хорошая сегодня была погода, — сказал он.
— Даже очень хорошая.
— О да. Можно сказать, что даже очень хорошая.
— Послушайте, Альфред. Что вы называете философией?
— Представьте себе, месье, что как-то раз один из молодых посетителей забыл на скамье философский трактат, пособие для экзамена на бакалавра. То есть, сами понимаете, солидный труд. Так вот, месье, оказалось, что это какая-то белиберда. Не говоря уж о том, что там было не все. Например, ни слова ни о магнетизме, ни о планетах, ни о статистике. Удивительно, правда? Кстати, месье, нескромный вопрос: то дело, о котором вы упоминали зимой?..
— Продвигается, спасибо. Надеюсь, что вы не ошиблись.
— Слишком мала была вероятность ошибиться, месье.
— Альфред, у меня новый проект. Проект — громко сказано, но, в общем, скажите, это осуществится?
— Это началось сегодня?
— Да.
— Это тайна?
— Да.
— Деньги?
— Нет.
— Понимаю, понимаю. В каком месяце вы родились?
— В мае.
— Так у вас скоро день рождения?
— Не напоминайте.
Альфред заглянул в свой блокнотик.
— Девять шансов из десяти. Вы получите желаемое.
Месье Браббан улыбнулся.
— Я бы предложил вам выпить со мной.
— Здесь это не принято, месье.
— Знаю, знаю.
— Месье может оставить чаевые.
Месье Браббан улыбнулся.
— Значит, все удастся?
И подумал: белошвейка, белошвейка, белошвейка, белошвейка.
— Знаете, что называют философией в Сорбонне? — продолжил Браббан. — Социологию, логику и прочее в этом роде, но о том, как надо жить — «уот»[37]? Ни слова.
— Как раз об этом я и говорил, месье.
— Ну вот, видите.
Он протянул Альфреду две бумажки по пять франков.
— Благодарю вас, месье. Планеты никогда не ошибаются.
— Хочется верить, хочется верить.
И он бодро вышел, неся котелок на голове.
IX
Его имени нигде не было; значит, он провалился. Это его особо не удивило; он безучастно смотрел на список, словно искал имя какого-нибудь друга. Удовольствие или досада окружающих внушали ему лишь презрение. С безразличным видом он отправился прочь. Чуть поодаль ему встретился субъект, в котором, как ему показалось, он узнал Роэля. Он сомневался из-за своей близорукости; но субъект подошел к нему.
— Тюкден, надо же. Как поживаете?
— Ничего, благодарю. Вы сдали?
— Сейчас выясню.
— А я провалился, — сказал Тюкден.
— Что сдавали?
— Общ(ую) фило(софию) и логику.
— А я записался на психо(логию) и социо(логию).
Тюкден повернул обратно вслед за Роэлем. Тот просмотрел списки допущенных к устному туру.
— Так и есть. Провал, — сказал он.
— Оба экзамена?
— Оба. Бреннюир допущен к психо(логии).
— Не удивительно, — с презрением сказал Тюкден.
— А Ублен? Я не обратил внимания.
— Его тоже засыпали, вот гадство.
— В этом году засыпали уйму народу.
— Хотят поднять уровень образования. Насмешили.
— Что вы сейчас собирались делать? — спросил Роэль.
— Ничего определенного.
— Можно пойти в Люксембургский сад.
Роэль слышал от Бреннюира, будто Тюкден интересуется современной поэзией, а поскольку они оба только что провалились, он готов был испытывать к нему симпатию. Они прошли мимо шляпного магазина, где был выставлен портрет с автографом боксера Жоржа Карпентьера[38].
— С этим деятелем всем уже плешь проели, — сказал Роэль.
— Полная кретинизация, — согласился Тюкден. — Как и любой спорт.
— Спорт разный бывает, — возразил Роэль. — Идиотство — чемпионаты и истерики вокруг них.
— И правда, — вспомнил Тюкден. — Вы же занимаетесь спортом.
В детстве Тюкден от силы раз семь ударил ногой по футбольному мячу; родители запретили ему даже садиться на велосипед, сочтя этот вид транспорта слишком опасным. Зато Роэль умел ездить на мотоцикле, а прежде слыл будущей надеждой «гака» (Гаврского атлетического клуба). После приезда в Париж он забросил спортивные занятия, но вовсе не презирал их.
Они пересекли площадь Медичи и вошли в Люксембургский сад.
— Где вы живете? — спросил Роэль.
— На улице Конвента. Вы ведь знаете, что теперь мои родители в Париже.
— В Гавр летом не поедете?
— Нет. Думаю, останусь в городе.
— А я поеду в Гавр, — сказал Роэль.
— Теперь он уже не тот, — произнес Тюкден. — А во время войны шикарный был город: с англичанами, китайцами, индусами, кабилами.
— И бельгийцами. Противными бельгийцами.
— Они погоды не делали. А помните, как рабочие расправились с кабилами в районе Рон-Пуан? А китайский новый год на площади Тьер?
— И перемирие. Помните перемирие?
Им навстречу попалась женщина. Роэль заглянул ей прямо в глаза. Она выдержала его взгляд и прошла мимо. Они находились у ворот, ведущих на улицу Ассас.
— Что ж, я вас покину, — сказал Роэль.
— Надеюсь, увидимся в первый день учебного года, — сказал Тюкден.
— Я тоже надеюсь. Брошу эту мерзкую работу воспитателя. Стану свободнее, и можно будет чаще видеться. Прощайте.
Они сердечно пожали друг другу руки. Роэль повернул назад. Тюкден замедлил шаг, затем обернулся: да, Роэль шел за той женщиной. Тюкден шпионил за ними издалека, ему было любопытно, и это любопытство его смущало. Роэль догнал женщину и несколько минут не отставал от нее. Тюкден понял, что он ей что-то говорит. Но не мог разглядеть, отвечает ли она. Роэль продолжал идти рядом с женщиной. Они миновали фонтан, затем поднялись по лестнице. Тут Тюкден заметил, что женщина улыбается. Он остановился и стал рассеянно разглядывать кораблики, которые пускали дети. Солнце начинало садиться. Часы на здании Сената пробили пять. Один корабль перевернулся, и послышалось жалобное мяуканье судовладельца. Тюкден повернул на улицу Ассас. В мозгу у него был туман, плотный туман. Мысль работала вяло. Голова была как ватная.
Справа от себя он заметил темную группу, образованную игроками в крикет. Он подошел к ним, шаркая ногами. Пожилые господа с рвением предавались этой своеобразной игре, бурно обменивались репликами, яростно спорили, воздевали руки к небу, изображая отчаяние или триумф. Зрители переговаривались, оценивая удары. Тюкден постоял с ними несколько минут, по самую диафрагму наполняясь презрением к проявлению примитивных чувств. После очередного ловкого выпада, вызвавшего возгласы восхищения, он удалился с ощущением пепла во рту. Ему встретились несколько женщин, которые на него не взглянули. Нескольких женщин он обогнал, но мысль о том, что их взгляд упирается ему в спину, оказалась нестерпимой. Ведь они наверняка исподтишка смеялись над его неуклюжестью.
На улице Ассас он дождался автобуса и сел напротив довольно симпатичной девушки. Он бы на это не осмелился, если бы оставались другие свободные места. Естественно, девушка нисколько его не интересовала. Он смотрел в окно; ему казалось, что другие пассажиры говорят про себя: этот длинноволосый положил глаз на девушку, сидящую напротив; но все было не так, вовсе он не положил на нее глаз. Тюкден взглянул на девушку. Она выдержала его взгляд. Он весь побагровел. Это было невыносимо. Да еще пассажиры пялились. Она вышла на остановке Монпарнас; на ее месте возникло какое-то человеческое существо. Тюкден почувствовал облегчение. Если бы ему не надо было возвращаться к родителям, он вполне мог бы выйти, догнать ее, заговорить с ней. Пожалуй, он ей все-таки понравился. Может, он встретит ее в другой раз в этом же автобусе примерно в этот же час. Ну что он за идиот.
Тюкден вышел на улице Алезиа, поднялся по улице Вуйе и вернулся домой. Консьержка вручила ему книжный каталог — такая теперь приходила к нему почта. Родители ждали его в столовой.
— Ну? — спросил отец.
И правда. Винсен совсем забыл. Он же провалился.
X АЛЬФРЕД
Я прекрасно видел по расположению планет, что он не победит. Поскольку тема была на устах у многих, я тоже ею заинтересовался. По моим подсчетам выходило четко: его должны были побить. Но говорить об этом не стоило, слишком все были возбуждены. Утверждали, что он вздует американца и Францию ждет славная победа. Это говорили все — старые и молодые, толстые и тощие, гражданские и военные. Даже такие серьезные господа, как месье Бреннюир и его друзья, взахлеб обсуждали этот вопрос, пребывая в абсолютной уверенности, что Карпентьер задаст Демпси[39] жару благодаря своему хуку левой и работе ног. Я не мешал их разговорам, но прекрасно видел, что его ждет поражение, причем поражение от кено-каута[40]. Они бы никогда в это не поверили, поскольку Карпентьер был французом. Так что я предпочитал молчать, потому что иначе выглядел бы пораженцем. И это еще что: Эрнест чуть не заехал Жюлю по физиономии, когда тот пошутил над убойным ударом Карпентьера. В общем, все верили в победу. В небе болтался воздушный шар, событие готовились освещать по T.S.F.[41] Предстоял в некотором смысле триумф современных изобретений. Не забудем также о бенгальских огнях, которые предполагалось зажечь и которые не являются современным изобретением, о чем просветил нас на днях месье Толю.
И вот его побили. Американец его кеноутировал. Я видел девушек, которые из-за этого плакали. В тот день люди ходили грустные. И правда, все словно перенеслись в дни боев при Шарлеруа[42], но на этот раз в перспективе не маячило Марнское сражение[43]. Да, люди ходили грустные — старые и молодые, толстые и тощие, гражданские и военные. Зато меня это не трогало. Я знал обо всем заранее, видел по расположению планет. Так что я не грустил, как остальные. Да и месье Браббан был вполне доволен. Он говорил, мол, обидно, что так случилось, Жорж вполне заслуживал стать чемпионом мира, но в глубине души он был вполне доволен. И вот по какой причине. Накануне он спросил меня на ухо: «Кто победит?» И я ответил: «Вы не рассердитесь, если я вам скажу?» Он настаивал: «Скажите, кто победит. Речь идет о пари». И я сказал: «Победит американец». Он взглянул мне в глаза. «Вы уверены в своих планетах?» Прямо так и спросил. «Уверен». Прямо так я ему и ответил. За это он дал мне десять франков чаевых, а сегодня дал еще двадцать. Поэтому-то я и думаю, что в глубине души он вполне доволен, хоть и рассказывает всем, кто хочет это услышать, что случившееся очень печально для нашей страны. И все-таки находятся те, кто не разделяет этого мнения и говорит, что не бокс определяет величие нации, а ее знаменитые ученые, как Пастер или мадам Кюри, или даже Эйнштейн, который теперь есть у немцев и о котором сейчас без конца говорят. В его расчетах столько алгебры, что едва ли найдутся три человека, способные в них разобраться. Мои расчеты тоже достаточно трудны, и разобраться в них способен только я один, однако я не пытаюсь прослыть национальной гордостью. Все, чего я хочу, это отобрать у «Пари Мютюэль»[44] деньги, которые проиграл мой бедный отец. Еще несколько лет, и все будет готово. Тогда я отправлюсь на ипподром и буду действовать со знанием дела, а не вслепую, как некоторые мои знакомые, которые ставят монетку там, монетку сям и в результате к концу года немало теряют. Так что, если кто думает, что официант кафе на старости лет имеет неплохой доход, то напрасно, это глубокое заблуждение, просто никто не учитывает, что такое для официанта игра на скачках. Я же спокойно жду своего часа, а когда возвращается летняя жара, говорю себе, что еще одно или два лета, и я окончательно созрею, как теперь принято выражаться. В общем-то, я без грусти смотрю, как разъезжаются студенты года минувшего, и жду студентов следующего года. Мне все равно есть кого обслуживать, поскольку становится жарко, и это заставляет людей потреблять больше напитков, но все это случайные посетители, иностранные студенты, которые неизвестно чем занимаются во Франции, или же парижане, которые не уезжают на каникулы или уезжают ненадолго и бывают в квартале по какой-нибудь надобности. Месье Браббан как раз из таких; как и месье Толю, и месье Бреннюир, и еще кое-кто. Однако месье Браббан не появляется каждый-каждый день. Бывает, что он отсутствует. Иногда он уезжает более чем на неделю. У него дела за границей — по крайней мере так он утверждает. Пока месье Браббан в отъезде, остальные только скучают и скучают. На самом деле не понятно почему, и все же ясно видно, что они скучают, когда его нет. Если бы они играли в манилью, еще можно было бы сказать, что им не хватает четвертого[45] игрока. Но они никогда не играют в карты. Просто своими рассказами он их очаровывает или что-то в этом роде; словно действует на них своими флюидами.
Что касается дел, которые он ведет, то здесь не все ясно. Можно было бы предположить, что он перепродает предприятия; это хорошее занятие, особенно по нынешним временам; можно неплохо заработать на жизнь, разъезжая вместе со спекулянтами, этими подонками, обогащавшимися в то время, когда остальные шли подставлять шею. Мне прекрасно известно, как это было. Я оставался в Париже всю войну, даже в период «Берты». Видел я их в Париже во время войны — спекулянтов, уклонистов, отпускников, авиаторов, американцев, белобилетников, стариков, вдов, медсестер, шлюх. Уж я-то помню, что это были за типажи. Да, в военное время типажи узнаёшь быстро! В мирное время тоже, но тут я могу говорить только за себя. Если вернуться к месье Браббану, то выглядит он пристойно, говорит еще лучше, особенно о своих путешествиях. Сколько довелось странствовать месье Браббану! Тогда как другие не всегда бывали даже на берегу моря; вот месье Толю, например, прежде чем выйти на пенсию, был преподавателем географии, но вообще не покидал Францию. Трудно поверить, что можно преподавать, ни разу не видев того, о чем говоришь. С философией то же самое. Помню, как однажды месье Браббан рассказал мне, что в школе детей учат философии. Как будто это возможно! Философом становишься с возрастом. Вот я знаю философов, им всем больше семидесяти, и есть среди них такие, кто и писать-то едва умеет. Если вернуться к месье Браббану, то я сомневаюсь, чтобы он был философом. Слишком много лишнего мельтешит у него в голове, как мне кажется, и он увлекается вещами, не соответствующими его возрасту, что отлично видно, когда он вожделенно рассматривает ножки одной из тех особ, что приходят сюда в силу своей профессии. Да и месье Толю тоже не философ, но по другой причине. Он такой безобидный, такой спокойный с виду, и нате вам — в нем с опозданием взыграла профессиональная совесть: он мечтает попутешествовать. Уж не знаю, месье Браббан вбил ему в голову эту идею или она зародилась сама по себе, но он мечтает попутешествовать. Когда он слышит разговоры о кораблях, спальных вагонах или автофургонах, он вздыхает. Да-да, хоть он и старик, он все равно вздыхает. Стоит месье Браббану вспомнить очередную страну, где он, якобы, побывал, как месье Толю уже готов мчаться туда и не только туда. Не так давно он пил здесь перно один. Месье Браббан был в отъезде, а месье Бреннюир сказал, что не придет. Так что месье Толю был один; он попросил у меня расписание поездов, которое я ему принес, а затем более получаса изучал его, пока, в конце концов, оно не потребовалось другому клиенту и мне не пришлось взять книжечку из рук старика. Я спросил его, не собрался ли он в путешествие; он как-то странно на меня посмотрел и ответил, что, возможно, отправится за границу. Но пока не уехал. И, судя по всему, не собирается уезжать. В конце концов, обязательно ли путешествовать, чтобы потом преподавать географию детям? Я подозреваю, что он придумал себе эту блажь, чтобы не поддаться какой-нибудь другой.
XI
Лето было кошмарное.
Четыре месяца Тюкден оставался в Париже один. Совсем один. Он был один, потому что человеческие существа, у которых он проживал, не могли стать для него даже подобием общества. Рядом, но за пределами его мира, родители вели ничтожное существование госслужащих на пенсии, лишенное всякого смысла. Так что все каникулы Тюкден был один, а каникулы в университете, как известно, растягиваются на четыре месяца. В тот год, который был двадцать первым в нынешнем веке, лето тоже продлилось четыре месяца, поскольку октябрь был исключительно хорош.
Об июле у Тюкдена не сохранилось воспоминаний. Позднее он этому удивлялся, пытаясь вытащить из памяти то, что с ним тогда происходило, но так и не вспомнил. Ему всякий раз казалось, что один месяц его жизни был недействительным; тридцать дней выпали, опустошенные забвением, словно глазницы мертвого скота, выскобленные стервятниками. В общем, июль исчез, его проглотила пустота.
Август был более наполненным, но наполняло его одно лишь отчаяние. Тюкден стал осознавать свое одиночество, но не отдавал себе отчета в том, что столь мучительным оно становится из-за его неспособности ощутить собственное присутствие.
Под предлогом жары он обстриг лохмы, сбрил усики и сделал прическу «под летчика». В таком виде он отправился показаться на Елисейских полях, на улице Мира и в других местах. Всюду разгуливали красивые женщины в легких платьях. Тюкден ждал, что какая-нибудь из них кинется к нему на шею. Он прождал до ужина и вернулся перекусить к родителям, которые жили на улице Конвента. Вечером он отважился попытать счастья на больших бульварах. По ним тянулась обезвоженная толпа: высунутые языки, прелые ноги… На углу улицы Ришелье его позвала проститутка: «Пойдем, красавчик?» Он смутился, развернулся и от Оперы прибыл на площадь Сен-Мишель маршрутом A-I. Затем снова отправился бродить. Возле Одеона он увидел перед собой существо женского пола, которое перемещалось легкими шагами. Больше на улице никого не было. Он догнал существо и пролепетал: «Простите, мадемуазель». Девушка, которую он попытался зацепить таким манером, обернулась и спросила: «За что?» С виду она была младше некуда. Тюкден сказал «простите» и перешел на другую сторону. Сел в метро на станции «Сен-Жермен-де-Пре» и вернулся ночевать к родителям, которые жили на улице Конвента.
Утром он бродил по квартире; днем он бродил по Парижу; вечером бродил по страницам книг. Книги он читал в изобилии, получив абонемент у Тронша, на улице Дюпютрен. Он ходил туда каждый день, затем сидел у фонтана Медичи, затем отправлялся бродить по городу, выбирая то один, то другой путь. В тот год женщины были красивы. Они укоротили юбки. Лето было чудесное. Каждый вечер Тюкден возвращался домой в отчаянии. Именно тогда он записал эту прустовскую цитату, которую сам сочинил:
«Я был неспособен к искренности. Если случалось мне порой представать перед самим собой таким, какой я есть или, по крайней мере, каким я себе кажусь, я тщился описать это на бумаге: быть может, из-за недостатка цинизма и не исчерпанной до конца стыдливости, казавшейся мне тогда донельзя смешной — я считал ее фальшивой ценностью и, чтобы с большей легкостью ее осуждать, путал ее с отталкивающим нарочитым целомудрием, ненависть к которому привило мне большинство моралистов; или, быть может, моя тщеславная душа не могла допустить, чтобы я письменно засвидетельствовал имевшиеся у меня недостатки, которые ее немало мучили. Так, я чувствовал, что неспособен определить мои мысли и поступки по отношению к женщинам, поскольку не соглашался письменно признаться, каким в тех или иных обстоятельствах было мое поведение, на поверку казавшееся мне глупым и свидетельствовавшее о чрезмерной робости, которую я пытался преобразовать в безразличие по отношению к тому, чего больше всего желал, как будто если я напишу, что был глуп, робок или смешон, то сам этот факт умножит унижение, испытываемое мною от признания за собой данных черт, или же упрочит принижающие меня недостатки, не давая мне, таким образом, однажды от них избавиться».
Не получая желаемого, он по-прежнему презирал то, чего желал больше всего. Вечером, после семейного ужина, оставшись в одиночестве, он смаковал свои страдания до тех пор, пока боль не становилась столь острой, что рассеивалась сама собой, поскольку не могла подняться выше достигнутого предела. Затем, в полном изнеможении, он ложился спать, а на следующий день все начиналось сначала. Тогда он принялся стенать по поводу того, с какой монотонностью протекают его дни, так похожие один на другой; они не оставляли ему никакой надежды. Аскетом он был по собственной слабости, а сам восхищался кипением чувств. Он прочел «Топи» и «Яства земные»[46], весьма одобрил оба произведения и пытался растормошить себя фразами вроде этих: «Есть вещи, которые приходится проделывать заново каждый день просто потому, что ничего другого не остается; в них нет ни прогресса ни даже движения»[47], или: «Анжель, милая, вы все же не находите, что в нашей жизни не хватает настоящих приключений?»[48], или еще: «Надо жить ярко, Натанаэль, а не спокойно существовать»[49]. Он читал и другие книги, много других книг.
Затем настал сентябрь.
Тюкден больше ни о чем не думал. И не страдал. Успокоился. Стал гулять по Парижу. Попробовал ходить в музеи, но предпочитал улицы. Он тщательно готовил долгие маршруты, которым точно следовал. Он двигался вдоль, поперек, кругами, зигзагами. Сегодня он пересекал город с севера на юг, а завтра пробуравливал его с востока на запад. Он кружил по бульварным кольцам. Прочесывал один за другим каждый округ, но не отваживался заглядывать на маленькие улочки, в тупики, под своды. Он боялся улиц с проститутками и все время думал о том, какое впечатление производит его присутствие на обитателей исследуемого квартала. По какой бы новой улице он ни шел, каждый раз она давала ему пищу для восторгов. Затем его взволновал вопрос изменения облика городов и формирования их очертаний. Он даже сочинил об этом небольшое стихотворение, более исчерпывающее, чем долгий рассказ:
Париж — тот что нам полюбится не тот что любили вы Неспешно бредем по улицам Их скоро забудут, увы Заковыристая топография! Города закоулки! Устаревшие расписания! Как трудны в былое прогулки! Без плана перед глазами Нас понять — непростое бремя Ведь в этой игре вместе с вами Ищем утраченное мы времяВ Париж приехал Чарли Чаплин. Сгорели новые магазины «Прентан». В туннеле Батиньоль сошел с рельсов поезд. Октябрь принес ясное, совсем свежее солнце. Винсен Тюкден продолжал убивать время. Продолжал ни о чем не думать. Его восторги рассеялись, и теперь он трезвым взглядом оценивал размер лобных долей великих личностей, как мертвых, так и живых. Лежа кто в могиле, кто в постели, великие личности даже не икали. Винсен Тюкден не прощал им никакого превосходства. Пусть говорят, что гениям, мол, никто не нужен: он не хотел этого признавать. Для него не осталось героев. Каждый вечер он возвращался ужинать к родителям, которые жили на улице Конвента.
И вновь он оставался лицом к лицу с самим собой. Вокруг него лежали руины. Его жизнь по-прежнему была спокойной и горькой. Он и сам все больше походил на эти руины. Перестал интересоваться чем бы то ни было. А однажды заметил, что разлагается. Он взял листок бумаги, написал «я разлагаюсь» и вверху поставил время: двадцать три часа тринадцать минут. Через несколько дней ему попалась следующая фраза: «Ничтожество ваше все более велико, ничтожные вы людишки! Разлагаетесь, привыкли к комфорту, а кончите тем, что умрете». Но умирать он не хотел.
Октябрь месяц продолжал быть таким, каким еще не бывал — эдакие погожие деньки. Винсен Тюкден вдруг принялся разрабатывать грандиозные проекты, устанавливать себе распорядок дня, придумывать планы работы. Он будет ходить на лекции в Коллеж де Франс, в Высшую учебную школу, на филологический факультет и факультет естественных наук; он выучит три-четыре живых языка и четыре-пять мертвых, знание которых представлялось ему необходимым; короче, каждый вечер он возвращался ужинать к родителям, которые жили на улице Конвента.
К концу месяца Ублен написал, что возвращается из Гавра. Прежде чем встретиться с ним в «Кафе де ла Сорбон», Винсен Тюкден зашел к парикмахеру подстричься. Он редко ходил к одному и тому же цирюльнику дважды: вечно его обкарнывали, получалось совсем не то, что он хотел. Тюкден ненавидел это болтливое и властное племя. В тот день его выбор оказался особенно неудачным. Он попал в руки извращенца и не смог отказаться от завивки. Когда все завершилось и творец выпустил произведение из рук, Винсен разглядел себя в зеркале и ужаснулся кудряшкам, колыхавшимся у него на голове. Его чуть не стошнило. Какую-то секунду он думал не ходить на встречу. Поразмыслил и в конце концов решился. Жан Ублен уже ждал. У него по-прежнему были длинные-предлинные волосы.
— Привет, старик, — сказал Тюкден, присаживаясь.
Он положил на скамью шляпу. Ублен принялся внимательно его изучать.
— Ну и видок у тебя, — изрек он.
Тюкден покраснел.
— Ну, как дела? Каникулы в Гавре ничего?
— Пф-ф, — фыркнул приятель, рассеянно разглядывая кудряшки.
— Роэля видел?
— Несколько раз встречал, но мы почти не разговаривали. Он устроил два-три небольших скандала — в казино и еще кое-где. По пьяному делу. Мюро рассказал про пьянки во всех подробностях. Он тоже был в компании с Роэлем, так что ходил гордый, как индюк!
— Что они натворили?
— А я почем знаю? Плевать мне на их глупости.
Тюкден удивился его недоброму настроению.
— Ты с ними не Ходил?
— С этими недоумками? Ты еще спрашиваешь?
— Я просто так сказал. Значит, ты там ни с кем не встречался? Со скуки не подох?
— Нет, а ты? Чем ты занимался?
— Я? Читал, гулял. Ой, да много было дел.
Ублен не стал спрашивать, каких именно. Зато Винсен спросил:
— А ты что поделываешь? По-прежнему интересуешься запредельным?
— Да, по-прежнему. Увлекся, как никогда. Знаешь, я кое-что обнаружил. Кажется, кое-что обнаружил. Рассказываю тебе об этом, потому что ты мой друг. Представляешь, как смеялись бы над этим гаврские недоумки. Рассказываю, потому что ты мой друг. Ты моих взглядов не разделяешь, но ты мой друг. Представляешь, как смеялись бы над этим все остальные. Эти в Гавре, например. Или профессора в Сорбонне. Вот уж они бы посмеялись.
— Да в чем дело? Над чем бы они смеялись?
— В общем, я медиум.
Ублена растащило на откровенность. Тюкден понемногу отхлебывал пиво из кружки, периодически фыркая.
— С чего ты так решил?
— Этим летом я занялся опытами. По сути, спиритизм — вещь научная. Ну вот, и летом я занялся опытами. Мне показалось, что я могу быть медиумом. Хорошим медиумом. Мне показалось, что я создан, чтобы общаться с умершими. И знаешь, несколько контактов у меня уже было. Рассказываю тебе, потому что ты мой друг. Представляешь, как смеялись бы остальные, эти недоумки, если бы узнали.
— Да. Еще бы.
— Несколько контактов у меня уже было. Но это ни о чем не говорит. Я общался с Виктором Гюго и Толстым. Но это ни о чем не говорит.
— С Виктором Гюго и Толстым?
— Да. Но это ни о чем не говорит. Вообще, знаешь, чего я хочу? Знаешь, с кем я хочу пообщаться?
— С кем? С Жанной д’Арк?
— Дурак. С моим отцом.
— Ах, с отцом…
Тюкден подумал, что его сейчас вырвет — настолько ему было не по себе. И это его лучший друг! Наверное, он изменился; они оба изменились. От этих рассказов тошнота выворачивала Тюкдена наизнанку.
— Мне хотелось бы пообщаться с отцом, — продолжал Ублен. — Отец умер, но мне нужно с ним поговорить. Нам обоим нужно поговорить. Помнишь, однажды мы с Мюро и Понсеком пошли на прибрежные скалы? Это была очередная идея Мюро. Мой отец болел, помнишь? Я тебе говорил. Но я не знал, что это настолько серьезно. Когда мы вернулись, было очень поздно. Помнишь? Мы понимали, что родители будут нас ругать. Ты еще трясся. Все думал, как тебя встретит твой папаша. А когда я вернулся, мой отец был мертв.
Тюкден сказал «м-м-м» и втянул в себя пену, которая таяла на дне кружки. «Вот ведь зануда,» — думал он, чтобы преодолеть дурноту, и снова сказал «м-м-м».
— Ты ничего не понял, — сказал Ублен.
— Понял, понял.
— Нет.
— Вы звали? — спросил официант.
— Нет, — сказал Ублен.
— Я возьму еще кружку, — сказал Тюкден. — А ты больше ничего не будешь?
— Нет, спасибо.
Официант удалился.
— Тюкден, ты хоть понимаешь, о чем я?
— Да, старик, конечно.
— Тебе это понятно? Я хотел бы поговорить с отцом. Это так просто. Почему вдруг мне это не удастся? Правда, знаешь, кажется, я медиум. То есть, могу им оказаться.
Официант принес пиво. В этот момент вошли Роэль и Вюльмар. Не прошло и четверти часа, как они встретились, и Роэлю только-только удалось преодолеть то расстояние, на котором Вюльмар от него держался.
Вюльмар подсел за столик к двум философам с подчеркнутой неприязнью. Роэль приберег это чувство только для Ублена.
— Ну вот, начинаем новый учебный год, — сказал он со смехом. — Что, результаты не слишком блестящие? А мне начхать на результаты. Баллом больше, баллом меньше…
Он говорил это без всякой цели, просто бахвалился перед Вюльмаром.
— Вы учитесь на медицинском? — спросил у Вюльмара Тюкден.
— Бросил. Один врач в семье — это уже перебор.
Он имел в виду своего отца, знаменитого профессора.
— Я хочу сказать, что сейчас изучаю право, — продолжил он, — по мне, так этого достаточно. Вы по-прежнему на фило(софии)? Тычетесь носом в книги? А я отправляю книги в ведро. Что библиотечная крыса, что больничная — не хочу быть ни тем, ни другим.
Роэль был в восторге от Вюльмара. Он взял книгу, которую Тюкден положил на стол. Это был «Феонас»[50].
— Интересуетесь томизмом?
— Да, но не только.
— Это ж надо — жить ради идей!
— Они так будоражат, — сказал Тюкден.
— А я никогда не воспринимал идеи всерьез, — сообщил Роэль.
Тюкден взглянул на него с возмущением. Роэль, фанфаронствуя, залпом выпил все пиво. Винсен все же спросил, какой у него адрес.
— 81 по улице Монж.
— Как тебя туда занесло? — презрительно фыркнул Вюльмар. — Вот я живу в Ля Вилетт.
— В Ля Вилетт?
— Квартал — супер. Там многие не дураки помахаться! Приходите — убедитесь.
— Вы что, правда живете в Ля Вилетт? — спросил Роэль.
— Квартал — супер, — повторил Вюльмар. — Каждый вечер кого-нибудь бутузят. Вот вчера видел, как сцепились два хмыря. Это было что-то. В конце концов один из них всадил два пальца в моргала другому. От души всадил. Тот перестал видеть. А первый уложил его, двинув ботинком в живот. Тут объявились легавые, и он смылся. Короче, квартал — супер.
— Да уж, — с восторгом согласился Роэль.
Ублен поднялся.
— Я пошел, — сказал он.
Остальные не стали его удерживать. Тюкден рассеянно пожал Ублену руку.
— Если бы ваш приятель прошелся с такими волосьями по набережной Вальми, — заметил Вюльмар, — наверняка какие-нибудь шутники опрокинули бы его в канал.
— Он ходит, как ему нравится, — сказал Тюкден.
— Он ходит, как ему нравится. Вы тоже: взяли — завились.
— Естественно, — сказал Тюкден.
— Достало меня это бистро, — заявил Вюльмар. — Да и вообще, мне пора. У меня встреча в баре «Шатам».
Он встал, бросил на стол сложенную в шестнадцать раз стофранковую бумажку и двинулся прочь.
— Ну, он дает, — сказал Роэль.
Тюкден так не считал.
XII
Мадам Дютийель гадала на картах. В дверь постучали. Она сказала: «Войдите». Это был он.
— Ну что, не понравилась тебе малютка?
— Не то чтобы не понравилась. Поначалу все складывалось недурно, но потом пошло из рук вон плохо. Всё время казалось, будто ей со мной скучно. Мне бы надо малышку неглупую, с воображением. А твоя белошвейка ничего не могла сделать сама. В общем…
Он вздохнул. И добавил:
— Вот и зима не за горами. Зима будет скверная, совершенно скверная.
— Кто тебе сказал?
— Знакомый официант.
— А он почем знает?
— Он предсказывает будущее.
— Гадает на картах?
— Нет, ему обо всем сообщают звезды. И расчеты большой сложности.
— Я бы познакомилась с твоим официантом.
— Тс-с-с! Это невозможно. Это наш с ним секрет.
— Ладно, ладно. Сыграешь в пикет[51]?
— Не могу, моя радость, нет времени. Важная деловая встреча.
— Можно узнать с кем?
— С одним спекулянтом, который доверит мне некоторую сумму, чтобы я нашел ему квартиру.
— Ты ему что-нибудь найдешь?
— Нет. Это зажравшийся боров. Разбогател, пока другие подставляли шею на фронте. Он одноглазый, на войне не был. Мерзкий нувориш.
— Ты всегда надуваешь только тех, кто тебе не нравится.
— Как правило. Так что нельзя сказать, что я их надуваю.
— Я все спрашиваю себя, почему ты не пытаешься сорвать куш посолиднее?
— У меня скромные запросы.
— Ну и напрасно, — сказала мадам Дютийель. — Но тщеславие еще может тебя подтолкнуть.
— Хо-хо, — откликнулся месье Дютийель. — Как бы то ни было, с белошвейкой вопрос закрыт, да? Теперь я успокоился до следующего года.
Он приложил губы к ее порочному лбу и вышел. Спустился по улице Сен-Рош до улицы Риволи, проехал в метро до станции «Отель де Виль». Обожравшийся боров должен был ждать его в кафе на углу Стекольной улицы. Но едва месье Дютийель свернул на Архивную улицу, как увидел большое гудящее скопление людей. Сперва он связал это с каким-нибудь дорожным происшествием или незначительной потасовкой, но пришлось с досадой констатировать, что кафе, где у него была встреча, находилось в самой сердцевине этого муравейника.
— Что стряслось? — спросил он в никуда.
— Кого-то убили, — ответили ниоткуда.
Обеспокоенный месье Дютийель подошел ближе, прорезая толпу своим белым жилетом. Он слышал вокруг себя нарастающий гул от разговоров:
— Человека убили.
— Женщина.
— Женщина выцарапала ему глаза.
— Облила кислотой.
— Мужчина проломил ему череп.
— Неправда. Он откусил ему ухо.
— Зверское преступление.
Полицейские успокаивали население. Вскоре послышался звон колокола машины «скорой помощи»; она затормозила перед кафе. Новые полицейские силы принялись маневрировать по ногам прохожих. Дверь кафе приоткрылась. Шеи вытянулись. Месье Дютийель протиснулся в первый ряд. Два добровольца пронесли здоровую тушу с обмотанной бинтами стонущей головой. Тушу затолкали в карету «скорой», которая раззвонилась и исчезла. Месье Дютийель узнал своего нувориша.
— Не везет мне нынче, — пробормотал он.
Ему не доставляли удовольствия возбужденные комментарии соседей. Тем временем полиция, закончив опрос, без всякой осторожности принялась разметать толпу, которая стеклась полюбоваться на криминальщину. Хозяин бистро закрывал заведение от ротозеев. Месье Дютийель подошел ближе.
— А, месье Блезоль, — обратился к нему хозяин, — знаете, что случилось?
— Может, расскажете?
— Ладно, заходите, месье Блезоль. Но я за вами закрою. Если впустить сюда эту шоблу, они растащат все мои кии. Ах, какой ужас, какой кошмар.
В кафе оставалось лишь несколько старых клиентов. Месье Блезоль их всех знал. Они встретили его восклицаниями, в которых гордость перемежалась с испугом.
— Ну что, может, расскажете? — попросил месье Блезоль.
— Ладно, слушайте. Вы ведь знаете месье Тормуаня, одноглазого? Так вот, он сидел тут с нами и пил. Честно говоря, он уже слегка набрался — кажется, дошел до третьей порции перно. В общем, мы рассказывали анекдоты, поигрывали в манилью, как вдруг заходит такой странный фрукт и хочет купить почтовую марку. Странный, потому что у него волосы были по пояс, хуже, чем у всяких художников-малевателей. И тут месье Тормуань, который на предмет шуток сегодня явно был в ударе, говорит: «Надо же, Авессалом[52]!» Естественно, это рассмешило и нас, и даже тех, кто катехизиса не нюхал и со священной историей не знаком. Парень сделал вид, что не слышит. Он ждал сдачу. Тогда месье Тормуань повторяет громче: «Ну, точно говорю: Авессалом!» Мы опять рассмеялись, а моя жена, она еле сдерживалась, чтобы не расхохотаться в лицо этому экземпляру. «Парикмахеры на таких молодцах не разбогатеют», — не унимался месье Тормуань. Мы снова в хохот. Парень получает свою марку, лижет ее и наклеивает на конверт. Тогда месье Тормуань добавляет: «Волосы-то красивые, но всю пыль, небось, собирают». Мы хохочем, а моя жена чуть не описалась, настолько это было смешно. Ну, а этот экземпляр открывает дверь и уходит; он был красный как рак, делал вид, что улыбается, но внутри, должно быть, кипел — сами посудите. «До свидания, Авессалом, — крикнул ему месье Тормуань, — если у тебя мамочка совсем бедная, я куплю ей стригальную машинку». Понятное дело, все давай хохотать. Парень вышел и закрыл за собой дверь, тихо-спокойно, а мы снова принялись играть, как вдруг — не прошло и пяти минут — длинноволосый возвращается; он закрывает дверь, подходит к стойке и просит кружку пива. Тут месье Тормуань как ни в чем не бывало, просто так, уткнувшись носом в карты, говорит: «Надо же, Авессалом вернулся». Только представьте, как мы все снова покатились. Аж бутылки зазвенели. Зато парень не смеялся. Вид у него был суровее некуда. «О, — сказал ему месье Тормуань, — мы хотим поссориться? Ходим с такими прелестными локонами — и недовольны?» В этот момент никто не подозревал, что сейчас произойдет, мы только покатывались со смеху, и было отчего; так вот, месье Блезоль, знаете, что произошло? Этот экземпляр подходит к месье Тормуаню и вдруг — раз! — всаживает ему в глаз ножичек. Ей-ей, не вру. Я даже видел, как этот ножичек заблестел. Ох, как орал месье Тормуань. Моя жена хлопнулась в обморок, а парень слинял так быстро, что и след простыл. Испарился, словно его и не было. А месье Тормуань продолжал реветь и заливал свой пиковый туз тем, что текло у него из глаза. Ножичком пырнул, художник-малеватель. Раз — и в глаз, как говорится. Бедный месье Тормуань, он теперь слепой.
— Ужасно, — сказал месье Блезоль.
— Да уж, есть отчего ужаснуться.
— Надеюсь, мерзавца, который это сделал, гильотинируют, — подала голос супруга хозяина кофейни.
— Его надо поджарить на медленном огне, — сказал кто-то.
— Преступников мало наказывают, — добавил еще кто-то.
— Бедный месье Тормуань, — вновь подхватил хозяин, — он теперь слепой.
— Первый глаз он потерял на войне? — спросил кто-то любопытный.
— Как бы не так, — ответил кто-то недобрый. — Во время войны он разбогател, пока другие надрывались. Потому и окривел, вот так-то!
— Его могли призвать хотя бы на нестроевую, — сказал кто-то неизвестный.
— Несправедливость была, есть и будет, — проговорил какой-то субъект.
— Это не мешает преступникам всегда оставаться безнаказанными, — добавила какая-то личность. — Закон на их стороне. Взять хотя бы Ландрю…
Месье Блезоль оставил их рассуждать и вышел, бормоча «это ужасно». На улице месье Дютийель проворчал: «Две тысячи — мимо носа». В «Суффле» месье Браббан спросил у официанта:
— Скажите, Альфред, сегодня был благоприятный день?
— Смотря для чего, месье.
— Вы правы. И вообще, если обо всем этом думать… Вам никогда не случается ошибаться, Альфред?
— Да как-то так, месье…
— Что ж, Альфред, — сказал Браббан, удовлетворенный таким ответом, — дайте мне перно и «Интранзижан[53]».
XIII
— Вы читали, мадам Шоз? Ландрю приговорили к смерти.
— Да пусть его хоть сто раз приговорят, мне от этого ни жарко, ни холодно, и вообще, думаете, у меня есть время читать газеты?
— У меня тоже нет времени, мне рассказал приятель.
— Развели бодягу — подумаешь, десяти теток не стало!
— А как же женская солидарность, мадам Шоз?
— Надо же, скажите, какие мы галантные.
— Кажется, вас внизу кто-то спрашивает.
— Что надо? — ревет мадам.
— Месье Ублена нет?
— Нет! Собрал манатки и уехал, вернулся в Гавр. Это все, что вы хотите знать?
— Спасибо, мадам, — отвечают снизу.
— Студент вчера убрался восвояси. Сказал, дома неприятности. Ну и пусть катится, а то пугал мою дочурку своими космами.
Смена времени. Смена места.
— Привет, Вюльмар, как дела? Похоже, ты решил бросить медицину?
— Ну да. Кстати, читал, что Ландрю приговорили к смерти? Ты еще всем вкручивал, что его не существует.
— Конечно, не существует. Это все спектакль. Ландрю придумали, чтобы пропихнуть Версальский договор[54]. Публика была занята Ландрю, а не будущим Франции.
— Мюро, дорогой, ты в душе — Жанна д’Арк.
Смена времени. Смена места.
— Ну как, — говорит Роэль, — уже знаете, что «они» приговорили его к смерти?
— Да. Сволочи.
— Крестьяне и торгаши посмели осудить такого замечательного человека! Рассказать вам историю? Он переодевался в маркиза и обходил всех своих подруг[55]. Каждой он говорил: «Простите, но я всего на пять минут. Понимаете… бал-маскарад».
— А воспоминания Фернанды Сегре в «Журналь» читали? Когда она сообщила ему, что война кончилась, знаете, что он ответил? «Слишком рано».
Смена времени. Смена места.
— Ну вот, месье, «его» приговорили к смерти.
— Бедняга, — вздыхает месье Мартен-Мартен.
— Как, месье, вам его жалко?
— Я уверен, что он невиновен.
— Тогда вы единственный, кто в это верит.
— Да, я убежден, что он невиновен.
— Кстати, хотел вас спросить: вы помните, что говорили мне вчера?
— Что я вам вчера говорил?
— Обещали выплатить долг за два прошлых месяца.
— Это совсем некстати. Денежки уплыли из-под носа. С моим клиентом произошел несчастный случай. Подождете до следующей недели?
— Я кормлю престарелую мать, месье, и двух маленьких братишек.
— У вашей матушки были поздние дети?
— Одиннадцатимесячные, месье.
— Какая остроумная девочка! Ну, прямо парижский воробышек!
Смена времени. Смена места.
— Вы не читали об этом в утренней газете? — спрашивает очень взволнованный месье Толю.
— О чем именно? О смертном приговоре Ландрю?
— Ну, нет, нет. Ужасный случай в хронике происшествий. Не читали?
— Да нет же, — отвечает месье Бреннюир.
— Какой-то художник-малеватель выколол глаз прохожему, который смеялся над его мазней.
— Правда? Какой кошмар.
— Этот жуткий случай произошел возле Ратуши. Наверняка художник изображал какой-нибудь живописный уголок, их в этом квартале полно. Впрочем, здесь не все ясно, поскольку журналист говорит, что это гнусное нападение произошло в кафе.
— Знаете, Толю, журналисты всегда переиначивают события.
— Я еще не сказал вам самого страшного. Дело в том, что прохожий уже был кривой.
— На другой глаз?
— На другой глаз!
Смена времени. Смена места.
— Ну как, твоей матери лучше? — спрашивает Мюро.
— Да, — отвечает Понсек. — Кстати, знаешь, кого я встретил в Гавре?
— Нет. А ты слышал, что Ландрю приговорили к смерти? Устроили фарс!
— Угадай, кого я видел в Гавре.
— А еще я только что встретил Вюльмара. Он и правда бросил медицину.
— Спорим, не догадаешься, кого я видел в Гавре сегодня утром?
— Ублена?
— Откуда ты знаешь?
— Просто угадал.
— Вот как? Представляешь, он подстригся.
— Да ну?
— Едет в Бразилию. Похоже, дядя подыскал ему место в какой-то кофейной компании.
— Что ты мне мозги компостируешь?
Смена времени. Смена места.
— Здравствуйте, господа. Альфред, перно.
— Здравствуйте, мой дорогой. Ну, и что вы думаете об этом смертном приговоре?
— На самом деле не было ни одного доказательства, — говорит Браббан.
— Ну, не совсем, не совсем, — говорит месье Бреннюир.
— Я вам уже столько раз втолковывал, что не было ни одного доказательства.
— Возможно, вы не так уж не правы, — говорит Толю. — К тому же поджарить мертвых женщин в печи ничуть не хуже, чем оставить кривого без глаза.
— О чем это вы?
— Вот, посмотрите хронику происшествий.
Смена времени. Смена места.
— Ты знал, что Ублен уезжает в Бразилию?
— Кто тебе это сказал?
— Понсек. Он видел его в Гавре сегодня утром.
— В Бразилию… — произносит Тюкден.
Смена времени. Смена места.
— Наверное, это был кубист, как вы считаете?
Смена времени. Смена места.
— Он уехал в Бразилию. Вот так — сегодня здесь, завтра там. Все бросил и отчалил.
— Поверить не могу.
— А мы не можем оторваться от наших старых привычек, от Сорбонны, от Латинского квартала, от Святой Женевьевы, от кафе…
— И от улицы…
— …Конвента.
Смена времени. Смена места.
— Из-за этой сволочи я потерял 2000 франков. Пусть он мне только попадется! А спекулянтишка Тормуань теперь слепой. Мне везет, как утопленнику. Дожил до таких лет, а все получаю щелчки по носу. У меня и впрямь слишком скромные запросы.
Смена времени. Смена места.
— Вы не находите, что приговор несправедлив, мадемуазель?
— Кто вам позволил со мной заговорить, месье?
— Я видел, что вы читаете газету. Меня очень интересует мнение женщин о деле Ландрю.
— Не представляете, какая тоска читать газеты. И вообще, я с вами не разговариваю.
— Если вам тоскливо, можно пойти посмотреть «Малыша» в «Макс-Линдере».
— Это еще что?
— Фильм Шарло[56].
— Боже, как скучно, — говорит она.
Смена времени. Смена места.
Время действия — ночь; место действия — комната в Париже. Винсен Тюкден представляет, как Жан Ублен отправляется в Бразилию. Нас терзают морские ветра[57]. Приключения в тот год были в моде. Им посвятили маленький журнал. Винсен Тюкден двенадцать раз перечитал «Песнь экипажа» и остался в Париже.
Смена времени, смена места.
Время действия — ночь; место действия — судно. Ублен стоит в классической позе, опершись на леер, и смотрит, как вдали исчезают огни города. Теперь он в кофейной фирме.
XIV АЛЬФРЕД
Ну вот, на этот раз все кончено, его приговорили к смерти. Я такой поворот предвидел, как предвижу и то, что его гильотинируют. Все это прочитывается в расположении планет и в моих расчетах; мне понадобилось лишь взглянуть на них, чтобы увидеть, что произойдет. Месье Ландрю будет гильотинирован. Месье Браббана, судя по всему, очень взволновал этот приговор; он не верит в виновность осужденного. И спорит со знанием дела: наверняка прочел все, что написали об этом в газетах. Само дело, безусловно, загадочное, и было бы ужасно, если бы голову отрубили невиновному. Он ничего не сказал и больше ничего не скажет. Месье Браббан надеется, что его помилуют. Но я-то прекрасно знаю, что надежды нет: его голова полетит в корзину. Я имею в виду, голова месье Ландрю, а не месье Браббана. Чем дальше, тем более занятным кажется мне этот клиент. Он такой же загадочный, как месье Ландрю, но только по-своему, что меня лично не удивляет, потому что под влиянием планет в нашем мире одновременно вращаются личности, слепленные из одного материала; но каждый из них в своем роде неповторим. Благодаря планетам и расчетам, которые я провожу, мне прекрасно видно, что существуют целые сообщества людей, которые никогда не встречались, и я воспринимаю месье Браббана как брата месье Ландрю. Я ни в коем случае не хочу сказать, что месье Браббан режет женщин на кусочки и сжигает их в домашней печи, если предположить, что именно так все происходило в Гамбэ. Я также не хочу сказать, что в его жизни есть тайна того же свойства, что и в жизни месье Ландрю. Нет, но походят они друг на друга, как два брата. В сущности, я прекрасно знаю, что за тип Браббан. Мне это хорошо известно; я уже не желторотый птенец. У меня есть некоторый жизненный опыт, который позволяет распознавать людей, различать с первого взгляда планеты, которые ими управляют, видеть, в какую статистическую группу эти личности определены, под каким статистическим определением группируются. С месье Браббаном все очень просто: он жулик. Я бы даже добавил — мелкий жулик, примитивный жулик, жулик мелкого пошиба. Надо признать, что месье Ландрю из того же теста. Месье Ландрю тоже был примитивным жуликом, жуликом мелкого пошиба. Разумеется, его случай особый — все-таки этот человек уничтожил десять женщин и одного подростка, но я сразу увидел, какой он породы. Месье Браббан точно такой же, но и у него наверняка есть нечто особое, иначе он не был бы месье Браббаном. У него есть имя, а имя многое значит. Что следовало бы выяснить, так это какого рода жульничеством он занимается. Время от времени он просит у меня совета. «Как вы думаете, удастся ли мне провернуть это дело?» Но он никогда не говорит, о каком деле идет речь. Еще он страстный игрок. Если бы открыли казино «Энгьен», он был бы там на следующий день; он всегда готов держать пари по любому поводу. У него совсем не такие повадки, как у месье Бреннюира и месье Толю. Эти играют только в бильярд или в пике. Вот в чем разница.
Мне отлично видно, в чем особенность предпринимателя: он почти каждый день пьет аперитив с двумя господами. Вместе с месье Толю он часто отправляется поиграть в бильярд в квартале. Скоро год, как они знакомы. Я все отлично помню. Месье Браббан виду не показывал, но он искал знакомства с этими господами. Получил свое, но ничего не изменилось. Я рассудил так: не месье Толю ему нужен — этот на человека при деньгах не тянет, ему куда более интересен месье Бреннюир. У того наверняка денежки припрятаны, а месье Браббан предложит ему поместить их в выгодное дело, например, в шахты Конго или в выделку кроличьих шкурок в Новой Зеландии. Такие дела известны. Но до сих пор ничего похожего между ними будто бы не произошло, и, следовательно, никак не доказано то, что месье Браббан — это месье Браббан, а не кто-то другой.
Во всяком случае, это длится уже двенадцать месяцев. Все началось с началом зимы, с началом года. И вот новая зима, а это трио по-прежнему здесь; есть и новенькие — молодые люди, которые тоже начинают заводить свои привычки, а также подхватывать венерические болезни от вертихвосток, которые приходят сюда посмолить сигаретку. Кроме того, в нынешнем году основали несколько небольших журналов, но их основание происходило уже не здесь. Вообще-то, эти вещи меня не касаются, но я говорю о них, чтобы осознать ход времени: так входит в наше сознание появление плащей, жаровен, торговцев каштанами и людей, топчущих мертвые листья на асфальте в ожидании трамвая под дождем. С временами года не поспоришь.
Я по-своему философ и, наблюдая сезонные перемены, говорю себе: о, сейчас повторится это, а затем вот это, и все происходит именно так и не иначе. Если только нет катастроф, войн или эпидемии испанки, но даже они не застанут меня врасплох. Все дело в планетах. Круговорот планет подобен круговороту людей. Я неподвижен, а вокруг вращаются блюдца, бутылки с аперитивом, люди; в одном круговороте с месяцами и временами года. Я стою на месте, это они совершают круг и возвращаются. Их это более-менее устраивает. Я их вижу и одновременно не вижу. Только знай себе заканчиваю с расчетами, чтобы отправиться, наконец, на ипподром для исполнения того, что мне предначертано; ибо таков мой удел. Я самолично прочел о своем предначертании по звездам. Очень удобно, когда делаешь это сам, когда не приходится никого ни о чем просить, а значит, разрешать посторонним совать нос в свои дела. Каждый раз я буду выигрывать, так мне предначертано, цифры начертали это в небе с помощью крошечных огоньков.
Какие же странные бывают предначертания. Я подумал об этом в тот день, когда Ландрю приговорили к смерти, а точнее, на следующий день, когда об этом написали в газетах. И подумал не в связи с месье Ландрю (хотя мог бы), а в связи с одним кривым, которому какой-то тип выколол единственный глаз. Заметка в хронике происшествий не на шутку взволновала месье Толю — взволновала намного больше, чем смертный приговор месье Ландрю. Происшествие было пересказано из рук вон плохо. Толком не ясно, что произошло. Это остается загадкой. В любом случае кривой теперь стал слепым. Вот оно, предначертание! До чего же предначертание странная штука! Я предполагаю, что этот кривой каждый день приходил в одно и то же кафе, возможно, в течение лет двадцати, — это просто предположение. Изо дня в день он появлялся и появлялся, как солнце каждое утро или звезды каждый вечер, и совершал годичный цикл вместе с временами года. Когда раскрывались первые листья, он, должно быть, говорил «весна пришла», а когда они падали в грязь, наверное, произносил «зима наступила». Один и тот же официант каждый день подавал ему один и тот же аперитив, и старик, несомненно, рассчитывал, что так будет продолжаться еще долго, возможно, он ожидал — всегда. Теперь все закончилось. Все ожидания рухнули. Однако это наверняка можно было прочесть по звездам, но кто подумал на них посмотреть?
Когда я вижу, как вращается вокруг меня мой крошечный мир, я думаю о том, что однажды предначертанное свершается; и тогда кто-нибудь уходит. Иногда для этого требуются годы и годы. Некоторые превратились в стариков, из раза в раз повторяя природные циклы, оседлав свой очередной день рождения, как деревянную лошадку. При виде такого постоянства можно подумать, что они не остановятся никогда, что ось у них смазана превосходно и колесо их жизни не перестанет вращаться. Но однажды предначертанное свершается. Иными словами, однажды они умирают. Те, кто помоложе, крутятся здесь не так долго, а когда исчезают, это означает, что они крутятся теперь в другом месте. Я же в природные циклы не вовлечен, и смена времен года меня не затрагивает. Времена года зависят от положения планет, а поскольку их путь мне известен, то я словно иду вослед времени. Завсегдатаи ни о чем не подозревают, и от этого мне иногда хочется рассмеяться.
XV
Библиотека Сорбонны отапливалась гораздо лучше, чем библиотека Святой Женевьевы; поэтому Роэль не нашел там ни одного свободного места. Он ненавидел библиотеки, однако несколько часов назад проникся решимостью серьезно подготовиться к экзаменам и в связи с этим считал своим долгом отправиться читать фундаментальные труды — а именно, труды господ профессоров, чтобы хоть немного представлять себе, что полагается думать о языке, об инволюции, противопоставленной эволюции, о первобытном сознании, о кастах в Индии, о модальностях оценки или о последнем этапе платоновской философии. Такое рвение к работе совпадало с тем обстоятельством, что Роэль жил теперь с одной цыпкой, с которой познакомился в тот день, когда она скучала перед чашкой кофе со сливками; он пошел на хитрость, пригласив ее в кино, а теперь они жили вместе, и это длилось уже восемь дней.
Итак, Роэль убедился, что свободных мест нет. Неудачно, однако, начинал он новую учебную жизнь; была уже половина пятого. Для работы оставалось полтора часа; без двадцати пять он появился в Святой Женевьеве. Там было не так тепло, зато не проверяли студенческие билеты, так что читатели все равно подтягивались. Атмосфера была более строгая, чем в Сорбонне, но также более тусклая и слегка гнилостная. Роэль обошел столы, разглядывая девиц, и уселся напротив студентки-с-большими-глазами-и-растрепанными-волосами, которая читала одно из изданий «Фуане»[58]. Он достал из кармана несколько листков, с шумом их скомкал и разнообразными гримасами попытался привлечь внимание девушки; но прилежная студентка подняла глаза раза два, не больше.
Теперь ему предстояло выбрать произведение и попытаться получить его у недоброжелательных хранителей, вприпрыжку бегавших между стеллажами. Вслед за ними семенил разношерстный читатель, готовый выдержать любые унижения, лишь бы ощутить в руках желанный том ин-октаво[59]. Каждый раз, когда Роэль отваживался сюда прийти, у него были неприятности с местными «послами по особым поручениям». Он принялся смотреть картотеку в поисках шифра. Вот еще одна вещь, которую он ненавидел. Замусоленные картонные карточки вызывали у него отвращение. Наконец, он оформил требование и, вручив его хранителю, в свою очередь повторил его перемещения. В конце концов он получил труд «в собственные руки». Поникший Роэль вернулся на свое место; тут он заметил Тюкдена, который уткнулся носом в какой-то томище.
— Ну что, как дела? — спросил у него Роэль.
Тюкден что-то промямлил; он не любил, когда его заставали врасплох.
— Что это вы читаете?
— О, это старая книга, — ответил Винсен, закрывая ее.
Приятель не стал настаивать.
— Вы уже уходите?
— А вы?
Роэль увел его прочь. Они спустились по улице Кюжас.
— Много работаете?
— Бывает. Но в основном то, что я делаю, не имеет отношения к программе.
— А что вы сейчас читали?
Тюкден улыбнулся.
— De vita propria[60] Кардана[61].
— Кто вас надоумил это прочесть?
— Бейль. Никогда не читали его «Словарь»[62]? Удивительная вещь.
— К черту это все! Эрудиция вас погубит, старина. На фига вам сдался «Словарь» Бейля? Я берусь за такое старье, только если это есть в программе.
— Ну вот, теперь вы с Бреннюиром рассуждаете одинаково.
— Нет, в самом деле, вы серьезно относитесь к диплому по фило(софии)?
— Нет, конечно.
— Так в чем же дело? Зачем убивать время над старыми книгами? Лучше бы их сжечь. В огонь Святую Женевьеву — всем только легче будет! Спалить все эти паучьи сети.
— Может, и Лувр заодно?
— И Лувр!
— Я уже читал подобное в дадаистских журналах, — сказал Тюкден. — Только вот, дадаисты так ничего и не сожгли. А книга Кардана — произведение необыкновенное, и спрашивается, во имя чего вы помешали бы мне ее прочесть?
— Не собираюсь я тебе мешать. Правда, это хоть чуть-чуть интересно?
— Да. Очень современно.
— Надо будет почитать.
— Знаете, вам бы стоило прочесть «Рожок игральных костей»[63]. Потрясающе. Вся современная поэзия идет от Макса Жакоба и Аполлинера.
— Это не тот тип, который переменил веру?
— Тот. Но это никак не влияет на поэтическую значимость его книги.
— Естественно.
— Вообще-то я атеист, — внезапно сказал Тюкден.
— Зайдем сюда?
Они сообщили Альфреду о своем желании выпить пива.
— Кстати, как Ублен? — воскликнул Роэль. — У тебя нет от него новостей?
— Никаких. Думаю, и не будет. Он ведь уехал.
— Какая-то невероятная история. Что с ним произошло?
— Ничего. Просто уехал, и все.
Роэль посчитал ответ изящным.
— Что ты делаешь вечером? Поужинаем вместе?
— Меня ждут родители.
— Родители? Брось ты их на один-то вечер. Уже не маленький.
— Понимаешь, они вообще неплохие. Не хочу, чтобы они волновались.
— Так позвони им.
— У них нет телефона.
— Отправь им пневмописьмо.
— Где будем ужинать?
— Посмотрим.
— Хорошо, отправлю им пневмописьмо. Зайдем на почту на улице Дантона.
Несколькими минутами раньше Роэль начал изучать старенького господина, сидевшего за соседним столиком; вошли еще два стареньких господина и направились к первому. Роэль расслышал его имя. Это был не кто иной, как Бреннюир-старший.
— Ого, Пилюля, — сказал Тюкден, который как раз узнал Толю.
— Сматываемся, — предложил Роэль, подзывая официанта.
Они вышли прежде, чем старый преподаватель успел их заметить, но Роэлю хватило времени, чтобы узнать также третьего старика; это был тот самый Мартен-Мартен, к которому он ходил наниматься секретарем. Но точно ли это он? Бреннюир-старший назвал его другим именем. Старый дурак Бреннюир, который рассердился на Роэля из-за несчастной бутылки коньяка…
Перед книжным магазином Креса он остановился.
— Посмотрю новые книги, пока ты сходишь на почту.
Тюкден решил про себя, что тоже их полистает, но когда отправил письмо, встретил Роэля в дверях почты. Роэль потащил его в сторону улицы Месье-ле-Принс и там достал из-под полы плаща небольшую книжную стопку. Одну из книг он показал Тюкдену, это был «Рожок игральных костей».
— Это ты советовал мне прочесть?
— Это. Что ты еще купил?
— Купил? Брось, за кого ты меня принимаешь?
— Ты их украл?
— Ну да, можешь прокричать об этом на всю улицу.
Тюкден промолчал.
— Они там слепые, — продолжал Роэль. — У Пикара повесили зеркала, так что брать стало гораздо труднее. У Креса я что хочу, то и беру, но у Пикара, естественно, куда интереснее. Никогда не пробовал?
— Думаю, мне бы ловкости не хватило.
— Понимаешь, главное — все делать быстро. Сейчас зайду к себе, положу книги.
Роэль свернул на углу улицы Расина.
— Мы не идем прямо?
— Нет. Ой, да, забыл тебе сказать. Я теперь живу на улице Кардинала Лемуана.
— Ты ведь жил на улице Гей-Люссака.
— Люблю, знаешь ли, перемены, и потом, осточертели гостиницы. Теперь я снял меблированную комнату с кухней.
— И пользуешься ты этой кухней?
— Естественно. Без нее мне было бы не протянуть. Столовок с меня тоже хватит.
Они пошли дальше, все так же болтая ни о чем и испытывая друг к другу неодинаковые чувства. Поднялись по высоким ступеням старой темной лестницы, затем Роэль пинком распахнул приоткрытую дверь. На кровати сидела женщина и поднимала петли на чулке.
— Сюз (так требовало называть себя это существо), это мой приятель.
Роэль положил книги на стол. Тюкден стоял на пороге; он был несколько удивлен. Сюз встала, поцеловала Роэля, затем взглянула на Тюкдена:
— Вы смотрите на меня, как на июльский снег!
Она громко рассмеялась, и они пожали друг другу руки.
— Поскольку Тюкден вечером свободен… — начал Роэль.
— Так вас зовут Тюкден? — перебила Сюз. — Чудное имя.
Она всегда так говорила; ей было лень запоминать имена собственные.
— Поскольку Тюкден вечером свободен… — снова начал Роэль.
— Обычно вы по вечерам заняты, месье? — спросила Сюз; изображая хозяйку дома, она вставила это «месье» в последний момент.
— Ну вот, он сегодня свободен. Так что…
— Вы тоже студент, месье?
— Черт! Ты дашь мне договорить?
— Ладно, ладно, я поняла, сегодня мы ужинаем не дома. Сейчас надену шляпку, и идем. Надеюсь, мы выпьем аперитив.
— А то! — сказал Роэль.
Тюкден листал «Рожок игральных костей», пытаясь найти стихотворение под названием «Фантомас»; когда нашел, показал Роэлю, который прочел и принялся просматривать книжку, издавая короткие восторженные возгласы.
— Все, я готова, — сообщила Сюз.
— Подожди, — сказал между тем Тюкден Роэлю, — прочти еще вот это.
Он нашел другое стихотворение и показал приятелю, а Роэль стал читать его вслух.
— Ладно, бросьте вы, наконец, эту книжку, — нетерпеливо потребовала Сюз.
— Мы идем, — сказал Роэль, отрываясь от сборника.
Он выключил газ и закрыл дверь на два оборота. Сюз и Тюкден ждали снаружи, не произнося ни слова.
— Ну что, куда пойдем? — спросил Роэль.
Сюз предложила кафе в Квартале; Роэль категорически возражал. Бистро в Квартале осточертели. Лично он был за «Версальское кафе». Поскольку Тюкден был не против, а Сюз лишь слабо возразила, они вскочили в случайно подошедший автобус «Z». Поездка прошла в почти гробовом молчании. В кафе они заказали аперитив. Мужчины набили трубки, а Сюз закурила сигаретку. Вокруг громко разговаривали: клиентура была провинциальная, приправленная несколькими шлюхами. Снаружи зубы стучали от холода; внутри было тепло, хорошо. Афиши анонсировали рождественское меню. Официанты, будто привидения, перемещались в тумане тройственной природы: человеческой, этиловой и никотиновой. Подвешенный в пространстве, словно мишень, управляющий наклонял голову то в одну, то в другую сторону.
Дойдя до половины стакана, Роэль и Тюкден почувствовали себя лучше.
— А ты сам пишешь стихи? — спросил первый из них.
Тюкден помялся.
— Да.
— Печатал когда-нибудь?
— Нет.
— Никогда не пытался?
— Нет.
— Дал бы мне почитать.
— Кроме шуток, — сказала Сюз, — вы поэт? Черт побери!
— Каким, по-твоему, должен быть поэт? — спросил у нее Роэль.
— Ты опять в своем репертуаре. Ждешь, когда я скажу, что поэт носит большую черную шляпу и завязывает бантом галстук, а потом будешь надо мной издеваться? Нет, малыш. Я знаю, что так теперь наряжаются только фотографы. С поэтом я однажды познакомилась в «Ротонде». Он путешествовал только в спальных вагонах, кололся морфием и жил на деньги женщин, вот так-то, малыш.
Роэль и Тюкден легли на стол от смеха.
— Вот именно, он жил на деньги женщин и был поэтом, причем современным.
— Ты видела своего современного поэта случайно не в «Мон фильм»?
— В «Ротонде», я же сказала.
— Во всяком случае, я на поэта вряд ли похож, — сказал Тюкден.
— О, конечно нет, что вы, — воскликнула Сюз, в восторге от такого прямодушия.
— А на кого он похож? — спросил Роэль.
— На студента, на кого же еще?
Тюкден поморщился. Роэль потер руки.
— Вот видишь, пусть у тебя не останется иллюзий.
— Куда пойдем ужинать? — спросила Сюз.
Роэль предложил «Дюгеслен», совсем рядом. Там было не слишком дорого, а кормили, на его вкус, неплохо. Тюкден всегда ужинал только на улице Конвента, и ему казалось, что он пустился в настоящую авантюру. Зато Сюз очень хотела есть; в полдень она съела лишь рогалик и выпила кофе со сливками.
В ресторане они заказали два графина розового Анжу, плохонького вина, которое, как всем известно, ударяет в голову. Сюз хотела после ужина пойти в дансинг; Роэль был не в настроении. На самом деле он не умел танцевать, но не решался в этом признаться. Тюкден, с которым была та же история, объявил, что его устраивает новое предложение Сюз. Можно пойти в «Ротонду» выпить по стаканчику. Может, даже удастся встретить того самого поэта.
Тюкден и Роэль, которые были в этом кафе впервые, играли роль непринужденных завсегдатаев и старались ни в коем случае не пялиться вокруг, будто провинциалы при виде негритянки или субъекта в тюрбане.
— Надо же, а вот и Кики[64], — сказала Сюз. — Она натурщица.
Три-четыре раза Сюз приходила сюда с парнем, который небрежно указал ей, кто есть кто в заведении; теперь она гордо повторяла урок. Тюкден строго раскритиковал полотна, висевшие на стене. Оба заговорили о живописи; они в ней мало что понимали, зато цитировали имена. Предпочтение отдавали кубистам.
— Ты видела кубистские полотна? — спросил Роэль у своей подружки.
— Естественно, — ответила Сюз. — Может, ты думаешь, что я из дремучей провинции? Я сумею отличить Брака от Пикассо. Слопал? Я, видишь ли, общалась с подкованной публикой.
— Брака от Пикассо отличить нетрудно, — сказал Тюкден.
— Уж вы-то наверняка во всем разбираетесь лучше остальных.
— Он все знает, — сказал Роэль. — Все читал, даже произведения Жерома Кардана. Жерома Кардана читала?
— Да идите вы с вашими книгами!
— Вот и я сказал ему то же самое. Ты слишком много читаешь, эрудиция тебя погубит, кончишь библиотекарем.
— Это еще неизвестно, — отозвался Тюкден.
Сюз зевнула.
— Кроме шуток, что, если нам пойти в «Бюлье»?
— Не сегодня, — ответил Роэль. — И потом, в «Бюлье» тоска. Сплошные студенты.
— А ты что, не студент?
— Все равно, умножить студента на десять — получится десять придурков.
— Хорошо, что вас только двое.
— Сюз, детка, как логично ты умеешь рассуждать. Тюкден, в свою очередь, заскучал. Сюз подозвала официанта и заказала еще один кофе со сливками. Ее спутники взяли пиво. Блюдца сложили стопкой.
— В сущности, — произнес Тюкден, переходя к рассуждениям более общего порядка, — логика получила отменный щелчок по носу.
Роэль не ответил. Сюз зевнула.
Тут вошел Вюльмар с видом человека, занятого поисками человека. Он заметил трио и сначала решил, что лучше его не замечать; но заметив, что трио его тоже заметило, направился к нему. Поздоровались. Роэль представил Вюльмара своей подружке, а подружку Вюльмару.
— Я всего на пять минут, — заявил, садясь, вновь прибывший.
Он заказал виски, что весьма впечатлило обоих философов.
— Ну, что поделываете? — спросил Вюльмар.
Обращался он исключительно к Роэлю. Тюкден его не интересовал.
— Да так, ничего особенного, — вздохнул Роэль. — А вы?
— По-прежнему изучаю право, — ответил Вюльмар с иронией.
Ирония, безусловно, состояла в том факте, что он, Вюльмар, что-то делал.
— А чем вы еще занимаетесь? — спросил Роэль, который это понял.
Вюльмар улыбнулся.
— Я кое-кого искал, но здесь его нет, так что пойду теперь в кафе «Под куполом». Если бы его и там не оказалось, я бы прокатил вас на своем «амилькаре», но у меня только два места. Так что до скорого!
Он проглотил виски и поднялся.
— Можно договориться о встрече, — сказал Роэль.
— До января у меня все забито.
— Тогда какого числа?
— Третьего подойдет? Часов в семь в «Критерионе»?
— Договорились.
Вюльмар оплатил заказ, оставив смачные чаевые. Попрощались рукопожатием. Он вышел.
— Потрясающий парень, — воскликнул Роэль. — Вы так не считаете?
— К тому же «амилькар» быстро ездит, — сказала Сюз.
XVI
Вюльмар прождал несколько минут, затем машинистка пригласила его войти. Месье Мартен-Мартен, забаррикадировавшийся за письменным столом, указал ему на стул.
— Меня прислал мой друг Роэль, — начал Вюльмар. — Он посоветовал мне попросить место секретаря, которое вы ему предлагали. Сам он к вам не пойдет, потому что сейчас у него хорошая работа, от которой он не может отказаться.
Месье Мартен-Мартен как будто удивился.
— Я не знал. Что это за работа?
— Он воспитатель.
— Наверняка у каких-нибудь богатых людей?
— Вероятно.
Месье Мартен-Мартен улыбнулся.
— Я подумал, что вы друг месье Роэля.
— Разумеется, мы видимся очень часто.
— Однако вы поступаете с ним нехорошо.
— Возможно, я оказываю ему услугу.
Молчание.
— Он не забыл о своем визите ко мне примерно год назад?
— Еще бы.
— Я пытаюсь его вспомнить. Этот молодой человек — блондин, очень худой и во время разговора жестикулирует?
— Похоже на него.
— В таком случае, я видел его на днях в «Суффле».
— Он вас узнал.
— Об этом-то я и подумал.
— И, видимо, поэтому написали ему.
Молчание.
— Я не задаю вам вопросов. Мне о вас уже кое-что известно.
— Ну, понимаете, месье Браббан, то, что может сказать на мой счет месье Бреннюир…
— Вы, однако, не сразу решились его упомянуть. Но имейте в виду, здесь этого имени не знают.
— Хорошо, месье.
— Наверное, я всерьез озадачил вашего друга.
— Да нет, не настолько. В полицию он на вас не заявит.
— С какой стати он стал бы это делать? Эх, молодежь, вечные романтики! Немало людей используют чужое имя, законом это не возбраняется. Вам должно быть об этом известно, раз уж вы изучаете право. Если хотите знать, Мартен-Мартен — имя моего бывшего компаньона. Но я хочу вам также сказать другое; вы мне только что солгали, у вашего друга нет хорошей работы.
— Будем называть вещи своими именами: я солгал.
— Надеюсь, в последний раз. Я требую от своих служащих соблюдения высоких нравственных принципов.
— Значит, я могу считать себя вашим секретарем?
— Вы немедленно вступаете в должность. Будете также моим шофером, ведь, насколько мне известно, у вас есть небольшой «амилькар», который, возможно, мне пригодится.
— Сколько вы положите мне в месяц?
— Мы к этому вернемся.
В дверь постучали. Машинистка объявила, что месье Роэль просит его принять.
— Скажите, что я просил его прийти в пятнадцать ровно; сейчас пятнадцать ноль семь. Я нашел ему замену.
Было слышно, как по другую сторону двери Роэль пытается возражать; затем створка захлопнулась.
— Какого рода работу вы мне поручите? — спросил Вюльмар.
— Вот я и думаю, — ответил Браббан.
Он встал.
— Черт побери, вот я и думаю, что бы вам поручить! Не буду скрывать: понятия не имею! Черт побери!
Он передвигал один за другим предметы, которыми был завален его стол. И никак не мог извлечь из себя то, в чем хотел сознаться. Поэтому молчал, только глотка клокотала. В конце концов он отрыгнул признание:
— Представьте себе, молодой человек, что однажды, совершенно внезапно, я стал честолюбив. Это обрушилось на меня, как ледяной душ, как кирпич на голову. Вы только вдумайтесь, молодой человек. В моем возрасте заявить «хватит посредственности»! Феноменально, сногсшибательно, правда? Да. Теперь у меня есть честолюбие и шестьдесят восемь молодых лет! Вы не представляете, как это может быть! К черту мелкие делишки и ничтожное жульничество, я хочу проворачивать большие дела! Еще не поздно; взять Клемансо[65], какой славный пример. У меня впереди по крайней мере лет пятнадцать, и не буду от вас скрывать, молодой человек, что через год надеюсь составить состояние, громадное состояние. Так что видите, насколько интересно место, которое я вам предлагаю. Мне нужен молодой секретарь. Да, мне нужен молодой секретарь, у которого была бы напористость, дерзость, хватка, а главное — высокие нравственные принципы. Думаю, вы отвечаете всем этим условиям, месье Вюльмар. Но прежде, чем наш контракт будет заключен окончательно, вы должны обязаться, primo, хранить все в полном секрете, это естественно; secundo, прекратить видеться с друзьями из Латинского квартала и как можно меньше посещать кафе на бульваре Сен-Мишель и в его окрестностях, что, возможно, будет для вас прискорбно; tertio[66], не спать с моей машинисткой. Договорились?
— Договорились, месье.
— Мне не терпится проворачивать большие дела, — вздохнул Браббан.
— С чего начнем?
— Черт побери! Я вам уже сказал, что не представляю. Совершенно не представляю.
Браббан подумал.
— Пожалуй, я мог бы научить вас азам, или, по крайней мере, тому, чем я обычно занимался раньше. Раньше — имеется в виду не так давно. Я с вами кое-чем поделюсь, чтобы вас подготовить, а также показать мой стиль. Можем начать с приема «глухой». Это просто и забавно. Вы садитесь в кафе рядом с какой-нибудь милой дамой и просите ее вместо вас позвонить, потому что вы, мол, туги на ухо, а сами уходите с ее пальто, или с сумкой, или с чемоданом. Существует прием «мужской костюм» и «телефон», прием «провинциал» и «такси», прием с чемоданом, полным иностранной валюты, с плевком в плечо и масса других, которые я знаю, но не практикую. Вы набьете руку, приобретете хладнокровие, но это все, естественно, детские игрушки. Не задерживайтесь на этих пустяках, месье Вюльмар. Надо смотреть широко, очень широко и не разбазаривать время на ерунду. Это просто учеба, а не призвание. Быть может, вы еще этого не знаете, месье Вюльмар, но есть одна ужасная вещь: нежелание тратить усилия. Я знаю людей, которые однажды опробовали какой-нибудь простой прием, у них получилось, и они повторяют его бесконечно, всю жизнь.
Молчание.
— И я так делал. Ужасно. В конце концов деревенеешь. И мне нужен кто-нибудь молодой, чтобы преодолеть эту одеревенелость. Жду вас завтра в три, месье Вюльмар.
— В три?
— Да, сперва мы будем работать только во второй половине дня. Забыл одну вещь: не пытайтесь внушать мне ваши идеи. Я буду осуществлять только свои собственные. Понятно?
Вюльмар вышел, Браббан впал в полное изнеможение. Все происходило не так, как ему бы хотелось; от навязавшегося секретаря, похоже, добра ждать не приходилось — по здравому размышлению Вюльмар показался Браббану неприятным. Он просидел без движения до сумерек; а с наступлением темноты поспешил прочь. Как там слепой? Месье Блезоль доехал на такси до Архивной улицы, спокойно проложил себе путь сквозь восхищенную толпу, которая выходила из здания универмага «Базар Отель де Виль». В дверях кафе он на мгновение замер в нерешительности. Узнал голоса некоторых завсегдатаев. И вошел.
Слепой был там. Все такой же жирный, он опирался обеими руками и подбородком на здоровую трость, а глаза его были спрятаны под темными очками. Сидел он рядом с квартетом игроков в манилью, трое из участников которого были его бывшими партнерами; они нашли ему замену. Слепой внимательно выслушивал то остроту, то комментарий, то ругательство. И добавлял свою, свой или свое. Он заставлял объяснять ему каждый ход и грустно качал башкой, поскольку считал, что без него игра идет из рук вон плохо.
Месье Блезоль подошел. Картежники его узнали.
— Что-то вас не видать, — сказали они.
— У меня были кое-какие дела в провинции, — ответил Браббан.
— Ого, месье Блезоль, — воскликнул слепой. — Что-то вас не видать!
— Дела в провинции, — повторил Браббан.
— Садитесь же, — сказал Тормуань. — Вы уже знаете, что со мной случилось?
Но прежде чем собеседник успел ответить, он принялся рассказывать об «ужасном нападении, жертвой которого он стал». Один из игроков, сочувствуя Блезолю, поводил тыльной стороной руки у лица[67], украдкой давая понять, какую безграничную тоску имеет обыкновение наводить месье Тормуань. Больше всего последнего возмущало то, что газеты так быстро перестали говорить о его ужасном злоключении.
— Похоже, это было только в хронике происшествий. Такой ужас, а они выдали это в хронике происшествий! И знаете почему? Никогда не догадаетесь почему. Значит, вот почему: потому что в тот день все газеты были посвящены Ландрю. Как раз тогда его приговорили к смерти. Иначе я занял бы первую полосу, прославился бы вовсю. Так вы не в курсе? Я-то себя успокаиваю. Говорю, что по-прежнему жив-здоров, зато Ландрю — чик — оттяпают голову и зароют на шесть футов в землю с этой самой головой в руках. В общем, спасибо на том, что есть, — вот как я себе говорю.
Он ждал одобрения. Браббан прокашлялся, и Тормуань, казалось, счел себя удовлетворенным.
— А как моя квартира? Вы занимались моей квартирой?
Завязалась упорная торговля. Браббан оказался сильнее. Он не только получил три тысячи франков вместо двух, но еще и вышел из бистро с бумажником Тормуаня в кармане.
Это была его первая кража.
XVII
Тюкден больше не встречался с Роэлем; и не пытался его увидеть. Зато он сблизился с Бреннюиром, который научил его играть в бильярд. И каждый день они проводили один, или два, или три часа в «Людо». Иногда они замечали Толю и Браббана, которые тоже разыгрывали партию. Они приветствовали друг друга издалека. Иногда молодые люди предпочитали отправиться в какое-нибудь кафе, чем выносить один — бывшего преподавателя, а другой — родственника. Что касается второго старика, то на него они не обращали внимания.
— Я встретил Роэля, — сказал однажды Бреннюир. — Он засыпал меня вопросами насчет этого старика, Браббана. Я все думаю, почему он так им заинтересовался.
— Я уже давно не видел Роэля, — сказал Тюкден.
Каждый вечер, когда убирали грязные тарелки и смахивали крошки, обеденный стол превращался для него в письменный, и он начинал жалеть о только что прожитом дне. Он сидел в столовой один. Родители ложились рано и читали в постели журналы, печатавшие романы с продолжением. В дальней комнате старилась бабушка. Он сидел в столовой один. Время от времени проходил трамвай; или грузовик. Он жалел о том, что так прожил этот день. То он думал о любви и не представлял, как вообще это возможно: встретить женщину, которую он бы любил — и которая любила бы его. То он думал о прошлом, о вечно одинаковых днях, об ужасающе монотонной жизни, которую он вел, о семейных ужинах, о сорбоннской заурядности и о повседневной суете. То он думал о будущем. Что с ним станет? Он представлял всепоглощающую посредственность, которая его подстерегает, чувствовал ее крысиные зубы. А вдруг его ждет приключение? Вдруг однажды он уедет? Как Жан Ублен. Но какая-нибудь досадная будничная мелочь вновь делала его беспомощным; он понимал, что не умеет звонить по телефону, или впадал в отчаяние от того, что порвался один из шнурков на его ботинках. Ну как от этого избавиться?
Каждый вечер он оказывался один в маленькой столовой семейной квартиры. Он работал. Если становилось совсем скучно, он вставал и выпивал стакан вина; или же смотрел в окно, но тогда вид пустынной улицы напоминал страшный сон, особенно вид ставен торговца красками. Еще он мастурбировал. С этим была отдельная история. Он и хотел бы избавиться от подобной привычки, но каким образом, если не спать с женщинами, а как спать с женщинами, если вообще с ними не встречаешься? Иногда он следовал за какой-нибудь из них на большом расстоянии, но вскорости оставлял ее; а если к нему приставала шлюха, он спешил уйти.
Он размышлял о самоубийстве, но никогда — слишком долго. Ему удавалось больше не думать об этом, и тогда он вновь обретал уверенность. Две вещи спасали его: чтение (но не учеба) и Париж. Он любил Париж, а точнее, улицы Парижа. Когда, пресытившись монотонностью своей жизни, он решался провести один день, не встречаясь с Бреннюиром и не играя в бильярд, то выписывал зигзаги по городу. Его интересовали изменения в маршрутах автобусов и новые линии; не пренебрегал он и убогими трамваями, а к метро у него была, можно сказать, живая привязанность. Он любил не город, а его топографию. Он знал только скелет, а не плоть. Тем не менее, сумерки казались ему волнующим временем, когда пронзительно кричат продавцы газет, когда искрящиеся террасы кафе выплывают из тумана, пропитанного механическим ревом, когда солнце, будто огромный красный шар, сдувается позади Триумфальной арки со стороны Сен-Жермен-ан-Лэ.
Он также спасался от отчаяния, когда читал. Например, событием становились для него такие книги, как «Человек, которого звали Четвергом»[68] или «Хамелеон». Чтобы обрести равновесие, он прочел Гете, хотя совсем его не любил, а еще, уступая определенной интеллектуальной моде, принялся увлеченно изучать томизм — это он-то, атеист.
Тем временем его бабушка, загнивавшая в дальней комнате, состарилась настолько, что от старости стала агонизировать. Это продлилось два дня, поскольку душа у нее приросла к телу, как говорил Тюкден-старший. Время от времени Винсен заходил посмотреть, что происходит: старуха по-прежнему хрипела, вцепляясь в простыни. Он смотрел на нее несколько минут; потом ему говорили, что стоять здесь нечего; тогда он уходил. В его жизни это мало что меняло. В это время он читал «Общее чувство», произведение одного преподобного отца[69], и ему было страшно интересно; в бильярде он достиг таких успехов, что в тот день побил Бреннюира. А когда вернулся, все близилось к концу. Наняли милую женщину, внимательно следившую за шагами Смерти и вязавшую шерстяные носки для своего мужа, инспектора газовой службы, у которого мерзли ноги.
Семья уселась за стол.
— Бедная старушка, ничего не осознает, — сказал Тюкден-старший.
Мадам Тюкден вздохнула. Это была всего лишь ее свекровь — но свекровь, которая никогда не делала ей ничего плохого. Без нее и этой квартиры бы не было. Пришлось бы оставить Винсена в Париже одного, и бог знает, что с ним могло бы случиться.
После ужина убрали со стола. Винсен принялся работать, его отец — просматривать газету, а мать — читать роман. Ровно в десять месье Тюкден встал и сказал:
— Пойду посмотрю.
Жена инспектора невозмутимо сказала ему, что это может продлиться еще некоторое время.
Он отправился спать; за ним — его благоверная. Винсен, оставшись один, работал до часа. Потом ему захотелось пить. Он выпил стакан вина. По улице проезжали машины мусорщиков; их был целый десяток; он узнал их мирную вереницу. Подумал, что неплохо пойти посмотреть на происходящее в дальней комнате. Медленно открыл дверь. Жена инспектора газовой службы спала. Бабушка тоже. Она была совсем желтая, и глаза ее оставались открытыми. Она лежала, вцепившись в простыни своими пухлыми и короткими пальчиками с длинными и черными ногтями. Винсен тихонько закрыл дверь и пошел спать, смутно думая: «вот и все», «как просто», «ничего особенного». Он тут же уснул.
На следующий день бабушка лежала опрятная, подбородок был подхвачен лентой. Предстояло заняться формальностями. Винсен сопровождал отца. День был не из веселых, и вечером месье Тюкден чувствовал себя довольно усталым. Перед тем как садиться за стол, он вдруг непонятным образом даже пролил слезу, но жена его пристыдила. В тот вечер Винсен закончил чтение «Общего чувства», произведения одного преподобного отца.
Затем бабушку положили в гроб и похоронили. По гражданскому обряду, ибо семья Тюкдена богопочитанием не увлекалась. У старушки был склеп на кладбище Монпарнас; муж дожидался ее там несколько десятков лет. Все прошло нормально. Появились несколько дальних родственников, потом ушли. Винсен попытался думать о смерти.
Не получилось.
Месье Тюкден обменял свою четырехкомнатную квартиру на трехкомнатную, также расположенную на улице Конвента, но ближе к метро. Это принесло ему небольшую прибыль. Винсен с удовольствием сменил бы квартал (приключение), но у стариков теперь были здесь свои привычки. Единственное преимущество, которое он обрел в такой перемене, — это появление небольшого письменного стола в своей комнате; его способность к уединению таким образом возросла. Но все это мало что изменило в его жизни. Он продолжил играть в бильярд и читать. И периодически проваливался в омерзительное отчаяние, от которого его внезапно избавлял упорный и смешной оптимизм, абсурдная жажда жизни.
Тем временем гильотинировали Ландрю.
Однажды Тюкден открыл для себя площадь д’Аллерэй и сел там на скамейку. Было десять часов утра. Погода была хорошая. Иногда мимо проезжала машина. Иногда проходил пешеход. Играли дети. На террасе кафе сидел хозяин и курил, читая газету. Время от времени рядом в доме пела женщина. Хорошая погода. Десять утра. Тюкден сидел на скамейке.
Конечно, ни одна из этих вещей сама по себе не имела смысла, и всем им, проходя через становление[70], суждено было погибнуть. Разве это не была их реальность? Разве не зависела она не от чего иного, как от них самих? В чем же была их реальность? Из чего состояла их реальность? Было ли это Бытие или Существо? Если бытие представляет собой реальность вещей, то почему же этих вещей не было (ведь обреченность больше-не-быть не есть бытие)? Если это Существо, то почему оно множественно? Отчего все-таки существуют вещи и отчего они должны погибать?
Один из детей заплакал. Старик покинул один из домов и потащился к скамейке, куря старую трубку. Хозяин кафе закончил с чтением и с сигаретой и зевал на солнце. Две экономки перекрикивались с разных сторон площади. Торговец одеждой принялся петь. От одной улицы к другой по диагонали побежала кошка. Деревья зеленели, ибо было самое время. Одно из них опи?сал пес, предварительно хорошенько обнюхав, а затем отправился с визитом к следующему. Женщина пела теперь «Время вишен». Тюкден почувствовал, что готов заплакать, его растрогало несуществование вещей.
Как их спасти? Да, как можно спасти вещи? Как вырвать их из ничего, как избавить от Бытия? Как придать частному смысл бытия в самом себе? Как придать мгновенному характер и становления, и вечности?
Он вспомнил переписанную им фразу из Гете. Вынул из кармана блокнот и стал ее искать. На первой странице были адреса; на следующих — даты и ряды цифр, показатели его успехов в бильярде. Затем шли цитаты из Гете, и первая из них, написанная большими буквами, гласила: niemand demorali-sieren[71].
Гёте продолжал:
— Проникнуть хочешь в бесконечность — конечное познай со всех сторон. Жизнь новую в глобальном видеть хочешь? Сумей глобальное узреть в ничтожно малом[72].
— Я не против, — ответил Тюкден. — Но когда ничтожно малое исчезнет, в чем я увижу глобальное?
— Ищи же смысл там, где жизнь есть радость жизни, — сказал Гёте. — Так, прошлое свой продолжает ход; опередив себя, грядущее течет, мгновенье вечно![73]
— Это то, что мне нужно! Прошлое свой продолжает ход… опередив себя, грядущее течет… — это и есть становление в том виде, в каком его проходят согласно законам разума. Мгновенье вечно: как это?
— Учителем я не был никому, — отвечал Гёте, — освободителем назвать себя рискну. И мой пример поведает вполне, что должен изнутри вовне лежать путь жизни человека, как и художника стезя.
На этом Гёте удалился; его место заняла библиография.
Р.П. Пегес, «Французский пословный комментарий к «Сумме» Святого Фомы», Тулуза, 8 т.
Фарж, «Полный курс схоластической философии», 9 т.
Югон, «Cursus philosophiae thomisticae»[74], 6 т.
Жан де Сан-Тома, «Cursus philosophiae thomisticae», 3 т.
И так далее на нескольких страницах. Впрочем, из этого Тюкден прочел еще не все.
Затем шли схоластические афоризмы о действии и силе, форме и материи, движении, причинности, финальности. В начале каждой страницы Тюкден поместил основной принцип: est, est; non, non[75].
— Все сущее, — учит школа, — являет собой то, чем является, а не то, чем не является.
— В этом-то весь вопрос. Почему это сущее таково, каково оно есть? Почему оно должно погибать, если Бытие непреложно? Зачем нужно становление? Если становление неизбежно, выходит, Бытие от него зависит? Если сущее есть, то почему оно подвергается становлению? А если оно подвергается становлению, то почему его нет?
Теологи замолчали. Один кюре хотел было подняться на кафедру. Тюкден улыбнулся и перевернул страницу. Там было несколько личных заметок типа: «логика, 6 марта, формы классификации». (Это был первый экзамен, он его сдал.) Или: «Не ходить в «Ла Сурс», а также в любое другое кафе, расположенное на бульваре Сен-Мишель»; не останавливаться возле букиниста, который находится рядом с Высшим горным училищем; не воображать, будто я меняюсь в лучшую сторону только потому, что, возвращаясь домой, выбираю правый тротуар вместо левого; не считать, что я стал другим, поскольку больше не хожу в «Ла Сурс» и не останавливаюсь возле букиниста, местоположение которого указано выше; обгоняя женщину, не испытывать дрожи в коленках из-за того, что мне кажется, будто она на меня смотрит (очень сложно); не спорить с отцом, когда он хочет, чтобы я стал преподавателем колледжа в провинции (дать ему высказаться и не обращать внимания); не носить подтяжки». Затем эта цитата: «Et quid amabo nisi quod rerum metaphysica est?[76]»
Облик маленькой площади менялся. Было уже одиннадцать. Проезжающих машин стало больше. На террасе кафе закусывали каменщики, перед ними стояло по целому литру красного вина. Старик забил третью трубку. Женщина перестала петь. Дети продолжали играть, поочередно то смеясь, то ссорясь. Солнце грело мостовую, люди наполняли легкие свежестью легкого ветра, слегка шевелившего молодые листочки деревьев, и говорили: хорошая погода сегодня, какой погожий день.
— Хорошая погода сегодня, — говорили люди, — какой погожий день.
— Est, est; non, non, — произнес философ.
— Я ничего ни о чем не знаю, — вздохнул Тюкден.
— Ουδειΐ ημών ουδευ οιδευ, ουδ’ αυτό τούτο ποτερου οιδαμευ η ουκ οιδαμευ, — сказал Метродор[77], который проходил мимо на следующей странице.
— Еще один метек[78], — воскликнули прохожие. — Что он несет? Нас по крайней мере не оскорбляет?
— Мы ничего не знаем, — перевел Тюкден, — не знаем даже, знаем ли мы хоть что-нибудь или нет.
— Ну и скептик этот тип, — зарокотала недовольная толпа.
— Разве это неправда?
Он закрыл блокнот и спрятал его обратно в карман. Поднялся. Пора было возвращаться обедать к родителям, которые жили на улице Конвента.
XVIII
У Роэля шла полоса невезения. Кирпичи сваливались ему на голову на каждом шагу. Но череп у него был твердый. Он смотрел на осколки и посмеивался. Такой у него был способ борьбы.
Призывная комиссия прошла как по маслу. Он уехал в Гавр на машине Вюльмара. Его признали годным к войсковой службе (как-никак не дохляк), он попросил и получил отсрочку на один год. То есть, одиннадцать месяцев можно было ни о чем не думать. Попойки и путешествия по кварталам нижней части города ознаменовали эту небольшую поездку.
Затем последовало письмо месье Мартена-Мартена и исчезновение Вюльмара. Некоторое время Вюльмар не расставался с Роэлем, а Роэль не расставался с Вюльмаром. Но в один прекрасный день Вюльмар исчез. Роэль подождал; затем стал искать и обнаружил, что Вюльмар обвел его вокруг пальца. Он решил об этом не думать, но без «амилькара» жизнь стала скучной. Сюз вздумалось, что он обязан научиться танцевать. Он отправил ее на все четыре стороны. Она исчезла, а с ней и ее короткое имя. Он остался один против консервных банок и небольшого количества грязной посуды. Он вымыл посуду, пооткрывал банки и принялся в спешке работать, поскольку приближались экзамены.
Он провалился.
Но решил, что обижаться не стоит. Спустился в метро и, пересаживаясь на каждой смежной станции, принялся выписывать зигзаги под Парижем. Он любил этот вид транспорта еще больше, чем Тюкден, особенно линию Север — Юг, поскольку именно там, как он утверждал, попадались самые красивые женщины. Выйдя наверх после подземного путешествия, он уже забыл о своих провалах и неприятностях и вел все более интимный разговор с очаровательным существом, которое не хотело раскрывать свою национальность. Она была согласна встретиться с ним на следующий день. Радостный, он вернулся к себе.
Но у дома его ждала Сюз. На ней была трагическая маска. Он отвел подружку наверх; тогда она сообщила, что случилось «то самое». Как «что»? То самое! Она выложила ему все как есть и недвусмысленно предложила поскорее найти выход, поскольку оставлять это она не собиралась — нет уж. Роэль попытался как-нибудь пошутить насчет выгодного положения матери семейства в современном обществе и имен, которые можно дать малышу. Но Сюз не видела в этом ничего смешного и обругала его. Он же, сохраняя достоинство, заверил ее, что все уладит. И попросил прийти завтра. В глубине души она надеялась, что он попросит ее остаться; а он не предложил ей даже поужинать. Она вышла, намекая, что ему еще все аукнется.
Новая история показалась Роэлю не страшнее остальных. Наверняка это можно будет легко уладить. Требовалось только разыскать Мюро или Понсека. Лучше Мюро. Он найдет его на улице Месье-ле-Принс в маленьком ресторане, где тот каждый вечер ужинает с другими студентами-медиками. Было всего пять часов. Он растянулся на кровати, но спустя десять минут ему надоело кишение собственных мыслей. Он вышел.
Проследовал по рю дез Эколь. С приглашающим видом разглядывал каждую женщину, которую встречал. Иногда они отвечали ему улыбкой. Но он проходил мимо. Даже не оглядывался. Роэль продолжил игру до бульвара Сен-Мишель, захваченного огромной толпой оттрудившихся. Подумал, что аперитив его немного взбодрит. Погода была теплая и бесцветная. Он сел на террасе кафе и стал читать вечерние газеты. Затем принялся смотреть на проходящих женщин. Увидел парочку симпатичных и несколько красивых. Сюз казалась ему намного лучше, чем большинство из них. Но учиться танцам — только этого не хватало. Что ж, ну и ладно. Он ушел, не заплатив — решил проверить, что будет. Официант не заметил. Роэль подумал, что это хороший знак. Он шагал один и смеялся, поскольку внезапно вспомнил, как однажды уходил, не заплатив за бульон, и услышал позади топот и крики управляющего; но тот догонял кого-то другого, менее ловкого. Тут Роэль зашел в магазин Пикара и присвоил себе экземпляр «Введения в психоанализ»[79], сочинения, о котором много говорили.
В маленьком ресторане на улице Месье-ле-Принс Мюро как раз начал выдавать серию шуток, которые обеспечили ему определенное реноме среди студентов-первокурсников. Он заканчивал расправляться с порцией колбасы в масле, когда Роэль похлопал его по плечу. Мюро тут же что-то заподозрил и специально для приятеля стал отпускать шутки по поводу венерических болезней, поскольку полагал, что это и есть причина его появления. Роэль подсел к нему за столик, который украшали еще четыре первокурсника. Медики тотчас выложили перед гуманитарием весь свой небольшой запас грубых профессиональных шуток, а затем, наступая на территорию противника, принялись нахваливать «Нелепый XIX век»[80]. Роэль слушал их снисходительно; затем почитал из Виктора Гюго, чтобы они хоть немного представили, что это такое. Присутствующие горячо спорили, картинно пожимая плечами.
Когда Мюро как следует вытер рот, старательно сложил салфетку и продел ее в кольцо из красного дерева, Роэль вытащил его на улицу и рассказал о том, что с ним стряслось. «Пфф, пфф, — издал Мюро, — нет ничего проще». Он знал радикальный препарат — серьезное средство, эффективная вещь. Он принесет завтра, результат гарантирован. Роэль слегка пошутил над собой, и Мюро похлопал его по плечу — настолько славным казался ему этот парень и забавным. Они решили вместе выпить. У Роэля было смутное желание отдавить ему пальцы ног. Они вернулись к четырем первокурсникам, которые играли в бильярд в дальнем зале «Ла Сурс». Вечер закончился на улице Бернара Палисси. Роэль отказался подняться, потому что женщины из борделя вызывали у него отвращение. В конце концов всю компанию выставили вон, и, вылетев на мрачный тротуар длинной улицы Ренн, она рассеялась. Роэль вернулся к себе, широко шагая и жестикулируя, ведь у него в мозгу булькал алкоголь. У площади Мобер к нему прицепилась шлюшка; была послана. Из темноты вразвалку выплыл сутенер для исполнения своей роли. Роэль приготовился выслушать малоприятную речь об уважении, которое следует оказывать дамам, и получить несколько ударов ботинком в рожу. Но тут проехала велополиция. Сутенер отступил в темноту, а Роэль продолжил свой путь, прибавив шагу. Возле самого дома у него закружилась голова, и он растянулся. Поднялся, ругаясь; дополз по лестнице до своей комнаты, решительно открыл дверь, не закрыл ее за собой, громоверзнулся плашмя, затем тут же уснул.
На следующий день Мюро на встречу не явился. Роэль всюду его искал, но не нашел. Он принялся бродить вокруг Школы медицины, задержался у витрин магазинов Малуана и Ле Судье. Он снова стащил «Введение в психоанализ», поскольку накануне потерял экземпляр. Мюро не появлялся, и Роэль добрел до маленького ресторана. Мюро пришел около часа с лекарством.
На улице Кардинала Лемуана нетерпеливо ждала Сюз. Роэль вручил ей препарат и объяснил, как им пользоваться. Она внимательно слушала. Когда все поняла, положила бутылочку в сумку и встала. Сказала «ладно» и протянула ему руку. Медленно вышла. Он услышал, как она спускается по лестнице, затем различил на улице ее удаляющиеся шаги.
Он ждал от нее письма, но так и не получил.
XIX АЛЬФРЕД
Начали разбирать Большое колесо, затем к нам пожаловала весна, а с ней месье Эйнштейн, и это взбудоражило немало народу. Серьезные господа заполняли кафе, возбужденно рассуждая об относительности, об искривлении пространства и о снарядах, которыми выстреливают из пушки в бесконечность и которые возвращаются шестьсот лет спустя с современниками, которым требуется всего-навсего сбрить двухнедельную щетину. Я слушаю их рассказы и не смеюсь даже про себя, поскольку уважаю науку, невзирая на то, что такая наука — это не мое. Свою науку я строю не на гипотезах и расчетах, в которых одни лишь буквы, я основываю ее на реальных, надежных фактах и на расчетах, состоящих только из цифр. И я утверждаю, что факты у меня реальные и надежные, ибо что может быть надежнее, чем планета, и что может быть реальнее, чем лошадь? Поэтому я слушаю без смеха, но не впечатляют меня эти господа, рассуждающие о часах в Манчжурии, о световых лучах в круговой дуге и о натяжных устройствах с маленькими греческими буквами вверху и внизу. Я не позволяю моде на меня влиять. Когда месье Эйнштейн уедет обратно в свою страну, читатели «Матен» забудут все разговоры о нем. У меня есть цель, и никакая злободневность не отвратит меня от нее, будь то процесс Мецисласа Шарье, или кубистский фильм, который крутят на Бульварах, или только что упомянутый мною приезд месье Эйнштейна в Париж. Если бы мне пришлось во все это вникать, я бы вовек не выпутался. Естественно, если бы кто-нибудь решил спросить у меня: «Благоприятно ли сегодня положение планет?» — я ответил бы ему да или нет. Это тоже, если угодно, злободневный вопрос, но я ответил бы ради того, чтобы оказать услугу коллеге или какому-нибудь клиенту. Точнее сказать, определенному клиенту, поскольку подобные вопросы задает только месье Браббан — иногда, время от времени, не сегодня, так завтра, но не каждый день.
В настоящий момент он в отъезде и поэтому ни о чем меня не спрашивает. Месье Бреннюир получил открытку с изображением падающей башни в Пизе, и месье Толю получил открытку с изображением падающей башни в Пизе. Обе были подписаны Браббаном. Я мог рассчитывать, что тоже получу открытку с изображением падающей башни в Пизе, но месье Браббан обо мне не подумал. В последние дни месье Бреннюир перестал регулярно сюда приходить, зато месье Толю продолжает. Чтобы его развлечься с ним разговариваю. Он говорит мне о путешествиях, а я ему о планетах, он говорит о приключениях, а я о статистике, он говорит об экзотике, а я о цифрах, он говорит о далеких краях, а я об ипподромах. Беспокойный он, этот старенький господин. Ему неймется уехать куда-нибудь очень далеко, а я пытаюсь его отвлечь, потому что в таком возрасте приключения немедленно сводят в могилу. Порой мне, может, и хотелось бы посмеяться, но я этого не делаю, как не смеюсь над теми, кто думает о часах месье Эйнштейна, ни бельмеса в этом не понимая — ведь я уважаю постороннее мнение. Если месье Толю хочет путешествовать, смеяться тут не над чем. На днях он заговорил со мной о Китае. Что я думаю о Китае? Естественно, ничего, зато у него по этому поводу мыслей множество. Затем он пожелал поехать в Анды. Этот объект желания находится в Южной Америке. В Анды? Пусть рассуждает сколько угодно. Когда я отхожу обслужить еще одного клиента и возвращаюсь, то обнаруживаю, что он говорил вслух сам с собой, пока меня не было рядом, из-за чего мне не всегда удается следить за нитью его рассказа, но, с другой стороны, это не важно. В последний раз он спросил: «Могут ли ваши расчеты сказать, совершу ли я большое путешествие?» Ей-богу, нет ничего проще. Он сообщает мне сведения, а я вычисляю результат на уголке стола. В конце концов у меня выходит, что есть более девятисот девяноста одного шанса из тысячи, чтобы он еще успел съездить за границу. Старик своим ушам не поверил. Заказал два напитка и оставил солидные чаевые — по крайней мере, с его точки зрения. В то же время он желал, чтобы месье Браббан вернулся и снова играл с ним в бильярд. Когда месье Браббана нет, он пытается играть с незнакомыми соперниками, но поскольку они сильнее, то поражение портит ему весь вечер. Месье Браббан — вот кто ему нужен, противник не из слабых, но зато с ним всегда уверен: ужинать будешь в хорошем настроении и в таком же настроении ляжешь спать.
Так мы и беседуем вдвоем в ожидании, пока не вернутся остальные. А они вернутся, и тогда, в один прекрасный день, все и произойдет; в один прекрасный день свершится то, что им предначертано. Думаю, месье Браббан сыграет в этом свою роль, ведь недаром же он искал знакомства и таки познакомился с этими двумя господами. В результате все должно проясниться. Я же спокойно жду, когда этот механизм свое отработает. Жду и не жду, поскольку меня это не касается. Я могу порой сказать себе: месье Толю больше не придет, он отправился в долгое путешествие, уплыл на Антильские острова или в Индию. Весь день пытаюсь себе его представить. Но часам к пяти быстренько подсчитываю и получаю девятьсот девяносто один шанс из тысячи, что месье Толю вечером появится снова. Конечно, есть еще девять шансов, что он не придет. Только к шести я вижу, как он появляется; тогда я улыбаюсь и говорю про себя, что определенно все мои расчеты оказываются верными, так что скоро можно будет перейти к активным действиям, и вот как я за это возьмусь.
Я разыщу управляющего и скажу ему: «Тысяча извинений, но я ухожу». Он спросит почему. Тогда я отвечу: «Нужно кое-что сделать». Он тут же подумает, что причина всему — скачки, и вместе с моими коллегами скажет: «Значит, скоро Альфред опять к нам вернется, как только оставит все свои денежки в балаганах «Мютюэль». Ничего я там не оставлю. Мы с «Мютюэль» будем разбираться по-мужски. Я приду на ипподром с единственной жалкой десятифранковой бумажкой и за один раз восстановлю равновесие благодаря четко рассчитанному пароли[81], которое ни одна лошадь не сможет обойти и ни одна махинация не сорвет; пароли вернет двести одну тысячу шестьсот сорок три франка, которые мне должны. После такого удачного хода я куплю дом в деревне, чтобы там спокойно состариться.
Или же вернусь сюда. Дам патрону аванс, тысячефранковую бумажку, и вернусь к своим обязанностям. Снова увижу своих завсегдатаев, всех-всех. Ведь исчезну я ненадолго. Что с вами случилось, Альфред? — спросят меня. Я отвечу, что у меня был панариций[82] (не представляете, как это больно), и наверняка найдется завсегдатай, который скажет: о, панариций, я знаю, что это такое, у меня один раз было, жуткая боль. Я снова увижу месье Браббана, и месье Бреннюира, и месье Толю, поскольку ничего еще не произойдет. И снова примусь без конца подавать бесчисленные напитки, горячие зимой и холодные летом, а спиртное — в любое время года. И буду наблюдать, как приходят каждый день завсегдатаи и как меняются случайные клиенты, подобно тому, как регулярно приходят времена года и как регулярно меняется возраст людей. А я буду неизменен и совершенно спокоен, потому что отыграю потерянное состояние и осуществлю то, что мне предначертано. Я буду наблюдать за шевелением молодых и старых, самцов и самок, людей и собак, котов и мышей, листьев на ветвях, туч на крышах, старых газет на тротуарах, мыслей в головах, страстей в сердцах, членов под брюками. Незыблемый и неизменный, я буду взирать на все это, сравнивая себя с озерной водой, где отражается стая перелетных птиц, но от взмахов их крыльев не рябит поверхность.
XX
Браббан наклонился к своему соседу, который с откровенной неопытностью изучал железнодорожное расписание. Слегка приподнял шляпу и завел разговор.
— Простите мою нескромность, месье, но я вижу, что вы в затруднении. Я просто хотел сказать, что есть хороший поезд до Дьеппа в 14:15.
— Благодарю.
Сосед даже не повернул головы, когда отвечал.
— Это очень хороший поезд, — заговорил вновь Браббан. — Экспресс. Прибытие в Дьепп в…
— Спасибо, спасибо.
Сосед не был настроен слушать дальше. Он закрыл расписание.
— Хороший сегодня денек, — сказал Браббан. Сосед подозвал официанта, расплатился и был таков. Браббан принялся ждать. Вскоре к нему присоседился новый посетитель. Он никакого расписания не попросил. Браббан искоса изучал его. Сосед повернулся и сказал с видом знатока:
— Хороший сегодня денек.
— Замечательный, — подбавил красочности Браббан. — Какое прекрасное будет лето!
— Нельзя вот так загадывать на будущее, — ответил сосед. — Часто после ясного солнца в мае бывает ненастное лето.
— Совершенно справедливые слова, месье.
— В моих краях есть присказка. В мае солнце ясное — лета жди ненастного.
— Вот оно что… А вы откуда будете, месье, если это не секрет?
— Ничуть, ничуть. Я из Туранжо. Это рядом с Шиноном.
— Красивые места, — сказал Браббан. — Очень красивые.
— Турен, месье, это «сад Франции».
И так далее и тому подобное, и так далее и тому подобное, и в конце концов житель Туранжо признается:
— Вообще-то сейчас, месье, я оказался в крайне трудном положении.
— Что же у вас случилось?
— О, не хочу надоедать вам всякими глупостями.
— Ну что вы, что вы.
— Представьте, у меня большие неприятности. Неприятности — это мягко сказано. Я оказался в Париже без единого су. Не знаю, как меня угораздило. У меня ни единого су. Есть, конечно, несколько купюр по десять франков, но чтобы протянуть до конца воскресенья, согласитесь, этого мало.
— Действительно, — согласился Браббан.
— Правда, у меня в отеле хранится чемоданчик с довольно приличной суммой в долларах. Я охотно оставил бы их в залог.
Браббан улыбнулся.
— Как раз это я и хотел вам предложить, — сказал он.
Сосед внимательно изучил его взглядом, подозвал официанта, оплатил заказ и исчез. Браббан достал часы и мрачно взглянул на циферблат: три часа потерял. Он встал с озабоченным видом и отправился к Вюльмару в «Виль де Руан».
— Ну что? Вы один? — спросил Вюльмар.
Браббан вздохнул.
— Ничего за все утро.
Вюльмар пожал плечами. Он был явно взвинчен. Три порто выпил, пока дожидался патрона.
— Меня это достало, — сказал он. — Трижды достало.
— Вы полагаете, что успех приходит каждый раз, молодой человек?
— Вовсе нет! Просто я сыт по горло вашими мелкопошибными трюками. Я знаю их, как свои пять пальцев: прием с таким названием, с сяким… Я уже мог бы применять их самостоятельно. Но это смех, да и только!
— А что делать?
— Где ваше честолюбие, месье Браббан, что с ним стало?
Браббан поскреб затылок.
— У меня пока нет идей.
— Хотите, чтобы я подбросил вам парочку?
— Не надо, — воскликнул Браббан. — Только не это! Идеи должны исходить от меня.
Вюльмар пожал плечами.
— Мы могли бы собирать подписи в пользу Папы.
— Папы?
— Да. Как будто его держат взаперти в подземельях Ватикана.
Браббан сурово на него посмотрел.
— Что вы несете? Я же просил: держите свои идеи при себе.
— Ну, хватит, — сказал Вюльмар.
— Угощаю вас обедом, — сказал Браббан и поставил бутылку бургундского плюс ликеры.
Вюльмар в конце концов опьянел.
— Лично я хочу проворачивать большие дела, — сказал он.
— Вы правы. Мы будем проворачивать большие дела. Я буду проворачивать большие дела. Только нужно потерпеть. Дождаться, когда у меня будут идеи.
— Нет, не хочу я ждать! Я хочу проворачивать большие дела прямо сейчас.
Браббан напрягся.
— Два чемодана все еще у вас?
— Да, только в эти игры я больше не играю. Не пойдет. Такие приемы — чушь. Из-за этих низкопробных махинаций нас с вами в конце концов запихнут за решетку.
— Тс-с.
Вюльмар замолчал и задумался.
— Скажите-ка, что вам нужно от Бреннюира-старшего?
— Что мне от него нужно? Да ничего. Мы друзья, только и всего.
— Рассказывайте! Я вам не верю.
— Прошу вас быть со мной повежливее, месье Вюльмар. Не забывайте, что вы мой подчиненный.
— Скажите честно, чего вы хотите от Бреннюира-старшего?
— Абсолютно ничего.
— Никогда в это не поверю.
Какое-то время оба сидели молча.
— Умираю от любопытства, — не отставал Вюльмар.
— Не понимаю, чего вы добиваетесь, точнее, чего можете добиться.
— Да ладно! Я не настаиваю. Что мы будем делать сейчас?
— Можно попробовать прием с чемоданом и долларами, — предложил Браббан.
— Я уже сказал, что больше в эти игры не играю.
— Вы мой секретарь, ваше дело — слушаться.
— Смех да и только, — отозвался Вюльмар.
Браббан поскреб затылок.
— Освободить вас во второй половине дня?
— Ни в коем случае. Я просто хочу провернуть что-нибудь интересное. Сорвать большой куш.
— Нужно дождаться, когда у меня будет идея.
— Долго ждать придется.
Разъяренный Браббан вскочил и треснул кулаком по столу. Все посмотрели на него. Сбежались официанты. Он сел на место, покашливая и теребя узел галстука.
— Стакан воды и счет, — потребовал он.
Вюльмар наблюдал за ним с любопытством. Оба вышли, не произнеся ни слова. «Амилькар» ждал на улице возле здания. Браббан втиснулся в небольшое авто и поставил себе на колени два чемодана с долларами: один с фальшивыми, а другой со старыми газетами. Вюльмар сел за руль.
— Куда едем?
— Заглянем в контору. Положу чемоданы, поскольку сегодня мы ими не воспользуемся.
Браббан смотрел на два чемодана с нежностью. Ему столько раз удавался этот прием, что он испытывал к нему особую привязанность.
— Вы чем-нибудь, кроме мелкого жульничества, в своей жизни занимались? — спросил Вюльмар, когда они спускались по улице Тронше.
— Тс-с, — шикнул Браббан. — Умейте подбирать выражения. Я вам уже сто раз говорил.
— А вы только что здорово рассердились.
— Да, и правда. Я уже забыл. Вы становитесь все более развязным. Не забывайте, мы не компаньоны. Вы всего лишь мой секретарь.
— Да, месье.
— Надо набраться терпения. Верьте в мою звезду. Уверен, совсем скоро у меня в голове зародится чудесная идея.
— Да, месье.
— Кстати, по-моему, до сих пор жаловаться вам было не на что. Я вам хорошо платил.
— У меня есть расходы. Бензин стоит дорого. Вы не думали о том, что стоило бы купить хороший автомобиль? Он был бы вам весьма полезен. На гоночной машине вроде этой нас в два счета запомнят.
— Идея, — сказал Браббан. — Куплю хороший автомобиль. Закрытый, правильно?
— Я знаю, где взять недорогой, — отозвался Вюльмар.
Он остановился на углу улицы. Браббан вышел с двумя чемоданами. Вюльмар стал его ждать.
— Что делаем теперь? — спросил он, когда шеф вернулся.
— Ничего. Я буду думать. Прогуляюсь по улицам. Чувствую, что сегодня что-нибудь придумаю.
— Папа, запертый в подземельях Ватикана, — вам не кажется, что это неплохо?
— Оставьте ваши шуточки. Я буду работать. Завтра займемся автомобилем. А сейчас вы свободны.
Вюльмар помахал рукой, мощно пукнул выхлопными газами и тотчас в них исчез.
— Вот ведь как обидно, — размышлял Браббан, — у парня есть все данные, но он испорчен кинематографом. Папа, запертый в подземельях Ватикана! Где он успел это выхватить? Не удивлюсь, если он пишет стихи, в которых от щедрот сандалит рифмы.
И Браббан пошел вслед за
…«душкой-на-побегушках»,
как он выражался.
XXI
— Да ты, дедуля, на себя посмотри, — сказала «душка-на-побегушках».
— О, мадемуазель, как вы могли подумать, что я делаю вам непристойное предложение. Оно идет от чистого сердца, только от чистого сердца.
— Меня не проведешь, старичок. Знаю я таких гусей. Не стыдно, в вашем-то возрасте?
— Но, мадемуазель, уверяю вас…
— Мне и так наперед известно, что вы мне будете петь.
— Мне нравится быть в компании молодых, мадемуазель. Вот почему я попросил вас уделить мне немного времени. Но, естественно, я не хочу, чтобы ваши родители беспокоились, если вы из-за этого опоздаете.
— А чем вы собираетесь меня угощать?
— Может, портвейном? В «Кафе де ла Пэ»?
Малютка восхищенно присвистнула.
— Идем, — сказала она. — Чем вы занимаетесь, месье? Вы сенатор?
— Я похож на сенатора?
— Нет. Я пошутила. Вы что, шуток никогда не слышали?
— Да нет, отчего же…
— Тогда скажите, чем вы занимаетесь?
— Бизнесом.
— Вы женаты?
— Нет…
— Интересно.
— Это почему?
— Слушайте, а вы занимаетесь чем-то серьезным?
— Да, очень важными делами. Покупка, продажа и управление недвижимостью.
— Занятие для акул. Портвейн здесь — что надо.
— Рад, что вам нравится.
— У вас чудной вид. Кроме шуток, вы правда занимаетесь чем-то серьезным?
С тех пор, как Браббан стащил бумажник Тормуаня и эта история наделала достаточно шума, чтобы занять четверть колонки в газетах, на него стали нападать внезапные приступы беспокойства, которые он сравнивал с дергающей болью. Раньше с ним такого не бывало.
— Недвижимость — вещь предельно надежная. Ента штука не подчиняется колебаниям курса.
— Почему вы говорите «ента» вместо «эта»? Некрасиво.
— Справедливые слова, мадемуазель, совершенно справедливые.
— Как вас зовут?
— Мартен-Мартен. Месье Мартен-Мартен.
— Длинноватое имечко. Но не буду же я звать вас Тентеном[83]!
— Мне жаль, но имя я изменить не могу.
— Да вы не обижайтесь. В именах с дефисом есть особый шик.
— Вы интересуетесь грамматикой, мадемуазель?
— Спрашиваешь. Может, пойдем поужинаем вместе?
Браббан предложил «Брассри универсель».
— Знатная мысль, — сказала малютка. — Закусок столько наберем!
Браббан подозвал официанта и расплатился, как важная птица.
— Вы сглупили: оставили ему слишком большие чаевые. Тридцати су было достаточно.
— Хотел показать, как я рад встрече с вами.
— Странные у вас манеры.
Она принялась напевать:
— Ах, до чего же у богинь Странные манеры.«Прекрасная Елена» — красота, правда? Вам не нравится?
— Обожаю Оффенбаха, — сказал Браббан.
Это была правда. Они вошли в ресторан. Им принесли закуски.
— Вот это да, — сказала малютка, — не жалею, что меня потревожили. Именно так мне все и описывали. Я-то думала, это враки. Слушайте, вы бы хоть поинтересовались, как меня зовут. Сарделька была сногсшибательная.
— Я не решался спросить.
— Не прикидывайтесь робким мальчиком. Меня зовут Фаби, это короче, чем Фабьена. Мой отец работает в типографии, так что он не дурак, сами понимаете, ему столько приходится читать. Он вообще ничего, а вот мать — стерва. Не будем о ней. А еще у меня две сестры. Угадайте, как их зовут.
— Не могу.
— Я так и знала. Старшую зовут Сюз, а вторую — Ниви. Сюз — это от Сюзанна, а Ниви от Каролина.
— Вот оно что…
— Да. Я вам голову не морочу. Слушайте, как же я натрескалась. Вы мне много вина не наливайте, а то в голову ударит. Я потом не понимаю, что делаю.
— Еще немного этих замечательных грибов?
— Нет, лучше передайте говяжьи губы. Они здесь что надо. Сюз, моя сестра, занятная. Знает столько артистов, художников, студентов. Это не треп. Не так давно она постоянно разъезжала в автомобиле, в небольшом роскошном «амилькаре».
— Вот оно что…
— Можете сменить пластинку? Все время повторяете «вот оно что…» Меня это раздражает. Ладно, шут с ним. О чем я говорила? Ах да. Моя сестра дружила с ребятами, у которых был «амилькар», так что она с ними накаталась. Это были два студента, хохмачи.
— С факультета права?
— Откуда мне знать? Вам что, интересно? Одного из них звали Роэль, а другого — Вюльмар. В чем дело? Что-то не так?
— Все в порядке, спасибо.
Фаби посмотрела на него с жалостью.
— А я вас испугала.
— Почему испугали?
— Не прикидывайтесь. Этот «амилькар» вам знаком, только что сами в нем сидели. Я его тут же узнала, и парня тоже — Вюльмар собственной персоной! Как же я развеселилась, когда заметила, что вы за мной идете! И решила: если этот старикан ко мне пристанет, расскажу ему такое, что его точно огорошит. Слушайте, вы, по крайней мере, не его отец?
— Нет, нет, не отец.
— Уф! А то я подумала: вдруг вляпалась! Может, вы его дядя?
— Нет, вовсе нет, он мой секретарь.
— Ваш секретарь? Только не надо мне рассказывать. У него деньги из карманов вываливаются, не будет он работать ради удовольствия. Сюз мне о нем порассказала, он не из тех, кто работает.
— И что же она вам рассказывала?
— Уж не думаете ли вы, что я ее выдам? Я возьму персик в мороженом, обожаю.
Вид у Браббана был не очень-то веселый — несомненно, по причине дергающей боли.
— В самом деле, гоночный автомобиль сразу бросается в глаза, — задумчиво произнес он.
— Сразу бросается, — повторила Фаби.
Она молча съела персик в мороженом. Браббан смотрел прямо перед собой. Она потеребила его за руку.
— Да ладно, не надо так убиваться. Пойдем в кино, развеемся. Он на самом деле ваш секретарь?
— Ну да.
— Чушь. Меня не проведешь. Впрочем, это вообще не мои дела.
— А ваша сестра по-прежнему встречается с упомянутым Роэлем?
— Он ее в результате бросил, сволочь. А ей тут же вздумалось путешествовать, так что она уехала в Аргентину. Путешествовать — красота, правда? И вообще, хватит о моей сестре. Мы идем в кино?
— Прекрасная мысль.
— Тогда пошевеливайтесь, Тентен, иначе мы опоздаем.
Они отправились смотреть «Атлантиду»[84]. Фаби таращилась на экран, зато Браббан думал совсем о другом. Раньше с ним такого не бывало: он боялся, что его арестуют! Вот что случается, когда хочешь выйти из своего амплуа! И все же, черт побери, он должен был из него выйти, если хотел проворачивать большие дела. А идеи по-прежнему отсутствовали.
После кино он повел малютку пить пиво, поскольку у него в глотке был сухой песок. Малютка была миленькая, живая и презабавная; но он боялся, что она навлечет на его голову неприятности. От этих мыслей он чувствовал себя идиотом. Надо бы посоветоваться с Альфредом; в самом деле, гоночный автомобиль слишком бросается в глаза. Вюльмар был прав. Надо купить машину.
— Полночь, — воскликнула Фаби. — Я ни за что не рискну вернуться к себе.
Теперь Браббан не знал, куда деваться. «Только бы она меня не сглазила», — думал он.
— Как я влипла, — говорила она. — Что мне делать? Что мне делать?
Внезапно он отбросил весь страх, все опасения. Это абсурд — думать, что месье Блезоля могут найти. Месье Блезоль не существовал. Как же его найдут? А завтра он сменит машину. Фаби показалась Браббану провозвестницей нового бытия под знаком честолюбия.
Он повел ее к себе.
Проходя мимо комнаты консьержки, крикнул:
— Месье Браббан.
— Я подозревала, что Тентен — не настоящее ваше имя, — прошептала Фаби.
XXII
Браббан продиктовал несколько писем; затем, постукивая по ногтю большого пальца левой руки перламутровым ножом для резки бумаги, все утро промечтал в ожидании Вюльмара, но тот так и не пришел. В полдень Браббан вышел из конторы, зашел выпить вермута у Крюсификса, пообедал у Армана, недалеко от Оперы. Он скучал по Фаби, которая отправилась к родителям за вещами; но ни на минуту не сомневался, что она к нему вернется. Он скрупулезно прочел все объявления в «Птит-Зафиш», попивая кофе. Идей по-прежнему не было. Около двух тридцати он вновь был в конторе и ждал Вюльмара. Продиктовал еще несколько писем.
— Дела идут неплохо, — заметила машинистка.
— Да, у нас все достаточно хорошо, — рассеянно ответил он. — Достаточно хорошо.
— В таком случае, вы могли бы подумать о невыплаченной части моей зарплаты. И о небольшой надбавке. Все мои подруги сейчас получают больше меня, да и жизнь каждый день дорожает.
— Какой же прибавки вы хотите?
— Сто франков в месяц, месье Мартен-Мартен.
— Да, от скромности вы не умрете, мадемуазель. Впрочем, поскольку дела сейчас идут неплохо, я согласен.
— Спасибо, месье. А то, что не выплачено?
— Подумаю, подумаю. А теперь оставьте меня, я поработаю один.
Вошел Вюльмар.
— Я ждал вас с нетерпением, — сказал Браббан.
Машинистка вышла.
— Все устроено, — сообщил Вюльмар. — В понедельник у нас будет крытый автомобиль, 11 л.ш.[85]Новенький «Жорж-Ира».
— 11 л.ш. — это немного, — сказал Браббан.
— При 40 л.ш. вы будете так же заметны, как и в гоночном «амилькаре». Какой вы неосторожный, — добавил Вюльмар, рассмеявшись ему в лицо.
Браббан посмотрел на ручку двери прямо перед собой:
— Меня мучает тщеславие.
— Понимаю, — ответил Вюльмар. — Как грандиозная идея?
— Я меня уже есть первые звенья.
Он лгал. Вюльмар понял это и в упор взглянул ему в глаза, наивно надеясь вогнать его в краску.
— Можно узнать какие? — спросил он.
— Нет, еще нет. Понимаете, это всего лишь набросок… Ну да, набросок.
— Понимаю.
Они замолчали.
— Я вам сегодня нужен? — прервал молчание Вюльмар.
— Вообще-то нет. Если только вы не хотите попытаться…
— Нет, нет, я не участвую. Я вам уже сказал, что…
— Ладно, ладно, — крикнул Браббан.
— Кстати, — сказал Вюльмар, — на днях я сдаю экзамены. А через три недели уезжаю на каникулы. Надеюсь, вы тоже дадите мне отпуск и предоставите небольшую свободу действий.
— Естественно. А я тем временем все подготовлю.
Вюльмар поднялся.
— В понедельник покажу вам машину.
Браббан удовлетворенно улыбнулся.
— И уеду на ней на каникулы, — добавил Вюльмар.
Он вышел. Не меньше часа Браббан провел, ничего не делая; он рассеянно вспоминал различные случаи из своего прошлого. Около четырех ему внезапно вздумалось навестить мадам Дютийель.
— Что-то нечасто я вижу тебя в нынешнем году, — произнесла эта дама, участливо глядя на него. — Дела не ладятся?
— Да, — мрачно ответил он.
Он отчасти ломал комедию, все было не так мрачно, как показывал рисунок его бровей.
— Бедный мой Луи, чего тебе не хватает?
— Честолюбия.
— Честолюбия?
— Да, помнишь, что ты мне сказала? Что у меня слишком скромные запросы. С тех пор как ты вбила мне это в голову, у меня все не заладилось.
— Меня это очень расстраивает, Луи. Я не желала тебе зла.
— Зло уже свершилось! У меня теперь ничего не выходит. Я презрел мелкие аферы. А между тем остался без единого су.
— Бедняга Луи, так ты на мели? Может, ты хочешь, чтобы я одолжила тебе денег?
— Мне бы это не помешало.
— Старинному клиенту вроде тебя не отказывают. Сколько ты хочешь?
— Пять тысяч франков, к примеру.
Мадам Дютийель аж вздрогнула. Сумма была внушительная. Она открыла небольшой сундучок и протянула Браббану пять пачек купюр. Он рассовал их по карманам, которые, судя по виду, были у него глубокими.
— Спасибо, — просто сказал он.
— И что ты теперь собираешься делать?
— Не представляю. В смысле, проверну что-нибудь крупное, но не знаю, что именно.
— Ты не боишься, что?..
Он пожал плечами.
— Я ничего не боюсь. Я стреляный воробей.
— И у тебя нет ни малейшего представления о том, что это будет?
— Нет.
Он помялся.
— За это время в моей жизни произошли перемены.
— Какие?
— У меня теперь есть секретарь. Приятный, активный, находчивый молодой человек. Парень — что надо. А еще у меня машина, гоночный автомобиль. Катит потрясающе.
— Я тебя не узнаю! — со смехом сказала мадам Дютийель. Браббан поднялся, поправил галстук.
— Я хотел тебе еще кое-что сказать… На меня как на клиента больше особо не рассчитывай.
— Любовь прошла? — спросила мадам Дютийель; она неправильно поняла.
— Прошла! — усмехнулся месье Дютийель. — Все только начинается.
Выходя, он мял лежащие на дне карманов пачки купюр. До встречи с Фаби оставалось провести еще четыре часа. Он сел в такси и велел доставить его в «Людо». Толю ждал его там и смотрел, как играют мастера.
— Пойдем? — предложил Браббан.
Но все бильярдные столы были заняты.
— Я первый в очереди, — сказал Толю.
Официант указал им на стол, который, скорее всего, должен был им достаться. Два старика приблизились. Стол занимали Тюкден и Бреннюир.
— А, попались! — шутливо воскликнул Толю.
У двух игроков его скрипучий голос радости не вызвал.
— Мы скоро закончим, — сказал Бреннюир, — 86 на 81.
— Кто ведет?
— Тюкден.
Старики тем временем сели на диванчик. Тюкден запорол карамболь.
— Слабовато у вас получилось, — сказал Толю.
Бреннюир в свою очередь промахнулся.
— Надо было играть на красный, — заметил Браббан.
— И решительнее, — добавил Толю.
Тюкден сделал случайное касание.
— Вот что значит каждый раз не тереть мелом, — вывел из этого мораль Браббан.
У Бреннюира не вышел рикошет.
— Это было рискованно, — сказал его дядя. — Лучше бы попробовал четырехбортный удар.
Под неусыпным оком всезнающего старшего поколения нервы молодых постепенно напряглись до предела.
— Это ваши книжки? — спросил Браббан, указывая на две книги, валявшиеся на диване.
Тюкден утвердительно кивнул.
Браббан мельком взглянул. «Лорд Джим»[86] — прочел он на первой. Книга была на английском, и название ни о чем ему не говорило. Другая была озаглавлена «Подземелья Ватикана»[87].
— О чем здесь пишут? — небрежно спросил он.
Тюкден взглянул на него с презрением.
— О молодом человеке, который убил старого, — дерзко ответил он.
С тех пор как он носил ремень вместо подтяжек, а также курил английский табак, а также читал Конрада в оригинале, он ощущал некоторую уверенность в себе.
— Там случайно не идет речь о Папе? — не отставал Браббан.
— Какой уж тут Папа…
Тюкден забил сотое очко. Бильярдный стол освободился. Оба молодых человека ушли в отвратительном настроении. Их немолодые знакомые сыграли партию. Но Браббан, который в тот день не старался понравиться Толю, закатил ему под ребра целую серию ударов ценой в двадцать пять очков каждый. Пилюля не мог в это поверить.
— Надо же, дорогой мой, вы сегодня были в форме. Что это с вами случилось?
Браббан скромно потупился. У него впереди было еще полчаса до встречи с Фаби в «Таверн дю Пале». Он проводил Толю в «Суффле» и перехватил с ним по порции перно. Месье Бреннюира не было. Пилюля ненадолго отлучился: им овладело внезапное желание опорожниться. Браббан воспользовался этим и подозвал Альфреда.
— Скажите, Альфред, вчера был благоприятный день?
— Для сердца или для ума?
— Для сердца, Альфред. Для сердца. Только никому не говорите.
— Месье знает, насколько я неболтлив.
Альфред заглянул в новенький блокнот.
— Я о вас подумал, — сказал он. — И заранее все подсчитал.
Браббан выложил двадцать франков.
— Вчера для вас был исключительно удачный день, — сообщил Альфред. — Особенно по части того, о чем вы говорили.
Клиент, похоже, был рад. Но через секунду вдруг забеспокоился.
— Послушайте, Альфред, вы всегда обещаете мне только успех. Неужели у меня не бывает неудачных дней? Или вы просто не говорите мне всю правду, чтобы не огорчать?
Альфред показал свой блокнот.
— Вот мои расчеты, месье Браббан. Все по науке. Я ничего не добавляю.
— Я вам верю, Альфред, верю.
Вернулся Толю.
— Вы уже уходите? — спросил он, увидев, что Браббан надевает шляпу.
— Простите меня, срочное дело. Передайте привет Бреннюиру.
— В понедельник я отыграюсь, — сказал Толю.
Браббан изобразил головой «да, да» и спешно вышел.
Быстрым шагом спустился по бульвару Сен-Мишель до «Таверн дю Пале». Вошел с замиранием сердца. Фаби уже была там.
XXIII
Винсен поднялся по бульвару Сен-Мишель до вокзала «Пор-Руаяль». Было жарко, он только что сдал экзамен по истории фило(софии). Прошел автобус маршрута U. Было очень жарко. Винсен перешел улицу и уселся на террасе «Брасри де л’Обсерватуар». Выпил кружку пива. Он возвращался пешком к родителям, которые жили на улице Конвента. У Бреннюира теперь был диплом по филологии и праву; этим же вечером он должен был уехать с сестрой на каникулы. И уже попрощался. Сам Винсен этим летом снова оставался в Париже. Бреннюир отправлялся в полк в ноябре. Так что наверняка они больше не встретятся. Бреннюир попрощался, и их дружба вмиг испарилась. На улице, давившей духотой, пахло пылью и навозом. Винсен следил за движениями людей и предметов, но смотрел сквозь этих людей и сквозь эти предметы. Бреннюира он не особенно любил, но последние шесть месяцев они виделись почти каждый день. Винсен сосчитал на пальцах, действительно ли это шесть месяцев, и оказалось, что немного меньше. Получив свои солидные корочки, Бреннюир готовился стать офицером запаса; позже он будет чиновником. Винсен счел это слишком скучным и слишком ничтожным. Бреннюир пожал ему руку, попрощался и уехал на каникулы. Винсен же никогда не уезжал на каникулы и никогда не путешествовал, но чувствовал, что становится другим с тех пор, как носит ремень вместо подтяжек, курит английский табак и читает Конрада в оригинале. И де Фо[88], и Стивенсона, и Джека Лондона. И «Барнабут»[89] также в оригинале. Он не путешествовал, зато много читал и презирал эту будничную, обыденную жизнь, но совершал лишь ребяческие попытки покончить с нею. Он выпил еще кружку пива, поскольку было чрезвычайно жарко. Прошел автобус маршрута U. Стала образовываться толпа, поскольку близился конец дня — обычного и рабочего. На террасе и здесь, и там, и вон там рассаживались люди, поскольку от жары у тучных потели лбы, у флегматиков — руки и очень у многих — ноги. В этой толпе периодически встречалось какое-нибудь необыкновенное, восхитительное создание, но любая возможная связь была невозможна между ним и ею. Он быстро пришел к этому выводу. И не желал, чтобы самая очаровательная из этих женщин подсела к нему, поскольку знал наверняка, что не решится с ней заговорить. Роэль достиг в университете некоторых успехов, о чем говорили листки, развешенные в коридорах учебного заведения; но найти его не представлялось возможным. Бреннюир. Роэль. Винсен поставил рядом и третье имя — тот, кто его носил, несомненно, каждую ночь мог видеть, как небо покрывается инкрустациями созвездий. Винсен никогда не путешествовал. «Из Гавра много кораблей уходит…» — цитировал он сам себя. Бреннюир, Роэль, Ублен. Друзья исчезали из его жизни, словно были рождены лишь для того, чтобы на короткое время объявиться в его мире; Бреннюир не представлял из себя ничего особенного, Роэль был настоящим другом, зато Ублен был загадкой, живым утверждением Приключения. В глазах Винсена Ублен обеспечивал значимость таких понятий, как Случайное, Беспричинное, Неизвестное, и только эти кардинальные понятия могли, по его мнению, придать смысл любой жизни. Винсен измерял расстояние, отделявшее его от всего этого, и, несмотря на посредственность и заурядность своего существования, ему достаточно было вспомнить Ублена, вспомнить, что он жил рядом с этим человеком, чтобы осознать возможность незамедлительного и внезапного преображения своего бытия, которое принесло бы избавление от ненавистных пут, обхвативших его так, что каждое усилие, предпринимаемое, чтобы освободиться, делало их еще туже. Потому он вел свою посредственную жизнь, пребывая в уверенности, что желанный миг настанет; и когда осознавал, что в нем живет эта надежда, то ругал себя за омерзительный оптимизм, поскольку пессимизм представлялся ему единственно приемлемым мировоззрением, единственным соответствующим реальности. Винсен проповедовал веру в пессимизм. Он расплатился за пиво и ушел.
Он спустился к Монруж, испытывая привычное одиночество при соприкосновении с толпой, кишевшей на авеню д’Орлеан перед магазинами со жратвой. Три друга, три расставания: так было всегда, еще в детстве, начиная с того приятеля, который умер и чье имя он едва помнил, и заканчивая тем, который работал в Гавре у одного торговца и с которым они обменивались редкими, лишенными всякого интереса письмами. Мало-помалу Винсену открывалась его отчужденность; раздвигая направо и налево безликих индивидов, он вдруг понял, что остался совершенно один на этой земле, и ужаснулся.
Улица Алезиа идет от церкви Монруж к железнодорожному мосту. Улица Вуйе идет от моста к Кронштадтской улице. Затем следует улица Конвента. Тюкден-старший с нетерпением ждал возвращения сына, сильно сомневаясь, что тот принесет хорошую новость. Мадам Тюкден не сомневалась, она была уверена в успехе Винсена, но все время стучала по дереву, чтобы не сглазить. Она была высокая и худая и сильно напоминала улицу Вуйе, поскольку тоже была одета в темное и мрачно-прямое и походила на эдакий повисший фаллос. Месье Тюкден любил блюда с соусами и рагу, любовь к рагу разделяла и мадам, и под этим соусом у них сложилось согласие. На всякий случай горничной велено было приготовить на вечер наваристое блюдо с бараньими ножками в подливке «пулет» — чтобы отпраздновать успех наследника. В случае провала блюдо с бараньими ножками в подливке «пулет» растянули бы на два ужина вместо одного.
Вошел Винсен. Новость оказалась хорошей. Блюдо с бараньими ножками в подливке «пулет» было уничтожено. Поглощение пищи сопровождалось распитием бургундского. Винсен болтал, разглагольствовал, ораторствовал, лоб у него покрылся потом, поскольку жара была беспредельная. Тюкден-старший смотрел в будущее с уверенностью; через год Винсен закончит учебу, станет офицером запаса, а затем госслужащим. Винсен рассказал о Бреннюире. Семья была в восхищении. Винсен чувствовал себя трусом; он решил, что виной тому бургундское. За десертом Тюкден-старший откупорил бутылку игристого и тоже объявил хорошую новость. Они проведут месяц у кузена Боршара, державшего харчевню в небольшой деревушке к югу от Нанта. Отъезд был назначен на 1-е июля.
Отъезд состоялся 1-го июля. Путешествие, отличавшееся заурядностью, было напичкано тривиальными происшествиями и мелкими неувязками. Ночь провели в поезде. Винсен не мог уснуть.
В Нант прибыли рано утром, осмотрели город и порт, сравнивая их с Гавром. Во второй половине дня сели в пригородный поезд, и к пяти часам семейство Тюкденов высадилось в пункте назначения. Кузен Боршар приехал за ними на двуколке; он отвез всех в свое пристанище, дощатый дом, на который наступали пески. Кузина стряпала еду для двух бедолаг-пансионеров, на которых плохая кормежка словно нагнала порчу. Придурковатая служанка обслуживала редких посетителей. Туристы были немногочисленны, поскольку купаться было нельзя: во время отлива пляж становился грязным, а во время прилива небезопасным. Впереди блином лежал на солнце остров Черного монастыря. Винсену место понравилось, но мадам Тюкден была разочарована. В первый день между отцом и кузеном произошел небольшой спор из-за стоимости пансиона. Но все уладилось. Потекли дни — и дни, и ночи.
Среди клиентов кузена Боршара был будущий студент факультета права, исполненный сознания своей утонченности и старательно заботившийся о внешности. Хотелось спросить, каким чудом он оказался в песках этого пляжа. Были двое русских, которые жили на отдельной вилле, охраняемой собаками. Когда они появлялись, то включали фонограф и танцевали. Будущий студент обменялся с Винсеном несколькими словами, но общение не завязалось. Студенту требовалось одно: чтобы его поразили историями из жизни Латинского квартала, но Винсен не поведал ему ни одной, и кроме того, он ничего не понимал в вопросах гардероба и косметики, волновавших юного жителя Нанта. В общем, все приходили довольно часто, включали фонограф и танцевали. Боршар в конце концов просек, что молодой человек был любовником «блистательной русской» — так кузен ее называл. Ночью было слышно, как вдали, на вилле, заливаются лаем псы.
Когда они, русские, приходили, Винсен страдал, главным образом от присутствия женщины. Он не мог смотреть, как она танцует с молодым человеком, не испытывая болезненного ощущения, доводившего его до ужаса. Мужчина, русский, целый день пил коньяки с водой. Когда другие танцевали, он готовил следующий диск и заводил фонограф. Семейства Боршаров и Тюкденов отпускали по этому поводу шуточки, возмущавшие Винсена. Он совершал долгие прогулки в деревню, но виллу русских всегда обходил. Все стало для него тягостным, давящим. И он с облегчением узнал однажды вечером, что молодой человек утопился. «Это тоже не добавит клиентов в наших краях,» — сказал кузен Боршар. Русские покинули место, не расплатившись за коньяки с водой. Началось время затяжных дождей. Умершее лето портило горизонт, по небу тащились синие тучи, похожие на падаль. Хибара-отель был пропитан влагой; все побаивались, как бы он не приказал долго жить от водянки. Служанка хряпнулась носом в супницу, неудачно упав с высоты. Боршары переживали. Тюкдены хотели уехать. Запершись в своей комнате, Винсен читал.
XXIV
Была суббота. Синдоль работал по принципу «английской недели»[90]. Он доехал на трамвае до остановки «Казино». Спустился по лестнице напротив бань и, скользя по гальке, добрался до сарая, выкрашенного в светло-серый цвет. Мюро, лежа в шезлонге, читал фривольную газетенку. Понсек чинил футбольный мяч.
— Наш старик Синдоль, — сказал Мюро.
Он смотрел на него снизу вверх и сверху вниз.
— Ну что, чем занимаетесь? — спросил Синдоль.
— Налить тебе виски? — предложил Понсек. — Роэль вчера спер в Казино бутылку.
— Да-да, мы будем пить виски, — сказал Мюро, вставая. — Вот только льда нет.
Он извлек из темного угла напиток и сифон.
— Это Роэль свистнул? — спросил Синдоль.
— Да, вчера. Отлично повеселились, — сообщил Понсек.
Все трое расселись со стаканами в руках.
— Ну что, чем занимаетесь? — спросил Синдоль.
— Все так же медициной, — ответил Мюро. — Во время каникул о ремесле ни слова.
— А у Роэля уже есть диплом?
— Какое там. У него пока ровно четверть диплома. Кстати, этой зимой он вляпался в историю. Сделал ребенка одной цыпке, это было что-то. К счастью, я все уладил.
— Каким образом?
— Интересно, да? Если когда-нибудь понадобятся мои услуги, обращайся.
— Да-да, обращайся, — подхватил Понсек. — Обойдется всего в сто франков.
— Не ври! Я с Роэля ничего не взял. Он сам тебе скажет, морда!
— Он не пишет для журналов? — спросил Синдоль.
— Кто? Роэль?
Мюро никогда не рассматривал эту возможность. Он пожал плечами.
— А Тюкден? — спросил Синдоль.
— Ну, этого теперь увидишь нечасто. Встретишь его — считай, повезло. Причем смотрит он на нас свысока, свою значимость подчеркивает. Честное слово. Мы всего лишь несчастные студенты-медики, в то время как он читает святого Фому на латыни и знает, с какой стороны надо смотреть на кубистскую картину. У нас тут видишь, как; понятно, что он нас презирает.
— Святой Фома — это что?
— Пфф! Модные штучки. Церковники агитацию разводят.
Синдоль предпочитал не говорить о церковниках.
— Вы знаете, что Ублен в конце года возвращается?
— Кто-кто, а он их здорово потряс.
— Кого потряс?
— Да Роэля и Тюкдена. Старик, когда они о нем говорят, то аж захлебываются. Раньше, помнишь, что только Роэль ни рассказывал об Ублене, а как он ерничал! Зато теперь Ублен для них — авантюрист, искатель приключений, ни на кого не похожий, потому что состриг волосы и уехал в Бразилию скупать кофе для своего дядюшки. Хотя все гораздо проще. Ничего удивительного в этом нет.
— Вообще-то я удивился, — сказал Понсек, — когда встретил его здесь накануне отъезда. Все-таки ничто не предвещало… Я решил, что это странно.
— Да ну, в жизни все просто, — возразил Мюро, — чего зря голову ломать?
— У нас об этом столько разговоров было, — сказал Синдоль. — Никто ничего не понял.
— Провинциальные пересуды, — заявил Мюро.
— А как ты сам объясняешь его отъезд?
— Очень просто. Ему опротивела жизнь бедного студента, и он подался в коммерцию. Ты ведь тоже подался в коммерцию.
— Ну да, но с ним это случилось в один день.
— Разве не бывает, что решения принимают враз? И кто сказал, что он не подготовил все заранее, только скрывал?
Остальные молчали. Мюро продолжил:
— Меня убивают люди, которые во всем ищут загадки. Жизнь простая и ясная, надо только посмотреть вокруг, чтобы это понять.
— Я в этом не уверен, — сказал Понсек.
— Я тоже, — согласился Синдоль.
— Да ну вас в пень, — заключил Мюро.
Вошел Роэль.
— Вы уже виски пьете, не могли меня подождать? Купаться не собираетесь?
Он разделся.
— Как дела у Тюкдена? — спросил Синдоль.
— В последнее время я его почти не видел. Я не хожу в Квартал.
— Из принципа, — произнес Мюро.
— Да заткнись ты.
Роэль был в одной сорочке. Проходившая мимо девушка вскрикнула. Он принялся скакать козлом. Она убежала.
— Из-за тебя ее папочка и мамочка придут с нами разбираться, — сказал Мюро.
— Будут недовольны — трахнем доченьку, — ответил Роэль.
— Мы тут говорили об Ублене, — сказал Понсек.
— Флаг вам в руки, — отозвался Роэль.
— Он в конце года возвращается, — сказал Синдоль. — Так он мне написал.
— Это все, что он сообщает? — с интересом спросил Роэль.
— Ну да, все. Похоже, ему там хорошо работается. Мне сказал один парень из его конторы.
— Ты по-прежнему от него в восторге? — спросил Мюро у Роэля.
— Больше, чем от тебя, — ответил Роэль.
Он направился к Ла Маншу; пролив находился всего в нескольких метрах. Понсек и Синдоль начали партию в шахматы, Мюро, лежа в шезлонге, набил трубку и сделал вид, что думает. Роэль вернулся, отряхивая пальцы ног.
— Море теплое? — рассеянно спросил у него Мюро.
Тот изобразил головой «да-да» и, пыхтя, стал вытираться. Он оделся и выпил виски.
— Терпеть не могу эту игру, — сказал он, глядя на шахматистов. — Мой братец не приходил?
— Нет, — ответил Мюро. — Слушай, ты не согласен, что жизнь в сущности очень проста?
— В каком смысле?
— Я об Ублене. Ты про него столько всего нафантазировал. А что на самом деле произошло? Ему надоело сидеть на бобах в Париже, вот он и подался в коммерцию.
— И уехал в Бразилию. Это уже что-то.
— Ну да, есть такая Бразилия. Но знаешь, в Бразилию уехала куча народу. Миллионы.
— Вообще-то речь не о Бразилии, — сказал Роэль, — а о том, чтобы вот так вдруг, за один день переделать свою жизнь. Тебе этого никогда не понять.
— Вот именно, — поддакнул Понсек, не поднимая головы.
Роэль зажег сигарету.
— Слушайте, а вы помните Пилюлю?
— Старый баран, — сказал Понсек.
— На днях я встретил его у Люксембургского сада. Он меня тут же узнал, схватил за рукав, так что вырваться было невозможно. Но потом я об этом не пожалел, потому что с ним оказалось до чертиков интересно.
— Еще один, — произнес Мюро.
— Угадайте, о чем он думает. Нет, никогда не догадаетесь. У него угрызения совести. По какому поводу угрызения? Он боится, что плохо учил нас географии. А почему боится? Потому что не путешествовал.
— Полный маразм, — произнес Мюро.
— Вот он и хочет попутешествовать. Естественно, он все равно останется не путешествовавшим учителем географии. Но как бы то ни было, он весь в угрызениях совести, они так и прут из него. Он серьезно спросил, пригодились ли мне хоть чем-нибудь его уроки географии.
— Окончательно свихнулся, — произнес Мюро.
— Могу спорить, ты ответил, что они не принесли тебе никакой пользы, — сказал Понсек.
— Нет, вовсе нет, но я всячески призвал его отправиться в кругосветное путешествие.
— Хочешь, чтоб он сдох? — спросил Понсек.
— Значит, теперь тебе нравится старик Толю, — произнес Мюро.
— Да. По-вашему, не удивительно то, что он мне рассказал?
— Пфф! Он свихнулся, вот и весь сказ. Жизнь очень проста, старина.
— Ладно, я пошел, — сказал Роэль. — Можешь болтать глупости, сколько хочешь. Появится мой папаша — скажите, что я дома. Встречаемся вечером в Казино?
Решено. Будет очередная пьянка.
XXV
Толю поднялся по бульвару Сен-Мишель до вокзала Пор-Руаяль. Было жарко, и он только что сыграл партию в бильярд с Браббаном, последнюю в этом сезоне. Прошел трамвай маршрута 91. Было по-настоящему жарко. Толю перешел улицу и уселся на террасе «Брасри де л’Обсерватер». Выпил кружку пива. Решил, возвращаясь домой, прогуляться. Он жил в тихом семейном пансионе возле Обсерватории. Браббан уезжал в путешествие и собирался вернуться только в октябре. Бреннюир отправлялся на каникулы в Динар с детьми, Толю оставался в Париже один. На улице, давившей духотой, пахло пылью и навозом. Толю следил за движениями людей и предметов, но смотрел сквозь этих людей и сквозь эти предметы. Он попытался вспомнить, как давно знает Браббана, и стал подсчитывать на пальцах. Он старался найти какие-нибудь исходные точки, чтобы определить дату. Толю тыкался в прошлое, как древесное насекомое, но прошлое, пока было за спиной, успело так затвердеть, что ему никак не удавалось пробуравить себе лазейку. Он смог извлечь из памяти лишь некоторые несомненные факты, как то: он встретил Браббана в Париже, а не в Гавре, и, следовательно, с момента их знакомства не могло пройти более трех-четырех лет. Впрочем, Толю уже не помнил, когда покинул провинцию: четыре года назад, или пять, или более. Война нисколько не помогла ему установить хронологию. В любом случае он поддерживал отношения с Браббаном уже несколько лет. Искусный игрок в бильярд, — рассуждал Толю, — но не такой хороший, как он сам. До Толю все не доходило, что за последнее время он не сумел выиграть ни одной партии. У него появилась привычка обыгрывать Браббана; и вдруг потребовалось привыкать к поражениям. Для Толю не было ничего более неприятного. Партнер уже не казался ему столь симпатичным, и он выпил еще кружку пива, поскольку было чрезвычайно жарко. Прошел трамвай маршрута 91, набитый битком. Был конец дня — обычного и рабочего. Толю думал о том, что заслужил свою пенсию, что за его спиной жизнь, прожитая с честью, в труде и в ладу с профессиональной совестью; его начальство не оценило это по заслугам, но ему есть чем гордиться. Конечно, его изыскания в узкой области знаний все-таки были отмечены скромным знаком отличия, но ему порой казалось, что его заслуг достаточно для получения ордена Почетного легиона. Однако заслужил ли он эту награду? Перестав преподавать, он стал испытывать угрызения совести; сперва смутные, но с каждым днем все более отчетливые. В течение многих и многих лет он преподавал географию и никогда при этом не путешествовал. Сначала это была просто констатация любопытного факта, ставшего в конце концов страшной реальностью. Началось с того, что ему захотелось попутешествовать ради себя самого, чтобы восполнить годы пребывания на одном месте. Но то, что он преподавал географию и никогда не путешествовал, в конечном счете стало расцениваться им как злоупотребление доверием, жульничество, жертвами которого оказались тысячи детей и их родителей. Нет, его жизнь не была прожита честно, в труде и в ладу с профессиональной совестью; это была не жизнь, а сплошное надувательство и обман. Толю пытался спорить с самим собой; говорил, что география не имеет ничего общего с путешествиями, и то, чему он учил детей, не требует реального знания мест, о которых шла речь; он также говорил, что земля слишком большая и всю ее объездить невозможно, что иначе география не могла бы существовать; он говорил себе многое, но ничто не могло победить страшную реальность: он преподавал то, чего не знал. Ах, если бы ему довелось попутешествовать, как Браббану! Казалось, Браббан знает все страны, все города; в какую степь ни направь разговор, у него всегда готовы воспоминания о каком-нибудь удаленном месте. В каких уголках мира он только не побывал! Толю завидовал ему белой завистью, а теперь, когда Браббан стал выигрывать у него в бильярд, — еще и черной. Тут и до ненависти было недалеко, поскольку старик думал, что у Браббана совесть чиста, что это по-настоящему честный человек, в то время как он, Толю, несмотря на внешнее благообразие, — обычный жулик. В смысле, моральный жулик; он тут же поспешил сделать эту оговорку, чтобы успокоить свою нечистую совесть. В чем могут упрекнуть себя Браббан, Бреннюир? Они разбираются в своем деле. А он в своем — нет. Он расплатился за пиво и ушел.
Семеня к своему жилищу, Толю думал о том, как одинок он на этой земле. Никогда еще он не осознавал это настолько остро. Может, он окончательно состарился? Он стал перебирать людей, которых знает, которых знал раньше или просто встречал. Да, он был совершенно одинок в этом мире. Кому он способен доверить свои переживания? Свояку, племяннику, Терезе? А может, Браббану? Может, Браббану… Но Толю не любил проигрывать в бильярд.
В семейном пансионе, где он жил, обеденные часы были строго установлены. Ужинали в семь-тридцать. В семь-двадцать пять он уселся за накрытый стол. Некоторые постояльцы уже разворачивали салфетки. Другие появлялись по одному или дюжинами. Госпожа хозяйка наблюдала за диспозицией. В семь-тридцать процесс начался. Толю ел не спеша, стремясь тщательно распробовать то, что клал себе в рот. Нельзя сказать, что он был гурманом; просто не хотел зря терять время, проводимое за столом. После каждого блюда он старательно вытирал губы. Когда подали сыр[91], госпожа хозяйка ойкнула про себя; она забыла передать месье Толю почту. Но поскольку он никогда не получал писем, то единственный раз, когда письмо пришло, простительно не вспомнить о том, что надо передать его получателю.
Толю вытер нож о хлеб и разрезал конверт, одновременно разжевывая очередной кусочек. Развернул лист бумаги и взглянул на подпись. Ну да; у него был брат, младший. В течение тридцати лет он был со старшим в ссоре. Он ненавидел его так же, как спекулянтов. Брат написал длинное письмо, в котором сообщал, что скоро умрет и хотел бы увидеть его перед этим тягостным событием. Чтобы оправдать эту просьбу, он взывал к самым высоким и самым благородным чувствам — таким, как братская любовь и семейная честь. Толю усмехнулся. Он и сейчас отлично помнил своего брата и то, как они друг друга ненавидели. А теперь брат предлагает ему мир, потому что умирает. Толю усмехнулся. Что он себе позволяет! Все такой же скобарь. Толю взглянул на адрес. Письмо пришло из Лондона. Он взял конверт и стал любоваться профилем Георга V. Старик закончил ужин, предаваясь весьма сбивчивым раздумьям. Он не отдавал себе отчета в том, о чем думает. Чувствовал, что запутался, что его мысли путаются.
Он поднялся к себе в комнату. Из открытого окна были видны деревья Обсерватории. Он сел и стал ждать, когда наступит настоящая ночь. Пытался вспомнить, почему же они так друг друга ненавидели. Толю хорошо относился к брату, это брат его ненавидел. А за что? За то, что Толю помешал ему сделать глупость. Других причин не было; а брат вместо того, чтобы испытывать благодарность, хотел его убить. Толю подошел к делу весьма сноровисто и никакими хитростями не пренебрегал. Женщина исчезла. Брат вместо того, чтобы испытывать благодарность, хотел его убить. Возможно, теперь, на пороге смерти, признательность зародилась-таки в его неблагодарном сердце. Толю усмехнулся, но затем вдруг заставил себя посерьезнеть. Он обязан был принять это приглашение к примирению. У него были небольшие сбережения; путешествие в Лондон не должно было обойтись слишком дорого. Впрочем, разве Теодор не предлагает ему компенсировать затраты? Очень мило с его стороны. Ночь превратилась в уголь. Толю закрыл окно и включил электричество. Он взглянул на конверт и расшифровал марку с датой: «LONDON, S.E. 26». Итак, он, Толю, отправляется в путешествие. Он уснул, восхищаясь благородством своих чувств и повторяя, что его жизнь была в значительной мере прожита с честью, в труде и в ладу с профессиональной совестью.
На следующий день он взялся улаживать формальности, необходимые для получения паспорта, и делал это с юношеским энтузиазмом. Потом с нетерпением стал ждать. Съездил на вокзал Сен-Лазар, чтобы справиться о ценах и расписании. Задумался, нет ли у него морской болезни. Оказалось, что есть. В Нью-Хейвене он убедился, что английский — иностранный язык. Высадился в Кройдоне и сел в поезд до Пенджа. На вокзале услужливый субъект нарисовал ему на клочке бумаги, как добраться до указанного места. Пройдя двадцать минут пешком, Толю очутился на довольно длинной улице, состоящей исключительно из одинаковых домов. Левая сторона была отражением правой, а правая — копией левой. В 145-й дом Толю позвонил. Открыла домработница. Она что-то сказала, он, естественно, не понял. Только часто закивал головой. Интерьер был достаточно убогим. Женщина показывала дорогу. Они поднялись на второй этаж. Она толкнула дверь. Толю проскользнул в комнату и увидел Теодора, явно лежащего в агонии. «Он и в самом деле умирает», — подумал Толю. Он не решался подать брату руку. Тот улыбнулся, но Толю тотчас понял, что эта улыбка не предвещает ничего хорошего. Тогда его брат заговорил. Он высказал свою ненависть ясно и недвусмысленно и добавил, что не привык менять мнение в последний момент. Вот все, что он хочет ему сказать. Толю начало покачивать. Брат умирал у него на глазах, смеясь, — жуткая смерть.
Толю ушел, удрученный столь упорной неблагодарностью. На вокзале в Пендже он поинтересовался, каким образом можно вернуться во Францию. Ничегошеньки не понял из того, что ему объяснили. В конце концов, провел прескверную ночь в небольшом пригородном отеле. На следующий день вернулся в Париж, уставший после такой прогулки. Тогда он вспомнил, что можно было заодно посмотреть Лондон. Но он больше не думал о путешествиях. Тяга к приключениям и удаленным уголкам прошла. Теперь он думал о смерти. О своей смерти.
XXVI
— А вот и я, — объявила Фаби.
— Надо же, — сказала Ниви, — я уж думала, мы тебя больше не увидим.
— Я рада, что ты здесь, столько всего хочу тебе рассказать, причем необычного, киска, очень необычного.
— С твоим стариком все в порядке?
— Он такой человек… я таких еще не видела. Только знаешь, все, что я расскажу, держи при себе.
— Никому ни слова.
— Вообще, он действительно старик. Ему семьдесят лет.
— Ничего себе, — сказала Ниви.
— Но он на столько не выглядит. А знаешь, чем он занимается?
— Не знаю.
— Управлением недвижимостью. Недвижимость за границей, которая принадлежит французам, и французская недвижимость, принадлежащая иностранцам.
— Странный бизнес.
— Еще более странный, чем ты думаешь, потому что недвижимость не существует.
— Да ты что?
— Ну да. Это все прикрытие. На самом деле с моим стариком не соскучишься, еще тот старый разбойник.
— Ой, не свисти.
— Ничего подобного. Никогда не догадаешься, где он побывал.
— Хватит, не тяни.
— На каторге.
— Он убийца?
— Нет, бывший нотариус.
— Крепко же ты вляпалась.
— Это почему?
— Недолго и в тюрьму угодить с таким субчиком.
— Да брось ты! Он хитер. Ни разу в тюрьму не заглядывал.
— А каторга?
— Ну, это не в счет.
— И богатенький у тебя банкир?
— Так себе. Но скоро поправит свои дела. Он готовит потрясающую аферу, на которой неплохо наживется.
— И что это будет?
— Ну, этого я тебе сказать не могу, сама понимаешь. А в остальном — придержи язык, ясно?
— Еще бы.
— Да, кстати, помнишь парня, который катал Сюз на машине?
— Тот, у которого был «амилькар»?
— Он самый. Так вот, это секретарь Браббана.
— Браббана?
— Моего старика зовут Браббан, Антуан Браббан. Красивое имя, правда? Вообще-то у него десятки имен, одно красивее другого.
— Похоже на «Ландрю».
У Фаби сделался такой вид, будто ее громом поразило.
— Что ты несешь?
— Испугалась?
— Я? Нет, вот еще.
— А похоже, что испугалась. Правда, знаешь, он, наверное, что-то вроде Ландрю. Будь осторожна.
— Киска, я пришла не для того, чтобы выслушивать твои глупости, ясно? Говорю тебе, он просто жулик и ничего другого.
— Я тебе верю. Ты знаешь его лучше меня.
— Сказать, куда он недавно меня водил? На матч Карпентьер — Сики[92].
— Наверное, мировое зрелище.
— Спрашиваешь. Потрясающее. Сики офигенный. Отправил противника в кено-каут, это надо было видеть. Еще бы меня это не потрясло. Тем более, что мы сделали ставку. Я перетрусила: думала, старик проиграет, но у него был такой уверенный вид.
— Он поставил на Сики?
— Тысячу из расчета десять против одного.
— И не побоялся?
— Он был уверен в себе. Один официант нашептал ему какой-то секрет.
— А что, его официант в этом разбирается?
— Ой, это отдельная история. Похоже, этот тип предсказывает будущее. Он смотрит на звезды, что-то подсчитывает, и готово дело. Никогда не ошибается. Когда старик хочет на что-нибудь поставить, он идет к нему и спрашивает, что будет. Или когда берется за какое-нибудь дело, то тоже идет к нему и, в зависимости от того, что услышит, продолжает или бросает.
— Чушь собачья!
— Говори, что хочешь, только знаешь, со стариком такие штуки происходят сплошь и рядом. В любом случае, победа Сики принесла нам десять тысяч. Совсем неплохо, пока ждешь жирный кусок.
— Про меня не забудь.
— Я о тебе подумала.
Она достала из сумочки купюру в пятьсот франков.
— Купишь себе что-нибудь и оплатишь папины долги в бистро.
— Ты моя любимая сестренка.
— Угадай, куда мы после всего этого отправились.
— Не могу.
— У нас было небольшое путешествие на Лазурный берег. Не представляешь, как там красиво. Там такие пальмы, точно как в «Атлантиде», а море синее-синее. И совсем не похоже на Дьепп: отливов не бывает. Здорово, да? Это меня старик научил. Он столько всего знает. Еще больше, чем папа. Ас!
— Ты была в Ницце?
— Конечно, киска. Ницца — это чудо. Вдоль моря идет большой бульвар, я такого еще не видела. А какая там роскошная публика! И машины огроменные!
— У твоего старика есть машина?
— Нет. Но скоро будет. Когда отвалится жирный кусок. Вот увидишь.
— Про меня не забудешь?
— Нет, Ниви, киска. У меня идея. Знаешь, что я для тебя сделаю? Найду тебе благородного мужа.
— Ого.
— Это меня тоже старик научил. Оказывается, есть графы и маркизы, впавшие в безденежье, — за них выходят замуж. Это сколько-то стоит. И ты становишься графиней или маркизой. А еще знаешь, что я для тебя сделаю? Ты у меня станешь киноактрисой. Как это устроить, меня тоже старик научил. Достаточно заплатить. И становишься знаменитым, твой портрет появляется в «Сине-Магазин».
— У меня от твоих рассказов голова кругом.
— О! Я еще забыла сказать самое интересное. Мы ездили в Монте-Карло. Играли в рулетку. Потрясающе. Всю ночь там провели. Я потеряла все, что у меня было, зато старик прибрал к рукам несколько купюр по тысяче.
— Он что, такой везунчик?
Фаби помялась.
— Думаю, он просто-напросто упер жетоны у одного хмыря, которому сильно фартило.
— Отчаянный у тебя старик.
— Только никому ни слова, ладно? Представляешь, как я вляпаюсь, если все выяснится.
— Не сомневайся: могила.
— Не говори, как Борниоль, а то я вздрагиваю. А что касается Вюльмара, то старик хочет провернуть большое дело именно с ним. Он рассказал мне, что выдрессировал его, научил множеству фокусов, и теперь наш мальчик окончательно дозрел. Но я ему отсоветовала его приобщать. Знаешь, к соплякам доверия нет. Этим в пьяном виде проболтаться — раз плюнуть. По-моему, лучше было бы от него отделаться, и потом, это еще вопрос порядочности: понимаешь, мой старик рискует испортить парню жизнь. Представь, что его накроют, а? Будет о чем пожалеть. Впрочем, ничего еще не решено.
— По-моему, ты не промахнулась.
— Уверена, что не промахнулась. Для меня лучше всего, чтобы старик все сделал сам. Меньше риск, больше навар.
— А ты не дура, Фаби.
— Не волнуйся, уж я-то знаю, что к чему. Чай, там кое-что есть.
Она постучала по лбу указательным пальцем со свежелакированным ногтем. Но ее довольное выражение вдруг пропало.
— Балда, зачем ты мне это сказала?
— Что именно?
— Что он похож на Ландрю. Мне аж жутко сделалось.
— Я сказала в шутку.
— Неостроумная шутка. Если подумать, то даже глупая. Чтобы Браббан был похож на Ландрю! Не смеши меня.
— Не хотелось бы узнать, что тебя разрубили на кусочки и поджарили в печи.
— Папа точно бы огорчился! Хватит. Кстати, поцелуй его от меня. Не забудь сделать то, о чем я просила. А когда отвалится жирный кусок, я о тебе тоже не забуду, Ниви, киска моя.
Они расцеловались.
— Слушай, Фаби, я хотела у тебя кое-что спросить.
— Спрашивай.
— Ты не рассердишься?
— Спрашивай давай.
— В общем, у тебя есть любовник?
— За шлюху меня принимаешь?
— Ну, до свидания, Фаби.
— Ну, до свидания, Ниви.
XXVII
С тех пор как Браббан спустил несколько тысячных купюр, стянутых у одного раззявы-игрока, он был на мели. Фаби каждый день интересовалась, как поживает крупное дело; он отвечал «движется, движется», но она почти перестала ему верить. Он не хотел вновь возвращаться на вокзальную тропу и идти дорогой провинциалов, поскольку потерял сноровку и с ужасом вспоминал о возможности попасться на пустяке. Он снова решил растрясти мадам Дютийель, но она одолжила ему лишь несколько луидоров[93]. Однажды ему показалось, что он нашел верный способ, нечто ловко закрученное. Он бросился в «Суффле» и сел за альфредов столик.
— У меня к вам предложение.
— Слушаю, месье, — весьма сдержанно ответил Альфред.
— Как бы вы отнеслись к тому, чтобы я вас кредитовал, используя ваши знания о планетах и магнетизме.
— Не понимаю, месье.
— Ну, в общем, вы переоделись бы в факира или в магараджу, так лучше, и предсказывали бы будущее. Я бы приводил к вам клиентов. Поскольку вы никогда не ошибаетесь, репутация у вас была бы отменная и мы бы разбогатели.
— Дело в том, что я не люблю переодеваться, — сказал Альфред. — Да и коммерцию не люблю. Мне и магазинчик держать было бы не интересно, а предсказывать будущее — тем более. Месье прекрасно знает, что у меня одна цель: отыграть на скачках то, что потерял мой отец. Что до остального, то я всего лишь официант, а не прорицатель. Месье понимает, что если я иногда и сообщаю ему кое-что, то это, так сказать, из любезности.
— Я вас понял, Альфред, понял.
Браббан не стал настаивать и отправился восвояси.
Он сидел один в конторе и от отчаяния бормотал что-то себе под нос. Малютка Фаби считала его большим человеком, а он — всего-навсего жулик. Было отчего биться головой о стену. Он уже не мог свести воедино две идеи, два слова, два рудимента мысли. Браббан сидел один в конторе, разбитый, подавленный.
Постучала машинистка, просунув в приоткрытую дверь несколько локонов.
— Здесь ваш секретарь, — сказала она.
— Ага, — произнес Браббан.
Вошел Вюльмар и сел нога на ногу.
— Ну? — спокойно спросил он.
— Что ну?
— Как великая идея?
— А, ну да, — сказал Браббан, — вы же мой секретарь.
— Вы об этом забыли. А я — нет. Мне по-прежнему интересны ваши грандиозные проекты.
Браббан не ответил.
— Вы не рады меня видеть? — спросил Вюльмар.
— Идите к черту, — буркнул Браббан.
Вюльмар присвистнул от удивления.
— Вижу, у вас не все ладится.
— Вообще ничего не ладится. Если вам нужны мои идеи, то идите, откуда пришли. Мне нечего вам предложить.
— То есть, ваш запас иссяк.
— Придержите язык, молодой человек. Не забудьте, что разговариваете со стариком.
— С жуликом.
Браббан пожал плечами.
— Вы еще ребенок.
— Если я правильно понял, — сказал Вюльмар, — мне здесь больше делать нечего.
— Ясное дело, нечего.
— Выставляете меня за дверь.
— Не будем сгущать краски. Я ведь знаю, что вы проживете и без меня. Ваш батюшка…
— Вот его не трогайте. В любом случае бояться вам нечего. В полицию я на вас не заявлю.
— Вы очень любезны, мой друг.
— Я всегда считал вас обычным клоуном.
— Вам не кажется, что пора идти?
Вюльмар поднялся.
— И это из-за вас я рисковал попасть в тюрьму.
— Я вас к себе не приглашал.
— Вообще-то, да. Я наверняка избавил нашего друга Роэля от многих неприятностей.
— Видите, хоть о чем-то жалеть не придется.
— Я ни о чем не жалею, месье. Не сочтите за нескромность, можно у вас спросить, что вы собираетесь делать?
Браббан побледнел.
— Обо мне не беспокойтесь. Пожалуйста, обо мне не беспокойтесь.
— Не буду, если вам так приятнее. А если хотите знать, что я собираюсь делать, то я иду в армию.
— Надеюсь, в колониальную?
— Естественно.
— Примите мои поздравления.
Браббан протянул ему руку. Шейкхендз[94]. Вюльмар ушел.
— Мальчик будет неудачником, — произнес Браббан, оставшись один.
Он принялся описывать круги по кабинету, думая о своей честолюбивой цели и о любви, которая перевернула его старческую жизнь. Связавшись друг с другом, они оба пойдут ко дну из-за того, что у него нет воображения. Ах, если бы он взялся за дело раньше, возможно, его более молодой ум смог бы породить великие идеи; но теперь его мозг усох, как козий сыр. Браббана очень расстроило это сравнение. Он в отчаянии сел, как вдруг его осенило; он может покончить с собой. Но эта мысль тут же показалась ему отвратительной. На сем полувозникла машинистка и объявила: месье Бреннюир. Удивленный Браббан величественно отдал приказ ввести посетителя.
С радостным видом вошел месье Бреннюир и стал ненавязчиво изучать помещение.
— Прекрасный кабинет, — сказал он.
— Несколько маловат, — ответил Браббан. — Размах в делах все шире, надо и самому расширяться.
— У вас большой персонал?
— Только секретарь и машинистка. Мне хватает, поскольку я сам чрезвычайно много работаю.
Месье Бреннюир сделал удивленное лицо.
— У меня еще есть помещение на улице Нотр-Дам-де-Лоретт, — поспешил добавить Браббан, — для юридического отдела и бухгалтерии. Там у меня человек пятнадцать служащих.
— Немалое предприятие, — сказал месье Бреннюир.
— В общем, да, — отозвался Браббан, — но не такое большое, каким могло бы быть.
— Именно так я и думал, — пробормотал месье Бреннюир.
Мгновение он постоял в нерешительности, как кот на трех лапах. И поставил четвертую.
— Послушайте, дорогой Браббан, я сделаю вам предложение, принимать которое вы, разумеется, не обязаны. Мне бы очень хотелось, чтобы мой сын работал у вас, когда вернется из армии. И в виде гарантии я охотно вложил бы некоторый капитал в ваше дело.
— Буду счастлив видеть вашего сына среди моих сотрудников.
— Я бы хотел, чтобы вы взяли его не как сотрудника, а как компаньона. Спешу добавить, мой дорогой Браббан, что в качестве гарантии готов вложить в дело пятьдесят тысяч франков. И вот еще третья часть моего предложения: мне было бы исключительно приятно доверить вам управление кое-какой недвижимостью, которой я владею в Париже.
Браббан поклонился.
— Вас устраивает это предложение?
— Дорогой мой Бреннюир, кто же будет спорить с другом? По рукам. Кстати, одобряю ваше вложение капиталов, поскольку это принесет 40 % минимум.
— Помнится, когда-то вы говорили мне о 25 %.
— А Германия, мой дорогой Бреннюир? Как же Германия? Благодаря падению марки мы будем покупать дом за домом и скупим, так сказать, всю Германию, а когда марка вернется к своей обычной стоимости, доверенные нам капиталы принесут уже не 40 %, а 60, 80, а то, глядишь, и больше. Но для этого нам нужны широкие финансовые возможности, и тогда бывшая фирма Мартена-Мартена превратится в «Международную региональную ассоциацию капиталовладельцев» с денежным фондом в десять миллионов. Десять миллионов — это, естественно, для начала. Главной задачей М.Р.А.К.[95] будет то, что я вам сейчас вкратце изложил. Акции будут идти по 100 франков. Естественно, положение вашего сына будет таким же, каким было бы в конторе Мартена-Мартена. Прошу вас, дорогой Бреннюир, не благодарите. Я счастлив оказать вам услугу. Кстати, если у вас есть друзья, желающие вложить капитал в наше дело, я приложу все усилия, чтобы удовлетворить это желание. Я говорю «приложу все усилия», потому что подписка на десять миллионов скоро завершится, и прирост капитала хоть и произойдет не сразу, но принесет прибыль первым акционерам. Подумайте о невероятных барышах, которые мы получим, учитывая, что марка все-таки не может падать вечно. Нет, прошу вас, дорогой Бреннюир, не настаивайте, ни к чему меня благодарить. Я бесконечно счастлив, что могу оказать вам услугу. А теперь, если позволите, мы поговорим о другом. Ну-ка, который у нас час? Пять. Не выпить ли нам по стаканчику на Бульварах, что скажете?
— Охотно, — сказал месье Бреннюир. — И…
— И еще два слова о М.Р.А.К. Все-таки еще два слова. Я хотел вас спросить, когда вы могли бы внести деньги?
— Когда вам угодно. В течение недели.
— Превосходно, — сказал Браббан. — Что ж, пойдем к Пуссе, выпьем чего-нибудь. Ах, эти Бульвары, обожаю их!
— Рад буду с вами поболтать, ведь вас теперь не часто встретишь в нашем старом Латинском квартале.
— Что поделать, вы даже не представляете, насколько я об этом жалею. А как поживает мой старый друг Толю?
— Плохо.
— Да ну? Болеет?
— Он как огурчик, но у него все время мрачные мысли. Это становится очень неприятным.
— Понимаю, — сказал Браббан.
— Все началось с тех пор, как он съездил в Лондон перед смертью брата. Поверьте, я совершенно не представлял, что этот брат существует. Даже от жены я ни разу о нем не слыхал. Боюсь, это был весьма дрянной субъект. И честное слово, несмотря на то, что это все-таки мой шурин, я не надел траур.
— Излишний формализм ни к чему, — сказал Браббан.
— Как бы то ни было, бедняга Толю от этого путешествия, с позволения сказать, не оправился. Его все это страшно потрясло. Боюсь, он уже не придет в себя. И вообще, знаете, дорогой друг, у него начинается, будем говорить прямо, умопомешательство.
— Может, вы немного преувеличиваете?
— Нисколько, нисколько, угрызения совести по поводу географии — это, знаете ли!..
— Ну-ка, что там все высматривают?
Старики задрали носы. Оставляя дымный след, самолет выписывал в небе буквы: СИТРОЕН.
— Чего только нынче не изобретут! — воскликнул Бреннюир.
— Прогресс, — сказал Браббан.
XXVIII
Тюкден подошел к третьему году учебы с твердым намерением «с этим покончить», что означало для него уничтожить целый комплекс норм поведения, последовательно окрашенных в цвета лени и трусости. Он взялся за дело своеобразным способом: стал ипохондриком. Обнаружив в себе полдюжины болезней и недомоганий, он посчитал, что необходимо как можно скорее от них избавиться. В сентябре он принялся ходить по врачам.
Эти люди открыли ему глаза на то, что его моча оставляет на дне пробирок слои осадка, и обвинили его в фосфатурии[96]. Он стал наблюдать за своим организмом, глотал пилюли и начал симулировать булимию[97]; поскольку не сомневался, что страдает в придачу малокровием. Четыре-пять раз в день он проглатывал крутое яйцо и стакан белого вина. Он вылизывал тарелки. Надеялся, что таким образом станет мочиться внятно и выразительно и победит лимфатизм.
Так обстояли дела с пищеварительной системой и костями. Его внимание было также обращено к избыточной активности желез, которые закупоривали ему внутреннюю носовую полость. Годами с осени до лета Тюкден ходил с насморком; в тот момент у него проявилась аллергия на сено; он подхватил насморк, даже не покидая Париж, что свидетельствовало о глубинных нарушениях в его дыхательной системе. Один специалист в дешевой клинике сообщил, что он страдает гипертрофическим ринитом — по крайней мере так Тюкден расслышал. После этого доктор, не колеблясь, обжег ему изнутри ноздри и заставил заплатить за это пятьдесят франков. Несколько дней, вдыхая универсум, Тюкден ощущал запах медленного ветшания — как от тряпки. И это было не единственное неприятное ощущение, которое приходилось терпеть: однажды в процессе поедания сэндвича с ветчиной, как следует смасленного горчицей, у него пошла носом кровь, и он бросился в ванную. Только через полчаса поток пошел на убыль. Тогда Тюкден доел сэндвич, который уже начинал черстветь. Через неделю он вновь пришел к хирургу. Тот подрезал ему носовые раковины щипцами для ногтей и вновь обжарил чихательные железы. Он велел зайти в следующую среду. Но Тюкден не пришел, решив, что не будет платить за новую экзекуцию. Он от души похвалил себя за то, что малость сжульничал; его и правда достала вата в носу, мир, воняющий сжигаемыми отбросами, капли крови на яйцах вкрутую, которые он заглатывал в разных бистро, чтобы начать наконец писать по-картезиански. Он также справился с проблемой зрения, которая с детства являлась для него источником унижения. Он решил носить очки. С эстетической точки зрения ему нравился их чешуйчатый орнамент. С практической — это был повод для множества удовольствий. Он настолько гордился остротой своего зрения и своими очкушками, что стал читать газеты, как дальнозоркий, и различать имена актеров на колоннах Морриса[98] на противоположной стороне бульвара.
Он рассмотрел разнообразные возможности других патологий — таких, как туберкулез, наследственный сифилис и разрыв аневризмы. Мало-помалу эти опасения отступили. Когда началась зима, Винсен Тюкден решил, что может считать себя более-менее здоровым при условии, что будет регулярно принимать лекарства, одни — сиропные, другие — порошкообразные.
Его преобразующее внимание распространялось не только на плоть, но и на фабричные изделия, в которые он ее облачал, демонстрируя в обществе. Отец привык покупать ему приталенные пиджаки и высокие ботинки. Тюкден начал их стыдиться и в результате даже увидел в них символ своей трусости; после многочисленных споров, во время которых папаша Тюкден в отчаянии взирал на сыновьи извращения, Винсену удалось надеть на плечи прямой пиджак, а на ноги — туфли «Ришелье». Он почувствовал, что становится другим человеком, тем более, что антифосфатурические пилюли подходили к концу, как и сироп, полезный для дыхательных путей. Он превратил свою победу в триумф, приобретя британскую фуражку и толстую трость. Эти два предмета придавали их владельцу оригинальность и уверенность в себе. В общем, да, Тюкден чувствовал себя другим человеком, другим молодым человеком, ведь ему еще не было и двадцати.
Зима обещала выдаться суровой. Благодаря каутеризации[99], которую сделал оставленный с носом специалист, нос Тюкдена стойко выносил все ненастья. С фуражкой на голове и с тростью в руке Винсен перемещался по холоду в поисках чего-то, но чего именно, он не знал, и не знал даже, что он это ищет. Вновь он был совершенно один. Бреннюир добивался чинов в казарме за семью морями. Роэль оставался вне поля зрения; зато появился его брат. Он учился в Эколь Нормаль на естествознании и без всякого уважения говорил о старшеньком, который, по его словам, ждал наследства и жил в пригороде с какой-то стрекозой. Тюкдена хватило лишь на то, чтобы обменяться с ним вежливыми, но сдержанными репликами. Связь с человеческим сообществом он поддерживал только через нескольких студентов, смутно знакомых ему и по именам, и по формам ладоней. Иногда дело доходило до болтовни с какими-нибудь молодыми особами, изучавшими психологию, но дальнейших шагов он не предпринимал.
С тех пор как Тюкден посмотрел «Кабинет доктора Калигари»[100], он ходил в кино несколько раз в неделю. Он прилежно посещал «Сине-Опера», признанный зал искусств и авангарда, и «Паризиану», где могли крутить по три-четыре американских комических фильма; из них действительно комическим всегда был один, на него Винсен и шел — на тот фильм, где все происходило на пляже и где Beauty Bathing girls[101] радовали глаз своими прелестями, причем даже заподозрить нельзя было, что эти прелести могут однажды хоть немного померкнуть. Одинокий, печальный и простодушный, он созерцал, как на тихоокеанском побережье резвится само наслаждение и сладострастие. Целомудренным он не был, но по-прежнему оставался девственником. Он полюбил изображения и проникся почтением к сумеркам.
После маниакальных забот о своем физиологическом становлении Тюкден начал жить грезами. Поутру он закидывал невод воспоминаний и выуживал сны, которые в течение всего дня затухали и гибли у него на глазах от дневного света; а вечерами он отдавался течению уснувшего моря и повторял, как тот единственный поэт, ибо в некотором смысле поэт на свете был только один:
oh may ту sleep … as it is lasting, so be deep![102]Испытывая гордость от цитирования знаменитых авторов, он протягивал ночь сквозь день; но не приветствовал проникновение дня в ночь.
В это же время он решил прочесть тридцать два тома «Фантомаса»[103] — продолжение грез. Он обходил набережные, чтобы купить довоенные экземпляры в глянцевых обложках. Роэль-младший, встретив Тюкдена во время этих поисков, высмеял его за отсталый вкус; ведь сам он изучал русский и ходил на демонстрации. Так прошли первые месяцы той зимы, ознаменованной подвигами горнорабочих, непонятными и множественными взрывами домашних печей и приходом к власти Муссолини.
XXIX
Цитрус[104] остановился перед домом 80-бис по улице Пти-Шам. Вскоре оттуда самоизвлекся расфуфыренный старик.
— Подождите меня, — сказал Браббан шоферу, словно еще не прошли те времена, когда он пользовался такси.
Он поднялся по лестнице, насвистывая от удовольствия; на шестом этаже, запыхавшись, постучал в дверь указательным пальцем — согнутым и решительным. Мадам Дютийель приняла его в маленькой комнатке, которая служила ей будуаром и говорила о ее любви к пестроцветным хрупким предметам небольших размеров.
— Надо же! Как ты приоделся! — воскликнула она. — Таким элегантным я тебя еще не видела.
— Ты находишь?
Он задал этот вопрос робко и обеспокоенно одновременно, глядя при этом на себя в зеркало. Поцеловал ей руку и сел.
— Каким ветром тебя занесло? — спросила мадам Дютийель.
— Э-э, пришел поздравить с Новым Годом.
— Очень мило.
— А еще принес тебе подарок.
Он достал из кармана жилета кольцо в стиле Луи-Филиппа, украшенное рубином, и пока мадам Дютийель предавалась восторгам, вынул из бумажника пачку купюр по тысяче и положил перед ней.
— Вот деньги, которые ты мне одалживала. Спасибо, ты мне очень помогла.
— Что это с тобой? Ты стад миллионером?
— Еще нет, но скоро стану.
— Провернул свое крупное дело?
— Как раз проворачиваю.
— Можно узнать какое?
— Не жульничество.
— Неужели?
Браббан скромно улыбнулся.
— Я стал честным человеком. Собираюсь скупить Германию.
— Бедный мой Луи! Ты помешался!
— Сейчас ты поймешь. Все крайне просто: фирма Мартена-Мартена, которая занималась только фиктивными делами, становится «Международной региональной ассоциацией капиталовладельцев» и будет заниматься делами реальными. Цель ассоциации — воспользоваться падением марки, чтобы скупить недвижимость в Германии. Когда марка вновь поднимется, а это обязательно произойдет после занятия Рурской области, мы получим, так сказать, немыслимую прибыль. Подписной капитал — десять миллионов. Акции идут по сто франков. Если хочешь, могу что-нибудь для тебя отложить.
— Чувствую, дело весьма интересное.
— Подписано уже более пятисот тысяч франков, из них триста тысяч — доктором Вюльмаром, профессором парижского факультета медицины.
— Это могло бы заинтересовать клиентов.
— Я пришлю тебе проспекты. То есть, циркуляры. Захочешь подписаться — я в твоем распоряжении.
— Я подумаю.
— Это прибыльное дело, которое позволит мне прожить спокойную старость.
— Сколько тебе сейчас?
— Не могу вспомнить.
— Ты начал кокетничать. С тех пор как отказался быть моим клиентом.
— О, вовсе нет, вовсе нет. Я просто хотел сказать, что больше об этом не думаю. О возрасте.
Он замолчал, рассматривая купюры, к которым мадам Дютийель не притронулась.
— Ну вот, — сказал он.
И поднялся.
— Я пришлю тебе проспекты. Мне составил их один доктор права. Дорого запросил, подлец.
— Возможно, я могла бы подписаться тысяч на двадцать франков.
— Долго не тяни. Подумай о том, что это принесет тебе не меньше 120 %.
— Я подумаю.
— Ага.
Он вышел; мадам Дютийель осталась в задумчивости от восхищения и в растерянности от удивления. Он же, сев в свою машину, велел отвезти себя к своему портному, а после в свою контору, где до изнеможения рылся в досье, доверенных ему Бреннюиром. Он серьезно подходил к управлению всей этой недвижимостью, но ничего в ней не понимал и никак не мог разобраться. В конце концов он решил, что ему нужен секретарь, настоящий, знающий бухгалтерию и все остальное, а не заурядный молодой человек, который только в сообщники и годится. Жульническую рожу, составившую ему проспект, нанимать не хотелось; Браббан попытался восстановить в памяти тех, кто явился, когда он дал объявление в газетах — «посмотреть, что будет»; но, насколько он мог вспомнить, ему никто не подошел, и уж тем более не этот Роэль, которого он чуть не втянул в тяготы уголовщины. Оставалось только дать новое объявление.
Приняв это решение, он посмотрел на часы. Было шесть. С Фаби он встречался только в восемь. Бедняжка, у нее теперь ни минуты для себя, покупки съели все время. Он с нежностью представлял, как она снует по универмагам и отщелкивает от себя приставучих хлыщей. Не зная, чем заняться, он вышел на улицу, направился куда глаза глядят, затем отклонился в сторону. В Шатле купил вечернюю газету и с удовлетворением прочел рассказ о продвижении в Рурской области франко-бельгийских войск. Нет сомнений, что марка еще упадет, но также нет сомнений, что в один прекрасный день она поднимется. Не будет же она падать вечно. Важно выбрать подходящий момент. В любом случае можно подождать и довольствоваться вымышленными сделками в ожидании всамделишных. Ведь Браббан действительно верил, что однажды и впрямь будет владеть недвижимостью в Германии и станет за счет этого несказанно богатым и честным. Ему грезилось, что он скупает оптом сельские районы и что М.Р.А.К. уже приобретает целые провинции. Продолжив свои размышления, он пришел к выводу, что было бы неплохо, если бы М.Р.А.К. специализировалась на систематическом освоении прирейнских земель и таким образом послужила бы интересам Франции на левом берегу Рейна. В этом случае выгоднее становилось скупать именно земли, пусть даже пустые, нежели недвижимость, цена которой относительно ее площади во сто крат выше; а поскольку на повестке дня стояли аннексионистские задачи, то наличие земли играло не последнюю роль.
Размышляя в таком духе, Браббан оказался на рю дез Эколь; внезапно это обнаружив, он решил дойти до «Людо», в уверенности, что встретит там Толю. Следуя вдоль стены Сорбонны, он весело припоминал, что познакомился с ним по ошибке, приняв его за южанина-парикмахера, прибывшего в Париж получить наследство в пять миллионов; специально ради него он разработал хитроумную махинацию, которая должна была принести Браббану несколько сотен франков. Скромен он был в те времена — и смешон. Как бы то ни было, он проявил чутье, продолжая встречаться со старым преподавателем. Он всегда чувствовал, что удача придет к нему с этой стороны, что в укромном углу припрятано какое-то дельце. И он не ошибся. Теперь он был честным человеком, полезным родине, и скоро станет «богатиссиме».
Он вошел в «Людо». Там была зимняя сутолока. Справа пшеки[105] и молдо-русские зарабатывали на жизнь шахматами, получая по двадцать су в партиях против нормандских или бриарских простофиль, которых аккуратно выбирали; слева собрался квадрат вокруг чемпиона зеленой грифельной доски. Браббан обошел бильярдные столы, но не увидел Толю. Он отважился даже зайти в дальние залы, где заправляли игроки в бридж и любители английского бильярда. Толю и там не было.
Браббан вышел, делая некоторые смутные предположения относительно возможной судьбы старого преподавателя, и спустился к «Суффле», где встретил Бреннюира в компании поэта Сибариса Тюлля, эссеиста Минтюрна и субъекта, который был представлен как редактор в «Матен». Господа вели политический спор; одни были сторонниками занятия Рурской области, другие — нет. Браббан слушал их с почтением; у него тоже была мыслишка по этому поводу, но он держал ее при себе. Затем заговорили о скором крахе большевизма и о непреодолимых трудностях, с которыми сталкивается фашизм. Наконец, были рассмотрены различные гипотезы, связанные с эпидемией печных взрывов. По прошествии получаса трое лишних удалились.
Оставшись наедине с Бреннюиром, Браббан спросил, как дела у детей. Жорж был в Алжире, Тереза писала диплом по философии. «В общем, вся семья при деле», — пошутил Браббан. А что с Толю? Толю продолжал предаваться черным мыслям. Бреннюир осведомился о том, как развиваются дела в М.Р.А.К. Браббан сообщил, что начались переговоры о покупке обширных земель близ Майенса и крупного доходного дома в Экс-ля-Шапель. Но у Бреннюира были опасения. Он спрашивал себя, даст ли позже германское правительство французской компании действовать вполне свободно. Браббан улыбнулся; он объяснил, что М.Р.А.К. ничем не владеет напрямую, а только через посредническую фирму, созданную в Германии, которая, будучи немецкой, не вызовет беспокойства властей. Бреннюира эта басня успокоила, и он сделал маленький глоток перно, с удовлетворением думая о будущем.
XXX
Совсем не улыбалось Гектору Лантерну идти на эти похороны. Но, в конце концов, есть в жизни обязанности; все-таки это был старый клиент, и потом, Гектор задолжал ему деньги. Все это надо было учитывать. Конечно, он предпочел бы пойти в кино или в театр «Дю Шатле»[106], но, в конце концов, есть в жизни обязанности. Гектор Лантерн обязан был пойти на похороны. Он сделал это достаточно неохотно, так что появился в тот момент, когда процессия покидала жилище усопшего, медленно направляясь к «Пантен-паризьен»[107]. Гектор Лантерн проследовал за ней в самом последнем ряду. Путь был долгим, Лантерн скучал. Он попытался завязать разговор с соседом, одноруким субъектом, но пусторукавый соответствующей мимикой дал ему понять, что он еще и глухой. Вынужденный молчать, Гектор Лантерн принялся думать; он спрашивал себя, не воспользуется ли жена его отсутствием, чтобы изменить ему с новым официантом на бильярдном столе в зале второго этажа. Чтобы отвлечься, он попытался представить, как это может выглядеть, и стал рассматривать разнообразные пикантные ситуации, как вдруг заметил идущего рядом сухонького старичка, который, казалось, был не прочь обменяться с ним несколькими словами.
— Мы идем к Пантен, ведь так? — спросил этот чудак.
— Да. Путь неблизкий.
— Вот недостаток жизни в больших городах. Кладбища на другом конце света.
— Что за надобность размещать их так далеко.
— На площади Оперы кладбище не сделаешь.
— Это точно.
— Только подумайте, ни на одном парижском кладбище больше нет места. Пер-Лашез, Монмартр, Монпарнас, Вожирар, Пасси, Пикпюс, Бельвиль, Гренель, Сен-Винсен, Сен-Пьер, Берси, Ла Виллет, Шарон, Отей — все забито. Еще немного, и Париж лопнет от трупов, месье. Вот мы и вынуждены отправляться в пригород, если у нас нет семейного склепа. У вас есть семейный склеп?
— Нет, месье. Я не настолько богат.
— У моей семьи склеп есть, но я говорю это не для того, чтобы прижать вас к ногтю. Нет. Сами знаете, раньше было принято, чтобы у каждой семьи имелся склеп. Это признак достатка, умеренного достатка. У моей семьи склеп на кладбище в Мансе. Вы были в Мансе?
— Нет, месье. Красивый город?
— Скоро двадцать лет, как я там не был. О чем я говорил?
— Рассказывали о вашем семейном склепе.
— Ну да. Представьте, что там оставалось два места. Одно для меня, другое для брата. Но он его не займет.
— Ну уж.
— Нет. Не займет. Он умер за границей. Сами понимаете, я не стал везти его обратно. Перевозка стоила бы бешеных денег. Когда я вернусь в Манс, моим наследникам это дорого обойдется.
— Мне вообще все равно, похоронят ли меня в склепе.
— Вот в чем вопрос! — воскликнул старичок таким голосом, что часть процессии возмущенно обернулась. — Вот в чем вопрос, вот я и думаю, что все-таки выбрать — склеп или сырую землю. Знаете, одно меня беспокоит — место, которое останется свободным. В результате туда могут положить постороннего, не знаю кого; тогда теряется смысл семейного склепа.
— Конечно.
Старик раздраженно причмокнул губами.
— Даже не знаю, куда податься.
— А кремация?
— Разумеется, разумеется, возможна кремация. Мы избегаем опасности преждевременных похорон.
— Да, это ужасное дело.
— Вот вопрос, который чрезвычайно меня волнует и которому власти никогда не уделяли достаточного внимания. Тем не менее, это реальная опасность. Одним способом ее все же можно было бы устранить: повесив в гробах колокольчики.
— Неплохая идея. Покойник звонил бы и требовал у подоспевшего сторожа кофе со сливками и рогалик.
— Ничего смешного, месье.
— Немного посмеяться никогда не повредит, особенно если мы говорим о вещах, которые сами по себе не слишком веселые.
— Вы правы, они невеселые. Вы часто думаете о смерти?
— О нет, слава богу. Мысли о смерти далеко бы меня завели!
— Но все же сегодня вы о ней думали.
— Верно, это из-за клиента.
— Из-за какого клиента?
— Которого проветривают в экипаже. Он был моим клиентом.
— А кто он такой?
— Вы не знаете, кто он? Вы не были знакомы с покойным?
— Вообще-то нет.
— Значит… вы пришли на похороны… ради удовольствия?
— Я пришел, уважаемый, так как жду, что на мои похороны тоже придут.
— Да, невеселые у вас мысли.
— А по-вашему, умереть — это весело?
— Нет, конечно, нет. Но у вас впереди все же есть время.
— Не надо мне льстить. Впрочем, вы ничего не знаете. Я скоро умру, и, по-моему, это нисколько не смешно, месье. Представьте: каждая минута приближает меня к роковому мгновению, когда я превращусь в труп. И вас приближает, месье.
— Слушайте, не пытайтесь меня напугать.
— А когда мы умираем, что происходит?
— Откуда я знаю.
— Как, вам не интересно узнать, отправитесь ли вы в ад или реинкарнируетесь в теле патагонца?..
— Что за ерунда.
— Или вообще исчезнете.
— Терпеть не могу эти разговоры.
— Вы не верите в ад?
— Церковные байки!
— А в реинкарнацию?
— Громко сказано.
— А в полное исчезновение?
— Не знаю.
— Однако других гипотез нет.
— А вот и есть, вы будете удивлены, но есть еще одна.
— Интересно узнать какая.
— Существование рая.
— Вы, наверное, считаете себя умным, месье? Наверное, считаете себя умным, потому и издеваетесь над стариком, который вот-вот попадет в объятия смерти!
— Я не хотел сказать вам ничего обидного. Как на духу, не хотел.
— Знайте, месье, что если ад, возможно, и существует, то рая нет наверняка.
— Как это печально.
— Это печальная правда.
— Интересно, как вы дошли до таких мыслей.
— Меня подвела к ним вся моя жизнь. А если я все-таки ошибаюсь? И моя жизнь, наоборот… Думаете, рай существует? Ответьте, как мужчина мужчине, мне нужен прямой ответ.
— Церковные байки! Всего этого нет и в помине!
— Вот видите! А преступники? А? Как же преступники? Преступники, которые всю свою жизнь остаются безнаказанными? И после этого вы верите, что есть справедливость?
— К ней нужно стремиться. Тогда ходило бы меньше ненаказанных преступников. Кстати сказать, как тот, который выколол глаз моему клиенту.
— О чем это вы?
— О, это отдельная история. Но вы ведь не знаете даже имени покойного. Его звали Тормуань. Это был хороший клиент, а я, месье, — хозяин кафе. Тормуань был одноглазым, поэтому не пошел на войну и неплохо заработал, пока мы все подставляли шею. Впрочем, что его теперь за это упрекать, беднягу. Сам-то я на войне был, месье.
— Наверняка видели мертвых.
— Ясное дело, предостаточно. Но там было совсем иначе, чем здесь. Впрочем, не будем об этом. Возвращаюсь к моему Тормуаню. Представьте себе, что однажды, прошлой зимой, он играл в манилью, как вдруг заходит такой странный фрукт и хочет купить почтовую марку. Странный, потому что у него волосы были по пояс. Я-то подумал, что это художник, и не стал ничего говорить, но тут мой Тормуань давай высмеивать его шевелюру, хотел позабавить публику. Так вот, месье, никогда не догадаетесь, что выкинул этот художник.
— Выколол ему глаз.
— Как вы узнали?
— Вы сами только что сказали. Черт побери! Теперь я припоминаю. Об этом разве не писали в газетах?
— По-моему, писали. Это было в тот день, когда сообщили о смертном приговоре Ландрю. Должен сказать, что приговор неудачно совпал с тем преступлением.
— Я прекрасно помню это зверство.
— Зверство — то самое слово. Так вот, месье, этого художника так и не нашли. Где-то ходит. И представьте себе, что после этого на месье Тормуаня повалилось несчастье за несчастьем. Он по-прежнему приходил в кафе, но все больше мешал, потому что постоянно рассказывал свою историю, пытался давать советы тем, кто играл в манилью, хотя не мог видеть карты, и поэтому над ним слегка насмехались, впрочем, конечно, не сильно. Но вот в один прекрасный день нашлась сволочь, которая воспользовалась тем, что он не видит, и сперла у него бумажник. Блезоль, так его звали. Кстати, его тоже так и не нашли. Правда невероятно? А знаете, как умер месье Тормуань? В это воскресенье вышел с утра пораньше, и его сбила машина, тут он и умер — от перелома черепа. Ну, и не хотите — не верьте, месье, но машина сгинула, ее тоже не нашли. А его теперь везут на кладбище.
— Какая странная судьба.
— Верно сказано, странная.
— И какая страшная.
— Страшная — то самое слово. Но теперь ему хотя бы будет спокойно.
— Будет или не будет, вот в чем вопрос. Шекспира читали?
— О, знаете, с моей профессией читать особо нет времени.
— А я преподаватель.
— Я это отчасти подозревал, месье. Гладко говорите.
— Alas![108] Бедный Йорик! А вот и кладбище, сейчас войдем, хотел бы я могильщиков увидеть, которые, могилу общую разрыв, скелеты достают; я череп с груды вырытых останков сниму; в руках его держа перед собой, взгляну в глазницы темные, пустые и воскликну: Alas, бедный Толю!
— Да уж, нельзя сказать, что у вас радостные мысли в голове. А кто этот Толю?
— Это я, господин хозяин кафе.
XXXI
— Вы обратили внимание, — сказал Толю, выходя с кладбища, — с каким звуком земля падает на гроб? Как по пустому. Можно подумать, что внутри никого нет. Думаете, внутри был этот господин?..
— Тормуань. Как вы догадываетесь, я не проверял.
— Разумеется. В любом случае, вот и его отправили, верно? Одним больше. А видели, сколько их? Тысячи и тысячи! Сплошные могилы! Сплошные! Можно представить, как велик город Париж, поставляющий сюда мертвецов. Когда-нибудь, совсем скоро, настанет моя очередь.
— Вы это говорите, но сами так не думаете.
— Вы уверены? Да я ни о чем другом не думаю, дорогой вы мой.
— Должно быть, невесело вам живется, если у вас в голове все время вертятся такие мысли.
— Я и не ищу веселой жизни. В моем возрасте в этом все дело!
— И все же если бы вы подумали о чем-нибудь другом, хуже бы вам не стало. Я не даю вам совет, но все же мне кажется, хуже бы вам не стало.
— Вам легко говорить. А умереть, знаете ли, не так-то просто. Если бы еще можно было умереть спокойно…
— Почему же вам не умереть спокойно, месье?
— Вы возвращаетесь на трамвае?
— Да, до площади Республики.
— Кстати, я тоже. От площади Республики пойду в Латинский квартал. Я там живу.
— Это понятно, вы же преподаватель.
— Преподаватель! Вот что не дает мне спокойно умереть.
— Что вы имеете в виду?
— В общем, представьте себе, мой друг, что многие годы я преподавал то, чего совершенно не знал.
— Как это может быть?
— А вот так. Именно так, как я говорю. Годы и годы мне доверяли детей, чтобы я преподавал им географию, да, географию. Так вот, я в ней ни бельмеса не смыслил. Совершенно ничего не знал. Это ли не жульничество? Не кража? Вся моя жизнь — сплошное надувательство, да, месье, надувательство. Разве это не ужасно?
— Никогда бы не подумал, что такое возможно.
— Что именно? Преподавать географию, ни бельмеса в ней не смысля? Не смешите меня, месье. Это же проще простого! Естественно, я преувеличиваю. Текст я знал, только вот — никогда не путешествовал. И как, спрашивается, преподавать географию, если ты никогда не путешествовал? Текст заучиваешь, но с самим предметом не знаком. Знаешь названия, но совершенно не представляешь, о чем идет речь. Понимаете, месье?
— Прекрасно понимаю.
— Я делал это всю свою жизнь, всю жизнь занимался жульничеством. И понял это, только когда вышел на пенсию. Увы, было слишком поздно! У меня появилось желание попутешествовать, посмотреть дальние края. Но было слишком поздно!
— Конечно. В вашем возрасте путешественниками не становятся.
— Мой возраст здесь ни при чем, месье. Просто поймите меня правильно: отправься я сейчас путешествовать, профессионального позора я бы все равно не смыл. Я думал, что прожил жизнь в чести и совести; а подходя к ее концу, понимаю, что ошибся, в корне ошибся. Что же, прикажете мне спокойно сойти в могилу с таким тяжким грузом вины на плечах, да, месье, это вы мне прикажете?
— Ну же, месье, будет вам… Я вас не совсем понимаю.
— Вы меня не понимаете? Однако все очень просто.
— Ну, вообще-то я вас понимаю. Но все же, месье, если бы вы ничего не знали, вы не смогли бы оставаться преподавателем. Это бы заметили.
— Тут-то вы и ошибаетесь. Никто ничего не заметил. Все проскочило, как письмо в ящик: мое невежество, мое жульничество — все. Как теперь прикажете это исправить? Как исправить вину? Как мне это сделать? И как мне умереть? Ах, если бы у меня не было повода себя корить, месье, я встретил бы смерть с радостью. Вот именно, с радостью! Мне не в чем было бы себя упрекнуть. Я бы с улыбкой закрыл глаза. Вот именно, с улыбкой! А потом? О, потом я бы ничего не боялся. Я был неплохим человеком. Я бы отправился в чистилище и, быть может, в рай, о существовании которого вы только что справедливо напомнили. А может, через несколько сотен лет я бы реинкарнировался в теле красивой женщины или богатого промышленника, если в те времена еще будут промышленники, потому что эти проклятые большевики способны всех их уничтожить. В таком случае я реинкарнируюсь на другой планете. На Венере, например…
— А вы верите в призраков, месье, в призраков, которые обитают в столах? Однажды я решил повращать стол с моим шурином и Эмилем, официантом, который был у нас до того, как появился нынешний. Не получилось. Представьте себе, эта штука осталась нема, как рыба.
— Как обидно, что вы меня перебили. О чем я говорил?
— О большевиках, о планете Венера, это, верно, очень хорошая планета.
— Я рассматривал третью гипотезу?
— Не помню.
— Жалко. Когда меня перебивают, я не могу восстановить ход моих мыслей.
— Это возраст, месье.
— Да, возраст, который все увеличивается. Возраст, он как зверь, месье. Зверь, который все увеличивается, увеличивается, увеличивается и в конце концов сжирает вас живьем.
— Ох, я аж содрогнулся, честное слово.
— Все было бы ничего, если бы меня не мучила эта штука, здесь, в груди.
— По-моему, то, в чем вы себя упрекаете, не так уж страшно. Раз уж никто не заметил. Я вижу, вас даже наградили.
— Это самое ужасное! И виню себя в этом я один. Да, один-единственный. Остальные не хотят меня понимать — родственники, друзья. Не хотят понимать. Некому меня судить.
— Сколько людей радовалось бы на вашем месте.
— Это все бесчестные люди. Я сам себе единственный судья. Что же, прикажете мне умереть? Либо меня вообще судить будет некому, либо я сам себя буду судить целую вечность. Ужасно!
Месье Толю расплакался. Но в 51-м трамвае этим никого не поразишь. Здесь привыкли: столько людей возвращается с кладбища Пантен.
— Не надо переживать, месье, — сказал Гектор Лантерн, — не надо.
Месье Толю вытер глаза ветхим платком. Шмыгнул.
— Я уже ничего не соображаю.
— Это понятно, вы взволнованны.
— Обидно, что я не могу вспомнить конец фразы, на которой вы меня перебили.
— А, это когда вы говорили о коммунистах и звездах.
— Кстати, уважаемый, я вдруг кое о чем подумал, ведь я совершил путешествие после того, как вышел на пенсию. Я был за границей.
— Я тоже был за границей, в Бельгии, в Шарлеруа, а позже в Рейнской области. Но это все равно, что во Франции.
— А я ездил в Лондон. Дело в том, месье, что эта поездка стала концом всего. Конечно, начни я путешествовать сейчас, это не отменило бы моего непутешествования в прошлом; улавливаете?
— Кажется, да.
— Однако, я думал, что если буду путешествовать, то стану меньше себя упрекать. Была у меня такая мысль. Так вот, друг мой, оказалось — наоборот. Путешествуй я сейчас или не путешествуй — все равно. В этом я убедился: все равно. Совесть никуда не денется, месье, и меня не простит.
— Вот напасть.
— Да, жизнь — штука безрадостная, и безрадостнее всего понять это как раз тогда, когда собираешься уходить.
— Смерть — тоже путешествие, месье.
— Да, но эту географию не преподают.
— Как же, месье. А кюре разве не этим занимаются?
— Любопытная мысль. Где вы ее подхватили?
— Не знаю. Мысли приходят, когда я думаю.
— Видите ли, было бы удобно отправиться в это путешествие, освободившись от совести. Вы меня понимаете? Оставив ее здесь, на земле.
— А как же призраки, месье? Вам не кажется, что призраки — это совесть, которая бродит по старым домам, не имея хозяина, которого можно мучить? Вот она ко всем и пристает.
— Надо же, друг мой, кажется, вы неплохо соображаете. Неглупая мысль. И часто у вас такие бывают?
— Я же сказал, месье, когда думаю.
— А когда вы думаете?
— Вы будете смеяться, месье: когда какой-нибудь клиент предлагает моей жене «вы-меня-понимаете», и они поднимаются в зал второго этажа, где стоит бильярд, роскошный бильярд Брюнсвика с бортами марки «чемпион». Вот тогда я и думаю. Ведь я великий рогоносец, господин преподаватель.
— Значит, вы принимаете жизнь с хорошей ее стороны.
— А что делать?
— Конечная, — произнесла дама, у которой была кондукторская сумка с язычками разноцветной бумаги.
— Очень неглупая мысль. Освободиться от призрака, от призрака, который перестанет вас мучить. При таком условии можно и умереть. Пусть будет Толю, которому все трын-трава, и Толю-фантом, который останется здесь.
Он притопнул ногой, чтобы указать, где именно «здесь».
— И который, наконец, от меня отвяжется.
Тут он заметил, что хозяин кафе неожиданно и полностью исчез. Озадаченный месье Толю на миг пожалел, что так незадачливо утратил сознательного собеседника; затем его удивление прошло, и он со смехом спросил себя, не был ли это призрак.
XXXII
Тюкден подсчитал, что это должна быть третья дверь; правда, всегда есть легкий риск наткнуться на дом bis. Он не хотел отрывать нос от земли и высматривать номер перед тем, как войти: его могли заметить. Он миновал мясную лавку, где вытирали прилавок, — одна дверь; затем пыльную витрину, которую фотограф решился оформить грустными лицами и немощными телами, — две двери; затем лавку книготорговца, специалиста по расшивке манускриптов с церковными хоралами на потребу любителям оригинальных абажуров, — три двери. Тюкден вошел без промедления; слева в коридоре на стене висели почтовые ящики, забитые каталогами, которые разослал какой-то универмаг. Согласно указаниям в «Сурир», это было на третьем этаже справа. На третьем этаже справа Тюкден смог различить на эмалированной табличке: МАССАЖ. Он позвонил. Ему открыли. Он вошел. Какой-то тип выходил из комнаты. Мадам бросилась к Тюкдену, смеясь и подталкивая его.
— Не люблю, когда мои клиенты встречаются, — сказала она, впихивая его в совсем маленькую комнату, где стоял стул и что-то вроде диванчика, на котором сидела миниатюрная блондинка.
— Это Маргрит, — сказала сводня.
Поговорили о цене.
— Я вас оставлю, — подвела итог хозяйка.
Так она и сделала. Тюкден боялся, что ему придется выбирать между Кармен и негритянкой — он читал об этом в кое-каких рассказах. Маргрит показалась ему ничего; но для него Маргрит было имя брюнетки, потому что его носила горничная родителей, в придачу носившая усы. Этой тезе нашлась антитеза: он вспомнил, что Гретхен — блондинка.
— Садись.
Он сел. Она взяла у него из рук фуражку.
— Шикарная у тебя фуражка.
Надела ее.
— Надо же, мне велика.
Рассмеялась.
— Ты здесь уже бывал?
— Нет.
Он не видел никакой необходимости в этом разговоре.
— Поцелуй меня.
Поцеловал.
Вступительные речи были закончены, она провела его в комнату, и они занялись любовью. Стоило это двадцать франков. На улице Тюкден отходил от третьей двери медленно, посматривая на прохожих на другой стороне: пусть не думают, что он вышел именно оттуда. Ему казалось, что женщины глядят на него по-особому; может, правду говорил Роэль, будто они сразу догадываются, если ты недавно занимался любовью? Он оказался на бульваре Сен-Жермен, пересек перекресток и поднялся по улице Одеон, воспользовавшись правым тротуаром, поскольку левым никогда не пользовался.
Все оказалось исключительно просто и неприязни не вызывало; но нельзя также сказать, что это было исключительно приятно, потому что все произошло слишком быстро, а еще потому, что женщина слишком явно думала о чем-то другом. Но все оказалось настолько просто, что трамваи от этого не остановились и пешеходы продолжали сновать туда-сюда во всех направлениях, как ни в чем не бывало. Это, несомненно, было одно из самых мелких событий дня и его собственной жизни, которое в конечном счете ничего значило и даже не избавляло от необходимости лгать Роэлю в разговорах о женщинах. Вновь Тюкден удивлялся простоте явления. Это было так же просто, как сесть в метро или пойти в кино. Но и намного сложнее: сколько окольных путей, секретов, притворств. Нет, решительно, это было совсем не просто.
Тюкден прошел мимо «Шекспира и Ко» и остановился, снедая глазами великого «Улисса» в синей обложке, затем продолжил свой путь к «Одеону», бросил беглый взгляд на новинки сезона, перешел на другую сторону и двинулся вдоль решетки Люксембургского сада в направлении дворца Медичи. История его девственности была слишком долгой, лучше бы он ее сократил. Может, он и в самом деле стал бы другим, если бы сразу по прибытии в Париж начал посещать проституток; а то и не дожидался бы ради этого отъезда из Гавра — города, где борделей предостаточно. Правда, он боялся болезней. С его обычной невезучестью в Гавре он бы их не избежал. Он не видел в этом ничего смешного, ему были отвратительны студенческие шутки на эту тему, как, впрочем, и на любые другие. Его тошнило от глупости; в Квартале она проявлялась более агрессивно, чем где бы то ни было. Но речь шла не о глупости, речь шла о любви, хотя любовь — это громко сказано; но Тюкден ни о чем не жалел.
Он сел на террасе «Шоп Латин» и в ожидании Роэля принялся рассматривать проходящую толпу. Ему стало очевидно, что существует два типа человеческих существ, и никогда еще эта очевидность не казалась ему более очевидной: есть мужчины, а еще есть женщины. Они сновали туда-сюда, ничего не выражая, принимая безразличный или непринужденный вид, но достаточно было внимательно взглянуть, чтобы заметить, откидывая все возможные сомнения: с одной стороны, существуют женщины, а с другой — мужчины. «Великая и глубокая очевидность», — подумал Тюкден, выпивая стакан белого вина. Потом он принялся оценивать проходящих женщин, словно перед ним кобылицы; но он не отдавал себе в этом отчета.
— Привет, старик. Что новенького?
— Ничего, — ответил Тюкден.
— У тебя странный вид.
— У меня? Белое вино будешь?
— У них белое сухое или сладкое?
— Сухое. Я еще возьму.
— Слушай, ты представляешь, я только что встретил Толю. Уже не прийти сюда, чтобы на него не нарваться. Старик все так же терзается мыслями о смерти.
— Он прав, — сказал Тюкден.
— Ты что, думаешь о смерти?
— Я не о себе.
— Он рассказал мне невероятную историю, которая, судя по всему, его очень заинтересовала; это история с одним кривым, которому какой-то художник, якобы, выколол единственный глаз, причем Толю уточняет: «указательным пальцем»; затем у ослепшего одноглазого сперли бумажник, а в итоге его задавил автомобиль.
— Газетная утка чистой воды!
— Кажется, он был на похоронах этого типа.
— Он его знал?
— Нет, случайно туда попал. Он провожает похоронные процессии. Только ради этого и живет. Стал своего рода вампиром.
— Бывают вампиры и получше. Дурак Толю!
— Он был самым занудным из всех преподов. Почему преподы превращают то, что преподают, в такое занудство?
— Чтобы ученики не могли знать столько же, сколько они. Отбивают охоту.
— Тонкий ты психолог.
— Ой, хрен с ней, с психологией. Еще белого вина выпьем?
— Да, но не в этом поганом квартале.
Они наугад сели в «восьмерку», которая шла до Восточного вокзала. На Страсбургском бульваре Роэль предложил добавить к белому вину устриц; их с криками толкали в тележках по улице, и приятели купили две дюжины, а потом, после некоторых нерешительных действий, устроились в небольшом бистро предместья Сен-Дени со своими раковинками и бутылью белого вина. Тюкден:
— Помнишь, что ты мне однажды сказал: что ты никогда не воспринимаешь идеи всерьез.
— Что, честно, так и сказал?
— Да. Полагаю, это допустимо. Но я всерьез воспринимаю идеи. Всегда.
— И что тебе это дает?
— Не знаю. Я хотел бы действовать.
— Иначе говоря, ты интеллектуал и хочешь действовать. Известная патология. Может, ты еще и авантюр захотел?
— Авантюр? Их у меня достаточно.
— Что-то не видно.
— У меня интеллектуальные авантюры.
— Возьмем еще белого вина?
— Разумеется.
Они закончили глотать моллюсков.
— А что, если навестить Ублена? — предложил Роэль.
— Где? В Гавре?
— Да, в Гавре. Есть поезд в 7:55. Только не говори, что родители ждут тебя к ужину! Отправишь им пневмописьмо.
— Отправлю им пневмописьмо. Но у меня нет денег на билет.
— Я тебе одолжу. Поселишься у моей мамы.
Роэль допил свой стакан.
— Я твой препод, буду учить тебя действовать, — твердо заявил он.
XXXIII
Роэль и Тюкден отыскали пустое купе, в котором и обосновались со своими сэндвичами и литром белого вина. Они начали с разглядывания пейзажа, высказывая разнообразные замечания о достоинствах и недостатках зрелища. Когда наступила ночь и проехали Мант, они слопали сэндвичи и опорожнили бутылку, которая была вдребезги разбита о рельсы, несмотря на категорический запрет железнодорожной компании. Затем они набили трубки и закурили.
— Значит, всю эту зиму ты просидел в деревне? — спросил Тюкден. — Скучно было, наверное.
— Потрясающе. Сметать снег — это здорово. А разжигать большие костры!
— Мне как-то все равно. Ты жил там один?
— Ты прекрасно знаешь, что нет.
— А с кем?
— Тебе какая разница?
— Она тебя бросила?
— Нет. Мы расстались. Надоела мне и деревня, и она.
— А как Сюз?
— Я ее больше не видел.
— Помнишь, как ты исчез в прошлом году? Бросил меня, а?
Роэль напрягся.
— Скажи, с Вюльмаром тебе было интереснее! — продолжал Тюкден. — Вот ты меня и бросил.
— Прямо сцена ревности.
— Бреннюир сказал, что он подался в колониальную армию.
— Вюльмар? Еще та была сволочь.
— Это почему?
— Не важно. Слушай, ты знаешь старикашку, который дружит с Бреннюиром-старшим и с Толю? Их часто видели вместе в «Суффле».
— Это тот старик, который играет с Тюлю в бильярд?
— Он самый. Его зовут Мартен-Мартен или Браббан. Думаю, он авантюрист.
— Этот старый идиот?
— Есть у меня такое смутное впечатление. Я должен был стать его секретарем, но Вюльмар перехватил мое место. Хороша сволочь. Я рассказал ему то, что вроде бы понял насчет Браббана (я был уверен, что это жулик), а он тогда помчался к нему, опередив меня. Результат, видимо, вышел нулевой, раз он теперь в колониальной армии!
— Бреннюир написал, что папаша хочет запихнуть его в фирму, которую основал Браббан, и что, судя по всему, там большие перспективы. Не люблю я больших перспектив.
— Чем ты намерен заниматься в жизни? Или ты об этом не думаешь, а?
— Нет, думаю. Для начала побуду капиталистом.
— Поздравляю.
— Что, любопытно стало? Да, после совершеннолетия я получу наследство. Через несколько месяцев. Как раз перед уходом в армию.
— Не напоминай об этом. А потом будешь работать?
— Работа — это разновидность военной службы, как мне кажется.
— Посмотрим.
В Руане одни пассажиры вышли, другие вошли. Когда поезд вновь тронулся, Роэль оставил дремлющего Тюкдена и, переходя из вагона в вагон, решил поискать, вдруг найдется что-нибудь интересное. Не нашлось. Разочарованный, он облокотился на кожаную перекладину в коридоре и, прилипнув лбом к стеклу, стал смотреть, как мчатся в ночи по загородным просторам его мечты. В Бреоте-Безвиле он сел на место и начал самым внимательным образом читать «Интран»[109]. Под воздействием белого вина Тюкден спал. Проснулся между Арфлером и Гравилем.
— Я ведь помешаю твоей маме, если приеду без предупреждения.
— Еще как.
— Где мы?
— Подъезжаем. Не узнаешь?
Огней становилось все больше.
— Три года, как я отсюда уехал, — сказал Тюкден.
Он зевнул. И добавил:
— Так что, сам понимаешь, волнуюсь.
От белого вина его слегка развезло.
— Сейчас положим тебя спать, — сказал Роэль, когда поезд въехал на территорию вокзала.
На следующее утро Роэль отсутствовал, потому что у него «были дела». Тюкден заподозрил, что предложение прокатиться пришло приятелю в голову не совсем случайно. Он прогулялся по городу, удивляясь, что так мало растроган. Время оставило здесь лишь незначительный след: измененные названия улиц, исчезнувшие лавки, новые магазины и два-три не существовавших ранее обычая. Но море продолжало отталкивать прибрежные скалы своими неутомимыми волнами. Тюкден присел на гальку, вглядываясь в свой размытый дождями образ. Все так же похож на себя, но разве не стал он другим? Он вспоминал разговор, который только что был у него с Роэлем. Через два месяца его ждет последний дипломный экзамен; он его наверняка сдаст; потом наступят четыре долгих и безнадежных месяца, с которыми непонятно что делать, а затем все будет кончено. Рабство, рабство и снова рабство, и так всю жизнь. Если только не… Если только не — что? Если только не одержать над ним победу? Тюкден дьяволоскептически усмехнулся. От гальки было больно ягодицам, он прервал размышления и поднялся.
За обедом, который проходил у мамы Роэля, ее сын объявил, что вечером они ужинают в «Пузатой бочке» в компании Ублена, Синдоля и Мюро, который находился в Гавре проездом. Учитывая особые познания Мюро, ему поручили утрясти меню и подобрать вина. Во второй половине дня они гуляли в порту. Дошли до Хлопкового ангара, самого большого в мире, как утверждают гаврцы, и вернулись, восторгаясь всему назло грузовыми судами, уходящими на край света. На Ратушной площади встретили Ублена.
Они пожали друг другу руки, слегка смущаясь и приговаривая: «Привет, старик, тебя не узнать». Пошли дальше, с трудом выдавливая слова.
— Что вы здесь делаете? — вымучил Ублен.
— Случайно приехали, — ответил Роэль.
— Да, просто так, — сказал Тюкден.
Ублен взглянул на них с удивлением.
— Как диплом, продвигается?
— Продвигается, продвигается, — небрежно бросил Тюкден.
— А ты учиться дальше не будешь? — спросил Роэль.
— Ой, нет. Некогда.
— Работаешь у дяди?
— Да. Пока в армию не забрали. Потом вернусь в Бразилию.
— Красивая страна Бразилия?
— Да, потрясающая. Но иногда жалеешь о Франции.
— Да что ты? — с сомнением спросил Роэль.
Они сели за столик в «Гийом-Телле», где уже находился Синдоль. Тюкден и Роэль заметили, что Ублен панибратствует с этим убожеством. Разговор развивался с трудом, блуждая по лабиринтам непонимания. К счастью, появился Мюро. Свойственное ему полное отсутствие такта вернуло всем комфорт.
— Ублен, старик, — воскликнул он. — Неузнаваемый стал! Черт возьми, правильно сделал, что подстригся, как Тюкден. Тебя не узнать. Как там в Бразилии? Наверное, обалденно!
— Ну да, — сказал Ублен.
— Что тебя туда понесло?
— Ты нас всех потряс, — сказал Тюкден.
— Да не было ничего такого, — ответил Ублен. — Я просто так уехал. Дядя предложил мне в Бразилии место. Вот я и отправился.
— Ты мне никогда об этом не говорил, — заметил Тюкден.
— Возможно, — сказал Ублен.
— Помню, — продолжал Тюкден, — ты уехал в тот день, когда приговорили к смерти Ландрю.
— Я смотрю, ты в истории Франции поднаторел, — со смехом заметил Ублен.
Тюкден обиженно замолчал.
— А что спиритизм? — спросил Мюро, схватившись за бока. — Ты по-прежнему спирит?
— Хватит ржать, — сказал Ублен.
Казалось, он в отличном настроении, Мюро был не менее весел. Он одолжил у отчима машину и припрятал под сиденьем бутылку отличного старого рома. Он объявил, какие чудесати-вкусности ждут их в «Пузатой бочке», и предложил по новому кругу аперитив. Синдоль возразил, что его можно взять и в ресторане. Роэль ответил избитой фразой, что одно другому не мешает; Мюро с ним согласился. Тюкден дулся.
Ужин вышел вполне удачным. Обсудили бывших одноклассников и бывших преподавателей, вспомнили, как хорошо развлекались во время войны, подпустили скабрезных шуточек кто во что горазд. После этого компания отправилась пить спиртное к Питту. Там был дансинг. Подвыпивший Роэль начал скандалить и пытался мешать парам топтаться на месте. Мюро заявил, что исполнит песни студентов-медиков[110]. Неуклюжий Синдоль опрокинул стакан на платье какой-то женщины. Сопровождавший ее джентльмен свирепо на него зыркнул. Ублен, который до сих пор вел себя очень тихо, задумал пробить ему череп ведерком для льда. В конце концов компания свинтила. Тогда Мюро предложил пойти на пляж опорожнить бутылку отличного рома.
Так они и сделали. Рухнули на гальку, распевая и распивая прямо из горла. В конце концов бутылка оказалась в руках Тюкдена. По неопытности он глотнул несколько добрых сантилитров. Поднялся, как исполин, чтобы произнести большую речь к морю, но почти тут же сверзился на гальку. Тюкдена отвезли к Роэлю, тот его уложил. Остальные отправились заканчивать вечер в борделе.
Тюкден, которому было совсем плохо, облевал простыни своей хозяйки. На следующее утро он уехал вместе с Роэлем в Париж, не повидавшись с Убленом.
XXXIV ЖЮЛЬ
Альфред — вот это был человек. Точно вам говорю: вот это был человек.
Уж я-то собратьев по цеху знаю.
Тридцать лет в деле!
За тридцать лет я столько коллег повидал. И могу повторить:
Альфред — вот это был человек.
Причем честный человек.
И вот он ушел.
Однажды он нам сказал: «До свидания, я ухожу, завтра вы меня не увидите». Мы ему сказали: «Почему ты уходишь?» Он нам сказал: «Нужно кое-что сделать». Мы ему сказали: «Знаем мы, что ты будешь делать. Пойдешь испытывать свою систему?» Он нам сказал: «Да». Мы ему сказали: «Значит, скоро ты опять к нам вернешься».
Потом Альфред пошел к управляющему. Он ему сказал: «Тысяча извинений, но я ухожу». Управляющий ему сказал: «Почему?» Он ему сказал: «Нужно кое-что сделать». Управляющий ему сказал: «Знаю я, что ты будешь делать. На скачки пойдешь, да?» Он ему сказал: «У меня все на мази». Управляющий ему ответил: «Значит, скоро, Альфред, ты опять к нам вернешься».
И вот он ушел.
Он никогда не притворялся. Был, как все. Его надо было знать.
Уж я-то его знал.
Когда я хотел что-нибудь выяснить, я спрашивал: «Можно ли делать это? А можно ли то?» Он брал клочок бумаги и быстренько подсчитывал. А потом говорил: «Да», «Нет», «Получится», «Не получится».
И всегда был прав. Какой человек!
Он умел не только предсказывать будущее. Он еще был философом. Настоящим. Он мне как-то сказал:
«Понимаешь, клиенты, они как куча мертвых листьев».
Я спросил почему. Он ответил:
«Когда листья на дереве, то, если не знать, что бывает осень, можно подумать, что они останутся там навсегда. Так и клиенты. Приходят каждый день, регулярно — можно подумать, что так и будет продолжаться. Но вот дует ветер и сбрасывает листья в ручейки, и дворники сгребают их в небольшие кучи вдоль тротуаров, пока не подъедет мусоровоз. Я тоже каждый год, как приходит осень, сгребаю свою небольшую кучу умерших душ».
И добавил:
«Знаешь, мне это напоминает рисунок, который я видел недавно в одном комическом журнале; там был изображен человек, падающий с седьмого этажа. Он пролетает мимо жильца на четвертом и говорит ему: «Пока все не так уж плохо». Соль уловил? Каждого после первого этажа ждет свой тротуар».
Он не только философ. Он был также психолух. Он знал клиента как никто, умел его разговорить. Он видел, что у человека запрятано глубоко внутри. Показывал мне папашу Толю и говорил:
«Видишь этого типа? Теперь он приходит не так часто, как раньше. У него нет времени. Нет с тех пор, как он совершил небольшое путешествие за границу. Мимо него, хлопая крыльями, пролетела смерть. Видишь, как он теперь трясется? И приходит не так часто, как раньше. У него нет времени. А знаешь почему?»
Я спросил почему. Он ответил:
«Он посвящает свободное время изучению кончин и погребальных обрядов. Ходит за траурными процессиями, посещает кладбища и бывает у служащих похоронных бюро. Он боится преждевременных похорон и принюхивается к кремационным печам. Ему известно, из какой древесины делают гробы, из какого мрамора — надгробия. Вторгшись в царство мертвых, этот жалкий дряхлый старикан не желает из него уходить. У Бориньоля откалывает безумные номера, а к Лами-Трувену ходит что-нибудь пожевать. Хочет стать призраком».
Тут я ему сказал: «Жутковато становится от твоих баек». Но Альфред продолжал:
«А знаешь, почему он такой? Потому что есть одна вещь, которая гложет его сердце, терзает печень и выкручивает кишки. Если смерть пролетает рядом, как она пролетела мимо него, возникает ветер, про?клятый ветер, этот ветер срывает мачты с парусников и лишает рассудка людей. Если смерть пролетает рядом, как она пролетела мимо него, надо прятаться, старина Жюль; это не так, как на похоронах. Надо прятаться, иначе будет плохо, особенно если внутри гложет то, что назвали профессиональной совестью, поскольку другого названия не нашли».
Вот как Альфред знал людей. Можно сказать, он видел всю подноготную клиентов, выворачивал их наизнанку.
«Изнанка — это главное».
Так он говорил. Он еще много разного говорил. Какой это был человек. Причем честный человек. Сколько раз он запросто всем помогал. Папаше Браббану, например. Я привожу в пример папашу Браббана, потому что уже помянул папашу Толю. Вместе они — парочка. Так вот, папаша Браббан спекулировал на марке. Он считал, что марка поднимется. Альфред что-то подсчитал на уголке стола и сказал ему: «Продавайте, скоро будет поздно». Браббан же не хотел это признавать. Он был уверен в себе. Став директором, управляющим и целым административным советом солидной компании по недвижимости, он решил, что он уже кто-то. То его видят с генералами в отставке, да еще в какой отставке. То с кавалерами наполеоновских наград, в Инвалидах[111]. То в машине с молоденькой птичкой, куда более симпатичной, чем те, которые крутятся в Квартале. Я говорю «видят», а не «мы видим», потому что больше он сюда вообще не приходит — стесняется. В общем — если вернуться к разговору о марке — он не хотел верить в слова Альфреда.
А я думаю, зря он Альфреда не послушался. Потому что Альфред — это был кто-то. Точно вам говорю: это был кто-то.
За тридцать лет я столько коллег повидал.
Но таких, как он, не встречал. Нет таких. Он — единственный.
Это был кто-то.
И вот он ушел.
На днях садится папаша Браббан. Я бегу. Он шепчет мне на ухо: «А что, Альфреда нет?» А я ему в ответ: «Ушел».
Тут он по столику как шарахнет.
«Черт подери!» — ревет.
По-моему, он был не в себе.
XXXV
В честь первой годовщины М.Р.А.К. Браббан дал обед в большом ресторане — обед, куда были приглашены кое-какие близкие друзья (например: Бреннюир, доктор Вюльмар) и кое-какие влиятельные лица (например: господа Икс, Икс и Икс). Все удалось на славу, хотя некоторые гости сочли, что у месье Браббана несколько усталый вид. После изрядных сомнений Браббан решил пригласить Толю; но тот отказался, и причина была в названии компании, которое связывалось у него со смертью, и в дурном предчувствии.
Фаби ужинала дома с сестрой, которая помогла ей скоротать время до часа ночи. Браббан вернулся только в два.
— Вот и я, — отбарабанил он, слегка запинаясь.
— Да ты, кажется, пьяненький, — сказала Фаби.
Он сел, глядя куда-то далеко вперед, сквозь стену.
— Это было потрясающе, — сказал он. — Потрясающе.
И еще раз повторил: «Потрясающе». Потом замолчал. Фаби взглянула на него с улыбкой.
— И не стыдно тебе напиваться, в твоем-то возрасте.
— Это было потрясающе, — продолжил Браббан. — Было два министра и три генерала. Два плюс три — пять. Два министра и три генерала.
— Ты не говорил, что знаешь столько генералов.
— Я не говорил, что знаю двух министров и трех генералов? Это было потрясающе. Самый прекрасный день в моей жизни с момента первого причастия. Моя мать так плакала от волнения. В молодости все мы глупые. Было три генерала.
— Только не говори, что три генерала были на твоем первом причастии.
— Нет. Было два министра и три генерала. Два плюс три — пять, не считая Толю, который не пришел.
— Лучше иди ложись.
— Нет. Я не буду ложиться. Ложатся, только чтобы умереть. Мне Толю сказал. Толю — мой старый друг, друг детства. Он теперь спит в кресле, чтобы не умереть. А я буду спать стоя.
Говорил он с трудом.
— Не надо было тебе столько пить, — обеспокоенно сказала Фаби.
— С двумя генералами и тремя министрами? Смеяться изволите. Это не представлялось возможным, мадам, ибо два плюс три — пять.
Он встал.
— Я буду спать стоя, чтобы не умереть.
Упал на колени.
— Да будет так.
И принялся читать молитву.
— Вот черт, — сказала Фаби, — что на него нашло?
Она подхватила старика под мышки, доволокла до дивана и умудрилась на него затащить. Он не сопротивлялся, только бормотал. Приняв горизонтальное положение, он замолчал, потом посмотрел на Фаби.
— Фаби.
— Ты меня узнаешь?
— Фаби, я умру.
— Что ты несешь?
— Впрочем, все когда-нибудь умрут.
— Антуан, бедненький, у тебя вино было с грустинкой.
— Если ты хочешь, чтобы я спал лежа, я буду спать лежа, но если я буду спать лежа, я умру.
— Не волнуйся. Спи.
— Это было потрясающе. Потрясающе. Было два министра и три генерала. Два плюс три — пять, не считая Толю, который был на каких-нибудь похоронах, поскольку мой друг Толю хоронит сейчас всех подряд. Было много-много народу, и все мною восхищались, потому что я теперь богач-миллионер. Все свои миллионы я поместил в большой ларец под гробом Шарлеманя в Экс-ла-Шапель[112]. Это только часть моего состояния, ведь кроме этого богатства я владею всей Рейнской областью и всем левым берегом Рейна. Немцы об этом не подозревают. Дураки, правда?
— А то.
— Они-то дураки, но я умру. Слушай мое завещание: Рейнскую область я передаю Франции, а мои миллионы — тебе. Ты все поняла?
— Естественно, поняла. Что мне делать с Рейнской областью!
— Ты передашь ее Франции. Я посильнее двух министров и трех генералов. Я богач-миллионер. У меня пятьсот миллионов. Что ты будешь делать с пятьюстами миллионами?
— Закажу тебе роскошное надгробие.
— Ты умница. Настоящий парижский воробушек: всегда найдешь смешное словечко. Я знаю, что в тебе можно не сомневаться. Можно спать спокойно.
И он уснул, продолжая бормотать.
«Отвратительно в его возрасте напиваться», — подумала Фаби.
На следующее утро, когда она проснулась, Браббан уже встал. Она позвала его. Он пришел с барсучьей кисточкой для бритья — собирался намазывать себе лицо.
— Привет, Фаби, детка. Хорошо спала?
— Неплохо, а ты?
— Превосходно, превосходно. Знаешь, вчера вечером все прошло потрясающе.
— Только не говори, что были два министра и три генерала, ладно?
— Почему нет? Конечно, были два министра и три генерала. Два плюс три — пять, не считая Толю.
Он говорил, заикаясь. Фаби взглянула на него, с подозрением сдвинув брови.
— Это ты прислал мне вчера зонтики?
— Какие зонтики?
— Двести зонтиков от «Базар Отель де Виль».
Браббан задумался, держа кисточку торчком, словно факел. Улыбнулся.
— Я купил тебе зонтики, потому что зимой часто будут дожди. Это мне сказал мой друг Альфред. Помнишь, Альфред, мой друг, который все знает, все видит и может все предвидеть. Он сказал, что зимой часто будут дожди. Вот я и подумал, что зонтики могут тебе пригодиться.
— Двести?
— Да. Я купил тебе двести зонтиков, потому что зимой часто будут дожди. Это мне сказал мой друг Альфред. Помнишь, Альфред, мой друг, который все знает, все видит и может все предвидеть. Он сказал, что зимой часто будут дожди, вот я и купил тебе двести зонтиков, потому что подумал, что зонтики могут тебе пригодиться.
Фаби посмотрела на него с ужасом.
— Ну вот, — прошептала она.
— Ну вот, — эхом повторил Браббан. — Пойду бриться, — добавил он.
Не сходя с места, он сунул кисточку себе в рот. Победно взглянул на Фаби, затем, вытащив кисточку, стал плеваться по сторонам мыльной пеной.
— Ну вот, — повторил он. — Ну вот, ну вот, ну вот.
И принялся смеяться.
— А что — вот? — лукаво спросил он. — Браббан сейчас умрет. Браббан сейчас умрет, потому что лег спать. Если бы не лег, то жил бы еще не одну сотню лет. Но он лег, так что умрет. Умрет, оставив Рейнскую область Франции, а пять миллиардов своей девочке Фаби. Так ведь, Фаби, детка? Не стоит благодарности! Пять миллиардов — это самое малое, что я могу тебе дать. Но Рейнская область, естественно, Франции!
— Понимаю, естественно. Слушай, можно мне позвонить? Я плохо себя чувствую. Хочу вызвать врача.
— Ты плохо себя чувствуешь? Что с тобой? Погоди, я позвоню моему другу, профессору Вюльмару, выдающемуся профессору Вюльмару.
Он направился к телефону.
— Не надо, оставь, — крикнула Фаби.
— Мы позвоним выдающемуся профессору Вюльмару.
Он снял трубку и назвал номер.
— Алло? Алло. Я хотел бы поговорить с доктором Вюльмаром. Это месье Браббан. Да. Да. Доктор Вюльмар? Да, алло. Прекрасно. Я звоню, потому что меня попросила позвонить моя подружка. Алло. Вы меня поняли? Не совсем? Все очень просто, доктор. Я сейчас умру. Вы поняли? Я умру, потому что спал лежа. А? Какие шутки? Вам повторить? Я сейчас умру, потому что спал лежа. Вы поняли? Это срочно. Я сейчас у своей подружки, мадемуазель Фаби д’Алинкур, 45, авеню Моцарта. Это срочно, вы поняли? До свидания, доктор.
Он повесил трубку.
— Видишь, все просто. Славный доктор Вюльмар. Пойду бриться.
Он направился к ванной с кисточкой в руке.
— Погоди, — сказала Фаби. — Погоди, пусть приедет.
— Я не могу принимать выдающегося профессора Вюльмара, не побрившись.
Браббан посмотрел на нее.
— Погоди, — повторила она. — Ты можешь подождать?
Он сел, расставив ноги и положив кулаки на колени; кисточку он держал, как скипетр. И молчал, пока в дверь не позвонили.
Вошел доктор Вюльмар.
— Ну вот, — повторил Браббан. — Кончено. Пять миллиардов — Фаби и Рейнская область — Франции.
XXXVI
Роэль и Тюкден ждали отъезда.
Оба получили дипломы в июне; затем один уехал в Гавр оформлять права на наследство, а другой — в Рейнскую область под неуклюжим предлогом, что будет совершенствовать свой немецкий. Тюкден-старший, находясь под двойным впечатлением от падения марки и долгожданного форсирования университетской ступени, оплатил это небольшое путешествие. Тюкден-младший пожил в Майенсе, затем в Кельне. Ему удалось присутствовать при различных инцидентах, вызванных знаменитым в истории денежным обвалом, о котором журналисты поведали всему миру. Он написал Роэлю, предложив встретиться в Экс-ля-Шапель, но Роэль не хотел прерывать пребывание в Динаре, и его друг почти тотчас нашел этому разумное объяснение.
Тюкден вернулся в Париж к середине сентября. Дней десять прожил исключительно праздной и пустой жизнью. Ходил из кино в кино, пил в одиночестве в барах, куда не решился бы зайти раньше, потому что снаружи не видно, что происходит внутри. Иногда давал себя соблазнить какой-нибудь фригидно-проституточной-особе; вследствие этого он уничтожал свою библиотеку и проводил свои последние дни на набережных. Он также уничтожал весь накопившийся бумажный хлам: безжалостно и не покладая рук сжигал рукописные мальчишеские произведения, которые теперь заставляли его краснеть. Тем не менее, некоторые из них он отложил, перевязал и поставил большую печать из красного воска, как финальную точку. Роэль вернулся в начале октября; при первой же встрече он представил свою подругу, мадемуазель Терезу Бреннюир.
Они ждали отъезда. Военное командование уже любезно предупредило их о точной дате и о пункте приписки. Они ждали. Это были дни без цели, время без надежды. Для Тюкдена они казались совершенно пустыми, похожими на бездну, над которой он песчинкой плыл. Для Роэля с каждым днем расширялась пропасть, и ясно виделся момент падения и расставания. Чтобы убить это почти безжизненное время, они «развлекались» тем, что посещали Париж, как иностранцы, которыми себя представляли; или же с «ипподромным» видом отправлялись играть на скачки. Роэль красиво тратил свои деньги, Тюкден с трудом их добывал.
Однажды Тереза сообщила им, что Браббан недавно впал в маразм и дышит на ладан; отец поручил ей посетить клинику, так как сам не решается туда пойти, боится лишних эмоций. Они предложили сопроводить ее при выполнении долга. Когда они пришли в лечебницу, там происходила живая дискуссия между медсестрой и старым господином, желавшим видеть Браббана; ему в этом было категорически отказано. Состояние месье Браббана требовало полного покоя. Посетитель, а это был Толю, не удивился присутствию племянницы и двух бывших учеников. Он тут же принялся описывать им свою ситуацию, протестуя против тирании невежд-врачей и аптекарей. Тереза, которая в принципе не стремилась увидеть, как агонизирует Браббан, добросовестно осведомилась, можно ли видеть профессора Вюльмара. Его не было. Заметно молодой доктор объявил им в конце концов, что состояние месье Браббана не меняется и что все визиты запрещены.
Они вышли. Тереза извинилась, что отлучится: она должна была как можно скорее проинформировать отца о развитии событий. Тюкден и Роэль остались одни против Толю, который, казалось, не собирался их отпускать, но при этом его мало волновали действия племянницы.
— Вот ведь какое несчастье, — сказал Толю. — Теперь ему явно не выкарабкаться, в его-то возрасте. А ведь такой замечательный человек! Вы были с ним знакомы?
— Немного, — ответил Роэль.
— Вы с ним играли в бильярд в «Людо», — сказал Тюкден.
— Верно, верно. Больше он в бильярд играть не будет. Да и я тоже. Больше не играю. Некогда мне теперь развлекаться. Слишком много забот. Ах, сколько у меня забот, молодые люди. Вы бы только знали!
— Мы не знаем, — сказал Роэль.
— Откуда вам знать. Смерть — это не для вашего возраста.
— Как сказать, — отозвался Тюкден.
Толю обиженно замолчал. И сменил тему.
— Ну что, друзья мои, теперь у вас есть дипломы?
— В июне получили, — ответил Роэль.
— Прекрасно, прекрасно. У моего племянника тоже есть диплом. Вы с ним знакомы?
— Немного, — ответил Тюкден.
— А у вашего друга Ублена тоже есть диплом?
— Ублен бросил. Теперь он в кофейной фирме.
— Надо же, надо же. А ваш друг Синдоль?
Перечисление становилось угрожающим. Так все бывшие ученики выйдут на подиум. Роэль оборвал эти показательные выступления.
— Синдоль? Он умер.
— Умер! Он был моим лучшим учеником. В таком возрасте, умер!
— Да, месье Толю.
— Друзья мои, я открою вам одну тайну. Я не умру.
— Очень даже возможно, — сказал Тюкден.
— Вот именно. А знаете ли вы, в чем тут дело?
Этого они не знали.
— Я не ложусь. Сплю сидя. Правда, хорошая идея? Если бы я ложился спать, я бы умер. Я это точно знаю. Вот и сплю сидя. Я поделился секретом с Браббаном, но эти ребята в своей сатанинской клинике, должно быть, уложили его силой. Так что он умрет. А ведь такой замечательный был человек.
— А вы, значит, стали бессмертным, месье Толю.
— Ну да. А что делать? Я пока не нашел способа освободиться от… Это долго объяснять.
— Мы послушаем, месье Толю.
— Правильно; тяга к знаниям — это правильно, тем более, что этот вопрос вас все равно касается. Вы ведь философы?
— Именно.
— А что философы говорят о смерти?
— Одни — что философия есть приготовление к смерти, другие — что свободный человек о смерти не думает.
— Как всегда, одни говорят «да», другие — «нет», — заметил Толю.
— Не вижу противоречия, — заметил Тюкден.
— А потом? — спросил Толю. — Что они обещают потом? Одни — одно, другие — другое, так ведь?
— Примерно, — сказал Роэль.
— Знаю, знаю. А мне все равно. Будущая жизнь, исчезновение, метемпсихоз[113] и вся прочая ерунда мне безразличны. Но есть одна вещь, которая мне не безразлична. Тс-с! Только молчите! Есть одна вещь, которая имеет для меня значение, тс-с! Это сомнения и тревоги, которые я ношу в себе.
— У вас их так много, месье Толю?
— Моя жизнь была жульничеством, и вам это хорошо известно, так же хорошо, как и мне! Вам хорошо известно, что я преподавал то, чего не знал, я осмеливался преподавать вам то, с чем не был знаком.
— Что именно, историю?
— Историю, например; знал ли я, скажем, Карла Великого? А у Цезаря бывал? А Наполеон, он вообще существовал[114]? Какая глупость говорить о том, чего не знаешь. А география! Довершение зла! Бывал ли я в Китае, в Австралии, в Японии? Все, что я вам преподавал, — ложь, сплошная ложь.
— Вы же знаете, месье Толю, что преподавателю географии не обязательно быть путешественником.
— Справедливо. Но я все же мог бы хоть немного попутешествовать.
— Вы никогда не уезжали из Франции, месье Толю?
— Нет, никогда. Впрочем, один раз я был в Лондоне.
— Вот видите, вы все-таки путешествовали.
— Да. Но это было уже позже, много позже. Это не в счет. И что это было за путешествие, мои юные друзья! Я приехал, только чтобы увидеть, как он умирает. А знаете, как он умер? Смеясь. Он смеялся надо мной! Умер, смеясь. Если бы у меня в голове не бродили все эти мысли, я бы тоже умер, смеясь. Что делает со мной жизнь? Что я делаю в жизни? А? Можете мне сказать? Я, конечно, способен умереть, смеясь. Только вот… только не хочу умереть, унося с собой мои угрызения.
— Да ладно, месье Толю, — сказал Тюкден. — Вы же знаете, что все преподаватели географии в таком же положении! Вы, кстати, были хорошим преподавателем.
— Очень хорошим, — сказал Роэль.
— Вы весьма любезны, молодые люди, но речь не об этом. Я-то знаю, что с моей совестью. А вы — нет, вы этого не знаете. Умереть, смеясь, как просто! Если бы мне удалось не брать ее с собой! Это возможно. Есть одна хитрость. Я узнал ее, когда шел за процессией, хоронившей слепого. Хотите, скажу?
— Было бы очень интересно.
— Только тс-с, ладно? Освобождаешься от призрака. И после этого никаких тревог. Призрак может мучить других, но у тебя никаких тревог. Напрочь избавляешься!
— А что делать, чтобы освободиться от призрака?
— Это очень просто, — ответил Толю с удовлетворенным видом.
— Что вы предпочитаете, месье Толю? Быть бессмертным или освободиться от призрака?
— Вопрос возникает, поскольку вам известно и то, и другое, — добавил Роэль.
Толю покачал головой.
— Бессмертия не бывает. Однажды можно отвлечься. Ляжешь — и все. Именно так вышло с моим другом Браббаном. Способ надежный, но он так сложен, что в один прекрасный день о нем забываешь, и тут — нате вам. Нет, бессмертия не бывает. Такого еще не встречалось.
— Значит, вы освободитесь от призрака, месье Толю?
— Надеюсь, вас он мучить не будет.
— Было бы нехорошо с вашей стороны, месье Толю.
— А с вашей стороны было бы хорошо прийти на мои похороны.
— Ну конечно, месье Толю, непременно.
— Если я не умру, смеясь, то что я могу этому противопоставить?
Роэль и Тюкден не знали, что можно противопоставить. Толю остановился у края тротуара, изучая носки своих потрескавшихся ботинок.
— Выколоть глаза… — пробормотал он.
И посмотрел на молодых людей.
— Ведь ни к чему выкалывать себе глаза, верно? Это было бы совсем ужасно, да? Я все же не собираюсь выкалывать себе глаза.
— И не надо, — сказал Роэль.
— Прекрасно, прекрасно.
Он забавно тихонечко хихикнул.
XXXVII
И тут старик потешно, боком скакнул.
Мчащийся автомобиль швырнул его о дерево. Карамболь был великолепный. Тело лежало лицом вниз, распластавшись. Со всех сторон бросился народ. Череп лопнул, как перезрелый апельсин. Люди, перегорланиваясь, окружили мертвого и стали поносить шофера. Позже прибыла «скорая».
— Надо будет справиться о дате похорон, — сказал Тюкден.
На следующий день Тереза сообщила, что ее отец, потрясенный трагическими событиями, слег в постель и отказывается вставать. Он думает таким образом увернуться от взмаха крыльев, которые, как ему кажется, над ним нависли.
Встречаться надо было в девять в больнице, куда отвезли совсем маленький трупик бывшего преподавателя.
Верные своему обещанию Тюкден и Роэль отправились туда в урочный час. Их удивило количество людей, готовящихся образовать кортеж. Молодые люди никогда бы не подумали, что столько народу может знать Толю и что столь многие из тех, кто не обращал на него внимания при жизни, поспешат проводить его после смерти. Так, посчитали своим долгом прийти писатели и художники, посещавшие дом Бреннюира; собрались многочисленные коллеги, и даже историк, член Института[115], не говоря о кузенах и кузенчиках, в большом количестве приехавших из своей провинции.
— Как жаль, — сказал один, — что он не может воспользоваться семейным склепом.
— Что делать, — отозвался другой, — это громадные расходы. Железнодорожные тарифы слишком высоки.
Роэль, передавая Тюкдену этот разговор, высказал желание выписать им чек, чтобы оплатить перевозку скончавшегося Толю. «Пусть мертвецы сами хоронят своих мертвецов»[116], — посоветовал ему Винсен. Кортеж выстроился и выступил вперед. Тереза шла во главе, став добычей семьи. Семья пожелала, чтобы обряд был религиозным, хотя в свое время Толю был активным защитником всего мирского. Направились к церкви. Священник шмелем загудел на латыни; поскольку ему как следует заплатили и он был добросовестным, то произнес несколько уместных слов, но без особой убежденности. Затем кортеж вновь выстроился и степенно направился к кладбищу. По примеру соседей, Роэль и Тюкден принялись болтать.
— Как ты думаешь, он освободился от призрака? — спросил Роэль.
— В любом случае нас он мучить не будет, — сказал Тюкден. — Мы свое обещание держим; надеюсь, и он сдержит свое.
— Удивительно, да? Почтенный, порядочный и достойный человек, а ходил с неспокойной совестью.
— Знающие люди говорят, такое часто бывает, но эти его угрызения совести по поводу географии — скорее маразм, чем что-то всамделишное.
— Ты понял, что он рассказывал о поездке в Лондон?
— Нет. Там кто-то умер, смеясь. И его это испугало.
— А еще история с одноглазым, которого лишили зрения и задавили. Помнишь, о чем он нас спросил, прежде чем броситься под машину?
— Да. Может, надо было сказать, чтобы он выцарапал себе глаза. Его призрак точно бы порадовался.
— Если Толю все удалось, то призрак сейчас болтается по свету.
— Кажется, он уже плотно занялся его прелестной семейкой, — сказал Тюкден.
— Наверное, стоит у изголовья месье Бреннюира.
— Еще один бедолага.
— Какое у тебя впечатление от этого самоубийства? — спросил Роэль.
— Как будто старая кожа спала, труп моего детства.
— Это полагается отметить.
— Да, похоронами.
— И уехать. Одно с другим сочетается.
— Есть вещи, которые отмирают одновременно, — сказал Тюкден. — Затем начинается новая эпоха.
— Наша новая эпоха скверно начинается. Восемнадцать месяцев военного рабства.
— Станешь дезертиром?
— Нет.
Это их рассмешило. Два человека возмущенно обернулись.
— Мы дразним гусей, — сказал Тюкден.
Вошли на кладбище. Кортеж червем пробуравил себе путь между могилами до ямы, в которой должен был гнить Толю-труп. Священник снова запел. Затем начались небольшие речи. Какой-то господин выступил от имени бывших студентов «Эколь Нормаль Сюперьор». Член Института стал восхвалять скромного и добросовестного эрудита, каким был усопший; он даже воспользовался случаем, чтобы высказать свои представления об историческом методе. Наконец, гроб опустили в яму, и все разошлись, еще раз пожав руки членам семьи.
— Ну вот, — сказал Тюкден. — Все просто, просто, просто.
— Тем не менее, без украшательств не обошлось.
— И все же это значимо и убедительно.
Они вышли с кладбища и сели в такси.
— Встречаешься сегодня с Терезой?
— Боюсь, что нет.
— Что действительно вызывает опасения, так это старик, который перетрусил и слег.
— Непонятно, откуда такая трусость. А с виду достойные дедушки…
— Выпьем по последнему стаканчику? — предложил Тюкден.
— По последнему? И правда, я об этом не подумал. После обеда уезжаешь?
— Да. Так что, по последнему?
Они попросили остановиться перед кафе.
— Я рад, что тебя отправляют недалеко от Парижа. А я еду в Марокко или еще куда-то, но это уже без разницы. У меня будет первое путешествие.
— Что говорят твои родители?
— О, родители уже видят меня капралом.
Был полдень. Толпа сновала взад-вперед, заполняя улицы, рассеивалась и скапливалась, двигалась и замирала, стекала ручьями смолы в жерла метро, стаей саранчи штурмовала автобусы; эта толпа наступала на ноги, вдавливала ребра ударами локтей, плевала в спину; это была гудящая, сумрачная, кричаще подвижная толпа.
Хорошее зрелище для молодых.
XXXVIII АЛЬФРЕД
Итак, когда все было готово, я преспокойно отправился в Лонгшан, который как раз вновь открылся. Я не спешил. Пришел на третьем забеге. Естественно, купил себе билет на хорошее место; Сезар Рануччи выиграл третий забег, как это и значилось в моих записях. Тогда я направляюсь к кассе и ставлю десять франков на Леонору. А после этого осматриваюсь, прислушиваюсь к разговорам, наблюдаю. Мне жаль было весь этот люд, суетившийся в темноте; они не знали, что выиграет Леонора. Все-таки знание — великая вещь: я даже не смотрел забег, даже на табло не взглянул, а направился к окошку и получил триста три франка. Три франка я положил в карман, а триста поставил на Арлинду. Вокруг никто не вспоминал об Арлинде. И вот Арлинда отправилась в забег со ставкой шестьдесят четыре с половиной против одного, и девятнадцать тысяч шестьсот пятьдесят франков оказались у меня в кармане. Публика возбужденно обсуждала солидный выигрыш, но в кассу отправились не многие. Я же нисколько не был потрясен, ведь просчитал все заранее. Что до последнего забега, то я все же пошел посмотреть, как он проходит. Красивое зрелище. Поскольку я знал, что произойдет, мне не пришлось кричать и вынуждать свое сердце биться быстрее обычного. Моя кобыла сделала то, что нужно было сделать, чтобы мои цифры оказались верными. Ее звали Лавина, и она принесла мне десять тысяч франков при ставке восемнадцать и две десятых против одного, так что я ушел с точным выигрышем в двести одну тысячу шестьсот сорок три франка; именно это мне и было нужно, ровно столько отняли у моего бедного отца, если учесть рост стоимости жизни и падение франка.
На следующий день я взял выходной. Я доверил свое богатство одному кредитному учреждению, а потом спокойно прогулялся. Еще через день возвращаюсь к управляющему и говорю: это снова я. Он отвечает: столько-то. Я даю ему, сколько он просит, и возвращаюсь на свое место, выполнив то, что мне предначертано, то, что написали звезды; и пусть вокруг меня движется людской круговорот, как движутся зайцы в ярмарочном тире, пока кто-нибудь меткий не заставит их разлететься на мелкие кусочки.
Наступил октябрь, возвращаются студенты, и скоро начнут падать листья. Одним больше, одним меньше, для меня это не имеет значения. Я буду разносить блюдца и огибать столы, не вмешиваясь во все то, что меня не касается. Одни люди приходят, другие уходят. Есть те, чье предначертание еще не исполнено и кто воображает, будто их заурядной жизни не будет конца. Есть и другие, для кого все кончено; этих мы больше не увидим — ни месье Толю, ни месье Браббана, ни месье Бреннюира.
Когда пришло время, месье Толю сбила машина. Конечно же, это было самоубийство. Я давно предсказывал, что он покончит с собой. Достаточно было его увидеть, послушать. Не надо было даже смотреть на расположение планет. После короткого путешествия за границу у Толю буквально на лбу было написано, что он не жилец. Нехорошо встречать смерть так, как встретил он — с гримасой на лице; и так же нехорошо, когда у тебя внутри забродившая гниль. Это мерзко. Он говорил, что его мучает география. Другим говорил. Я уже не желторотый птенец. Я не обращал на него внимания. Он спросил меня, можно ли узнать дату своей смерти. На это я ему ничего не ответил. Он страшно надулся. Совесть ела его поедом. Если считать, что совесть вообще существует. В конце концов это привело его к тому, к чему должно было привести. Кто-то скажет: рано или поздно он все равно бы умер. Да, но важно как. Месье Толю ничего не оставалось, именно так он и должен был умереть: жалкой смертью, да еще когда штука, которую он называл своей профессиональной совестью, портит кровь. Он прошел свой неприметный круг, и его место уже занято.
Месье Браббана земля поглотила не намного позже. Первому старику я все правильно рассчитал. Он день в день отправился на свидание, которое я ему определил. Второй сразу последовал за ним. Получилось так, что двое похорон проходили почти подряд. Я там не был, но о них писали в газетах. Более пышными оказались похороны месье Браббана. Было много народу, потому что он был управляющим М.Р.А.К., акционерного общества с капиталом в десять миллионов франков, название которого не нравилось месье Толю из-за напрашивавшегося каламбура. Хоронить месье Браббана собрались всяческие порядочные люди. Мероприятие удалось на славу. Были произнесены слова и даже, так сказать, надгробная речь. Затем, через несколько дней, газеты написали, что покойный был жулик и что М.Р.А.К. — афера. Разразился скандал, тем более что речь шла о Рейнской области и марке. Газеты радостно состряпали бог знает что. Естественно, поместили биографию Браббана, раскрыли его настоящее имя, поведали о приговорах, и конечно же, как я и думал, он оказался мелким, ничтожным жуликом, который попадался то там, то сям, собирая коллекцию проколов.
А потом постепенно все поняли, что это было не такое уж жульничество, как казалось вначале, и что месье Браббан истратил лишь малую часть собранных денег, и что он также удачливо спекулировал на росте ливра (благодаря мне, но об этом никто не подозревает, а сам я хвастаться не буду; я, как выражаются в газетах, скромный человек). Наконец, месье Браббан купил здание, а точнее небольшой особняк в XVI округе, где жил с молодой женщиной, которая куда-то исчезла. То, что она исчезла, я понимаю; она чертовски права, неприятности были бы ей обеспечены, причем надолго. Что до месье Браббана — возвращаюсь к нему — то, как я и говорил, это был мелкий, ничтожный жулик, и даже состряпав настоящую крупную аферу, он нагрелся на ней едва-едва. Особняк в Пасси и пятьсот тысяч франков за год — не бог весть что. Но все-таки лучше, чем мелкие мошенничества, которыми он потешал себя всю жизнь. И потом, ему все же потребовалось ждать семидесяти лет, пока у него не появилось тщеславие и великие идеи, а появились они, я уверен, благодаря женщине, той самой упорхнувшей птичке. Наделав своей болтовней много шума, газеты в конце концов замолчали о Браббане, но от этого не перестали заливать свои страницы проклятой типографской краской, которая так пачкает руки.
Предначертанное третьему старику тоже осуществилось. Ему я ничего не подсчитывал, но уверен, что если бы занялся этим, то все совпало бы тютелька в тютельку. Когда он узнал, что его друг болен, он был потрясен. Когда он узнал, что его шурина сбила машина, он слег. Когда он узнал, что его друг усоп, его начало лихорадить. Когда он узнал, что его друг — жулик, он впал в агонию. Когда он узнал, что не все его деньги потеряны, он умер от радости. Мелким был этот месье Бреннюир. В итоге его похоронили, как остальных. Его предначертание исполнилось по-своему. Каждому свое, бедный Бреннюир.
Наверняка возникает вопрос, откуда я все это знаю и кто описал мне страдания месье Бреннюира. Конечно, из газет о страданиях месье Бреннюира не узнаешь. Просто я слышал, как месье Вюльмар рассказывал об этом господину, который пришел вместе с ним и имя которого мне не известно. Публика занимает пустые места перед предстоящей гекатомбой[117], и представление начинается. Времена года движутся по кругу, а я стою и смотрю на них, крутя рукоятку. Три господина приходили в течение трех лет, есть и другие, для кого этот срок более долог — бывает, пять-шесть пятилетий. Они приходят годами, так что можно подумать, что этому не будет конца, но всякое предначертание осуществляется. И они исчезают, чтобы начать крутиться где-нибудь в другом месте или слезть навсегда со своей деревянной лошадки.
Мертвые листья попадали в грязь, и люди топчут их в ожидании трамвая под дождем. Я наблюдаю за этим сквозь стекло, и на нем оседает пар — мое дыхание. Начинается новый год. Клиенты прежние, но есть и новые, старые, молодые, тонкие, толстые, гражданские, военные. Одни говорят о политике, другие рассуждают о литературе; одни хотят основать небольшой журнал, другие подхватывают болезни от женщин; одни воображают, будто знают все на свете, другие, судя по всему, не знают ничего. Я же все время здесь, разношу им напитки: холодные — летом, горячие — зимой, а спиртное — в любое время года. Я ни во что не вмешиваюсь, пусть все идет, как идет. Проходят дни, проходят ночи, текут годы и природные циклы, и можно подумать, что все это так и будет двигаться дальше, вовлекая в свой круг клиентов, которые заглядывают выпить кофе со сливками или ежедневный аперитив, но наступит момент, и не будет больше ни природных циклов, ни годов, ни тем более дней и ночей, и планеты завершат свое вращение, и явления потеряют периодичность, и все перестанет существовать. Вселенная превратится в прах, свершится ее предначертание, как здесь и сейчас вершатся судьбы людей.
Раймон Кено
Последние дни
Раймон Кено (фр. Raymond Queneau; 1903–1976) — выдающийся французский писатель, поэт, эссеист, переводчик, участник сюрреалистического движения, один из основателей УЛИПО (Мастерской Потенциальной Литературы или Управления Литературной ПОтенцией), Трансцендентальный Сатрап Патафизического Колледжа, директор «Энциклопедии Плеяды». (…) В разнообразных по жанрам произведениях Кено от математических шарад до философских эссе всегда остаются неизменными чувство юмора (цитирования, пародии, заимствования и мистификации) и виртуозная игра со словом.
Википедия
Новая французская линия
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Сен-Жан — праздник начала сбора урожая, отмечается 24 июня. (Здесь и далее прим. пер.)
(обратно)2
Имеется в виду Национальный архив.
(обратно)3
Франко-прусская война 1870—71 гг.
(обратно)4
Федерб, Луи (1818–1889) — французский генерал, губернатор Сенегала, основатель порта Дакар.
(обратно)5
Название первого романа в стихах Кено.
(обратно)6
Алкогольный напиток, полученный из абсента, но менее крепкий и не содержащий полынных добавок. Массовым выпуском абсента начал заниматься в 1797 г. Анри-Луи Перно, а позже его сын стал производить напиток, получивший название перно.
(обратно)7
Ванье — известный издатель конца XIX в.
(обратно)8
«Меркюр де Франс» — литературный журнал, основанный в 1889 г. литераторами, сочувствовавшими символизму. В 1894 г. появилось одноименное издательство.
(обратно)9
Гийом Аполлинер умер 9 ноября 1918 г. Следовательно, действие происходит 11 ноября 1920 г., в годовщину окончания Первой мировой войны.
(обратно)10
Воспоминания (англ.).
(обратно)11
«Эколь Нормаль Сюперьор» — высшая педагогическая школа в Париже.
(обратно)12
Лицей Людовика XIV, один из самых престижных во Франции.
(обратно)13
Сорт ликера, настоянного на травах.
(обратно)14
Здесь и далее речь идет о licence — первой ступени французского высшего образования.
(обратно)15
Штирнер, Макс (1806–1856) — немецкий философ, основоположник анархистской философии. Бергсон, Анри (1859–1941) — французский философ, говорил об интуиции как о единственном средстве познания.
(обратно)16
Встречающиеся здесь обозначения маршрутов соответствуют следующим видам транспорта: буквенные — маршруты автобуса, цифровые — маршруты трамвая; линии метро обозначаются направлениями.
(обратно)17
«Я же один — иного мнения» (греч.).
(обратно)18
Давно среди смертных живет молва,
Будто бедою чревато счастье
И умереть не дано ему,
Пока невзгодой не разродится.
Я же один — иного мнения:
Я говорю: от дурного дела
Плодится множество дел дурных,
И все с изначальной виною схожи.
А в доме честном и справедливом,
Чуждом злодейству и обману,
Родится радость — дитя святое.
(Эсхил, «Агамемнон». Пер. С. Апта)
(обратно)19
Имеется в виду Латинский квартал.
(обратно)20
Брюнсвик, Леон (1869–1944) — французский философ, представитель одного из направлений идеалистической философии, с 1909 г. профессор Сорбонны.
(обратно)21
«Лонгшан» — ипподром в Булонском лесу.
(обратно)22
В пер.: «Анархист».
(обратно)23
Факультет медицины.
(обратно)24
Имеется в виду аптекарь Омэ, персонаж романа Г. Флобера «Мадам Бовари».
(обратно)25
Дело Ландрю — крупный судебный процесс 1921 г. по обвинению Анри Дезире Ландрю в убийстве десяти женщин и мальчика у себя на вилле. Как и в других нашумевших во Франции процессах начала XX века (дело Дрейфуса, дело Сезнека), бесспорных доказательств вины представлено не было.
(обратно)26
Слово excentrique во французском языке означает и «эксцентричный», и «удаленный от центра».
(обратно)27
«Гота» или Готский альманах — публиковавшийся в 1763–1944 гг. в немецком городе Готе ежегодник фамильной и дипломатической аристократии.
(обратно)28
«Берта» — название тяжелых немецких пушек, которые стреляли по Парижу в 1918 г.
(обратно)29
Динамизм — в философии: взгляд на мир и природу, согласно которому вся действительность выступает как игра сил или движений.
(обратно)30
Игра слов: Кено употребляет слово piqué, означающее как «изъеденный червями», так и «чокнутый, ненормальный».
(обратно)31
Выступаю под маской (лат.).
(обратно)32
Larvatus prodeo — формула, произнесенная молодым Декартом во время обучения в голландской военной академии; Декарт говорит о себе как об ученом, надевшем маску солдата в театре жизни. В латинском языке larva — «маска, личина», а также «дух, привидение». Слово сходно с французским larve — «личинка», а также «злой дух, привидение».
(обратно)33
«Когда настает время вишен» — первая строка из известной французской песни.
(обратно)34
Бледно-голубой с сиреневым оттенком.
(обратно)35
Кено употребляет выражения mal famé («дурного толка, пользующийся дурной славой») и bien femmé («хорошо» плюс пассивная глагольная форма, образованная от femme, «женщина»).
(обратно)36
Абсент был запрещен во Франции из-за его психотропного воздействия на организм человека.
(обратно)37
От английского what — «что».
(обратно)38
Карпентьер, Жорж (1894–1975) — французский боксер, чемпион мира 1920 г. в полутяжелом весе.
(обратно)39
Демпси, Джек (Уильям Харрисон Демпси) (1895–1983) — знаменитый американский боксер, чемпион мира. Описываемый поединок с Жоржем Карпентьером действительно состоялся в 1921 г.
(обратно)40
Кено вставляет в слово, образованное от английского knock-out, «нокаут», свою фамилию.
(обратно)41
T.S.F. — Télégraphie Sans Fil — беспроволочный телеграф; аббревиатура употребляется для обозначения радио.
(обратно)42
Шарлеруа — бельгийский город, близ которого в ходе Первой мировой войны, 21–23 августа 1914 г., немцы одержали значимую победу.
(обратно)43
Марнское сражение — военная операция, проведенная французами на реке Марне 5-12 сентября 1914 г., когда им удалось остановить наступление немецкой армии.
(обратно)44
Парижское казино.
(обратно)45
Как правило, в манилью играют вчетвером. Но существуют правила, предусматривающие наличие трех «живых» игроков и воображаемого четвертого — «мертвого».
(обратно)46
Романы Андре Жида.
(обратно)47
«Топи» (1895) (пер. И. Сабовой). Полностью отрывок выглядит так: «Есть вещи, которые приходится проделывать заново каждый день просто потому, что ничего другого не остается; в них нет ни прогресса ни даже движения — и, однако, нельзя же не делать ничего…»
(обратно)48
Там же. «Топи» (1895) (пер. И. Сабовой).
(обратно)49
«Яства земные» (1897 г.).
(обратно)50
Имеется в виду книга «Феонас: беседы праведника» французского философа Жака Маритена (1882–1973), который считается идеологом неотомизма.
(обратно)51
Карточная игра, в которую играют два игрока колодой из 32 карт.
(обратно)52
Сын Давида (X в. до н. э.). Восстав против отца и потерпев поражение, Авессалом предался бегству, но его длинные волосы запутались в ветвях дерева, в результате чего он не смог уйти от преследования и был убит военачальником Иоавом. (Ветхий Завет, книга Царств).
(обратно)53
«Непримиримый» — радикальная газета, в которой Кено работал репортером в 1936—38 гг.
(обратно)54
Договор, положивший конец Первой мировой войне и подписанный 28.06.1919 г. странами-союзницами (в т. ч. Францией) — с одной стороны, и Германией — с другой.
(обратно)55
Есть сведения, будто Анри Ландрю имел любовную связь с 283 женщинами.
(обратно)56
Имеется в виду Чарли Чаплин.
(обратно)57
Фраза, взятая из романа «Песнь экипажа» (1918 г.) — первой книги Пьера Мак Орлана (1882–1970). Наиболее известны его романы «Набережная туманов» (1927 г.), «Бандера» (1931 г.). Мак Орлан был одним из любимых авторов Кено.
(обратно)58
Серия учебных книг.
(обратно)59
Книга форматом в восьмую долю листа.
(обратно)60
О частной жизни (лат.).
(обратно)61
Кардано, Джероламо (фр.: Жером Кардан) (1501–1576) — итальянский математик, врач и философ. «De vita propria» (1575) является его автобиографией. Изобрел тип подвеса, названный его именем.
(обратно)62
Бейль, Пьер (1647–1706) — французский философ литератор. Речь идет о его «Историческом и критическом словаре» (1696—97).
(обратно)63
Сборник стихотворений в прозе Макса Жакоба (1876–1944), вышедший в 1917 г. Родившийся в еврейской семье Жакоб принял католицизм в 1914 г. За пять лет до этого, в 1909 г., ему явился образ Христа.
(обратно)64
Популярная в 20-е годы модель, позировавшая многим известным художникам.
(обратно)65
Клемансо, Жорж (1841–1929) — крупный политический деятель Франции. Продолжал свою карьеру вплоть до 1920 г., т. е. до 79 лет.
(обратно)66
primo — во-первых; secundo — во-вторых; tertio — в-третьих (лат.).
(обратно)67
Жест выражающий отношение к надоедливому человеку или к скучному событию.
(обратно)68
Роман британского писателя Гилберта Кийта Честертона (1874–1936), написанный в 1908 г.
(обратно)69
Скорее всего, имеется в виду книга доминиканского священника, приверженца томизма Режинальда Гарриу-Лагранжа «Общее чувство: философия бытия и догматические формулы», вышедшая в 1922 г. — как раз тогда, когда происходят описываемые события.
(обратно)70
В философии становление — переход от одной определенности бытия к другой. Все существующее является становящимся, а его бытие и есть становление.
(обратно)71
Никогда не отчаиваться (нем.).
(обратно)72
«В одном мгновенье — видеть вечность,
Огромный мир — в зерне песка,
В единой горсти — бесконечность
И небо — в чашечке цветка.»
(Отрывок из стихотворения У. Блейка (1757–1827) в переводе С. Маршака)
(обратно)73
«Тогда сказал бы я: мгновенье,
Прекрасно ты, продлись, постой!
И не смело б веков теченье
Следа, оставленного мной!»
(Гете, «Фауст». Пер. Н. Холодковского)
(обратно)74
Курс томистской философии (лат.).
(обратно)75
Есть, есть; нет, нет (лат.).
(обратно)76
К чему питать любовь, если не к тому, что называется метафизикой? (лат.).
(обратно)77
Метродор из Лампсака (330–277 до н. э.), древнегреческий философ, последователь и друг Эпикура.
(обратно)78
Иностранные поселенцы в древних Афинах.
(обратно)79
Одна из наиболее известных работ З. Фрейда.
(обратно)80
Полное название: «Нелепый XIX век, примеры губительного безумия, обрушившегося на Францию за последние 130 лет, 1789–1919» (1922) — трактат Леона Доде (1867–1942), сына известного писателя Альфонса Доде, ставшего журналистом и отличавшегося промонархистскими взглядами.
(обратно)81
Удваивание ставки при игре.
(обратно)82
Гнойное воспаление тканей пальца.
(обратно)83
Тентен — герой популярного комикса, придуманного бельгийцем Жоржем Реми Эрже (1907–1983). Однако следует помнить, что впервые комиксы про Тентена появились в 1929 г., то есть уже после описываемых событий, зато за семь лет до выхода в свет романа.
(обратно)84
Фильм Жака Фейдера (1888–1948), снятый в 1921 г. по роману Пьера Бенуа и принесший режиссеру большую известность.
(обратно)85
Т. е. «лошадиных сил».
(обратно)86
Приключенческий роман Джозефа Конрада (1857–1924), британского писателя польского происхождения.
(обратно)87
Повесть А. Жида (1914 г.).
(обратно)88
Имеется в виду Даниель Дефо (1660–1731).
(обратно)89
«А.О. Барнабут» — роман Валери Ларбо (1881–1957), написанный в 1913 г. по-французски и переведенный на английский язык в 1924 г. Роман представляет собой дневник и стихотворения южноамериканского миллионера, прототипом которого стал сам автор.
(обратно)90
Принцип организации труда, впервые установленный в Великобритании в 1914 г., когда помимо выходного в воскресенье рабочие имеют право на укороченный или свободный день в субботу.
(обратно)91
У французов ужин принято заканчивать либо десертом, либо сыром.
(обратно)92
Луи (Бей) Сики (1897–1925) — боксер сенегальского происхождения, живший во Франции. Описываемый поединок состоялся 24 сентября 1922 г.
(обратно)93
В данном случае луидор подразумевает сумму в двадцать франков. Слово louis означает во французском языке и «луидор», и имя Луи (Людовик). Одно из имен Браббана — Луи Дютийель.
(обратно)94
От английского shake hands — «обменяться рукопожатием».
(обратно)95
В оригинале — S.I.G.I., что ассоциируется с ci-gît, «здесь покоится» — этой формулой обычно начинаются надгробные надписи.
(обратно)96
Недостаток фосфатов в моче.
(обратно)97
Заболевание, проявляющееся в приступах сильного голода.
(обратно)98
Круглые столбы для расклеивания афиш.
(обратно)99
Прижигание.
(обратно)100
Фильм немецкого режиссера Роберта Вине (1881–1938), снятый в 1920 г.
(обратно)101
Красотки-купальщицы (англ.).
(обратно)102
Перефразированный от первого лица отрывок из стихотворения Эдгара Аллана По «Спящая»:
На долгий срок
Пусть будет сон ее глубок. (Пер. с англ. К. Бальмонта.)
(обратно)103
Фантомас — популярнейший литературный персонаж, созданный Марселем Алленом и Пьером Сувестром в 1911 г. В 1913-194 гг. кинорежиссер Луи Фейад снял по их книгам несколько нашумевших фильмов.
(обратно)104
В оригинале: citron — «лимон». Имеется в виду автомобиль марки «ситроен», по-французски — «Citroën».
(обратно)105
Т. е. поляки.
(обратно)106
Популярный парижский музыкальный театр.
(обратно)107
Кладбище в кантоне Сена-Сен-Дени к северо-востоку от Парижа.
(обратно)108
Увы! (англ.).
(обратно)109
«Интранзижан». См. комментарий к гл. XII. «Непримиримый» — радикальная газета, в которой Кено работал репортером в 1936—38 гг.
(обратно)110
Carabin во французском студенческом арго — «студент-медик», но это же слово означает «солдат легкой кавалерии XVI–XVII вв.», так что в некотором смысле Мюро пел «кавалерийские» песни.
(обратно)111
Имеется в виду Отель дез Инвалид, архитектурный ансамбль и приют для отставных военных, созданный по приказу Людовика XIV. Там находится усыпальница Наполеона и могилы многих крупных военачальников.
(обратно)112
Шарлемань — Карл Великий. Экс-ла-Шапель — французское название Аахена.
(обратно)113
Переселение душ.
(обратно)114
Со 2-й половины XIX в. до 1909 г. во Франции неоднократно переиздавался буклет под названием «Наполеона-то, оказывается, не было» (Comme quoi Napoléon n’a jamais existé), где высказывалась версия о том, что император не существовал.
(обратно)115
Объединение пяти французских академий, функционирующее как высшее научное учреждение.
(обратно)116
Евангелие от Матфея 8-22. Слова, сказанные Иисусом одному из своих учеников, у которого скончался отец. Под «мертвыми» подразумеваются родные этого ученика, а также, в широком смысле, все те, чье сердце закрыто для евангельского благовестия.
(обратно)117
В Древней Греции: торжественное жертвоприношение (первоначально из ста быков или других животных). В более широком смысле: массовое истребление людей.
(обратно)
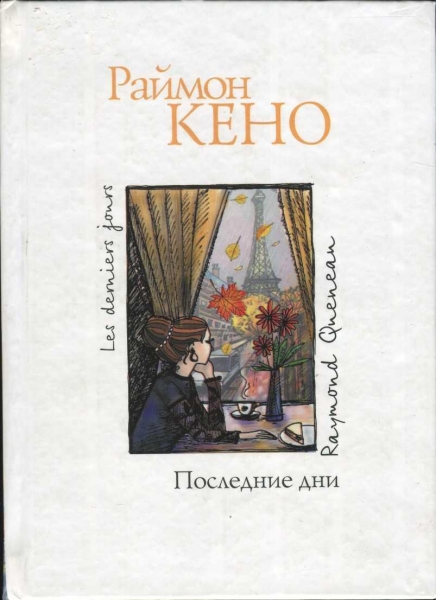







Комментарии к книге «Последние дни», Раймон Кено
Всего 0 комментариев