Доналд Бартелми Возвращайтесь, доктор Калигари
Моим матери и отцу
Флоренс Грин – 81
Ужин с Флоренс Грин. Старушка сегодня явно в ударе: Хочу, говорит, по заграницам. Ни фига себе заявочка! Все просто отпали. Самое главное, никаких вам объяснений или там деталей. Удовлетворенно окинув стол взглядом, она – бац! – снова засыпает. Девчонка справа от нее здесь новенькая и явно не рубит. Я пялюсь на нее, откровенно заискивая (в смысле, как бы говорю: не кипишись, Кэтлин, я все объясню позже, приватно). Чечевица произрастает в глубинах четвертой реки мира, сибирской реки Обь длиной 3200 миль. Мы болтаем о Кимое и Мацу. «…нужно с позиции силы. Как это сделать лучше всего? Отказать засранцам в островах, даже если эти острова бесполезны сами по себе». Баскервилль, второкурсник Школы Известных Писателей в Вестпорте, Коннектикут, (которую он посещает с целью стать великим писателем), лихорадочно строчит. Мацалки у этой новенькой… Как коленки у моей секретарши – аж глаза лопаются. Флоренс начала вечер многозначительно: «Ванна наверху протекает, знаете ли…» Что думает Герман Кан о Кимое и Мацу? Не могу вспомнить, не могу…
Ох, Баскервилль! Тупой ты сукин сын! Как ты можешь рассчитывать на писательскую известность, если до сих пор не умеешь в первую очередь думать о себе? Разве это правильная жизнь, разве есть в ней правильные люди, разве она хороша? Задумайся! Вместо того чтобы пускать слюни по поводу Дж Д. Рэтклиффа! Санта-Ана – самый маленький стотысячник Соединенных Штатов. И все его 100 350 жителей, совместно коротающих бальбоански-синие тропические вечера, думают только о себе. А я… Молодой, даровитый и очень хочу нравиться. Впрочем, я подхалимничаю, поскольку не в силах остановиться (в страхе тебе наскучить). Ага… Вот сижу, почеркиваю левой рученькой в журнальчике. Акселератском таком, развитом. «Не напрягайся!» называется (социально-психологические изыскания, ученые разборки, письма к редакторам и крысиные неврозы). Ну не безвкусица ли? Бесспорно, но кто заплатит печатнику, если Флоренс Грин упрет свой кошелек за границу. Ответьте мне! В журнале пишут: «Страх пациента наскучить доктору – одна из первопричин беспокойства в классических случаях психоанализа». Врач, естественно, тоже за себя держится – не отдерешь. Каждый час растилается на десять сладостных минут, чтобы выкурить сигаретку и вымыть руки. Ну так что, Читатель? Как там у тебя с головой от всех этих разговоров про сибирскую реку Обь длиной 3200 миль? У нас с тобой отличные роли: ты – Доктор (руки не забываешь мыть?), и аз, который есмь, который думает, в общем – псих. Я жонглирую ассоциациями. Утонченно макаю твой нос в жижицу проблемы. Или боюсь тебе наскучить – так как же? Это вот журнал «Не напрягайся!» напрягает что угодно: будь то кряхтение тверди земной (приобские толчки) или межличностные отношения (Баскервилль и эта новенькая). И мы прямо-таки осязаем, как много напряга в мире. Или даже в совершенном экземпляре меня. С животом как сжатый кулак. Замечаете подхалимаж? Единственный способ его расслабить, я имею в виду желудок, – влить туда кварту джина «Фляйшман». По-моему, вообще отличный способ снимать напряжение. Своими визитами я оказываю честь забегаловкам, дарующим «Фляйшман» на всех углах Санта-Аны и всяких прочих городишек! Посерьезнее, ладно?
Новенькая – тоньше тонкого. Со здоровенной грудью, сигналящей из выреза, и черными дырами вокруг глаз, многообещающих глаз. А уж как рот откроет, такие жабы полезут… Я борюсь с искушением задрать рубашку и поразить ее великолепием своего пресса, бицепсов и всего грудинно-плечевого пояса. Джексон называл себя уроженцем Южной Каролины, что и записал его биограф Эймос Кендалл: мол, родился в округе Ланкастер. Но потом появился Партон со своими документами, и Джексон заново родился в округе Юнион, Северная Каролина, а оттуда до границы с Южной меньше четверти мили. Джексон – мой идеал. Мне даже наплевать на современные слухи, что у него были паршивые трицепсы. Вот такой я. Культурист, поэт, почитатель Джексонова тулова, отец одного аборта и четырех недоношенных. Ну? У кого из вас столько же подвигов и ни одной жены? Баскервиллю тяжко не только в этой его Школе Известных Писателей в Вестпорте, Коннектикут. Ему везде тяжко. Потому что он – тормоз. «Тормозит парень, однако», – сказал его первый учитель. Второй был категоричнее: «Этот парень тормозит по всей трассе». А третий сказал: «Просто какой-то сукин тормоз, мать его!» Главное, все они были чертовски правы. Пока я изучал Эндрю Джексона и аборты, толпы вас шатались по улицам Санта-Аны, штат Калифорния, и прочих городишек, и обо всем этом ведать не ведали. «В таких случаях пациент воспринимает доктора как мудрого и многоопытного собирателя психологического материала, знатока экзотических привычек. Поэтому у пациента нередко возникает тенденция представить себя красочней, эксцентричней (или безумней), чем на самом деле. Или он острит напропалую, или фантазирует». Сечете? Логично, да? В журнале навалом такой фигни, вползающей в извилины. Я, конечно, не стал бы открыто и печатно защищать джин Фляйшмана как способ снять напряжение, но действительно однажды опубликовал статью под заголовком «Новое мнение об алкоголе», написанную одним моим талантливым знакомым алкашом и вызвавшую поток одобрительных, но тщательно составленных писем от тайных пьянчуг с факультетов психологии по всей этой огромной, сухой и неверно понятой стране…
«Просто какой-то сукин тормоз, мать его!» – отметил его третий учитель на обсуждении специального курса для студентов-тупиц. Имя Баскервилля в этом списке, так сказать, занимало одно из почетных мест. Молодой Баскервилль, вечно кривящийся от песчинок, которые морской ветер сует ему в техасские глаза, как счет за бесплатный солярий. С ручонками, судорожно сжимающими брошюрки «Тренинг борьбы с кошмаром» на 20 баксов, выхаренные конторой у Джо Вейдера. (Интересно, думал Баскервилль, а эти борцы с кошмаром – они похожи на пожарников? они что, правда с кошмаром борются? или, наоборот, его создают? Последнее – явно баскервилльский план-максимум). Даже тогда вынашивал замысел романа «Армия детей», для чего и посещал лекции, где его учили писать. «Вы далеко пойдете, Баскервилль, – брякнул секретарь приемной комиссии, а восхитительные результаты творческого конкурса лежали перед ним непроверенные. – Теперь – марш в бухгалтерию». «Доктор, я тут пишу толстый роман. Он будет называться „Армия детей“!» (Интересно, почему это мне кажется, что цветного доктора с его смуглой рукой, прикрывающей красную редиску, зовут Памела Хэнсфорд Джонсон? Почему?) Флоренс Грин – маленькая жирная бабенка восьмидесяти одного года. Со старушечьими синюшными ногами и кучей зеленых денег. Нефтяные залежи глубоко в земле. Слава тому, кто наполнил вас продуктом «Тексако». Продукт «Тексако» разбивает мне сердце. Продукт «Тексако» исключительно едок. Флоренс, которая не всегда была маленькой жирной бабенкой, однажды совершила вояж со своим супругом, мистером Грином, на «Графе Цеппелине». В шикарном салоне, вспоминает она, имелся шикарный рояль. Не обошлось и без шикарного пианиста, Мага Мандрагора. Правда, он не был расположен побегать пальчиками. С гелием тогда были проблемы. Тамошнее правительство отказывалось продавать его хозяевам «Графа». Название моей второй книги непременно будет «Водород после Лейкхёрста». Сначала мы полвечера слушали занимательную историю о проблемах с ванной: «Я вызвала слесаря – ну, чтобы посмотрел. А он мне говорит: надо менять, и обойдется вам это в 225 долларов. Не нужно мне новой, говорю, я просто хочу, чтобы вы эту починили…» Может, предложить ей раздобыть ванну из чистого гелия? Я ведь не подхалимничаю? Она ведь думает о себе? «…А он мне говорит, что ванна старая и запчастей к ней теперь и не сыщешь…» Теперь она неряшливо спит во главе стола, если не считать ее таинственного заявления за супом (Хочу по заграницам!), и притом ничего о себе не рассказав… Диаметр Земли по нулевому меридиану составляет 7899,99 миль, тогда как по экватору – 7926,68. Запомните и запишите. Ничуточки не сомневаюсь, что цветной чурек передо мною – доктор. Дух эскулапа, сознание собственной необходимости так и витают вокруг него. Он встревает в разговор с таким видом: мол, сделайте меня Госсекретарем, и тогда увидите. «Я вам одно скажу, там чертовски много китайцев». До уссачки уверенная в собственной мудрости Флоренс. С одной почкой. Я – с двумя, плюс камни. Баскервилля забросал камнями педсовет Школы Знаменитых Писателей после первого же Баскервиллева семинара. Обвинен в формализме. А Флоренс-то – помешана на докторах. Почему я не соврал ей с самого начала? Представился бы видным клиницистом, убыло бы меня? Зато смог бы сказать, что деньги нужны для важного научного проекта (использование радиоактивных изотопов для лечения рептилий). С возможным применением в исследованиях раковых метастаз в желудке (аппендикс – вылитое земноводное). Оттяпал бы целую кучу бабок безо всякого труда. Рак пугает Флоренс. Они бы просто сыпались с неба, как радиоактивные осадки в Нью-Мексико. А я… Молодой даровитый подхалим. Сижу, почеркиваю левой рученькой в журнальчике… по-моему, это уже было? Да? И вы меня поняли? А имя ей точно не Кэтлин. Джоан Грэм еще куда ни шло. Когда нас представляли, она спросила: «О! Вы уроженец Далласа, мистер Баскервилль?» Нет, Джоан, крошка… Я коренной бенгазиец. Прислан сюда ООН, дабы ввинтить твою восхитительную жопку в сыру земельку… Не сказал, конечно. А было бы четко, ей-богу… Потом она спросила Баскервилля, чем он занимается. Американский качок и поэт? (другими словами, силач и умница, каких еще земля не носила). «Оно движется», – воскликнул Мандрагор, указывая на рояль. И хотя никто не заметил медленного скольжения, все согласились. Вот она, волшебная сила личности. (Флоренс говорит, что рояль в салоне был незыблем, как Гибралтар.)
Человек, растусовавший материковых китайцев, чешет в затылке, где у него, очевидно, жировая киста. (Я могу прояснить ситуацию. Моим инструментом будет доклад по теории игр.) Что, если Мандрагор все же сыграл бы… Что, если бы он уселся за инструмент, воздел кисти и… Что? Основные моря… Хотите послушать об основных морях? Флоренс расталкивают. Люди начинают задавать вопросы. Если не эта страна, тогда какая? Италия? «Нет, – Флоренс скалится сквозь свои изумруды, – не Италия. Я была в Италии. Хотя мистер Грин Италией был просто очарован». «Наскучить доктору для пациента означает стать похожим на других. Пациент изо всех сил борется за признание своей исключительности. И это, конечно, тактический ход, уклонение от самой сути психоанализа». Первое, что Хоть-Куда-Американский-Парень сказанул Флоренс на грани их знакомства: «Садам в Вест-Сайрил-Коннолли пора закрываться». Такая реплика была ей приятна, просто замечательная реплика, силою этой реплики Баскер-вилль и был снова приглашен. И во второй раз не оплошал: «Прежде чем цветы дружбы увяли, увяла дружба, Гертруда Стайн». Джоан похожа на ослепительных девушек из «Вога», дразнящих в своем микенском неглиже, голенькие животики со льдом. «Он движется», – произнес Мандрагор, и рояль приподнял себя волшебно на несколько дюймов и закачался из стороны в сторону в осторожном болдуиновом танце. «Он движется», – согласились остальные пассажиры, околдованные постгипнотическим влиянием. «Они движутся», – говорит Джоан, отсылая к своему вырезу, где тоже колышется из стороны в сторону, вибрирует тайное движение Хайнца. Я выношу супу серьезное предупреждение, задрапированное самыми что ни есть недвусмысленными выражениями, и Джоан благодарно лыбится, но не мне, а Памеле Хэнсфорд Джонсон. Может быть, Виргинские острова? «Мы там были в 1925-м, мистер Грин понбеил, я провозилась с его желудком всю ночь, и мухи, мухи – это что-то невероятное». Они задают, по-моему, неправильные вопросы. «Где» – вместо «зачем». «Я как-то читала, что средний возраст добровольцев Чана – тридцать семь лет. Да, с такой компанией много не навоюешь». Это точно, мне тоже тридцать семь, и если Чан Кай-ши решил положиться на мужчин моего сорта, ему придется распрощаться с материком. Охо-хо, нет ничего лучше интел-лигентских посиделок, за исключением перепихона с нагой девой и курсива «Эгмонт светлый».
Несмотря на свою уже упомянутую тормознутость, коя, возможно, объясняет его равнодушие к великолепному индивидуальному плану обучения, Баскервилль никогда не рисковал застояться. Напротив, его постоянно продвигали. Хотя бы потому, что его стульчик всякий раз требовалось уступить какому-нибудь другому дитяте. (Баскервилль, таким образом, несмотря на внушительный рост и огромный потенциал, классифицируется как дитё.) Некоторые, не станем врать, никогда не думали, что Баскервилль может вымахать до шести футов, изучая Эндрю Джексона, гелий-водород и аборты, и где теперь мои мама и папа, а? Со слов Флоренс, в циркулярный июньский полдень 1945 года шел дождь, да такой, что им можно было наполнить таз размером с море, а она посиживала в шезлонге в северной спальне (на одной стене этой спальни висит двадцать фотографий Флоренс в одинаковых рамках, от восемнадцати лет до восьмидесяти одного, она была красоткой в восемнадцать) и читала номер «Лайфа». Там как раз напечатали первые снимки из Бухенвальда, и она не могла отвести глаз, она прочла текст – или часть текста – и ее стошнило. Придя в себя, она прочла статью, но не поняла ни слова. Что значит тотальное уничтожение? Ничего это не значило, свидетель припоминал маленькую девочку – еще живую, одноногую, ее швырнули в кузов на гору трупов, подготовленных к сожжению. Флоренс стало дурно. Она безотлагательно выехала в Гринбрайер, курорт в Западной Вирджинии. Позже она разрешила мне поведать об основных морях: Южно-Китайском, Желтом, Андаманском, Охотском. «Я вижу, вы культурист», – говорит Джоан. «Но не поэт», – парирует Баскервилль. «А что вы написали?» – спрашивает она. «По большей части, я произношу реплики», – говорю. «Реплики – не литература». «У меня еще есть роман, – отвечаю, – во вторник ему исполнится двенадцать лет». «Опубликован?» – спрашивает. «Незавершен, – говорю, – но все равно очень суров и своевремен. Знаете, там про армию, собранную из детей, совсем маленьких. Но я их хорошо вооружил: М-1, карабины, пулеметы 30-го и 50-го калибра, 105 гаубиц, безоткатные пушки, нормально, словом. Центральная фигура – Генерал. Ему пятнадцать лет. Однажды эта армия появляется в городе, в парке, и занимает позиции. А потом начинает убивать людей, понимаете?» «Я думаю, мне не понравится». «Мне тоже, – говорит Баскервилль, – но какая разница, нравится мне или нет. Мистер Генри Джеймс пишет художественную литературу будто из-под палки, Оскар Уайльд».
Думает ли Флоренс о себе? «…А он мне говорит, что она старая и запчастей к ней не сыщешь…» В прошлом году Флоренс пыталась вступить в Корпус Мира, а когда ей отказали, звонила и жаловалась самому Президенту. «Я всегда восхищалась сестрами Эндрюс», – говорит Джоан. Меня лихорадит. Вы не смерите мне температурку, доктор? Баскервилль, этот недоучка, высасывает всю нью-йоркскую мальвазию Тэйлора в пределах досягаемости, попутно обмозговывая свой Грандиозный Замысел. Франция? Япония? «Только не Япония, дорогуша. Мы там прекрасно провели время, но я бы не хотела попасть туда снова. Во Франции у меня маленькая племянница. У них двадцать два акра возле Версаля. Он граф и биохимик. Правда, замечательно?» Остальные кивают, они-то секут, что замечательно. Основные моря замечательны, важнейшие озера Земли замечательны, метрическая система вообще охуительна, давай замерим что-нибудь вместе, Флоренс Грин, детка. Я махну тебе здоровенный гектометр на один-единственный золотой микрон. Тишина зa столом. Словно тусовка ослеплена тремя сотнями миллионов. Кстати, я не говорил, что у Флоренс Грин есть триста миллионов долларов? У Флоренс Грин восьмидесяти одного года, с синюшными ногами, есть триста миллионов долларов, и в 1932-м она была платонически влюблена в диктора Нормана Брокеншира, и его голос. «А тем временем муж Эдны Кэзер, который водит меня в церковь, у него в Порту такая хорошая работа, у него вообще все здорово, он второй муж Эдны, первый был Пит Дафф, он еще в эти неприятности попал, о чем это бишь я? А, да! Когда Пол позвонил и сказал, что не может прийти, потому что его грыжа – ну, вы слышали о его грыже, – Джон сказал, что сам подъедет и посмотрит. Учтите, я все это время пользовалась ванной на первом этаже!» Факт, история Флоренсовых радио-посиделок действительно интересна. Факт, я обещал написать целый доклад «Полная История Радио-Посиделок Флоренс Грин». Или даже в духе семнадцатого века: «Полная и Правдивая История Радио-Посиделок Флоренс Грин». Или даже… Вы заскучали, я чувствую. Позвольте мне только сказать, что она все еще способна вытягивать из своей древней гортани особые душераздирающие звуки, которыми обычно начинается «Капита-а-а-ан По-о-олно-о-очь»… За столом затишье. Мы все погрязли в жестокой паузе. Здоровенная скобка (здесь я вставлю описание тросточек Флоренс. Тросточки Флоренс занимают специальную комнату. Комнату, где их целая коллекция. Тут их сотни: черные и гибкие тросточки в стиле Фреда Астера и шершавые изжеванные альпенштоки, терновник и дубины, окованные железом, дрыны и чванливые аристократы, бамбук и железное дерево, клен и ржавый вяз, трости из Танжера, Мэна, Цюриха, Панама-Сити, Квебека, Того, Дакот и Борнео, покоящиеся в неглубоких ложах, похожие на ружейные стойки в арсенале. Куда бы Флоренс ни наведывалась, она всегда покупала одну или несколько тросточек. Некоторые делала сама, обдирая кору с зеленого невыдержанного дерева. Потом осторожно их высушивала, потом слой за слоем накладывала специальный лак, потом полировала. Бесконечно. Вечерами. После заката и ужина), огромная, как Охотское море, 590 000 квадратных миль. Я вспоминаю себя в немецком ресторане на Лексингтоне – выдуваю пузыри в кружке. За соседним столом – шестеро немцев, молодых, смеются и разговаривают. Здесь и сейчас, за столом у Флоренс Грин сидит поэт Вперед Христианин, у чьих очков – дужки широкие и серебряные, а не тускло-черепаховые, как у настоящих поэтов и качков, и чьи стихи непременно начинаются словами «Сквозь все мои звенящие мгновенья…» Меня беспокоят его реплики. Вдруг они лучше моих? Мы избираемы силою наших ослепительных реплик. Что он ей говорит? Что он говорит Джоан? Какой сорт лапши он впихивает ей в уши? Меня подмывает подойти и попросить его показать справку о почетном отчислении из Школы Известных Писателей. Что может быть величественней и необходимей, чем «Армия детей»? «Армия юности под стягами истины», – как мы обычно пели в четвертом классе Школы Скорбящей Богоматери, под неумолимым оком Сестры Схоластики, которая знала, сколько ангелов может танцевать на острие иглы…
Флоренс, по моим наблюдениям, старательно избегает жизненных неувязок. Она выставляет себя несчастнее, чем на самом деле. Она раз и навсегда решила быть интереснее. Она опасается нам наскучить. Она пытается утвердить свою индивидуальность. Она вовсе не собирается уходить на покой. Знает ли Вперед Христианин что-нибудь о крупнейших озерах мира? Избавьтесь в случае необходимости от работников. Я избавляюсь от тебя, одаренность, похоже, пронизавшая меня. Она перенеслась на машине из Темпельхофа в американскую зону, поселилась в отеле, пообедала, посидела в кресле в вестибюле, разглядывая молодцеватых американских подполковников и их розовощеких немецких девушек, и пошла прогуляться. Первый немецкий мужчина, которого она увидела, оказался полицейским-регулировщиком. Он носил форму. Флоренс добралась до островка ожидания и подергала полицейского за рукав. Тот мигом согнулся перед милой американской старушкой. Она подняла свою трость, трость 1927 года из Йеллоустона, и шарахнула его по голове. Регулировщик упал как подкошенный, прямо посреди улицы. Потом Флоренс вместе со своей тростью поспешно поковыляла в торговый центр и там принялась избивать людей, мужчин и женщин, без разбору, пока ее не усмирили. «Формула Обращения». Можно вам спеть «Формулу Обращения»? Флоренс сделала то, что сделала. Ни больше ни меньше. Она вернулась на родину под надзором, в военном самолете. «Почему у вас дети убивают всё подряд?» «Потому что все уже давно убиты. Все абсолютно мертвы. И вы, и я, и Вперед Христианин». «Вы не слишком-то жизнерадостны». «Это правда». Начало писем к жене младшего графского отпрыска: Мадам… «Мы установили ванну на первом этаже, когда у нас гостила Ида. Ида была сестрой мистера Грина и не могла скакать по лестницам». Как насчет Касабланки? Санта-Круза? Фунчала? Малаги? Валетты? Ираклиона? Самоса? Хайфы? Котор-Бей? Дубровника? «Я хочу сменить обстановку, – говорит Флоренс. – Чтобы буквально все было по-другому». В творческом сочинении, необходимом, но не достаточном для поступления в Школу Известных Писателей, Баскервилль разродился «Впечатлениями об Акроне», начинавшимися: «Акрон! Акрон был заполнен людьми, шедшими по улицам Акрона, неся маленькие транзисторные приемники, причем включенные».
У Флоренс есть Клуб. Клуб собирается по вечерам каждый вторник в ее старом, огромном и плоском, напичканном ванными доме на бульваре Индиана. Клуб – это группа людей, которые, в данном случае, собираются, чтобы декламировать и слушать стихи во славу Флоренс Грин. Для допуска нужно что-нибудь сочинить. Чтo-нибудь, как правило, начинающееся в духе: «Флоренc, ты хоть и старушка, но такая веселушка…» Поэма Вперед Христианина начиналась «Сквозь все мои звенящие мгновенья…» Флоренс носит поэмы о себе в кошелке, они скреплены в здоровенный засаленный ком. Воистину Флоренс Грин – невероятно богатая, невероятно эгоцентричная чокнутая старушенция! Шесть определений определяют ее таким образом, что сразу понимаешь: она – чокнутая. «Но вы не ухватили жизненной правды, сущности!» – восклицает Гуссерль. И не желаю. Его экзаменатор (Д. Дж. Рэтклифф, нет?) сурово говаривал: «Баскервилль, вы палите по воробьям, дискурсивность не есть литература». «Цель литературы, – весомо ответствовал Баскервилль, – созидание необычного объекта, покрытого мехом, который разбивает вам сердце». Джоан говорит: «У меня двое детей». «Ради чего?» – спрашиваю. «Не знаю», – отвечает. Я поражен скромностью ее ответа. Памела Хэнсфорд Джонсон слушает, и его лицо видоизменяется в то, что можно назвать гримасой брезгливости. «Ваши слова ужасны», – произносит он. И он прав, прав, совершенно точен. Ее слова – Наипервейшая Гадость. Мы ценим друг друга по репликам, и силою этой реплики и той, про сестер Эндрюс, любовь становится возможной. Я ношу в бумажнике восемь параграфов генеральского Приказа, зачитанных адъютантом моей юной безупречной Армии для рядовых: «(1) Вы находитесь в этой Армии, потому что сами того хотите. Так что делайте, чего говорит Генерал. Кто не сделает, чего сказал Генерал, будет вышвырнут из Армии. (2) Задача Армии – делать то, чего говорит Генерал. (3) Генерал говорит, чтобы никто не стрелял, пока он не скажет. Это важно, потому что, когда Армия открывает по чему-нибудь огонь, все это делают вместе. Это очень важно, и тот, кто так не сделает, будет лишен оружия и вышвырнут из Армии. (4) Не бойтесь шума, когда все стреляют. Он вас не укусит. (5) У всех хватит патронов, чтобы сделать то, чего хочет сделать Генерал. Тот, кто патроны потеряет, больше их не получит. (6) Разговаривать с теми, кто не в Армии, категорически запрещается. Другие люди Армии не понимают. (7) Это серьезная Армия, и тот, кто смеется, будет лишен оружия и вышвырнут из Армии. (8) А Генерал сейчас хочет вот чего – найти и уничтожить врага».
Я хочу поехать туда, где все иначе. Простая, совершенная мысль. Старушенция требует полной инаковости – никак не меньше. Ужин закончился. Мы прикладываем салфетки к губам. Кимой и Мацу остаются нам, вероятно – временно; верхняя ванна протекает без ремонта; я чувствую, деньги уплывают, уплывают от меня. Я молодой человек, но очень одаренный, очень обаятельный. Я редактирую… Я уже все это объяснял. В тусклом фойе я запускаю руки в вырез желтого платья Джоан. Это опасно, но так можно выяснить все раз и навсегда. Потом возникает Вперед Христианин – забрать свое новое желтое пальтишко. Никто не воспринимает Флоренс всерьез. Как можно всерьез воспринимать человека с тремя сотнями миллионов долларов? Но я знаю, что, когда позвоню завтра, никто не ответит. Ираклион? Самос? Хайфа? Котор-Бей? Ни в одном из этих мест ее не будет. Она будет где-то еще. Там, где все иначе. На улице дождь. В моем дождливо-синем «фольксвагене» я еду по дождливо-черной улице, думая почему-то о «Реквиеме» Верди. И на крохотном автомобильчике начинаю закладывать совершенно идиотские виражи, и запеваю. Первую часть великой «Господи помилуй».
Пианистка
Пятилетняя Присцилла Хесс у него за окном, квадратная и приземистая, словно почтовый ящик (красный свитер, мешковатые вельветовые штанишки), оглядывалась с видом мученика: кто бы вытер ей переполненный нос. Точно бабочка, запертая в тот самый почтовый ящик. Удастся ли ей вылететь на волю? Или свойства ящика прилипли к ней навечно – как родители, как имя? Лучистая синева небес. Зеленое филе из соплей втянулось в жирную Присциллу Хесс, и он обернулся поздороваться с женой, которая на четвереньках вползла в дверной проем.
– Ну, – сказал он, – и что теперь?
– Я отвратительна, – сказала та, сев на корточки. – Наши дети отвратительны.
– Глупости, – быстро ответил Брайан. – Они чудесны. Чудесны и прелестны. Это у других дети отвратительны, а наши – нет. Поднимайся и давай-ка в коптильню. Ты ведь собиралась подлечить окорок.
– Окорок скончался, – сказала она. – Я не смогла его спасти. Испробовала буквально все. Ты меня больше не любишь. Пенициллин был ни к черту. И я отвратительна, и дети. Он просил с тобой попрощаться.
– Он?
– Окорок. У нас есть ребенок по имени Амброзий или Амброзия? Какое-то Амброзие слало нам телеграммы. Сколько их теперь? Четыре? Пять? Они, по твоему, гетеросексуальны? – Она состроила гримаску и запустила руку в волосья цвета артишоков. – Дом ржавеет. На кой тебе нужен был металлический дом? С какой стати я думала, что мне понравится в Коннектикутe? He пойму.
– Воспрянь, – мягко проговорил он. – Воспрянь, любовь моя. Встань и запой. Спой «Персифаля».
– Хочу «Триумф», – раздалось с пола. – ТР-4. У всех в Стэмфорде, у всех до единого есть такие, кроме меня. Если бы ты мне его дал, я бы засунула туда наших отвратительных детей и уехала. В Велфлит. Я бы избавила твою жизнь от мерзости.
– Зеленый?
– Красный, – угрожающе произнесла она. – Красный, с красными кожаными сиденьями.
– Ты разве не собиралась поскоблить краску? – спросил он. – Я ведь купил нам электронно-вычислительную систему. «Ай-би-эм».
– Я хочу в Велфлит. Я хочу поговорить с Эдмундом Вилсоном и покатать его на моем красном ТР-4. А дети могут копать моллюсков. Нам найдется о чем поговорить, Кролику и мне.
– Почему ты не выкинешь эти накладные плечи? – добродушно спросил Брайан. – Какая незадача с окороком.
– Я любила этот окорок, – яростно выкрикнула она. – Когда ты поскакал на своем чалом «вольво» в Техасский университет, я думала, ты хоть кем-то станешь. Я отдала тебе руку. Ты надел на нее кольца. Кольца, которые достались мне от матери. Я думала, ты станешь приличным человеком, как Кролик.
Он повернулся к ней широкой мужественной спиной.
– Все трепещет, – сказал он. – Ты не хочешь сыграть на пианино?
– Ты всегда боялся моего пианино. Мои четверо или пятеро деток боятся пианино. Это ты на них повлиял. Жираф в огне, но я думаю, тебе плевать.
– Что же мы будем есть, – спросил он, – раз окорока нет?
– Сопли – в морозилке, – бесстрастно произнесла она.
– Дождит. – Он огляделся. – Дождь или еще чего.
– Когда ты закончил Уортонскую бизнес-школу, – сказала она. – Я подумала: наконец-то! Я подумала: теперь можем поехать в Стэмфорд и жить среди интересных соседей. Но они совсем не интересны. Жираф интересен, но он так много спит. Почтовый ящик намного интереснее. Мужчина не открыл его сегодня в пятнадцать часов тридцать одну минуту. Он опоздал на пять минут. Правительство снова соврало.
Брайан нетерпеливо включил свет. Вспышка электричества высветила ее крохотное запрокинутое личико. Глаза – как снежные горошины, подумал он. Тамар танцует. Мое имя в словаре – в самом конце. Закон палки о двух концах. Фортепианные приработки, возможно. Болезненные покалывания пронеслись сквозь западный мир. Кориолан.
– Господи, – произнесла она с пола. – Посмотри на мои колени.
Брайан посмотрел. Ее колени зарделись.
– Бесчувственные, бесчувственные, бесчувственные, – сказала она. – Я конопатила ящик с лекарствами. Чего ради? Не знаю. Ты должен давать мне больше денег. Бен истекает кровью. Бесси хочет стать эсэсовкой. Она читает «Взлет и падение». Она сравнивает себя с Гиммлером. Ее ведь так зовут? Бесси?
– Да. Бесси.
– А другого как? Блондина?
– Билли. В честь твоего отца. Твоего папаши.
– Ты должен купить мне отбойный молоток. Чистить детям зубы. Как эта болезнь называется? У них у всех будет эта дрянь, у всех до единого, если ты не купишь мне отбойный молоток.
– И компрессор, – сказал Брайан. – И пластинку Пайнтопа Смита. Я помню.
Она легла на спину. Накладные плечи громыхнули о терраццо. Ее номер, 17, был крупно выведен на груди. Глаза крепко-накрепко зажмурены.
– У Олтмена распродажа, – сказала она. – Может, схожу.
– Послушай, – сказал он. – Поднимайся. Пойдем в виноградник. Я выкачу туда пианино. Ты отскоблила слишком много краски.
– Ты ни за что не дотронешься до пианино, – сказала она. – Пройди хоть миллион лет.
– Ты действительно думаешь, что я его боюсь?
– Пройди хоть миллион лет, – повторила она. – Ты туфта.
– Ну хорошо, – прошептал Брайан. – Ну хорошо.
Он широкими шагами приблизился к пианино и хорошенько ухватился за черную полировку. Он поволок инструмент по комнате, и, после легкого колебания, пианино нанесло смертельный удар.
В бегах
Вхожу, ожидая, что в зале никого (И.А.Л. Бёрлигейм проходит в любую открытую дверь). Но нет. Там, справа посередине, сидит мужчина, плотно сбитый негр, хорошо одетый и в черных очках. Решаю после мгновенного размышления, что, если он настроен враждебно, смогу удрать через дверь с надписью «ВЫХОД» (за надписью нет лампочки, нет уверенности, что дверь куда-нибудь приведет). Фильм уже начался – «Нападение марионеток». В том же кинотеатре довелось увидеть: «Крутой и чокнутый», «Богини акульего рифа», «Ночь кровавого зверя», «Дневник невесты-старшеклассницы». Словом, все незаурядные образчики жанра, склоняющиеся к изнасилованиям за кадром, к непотребным пыткам: мужчина с огромными плоскогубцами подбирается к растрепанной красотке, женское лицо, плоскогубцы, мужское лицо, девушка, крик, затемнение.
– Хорошо, когда зал полон, – замечает негр, повышая голос, чтобы перекрыть пиноккиношное стрекотание марионеток. Голос приятный, а за очками – зловещие глаза? Нужное подчеркнуть: злость, согласие, безразличие, досада, стыд, ученый спор. Продолжаю поглядывать на «ВЫХОД», как там мальчик в вестибюле, для чего ему был нужен бумажный змей? – Конечно, он никогда не был полон. – Очевидно, у нас завяжется разговор. – Ни разу за все годы. На самом деле, вы здесь первый.
– Люди не всегда говорят правду.
Надо позволить ему переварить услышанное. Мальчик в вестибюле одет в майку, там еще надпись «Матерь Скорбящая». Где же это было? Возможно, тайный агент на жалованье Организации, обязанности: враки, драки, слежение, телефонные подключения, гражданские беспорядки. Усаживаюсь через весь кинотеатр от черного и наблюдаю кино. Экран разодран сверху донизу, здоровущая прореха, лица и обрывки жестов проваливаются в пустоту. Однако попавшая в переплет Армия США, несмотря на Честного Джона, Ищейку, Ханжу, несмотря на психические атаки и нервно-паралитический газ, откатывается под натиском марионеток. Молоденький лейтенант храбро защищает медсестру (форма – в клочья, аппетитные бедра, чудный бюст) от сексуальных домогательств Щелкунчика.
– Вы в курсе, что зал закрыт? – дружелюбно окликает меня друг. – Видели вывеску?
– Но ведь картина идет. Да и вы здесь. Объявления, в конце концов, относятся ко всем, и если делать исключения, то так и напишите: солдаты, моряки, летчики, дети с бумажными змеями, собаки в соответствующих намордниках, страждущее дворянство, люди, обещавшие не подглядывать. Хорошо одетые негры, замаскированные черными очками, в закрытых пустых кинотеатрах, попытка навязать знакомство, заботливый друг с дружеским словом, угрожающая нотка, совсем как «Мятеж в борделе», как в «Ужасе из пятитысячного года». Детки играют, любительская пьеса, понимают ли они, с кем имеют дело.
– Этот бред не прекращается, – утверждает друг. – Просто очаровательно. Сеансы без перерыва с 1944 года. Идут и идут себе. – Запрокидывает голову, театрально хохочет. – Даже тогда никуда не годились, за ради бога.
– Чего ж вы здесь торчите?
– Не думаю, что это удачный вопрос.
Лицо друга становится непроницаемым, он погружается в созерцание фильма. Вспыхивают пожары во множестве, музыка сдержанна. Я предусмотрительно вверяю свою персону таким местам. Рискованно, конечно, но ведь так же рискованно переходить улицы, открывать двери, заглядывать незнакомцам в глаза. Мужчина не может жить, не помещая обнаженного себя пред лик обстоятельств, будь то война, подводный мир, реактивные самолеты или женщины. Всегда удастся улететь, прибежище всегда найдется.
– Я вот что имел в виду, – продолжает мой друг воодушевленно, улыбаясь и жестикулируя, – другие кинотеатры. Когда они полны, просто теряешься в толпе. Здесь, если кто-то войдет, его сразу засекут. Но большая часть людей… верит вывеске.
И.А.Л. Бёрлигейм проходит в любую открытую дверь, частные апартаменты, публичные сборища, магазины с детективами в шляпах, встречи Сынов и Дщерей Того, Кто Воскреснет, но надо ли хвастать? Продолжаю двигаться, напролом. Изучение мотивов являет привлекательность темных мест, ничего общего не имеет с обстоятельствами. Но лишь потому, что мне теплее. Намек был в том, что большинство людей делает то, что говорят: НЕ ОКОЛАЧИВАТЬСЯ, НЕ ПАРКОВАТЬСЯ С 8 ДО 17 ЧАСОВ, ПО ТРАВЕ НЕ ХОДИТЬ, НЕ ПОДХОДИТЬ – ВЕДУТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ. Негр придвигается на два сиденья, доверительно понижает голос.
– Конечно, это не моя забота… – Лицо кажется умиротворенным, заинтересованным, как у старого вертухая в «Девушке из камеры смертников», как у воздухоплавателя-душителя из «Цирка ужасов». – Конечно, меня это волнует меньше всего. Но по совести, мне бы хотелось чуточку серьезности.
– Я абсолютно серьезен.
С другой стороны, возможно, противник мой – просто и чисто тот, за кого себя выдает: хорошо одетый негр в черных очках в закрытом кинотеатре. Но где же тогда сосиска? В чем тогда фокус? Вся жизнь построена на противоречиях, на движении внутрь себя, два микрокосма, диагонально, оспаривает скрытую угрозу, должно быть место и для иронии.
– И все-таки, что вы делаете здесь? – Дружок откидывается на выдвижном сиденье с таким видом, будто у него козырь в рукаве. – Вы, верно, решили, что это – подходящее заведение?
– Снаружи выглядело замечательно. И внутри никого, кроме вас.
– Но я-то все же – здесь. Что вы обо мне знаете? Ничего, абсолютно ничего. Я могу быть кем угодно.
– Я тоже могу быть кем угодно. И я заметил, что вы тоже поглядываете на дверь.
– Таким образом, мы одинаково проблематичны друг для друга. – Сказано ловко, с сознанием силы. – Меня зовут Бэйн, кстати. – Раскуривает трубку, цветистость и аффектации. – Имя – не настоящее, конечно.
– Конечно. – Трубка сигналит сообщникам, засевшим на балконе, за гобеленами, под надписью «ВЫХОД»? Или все это безмозглое представление – только случайность, скрывает тщеславное сердце, пустые мозги? На экране известный ученый решил проблему победы над марионетками: термиты-мутанты брошены во фланговую атаку. Страна в панике. Уолл-Стрит пал, Президент насупился. А что с юным осведомителем из вестибюля, в чем его значимость, кто развратил обладателя футболки, владельца бумажного змея?
– Я работаю с понятиями, – добровольно продолжает дружок. – Танцующие куклы, обучение анализу почерка по почте, секреты вечной жизни, монеты и марки, удивите своих друзей, языческие ритуалы, давно забытые пропажи, полная коллекция редких кинжалов со всего света, есть гуркхские, стилеты, финки, охотничьи, метательные.
– И что вы здесь делаете?
– Как и вы, – возвещает он, – смотрю фильм. Заглянул на огонек.
Мы возобновляем просмотр. Роль Бэйна неясна, вероятные мотивы в разжигании беседы: (1) Агент заговора, (2) Такой же, как я, страдалец из подполья, (3) Занимается контрразведкой, (4) Искатель талантов для Школы Полицейских Стукачей, (5) Маркетолог, нанятый создателями «Нападения марионеток», (6) Простой любопытный подонок, никак не связанный с чем-либо из упомянутого выше. Очевидно, гипотезы 1, 2 и 6 наиболее логичны. Если же верна шестая, однако, поработать смогли бы и простые тупицы, как утверждалось в репликах «люди не всегда говорят правду» и «я заметил, вы тоже поглядываете на дверь». К тому же в его рассуждении заложена скрытая схема: слишком любопытен, слишком искушен в социологии утаивания. Легенда шаткая, кто зацикливается на редких кинжалах, гуркхских, финках, охотничьих и метательных, в наш день и век, когда крупномасштабное мошенничество доступно даже простофиле, стоит взглянуть на государственные манипуляции с пшеницей, телевидение, уран, разработку систем и общественные отношения? Маскировка тоже банальна, почему негр, почему негр в черных очках, зачем сидит в темноте? Теперь разыгрывает интерес к событиям на экране, говорит, это крутят с 1944 года, хотя я совершенно точно знаю, что на прошлой неделе шли «Богини Акульего Рифа», а перед ними – «Ночь кровавого зверя», «Дневник невесты-старшеклассницы», «Крутой и чокнутый». На днях пойдут сразу два фильма «Школьница из колонии для малолетних» и «Вторжение инопланетян». Зачем врать? Или он пытается мне внушить непостоянство времени? Сладостный аромат откуда-то, цветы растут прямо в трещинах пола, под сиденьями? Возможно, вербена, возможно, гладиолус, ирис или флокс. Не могу определить с такого расстояния,…чего он хочет? Теперь он кажется искренним, снимая очки и вовлекая в события свое лицо (его глаза пылают во мраке), морщит лоб, опускает уголки рта, у него это здорово получается.
– Скажите мне честно, от чего вы прячетесь? – роняет он этакой «Энолой Гей» в двух шагах от своей пресловутой цели.
Бомба не взорвалась, Бёрлигейм не реагирует. Лицо – воплощение беззаботной веселости, по его собственным отвратительным словам, меня это волнует меньше всего. Сейчас Бэйн вкладывает в выполнение задания всю душу, совершенно ясно, что он профессионал, но кем подосланный? В наши дни все невероятно сложно, демаркационные линии размыты.
– Послушайте, – умоляет он, подбирается на два сиденья ближе, шепчет: – я знаю, что вы в бегах, и вы знаете, что вы в бегах, и я вам признаюсь, я в бегах тоже. Мы нашли друг друга, мы взаимно смущены, мы следим за дверями, мы прислушиваемся, ожидая услышать грубые голоса, звук предательства. Почему не довериться мне, почему не бороться за общее дело, дни удлиняются, иногда мне кажется, что я глохну, иногда глаза закрываются, хотя я их не просил. Двое лучше видят, чем один, я даже готов назвать вам свое настоящее имя.
Возможные чувства перед лицом вопиющей искренности: отвращение, отрешенность, радость, бегство, родство душ, сдать его властям (власти до сих пор существуют). Ужели это не обстоятельства, перед которыми может болтаться в воздухе нагой Бёрлигейм, не та настоящая жизнь, риск и опасность, что в «Женщине Вуду», в «Твари из Черной Лагуны»?
Бэйн продолжает:
– Мое подлинное имя (как мне это произнести?) – Адриан Хипкисс: это то, от чего я бегу. Представляете ли вы, что значит называться Адрианом Хипкиссом: хохотки, насмешки, бесчестье, это было невыносимо. И еще: в 1944 году я отправил письмо, в котором не сказал то, что собирался, я съехал на следующий день, это был канун Нового года, и все грузчики были пьяны, сломали ножку у пианино. Из страха, что это вернется и будет мучить меня. Моя жизнь с той поры превратилась в смену масок: Уотфорд, Уоткинс, Уотли, Уотлоу, Уотсон, Уотт. Подлинное лицо исчезло, разлетелось вдребезги. Кто я, кто это знает?
Бэйн-Хипкисс начинает всхлипывать, включается система охлаждения, городская жизнь – ткань таинственных шумов, возникающих и пропадающих, пропадающих и возникающих, мы достигаем контроля над физическим окружением только за счет слуха, что, если бы человек мог чувствовать, если б мог уворачиваться в темноте? Термиты-мутанты пожирают марионеток с огромной скоростью, награды – ученым, аппетитная красотка-медсестра – молоденькому лейтенанту, они завершат все это шуткой, если возможно, означающей: вообще-то все это понарошку. Обман существует на любом уровне, попытка отрицать то, что являет глаз, что разум осознает как истину. Бэйн-Хипкисс выкручивает руки моей доверчивости, кот в мешке. Если не (6) и не (1), готов ли я иметь дело с вариантом (2)? Должна ли тут быть солидарность? Но плач невыносим, неестествен, его следует оставлять на особые случаи. Телеграмма среди ночи, железнодорожные катастрофы, землетрясения, война.
– Я скрываюсь от попов (мой голос странно нерешителен, срывается), когда я был самым высоким мальчиком в восьмом классе школы Скорбящей Богоматери, они хотели отправить меня играть в баскетбол, я отказался, отец Блау, поп-физрук, сказал, что я отлыниваю от полезного для здоровья спорта, дабы погрузиться во грех, не считая греха гордыни и других разнообразных грехов, тщательно перечисленных перед заинтересованной группой моих современников.
Лицо Бэйн-Хипкисса проясняется, он прекращает всхлипывать, а тем временем фильм начинается снова, марионетки еще раз выступают против Американской Армии, они неуязвимы, Честный Джон смехотворен, Ищейка неисправен, Ханжа подрывается на пусковой площадке, цветы пахнут все слаще и сильнее. Неужели они действительно растут под нашими ногами, и время взаправду проходит?
– Отец Блау мстил во время исповедей, он настаивал на том, чтобы знать все. И ему было что знать. Ибо я больше не верил так, как должен был верить. Или верил слишком сильно, без разбору. Тому, кто всегда был чрезмерно восприимчив к лозунгам, им никогда не следовало говорить: Ты можешь изменить мир. Я намекнул своему исповеднику, что некоторые моменты ритуала омерзительно похожи на сцену воскрешения в «Невесте Франкенштейна». Он был шокирован.
Бэйн-Хипкисс бледнеет, он и сам шокирован.
– Но поскольку он и так по праву был во мне заинтересован, то стремился наставить меня на путь истинный. Я не провоцировал этот интерес, он смущал меня, я думал совсем о другом. И виновен ли я, что во всем этом недокормленном приходе только я выделял достаточное количество гормонов и тщательно пережевывал суп и жареную картошку, кои были нашим ежедневным рационом, вынуждая свою голову и руки максимально приблизиться к баскетбольной корзине?
– Вы могли бы симулировать растяжение лодыжки, – резонно отметил Бэйн-Хипкисс.
– К сожалению, то было только начало. Однажды, посреди доброго Акта Покаяния – а отец Блау совершает обряд с благочестивой злобой, – я выпрыгнул из исповедальни и помчался между скамеек, чтобы никогда больше туда не возвращаться. Я миновал крестящихся людей, миновал маленькую негритянку, чью-то горничную, нашу единственную черную прихожанку, которая всегда сидела в последнем ряду с носовым платком на голове. Покинув отца Блау, бесповоротно, с прискорбным осадком от наших еженедельных встреч: грязных мыслишек, злости, брани, непослушания. Бэйн-Хипкисс передвигается еще на два сиденья (почему именно два за один раз?), голос почти срывается:
– Грязных мыслишек?
– Мои грязные мыслишки были особого, богатого деталями и зрительными образами рода. По большей части они тогда касались Недды-Энн Буш, которая жила через два дома от нас и была удивительно хорошо развита. Под ее окнами я скрючивался много вечеров, ожидая откровений красоты, свет горел аккурат между шкафом и окном. Я был особо вознагражден несколько раз, а именно: 3 мая 1942 года, увиденным мельком знаменитым бюстом; 18 октября 1943, на редкость холодным вечером, перемещением трусиков с персоны в бельевую корзину с последующим трехминутным обозрением нагой натуры. Пока она не догадалась выключить свет.
– Невероятно! – шумно выдыхает Бэйн-Хипкисс. Ясно, что исповедь неким неясным образом возвращает его к жизни. – Но этот священник наверняка подыскал какое-нибудь духовное утешение, совет… Однажды он предложил мне кусочек шоколадного батончика.
– В знак расположения?
– Он хотел, чтобы я рос. Это входило в его интересы. Ему мечталось о первенстве города.
– Но то был акт доброты.
– Все произошло до того, как я сказал, что не выйду на игру. В темной исповедальне с раздвижными панелями, лица за ширмой, как в «Малышке из замка», как в «Тайне дома Эшеров», он твердо отказывал мне в понимании этой озабоченности, совершенно естественного и здорового интереса к интимным женским местам, удовлетворявшегося незаконными способами, как в случае с окном. Вкупе с профессионально поставленными вопросами, для того чтобы вытянуть из меня все детали до последней, включая самоуничижение, и принудительным перерасходом батончиков, шоколадок «Марс» и просвирок, значение которых в периоды сексуального самовозвышения впервые было указано мне этим добрым и святым человеком.
Бэйн-Хипкисс явно взволнован. Почему бы и нет? Это волнующая история. В мире полно вещей, вызывающих отвращение. Не всё в жизни – «Виставижн» и «тандербёрдз». Даже шоколадки «Марс» обладают скрытой сутью, опасной в глубине. Искоренением риска пусть занимаются женские организации и фонды, лишь меньшинство – увы! – может быть великими грешниками.
– Вот так я и стал убежденным антиклерикалом. Не любил больше Господа, ежился от слов «сын мой», бежал от ряс, где бы они ни появлялись, предавал анафеме все, что прилично, богохульствовал, писал поганые лимерики с рифмой «монашка-какашка», словом, был в упоительном полном отлучении. Потом мне стало ясно, что это не игра в одни ворота, как казалось вначале, что за мною погоня.
– А…
– Это открылось мне благодаря брату-расстриге из Ордена Гроба Господня, человеку не слишком сообразительному, но сохранившему добро в тайниках сердца, он восемь лет проработал поваром в епископском дворце. Он утверждал, что на стене в кабинете епископа висит карта, и в нее воткнуты булавки, отмечающие тех из епархии, чьи души под вопросом.
– Господи всемогущий! – ругается Бэйн-Хипкисс, мне кажется, или тут слабо веет…
– Она дисциплинированно обновляется коадъютором, довольно политизированным человеком. Каковыми, по моему опыту, являются большинство церковных функционеров ниже епископского ранга. Парадоксально, но сам епископ – святой.
Бэйн-Хипкисс смотрит недоверчиво:
– Вы все еще верите в святых?
– Я верю в святых, святую воду,
коробки для пожертвований,
пепел в Пепельную Среду,
лилии на Пасху,
ясли, кадила, хоры,
стихари, библии, митры, мучеников,
красные огоньки,
дам из Алтарного Общества,
Рыцарей Колумба,
сутаны и лампады,
божий промысел и индульгенции,
в силу молитвы,
Преосвященства и Высокопреподобия,
дарохранительницы и дароносицы,
звон колоколов и пение людей,
вино и хлеб,
Сестер, Братьев, Отцов,
право убежища,
первосвятительство Папы Римского,
буллы и конкордаты,
Указующий Перст и Судный День,
в Рай и Ад,
я верю во все это. В это невозможно не верить. Оттого-то все так сложно.
– Но тогда…
– Баскетбол. В него я не верю.
Но это не все, это был первый ритуал, открывший мне возможность других ритуалов, других праздников, например, «Крови Дракулы», «Поразительного Колосса», «Оно покорило мир». В силах ли Бэйн-Хипкисс постичь этот славный теологический вопрос: каждый верит во что может и следует за этим видением, что столь ярко возвышает и унижает мир? Оставшись в темноте, наедине с собой, каждый жертвует «Поразительному Колоссу» все надежды и желания, пока епископ рассылает свои патрули, хитрых старых попов, величавые парочки монахинь с простыми поручениями, я помню год, когда все носили черное, как я нырял в парадные, как непристойно спешил, переходя улицу!
Бэйн-Хипкисс заливается румянцем, ему неловко, сучит ногами, открывает рот:
– Я хочу исповедаться.
– Исповедуйтесь, – понуждаю я, – не стесняйтесь.
– Я сюда послан.
И прямо под носом, и в Тибете у них есть агенты, даже в монастырях у лам.
– Это мне кое-что напоминает, – констатирую я, но Бэйн-Хипкисс встает, поднимает руку к голове, командует: «Смотрите!» Бёрлигейм съеживается, а Бэйн-Хипкисс сдирает с себя кожу. Умный Бэйн-Хипкисс, он сделал меня, я сижу с открытым ртом, он стоит, усмехаясь, кожа болтается на лапе, точно дохлая кухонная тряпка. Он белый! Я притворяюсь невозмутимым: – Это напоминает мне, касательно мысли, сказанной ранее, и фильм, что мы сейчас смотрим, – интересный тому пример…
Но он обрывает меня:
– Ваша позиция, в целом еретичная, имеет свой резон, – констатирует он, – но с другой стороны, мы не можем позволить, чтобы целостность нашей операции была волей-неволей поставлена под вопрос людьми со странными идеями. Отец Блау ошибался, мы тоже стадо не без паршивых овец. С другой стороны, если каждый из нашей паствы вздумает покинуть нас, го кто же спасется? Вы должны стать первым. Мне пришлось использовать это (виновато показывает фальшивое лицо), чтобы приблизиться к вам, это ради здравия вашей души.
Болбочет гололицый Бэйн-Хипкисс. Неужели Бёрлигейм схвачен, должен ли он сдаться? Ведь все еще есть знак с надписью «ВЫХОД», в сортир, на стульчак, в форточку.
– Я уполномочен применить силу, – извещает он, хмурясь.
– Касательно мысли, упомянутой выше, – замечаю я, – или начинавшей упоминаться, фильм, что мы смотрим, – сам по себе ритуал, множество людей смотрят такие фильмы и отказываются понимать то, что в них говорится. Согласи…
– В настоящее время у меня есть более срочное дело, – говорит он. – Сами пойдете?
– Нет, – твердо отвечаю я. – Обратите внимание на фильм, он пытается сказать вам кое-что, откровения не так часты в наше время, чтобы позволить себе швыряться ими налево и направо.
– Я должен предупредить вас, – говорит он, – что для человека, исполненного рвения, нет преград. Рвение, – гордо продолжает он, – это мое второе имя.
– Я не пошевелюсь.
– Должны.
Теперь Бэйн-Хипкисс легко передвигается на маленьких священничьих ножках, боком минуя ряды сидений. Хитрая улыбка на лице выдает его иерархическую принадлежность, руки невинно сжаты на животе, чтобы продемонстрировать чистоту намерения. Странные повизгивания, как в «Ночи кровавого зверя», пугающе красноватый оттенок неба, как в «Оно покорило мир». Откуда они исходят? Сладость, текущая из-под кресел, стала всепоглощающей. Я попытался предостеречь его, но тщетно, он не слышит. Выхватываю футляр из кармана пиджака, вставляю иглу в смертельную тушку инструмента, пригибаюсь в готовности. Бэйн-Хипкисс приближается, глаза прикрыты в мистическом экстазе. Я хватаю его за глотку, погружаю жало в шею, его глаза выпучиваются, лицо корчится, он оседает, дрожа, мешком среди сидений, через мгновение он залает, как собака.
Большинству не хватает соображения, чтобы бояться, они смотрят телевизор, курят сигары, тискают жен, рожают детей, голосуют, выращивают гладиолусы, ирисы, флоксы, никогда не заглядывают в лицо «Вопящему черепу», «Подростку-оборотню», «Тысячеглазому зверю», никакого понятия о том, что скрыто поверхностью, никакой веры в явления, не признанные иерархией. Кто в безопасности, когда за стенами дома бродит «Подросток-оборотень», когда улицы дрожат под лапами «Тысячеглазого зверя»? Люди думают, что все это шутки, но ошибаются. Опасно игнорировать видение – вот, например, Бэйн-Хипкисс, он уже залаял.
Ты мне расскажешь?
1
Хуберт преподнес Чарлзу и Ирен миленького ребеночка к Рождеству. Ребеночек был мальчиком, и его звали Пол. Чарлз и Ирен, у которых за много лет детей не случилось, были в восторге. Они стояли над детской кроваткой, смотрели на Пола и никак не могли наглядеться. Красивый мальчик с черными глазками, черными волосиками. Где ты его взял, Хуберт? спрашивали Чарлз и Ирен. В банке, отвечал Хуберт. Загадочный ответ, Чарлз и Ирен ломали голову. Все пили глинтвейн. Пол рассматривал их из колыбельки. Хуберту было приятно, что он смог доставить им такое удовольствие. Они выпили еще.
Родился Эрик.
У Хуберта и Ирен была тайная связь. Очень важно, считали они, чтобы Чарлз не узнал. Для этого они купили кровать и поставили в другом доме – в отдалении от того, где жили Чарлз, Ирен и Пол. Новая кровать была маленькой, но достаточно удобной. Пол задумчиво смотрел на Хуберта и Ирен. Связь длилась двенадцать лет и положительно была очень успешна.
Хильда.
Чарлз наблюдал из окна, как Хильда росла. Начиная с младенчества, потом четырехлетия, потом прошло двенадцать лет, и она достигла того же возраста, что и Пол – шестнадцати. Какая прелестная молодая девушка! размышлял Чарлз. Пол соглашался с Чарлзом; ему уже довелось покусать кончики прелестных грудей Хильды. Хильда казалась себе слишком старой для большинства сверстников Пола – но не для него самого.
Сын Хуберта, Эрик, хотел Хильду, но не мог ее заполучить.
Пол продолжал клепать бомбы в подвале, при тусклой лампочке. Бомбы делались из длинных банок из-под «Шлитца» и пластичной субстанции, которую Пол отказывался назвать. Бомбы продавались сверстникам Пола, чтобы швырять в отцов. Бомбы скорее пугали, чем наносили ощутимый вред. Хильда помогала Полу продавать бомбы, прятала их под черным свитером, когда выходила на улицу.
Хильда срубила черную грушу на заднем дворе. Зачем?
Ты знаешь, что Хуберт и Ирен находятся в связи? спросила Хильда Пола. Пол кивнул.
Потом добавил: Но мне наплевать.
В Монреале они гуляли по первому снегу, оставляя следы, похожие на кленовые листья. Пол и Хильда думали: Что есть замечательно? Полу и Хильде казалось, что вопрос – в этом. Люди в Монреале были добры к ним, и они размышляли над этим вопросом в атмосфере доброты.
Чарлз, конечно, с самого начала знал о связи между Хубертом и Ирен. Но ведь Хуберт подарил нам Пола, размышлял он. Его удивляло, зачем Хильда срубила черную грушу.
Эрик посиживал сам по себе.
Пол положил руки на плечи Хильде. Та закрыла глаза. Они обнимались и думали над вопросом. Франция!
Ирен купила всем подарки на Пасху. Как мне узнать, в какой части пляжа будет лежать Розмари? спрашивала она себя. Скелет черной груши белел на заднем дворе Хильды.
Диалог между Полом и Энн:
– Ты болтаешь все, что лезет тебе в голову, – протестовала Энн.
– Вали, торгуй своими гиацинтами, Гиацинтщица. Это портрет, сказал Хуберт, вобравший пороки нашего поколения во всей полноте их проявления.
Бомба Эрика взорвалась со страшным шумом рядом с Хубертом. Хуберт испугался. Что решили? спросил он Эрика. Эрик не смог ответить.
Ирен и Чарлз говорили о Поле. Интересно, как он там один во Франции? недоумевал Чарлз. Интересно, примет ли его Франция? Ирен снова недоумевала по поводу Розмари. Чарлзу было интересно, а не приемным ли его сыном Полом изготовлена бомба, брошенная Эриком в Хуберта. Еще он удивлялся странному слову «приемный», которое вначале вовсе его не удивляло. В банке? удивлялся он. Что Хуберт имел в виду? Что Хуберт мог иметь в виду, сказав «в банке»? спросил он Ирен. Не имею представления, ответила Ирен. Потрескивал огонь. Вечер.
В Силькеборге, Дания, Пол задумчиво рассматривал Хильду. Ты любишь Инге, сказала она. Он коснулся ее руки.
Вернулась Розмари.
Пол повзрослел. Ох этот старый бедный ебарь Эрик, сказал он.
2
Качество любви между Хубертом и Ирен:
Это действительно замечательная кроватка, Хуберт, сказала Ирен. Правда, не слишком широкая.
Ты ведь знаешь, что Пол изготавливает бомбы в твоем подвале, не так ли? спросил Хуберт.
Инге, в своем красном свитере, расчесывала длинные золотистые волосы.
Что это был за мужчина, спросила Розмари, который писал книжки про собак?
Хильда сидела в кафе, ожидая, когда Пол вернется из Дании. В кафе она встретила Ховарда. Уходи, Ховард, сказала Хильда, я жду Пола. Ну что ты, Хильда, уныло произнес Ховард, можно я посижу минутку. Всего одну минуточку. Я не буду тебе докучать. Я просто хочу сесть за твой столик и побыть рядышком. Я же воевал, знаешь ли. Хильда ответила: Ладно. Но не смей ко мне прикасаться.
Чарлз написал стихотворение о псе Розмари, Эдварде. Сестину.
Папочка, почему ты написал стих про Эдварда? восторженно спросила Розмари. Потому что ты была далеко, Розмари, ответил Чарлз.
Эрик слонялся в Йеле.
Ирен сказала: Хуберт, я люблю тебя. Хуберт ответил, что он рад. Они лежали на кровати в доме, размышляя об одном и том же, о первом снеге Монреаля и черноте Черного моря.
Смысл того, что я срубила черную грушу, Ховард, я этого никому еще не говорила – в том, что она была того же возраста, что и я, шестнадцатилетняя, и она была красива, и я была красива, наверное, и мы обе были там, дерево и я, и я этого не могла вынести, сказала Хильда. Ты до сих пор красива, и в девятнадцать, сказал Ховард. Но не смей ко мне прикасаться, сказала Хильда.
Хуберт облажался в бизнесе. Он потерял десять тысяч. Ты не могла бы некоторое время платить за этот дом? спросил он Ирен. Конечно, дорогой, ответила Ирен. Сколько? Девяносто три доллара в месяц, сказал Хуберт, ежемесячно. Так ведь это немного, сказала Ирен. Хуберт протянул руку приласкать Ирен, но не стал.
Инге улыбалась в свете победной свечи.
Эдвард устал позировать для стихов Чарлза. Он потянулся, заворчал и укусил себя.
Пол в подвале смешивал пластик для новой кучки бомб. Ветка черной груши лежала на его верстаке. Семена упали в ящик с инструментами. В банке? удивился он. Что значит «в банке»? Он вспомнил доброту Монреаля. Черный свитер Хильды висел на стуле. Господь хитер, но не злобен, сказал Эйнштейн. Пол взял инструменты. Среди них было шило. Теперь нужно найти еще банок из-под «Шлитца», подумалось ему. Немедленно.
Ирен недоумевала, то ли Хуберт действительно любит ее, то ли говорит так из любезности. Ирен не знала, как ей это выяснить. Хуберт был красив. Но ведь и Чарлз тоже был красив. И я, я все еще довольно красива, напомнила она себе. Конечно, не так, как Хильда и Розмари, другой красотой. У меня красота зрелости. О!
В банке? недоумевала Инге.
Эрик вернулся домой на праздники.
Анна Тереза Тыменицка написала книгу, на которую И.М. Боченский пожертвовал вступительное слово.
Розмари составила список людей, которые не прислали ей писем в то утро:
Джордж Льюис
Питер Элкин
Джоан Элкин
Ховард Тофф
Эдгар Рич
Марси Пауэрс
Сью Браунли
и многие другие
Пол сказал человеку в хозяйственной лавке: Мне нужно новое шило. Какой размер вам необходим? спросил человек. Примерно такой, сказал Пол, показав руками. О, Хильда!
Как его зовут уменьшительно? спросили Чарлз и Ирен Хуберта. Его зовут Пол, ответил Хуберт. Маленький какой, правда? сказал Чарлз. Но хорошо сложен, подчеркнул Хуберт.
Тебе купить выпивки? спросил Ховард Хильду. Ты уже пила граппу? Один из любимейших напитков в этой стране. Твое время истекло, Ховард, безжалостно сказала Хильда. Убирайся из кафе. Минуточку, сказал Ховард. Это ведь свободная страна? Нет, ответила Хильда. Нет, дружище, свободная страна совершенно точно никаким боком не касается того, что ты сидишь за этим столом. Кроме того, я решила полететь в Данию первым же самолетом.
Почтальон (почтальон Розмари) упорствовал в своей раздражающей привычке обслуживать сначала противоположную сторону улицы и лишь потом заниматься ее стороной. Розмари съела миску трехминутных хлопьев.
Эрик обстриг ногти при помощи двадцатипятицентовых клещей.
Бомба Генри Джексона, брошенная им в отца, не сдетонировала. Зачем ты кидаешь в меня эту банку из-под «Шлитца», Генри, спросил отец Генри, и почему она тикает, как бомба?
Хильда пришла в подвал к Полу. Пол, попросила она, я могу позаимствовать топор? Или пилу?
Хуберт дотронулся до груди Ирен. У тебя красивые груди, сказал он Ирен. Они мне нравятся. Тебе не кажется, что они слишком спелые? озабоченно спросила Ирен.
Спелые?
3
Гиацинтщица Энн хотела Пола, но не могла его заполучить. Тот спал с Инге в Дании.
Из окна Чарлз наблюдал за Хильдой. Та села играть под черной грушей. Она глубоко вгрызлась в черную грушу. Вкус был ни к черту, и Хильда вопросительно посмотрела на дерево. Чарлз заплакал. Он читал Бергсона.
Его удивил собственный плач, и в удивлении Чарлз решил перекусить. Ирен не было дома. В холодильнике ничего не было. Что же сделать на обед? Сходить в аптеку?
Розмари взглянула на Пола. Но, конечно же, он для меня слишком молод, подумала она.
Эдвард и Эрик встретились на улице.
Инге написала Энн следующее письмо, объясняя, почему Энн не может заполучить Пола:
Дорогая Энн -
Я глубоко тронута твоими чувствами, донесшимися до меня с корабля через наш недавний телефонный разговор. Приятно ли Черное море? Я надеюсь, и даже очень, что ты хорошо проводишь время в круизе. Круиз Мэтсона – один из моих любимых. Но так или иначе, я должна сказать тебе, что Пол сейчас глубоко погружен в любовную связь со мной, Инге Грот, очень миленькой девушкой из Копенгагена, и по этой причине не может отвечать на твои авансы, как бы очаровательны и хорошо сформулированы они ни были. Ты хорошо говоришь по телефону, стильно. Также я должна объяснить, что, если Пол и полюбит еще какую-нибудь девушку, кроме меня, то, определенно, Хильду, эту девушку из девушек. Хильда! Замечательная девушка! Конечно, вполне вероятно, он может влюбиться еще в кого-нибудь, кого пока не встретил, – но это будет не скоро, я думаю. И спасибо тебе за дополнительные гиацинты. Мы обещаем о тебе думать время от времени.
Твой друг,
Инге.
Чарлз лежал в постели со своей женой Ирен. Он дотронулся до одной из грудей, грудей Ирен. У тебя красивые груди, Ирен, сказал Чарлз. Спасибо, ответила Ирен, Чарлз.
Ховардову телеграмму Эрику так и не доставили.
Хуберт серьезно думал о рождественском подарке для Чарлза и Ирен. Что мне нужно добыть, чтобы счастье моих дорогих друзей не знало пределов? спросил он себя. Интересно, понравится ли им гамелан? А лоскутный половичок?
О, Хильда, бодро сказал Пол, я так давно не был рядом с тобой! Почему бы нам троим не сходить поужинать?
У Хуберта был назначен обед с лучшим молодым поэтом из ныне пишущих по-английски в Висконсине.
Чарлз! воскликнула Ирен. Ты голоден! И ты плакал! Твой серый жилет покрыт слезами! Позволь сделать тебе сэндвич с ветчиной и сыром. К счастью, я только что из бакалейной лавки, где купила ветчины, сыра, хлеба, латука, горчицы и бумажных салфеток. Чарлз спросил: Кстати, ты в последнее время не видела или там не слышала что-нибудь о Хуберте? Он осмотрел свой серый заплаканный жилет. Нет, и уже давно, ответила Ирен, по непонятной причине Хуберт как-то отдалился от нас в последнее время. О, Чарлз, могу ли я рассчитывать на дополнительные девяносто три доллара в месяц для нашего семейного бюджета? Мне нужна мастика, и я бы хотела подписаться на «Нэйшнл Джиографик».
Каждый месяц?
Энн смотрела поверх поручней на Черное море. Она бросила ему гиацинты, не один, а дюжину или больше. Они поплыли по черной поверхности.
– Боль не проходит. Почему Господь не поможет мне?
– Позвольте, я возьму у вас анализ мочи, – попросила медсестра.
Пол поместил свое новое шило в ящик с инструментами. Чего это Эрик присматривал себе дробовик в хозяйственной лавке?
Ирен, сказал Хуберт, я люблю тебя. Хотя я всегда боялся об этом упоминать, потому что был поставлен перед фактом твоего замужества с моим близким другом Чарлзом. Теперь и здесь, в этом театре кинохроники, я чувствую, что ты близка. Почти что в первый раз. Я чувствую интимность. Я чувствую, что, может быть, и ты любишь меня хоть немного. Получается, сказала Ирен, что это было символично – вручить мне Пола на Рождество?
Инге улыбнулась.
Розмари улыбнулась.
Энн улыбнулась.
Прощай, Инге, сказал Пол. Твоя изумительная блондинистость была изумительна, и я всегда буду помнить тебя такой. Прощай! Прощай!
Кинохроника обрисовала упадок в Эфиопии.
Ховард обналичил чек в бюро «Америкэн Экспресс». Что мне делать с этими деньгами? недоумевал он. Никакие финансы не имеют значения теперь, когда Хильда уехала в Данию.
Он вернулся в кафе в надежде, что Хильда сказала это не всерьез.
Чарлз добавил в глинтвейн вина.
Отец Генри Джексона робко думал: Ведь Генри еще слишком молод, чтобы быть анархистом, не так ли?
Положи пустые банки из-под «Шлитца» там в углу, у горна, Генри, сказал Пол. И спасибо, что одолжил свой грузовичок в эту холодину. Хотя, я думаю, тебе надо поторопиться с шипованной резиной, я слышал, снегопады начнутся в этом регионе очень скоро. Глубокий снег.
Ховард – Хильде: Я не боюсь того, что ты не понимаешь меня, я боюсь, что хорошо понимаешь. В этом случае, я думаю, меня посетят грезы.
Куда ты идешь с этим дробовиком, Эрик? спросил Хуберт.
Фактически невозможно читать книги Джоэла С. Голдсмита о единстве жизни и не становиться лучше, Эрик, сказала Розмари.
Эрик, убери дробовик изо рта! закричала Ирен.
Эрик!
4
О, Хуберт, зачем ты дал мне этого проклятого ребенка? То есть Пола? Знал ли ты, что он вырастет?
Французские просторы (просторы Франции) покрывала золотистая трава. Я ищу бар, сказали они, что называется «Корова на крыше» или как-то в этом роде.
Инге роскошно потянула левую и правую руки. Ты принес мне столько великолепного счастья, Пол, что, хотя ты скоро уйдешь еще раз пообщаться с Хильдой, девчонкой на все-превсе времена, мне все равно приятно быть в этой замечательной датской постели рядом с тобой. Ты не хочешь поговорить о феноменологической редукции? Или ты хочешь булочку?
Эдвард взвесил Кореша на глазок.
В банке? спросила себя Розмари.
Я решила, Чарлз, поехать на Виргинские острова с Хубертом. Ты не против? С тех пор, как его дела на рынке радикально улучшились, я чувствую, он нуждается в легком отдыхе под золотистым солнышком. О'кей?
Капитан черноморского патрульного катера сказал: Гиацинты?
Новая черная груша неуклонно тянулась к небесам из могилы, из того самого места, где раньше росла старая черная груша.
Он недоумевал, то ли завернуть это, как подарок, то ли просто преподнести Чарлзу и Ирен в коробке. Он не мог решить. Он решил выпить. Пока Хуберт пил водку-мартини, оно заплакало. Наверно, я делаю коктейли слишком крепкими?
Снега Монреаля сгрудились перед красным «рэм-блером». Пол и Хильда обнялись. Что есть замечательно? думали они. Они подумали, что ответ может читаться в их глазах или в перемешанном дыханье, но не были уверены. Может, всё иллюзия.
Интересно, как мне стать более приятной глазу? спросила Розмари. Может, стоит себя миленько растатуировать?
– Хильда, я действительно думаю, что теперь мы можем быть вместе, оставаться вместе, даже жить вместе, если ты не против. Я чувствую, что это очень нелегкое для нас время подошло к концу. Время, которое нас испытывало, понимаешь? И с сегодняшнего дня все будет хорошо. У нас будет дом, и так далее, и тому подобное, и, возможно, даже собственные дети. Я найду работу.
– По-моему, замечательно, Аарон.
Эрик?
Для меня, парня, чья единственная радость – любить тебя, моя сладость
На обратном пути с аэродрома Хубер, сидевший за рулем, произнес: И все же я не могу понять, зачем это мы понадобились. Вы не понадобились, категорически заявил Блумсбери, вы были приглашены. Тогда приглашены, снова заговорил Хубер, но я не могу понять, для чего приглашены. Как друзья семьи, пояснил Блумсбери. Вы оба друзья семьи. Ткань истин, подумал он, нежна, как переговоры о капитуляции. Этого недостаточно, чувствовал Блумсбери, чтобы дать понять, что его друзья, Хубер и Уиттл, как люди далеки от того, какими бы он хотел их видеть. Ибо, вполне возможно, сознавал он, что и он сам – не такой, как им хотелось бы. Тем не менее случалось, он готов был возопить, что это неправильно!
Она вела себя, как мне показалось, вполне спокойно, сказал Блумсбери. Ты тоже, бросил Хубер, повернув голову почти задом наперед. Конечно, ее обучили не плакать на людях, сказал Блумсбери, выглянув в окно. Обучение, подумал он, вот великая штука. Позади них самолеты попеременно взлетали и садились, и он размышлял, раз они должны ожидать разрешения на «взлет», это признак уважения или, наоборот, неуважения по отношению к ним. Я все-таки думаю, что скулежа там хватало, произнес Уиттл с переднего сиденья. Я давно заметил, что в ситуациях, связанных с рождением, скорбью или расставанием навеки, скулежа обычно полным-полно. Но он собрал толпу, сказал Хубер, предотвратившую уединение. И, соответственно, нытье, согласился Уиттл. Точно, подтвердил Блумсбери.
Кудатропишься, Пышчка? К бабшке, если это устроит Ваше Лярдство. Хо-хо, кака чудненька, молоденька, мягенька-румяненька, тепленька штучка, и на такой жесткой лисипедной сидухе. Ууу, Ваштучность, какой Вы пртивный, Внаверно всем девшкам эт гворите. Да чтот, Пышчка! Как на духу скжу, я на этой улице ни разу не видел девшки с такой штучкой. А вы наглый, Ваш Милеть. Чтотвы распетшились. Можн я тя ущипну, Пышчка, будь умничкой. Ууу, Милстер Блумсбери, я б и не прочь позабавиться, да вот супружник мой с крыльца приглядыват за мной в надзорную трубу. Не ломайся, Пышчка, синяков не будет. Потискаемся прсто вон за тем деревом. Звоночком пзвоните, Ваштучность, он и подумат, что вы эскимо купить хотите. Бязательно, Пышчка, я моей сладенькой еще колечко дам, у нее тако отродясь не было. Ууу, вашмилсть, потише с пояском, он мине педалки-давалки поддерживат. Не боись, Пышчка, и не с таким справлялись, точно говорю.
Разумеется, не совсем верно говорить, что мы друзья семьи, сказал Хубер. Никакой семьи, собственно, и не осталось. А по-моему, осталось, я верю, отпарировал Уиттл, с юридической точки зрения. Ты был женат? это повлияло бы на юридическую сторону вопроса – выживет ли семья как семья после физического разделения партнеров, чему мы и были только что свидетелями. Блумсбери понял, что Уиттлу не хотелось бы, чтобы подумали, будто он лезет не в свое дело, и понял также, скорее даже припомнил потом, что жена Уиттла, точнее, бывшая жена, упорхнула на самолете, если не идентичном, то весьма похожем на тот, в котором Марта, его собственная жена Марта, также предпочла смыться. Но поскольку он посчитал данный вопрос достаточно утомительным, и проявляя мало интереса в виду физического разделения, на которое уже делались намеки, что теперь требовало его внимания вплоть до полного исключения остальных его запросов, Блумсбери решил не отвечать. Вместо этого он сказал: она выглядела, я считаю, довольно привлекательно. Чудесно, признал Уиттл, а Хуберт добавил: ошеломляюще, фактически.
Ах, Марта, двай-ка в постельку, будь паинькой. Отвянь, козел, я еще Малларме на ночь не почитала. Ууу, Марта, дорогуша, мы разве договаривались, что наш паренек будет дрыхнуть всю ночь? когда телик заглох, а хозяина стояк бьет – милую ждет. Отвали со своими пошлостями, сегодня вторник, сам лучше меня знаешь. Но, Марта, голубушка, где же твоя любовь ко мне, о которой мы твердили на погосте у моря в девятьсот и 38-м? Фи, Мистер Елдак! приглядывали б лучше за мусородробилкой, а то аж забилась уже вся. Трубу бы прочистил! Марта, девочка моя, ты, моя сладенькая, нужна мне, ты. Убери свои лапы, тампонная гадина, я задолбалась нянчиться с твоим поганым хреном. Но Марточка, милая, помнишь стихи, ну, в той книге, про «кроншнепово нытье и гигантово мудье», в девятьсот и 38-м? коими освятили мы наш союз? Когда это было, а теперь – это теперь, можешь и дальше бегать за этой велосипедисточкой в трусах в обтяжку, если хочется свои старые мудья размять. Ах, Марточка, при чем тут велосипедисточка, это ты мне сердечко тормозишь. Держи свои грабли подальше от моей кормы, я из-за тебя страницу залистнула.
Богатые девушки всегда выглядят хорошенькими, констатировал Уиттл, а Хубер сказал: я это уже слышал. Деньжат наверняка оттяпала? спросил Уиттл. Да, конечно, скупо ответил Блумсбери (не потерял ли он одновременно с Мартой и свое отнюдь не маленькое состояние, тысячи, а то и больше?). Иначе и не получится, я полагаю, сказал Хубер. Его глаза, к счастью, следившие за дорогой во время этого пассажа, были холодны, как сталь. И тем не менее… начал Уиттл. И, чтоб компенсировать тебе хлопоты, предположил Хуберт, ловко эдак, буханула все это на сберегательный счет. Наперекор себе, вне всякого сомнения, не унимался Уиттл. Так были хлопоты или нет? за которые предложили слишком мало или вообще ничего? От негодования, заметил Блумсбери, шея Уиттла закаменела: она и так по жизни была необъяснимо длинной, тощей и деревянной. Деньги, подумал он, их взаправду было очень много. В одиночку не управишься. Но волею судеб достались двоим.
На обочине возникла вывеска «ПИВО, ВИНО, ЛИКЕРЫ, ЛЕД». Хубер остановил машину, «понтиак-чифтейн», и, заскочив в магазин, купил за 27 долларов бутылку бренди девяностовосьмилетней выдержки с восковой печатью на горлышке. Бутылка была старой и грязной, но бренди, когда Хубер вернулся с ним, – выше всяких похвал. Надо отметить это дело, сказал Хубер, щедро предложив бутылку сначала Блумсбери, который, по общему мнению, недавно пережил утрату и потому заслуживал особого внимания, насколько это возможно. Блумсбери оценил сей дружеский порыв великодушия. Пусть у него полно пороков, рассудил он, но и добродетелей тоже достает. Впрочем, пороки все же перевесили, и, потягивая старый добрый бренди, Блумсбери принялся исследовать их всерьез, в том числе и те, коими грешил Уиттл. Единственным пороком Хубера, после многих «за» и «против», Блумсбери посчитал неспособность идти к цели. В частности, на дороге, рассуждал он, достаточно какого-нибудь щита «Бензин „Тексако“», чтобы Хубер позабыл про свои прямые обязанности – управлять средством передвижения. У друзей имелись и другие косяки, как смертные, так и простительные, которые Блумсбери обмозговывал с подобающей тщательностью. В конечном итоге его раздумья прервало восклицание Уиттла: Старые добрые денежки!
Было бы неправильно, сурово начал Блумсбери, их зажиливать. Коровы пролетали за окнами в обоих направлениях. То, что за все годы сожительства деньги были нашими, и мы их копили и гордились ими, не меняет того факта, что с самого начала деньги были скорее ее, чем моими, закончил он. Ты мог бы купить яхту, сказал Уиттл, или лошадь, или дом. Подарки друзьям, которые поддерживали тебя в достижении этой трудной и, позволю заметить, препоганейшей цели, добавил Хубер, вдавив акселератор до отказа так, что автомобиль «чуть не взлетел». Пока все это говорилось, Блумсбери развлекался мыслями об одном из своих излюбленных выражений: Все тайное непременно становится явным. Вдобавок он вспомнил несколько случаев, когда Хубер и Уиттл обедали у него. Они восхищались, накручивал он себя, не только жратвой, но и пикантными деталями фасада и заднего двора хозяйки дома, которые тщательно изучались и снабжались обильными комментариями. До такой степени, что данное предприятие (читай: дружба) стало для него совершенно нерентабельным и проигрышным. Хубер, к примеру, чуть ли не щупальцы вытянул один раз, чтобы потрогать эти прелести, когда те оказались поблизости, аж выгнулся и высунулся весь так, что логика ситуации вынудила Блумсбери на правах хозяина дать Хуберу по рукам поварешкой. Золотые деньки, подумалось ему, в сиянии нашей счастливой юности.
Совершенный идиотизм, сказал Хубер, мы знаем только то, что ты соблаговолил рассказать нам об обстоятельствах, окружающих развал вашего союза. А чего вам еще не терпится вызнать? спросил Блумсбери, ничуть не сомневаясь, что им захочется вызнать всё. Было бы интересно, мне кажется, в качестве житейского опыта, естественно, как бы невзначай ответил Уиттл, к примеру, узнать, на какой стадии совместная жизнь стала невыносима, плакала ли она, когда ты сказал ей, или же это ты плакал, когда она тебе сказала, ты был зачинщиком или она была зачинщицей, случались ли физические разборки с мордобоем или вы просто обоюдно швырялись предметами совместного быта, имело ли место хамство, какого рода и с чьей стороны, был ли у нее любовник или не было, то же самое в отношении тебя, кому достался телевизор – тебе или ей, диспозиция баланса домашней утвари, включая столовое серебро, постельное белье, лампочки, кровати и корзины, у кого остался ребенок, если таковой существовал, какая еда по сей день осталась в кладовке, что случилось со склянками и лекарствами в них, включая зеленку, спирт для растираний, аспирин, сельдерейный тоник, молочко магнезии, снотворное и нембутал, был ли это развод в удовольствие или развод не в удовольствие, она заплатила адвокатам или ты заплатил, что сказал судья, если судья наличествовал, просил ли ты ее о «свидании» после вынесения решения или не просил, была она тронута или же не тронута этим жестом, если таковой был произведен, было ли свидание, если оно было, забавным или совсем наоборот, – одним словом, мы бы хотели прочувствовать это событие, добавил он. Жуть как хочется знать, сказал Хубер. Я помню, как все происходило, когда моя бывшая жена Элеанор отвалила, не унимался Уиттл, но очень смутно, столько лет прошло. Блумсбери, тем не менее, размышлял.
Ты слыхала новсть, Пышчка, благоверная моя, Марта, умчалась от мене в ероплане? етим клятым Шампаньским Рейсом? Ууу Вашпригожсть, дурость кака, такова красавчка, как вы, кинуть. Ага, вот от чего хрен-то кукожится, Пышчка, ее след простыл, токмо бутыль с шампунью в будваре осталась. Вот уж сучка-то она, что такой позор-то учинила, Вашвеличство, Вашей безгрешной рипутанции. Заперлася в сортире, Пышчка, и даже на День Флага не хтела выхдить. Невероятно, Милстер Блумсбери, что такая как ента в двадцатм веке может жить бок о бок с нами, порядшными девшками. А любови с нежностями не боле, чем у дрына, а благодарности не боле, чем у стакана с магнезией. На нее как поглядишь, так будто в Армии Спасения одежу себе покупала в рассрочку. Она еще мне гворила, чуть не отпечатки пальцев с ей сымаю, да впридачу кроме траха мне, мол, ничо не нада. Тю-у, Милстер Блумсбери, мой супружник Джек завсегда с теликом в постелю ложится, так тот, бывалоча, всю ночь напролет мне в хребтину упирается. В постеле? В постеле. Это все с черти сколько уже, Пышчка, миновало с той поры, когда любовь по сердцу прошлась. Ууу, Вашлегантнсть, во всем Западном Полушарьи негу такой девшки, кторая устояла б супротив великолепья такого роскошнова мужика, как вы. Эта женитьба, Пышчка, похоронила меня для любви. Тяжко ето все, Блумичка, но трагически истинно, тем не мене. Не хочу я жалиться, Пышчка, но пониманья меж взрослыми и так мало, чтоб мутить ево ентими вот сантиментами. Я, можа, и не согласная была б с Вашроскошеством, в угоду-то, кабы сама не говорила Джеку тыщу раз, пониманье – ет само главное.
Будучи, как повелось, живого и даже простецкого расположения, друзья семьи, между тем, поддерживали по ходу этих мыслей Блумсбери отношение строжайшей и полнейшей торжественности, как, разумеется, и подобало случаю. Впрочем, Уиттл через некоторое время продолжал: Я помню по собственному опыту, что боль разлуки была, как бы это сказать, изысканной, что ли. Изысканной, усмехнулся Хубер, что за дурацкое словечко. Тебе-то почем знать? ответил Уиттл, ты ведь никогда не был женат. Я, может, и не знаю ничего о браке, решительно сказал Хубер, но уж в словах разбираюсь. Изысканной, заржал он. У тебя ни грана деликатности, бросил Уиттл, это уж точно. Деликатность, не унимался Хубер, час от часу не легче. Он завилял машиной по шоссе то влево, то вправо, в полном восторге. Бренди, сказал Уиттл, тебе не в прок. А хули, гаркнул Хубер, приняв солидный вид. У тебя крыша поехала, не отступался Уиттл, лучше дай я поведу. Ты поведешь! воскликнул Хубер, да тебя старая карга Элеанор бросила именно потому, что ты технический идиот. Она призналась мне в день слушанья. Технический идиот! удивленно повторил Уиттл, не понимаю, что она имела в виду? Хубер с Уиттлом потом устроили настоящее маленькое сражение за руль, но недолго и по-дружески. «Понтиак-чифтейн» в течение этой битвы вел себя очень беспомощно, выделывая зигзаг за зигзагом, но Блумсбери, целиком погруженный в себя, этого не замечал. Примечательно, подумал он, что после стольких лет порознь беглая жена еще способна преподнести сюрприз. Сюрприз, заключил Блумсбери, – великая штука, не дает старым тканям сморщиться.
Ну, снова приступил к беседе Уиттл, как оно ощущается? Оно? переспросил Блумсбери. Что – оно?
Физическое разделение, упомянутое ранее, пояснил Уиттл. Мы желаем знать, как оно ощущается. Вопрос не в том, что ощущается, а в чем смысл, веско ответил Блумсбери. Господи, простонал Хубер, я расскажу тебе о своем романчике. И что? спросил Блумсбери. Девочка была из Красного Креста, ответил Хубер, а звали ее Бак Роджерс. И в чем же романчик состоял? поинтересовался Уиттл. Он состоял, ответил Хубер, в том, что мы залезли на крышу компании «Крайслер» и разглядывали город с высоты. Не слишком интригующе, пренебрежительно вставил Уиттл, и как все закончилось? Ужасно, пробормотал Хубер. Она прыгнула? спросил Уиттл. Я прыгнул, ответил Хубер. Ты у нас по жизни попрыгунчик, съязвил Уиттл. Да, окрысился Хубер, но я подстраховался. Парашют раскрылся? предположил Уиттл. С таким грохотом, будто лесина рухнула, сказал Хубер, но она об этом так и не узнала. Конец романа, печально подытожил Уиттл. Но зато какой вид на город, заметил Хубер. Ну а теперь, Уиттл посмотрел на Блумсбери, побольше чувства.
Мы можем обсуждать, сказал Блумсбери, смысл, но никак не чувство. Однако эмоции-то были, вот и поделись ими с друзьями, настаивал Уиттл. Которые, без сомнения, – все, что у тебя осталось на свете, добавил Хубер. Уиттл прикладывал к Хуберову лбу, высокому и багровому, носовые платки, смоченные бренди, имея в виду немного его утихомирить. Однако Хубер не собирался отступать. Возможно, есть родственники, заметил Уиттл, те или иные. Да ни хрена, засопел Хубер, рассмотрев обстоятельства, теперь, когда денег больше нет, готов поспорить, что и родственников тоже не осталось. Эмоции! воскликнул Уиттл, когда в последний раз они вообще у нас были? На войне, мне сдается, ответил Хубер, когда все эти жлобы перли на Запад. Я тебе заплачу сотню долларов, сказал Уиттл, за чувство. Нет уж, проговорил Блумсбери, я решил, что фиг вам. Похоже, мы достаточно приличны изображать толпу в аэропорту и не давать твоей жене скулить почем зря, но никуда не годимся, чтобы нас допустили к душевной беседе, «капнул желчью» Хубер. Не в приличиях дело, пробормотал Блумсбери, размышляя тем временем над высказанным: Друзья семьи – это все, что у него осталось, – а согласиться с этим было, чувствовал он, крайне сложно. Но, вероятно, так оно и есть. Боже, ну что за человек! завопил Уиттл, а Хубер вставил: Мудак!
Однажды в кинотеатре, припомнил Блумсбери, мистер Вельд-Вторник вдруг повернулся на экране, посмотрел ему прямо в глаза и произнес: Ты хороший человек. Хороший, замечательный, добрый. Блумсбери тут же вскочил и помчался прочь из кино, и наслаждение пело в его сердце. Но тот случай, сколь бы дорог он ему ни был, никоим образом сейчас не помогал. А воспоминание о нем, трижды незабвенное, не удержало друзей семьи от того, чтобы загнать машину под дерево и лупить Блумсбери по лицу, сначала бутылкой из-под бренди, а потом и монтировкой, до тех пор, пока сокровенное чувство наконец не проявило себя в виде соли из его глаз и темной крови из его ушей, а изо рта – в виде самых разных слов.
Большой эфир 1938 года
Приобретя в обмен на старый дом, принадлежавший им, ему и ей, радио, а вернее сказать – радио-станцию, Блумсбери теперь мог крутить «Звездно-полосатый стяг», коим всегда неумеренно восхищался по причине его завершенности, так часто, как ему бывало угодно. «Стяг» означал для него, что завершается все. Следовательно, он крутил его каждоденно, 60 раз между 6 и 10 утра, 120 раз между полуднем и 7 вечера, а также всю ночь напролет, кроме, как иногда бывало, того времени, когда говорил сам.
Радиобеседы Блумсбери подразделялись на два вида, называемых «первый вид» и «второй вид». Первый состоял в вычленении на особую заметку из всех прочих какого-то особого слова в английском языке и повторении его монотонным голосом вплоть до пятнадцати минут, они же – четверть часа. Слово, таким образом вычлененное, могло быть любым, к примеру – слово «темнеменее». «Темнеменее, – произносил Блумсбери в микрофон, – темнеменее, темнеменее, темнеменее, темнеменее, темнеменее, темнеменее, темнеменее». После такого выхода под софиты общественного освидетельствования слово зачастую выявляло в себе новые качества, незаподозренные свойства, хоть в намерения Блумсбери это отнюдь не входило. А намерением его, если возможно приписать ему таковое, было просто-напросто выпустить что-нибудь «в эфир».
Второй вид радиобеседы, предоставляемой Блумсбери, был коммерческим объявлением.
Объявления Блумсбери были, вероятно, не слишком схожи с прочими объявлениями, транслируемыми в тот период другими дикторами радио. Расхожи они были главным образом в том, что адресовались не массе людей, а, разумеется, ей, той, с кем он жил в доме, которого не стало (выменян на радио). Зачастую Блумсбери начинал что-то в таком вот духе:
– Что ж, старушка, – (начинал он), – поехали, я говорю в эту трубку, ты лежишь на спине, вероятнее всего, слушаешь, я в этом не сомневаюсь. Шикарно, что ты на меня настроилась. Я помню тот раз, когда ты пошла гулять босиком, что за вечер! На тебе были, как я припоминаю, твои сизые шелка, шляпа с цветами, и ты пробиралась по бульвару изысканно, что твоя настоящая лэди. На земле валялись каштаны, я полагаю; ты жаловалась, что они у тебя под ногами – будто камни. Я опустился на четвереньки и пополз перед тобой, ладонью сметая каштаны в канаву. Что за вечер! Ты сказала, что я нелеп, и джентльмен, шедший навстречу, – помню, в желтых гетрах с желтыми башмаками, – улыбнулся. Дама, его сопровождавшая, потянулась, дабы потрепать меня по голове, но джентльмен схватил ее за руку и не дал, а колени у меня на брюках порвались о выбоину в мостовой.
После ты угостила меня замороженной малиной, попросила принести блюдечко и поставила его изысканно у своих ног. Я помню до сих пор его прохладу после жаркой работы на бульваре, и как малина пятнала мой намордник. Я сунулся лицом в твою ладонь, и вся твоя маленькая перчатка порозовела и стала липкой, липкой и розовой. Нам было там уютно, в этом кафе-мороженом, мы были хорошенькими, как картинка! Муж и жена!
Когда мы – в тот же вечер – возвратились домой, уличные фонари только зажигались, насекомые только выползали наружу. И ты сказала, что в следующий раз, ежели следующий раз воспоследует, ты наденешь туфли. Даже если тебя это прикончит, сказала ты. А я ответил, что всегда буду готов сметать каштаны, что бы ни случилось, пусть даже не случится ничего. И ты ответила, что вероятнее всего это правильно. Я всегда был готов, сказала ты. Шикарно, что ты это заметила. В то время я думал, что, быть может, никого шикарнее тебя на всем белом свете не бывает, нигде. И я хотел сказать тебе об этом, но не сказал.
А потом, когда стемнело, у нас состоялась наша вечерняя ссора. Весьма обыденная, полагаю. Тема ее, объявленная тобою за завтраком и вывешенная на доску объявлений, была «Малость в человеческом самце». Ты доказывала, что с моей стороны это злонравие, я же оспаривал сие утверждение, доводом приводя недостаток должного питания в юные годы. Я проиграл, что, разумеется, правильно, и ты сказала, что ужина мне сегодня не полагается. Я уже, сказала ты, набил себе брюхо мороженой малиной. Я уже, сказала ты, испортил своим рвением хорошую перчатку, да и весьма приличные брюки. А я сказал: но это же из любви к тебе! – и ты ответила: цыц! или завтрака тоже не получишь. А я сказал: но ведь любовь правит миром! – и ты ответила: да и обеда тебе не видать. А я сказал: но мы когда-то были друг для друга всем! – и ты ответила: и завтрашнего ужина тоже.
Но, может быть, сказал я, хоть ириску? Значит, порть себе зубы сколько влезет, сказала ты и набросала мне ирисок в постель. И вот так мы счастливо уснули. Муж и жена! Разве что-нибудь сравнится, старушенция моя, с прежними днями?
Незамедлительно вслед за сим коммерческим объявлением, или объявлением сродни этому, Блумсбери ставил «Звездно-полосатый стяг» 80 или 100 раз из-за его завершенности.
Допрашивая себя по этому поводу – каково управлять собственным радио, – Блумсбери отвечал себе абсолютную правду: отлично. За этот период он передал в эфир не только некоторые свои любимые слова, как то: ассимилировать, амортизировать, авторизовать, амелиорироватъ, – и какие-то количества своей любимой музыки (в особенности он был пристрастен вот к этой части, ближе к концу, которая звучит так: та-та, та та та та та та та-а), но и серию коммерческих объявлений большой силы, остроты и убедительности. Тем не менее, хоть ему и удалось скрыть это от себя на непродолжительное время, он осязал некоторую тщету. Ибо от нее так ответа и не поступило (нее, кто фигурировал – и субъектом, и объектом – в его коммерческих объявлениях и некогда, прежде чем его обменяли на радио, проживал в доме).
Коммерческое объявление об этом чувстве в тот период было таково:
– В тот замечательный день, день, не похожий на любой другой, в тот день, если ты простишь мне, всех дней, в тот древний день всех древних дней, когда мы были, как говорится, молоды, мы вошли, прошу прощения за экстравагантность, рука об руку в театр, где демонстрировался фильм. Ты помнишь? Мы сидели на верхнем балконе, и дым снизу, где люди курили, поднимался, и мы, прости меня за отступление, вдыхали его. Он пах, и я или мы подумали в то время, что это замечательно, совсем двадцатый век. Кой и был в конце концов нашим веком, никой иной.
Мы сидели там с тобой, ты и я, ибо у нас не было комнат, а вокруг – парков, и не владели мы автомобилями, а пляжей не имелось – ни для любви, ни для чего другого. Ergo[1], если смиришься ты с анахронизмом, нас вытеснило на балкон, в самый верхний ряд, откуда открывался нам скособоченный вид на серебристый экран. Или открывался бы, если бы мы с тобой не занимались лапаньем и толканьем, толканьем и лапаньем. С моей стороны, по крайней мере, если не с твоей.
Я и опомниться не успел, как рукою оказался у тебя под блузкой и обнаружил там нечто очень милое и, как говорится, желанное. Оно принадлежало тебе. Я не знал – в то время, – что с этим делать, а посему просто (просто!) держал это в своей руке, и оно было, как гласит поговорка, мягким и теплым. Если ты можешь этому поверить. Тем временем под нами, в партере, происходили события, но те ли, за которые люди в партере заплатили, или нет, я не знал и не знаю. Не знала и не знаешь и, где бы ты ни была сейчас, ты. Некоторое время спустя, на кое я фактически отвлекся, я по-прежнему держал это в руке, однако смотрел в иную сторону.
И ты тогда произнесла мне в самое ухо, продолжай, чего ж ты?
И я тогда произнес тебе в самое ухо, я смотрю картину.
При такой моей речи тебя сподвигло изъять это из руки моей, и я понял: то было наказанье. Изъяв, ты начала – за неимением лучшего – смотреть картину также. Мы смотрели картину вместе, и хоть в этом тоже имелся некий вид близости, иной вид был утрачен. Тем не менее он там некогда присутствовал, я этим утешал себя. Но я чувствовал, чувствовал, чувствовал (думал я), что ты, как говорится, сердита. И на тот ряд балкона мы, ты и я, не вернулись больше никогда.
После передачи в эфир этого объявления сам Блумсбери ощутил потребность всплакнуть немного, и всплакнул, но не «в эфире».
Фактически он тайно плакал в аппаратной, где хранились микрофон, консоль, проигрыватели и плитка – а «Звездно-полосатый стяг» смело играл себе дальше, – в руке намазанный маслом гренок, и тут в стекле, соединявшем аппаратную с другой комнатой, служившей приемной или фойе, Блумсбери увидел девушку или женщину неопределенного возраста, одетую в длинный ярко-красный льняной пыльник.
Девушка или женщина сняла пыльник, под которым носила черные тореадорские брюки, оранжевый свитер и арлекинские очки. Блумсбери незамедлительно выступил в приемную или фойе, дабы обозреть персону изблизи, он разглядел ее, она разглядела его, через некоторое время состоялся разговор.
– Вы на меня смотрите! – сказала она.
– О да, – ответил он. – Точно. Определенно смотрю.
– Зачем?
– Я просто это делаю, – сказал он. – Таково мое, можно сказать, métier[2].
– Milieu[3], – сказала она.
– Métier, – сказал Блумсбери. – Если не возражаете.
– Не часто на меня смотрят, на самом деле.
– Потому что вы не очень привлекательная, – сказал Блумсбери.
– Послушайте!
– Очки обескураживают, – сказал он.
– Даже арлекинские?
– Особенно арлекинские.
– Ой, – сказала она.
– Но у вас роскошная корма, – сказал он.
– И живое чувство юмора, – сказала она.
– Живое, – сказал он. – Что это в вас вселилось и заставило употребить именно это слово?
– Мне показалось, вам понравится, – сказала она.
– Нет, – ответил он. – Решительно нет.
– Вы полагаете, вам следует стоять и разглядывать девушек? – спросила она.
– О да, – ответил Блумсбери. – Я полагаю, это номинально.
– Номинально, – вскричала она. – Что вы имеете в виду – номинально?
– Расскажите мне о начале своей жизни, – попросил Блумсбери.
– Для начала я была президентом клуба поклонников Конрада Вейдта, – начала она. – Это было в, о, я даже не помню год. Мною овладели магнетизм и сила его личности. Меня чаровали голос его и жесты. Я ненавидела его, боялась его, любила его. Когда он умер, мне показалось, что жизненно важная часть моего воображения умерла вместе с ним.
– Я не имел в виду, что необходимы такие подробности, – сказал он.
– Мой мир грез опустел!
– Грезы фан-клубов невзрачны без вариантов, – сказал Блумсбери.
– Незамысловаты, – высказалась она. – Я предпочитаю слово «незамысловатый». Хотите посмотреть портрет Конрада Вейдта?
– Меня бы это весьма заинтересовало, – сказал Блумсбери (хоть правдой это и не было).
Девушка или женщина засим извлекла из своей сумочки, где, очевидно, хранила ее уже некоторое время, возможно, даже годы, журнальную страницу. Та несла на себе фотографию Конрада Вейдта, который в одно и то же одновременное мгновенье выглядел симпатичным и зловещим. Более того, на фотоснимке имелась печатная надпись, гласившая: Если КОНРАД ВЕЙДТ предложит вам сигарету, это будет ДЕ РЕЗКЕ – конечно же!
– Очень трогательно, – сказал Блумсбери.
– В действительности я никогда не встречалась с мистером Вейдтом, – сказала девушка (или женщина). – У нас был не такого сорта клуб. То есть мы не вступали в реальный контакт со звездой. Был фан-клуб Джоан Кроуфорд, так вот те люди, они были в реальном контакте. Когда им хотелось памятки…
– Памятки?
– «Клинекса», которым звезда пользовалась, например, с губной помадой, или обрезков ногтей, или какой-нибудь чулок, или волос из хвоста или гривы лошади звезды…
– Хвоста или гривы?
– Звезда, естественно, noblesse oblige[4], пересылала им искомый предмет.
– Понимаю, – сказал Блумсбери.
– Вы смотрите на многих девушек?
– Не на очень многих, – сказал он, – но на довольно много.
– Это весело?
– Не весело, – сказал он, – однако лучше, чем ничего.
– У вас бывают романы?
– Не романы, – сказал он, – но иногда легкий трепет.
– Что ж, – сказала она, – у меня тоже есть чувства.
– Мне кажется, это весьма возможно, – сказал он. – У такой большой взрослой девушки, как вы.
Замечание это, однако, ее, похоже, оскорбило, она развернулась и покинула комнату. Самого Блумсбери встреча сия тронула, будучи, фактически, первым контактом, коим он насладился, с человеческим существом любой разновидности с начала периода его владения радио, и даже до. Он немедля возвратился в аппаратную и выступил с новым коммерческим объявлением.
– Я помню, – (объявил он), – ссору из-за кубиков льда, вот это была красота! Ее стоит… припомнить. Нa доску объявлений ты поместила тему «Охлаждение», и я беспокоился из-за нее весь день и недоумевал. Хитрая лиса! Я в подробностях вспоминал, как жаловался некогда, что кубики льда не заморожены. А в действительности – разморожены! водянисты! бесполезны! Я говорил, что не хватает кубиков льда, в то время как ты утверждала, что их больше чем достаточно.
Ты назвала меня дураком, идиотом, имбецилом, тупицей! сказала, что машина у тебя на кухне, которую ты приобрела и вынудила разместить там, без всякого сомнения и с непогрешимым авторитетом – самая совершенная машина в своем роде, известная тем, кто понимает в машинах ее рода, что среди ее свойств имеется свойство зачинать, вынашивать и в момент необходимости рожать прекрасное количество кубиков льда, так что сколь ни сурова бывает потребность, сколь ни огромны масштабы события, сколь ни индифферентен или даже враждебен климат, сколь ни неуклюж или даже подл оператор, сколь ни короток или даже вовсе несуществующ зазор между генезисом и родами, между желанием и фактом, кубики льда в достаточных множествах явятся нам. Ну, сказал я, возможно.
О! как потрясло тебя это слово – возможно. Как ты кипела, старушка, о, как выражалась. Грудь твоя вздымалась, если мне позволено так выразиться, а глаза твои (твои глаза!) сверкали. Ты сказала, что мы будем, ей-кляту, считать эти клятые кубики льда. Чем мы – впоследствии – и занялись.
Как наслаждался я, хоть и скрывал это от тебя, нашим счетом! Ты была, как говорится, властна. В каждом из четырех лотков имелось, как я наблюдал, двенадцать рядов по три, или три ряда по двенадцать. Но такой род счета – не твой род счета. Ты предпочла, и я восхитился твоим предпочтением, эксплицитность и имплицитность счета – окатить лотки водой, чтобы кубики, освободившись, выпали в салатницу – по предварительному перевертыванию лотков, а стало быть, и кубиков, кверху дном, – дабы последние выпадали, пока вода струится по первым, в нужном направлении.
То, что процедура сия оказалась настолько похвально аранжирована, я счел, и считаю даже сейчас, демонстрацией твоей фундаментальной порядочности и здравого смысла.
Но в подсчетах ты просчиталась, когда дело дошло до оных. Ты никогда не была сильна в счете. Ты подсчитала, что в салатнице сто сорок четыре кубика, беря каждый кубик в отдельности из салатницы и помещая их по той же отдельности в раковину, тем временем имея в виду общее количество, могущее быть исчислено простейшим умножением ячеек в лотках. Таким образом задействуя – как в этом деле, так и в иных – оба способа! Вместе с тем, тебе не удалось на сей раз, как и на другие разы, рассмотреть непредсказуемое, в данном случае – тот факт, что я, избегнув твоего наблюдения, положил три кубика себе в выпивку! Кою затем и выпил! И кубики эти не попали в салатницу вовсе, а попали прямо в раковину! И растаяли там раз и навсегда! Оные события прискорбным манером препятствовали сложению количества кубиков в салатнице до достижения числа, соответствующего числу ячеек в лотках, также доказывая, что справедливости не бывает!
Какой провал для тебя! Какой триумф для меня! Моя первая победа, боюсь, я даже несколько повредился в рассудке. Я стащил тебя на пол, и там, средь кубиков льда, кои ты разметала по нему в обиде и досаде, подверг тебя насилию с результатами, которые считал тогда – да и посейчас считаю – «первосортными». Мне показалось, в тебе заметил я…
Но он не смог продолжить данное объявление от избытка чувств.
Девушка или женщина, ставшая чем-то вроде верной маркитантки радио, завела себе в этот период правило спать в бывшей приемной под пианино, кое, будучи роялем, предоставляло изобильное укрытие. Желая пообщаться с Блумсбери, она постукивала в стекло, разделявшее их, одним пальцем, а в иные разы производила – руками – телодвижения.
Типичный разговор того периода, когда девушка (или женщина) спала в фойе, был таков:
– Расскажи мне о начале своей жизни, – говорила она.
– Я был, в каком-то смысле, типичным американским пареньком, – отвечал Блумсбери.
– В каком смысле?
– В том смысле, что я женился, – говорил он.
– По любви?
– По любви. Но временно.
– Она не длилась вечно?
– Меньше десятилетия. Вообще-то.
– Но пока она длилась…
– Она меня наполняла мрачной и парадоксальной радостью.
– Ку! – говорила она. – По мне, так это не очень по-американски.
– Ку, – говорил он. – Что это за выражение такое?
– Я услышала его в кино, – отвечала она. – У Конрада Вейдта.
– Так вот, – говорил он, – оно отвлекает. Беседа эта ощущалась Блумсбери как не очень удовлетворительная, однако он выжидал, ибо не имелось у него, если угодно знать, никакой альтернативы. Внимание его заняло слово матрикулировать, он произносил его в микрофон, как показалось ему же, гораздо более долгий период, нежели нормально, иными словами – гораздо больше четверти часа. Интересно, думал он, считать это значимым или не считать.
Факт тот, что Блумсбери, полагавший себя бесстрастным (а отсюда слова, музыка, медленное коловращение у него в мозгу событий в жизни его и ее), начал испытывать в то время беспокойство. Это можно было, вероятно, приписать воздействию на него его же радиобесед, а также, вероятно, присутствию «маркитантки» или слушательницы в приемной. Или, возможно, дело было в чем-то совершенно ином. Как бы то ни было, беспокойство это отражалось – вне всякого сомнения – в объявлениях, делаемых им в те дни, что неизбежно последовали.
Одно было таким:
– Подробности нашего домоводства, твоего и моего. Махры под кроватью, плесень в углах. Я бы – если б мог – вздохнул, вспоминая об этом. Ты высадила опунцию в пол гостиной, и когда пришли гости… О, ты была еще та! Ты занавешивала себя от меня, у тебя имелись части, кои я мог иметь, и части, коих не мог. И правила менялись, я помню, в самой середине игры, я никогда не мог быть уверен, какие части разрешены, а какие нет. Бывали дни, когда мне не доставалось ничего. Поразительно, стало быть, что ни разу не завелась другая. Ну, может, лишь несколько? Которые не считаются?
Никогда, не сомневаюсь, ничего подобного не бывало. Кровать, ложе твоей матери, привнесенная в наш союз вместе с твоей матерью – та лежала между нами, как клинок. Мне хватило дерзости спросить, что ты себе думаешь. То был один из дивных дней непроницаемого молчания. Ну, сказал я, а дитя? В жопу дитя, ответила ты, мне его и не надо было. Чего же тебе надобно было? – спросил я, и дитя восплакало, ибо худшие предчувствия его подтвердились. Фи, сказала ты, ты все равно мне этого не предоставишь. Может быть, ответил я. Мало-блин-вероятно, сказала ты. И где оно (дитя) сейчас? Сгинуло, не сомневаюсь, прочь. Ты еще со мной, кусточек? Ты настроилась?
Пришел мужчина, в шляпе. В шляпе было перышко, а помимо шляпы и перышка имелся ранец. Джек, это мой муж, сказала ты. И повела его в спальню, и повернула ключ в замке. Чем вы там занимаетесь? – спросил я, дверь заперта, вы с ним вместе внутри, я в одиночестве снаружи. Уходи и занимайся своими глупыми делами, сказала ты из-за двери. Да, сказал Джек (из-за двери), уходи и не тревожь понапрасну людей, которым есть чем заняться. Бесчувственный скот! – сказала ты, и Джек сказал: грязный хам! Вот люди, сказала ты, и Джек сказал: какая наглость. Я сторожил под дверью до ночи, но не слышал больше слов, только звуки причудливого происхождения, как то: хрюки, стоны и вздохи. Едва заслышав их (через дверь, коя была, как и уже сказал, заперта), я немедленно кинулся на чердак за экземпляром «Идеального брака» Т.Г. ван де Вельде, доктора медицины, в целях определения, не описывается ли в оном подобная ситуация. Но она не описывалась. Я, следовательно, оставил книгу и вернулся на свой пост за дверью, остававшейся (да и почему бы ей не оставаться?) закрытой.
Наконец дверь отворилась, изнутри показалась твоя мать с видом, как говорится, «выставленной». Но она всегда принимала твою сторону в противопоставление моей, а потому сказала только, что я – обычный фискал. Но, ответил я, как быть с теми, кто вот даже сейчас сидят в постели? смеются и перешучиваются? Даже не пытайся учить бабушку твою жевать уголь, был ответ. По оному я низвергся, если ты мне поверишь, в меланхолию. Неужели не можем мы, кожа к коже, ты и я, карабкаться и льнуть друг к другу все оставшиеся нам дни? Коих осталось, в конце концов, не так уж много? Без всякого вмешательства таких, как этот Джек? И, вне всякого сомнения, иных, что еще будут?
Завершив сие объявление и поместив «Звездно-полосатый стяг» на диск проигрывателя, а чашку супа – на плитку, Блумсбери отметил, что девушка в приемной производит руками движения, бременем коих являлось то, что она желала с ним побеседовать.
– А после мистера Вейдта моя любимая звезда – Кармен Ламброза, – сказала она. – Больше того, мне говорили, что в некоторых аспектах я на нее похожа.
– В каких? – с интересом спросил Блумсбери. – В каких аспектах?
– О Кармен Ламброзе говорили, что, проживи она лишь чуточку дольше и не умри от алкоголизма, стала бы самой кассовой кинозвездой в Британском Камеруне. Где таких, как она и я, ценят.
– Самой кассовой кинозвездой за какой год?
– Год не важен, – сказала она. – Важна оценка.
– Я бы сказал, что ты к ней благосклонна, – заметил Блумсбери, – обладай я каким-то знанием о ее причудах.
– Я произвожу на тебя впечатление?
– Каким образом?
– Как возможный партнер? В сексуальном смысле, то есть?
– Этого я не рассматривал, – ответил он, – до сих пор.
– Говорят, я сексуальна, – отметила она.
– Не сомневаюсь в этом, – сказал он. – То есть выглядит правдоподобно.
– Я твоя, – сказала она, – если ты меня хочешь.
– Да, – сказал он, – вот в чем вся сложность – захотеть.
– Ты должен только, – сказала она, – изобразить легчайший жест уступки – как, например, кивок, слово, кашель, крик, пинок, изгиб, хмычок, оскал.
– Вероятно, мне это не понравится, – сказал он, – сейчас.
– Мне снять одежду? – спросила она, проделывая соответствующие намерению телодвижения.
Одним-единственным шагом, как, он часто видел это практикуют в кино, Блумсбери оказался «подле нее».
– Марта, – сказал он, – старушка моя, ну почему ты никак не можешь похоронить прошлое? Тогда то были дни гнева, страсти и достоинства, но теперь, в свете нынешних стандартов, практик и отношений, с теми днями покончено.
При этих его словах она разрыдалась.
– Сначала ты вроде был заинтересован, – промолвила она (сквозь слезы).
– Ты очень добра, что попробовала, – сказал он. – Заботлива. Вообще-то и крайне привлекательна. Даже соблазнительна. Меня иногда это обманывало по несколько мгновений подряд. Ты хорошо выглядишь в штанишках борца с быками.
– Спасибо, – ответила она. – Ты сказал, что у меня роскошная корма. Хоть это сказал.
– Так и есть.
– Ты не можешь забыть, – спросила она, – о Дадли?
– Дадли?
– Дадли, который был моим возможным любовником, – уточнила она.
– До или после Джека?
– Дадли, который на самом деле сломал наш ménage[5], – сказала она, в ожидании уставясь на него.
– Ну да, – ответил он, – наверное.
– Расскажи мне о радости еще.
– Радость была, – сказал Блумсбери. – Не могу этого отрицать.
– Действительно такая, как ты сказал? Мрачная и парадоксальная?
– Все это было, – галантно ответил он, – тогда.
– Тогда! – произнесла она.
Повис момент молчания, в который оба они вдумчиво слушали «Звездно-полосатый стяг», тихо игравший в соседней комнате у них за спиной.
– Стало быть, у нас, как говорится, всё? – спросила она. – И никакой надежды?
– Никакой, – ответил он. – Из мне известных.
– Ты нашел того, кто больше тебе нравится?
– Дело не в этом, – сказал он. – Это здесь ни при чем.
– Херня, – сказала она. – Знаю я тебя и все твое похабство.
– До свидания, – ответил Блумсбери и вернулся в аппаратную, заперев за собой дверь.
После чего возобновил вещание, быть может, с трепетом, но не ослабив решимости не хлестать, как гласит народная мудрость, дохлую кобылу. Однако электрическая компания, которой не платили с самого начала до самого конца, наконец закончила предоставлять дальнейший электроток для радио, следствием чего вещание – как слов, так и музыки – прекратилось. Так завершился тот период Блумсбериевой, как говорится, жизни.
Бал Венской оперы
Я не желаю видеть элегантные щипцы! заявил Тупелл. Пусть инструмент выглядит таким, каков он есть, внушительным оружием! Arte, поп vi (искусство, не сила) можно выгравировать на одной половинке; a Care periпео (заботься о промежности) на другой. Спутник его ответил: Испытание врачебной прогностической сметки в том и состоит, чтобы определить, когда пора заканчивать с медикаментозными и диетическими мерами и выскребать матку, чрезмерные колебания же здесь подлежат порицанию, хоть и благородны… Я вовсе не имею в виду, что нам следует проводить терапевтический аборт с легким сердцем. Напротив, я всегда медлю с принятием подобного решения и всегда прибегаю к нему лишь по должным консультациям. Если же, напротив, медведь задирает человека, орочи незамедлительно организуют охоту, излавливают медведя, убивают его, съедают сердце, а остальное мясо выбрасывают; шкуру же они оставляют, коя вместе с головой зверя служит саваном для убиенного. У вогулов к мести взывают ближайшего из родственников. Гольды имеют тот же обычай применительно к тигру; его убивают и хоронят с такой вот краткой речью: Теперь мы квиты, раз ты убил одного из наших, мы убили одного из твоих. Теперь давай жить в мире. Не трожь нас больше, или мы тебя убьем. Карола Митт, волосы каштановые, глаза карие, всего девятнадцать, родилась в Берлине (настоящее имя: Миттенштейн), покинула Германию пять лет назад. В старшем классе женской школы при католическом монастыре Святого Сердца в Гринвиче, Коннектикут, Карола отправилась на Бал Венской оперы в «Уолдорф-Асторию», где ее приметила редактор журнала «Гламур».
Я о том, продолжал доктор, что нам следует тщательно осматривать каждую пациентку и выскребать матку, пока не начался ретинит; пока желтуха не показала нам, что имеются явные повреждения печени; пока у пациентки не начался полиневрит; пока она не заболела токсическим миокардитом; пока не дегенерировал мозг et al[6]. – и это может быть сделано. На Балу Венской оперы играл Майер Дэвис. Офортисты, сказал человек, доставляют Светские Заказы в аккуратных стильных шкатулках. Они вынуждены перекладывать свою работу папиросной бумагой, чего типографы высокой печати в своих расходах могут при соблюдении осторожности избежать. В продаже имеются шкатулки для карточек и прочих всевозможных Светских Заказов, оклеенные мелованной бумагой и предназначенные для соответствующих форматов. Сколь ни превосходна была бы ваша работа и ее качество, женщины, обладающие необходимыми практическими навыками, не будут удовлетворены, если упаковки не столь аккуратны, как те, что рассылают офортисты. Дьявол не так коварен, как убеждена чернь, да и не албанец он вовсе. (Карола Митт вскоре оставила свои планы стать художницей, зарабатывала по $60 в час под софитами и появлялась на обложках «Bora», «Харперс Базара», «Мадемуазели» и «Гламура», делила квартиру в Гринвич-Виллидж еще с одной девушкой, страстно желала выйти замуж и поселиться в Калифорнии. Но все это было позже.)
Редактор «Гламура» сказала: Возьмите Долорес Веттах. Долорес Веттах сочна, лоренианска и вдвойне иностранна (ее отец из Швейцарии, а мать из Швеции); в возрасте пяти лет она переехала из Швейцарии во Флашинг, Нью-Йорк, где ее отец устроил норковую ферму. Теперь ей около двадцати четырех («здесь учишься не соблюдать точность»), и Долорес уже избрали Мисс Вермонт в 1956 году на Конкурсе «Мисс Вселенная», а в 1957-м она закончила университет Вермонтa со степенью бакалавра по медсестринскому делу. Теперь зарабатывает $60 в час. Когда Долорес Веттах работала медсестрой в Манхэттенском Врачебном госпитале, один востроглазый фотограф разглядел что-то под се плотным халатом и попросил ему позировать. Предсмертные замечания: у Оливера Голдсмита, 1728–1774, британского поэта, спросили: Ваш разум спокоен? Он ответил: Нет, не спокоен, – и умер. Гегель: Только один человек понимал меня. И он меня не понял. Харт Крейн, 1899–1932, поэт, прыгая в море: Прощайте все! Толпы людей собрались на Бал Венской оперы. В полдень, сказал первый врач, 31 января 1941 года при ходьбе пациентка испытала внезапный приступ сильной боли в брюшной области и обильное вагинальное кровотечение. В больницу доставлена в час пополудни в состоянии обескровливания. Живот и матка твердые, чувствительные. Кровяное давление 110/60. Пульс 110 – нитевидный. Сердце зародыша не прослушивается. Пациентке сразу же сделано внутривенное переливание крови. Оболочка прорвана искусственно, применена испанская лебедка. Роды проистекали быстро. В шесть пополудни с применением нижних щипцов извлечен пятифунтовый мертворожденный младенец. После принятия родов кровотечение не останавливалось, несмотря на питуитрин подкожно, эрготрат внутривенно и наложение плотных маточных прокладок. Переливание крови не прекращалось. В девять вечера произведено чревосечение, и матка с трубами и яичниками извлечена надцервикальной гистерэктомией. Близкое прилегание труб и яичников ко дну повлекло за собой их удаление. Пациентка выдержала хирургию хорошо. Введено общим количеством 2000 куб. см цельной крови и 1500 куб. см плазмы. Выздоровление протекало удовлетворительно, и пациентка выписана на четырнадцатый день после операции. Среди гостей бала циркулировали официанты с напитками.
С Изабеллой Альбонико Карола Митт встретилась на Балу Венской оперы. Изабелла Альбонико, итальянка по темпераменту, как и по рождению (случившемуся двадцать четыре года назад во Флоренции), началa модельную карьеру в Европе, когда ей было всего пятнадцать, четыре года назад прибыла в Нью-Йорк. Каштановые волосы, карие глаза, она побывала на обложках «Вога», «Харперс Базара» и «Лайфа», зарабатывает $60 в час и заработала, по ее собственным словам, «репутацию аллергички на помыкание под софитами. Меня не трогает никто». Я совершенно разделяю это мнение, сказал человек, стоявший поблизости, и мог бы лишь добавить, что супруга способна на многое, дабы предотвратить фатальную матримониальную ennui[7] своими независимыми увлечениями, кои она убеждает супруга разделить. Например, интересная книга или путешествие, лекция или концерт, пережитые с удовольствием и описанные ею с симпатией и юмором, часто могут служить талисманом, отвлекающим его разум от работы и забот, а также всяческого раздражения, ими возбуждаемого. Но, разумеется, супруг, со своей стороны, должен быть способен оценить ее оценку и желание донести оную до него. Стимулы пенильных нервов могут различаться в степени интенсивности и оттенках качества; имеются и соответствующие различия в ощущениях удовольствия, вызываемых ими. Важную роль в определении подобных ощущений играет то, локализуются ли такие стимулы преимущественно в уздечке крайней плоти или же в заднем обводе головки. Искусство, а не грубая сила должны превалировать. (Зафиксирован доподлинный случай, когда ассистент собрался с силой и дернул так резко, что, когда щипцы соскользнули, он выпал из открытого окна на улицу и перенес разлом черепа, роды же у пациентки остались непринятыми.) Дерево Джамбо, 254 фута высотой, названо так из-за неправильной формы наростов у основания ствола, напоминающих головы слона, мартышки и бизона. Изабелла сообщила Кароле, что ей «больше всего хотелось бы стать кинозвездой», она только что вернулась из Голливуда, где сыграла небольшую роль («но вместе с Кэри Грантом») в «Этом касании норки» и роль покрупнее в полностью итальянском фильме «Смог». Помимо итальянского и английского, Изабелла говорит по-французски и по-испански, терпеть не может крупные скопления людей. Какого рода скопления? спросила Карола. Вот какого, ответила Изабелла, обводя рукой Бал Венской оперы.
«Смог» – интересное название, сказала Карола. На пустынных просторах Исламабада, новой столицы, которую Пакистан планирует возвести в прохладных предгорьях Гималаев, первым из всех зданий должен вознестись кластер воздушных структур, разработанных прославленным американским архитектором Эдвардом Стоуном. Разместившись в уединенном водяном саду, самое большое из строений Стоуна станет домом первому в Пакистане ядерному реактору – плоду одной из значительнейших сделок нью-йоркской фирмы Америкэн Машин энд Фаундри K°. Пятнадцать лет назад компания АМФ выпускала лишь горстку продукции (сигаретные, пекарные и швейные машины), и ежегодный объем продаж ее составлял всего около $12 000 000. Сегодня, с 42 заводами и 19 исследовательскими центрами, разбросанными по 17 странам мира, АМФ выпускает изделия в диапазоне от игрушечных аэропланов с дистанционным управлением до стартовых комплексов межконтинентальных баллистических ракет. Благодаря неуклонному стремлению компании к диверсификации производства и росту выпуска продукции объем продаж в 1960 году достиг $361 миллиона, а прибыль – $24 миллионов. И в мрачные первые месяцы 1961 года объем продаж и прибыли компании достигли нового первоквартального пика. Расширение АМФ – дело рук расслабленного человека с неторопливой речью, председателя совета директоров 64-летнего Морхеда Паттерсона, который принял руководство компанией в 1943 году из рук своего отца Руфуса Л. Паттерсона, изобретателя первой автоматической табачной машины. После Второй мировой войны Морхед Паттерсон решил, что компания должна вырасти или погибнуть. В поисках новой продукции он разработал грубый прототип автомата для постановки кеглей. Чтобы собрать средства, необходимые для внедрения этого сложного устройства, Паттерсон пустил часть акционерного капитала АМФ на приобретение восьми мелких компаний с быстрореализуемой продукцией. «Пинспоттер», усовершенствованный и выброшенный на рынок в 1951 году, помог боулингу стать самым популярным в США состязательным видом спорта. Несмотря на острую конкуренцию со стороны корпорации «Брансвик», АМФ остается крупнейшим в мире производителем автоматов для установки кеглей. В лизинге в настоящий момент находится уже 68 000 машин только в США (со средним годовым валовым балансом $68 миллионов), а на прошлой неделе АМФ подписала трехмиллионный контракт на поставку машин для сети боулинг-центров на Востоке. Ожидает ли компанию в будущем еще один «Пинспоттер»? Председатель Паттерсон осторожно признается в надежде на то, что интенсивные исследования фирмы в области очистки жесткой и загрязненной воды могут подарить им еще один производственный прорыв. «Компании, как и люди, болеют артериосклерозом, – говорит Паттерсон. – Моя работа – следить, чтобы АМФ оставалась здоровой». Морхед Паттерсон не присутствовал на Балу Венской оперы.
Карола Митт сказала: Среди всего прочего «I» – «я» – означает «эго»; также это символ – в астрономии наклона орбиты к эклиптике; в химии йода; в физике плотности потока, интенсивности намагничивания или момента инерции; в логике конкретного утвердительного суждения. Лестер Ланнин также играл на Балу Венской оперы. Чепуха! сказал крупный человек с Двойным орлом Св. Пюса, как насчет саамов, сабель, саботажа, саванн, санации, Санта-Клауса, сангвиников, сандалий, саней, сеансов, севера, секретарш, сект, секир, Семи Чудес Света, серафимов, серебра, серы, сербов, сервантов, серости, серятины, сирен, сирени, сиропов, сирот, систем, ситчика, ситуаций, сказок, скелетов, скидок, скобок, сколиоза, словарей, слухов, слюды, смога, снабжения, социализма, сочельника, сочинений, сочленений, спагетти, спектаклей, спирта, спорта, спусков, сред, стали, стерв, стереоскопии, стилистики, студентов, стука художественного, стульев, субмарин, суицида, суфле, суфражисток, суси, суши, сухарей, сыворотки и сыфилиса! Маккормак этим превыше прочего похваляется, услышала Карола из-за своего восхитительно-белого плеча, мол, ни разу не пропустил ужина со своей супругой за сорок один год семейной жизни. Она вспомнила Тукитука на параде в честь Дня эвакуации и знаменитую фразу Бодлера. Смертность – последний оценщик методов. Следует добиваться главного – сфинктер должен остаться неповрежденным. Чем больше преждевременность, тем обильнее должна быть эпизиотомия. Да, сказал Леон Джарофф, шеф корпункта журнала «Тайм» в Детройте, в начальной школе Томаса в теплые весенние деньки я мог заглядывать из окна своего класса прямо в открытые ворота завода «Паккард». Идеальные приемные родители – люди зрелые, не обязательно зажиточные, но они живут в прочном браке, любят и понимают детей. Девятый день девятого месяца – праздник хризантем (кики-но-секку), когда пьют сакэ, приготовленное из хризантем. Юный придворный Кикудзидо ненароком коснулся ногой подушки императора, и его сослали на далекий остров, где, рассказывают, он питался росой хризантем, произраставших там в изобилии. Став отшельником, он прожил тысячу лет. Известно, что мужья иногда смотрят на своих жен новыми глазами, подумала Лора Ла-Плант. В плоскости каждой конкретной работы – воспринимаемой отдельно от серии – он представляет оную сходным набором поочередных переживаний, содержащихся каждая в своей ячейке, и читает в определенном порядке: снизу вверх, сверху вниз или поперек. Вдали, в рейнджерском лагере Барлоу, на самой заре Барт наконец уснул и снов не видел. Peridermium coloradense на ели (Picea) давно считается конспецифичным Melampsorella caryophyllacearum Schroet., которая чередуется между пихтой (Abies) и Caryophyllaceae. Доказательства того, что эти виды ржавчины идентичны, преимущественно выводятся из результатов прививок Байта и Хьюберта (1, 2), но окончательного подтверждения им так до сих пор и не найдено. Возьмем Доротею Макгован, сказала редактор «Гламура». Доротея Макгован – исключение нового помета: говорит только по-английски, а родилась в Бруклине. До-модельная жизнь увела ее из дома лишь на остров Стейтен, где она закончила первый курс колледжа Богородицы, после чего устроилась на лето манекенщицей – демонстрировать домашние халатики за $2,98. Несколько месяцев спустя ее первую фотопробу на обложку напечатали в «Воге»; в этом году она установила своеобразный рекорд, появившись на четырех обложках «Вога» подряд (никто, кроме ее матери или агента не смог бы определить, что это одна и та же девушка). Двадцатилетняя Доротея («Мой средний инициал – Е, а просто Дороти звучит так заурядно») зарабатывает $60 в час, имеет собственную квартиру в Нью-Йорке, дважды в неделю изучает французский в Манхэттенском французском институте («чтобы, когда моя мечта жить в Париже сбудется, я была готова»). Доротею отправили – оплатив все расходы – сниматься на фоне великих архитектурных памятников Европы, посреди ближневосточных базаров и под карибскими пальмами. Она совершенно ослеплена возможностью путешествовать за деньги. Мне никогда не приходилось видеть столько осенних цветов, сколько растет в лесах и на овечьих пастбищах Мэриленда. Но признаюсь – едва ли мне известно хоть одно их название. Пусть все приезжают в Америку, лишь изучив сперва ботанику.
Каролу будоражили всякие интересные разговоры на Балу Венской оперы. Фонд предпринимает всестороннее аналитическое исследование экономического и социального положения художника и его общественных институтов в США. Отчасти оно послужит основой для будущего принятия политических решений и программной деятельности. Предполагаемое исследование будет иметь значение и за пределами Фонда. Климат в искусстве сегодня, как показывает дискуссия специалистов, сложен и многообразен. Набей мне кассу «титульной затененной». Набей мне кассу «бостоном бретоном экстра-узким». Набей мне кассу «разборчивым плотным». (Г) Брасол, 261–285; Бак, 212–221; Карр, «Д», 281–301; Коллинз, 76–82; Кёрл, 176–224; А.Г. Достоевский, «Д в изображении его жены», 268–269; Ф. Достоевский, «Письмена и воспоминания», 241–242, 247, 251–252; Ф. Достоевский, «Новые буквы Д», 79-102; Фрейд, passim[8]; Гибян, «Неприменимость Д-русского фольклора», passim; Гессе – см.; Громадка, 45–50; Иванов, 142–166 и passim; Кинг, 22–29; Лаврин, «Д и Его Творение», 114–142; Лаврин, «D: этюд ля мажор», 119–146; Лаврин, «Д и Толстой», 189–195; Ллойд, 275–290; Маккьюн, passim; Макевич, 183–191; Матлоу, 221–225; Моэм, 203–208; Маурина, 147–153, 198–203, 205–210, 218–221; Майер-Графе, 288–377; Мучник, «Введение…», 165–172; Мюллер, 193–200; Мюрри, 203–259; Пассаж, 162–174; Роу, 20–25, 41–51, 68–91, 100–110; Рубичек, 237–244, 252–260, 266–271; Сакс, 241–246; Скотт, 204–209; Симмонс, 263–279 и passim; Слоним, «Эпос…», 289–293 и passim; Соловьев, 195–202; Стракош, passim; Труайя, 395–416; Тыммс, 99-103; Уорнер, 80-101; Колин Уилсон, 178–201; Ярмолинский, «Д, его жизнь в искусстве», 355–361 и passim; Зандер, 15–30, 63–95, 119–137. Карола сказала: Какой изумительный бал! Ширина черной полосы варьируется в зависимости от отношений. Для карточки вдовы полоса – примерно в одну треть дюйма (№ 5) в первый год вдовства, по истечении которого каждые последующие полгода сужается приблизительно на одну шестнадцатую дюйма. На карточке вдовца самое широкое – одна четвертая дюйма (№ 3), от раза к разу постепенно сужается. Для прочих родственников полоса может варьироваться от толщины № 3 до т. н. «итальянской». Полоса № 5 в настоящее время считается чрезмерной, но среди романских наций она полагается умеренной и в случае предпочтения совершенно корректна. Для приведения соглашения в силу и обеспечения достижения его целей учреждается Комитет по торговой политике и выплатам с представительством всех стран-участниц. Законная форма, рассматриваемая в соглашении, представляет собой зону свободной торговли, постепенно трансформируемую в таможенный союз. Как сказал Эмиль Майерсон, «L'homme fait de la métaphysique comme il respire, sans le vouloir et surtout sans s'en douter la plupart du temps»[9]. Ни одна женщина не стоит больше 24 голов скота, сказал отец члена Британской академии Памелы Одель. Этим альбомом подтверждается положение Эбби Линкольн как одной из величайших джазовых певиц современности, сказала Лора Ла-Плант. Широко применяется для двигателей, электромеханических инструментов, в освещении, телевидении и т. д. Выходная мощность генератора: 3500 Вт, 115/230 В, емкость 60, переменный ток, длительный срок эксплуатации. Конденсаторный асинхронный электродвигатель макс. 230 В при стартовой загрузке – 1/2 л. с; при стартовой разгрузке – 2 л.с. Блок управления, кронштейны, пусковой переключатель, дуплексная колодка штепсельного разъема на 115 В для стандартных или 3-проводниковых штепселей заземления, сдвоенная колодка штепсельного разъема заземления на 230 В и барашковые аккумуляторные терминалы. Изобретено более шестисот разновидностей щипцов. Давайте не будем о льве, сказала она. Уилсон перевел на нее взгляд, не улыбнувшись, и потому она теперь улыбнулась ему. В этом процессе используется утопленная головка дуговой сварки Линкольна, автоматически проходящая как по внутреннему, так и по внешнему швам. Темп улучшений на первой стадии определит необходимую дальнейшую программу на второй. Редактор «Гламура», которую звали Тутти Биль, «напрыгнула». Как звать тебя, девочка? невозмутимо спросила она. Карола Митт, ответила Карола Митт. Бал Венской оперы продолжался.
Я и мисс Мандибула
13 сентября
Мисс Мандибула хочет заняться со мной любовью, но колеблется, поскольку формально я еще ребенок; мне, согласно метрикам, согласно школьному дневнику на ее учительском столе, согласно картотеке в кабинете директора, всего одиннадцать лет. Тут у нас недоразумение, которое пока не вполне удается развеять. На самом деле мне тридцать пять, я отслужил в Армии, рост – шесть футов с дюймом, во всех нужных местах у меня растут волосы, голос – баритон, и я прекрасно знаю, что мне делать с мисс Мандибулой, если она когда-нибудь решится.
А пока мы изучаем простые дроби. Я мог бы, разумеется, ответить на все вопросы или хотя бы на большинство (есть и такое, чего я просто не помню). Но я предпочитаю сидеть за этой узкой партой, едва помещаясь в нее ляжками, и обозревать жизнь вокруг. В классе – тридцать два ученика, уроки каждое утро начинаются с присяги флагу на верность. Моя собственная верность в данный момент делится между мисс Мандибулой и Сью-Энн Браунли, которая целый день сидит от меня через проход и, как и мисс Мандибула, одурела от любви. Из этой парочки сегодня я предпочитаю Сью-Энн, хотя в диапазоне от одиннадцати до одиннадцати с половиной (она отказывается называть точный возраст) она – совершенно явная женщина, со скрытой женской агрессией и причудливыми женскими противоречиями. Странно то, что ни ей, ни прочим детям мое присутствие в классе неуместным не кажется.
15 сентября
К счастью, наш учебник географии, содержащий карты всех основных массивов суши на планете, достаточно объемен, чтобы скрыть мой нелегальный дневник, который я веду в обычной черной тетрадке. Каждый день я вынужден дожидаться географии, чтобы записать мысли касательно моего положения и моих одноклассников, которые утром могут прийти мне в голову. Я пробовал писать на других уроках, но тщетно. То учитель по проходам разгуливает (на этом уроке, к счастью, она не отлипает от стойки с картами у доски), то Бобби Вандербильт, который сидит позади, лупит меня кулаком по почкам и спрашивает, что это я такое делаю. Вандербильт, как я выяснил из неких бессвязных разговоров на школьном дворе, залипает на спортивных автомобилях и ветеран потребления журнала «Дорога и трек». Это объясняет, почему с его парты чуть ли не все время несется какой-то рев: он губами воспроизводит пластинку «Звуки Себринга».
19 сентября
Я один временами (но только временами) понимаю, что свершилась некая ошибка, и я попал туда, где мне совсем не место. Может статься, мисс Мандибула тоже это знает на каком-то уровне, но по причинам, мне понятным не вполне, поддерживает игру. Когда меня впервые назначили в этот класс, мне хотелось возмутиться – настолько очевидна была оплошность, что ее заметил бы даже самый глупый директор школы; однако со временем я уверился, что сделали это намеренно, меня снова предали.
Теперь, похоже, разницы почти нет. Эта жизненная роль так же интересна, как и моя предыдущая – оценщика в «Большой северной страховой компании»: должность вынуждала меня проводить все время на руинах нашей цивилизации, среди покореженных бамперов, обескрышенных сараев, выпотрошенных складов, раздавленных рук и ног. Через десять лет подобного волей-неволей начнешь видеть в мире одну большую свалку, смотреть на человека и наблюдать лишь (потенциально) изувеченные органы, входить в дом лишь для того, чтобы отметить маршрут распространения неизбежного пожара. Стало быть, едва меня сюда ввели, я сразу понял, что совершена ошибка, однако санкционировал ее, явив проницательность; осознавал, что даже из такого мнимого бедствия можно извлечь какую-то выгоду. Роль оценщика учит хотя бы этому.
22 сентября
Меня заманивают в волейбольную команду. Отказываюсь – не хочу пользоваться преимуществами моего роста, это нечестно.
23 сентября
Каждое утро проводят перекличку: Бокенфор, Браунли, Броан, Гейгер, Гюйсвит, Дарин, Джейкобс, Дурбин, Кляйншмидт, Койль, Конс, Крецелиус, Логан, Лучшевина, Лэй, Масай, Митганг, Пфайльстикер, Свистен. Похоже на литанию, что возносил тусклыми и жалкими техасскими зорями кадровый сержант нашей учебной роты.
В Армии я тоже был чуточку набекрень. Мне фантастически много времени потребовалось, чтобы осознать то, что все остальные ухватили чуть ли не сразу: большая часть всей нашей деятельности абсолютно бесцельна и ни к чему. Меня не покидала мысль: зачем. А потом случилось такое, что поставило новый вопрос. Однажды нам приказали побелить – от корней до верхних листочков – все деревья в расположении нашей части. Капрал, передавший нам приказание, нервничал и извивался. Позже мимо проходил капитан после дежурства, посмотрел на нас – забрызганных известью, совершенно вымотанных, раскорячившихся на высоте среди нами же созданных уродов. И ушел, матерясь. Принцип я понял (приказ есть приказ), но вот что интересно: кто здесь решает?
29 сентября
Сью-Энн – чудо. Вчера она злобно пнула меня в лодыжку за то, что не обратил внимания, когда на истории она пыталась передать мне записку. Опухоль еще не спала. Но за мной наблюдала мисс Мандибула, что я тут мог сделать? Странное дело: Сью-Энн мне напоминает жену, которая была у меня в прошлой роли, а вот мисс Мандибула кажется ребенком. Постоянно следит за мной, стараясь не подпускать во взгляд сексуальной многозначительности; боюсь, остальные дети это заметили. Я уже перехватил на той призрачной частоте, что и есть среда общения в классе: «Учительский любимчик!»
2 октября
Иногда я задумываюсь об истинной природе того заговора, что привел меня сюда. Бывает, я убежден, что его инспирировала моя былая жена, которую звали… Это я притворяюсь, что забыл. Я отлично знаю ее имя, как и марку моего бывшего моторного масла («Квакерский штат») или свой старый армейский серийный номер (СШ 54109268). Ее звали Бренда, и лучше прочих я припоминаю один разговор между нами – теперь он кажется мне крайне подозрительным, случился он в тот день, когда мы расстались.
– У тебя блядская душонка, – сказал я в тот раз, не утверждая тем самым ничего, кроме буквального, ничем не приукрашенного факта.
– А ты, – ответила она, – жиголо, олух и дитя. Я бросаю тебя навсегда и надеюсь, что без меня ты сдохнешь от собственной несостоятельности. А она значительна.
Припоминая эту беседу, я ерзаю за партой, и Сью-Энн за мной наблюдает со злобненьким состраданием. Она уже заметила несоответствие между габаритами моей парты и моим размером, но, очевидно, зрит в этом лишь свидетельство моей блистательности, мою угрюмую светскую изощренность.
7 октября
Однажды я на цыпочках подошел к столу мисс Мандибулы (когда в классе больше никого не было) и обследовал его поверхность. Мисс Мандибула – сторонник чистого стола, как я обнаружил. На нем не лежало ничего, кроме журнала (того, в котором я значусь шестиклассником) и методического пособия, открытого на странице с заголовком «Придавать осмысленность процессам». Я прочел: «Многим учащимся нравится работать с дробями, когда они понимают, что делают. Они уверены в своей способности совершить нужные шаги для получения правильных ответов. Тем не менее, для того, чтобы теме урока придать нужное гражданственное звучание, необходимо отыскивать реалистические ситуации, требующие использования этих процессов. Следует решать множество интересных и жизнеподобных задач, включающих в себя задействование дробей…»
8 октября
Меня не раздражает ощущение того, что я все это уже проходил. Теперь все иначе. Больше того, даже дети как-то отличаются от тех, кто сопровождал меня в первом странствии по начальной школе: «Они уверены в своей способности совершить нужные шаги для получения правильных ответов». Лучше не скажешь. Когда Бобби Вандербильт, который сидит позади и обладает величайшим тактическим преимуществом маневра под моей непропорционально огромной сенью, желает двинуть соученику в зубы, он сначала просит мисс Мандибулу опустить жалюзи: дескать, глазам от солнца больно. А когда она просьбу выполняет – тресь! Моему поколению нипочем не удалось бы так легко обвести вокруг пальца облеченную властью персону.
13 октября
Может статься, в первом странствии по школам на меня слишком сильное впечатление произвело то, что власти (кто решает?) сочли для меня правильным и должным, и я перепутал власть с самой жизнью. Стезю свою выбирал не я. Вся моя карьера предстала передо мною сплошной погоней, а роль, мне уготованная, свелась к поиску следов и намеков. Закончив школу – в первый раз, – я ощутил, что представление это в сущности своей верно, и с радостью включился в охоту. Бумажные стрелки были рассыпаны в изобилии: дипломы, членские карточки, значки политических кампаний, свидетельство о браке, страховые полисы, пакет демобилизации, налоговые декларации, почетные грамоты. Они, казалось, подтверждают, как минимальнейший минимум, что я – на бегу. Но все это было до моей трагической ошибки со страховым иском миссис Антон Бичек.
Я неверно истолковал один ключ. Не поймите меня неправильно: трагедией это предстало лишь с точки зрения властей. Я полагал своим долгом взыскивать удовлетворение в пользу пострадавших – этой пожилой дамы (даже не держателя нашего страхового полиса, а истицы против корпорации «Большой Бен: перевозка и хранение») – с компании. Требование составляло $165 000; и было, я до сих пор считаю, справедливым. Но без поощрения с моей стороны миссис Бичек ни за что бы не хватило любви к самой себе, чтобы оценить собственную травму так высоко. Компания уплатила, но ее вера в меня, в мою эффективность в данной роли, пошатнулась. Районный менеджер Генри Доброхотт выразил эту мысль несколькими не вполне лишенными сочувствия словами, одновременно давая мне понять, что мне предстоит принять новую роль. И не успел я опомниться, как оказался тут – в начальной школе имени Хорэса Грили, под похотливым призором мисс Мандибулы.
17 октября
Сегодня нам предстоит учебная пожарная тревога. Я это знаю, поскольку сам – начальник пожарной дружины, не только в этом классе, но и во всем правом крыле второго этажа. Этот знак отличия, врученный мне вскоре после моего прибытия, некоторые толкуют как лишнее свидетельство моих сомнительных отношений с нашей учительницей. Моя нарукавная повязка – красная, декорированная белыми войлочными буквами, складывающимися в слово «ПОЖАР», – размещается на полочке у меня в парте, рядом с пакетом из коричневой бумаги, содержащим обед, который я тщательно готовлю себе каждое утро. Одно из преимуществ самостоятельной паковки обеда (ибо никто мне его не упакует) – я могу класть в пакет только то, что мне нравится. Сэндвичи с арахисовым маслом, которые мама делала в моем прежнем существовании, попали в опалу в пользу ветчины и сыра. Я обнаружил, что диета моя таинственным образом приспособилась к новым обстоятельствам; например, я больше не пью, а если курю, то лишь в мужском туалете, как все остальные мальчики. После уроков же не курю практически вообще. И лишь в вопросах секса я ощущаю свой истинный возраст; очевидно, раз научившись такому, уже никогда не забудешь. Я живу в страхе, что мисс Мандибула однажды задержит меня после уроков и, когда мы останемся наедине, создаст компрометирующую ситуацию. Чтобы избежать подобного, я превратился в образцового ученика, а это – еще одна причина ярко выраженной нелюбви ко мне в определенных кругах. Однако не могу отрицать: меня опаляют эти долгие взгляды от классной доски; мисс Мандибула во многих отношениях – особенно в области бюста – кусочек лакомый.
24 октября
Моим габаритам, моему смутно осознаваемому статусу классного Гулливера время от времени бросают вызов. Большинство моих одноклассников по этому поводу хранят учтивость, как если бы у меня был всего один глаз или усохшие ноги, обернутые в металл. Меня расценивают как мутанта, но в сущности – ровню. Вместе с тем, Гарри Броан, чей отец разбогател на изготовлении Вантуза Броана для Ванных Комнат (которым Гарри частенько попрекают; у него постоянно осведомляются, не засорилась ли его канализация), сегодня поинтересовался, не желаю ли я с ним подраться. На это самоубийственное действо собралась группа его заинтересованных приспешников. Я ответил, что мне что-то не хочется, чем заслужил его очевидную благодарность. Теперь мы с ним друзья навеки. В частном порядке он дал мне понять, что раздобудет мне вантузов для ванных комнат в любом количестве по смехотворно низкой цене – столько, что на всю жизнь хватит.
25 октября
«Множество интересных и жизнеподобных задач, включающих в себя задействование дробей…» Методистам никак не удается понять одного: все самое интересное или жизнеподобное в классе проистекает из того, что они бы назвали межличностными отношениями: Сью-Энн Браунли пинает меня в лодыжку. Как жизнеподобна, как по-женски нежна ее заботливость после этого поступка! Ее гордость за мою новообретенную хромоту очевидна; все знают, что это она оставила на мне свою отметину, это ее победа в неравной борьбе с мисс Мандибулой за мое великое сердце-переросток. Даже сама мисс Мандибула это знает, а потому наносит встречный удар единственным доступным ей способом – сарказмом.
– Ты ранен, Джозеф?
Под ее веками тлеют поджоги, и страсть к начальнику пожарной дружины застилает дымом ее глаза. В ответ я бормочу, что ударился.
30 октября
Снова и снова возвращаюсь к проблеме моего будущего.
4 ноября
Подпольная библиотечная сеть доставила мне номер «Тайн кино и телевидения», чья разноцветная обложка украшена заголовком: «Свидание Дебби оскорбляет Лиз!» Это подарок Фрэнки Рэндольф, простоватой девочки, которая до сего дня и словом меня не удостаивала, переданный через Бобби Вандербильта. Я киваю и признательно улыбаюсь через плечо; Фрэнки прячет голову под партой. Я видел, как девчонки передают друг другу эти журналы (иногда кто-нибудь из мальчишек снисходит до того, чтобы ознакомиться с особенно сенсационной обложкой). Мисс Мандибула конфискует их при любой возможности. Я пролистываю «Тайны кино и телевидения» – прелестное зрелище. «Эксклюзивная съемка, представленная на этих страницах, не является тем, чем кажется. Мы знаем, как это выглядит, и знаем, что сделают сплетники. Поэтому в интересах порядочного парня сначала мы публикуем факты. Вот что произошло на самом деле!» Картинка изображает юного идола, восходящую звезду кино в постели, в пижаме и спросонок, а рядом такая же одуревшая красотка старательно выглядит испуганной. Я очень рад узнать, что съемка не является тем, чем кажется; а кажется она уликой для развода, никак не меньше.
О чем думают эти безбедрые одиннадцатилетки, когда в том же самом журнале натыкаются на полосную рекламу Мориса де Паре, изображающую «Бед(р)овых Помощников», которые выглядят как стегано-набивные огузки? («Подлинный агент под прикрытием – добавляет привлекательности вашим бедрам и тылу, моментально!») Если они не способны декодировать язык, иллюстрации ничего не оставляют воображению. «Распалите его неистовство…» – продолжает рекламная подклишовка. Может, оттого-то Бобби и залипает на «ланчиях» и «мазерати»: это оборона против распаленного неистовства.
Сью-Энн пронаблюдала за инициативой Фрэнки Рэндольф и, перехватив мой взгляд, извлекает из ранца не менее семнадцати номеров этого журнала, сует их мне в руки, словно желая доказать: что бы ни предлагали ее соперницы, она их побьет. Я быстро перелистываю их, отмечая поразительную широту редакционного взгляда:
«Детки Дебби плачут»
«Эдди спрашивает Дебби: Согласна?…»
«Кошмары Лиз про Эдди!»
«То, чего Дебби не может рассказать об Эдди»
«Частная жизнь Эдди и Лиз»
«Дебби возвращает своего мужчину?»
«У Лиз новая жизнь»
«Любовь – дело коварное»
«Любовное гнездышко Эдди сшито на заказ»
«Как Лиз сделала из Эдди мужчину»
«Они собираются жить вместе?»
«Не хватит ли помыкать Дебби?»
«Дилемма Дебби»
«Эдди снова стал папой»
«Дебби планирует повторный брак?»
«Способна Лиз достичь совершенства?»
«Почему Дебби тошнит от Голливуда?»
Кто эти люди – Дебби, Эдди, Лиз – и как они попали в такую жуткую переделку? Я уверен, Сью-Энн это знает; очевидно, что она изучала их историю как путеводитель по тому, чего можно ожидать, едва она вдруг покинет этот плоский и тусклый класс.
Я злюсь и сую журналы ей, даже не прошептав спасибо.
5 ноября
Шестой класс начальной школы имени Хорэса Грили – раскаленный горн любви, любви, любви. Сегодня идет дождь, но внутри воздух густ и пронизан страстью. Сью-Энн отсутствует; подозреваю, слегла от нашего вчерашнего бартера. Меня окутывает облаком вины. Она не виновата – я это знаю – в том, что читает, в том, какие образцы предлагает ей корыстная издательская индустрия; не следовало мне дозволять такую резкость. А может, у нее просто грипп.
Никогда еще не оказывался я в атмосфере, настолько пронизанной зарядами недоношенной сексуальности, как сейчас. Мисс Мандибула тут беспомощна; сегодня все идет наперекосяк. Амоса Дарина застали в раздевалке за рисованием неприличной картинки. Прискорбная и неточная, она не призвана служить таком чего-то, но сама по себе – акт любви. Картинка возбудила даже тех, кто ее не видел, даже тех, кто видел и понял только, что она неприличная. Класс гудит от недоосмысленного зуда. Амос стоит у дверей и ждет, когда его отведут к директору. Он колеблется между страхом и восторгом своей преходящей известности. Время от времени мисс Мандибула с укором поглядывает в мою сторону, словно винит в этом брожении меня. Но не я же нагнал такую атмосферу, я сам барахтаюсь в ней, подобно прочим.
8 ноября
Моим одноклассникам и мне обещано все, а превыше прочего – будущее. Мы принимаем вопиющие заверения, не моргнув глазом.
9 ноября
Я наконец собрался с дерзостью и подал прошение о парте побольше. На переменах я едва способен двигаться: ноги мои не желают распрямляться. Мисс Мандибула говорит, что поднимет этот вопрос перед завхозом. Ее беспокоит превосходное качество моих сочинений. Мне, спрашивает она, кто-нибудь помогает? В какой-то момент я балансирую на грани: рассказать ей все или не рассказать? Что-то, тем не менее, предостерегает меня: даже не пытайся. Здесь я в безопасности, у меня есть место; я не желаю снова вверять себя прихотям власти. Даю себе слово в будущем писать не столь превосходные сочинения.
11 ноября
Разрушенный брак, разрушенная карьера оценщика, мрачная интерлюдия в Армии, когда я едва ли вообще был личностью. Такова сумма моего существования до сего дня, тягостный итог. Что ж тут удивляться: единственной надеждой казалось полное перевоспитание. Даже мне ясно, что меня следует основательно переделать. Как эффективно общество, таким манером хлопочущее о спасении своего шлака!
Выдернутый из неизученной жизни среди прочих приятных, обреченных молодых американцев, зарабатывающих деньги, отброшенный назад в пространство и время, я начинаю понимать, как именно сбился с пути, как все мы с него сбиваемся. (Хоть это и далеко от намерений тех, кто послал меня сюда; им потребно только одно – чтобы я снова встал на верный путь.)
14 ноября
Различие между детьми и взрослыми, хоть, вероятно, и полезное в каких-то целях, по сути своей обманчиво, понимаю я. Существуют лишь индивидуальные эго, помешанные на любви.
15 ноября
Завхоз проинформировал мисс Мандибулу, что все наши парты – правильного для шестиклассников размера, как это определено Оценочным советом и поставлено в школы «Корпорацией образовательных поставок „Ню-Арт“» из Энгелвуда, Калифорния. Он также отметил, что, раз габариты парты верны, стало быть, неверны габариты самого ученика. Мисс Мандибула, которая и без него пришла к сходному заключению, отказывается поднимать этот вопрос дальше. Мне кажется, я знаю, почему. Прошение, поданное в администрацию, может повлечь за собой мое удаление из класса, перевод в какое-либо заведение для «исключительных детей». А это бедствие первостепенной величины. Сидеть в классе с гениями (или, что вероятнее, с «умственно-отсталыми» детьми) – да я скукожусь за неделю. Пускай же мой опыт здесь пребывает обыденным; оставь меня, Господи, пожалуйста, типичным.
20 ноября
Знаки мы читаем как обещания. Мисс Мандибула по моему большому росту, по зычному голосу понимает, что настанет день, и я на руках отнесу ее в постель. Сью-Энн те же самые знаки интерпретирует так: среди всех ее знакомых мужского пола я уникален, а следовательно – наиболее желанен, а следовательно – ее особое достояние, как и все остальное, что Наиболее Желанно. Если ни один из этих планов не осуществится, жизнь обманет их обеих.
В своем прежнем существовании я читал девиз компании («Работаем, чтобы помочь в нужде») как описание долга оценщика, коренным образом недопонимая глубочайшие интересы компании. Я верил, что, раз приобрел себе жену, состоящую из знаков жены (красоты, очарования, мягкости, аромата, умения готовить), значит, обрел любовь. Бренда, читая те же знаки, что сейчас заводят не туда мисс Мандибулу и Сью-Энн Браунли, чувствовала, будто ей пообещали, что ей никогда не станет скучно. Все мы – мисс Мандибула, Сью-Энн, я сам, Бренда, мистер Доброхотт – по прежнему верим, что американский флаг означает некую общую праведность.
Однако теперь я утверждаю, оглядывая этот инкубатор будущих граждан: знаки есть знаки, и некоторые из них лгут. Вот мое великое открытие, совершенное здесь.
23 ноября
Может статься, мой опыт ребенка здесь в конечном итоге меня спасет. Только удалось бы затаиться в этом классе, пока Наполеон бредет по России под нудное бормотание Гарри Броана, читающего вслух из учебника истории. Все загадки, что ставили меня, взрослого, в тупик, берут свое начало здесь, и одну за другой я перечисляю их, обнажая их корни.
2 декабря
Мисс Мандибула не даст мне остаться неповзрослевшим. Ее руки покоятся у меня на плечах слишком уж тепло, слишком подолгу.
7 декабря
Именно клятвы, которые это место мне дает, клятвы невыполнимые, сбивают меня с толку впоследствии и заставляют думать, что я ни к чему не прихожу. Все представляется результатом какого-то опознаваемого процесса; желая достичь четырех, я доберусь до них посредством двух и двух. Если захочется сжечь Москву, маршрут мой уже проложен другим гостем города. Если, подобно Бобби Вандербильту, меня тянет к баранке двухдверной «ланчии» с объемом двигателя 2,4 литра, мне следует завершить соответствующий процесс, а именно – раздобыть деньги. А если я желаю только денег, мне нужно просто-напросто их заработать. Все эти цели в равной степени прекрасны в глазах Оценочного совета; доказательств вокруг предостаточно – в самом смертельно серьезном уродстве этого здания из стекла и бетона, в прямолинейной обыденности, с которой мисс Мандибула проводит некоторые наши особо неблаговидные баталии. Кто отмечает, что договоры иногда нарушаются, что совершаются ошибки, что знаки читаются неверно? «Они уверены в своей способности совершить нужные шаги для получения правильных ответов». Я совершаю нужные шаги, получаю правильные ответы, и моя жена уходит от меня к другому мужчине.
8 декабря
Мое просвещение протекает изумительно.
9 декабря
Опять катастрофа. Завтра меня должны направить к врачу на освидетельствование. Сью-Энн Браунли застала нас с мисс Мандибулой в раздевалке на перемене и незамедлительно устроила истерику. В какой-то момент мне показалось, что она сейчас подавится. Она с ревом выскочила в коридор и кинулась в кабинет директора – теперь уже в полной уверенности, кто из нас Дебби, кто Эдди, а кто Лиз. Мне жаль, что я стал причиной ее разочарования, но я знаю – она оправится. Мисс Мандибула убита, но удовлетворена. Хотя ей выдвинут обвинение в пособничестве малолетнему правонарушителю, похоже, она пребывает в мире; для нее обещание, по крайней мере, исполнилось. Она теперь знает: все, что ей рассказывали о жизни, об Америке, – правда.
Я пытался убедить школьные власти, что я малолетка лишь в весьма определенном смысле, и что вина по большей части – на мне, но все тщетно. Они тупы, как всегда. Мои ровесники изумлены, что я выставляю себя кем-то еще, а вовсе не жертвой невинной. Подобно Старой гвардии, шагающей по русским сугробам, весь класс приходит к заключению, что правда наказуема.
Бобби Вандербильт на прощанье подарил мне свою пластинку «Звуки Себринга».
Мэри, Мэри, не зевай
Генри Макки, Эдвард Эшер и Говард Эттл в знак протеста против состояния человека обороли бурю в среду, 26 апреля (знаешь что, Мэри, краски нужно было взять водостойкие; через полчаса плакаты превратились черт знает во что). Начали пикетировать у Св. Иоанна Предтечи на 69-й улице в 13.30, с девизами ЧЕЛОВЕК СМЕРТЕН! / ТЕЛО – МЕРЗОСТЬ! / КОГИТО ЭРГО[10] ПШИК! / ДОЛОЙ ЛЮБОВЬ! на плакатах, раздавая листовки с объявлением о завтрашней вечерней лекции Генри Макки на Плеймор-Лейнз. Поблизости от церкви интерес зевак был значителен. Подошел человек, представился Уильямом Рочестером, поддержал:
– Вот так и надо! – сказал он.
Примерно в 13.50 из храма вынырнул жирный разодетый церковный педель, дабы оспорить наше право на пикетирование. Его второй подбородок неприятно трясся и, как ни жаль мне это констатировать, выглядел он человеком нехорошим.
– Прекрасно, – сказал он, – а теперь шевелитесь отсюда, двигайте дальше, вы не можете нас пикетировать!
Он сказал, что церковь никогда раньше не пикетировали, ее нельзя пикетировать без ее, церкви, на то разрешения, церковь владеет тротуаром перед собой и он, церковный сторож, сейчас вызовет полицию. Генри Макки, Эдвард Эшер и Говард Эттл уже обзавелись разрешением полиции на демонстрацию благодаря счастливой предусмотрительности; что мы и подтвердили, предъявив педелю бумаженцию, раздобытую в Полицейском управлении. Педеля она привела в неимоверное раздражение, и он ринулся обратно в храм докладывать кому-то наверху.
– Готовьтесь к удару грома, – сказал Генри Макки, и Эдвард Эшер с Говардом Эттлом рассмеялись.
Интерес к демонстрации среди прохожих по 69-й улице возрастал, и некоторое количество народу приняло наши листовки и стало задавать пикетчикам вопросы, как то: «Что вы имеете в виду?» и «А вас, молодые люди, церковь воспитывала?» Пикетчики отвечали на эти вопросы тихо, но твердо, с такими подробностями, в каких может оказаться заинтересован случайный прохожий, и не более того. Некоторые гуляки отпускали издевательские шуточки – в частности, я запомнил «Когито эрго хуй», – однако манера поведения пикетчиков неизменно оставалась образцовой, и даже позднее, когда все, по выражению Генри Макки, «стало несколько крутеть». (Мэри, ты бы нами гордилась.) Тем, кому небезразличны права пикетчиков, следует понимать, что правам этим преимущественно угрожают отнюдь не полицейские, которые обычно вас не домогаются, если вы прошли все должные бюрократические процедуры, как, например, получение разрешения, но личности, которые подходят к вам и пытаются вырвать из рук плакат или, как в одном случае, плюнуть вам в лицо. Человек, совершивший последнее, был, на удивление, весьма прилично одет. Что может происходить внутри у такой личности? Он даже вопросов задавать не стал касательно природы нашей демонстрации – просто плюнул и ушел. И слова не сказал. Мы поневоле задумались.
Примерно в 14.00 из церкви появилось весьма высокопоставленное лицо в черном церковном облачении и спросило, слыхали мы когда-нибудь о Кьеркегоре или не слыхали. Лило на него так же, как и на пикетчиков, но он, похоже, не возражал.
– Эта демонстрация являет кьеркегоровский дух, который мне близок, – сказало оно, а потом потребовало, чтобы мы перенесли свою деятельность куда-нибудь в другое место. Генри Макки провел с этим лицом очень интересную дискуссию длительностью минут около десяти, в ходе которой была проведена съемка нью-йоркской «Пост», «Ньюсуиком» и телевидением «Си-би-эс», которых Генри Макки предупредил о демонстрации заранее. При виде фотографов церковное лицо несколько занервничало, но следует отдать ему должное: выдерживало оно свою липовую заинтересованность почти до самого конца. Оно изрекло несколько банальностей, вроде: «Человеческое состояние нам дано, засчитывается лишь то, что мы делаем» и «Тело – просто храм, в котором обитает душа», на что Генри Макки возразил своим знаменитым вопросом: «А почему, собственно, так должно быть?», от которого намертво перемыкало стольких ортодоксальных святош и мыслителей и которым он в самом начале привлек нас (остальных пикетчиков) под свои знамена.
– Почему? – воскликнуло церковное лицо. Ясно было, что оно радикально ошарашено. – Потому что так есть. Приходится иметь дело с тем, что есть. С реальностью.
– Но почему так должно быть? – упорствовал Генри Макки, следуя методике этого вопроса, с применением коей вопрос становится безответным. По лицу лица растекся румянец гнева и фрустрации (на твоем телеэкране, Мэри, это, возможно, и не отразилось, но я там был и все видел – очень красиво).
– Состояние человека – фундаментальная данность, – сформулировал церковник. – Непреложная, фиксированная и неизменная. Утверждать обратное…
– Именно, – сказал Генри Макки, – поэтому следует бросить ей вызов.
– Но, – ответил церковник, – такова Божья воля.
– Да, – со значением подтвердил Генри Макки.
После чего церковное лицо удалилось в свою церковь, бормоча и покачивая головой. Дождь несколько подпортил нам плакаты, но лозунги на них еще читались, да и запасные транспаранты у нас имелись в машине Эдварда Эшера. Линию пикета пересекло какое-то количество невинных душ, пришедших отправить свои религиозные надобности, включая несколько персон, похожих на сотрудников ФБР. Пикетчики при разработке планов учитывали опасность того, что их могут принять за коммунистов. В конечном итоге это предусматривала отпечатанная на мимеографе листовка, где тщательно объяснялось, что пикетчики – не коммунисты, а также приводились армейские послужные списки Эдварда Эшера и Говарда Эттла, включая ленточку за отличную службу Эдварда Эшера. «Как и вы, мы – законопослушные американские граждане, которые поддерживают Конституцию и платят налоги, – говорилось в листовке. – Мы лишь против той беспощадности, с которой человеческое состояние навязано живым организмам, ничем его не заслужившим и не способным его избежать. Почему, собственно, так должно быть?» Листовка далее переходила к описанию доступным языком различных неудачных аспектов человеческого состояния, как то: смерть, непристойные и унизительные телесные функции, ограниченность человеческого понимания и химеру любви. Завершалась листовка разделом, озаглавленным «Что делать?» – это, как утверждает Генри Макки, знаменитый революционный афоризм, который простым доступным языком излагает программу Генри Макки по овеществлению человеческого состояния от самых основ и выше.
Подошла негритянская дама, взяла одну листовку, внимательно прочла, а потом сказала:
– По мне так вылитые коммунисты!
Эдвард Эшер заметил, что, как ясно людям чего-нибудь ни излагай, им постоянно хочется верить, что ты коммунист. Он рассказал, как однажды протестовал в Майами против вивисекции беспомощных животных, и его обвинили в том, что он – нацистский коммунист, а это, как он объяснил, есть терминологическое противоречие. Еще он сказал, что дамы обычно – хуже всего.
К тому времени большая толпа, собравшаяся на телевизионщиков, расползлась. Посему пикетчики посредством автомобиля Эдварда Эшера перенесли место демонстрации на Рокфеллер-плазу в Рокфеллеровском центре. Множество людей там бездельничали, поглощали ланч и т. д., и мы задействовали дополнительные плакаты с новыми лозунгами, гласившими:
ПОЧЕМУ ВЫ СТОИТЕ ГДЕ ВЫ СТОИТЕ?
ДУША НЕ!
ХВАТИТ
ИСКУССТВА
КУЛЬТУРЫ
ЛЮБВИ
ПОМНИТЕ: ВЫ – ПРАХ!
Дождь перестал и цветы пахли изумительно тонко. Пикетчики выдвинулись на позиции у ресторана (жаль, что тебя здесь не было, Мэри, поскольку мне это напомнило кое о чем, о том, что ты сказала в тот вечер, когда мы пошли в «Блуминдейлз» и купили тебе новый купальный костюм светло-вишневого цвета: «Цвет новорожденного младенца», – сказала ты, и цветы были такого же, по крайней мере, некоторые). Люди с фотоаппаратами на шеях снимали нас, будто никогда раньше не видели живую демонстрацию. Пикетчики между собой переговаривались, как это смешно: туристы с фотографиями нашей демонстрации в альбомах у себя в Калифорнии, Айове, Мичигане, люди, которых мы совсем не знаем и которые совсем не знают нас, которым до нашей демонстрации и дела-то никакого нет, да и до состояния человека, в котором они так погрязли, что не могут отстраниться и посмотреть на него и понять, что оно вообще такое.
– Ситуация парадигматическая, – сказал Генри Макки, – она иллюстрирует дистанцию между потенциальными знатцами, разделяющими здравый взгляд на мир, и тем, что следует знать, – оно избегает их знания, пока они ведут свое мирское существование.
В это время (14.45) к демонстрантам подступила группа молодежи в возрастном интервале, я бы сказал, от шестнадцати до двадцати одного. На них были куртки с капюшонами, футболки, узкие штаны и т. д., и они, со всей очевидностью, были малолетними правонарушителями из неблагополучных районов города и разбитых семей, где им не доставалось никакой любви. Пикетчиков они окружили угрожающим манером. Их было примерно семеро. Вожак (причем, Мэри, не самый старший; он был моложе некоторых, высокий, со своеобразным лицом, тупым и интеллигентным одновременно) походил вокруг, с преувеличенным любопытством разглядывая наши плакаты.
– Вы чё, парни, – наконец спросил он, – придурки какие-то или чё?
Генри Макки спокойно ответил, что пикетчики – американские граждане, осуществляющие свое право на мирные демонстрации согласно Конституции.
Вожак посмотрел на Генри Макки.
– Вы фофаны какие-то, да? – сказал он. После чего выхватил пачку листовок из рук Эдварда Эшера, а когда Эдвард Эшер попробовал их вернуть, изящно отскочил подальше, и пара его дружков заступила Эшеру путь. – Вы чё это, фофаны, делаете? – спросил он. – Чё это за срань?
– Вы не имеете права… – начал было Генри Макки, но вожак молодежи тут подошел к нему вплотную.
– Это что такое – вы в Бога не верите? – поинтересовался он. Остальные тоже придвинулись.
– Вопрос не в этом, – сказал Генри Макки. – Вера или неверие – не суть. Состояние не меняется, верите вы или нет. Человеческое состояние – это…
– Слушай, – сказал вожак, – я-то думал, что вы, парни, каждый день в церковь ходите. А теперь ты мне трындишь, что фофаны в Бога не верят. Ты мне тюльку, что ли, вешаешь?
Генри Макки ответил, что вера тут ни при чем, и сказал, что вопрос скорее – в беспомощности человека в тисках определения самого себя, которое не он выводил, которое не изменить никакими человеческими действиями и которое состоит в фундаментальном противоречии с любым человеческим представлением о том, что должно иметь место. Пикетчики же просто подвергают такое положение дел радикальному пересмотру, сказал он.
– Ты мне тюльку вешаешь, – сказал юноша и предпринял попытку пнуть Генри Макки в промежность, но Макки вовремя увернулся. Прочие юноши, тем не менее, напрыгнули на пикетчиков прямо посреди Рокфеллеровского центра. Генри Макки швырнули на мостовую и неоднократно отпинали по голове, с Эдварда Эшера сорвали куртку, и он подвергся множественным ударам по почкам и другим местам, а Говард Эттл заполучил перелом ребра от юноши по имени Тесак, который двинул Говарда об стену и продолжал яростно колотить, несмотря на то, что зеваки пытались вмешаться (по крайней мере, некоторые). Все это произошло в крайне короткий отрезок времени. Плакаты пикетчиков изорвали и поломали, а их листовки разбросали повсюду. Полицейский, призванный зеваками, постарался изловить молодежь, но та сбежала через вестибюль здания «Ассошиэйтед Пресс», и он вернулся с пустыми руками. Пикетчикам вызвали медицинскую помощь. Сделали снимки.
– Бессмысленное насилие, – впоследствии сказал Эдвард Эшер. – Они этого не поняли…
– Напротив, – сказал Генри Макки, – они всё поняли лучше прочих.
На следующий вечер в 20.00 Генри Макки прочел свою лекцию в верхнем зале заседаний Плеймор-Лейнз, как о том и объявлялось в листовке. Публики собралось немного, но внимательной и заинтересованной. Голова Генри Макки была забинтована белым бинтом. Свою лекцию, озаглавленную «Что делать?», он прочел с четкой дикцией и хорошим произношением, а также – звучным голосом. Он был очень красноречив. А красноречие, как утверждает Генри Макки, на самом деле – единственное, на что мы еще можем надеяться.
Вверху на воздусях
1
Бак теперь видел, что ситуация между ним и Нэнси – значительно серьезнее, чем он воображал. Она проявляла недвусмысленные признаки склонности в его сторону. Склонность была такой острой, что иногда он думал: упадет, – а иногда: нет, ни за что не упадет; а иногда ему было все равно, и он всячески старался доказать себе, какой он мужчина. Означало это одеваться в необычную одежду и ломать старые привычки. Но как мог он расколоть ее грезы после всего, что они вытерпели вместе? всего, что они совместно видели и сделали после того, как впервые опознали в Кливленде Кливленд?
– Нэнси, – сказал он, – я слишком стар. Я неприятен. И надо подумать о моем сыне Питере.
Ее рука тронула то место между грудей, где висело украшение, датируемое, по его прикидке, периодом Первой мировой войны – тем знаменитым периодом!
Турбореактивный самолет, их «корабль», приземлился на колеса. Бак задумался об этих колесах. Почему их не срезает, когда воздушное судно так жестко садится с громыханьем грома? Многие до него задавались тем же вопросом. Недоумение неотъемлемо от истории легче-воздушности, дурачина. Это Нэнси, стоя у него за спиной в очереди на выход, предложила потанцевать на посадочной полосе.
– Установить раппорт с грунтом, – сказала она со своим обычным суховатым холодком, многажды усиленным в жарком блеске эдвардовско-пирожковых автоматов и таможенных деревьев. Они станцевали «гребешок», «меренгу» и «dolce far niente»[11]. На полосе было восхитительно: воздух густ от неописуемой витальности реактивного топлива и чувственной музыки выхлопа. На посадочные расклады опустили сумерки – да такие, которыми никогда не удостаивали Кливленд, ни до, ни после. Затем – надломленный, бессердечный смех и поспешная дорога в отель.
– Я понимаю, – сказала Нэнси. И бесстрастно глядя на нее, Бак предположил, что она и впрямь понимает, как бессовестно бы это ни звучало. Вероятно, рассуждал он, я убедил ее против своей воли. Человек из Южной Родезии зажал его в угол опасного лифта.
– Вы считаете, у вас есть право придерживаться мнений, отличных от мнения президента Кеннеди? – спросил он. – Президента вашей земли?
Но вечеринка компенсировала все это – или большую часть – любопытственным манером. Младенец на полу – Сол, – похоже, доставлял удовольствие – вероятно, против своего обыкновения. Или моего обыкновения, подумал Бак, кто знает? В гигантской салатнице крутилась пластинка Рэя Чарлза. Бак танцевал «фриссон» с женой художника Перпетуей (хотя Нэнси в одиночестве осталась в отеле).
– Меня назвали, – сказала Перпетуя, – в честь знаменитой гарнитуры, разработанной знаменитым английским дизайнером Эриком Гиллом в начале нашего века.
– Да, – спокойно ответил Бак, – я знаю этот гарнитур.
Она тихонько рассказала ему историю своего романа с ее мужем, Солом Старшим. Сладострастно они не упустили ничего. А потом в комнату вошли два приличных господина из полиции, и гости побледнели, латук, ромэн и редис – тоже, разлетелись по выходам, полузадушенным травой.
Храбрость была повсюду, кроме здесь в этот вечер, поскольку боги уже тянулись к содержимому своих мандаринских рукавов в тех желтых царствах, где и решаются подобные вещи, к добру ли, к худу. Жалкий в своей подобострастной любезности, Сол объяснил, что может скоротать время, пока гости играют в телефонные игры в кармазинных передних. Полицейские, цвет кливлендской правоохраны, согласились выпить и станцевали древние полицейские танцы правоприменения и лишения свободы. Музыка волшебным образом просочилась обратно под дырчатыми гуамскими дверями; сердце от такого зрелища истекло бы слезами.
– Эта Перпетуя, – пожаловался Сол, – ну почему она так ко мне относится? Почему лампы пригашены, а записки, что я ей посылал, возвращаются нераспечатанными, заштампованными красными печатями «почтовый сбор не уплачен»?
Однако Бак со всей серьезностью поспешил прочь.
Его вызывало воздушное судно, их несмываемые полетные планы нашептывали его имя. Он приложился щекой к заклепанному боку дерзкого «707-го». «В случае появления оранжевых и голубых языков пламени, – написал он на крыле, – высвободитесь из воздушного судна, при необходимости прорубив дыру в днище. Пускай вас не смущает ковровое покрытие; оно верблюжье и очень тонкое. Я бы предложил вам при этом встревожиться, ибо ситуация крайне тревожна. Вы находитесь в воздухе, на высоте, вероятно, 35 000 футов, снаружи – оранжевые и голубые языки пламени, а в половицах – рваная дыра». И тут еще Нэнси. Он раскрыл объятия. Она пришла к нему.
– Да.
– Мы разве не?
– Да.
– Не важно.
– Для тебя. А для меня…
– Я трачу наше время.
– А остальные?
– Мне стало стыдно.
– Это оттого, что здесь, в Кливленде.
Они вернулись вместе в наемном автомобиле. Три стоянки были заполнены избыточными толпами в мерзком настроении. Я устал, я так устал. Человек из Южной Родезии обращался к коридорным, которые слушали его слова ненависти и думали о своем.
– Но тогда, – сказал Бак, но тогда Нэнси приложила палец к его губам.
– Ты представляешься мне таким недосягаемым, таким возвышенным над прочими мужчинами, – сказала она. – Я созерцаю тебя с такой странной смесью смирения, восхищения, отмщения, любви и гордости, что еще немножко суеверия, и я стану поклоняться тебе как высшему существу.
– Да, – сказал Бак, ибо заграничный скульптор, без сомнения – баварец, запел «Можешь взять свою любовь и засунуть себе в сердце», хоть и был весь покрыт каменной крошкой и грогом. Толпа ревела: аккомпаниаторы наяривали на экзотических инструментах Кливленда – «долоре», «каландре», «крале». Тренькайте, пальчики, шустро! Дворецкие не колебались ни минуты.
– История отпустит мне грехи, – заметил Бак и принял протянутую руку с громадными сапфирами, сияющими, аки гараж. Тут к нему подтанцевала Перпетуя, ее огромные потрясающие каштановые ресницы манили.
– Где Нэнси? – спросила она и, не успел он ответить, продолжила отчет о величайшей любви всей своей экзистенции, об отношениях со своим мужем Солом. – Он забавный и утонченный, – сказала она, – добрый и злой. Вообще-то мне о нем так много нужно вам рассказать, что, боюсь, не успею до комендантского часа. Вы не против?
Бряцанье танцев в Кливленде было уже таково, что многих, не ведавших о плане, оскорбило.
– Это оскорбление Кливленду, это адское бряцанье! – сказал один; и грог полился еще неистовее. Государственный секретарь по делам эротики вылетел из Вашингтона, столицы нации, чтобы лично во всем удостовериться, и человеку из Южной Родезии спасенья не стало. Он прокрался в Кливлендский авиатерминал.
– Можно мне билет до Майами? – спросил он танцующую девушку в билетной кассе «Дельта Эйрлайнз» без особой надежды.
– В этом году на Майами ничего нет, – огрызнулась девушка.
– Как я могу с ним разговаривать в таком бедламе? – задавалась вопросом Нэнси. – Как может белая птица надежды благословить наше туманное прошлое и будущее в таком шуме? Как? Как? Как? Как? Как?
Но Сол вовремя помахал с веранды Стоянки Номер Два. Ремень он спустил на бедрах опасно низко.
– Повсюду совокупление, – прокричал он, обмахивая себе шею, – это из-за танцев! Да, это так!
Так оно и было, как ни трудно в это поверить. Симпатии оголтело свирепствовали под предосудительно алыми небесами. Мы все боялись.
– Немыслимо, немыслимо, – твердил себе Бак. – Даже среди тех, от кого никогда бы такого не ожидали!
Перпетуя мерцала ему в ухо.
– Даже среди тех, – нашептывала она, – от кого бы не ожидали… ничего.
На какой-то миг…
– Нэнси, – воскликнул Бак, – ты, наверное, самая славнющая, черт возьми, девчонка в Кливленде!
– А как же твоя жена в Техасе? – спросила Нэнси.
– Она тоже очень мила, – ответил Бак. – Вообще-то чем больше я об этом думаю, тем больше верю, что из-за таких славных девчонок, как вы с Иродиадой, и стоит жить. Жаль только, что в Америке их не так много, чтобы каждому досталось хотя бы штук по пять.
– Пять?
– Да, пять.
– Мы никогда с тобой не сойдемся на этой цифре, – сказала Нэнси.
2
Резиновый дух Акрона, города-побратима пакистанского Лахора, в тот вечер раскинулся по плато выбросом пламени всех наших надежд.
Когда воздушное судно неполадкой двигателей по левому борту оказалось принуждено к посадке в Акронском Воздушном парке, чего Бак, разумеется, ожидал, он сказал:
– Но это же… это… Акрон!
Это и был Акрон – знойный, молекулярный, переполненный жителями, прижимающими крохотные транзисторы к крохотным ушам. Его захлестнула волна неблагодарности.
– Жопа, жопа, – сказал он.
Он промерил свое сердце. Граждане Акрона, проведя долгие часы на заводе, обертывались в дурноскроенные любовные треугольники, никогда не содержавшие меньше четырех персон различных степеней рождения – высоких, низких и посредственных. Прекрасный Огайо! с твоими транзисторизированными гражданами и неуважением к геометрии, мы любили тебя вечером у камина, дожидаясь, когда задремлет наша жена, чтобы можно было выскользнуть и повидать двух наших девчонок, Манфред и Беллу!
Первый телефонный звонок, поступивший ему в изюмно-ромовый гостиничный номер «Чарлза», был из «Акронской службы гостеприимства».
– Добро пожаловать! новое человеческое существо! в Акрон! Алло?
– Алло.
– Вы еще не влюблены в кого-нибудь из жителей Акрона?
– Я только что из аэропорта.
– Если нет, или даже если да, мы хотим пригласить вас на большую вечеринку знакомств – сегодня вечером в Клубе выпускников колледжа, в 8.30.
– Для этого я должен быть выпускником колледжа?
– Нет, но пиджак и галстук обязательны. Их, разумеется, можно будет получить при входе. Какого цвета на вас будут брюки?
Бак прошел по пружинистым улицам Акрона. Голова его пылала от противоречивых идей. Неожиданно его остановил пронзительный вопль. С вершины Циммер-билдинга, одного из благороднейших зданий Акрона, группа акронских любовников совершала самоубийственный прыжок в восемь рук. Воздух! – подумал Бак, следя за падением крошечных фигурок, – какая авиационная страна, эта Америка! Но мне следует как-то примениться. Он вошел в булошную и приобрел сладенькую зелененькую булошку, и позаигрывал там со сладенькой зелененькой девушкой, называя ее «пупсиком» и «фуникулерчиком». Затем – снова на улицу, прислониться к тепленькому зелененькому фасаду Циммер-билдинга и посмотреть, как работники оттирают кармазинную мостовую.
– Не могли бы вы указать мне путь в акронские трущобы, работник?
– Меня зовут не «работник». Меня зовут «Пэт».
– Ну так, «Пэт», куда идти?
– Я был бы более чем счастлив сориентировать вас относительно трущоб, кабы не тот факт, что с трущобной жизнью в Акроне разобрались раз и навсегда благодаря муниципальной прогрессивности. Муниципалитет повлек за собой возведение там, где некогда процветала трущобная жизнь, гигантских квадратических инвенций, дающих ныне приют как некогда трущобным супругам, так и некогда трущобным их супругам. Эти неописуемо прекрасные структуры располагаются вон в той степи.
– Спасибо, «Пэт».
В новостройке, неуклюжей и величественной, Бак наткнулся на человека, мочившегося в лифте подле другого человека, который бил стекла в дворницком чулане.
– Что это вы, ребята, тут делаете? – громким голосом вскричал Бак.
– Мы выражаем нашу ярость на это прекрасное новое здание! – воскликнули человеки. – О, то, что этот день не прописал! Мы назовем его Жальником, вот как мы относимся к нему, ей-бо!
Бак стоял, омытый непониманьем и сомненьем.
– Вы хотите сказать, что в Акроне, на родине квадратической любви, есть ярость?
– Квадратическая ярость здесь тоже есть, – ответили человеки. – Акрон и сам яр с определенной точки зрения.
«Пища ангелов» покрывала пол аккуратными квадратами. И что может быть тут не так? Всё?
– Какова же здесь точка зрения, на которую вы ссылаетесь? – тупо спросил Бак.
– Точка зрения всех бедных Акрона, – хором пропели честные йомены, – или, как предпочитают их звать отцы города, всех слаборазвитых Акрона. – И в глазах их зажглись странные огоньки. – Вы знаете, как называется эта новостройка?
– Как? – спросил Бак.
– «Шервудский лес», – сказали человеки. – Отвратительно, правда?
Человеки пригласили Бака отужинать с их подружками – Хайди, Элеанор, Джордж, Пурпур, Анн-Мари и Лос. На дереве гоношились и умирали скворцы, но снизу все было стекло. Гарольд разливал местное вино, легкое «Браво», в забытое столовое белье. И великий конь вечера проскакал по громадной сцене раз и навсегда. Мы опросили наши совести. Множество крохотных грешков оказалось выкорчевано в ту ночь, дабы дать место новому, побольше. Сплошные «алло», и «да», и «да, да» все жреческие часы напролет, с одного до восьми. Хайди в зубах держала карандаш.
– Тебе нравятся игры с карандашом? – спросила она. Что-то таилось за вуалью ее глаз.
– Не… особенно, – ответил Бак, – я…
Но парад, возглавленный батальоном теплых и милых девочек из «Акронской службы гостеприимства», избрал именно этот напряженный миг, чтобы протанцевать мимо – оркестры громокипели, а мерзопакостные колесные платформы во славу резиновых изделий раздувались во все стороны. Резиновые жезлы девочек гнулись в закате событий.
– Невозможно обсуждать серьезные идеи во время парада, – сказали Баку акронские коммунисты и ускользнули продолжать выражение своей ярости в другой части Леса.
– До свидания, – сказал Бак. – До свиданья! Я не забуду…
Девочки «Службы гостеприимства» выглядели очень бравурно в своих коротеньких белых с золотом униформах «Службы гостеприимства», обнажавших отличное количество «ноги». Глянь-ка, сколько «ноги» там сияет! – сказал себе Бак и поспешил вслед за парадом до самого Толедо.
3
– Ингарден, милая, – сказал Бак хорошенькой жене толедского мэра, читавшей номер журнала «Нечастая любовь», – где же все поэты Толедо? Где они тусуются? Он осыпал ее подарками. Она поднялась и таинственно переместилась в спальню – проверить, спит ли Генри.
– Есть лишь один, – сказала она, – старый городской поэт Константин Каверна. – Ледок чувства подернул ее припущенного цвета линзы. – Держит аптеку амулетов в старейшем квартале города и никогда никуда не выходит за исключением своих редких и прекрасных появлений.
– Константин Каверна! – воскликнул Бак. – Даже в Техасе, откуда я родом, мы слыхивали об этом превосходном поэте. Вы должны отвести меня к нему незамедлительно.
Оставив Генри на произвол его судьбы (и горька же была она!), Бак с Ингарден истерически рванули в аптеку Константина Каверны, и Бак, пока они катили, сочинял, что бы такого элегантного изречь этому старому поэту, предтече, так сказать, поэзии в Америке.
Светилась ли в глазах наших нежность? Трудно сказать. Каденции документов пятнали Западный Альянс, уже, вероятно, предрасположенный превыше молитв, что в силах искупить его.
– Вам не кажется, что у меня слишком много волос на шее? вот тут? – спросила у Бака Ингарден. Но не успел он и рта раскрыть, она сказала: – О, закройте рот!
Она знала, что миссис Лутч, чей интерес к пастору был лишь напускным, отыщет американский путь, если его вообще возможно отыскать.
В аптеке Константина Каверны проводилось собрание Толедского медицинского общества, вследствие чего Баку не довелось произнести своих приветственных слов, которым суждено было быть: «Каверна, мы здесь!» Жаль, но перекликните клички! Смотрите или, скорее, слушайте, кто в сборе, а кто нет! Присутствовали
Д-р Калигари
Д-р Франк
Д-р Пеппер
Д-р Шолл
Д-р Франкенталер
Д-р Мабузе
Д-р Грабов
Д-р Мельмот
Д-р Вайль
Д-р Модесто
Д-р Фу Манчу
Д-р Веллингтон
Д-р Ватсон
Д-р Браун
Д-р Рококо
Д-р Дулиттл
Д-р Альварес
Д-р Спок
Д-р Хатч
Д-р Эспань
Д-р Малоун
Д-р Кляйн
Д-р Кейси
Д-р Ноу
Д-р Регата
Д-р Илья
Д-р Бадерман
Д-р Авени
и прочие врачи. Воздух был сперт, товарищи, ибо доктора подвергали рассмотрению (да!) резолюцию о порицании старого любимого поэта. Покончим с бадинажем и острословием! К серьезности. Утверждалось, что Каверна отпустил… но кто дерзнет поссориться с Корнем Любви, использованным должно? Он спас довольно наглецов. Обвинение пребывало в умелых руках д-ра Кляйна, изобретателя сердца, и д-ра Эспаня, в честь которого, как убеждены многие, названа Испания. Их богоподобные фигуры высились над крохотным поэтом.
Кляйн наступает.
Каверна встает во весь свой рост, который не огромен.
Ингарден затаивает дыханье.
Эспань тает, больше, больше…
Тезисы от Эспаня Кляйну.
Бак сбит.
Луау?
Поэт открывает…
Нет! Нет! Вернитесь!
– …и если путь сей долог и ведет мимо реактора, и вниз по долине, и вверх по садовой дорожке, оставьте ее, реку я вам, небесам. Ибо у науки есть свои резоны, разуму неведомые, – закончил Каверна. И все свершилось.
– Черт! – сказал один врач, и остальные угрюмо зашаркали ногами по аптеке, озирая странный товар, что продавался тут. Ясно, что никакая резолюция о порицании даже не могла бы… Ну разумеется нет! О чем мы только думали?
Сам Каверна, похоже, был доволен исходом слушаний. Баку с Ингарден он декламировал свои поэмы о любви, озаглавленные «В вечерней синеве», «Давно и далеко», «Кто?» и «Дань У.К. Уильямсу». Ноги посетителей танцевали по усыпанному опилками полу аптеки амулетов под неотразимые ритмы поэтовых поэм. Изморозь счастья белела на двух поверхностях их лиц.
– Даже в Техасе, – прошептал Бак, – где все очень волнительно, нет ничего сродни старческому лицу Константина Каверны. Вы взаправду?
– О, жаль, что все не иначе.
– Правда?
– В мире так много прекрасных людей, и жалко, что я не из их числа!
– Вы из, вы из!
– Не по сути. Не внутри.
– Вы очень аутентичны, как мне кажется.
– Это нормально в Кливленде, где аутентичность – то, что надо, а здесь…
– Поцелуй меня, пожалуйста.
– Опять?
4
Парашюты прочих пассажиров щелкнули и затрещали во тьме вокруг него. В форсажной камере случилась неполадка, и пилот решил «нырнуть». Крайне все это неудачно.
– Каков твой стиль жизни, Цинциннати? – вопросил Бак у опрокинутой на спину драгоценности, посверкивающей под ним, словно старое ведро технических алмазов. – Дерзновен ли ты, как Кливленд? агонизируешь, как Акрон? туп, как Толедо? Каков твой настрой, Цинциннати?
В ледяном молчании город подступал к его пятам.
Войдя в контакт с Цинциннати, Бак и те из прочих пассажиров злосчастного рейса 309, кто пережил «нырок», направились в отель.
– Это у вас тут фляжка грога?
– Да, вообще-то это грог.
– Чудесно.
Согревшись грогом, от которого кровь заскакала у него по жилам, Бак пошел в свой номер и кинулся на кровать.
– О! – внезапно сказал он. – Должно быть, я не в том номере!
Девушка в постели сонно шевельнулась.
– Это ты, Харви? – спросила она. – Где же ты был столько времени?
– Нет, это Бак, – ответил Бак девушке, которая выглядела очень хорошенькой в голубой фланелевой ночнушке, натянутой на самые коленные чашечки, где остались красные полоски. – Должно быть, я попал в чужой номер, я боюсь, – повторил он.
– Бак, выметайтесь из этого номера сейчас же! – холодно произнесла девушка. – Меня зовут Стефани, и если мой друг Харви застанет вас здесь, будет неприятная сцена.
– Что вы делаете завтра? – спросил Бак.
Назначив «свидание» Стефани на 10 часов утра, Бак уснул невинным сном в собственной постели.
Утро в Цинциннати! Прославленный холодный свет цинциннатского солнца неразборчиво падал на весь город, там и сям, почти никого не согревая. Стефани де Ноголитьё надела льдисто-лазоревый шерстяной костюм, в котором смотрелась очень холодной, прекрасной и изможденной.
– Расскажите мне о своей цинциннатской жизни, – сказал Бак, – о ее уровне, я вот в чем заинтересован.
– Моя жизнь здесь весьма аристократична, – сказала Стефани, – поло, персиковый компот, liaisons dangéreuses[12] и так далее, поскольку я принадлежу к старой цинциннатской семье. Тем не менее все это не очень «весело», и вот именно поэтому я согласилась на это десятичасовое свидание с вами, волнующий небесный незнакомец!
– Вообще-то я из Техаса, – сказал Бак, – но у меня в этом путешествии нелады с самолетами. На самом деле я им не очень доверяю. Не уверен, что они надежны.
– А кто, в конце концов, надежен? – холодно вздохнула Стефани, полазорев еще круче.
– Вы кручинитесь, Стефани? – спросил Бак.
– Круче ли мне? – задумалась Стефани. И в зависшем молчании она пересчитала своих друзей и связи.
– Происходит ли в этом городке какая-либо достопримечательная художественная деятельность?
– Это типа чего?
Бак затем поцеловал Стефани прямо в таксомоторе, дабы разогнать крутую лазурь, столь характерную для ее лица.
– Все девушки в Цинциннати похожи на вас?
– Все первоклассные девушки похожи на меня, – ответила Стефани, – но есть и другие, о которых я не стану упоминать.
Слабый призвук чего-… Волна чего-… Густые облака чего-… Тяжестью невообразимый вес чего-… Тонкие пряди чего-…
Д-р Гесперидян свалился в маленький бассейн в саду ванПельта Райана (разумеется!) и все кинулись его вытаскивать. Чужие люди встречались и влюблялись, решая проблему, как покрепче ухватить д-ра Гееперидяна. Шумовой оркестр исполнял арии из «Войцека». А он лежал у самой поверхности, и изморозь ряски белила его скулы. Казалось, он…
– Не так, – произнес Бак, потянувшись к пряжке своего ремня. – А так.
Толпа отпрянула средь сосен.
– Вы, похоже, приятный молодой человек, молодой человек, – сказал ванПельт Райан, – хотя у нас и своих таких хватает после того, как в городе обосновался завод «Дженерал Электрик». Вы занимаетесь использованием счетных машин?
Бак вспомнил очаровательные красные полоски на коленках Стефани де Ноголитьё.
– Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос, – честно ответил он, – но если вы хотите, чтобы я ответил на какой-нибудь другой…
ванПельт печально отвернулся. Шумовой оркестр наигрывал «Блюз красного мальчика», «Это всё», «Гигантский блюз», «Кропалик», «Остываем» и «Эдвард». Хоть каждый исполнитель увечен по-своему… но все это становится, к вящему ужасу, слишком личным. У оркестра славный звук. Порцайки грога густели на столе, размещенном там для этой цели. «Я расту меньше, а не больше, вступая в интимную связь с человеками по мере продвижения сквозь мирскую жизнь, – подумал Бак. – Виноват ли я в этом? Вина ли это вообще?» Музыканты отыграли крайне романтические баллады «Я не знал, который час», «Царапни меня» и «В тумане». Мрачное будущее, предреченное в последних номерах журнала «Разум», давит, давит… Ну где же Стефани де Ноголитьё? Никто не мог ему сказать, да и, по правде, знать ему не хотелось. Не он задает этот вопрос, но миссис Лутч. Она планирует по своей глиссаде, синусоидно, она падает, вспыхивает, ее последние слова:
– Передайте им… когда разбиваются… пусть выключают… зажигание.
Поля
Эдвард растолковывал Карлу поля.
– Ширина полей являет культуру, эстетику и ощущение ценностей либо отсутствие оных, – говорил он. – Очень широкое левое поле – признак личности непрактичной, культурной и утонченной, глубоко понимающей лучшее в изящном искусстве и музыке. В то время как, – Эдвард сверился с рукописью своей аналитической книги, – в то время как узкое левое поле показывает нам совершенно обратное. Полное отсутствие левого поля дает нам практичную природу, здоровую экономию и общий недостаток хорошего вкуса к искусствам. Очень широкое правое поле показывает личность, которая боится встречаться с реальностью, чрезмерно чувствительна к будущему и, в общем и целом, плохо коммуникабельна.
– Я в это не верю, – сказал Карл.
– Итак, – продолжал Эдвард, – возвращаясь к вашему плакату перед нами, у вас широкие поля со всех сторон, а стало быть, вы личность крайне тонко чувствующая, с любовью к цвету и форме, которая настороженно держится с толпами и живет в собственном мире грез, где царят красота и хороший вкус.
– Вы уверены, что все правильно поняли?
– Я общаюсь с вами, – сказал Эдвард, – через пропасть невежества и тьмы.
– И тьму навел я, смысл в этом? – спросил Карл.
– Вы и навели тьму, черный засранец, – сказал Эдвард. – Клево, чувак.
– Эдвард, – сказал Карл, – бога ради.
– Зачем вы написали всю это хренотень на своем плакате, Карл? Зачем? Это же неправда, правда? Правда?
– Да нет, как бы правда, – сказал Карл. И перевел взгляд на свои коричневые плакаты, связанные друг с дружкой, которые гласили: «Меня Посадили В Тюрьму В Округе Селби, Алабама, На Пять Лет За То, Что Украл Доллар С Половиной, Чего Я Не Делал. Пока Я Сидел В Тюрьме, Моего Брата Убили, А Мать Сбежала, Когда Я Был Крошкой. В Тюрьме Я Начал Проповедовать И Проповедую Людям, Когда Только Могу, Свидетельствуя Эсхатологическую Любовь. Я Заполнял Бумаги На Работу, Но Работу Мне Никто Не Дает, Потому Что Я Сидел В Тюрьме, И Все Это Очень Уныло, Пепси-Кола. Мне Нужны Ваши Пожертвования, Чтобы Купить Еды. Патентная Заявка Подана И Спасет Нас От Зла». – Это правда, – сказал Карл, – такой мердической[13] внутренней правдой, что сияет вопреки всему – объективным коррелятом того, что случилось на самом деле еще там, дома.
– Ну вот посмотрите, как вы нарисовали вот тут эти «м» и «и», – сказал Эдвард. – Кончики заострены, а не скруглены. Это указывает на агрессивность и энергию. А тот факт, что они также заострены, а не скруглены еще и внизу, указывает на природу саркастичную, упрямую и раздражительную. Понимаете, о чем я?
– Как скажете, – сказал Карл.
– Ваши заглавные очень малы, – сказал Эдвард, – что указывает на смирение.
– Моей маме бы понравилось, – сказал Карл, – если б она знала.
– С другой стороны, преувеличенный размер петелек в «у» и «д» проявляет склонность к преувеличениям и эгоизм.
– С этим у меня всегда были проблемы, – ответил Карл.
– Как ваше полное имя? – спросил Эдвард, опираясь на здание. Они стояли на Четырнадцатой улице, около Бродвея.
– Карл Мария фон Вебер, – сказал Карл.
– Вы наркоман?
– Эдвард, – сказал Карл. – А вы и впрямь живчик.
– Вы мусульманин?
Карл провел пятерней по длинным волосам.
– Вы читали «Тайну бытия» Габриэля Марселя? Мне очень понравилась. Отличная книжка, мне показалось.
– Да нет, ладно вам, Карл, отвечайте на вопрос, – настаивал Эдвард. – Между расами должна быть открытость и честность. Мусульманин?
– Я думаю, компромисса можно достичь, и правительство в данный момент делает все, что в его силах, – сказал Карл. – Я думаю, по всем аспектам вопроса можно что-то сказать. Тут не самое удачное место для попрошаек, вам это известно? Мне за все утро дали всего два подношения.
– Людям нравятся люди опрятные, – сказал Эдвард. – А вы смотритесь как-то убого, если простите мне такое выражение.
– Вы в самом деле считаете, что слишком длинные? – спросил Карл, снова ощупывая волосы.
– А вы как считаете, у меня хорошенький оттенок? – спросил Эдвард. – Вы завидуете?
– Нет, – ответил Карл, – не завидую.
– Вот видите? Преувеличения и эгоизм. А я что говорю?
– Вы какой-то скучный, Эдвард. Сказать по правде. Эдвард на миг задумался.
Затем сказал:
– Но я белый.
– Предпочтительный цвет, – сказал Карл. – Но я устал разговаривать о цвете. Давайте поговорим о ценностях или еще о чем-нибудь.
– Карл, я дурак, – неожиданно сказал Эдвард.
– Да, – подтвердил Карл.
– Но я – белый дурак, – сказал Эдвард. – Вот это во мне и славно.
– Вы и сами ничего, Эдвард, – сказал Карл. – Это правда. Славно выглядите. Внешний вид добрый.
– О черт, – уныло вымолвил Эдвард. – У вас хорошо язык подвешен, – сказал он. – Я это заметил.
– А причина в том, – сказал Карл, – что я читаю. Вы читали «Каннибала» Джона Хоукса? Просто дьявольская книга.
– Постригитесь, Карл, – сказал Эдвард. – Купите новый костюм. Может, какой-нибудь из новых итальянских, с узкими пиджаками. Быстро пойдете в гору, если приложите к этому силы.
– Почему вы так беспокоитесь, Эдвард? Почему мое положение вас так расстраивает? Почему бы вам не отойти от меня и не поговорить с кем-нибудь другим?
– Вы меня тревожите, – признался Эдвард. – Я все пытаюсь проникнуть в вашу внутреннюю реальность, разузнать, что она такое. Любопытно, не так ли?
– Еще Джон Хоукс написал «Жучиную ножку» и пару других книжек, чьих названий я сейчас припомнить не в состоянии, – сказал Карл. – Мне кажется, он один из лучших американских писателей молодого поколения.
– Карл, – сказал Эдвард, – какова же ваша внутренняя реальность? Выкладывайте, малыш.
– Она – моя, – спокойно ответил Карл. И посмотрел на свои ботинки, напоминавшие пару крупных дохлых буроватых птиц.
– Вы уверены, что не крали те полтора доллара, упомянутые на вашем плакате?
– Эдвард, я же сказал вам, что не крал этот доллар с половиной. – Карл, обвешанный плакатами, потопал ногами. – Какая же холодина на этой Четырнадцатой улице.
– Это все ваше воображение, Карл, – сказал Эдвард. – На этой улице ничуть не холоднее, чем на Пятой или на Лексе. Ваше ощущение того, что здесь холоднее, вероятно, проистекает из вашего маргинального статуса лица, в нашем обществе презираемого.
– Вероятно, – сказал Карл. На его лице появилось выражение. – Знаете, я ходил к правительству и просил дать мне работу в Оркестре морской пехоты, а мне отказали?
– Хорошо дуете, чувак? Где ваша дудка?
– Меня и на сборе хлопка не захотели, – сказал Карл. – Что вы об этом думаете?
– Эта ваша эсхатологическая любовь, – сказал Эдвард, – что это за любовь такая?
– Это поздняя любовь, – ответил Карл. – Я ее так называю, что бы там ни говорили. Любовь по другую сторону Иордана. Понятие соотносится с набором условий, которые… Это как бы такая история, которую мы, черные, себе рассказываем, чтобы стать счастливыми.
– Ох-хо-хо, – сказал Эдвард. – Невежество и тьма.
– Эдвард, – сказал Карл, – я вам не нравлюсь.
– А вот и нравитесь, Карл, – сказал Эдвард. – Где вы главным образом крадете себе книги?
– Главным образом – в аптеках, – ответил Карл. – Они мне подходят, поскольку длинные и узкие по большей части, а продавцы склонны держаться поближе к рецептурным прилавкам в глубине аптек, в то время как книги обычно размещаются в таких маленьких вращающихся стойках у самых дверей. Обычно довольно легко сунуть парочку в карман пальто, если вы носите пальто.
– Но…
– Да, – сказал Карл. – Я знаю, о чем вы думаете. Если я краду книги, то краду и что-нибудь еще. Вместе с тем кража книги метафизически отличается от кражи, скажем, денег. Вийону было что хорошего сказать на эту тему, я полагаю.
– Это в «Если б я был королем»?
– Кроме того, – добавил Карл, – неужели вы никогда ничего не крали? В какой-то момент своей жизни?
– Моя жизнь, – сказал Эдвард. – Зачем вы мне о ней напоминаете?
– Эдвард, вы не удовлетворены собственной жизнью! Я думал, у белых жизнь всегда славная! – удивленно вымолвил Карл. – Мне нравится это слово – «славная». Я от него так счастлив.
– Послушайте, Карл, – сказал Эдвард. – Почему бы вам просто не сосредоточиться на улучшении собственного почерка?
– Моего характера, вы имеете в виду?
– Нет, – сказал Эдвард. – Не хлопочите об улучшении характера. Займитесь только почерком. Делайте заглавные покрупнее. Петельки в «у» и «д» поменьше. Следите за пробелами между словами, чтобы не проявлять дезориентацию. И не упускайте из виду поля.
– Хорошая мысль. Но не слишком ли это поверхностный подход к проблеме?
– И поосторожнее с междустрочными интервалами, – продолжал Эдвард. – Междустрочные интервалы проявляют ясность мысли. Обращайте внимание на последние буквы в словах. Существует двадцать две разновидности написания последних букв, и каждая может многое сказать о человеке. Я дам почитать вам свою книгу. Хороший почерк – ключ к успеху, если не единственный, то один из. Вы можете стать первым представителем вашей расовой принадлежности, занявшим пост вице-президента.
– Есть к чему стремиться, нормально так.
– Сходить за книгой?
– Не думаю, – ответил Карл. – Нет, спасибо. Не то чтобы я никак не верил в ваше решение проблемы. Мне бы другого хотелось – помочиться. Не подержите плакаты минутку?
– С удовольствием, – сказал Эдвард и в следующий миг уже накинул связанные плакаты себе на узкие плечи. – Ух, а они тяжеленькие, да?
– Немножко режут, – злобновато улыбнулся Карл. – Я сейчас только вон в тот магазин мужской одежды зайду.
Когда Карл вернулся, двое резко треснули друг друга по мордасам тыльными сторонами рук – той великолепной их частью, где растут костяшки.
Звездный час Джокера
Фредрик ходил домой к своему другу Брюсу Уэйну по вечерам почти каждый вторник. Брюс обычно сидел у себя в кабинете и пил стаканчик чего-нибудь. Фредрик заходил, садился и озирал кабинет, где имелось множество трофеев былых подвигов.
– Ну, Фредрик, что поделывал? Что-нибудь?
– Да нет, Брюс, все как-то вприскочку.
– Что ж, сегодня вечер вторника, а по вечерам вторника обычно что-то происходит.
– Я знаю, Брюс, иначе вечер вторника я бы не стал выбирать для визита.
– Включить радио, Фредрик? Обычно по радио бывает что-нибудь интересное, или хочешь какой-нибудь музыки из моей стереосистемы?
Радио у Брюса Уэйна было особой коротковолновой модели со множеством дополнительных функций. Когда Брюс его включал, раздавался визг, после чего они слушали Токио или еще где-нибудь. Над радио на стене висел трофей подвига: длинное африканское копье с жестяным наконечником.
– Скажи мне, Брюс, что это ты там пьешь? – спросил Фредрик.
– Извини, Фредрик, это томатный сок. Налить тебе стаканчик?
– А в нем что-нибудь есть, или это просто томатный сок?
– Томатный сок и немного водки.
– Да, я бы не отказался от стаканчика, – сказал Фредрик. – И на водку не сильно, пожалуйста, налегай.
Пока Брюс ходил на кухню готовить выпивку, Фредрик встал и пристальнее осмотрел африканское копье. На кончике он заметил темноватое ржавое пятно какого-то вещества, возможно – редкого экзотического яда.
– Что это за штука на кончике вон того африканского копья? – спросил он, когда Брюс вернулся в комнату.
– Должно быть, еще одну бутылку водки я оставил в бэтмобиле, – сказал Брюс. – О, это кураре, смертельнейший из южноамериканских ядов, – подтвердил он. – Поражает двигательные нервы. Ты там осторожнее, не оцарапайся.
– Ничего, я выпью неразбавленного томатного сока, – сказал Фредрик, усаживаясь в кресло и выглядывая в окно. – Ой-ёй, в небе высветился силуэт летучей мыши. Должно быть, вызов комиссара Гордона из штаб-квартиры.
Брюс выглянул в окно. Длинный луч желтоватого света с четким силуэтом летучей мыши на конце рассекал вечернее небо.
– Я говорил тебе, вечер вторника – обычно хорошее время, – сказал Брюс Уэйн. Он поставил водку с томатным соком на пианино. – Подожди секундочку, я переоденусь?
– Конечно, не торопись, – сказал Фредрик. – Кстати, Робин до сих пор в Андовере?
– Да, – ответил Брюс. – Домой вернется на День благодарения, наверное. Французский ему никак не дается.
– Что ж, не хотелось тебя отвлекать, – сказал Фредрик. – Иди переодевайся. А я пока журнальчик полистаю.
Брюс переоделся, и оба вышли в гараж, где их ждали бэтмобиль и бэтоплан.
Бэтмен мурлыкал мелодию, которую Фредрик узнал, – «Варшавский концерт».
– Какой возьмем? – спросил он. – Очень трудно выбирать для таких смутных и неопределенных заданий, как это.
– Давай подбросим монетку, – предложил Фредрик.
– У тебя есть четвертачок? – спросил Бэтмен.
– Нет, только дайм. По-моему, годится, – ответил Фредрик.
Они подбросили: орел – бэтмобиль, решка – бэтоплан. Монета выдала орла.
– Что ж, – сказал Бэтмен, когда они забирались в комфортабельный бэтмобиль. – По крайней мере, теперь можешь выпить водки. Она под сиденьем.
– Не люблю я ее в чистом виде, – сказал Фредрик.
– Нажми вон ту кнопку на приборной доске, – сказал Бэтмен. Фредрик нажал, панель скользнула вбок и открылся маленький бар: лед, стаканы, вода, содовая, хинин, лимон, лаймы и проч.
– Спасибо, – сказал Фредрик. – Тебе смешать?
– Не на работе, – ответил Бэтмен. – Довольно ли там хинной воды? Забыл вчера купить, когда вечером заезжал в винную лавку.
– Довольно, – сказал Фредрик. Он с наслаждением потягивал водку-тоник, пока Бэтмен искусно вел бэтмобиль по темным улицам Готама.
В кабинете комиссара Гордона в Полицейском управлении комиссар сказал:
– Рад, что вы наконец-то добрались до нас, Бэтмен! Кто это с вами?
– Это мой друг Фредрик Браун! – ответил Бэтмен. – Фредрик, комиссар Гордон! – Мужчины пожали руки, а Бэтмен спросил: – Ну, комиссар, в чем дело?
– Вот в этом! – ответил комиссар Гордон и поставил на стол перед собою миниатюрную модель корабля. – Пакет доставил посыльный, адресован вам, Бэтмен! Боюсь, ваш старый враг Джокер снова на свободе!
Бэтмен помычал престранную мелодию, которую Фредрик узнал – «Корнуоллская рапсодия», записана на обратной стороне «Варшавского концерта».
– Хмммммм! – произнес Бэтмен. – Похоже на очередной вызов Джокера потягаться умами!
– «Летучий голландец»! – воскликнул Фредрик, прочитав название на носу модели. – Имя знаменитого древнего корабля-призрака! Что бы это значило?
– Умно замаскированный ключ! – сказал Бэтмен. – «Летучий голландец» в данном случае, возможно, означает голландского ювелирного торговца Хенд-рика ван Ворта, который прилетает сегодня вечером в Готам с партией драгоценных камней!
– Хорошо мыслите, Бэтмен! – сказал комиссар Гордон. – Я бы сам, вероятно, и за тысячу лет бы не догадался!
– Что ж, нам надо спешить в аэропорт! – сказал Бэтмен. – Как отсюда туда лучше добраться, комиссар?
– Что ж, на вашем месте я бы поехал по 34-й улице до Военного мемориала, затем свернул на Мемориальный проезд, пока он не вольется в Готамскую автостраду! А по автостраде – попутный ветер! – объяснил он.
– Минуточку! – сказал Бэтмен. – Не быстрее ли выехать на Дуганскую трассу, где она вливается в город на 11-й улице, а затем двинуть по Северной окружной до Ричардсоновского шоссе? Разве так мы не сэкономим время?
– Что ж, я сам так езжу на работу! – ответил комиссар. – Только на Северной окружной прокладывают две новые полосы движения, поэтому придется объезжать по Набережной, затем сворачивать на 99-ю, чтобы вернуться на трассу! Объезд в две лишних мили! – сказал он.
– Хорошо! – сказал Бэтмен. – Значит, едем по 34-й! Спасибо, комиссар, и ни о чем не беспокойтесь! Поехали, Фредрик!
– А, кстати! – сказал комиссар Гордон. – Как там Робин в Эксетере?
– Он не в Эксетере, он в Андовере! – ответил Бэтмен. – У него все очень хорошо! Ему только французский немного не дается!
– Мне и самому он не давался! – весело сказал комиссар. – Où est mon livre?
– Où est ton livre? – сказал Бэтмен.
– Où est son livre? – сказал комиссар, показывая на Фредрика.
– Tout cela s'est passé en dix-neuf cent vingt-quatre[14], – сказал Фредрик.
– Ладно, мы поползем, комиссар! – сказал Бэтмен. – Джокер, как вы знаете, – довольно скользкий тип! Пойдем, Фредрик!
– Рад был познакомиться, комиссар, – сказал Фредрик.
– Я тоже, – ответил комиссар, пожимая Фредрику руку. – Симпатичный молодой человек у вас, Бэтмен. Где вы его нашли?
– Просто друг, – ответил Бэтмен, улыбаясь под маской. – Обычно мы с ним собираемся по вечерам во вторник и пропускаем несколько.
– Чем вы занимаетесь, Фредрик? В смысле, чем зарабатываете себе на жизнь?
– Я продаю «Гравий» – газету, которая распространяется преимущественно в сельских районах, – ответил Фредрик. – Однако продаю ее здесь, в Готаме. Многие сегодняшние лидеры в ранней юности торговали «Гравием».
– Хорошо, – сказал комиссар Гордон, провожая их из кабинета. – Удачи. Téléphonez-moi un de ces jours[15].
– Ладненько, – ответил Бэтмен, и они поспешили по улице к бэтмобилю, запаркованному в зоне для грузовиков доставки.
– Мы не могли бы остановиться на минутку по пути? – спросил Фредрик. – У меня закончились сигареты.
– В бардачке есть немного «Вице-короля», – ответил Бэтмен и нажал кнопку. Панель в приборной доске скользнула вбок, и появился нераспечатанный блок «Вице-короля».
– Обычно я предпочитаю «Кент», – сказал Фредрик, – но и «Вице-король» вкусный.
– Я прихожу к выводу, что все они примерно одинаковы, – сказал Бэтмен. – На мой взгляд, большинство предполагаемых отличий в сигаретах – просто реклама.
– Я бы ничуть не удивился, если бы ты тут оказался прав, – сказал Фредрик. Бэтмобиль несся по темным улицам Готама к Готамскому аэропорту.
– Включи радио, – попросил Бэтмен. – Может, новости поймаем или что-нибудь.
Фредрик включил радио, нотам ничего необычного не было.
В Готамском аэропорту ювелирный торговец Хендрик ван Ворт только сходил с реактивного самолета компании «КЛМ», когда бэтмобиль вырулил на посадочную полосу – его почтительно пропустили в ворота полицейские в серых мундирах.
– Что ж, похоже, все в порядке, – сказал Бэтмен. – Вон дожидается бронированный автомобиль, чтобы доставить мистера ван Ворта к его месту назначения.
– Это какая-то новая модель броневика, не так ли? – спросил Фредрик.
Без единого слова Бэтмен запрыгнул в открытую дверь бронированного автомобиля и схватился с некой тенью внутри.
ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА ХА ХА ХА ХА ХА!
– Это смех Джокера! – отметил Фредрик. – Человек в бронированном автомобиле – должно быть, ухмыляющийся клоун преступности собственной персоной!
– Бэтмен! Я думал, тот ключ, что я тебе послал, совершенно швырнет тебя на волю волн!
– Нет, Джокер! Боюсь, он оставит твои планы болтаться в воздухе!
– Но не надолго, Бэтмен! Я сброшу тебя обратно на землю!
И одним быстрым движением Джокер врезался броневиком в здание Аэровокзала!
ТРЕСЬ!
– Великий Скотт! – сказал себе Фредрик. – Бэт-мен оглушен! Он беспомощен!
– Ты спутал мне все карты, Бэтмен! – сказал Джокер. – Но пока сюда не прибыла полиция, я сорву с тебя эту маску и увижу, кто ты есть на самом деле! ХА ХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХАХА ХАХАХА!
Фредрик в ужасе наблюдал.
– Великий Скотт! Джокер сорвал маску с Бэтмена! Теперь он знает, что Бэтмен на самом деле – Брюс Уэйн!
В этот момент Робин, которому полагалось находиться за много миль отсюда в Андовере, посадил бэтоплан на полосу и помчался к разбитому бронеавтомобилю! Однако Джокер, всегда начеку, схватился за трос, спущенный с зависшего над ними вертолета, и быстро поднялся в небо! Робин задержался у броневика и снова натянул маску на лицо Бэтмена!
– Привет, Робин! – окликнул его Фредрик. – Я думал, ты в Андовере!
– Я и был там, но меня внезапно посетило чувство, что я нужен Бэтмену, вот я и прилетел сюда на бэтоплане, – ответил Робин. – Как у вас дела?
– Прекрасно, – сказал Фредрик. – Но мы оставили бэтоплан в гараже, в Пещере Бэтмена. Я не понимаю.
– У нас всего по два, – объяснил Робин. – Хоть широко об этом и не известно.
С помощью Фредрика Робин отнес оглушенного Бэтмена к поджидающему бэтмобилю.
– Ты веди бэтмобиль обратно в Пещеру Бэтмена, а я полечу за вами на бэтоплане, – сказал Робин. – Хорошо?
– Понято, – ответил Фредрик. – Ты не думаешь, что ему стоит дать чуточку бренди или чего-нибудь?
– Это хорошая мысль, – согласился Робин. – Нажми вон ту кнопку на приборной доске. Это кнопка бренди.
Фредрик нажал на кнопку, и вбок скользнула панель, явив ему бутылку «Б-и-Б» и нужное количество стаканов.
– Довольно вкусно, – сказал Фредрик, пробуя «Б-и-Б». – Сколько за квинту?
– Примерно восемь долларов, – ответил Робин. – Смотри, похоже, это приводит его в чувство.
– Великий Скотт, – сказал Бэтмен. – Что произошло?
– Джокер разбил свой бронированный автомобиль, и тебя оглушило, – объяснил Фредрик.
– Привет, Робин, а ты что тут делаешь? Я думал, ты еще в школе, – сказал Бэтмен.
– Я и был там, – ответил Робин. – С тобой уже все в порядке? Домой доехать сможешь?
– Наверное, – сказал Бэтмен. – Что стало с Джокером?
– Удрал, – сказал Фредрик, – но сперва снял с тебя маску, пока ты лежал оглушенный в обломках разломанного бронеавтомобиля.
– Да, Бэтмен, – серьезно сказал Робин. – Мне кажется, он увидел твое подлинное лицо.
– Великий Скотт! – сказал Бэтмен. – Если он объявит об этом целому свету, настанет конец моей карьере борца с преступностью! Что ж, это проблема.
Они серьезно поехали назад в Пещеру Бэтмена, обдумывая эту проблему. Позже, в кабинете Брюса Уэйна, Брюс Уэйн, Фредрик и Робин, переодевшийся в консервативный андоверский костюм Дика Грэйсона, подопечного Брюса Уэйна, обсудили все это еще раз между собой…
– Что приводит Джокера в движение, интересно? – сказал Фредрик. – То есть каковы его истинные мотивы?
– Рассмотрим его на любом уровне поведения, – медленно произнес Брюс. – Дома, на улице, в межличностных отношениях, в тюрьме – и повсюду будет какое-то экстраординарное противоречие. Он грязен и маниакально чистоплотен, отчужден и отчаянно стаден, полон энтузиазма и угрюм, щедр и прижимист, щеголь и пугало, джентльмен и хам, склонен к крайностям как восторга, так и уныния, равно способен применить себя к чему-то дельному и промотать жизнь на банальные увлечения, благоприличен и непристоен, добр и жесток, терпим, однако привержен самым вопиющим проявлениям фанатизма, замечательный друг и неумолимый враг, любовник и женоненавистник, велеречивый оратор и сквернослов, повеса и пуританин, надуто спесив и одержим комплексом неполноценности, изгой и карьерист, негодяй и филантроп, варвар и меценат, он обожает новшества и прочно консервативен, он философ и дуралей, республиканец и демократ, широк душой и невыносимо мелочен, сдержан и бурлив от дружелюбия, закоренелый лжец и скрупулезный давалец сдачи кассиршам, авантюрист и рохля, изобретателен и косен, он злобно деструктивен и сажает деревья на весенний праздник древонасаждения; честно вам говорю, в человеке этом – полная неразбериха.
– Это крайне хорошо сказано, Брюс, – констатировал Фредрик. – Мне кажется, ты дал нам очень глубокий анализ.
– Я лишь перефразировал то, что Марк Шорер сказал о Синклере Льюисе, – ответил Брюс.
– Что ж, все равно это блистательно, – отметил Фредрик. – Мне, наверное, уже пора домой.
– Нам всем немного поспать не помешает, – сказал Брюс Уэйн. – Кстати, Фредрик, какдвижутся продажи «Гравия»? У тебя уже много подписчиков?
– Да, довольно-таки есть, Брюс, – ответил Фредрик. – Особенно удачно идут дела в более зажиточных кварталах Готама, хотя полную силу «Гравий» обретает, как правило, в сельских районах. Кстати, Дик, если хочешь, могу ссудить тебе свои аудиокурсы иностранных языков на пластинках, которые помогут тебе с французским, если ты ко мне зайдешь в субботу.
– Спасибо, Фредрик, я так и сделаю, – сказал Дик.
– Ладно, Брюс, – сказал Фредрик. – Наверное, увидимся в следующий вторник вечером, если ничего больше не случится.
В Лондон и Рим
Ты знаешь, чего мне хочется больше всего на свете? спросила Алисон.
ТУТ БЫЛА КРАТКАЯ ПАУЗА
Чего? спросил я.
Швейную машинку, сказала Алисон, с оверлоком для обметывания петель.
ТУТ БЫЛА ДОЛГАЯ ПАУЗА
Я бы столько всего могла с ним сделать, например, починить прошлогодние осенние платья и много чего другого.
ТУТ БЫЛА ПРОСТО НЕИМОВЕРНАЯ ПАУЗА, В КОТОРУЮ Я КУПИЛ ЕЙ ШВЕЙНУЮ МАШИНКУ «НЕККИ»
Изумительно! сказала Алисон, сидя за пультом управления «Некки» и обметывая петли в воскресном журнальном приложении к «Нью-Йорк Таймс». Ее глаза блистали. Также я купил двухлетнюю подписку на «Новости „Некки“», поскольку не был уверен, что интерес ее не сохранится по крайней мере на этот срок.
ТУТ БЫЛА ПАУЗА, НАРУШАЕМАЯ ЛИШЬ СТРЕКОТОМ «НЕККИ»
Затем я купил ей лиловый «роллс», который мы решили парковать на улице, поскольку в нашем многоквартирном доме не было гаража. Алисон сказала, что обожает этот «роллс»! и энергично меня поцеловала. Я расплатился за машину чеком Первого городского банка.
ТУТ БЫЛ ИНТЕРВАЛ
Питер, сказала Алисон, чем ты сейчас хочешь заняться?
О, я не знаю, ответил я.
ТУТ БЫЛ ДОЛГИЙ ИНТЕРВАЛ
Ну мы же не можем просто так сидеть в квартире, сказала Алисон, поэтому мы отправились на бега в Акведук, где я купил скаковую лошадь, которая бежала далеко впереди остальных. Какая прекрасная скаковая лошадь! в восторге сказала Алисон. За лошадь я расплатился чеком Капитального национального банка.
ТУТ БЫЛ ПЕРЕРЫВ МЕЖДУ ЗАЕЗДАМИ, ПОЭТОМУ МЫ СХОДИЛИ НА КОНЮШНИ И КУПИЛИ ДЛЯ ЛОШАДИ ТРЕЙЛЕР
Трейлер цеплялся посредством трейлерной сцепки, которую я тоже купил, когда стало ясно, что без нее трейлер к нашему новому «роллсу» не подцепить. Лошадь звали Дэн, и я купил лошадиную попону, которую он уже носил, но она к нему не прилагалась, чтобы не замерз.
Какой он красивый, сказала Алисон.
Да еще и лидер, добавил я.
ТУТ БЫЛ ИНТЕРВАЛ В НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ ПОТОМ МЫ С АЛИСОН ЗАГНАЛИ МАШИНУ С ТРЕЙЛЕРОМ ПО ПАНДУСУ В САМОЛЕТ И ПОЛЕТЕЛИ ОБРАТНО ВМИЛУОКИ
Остановившись на ланч в «Говарде Джонсонзе», где мы покормили Дэна жареными моллюсками, которые, похоже, очень ему понравились, Алисон сказала: Ты знаешь, что мы совсем забыли? Я знал: что-то мы забыли, – но что именно, сколько ни думал, так и не сообразил.
В нашем многоквартирном здании его негде будет держать! торжествующе сказала Алисон, показывая на Дэна. Она, разумеется, была абсолютно права, и я поспешно купил большой трехэтажный дом в лучшем пригороде Милуоки. А чтобы в доме стало уютнее, я купил и концертный рояль.
НА ПОРОГЕ НОВОГО ДОМА ПЕРЕВОЗЧИКИ РОЯЛЯ СДЕЛАЛИ ПАУЗУ, ЧТОБЫ ИСПИТЬ СТАКАН ХОЛОДНОЙ ВОДЫ
Вот несколько мелочей, которыми тебе следует заняться, сказала Алисон, вручая мне коробку счетов. Я тщательно перебрал все, отмечая суммы и раздумывая о деньгах. Что это, ради всего святого, такое! воскликнул я, вынимая счет на $1600 из скобяной лавки.
Садовый шланг, спокойно ответила Алисон.
ТУТ ПОВИСЛО НЕЛОВКОЕ МОЛЧАНИЕ
Было ясно, что придется снять какие-то деньги со счета в Государственном доверительном банке и перевести их в Муниципальный национальный, поэтому я так и сделал. Пилот самолета, который я купил, чтобы он доставил нас в Акведук, вместе со своим другом, пилотом самолета побольше, который я купил, чтобы он доставил нас обратно, возник у нас на пороге и попросил, чтобы им заплатили. Пилотов звали Джордж и Сэм. Я заплатил им, а также купил у Сэма летную куртку – цвета хаки и приятную на вид. Они улыбнулись и отдали честь, уходя. Ну что, сказал я, озирая новый дом, наверное, лучше позвать учителя музыки, поскольку, насколько я понимаю, рояли, если ими не пользоваться, имеют склонность расстраиваться.
И не только рояли, сказала Алисон, даря мне возбужденный взгляд.
ПОСЛЕДОВАЛО МОЛЧАНИЕ, ОТЯГОЩЕННОЕ СЕКСУАЛЬНЫМ ПОДТЕКСТОМ. МЫ ОТПРАВИЛИСЬ В ПОСТЕЛЬ, СПЕРВА, ОДНАКО, ВЫЗВАВ НА РАННЕЕ УТРО УЧИТЕЛЯ МУЗЫКИ И НАСТРОЙЩИКА
На следующий день позвонил мистер Вашингтон из Центрального национального с докладом о превышении кредита в несколько сот тысяч долларов, за что я извинился. Кто это звонил? спросила Алисон. Мистер Вашингтон из банка, ответил я. О, сказала Алисон, что тебе хочется на завтрак? А что у тебя есть? спросил я. Ничего, ответила Алисон, завтракать придется не дома.
Поэтому мы отправились в аптеку-закусочную, где Алисон съела глазунью, а я – гречишные оладьи с колбасой. Вернувшись домой, я заметил, что вокруг дома нет деревьев, что ввергло меня в уныние.
Ты заметила, спросил я, что здесь нет деревьев?
МОЛЧАНИЕ
Да, ответила Алисон, заметила.
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ
Вообще-то, сказала Алисон, от бездревес-ности этого дома мне чуть ли не хочется вернуться в наш старый многоквартирный.
КОШМАРНОЕ МОЛЧАНИЕ
Там, по крайней мере, можно было рассматривать большие растения в вестибюле.
АБСОЛЮТНОЕ МОЛЧАНИЕ ДЛИТЕЛЬНОСТЬЮ В ОДНУ МИНУТУ
Как только войдем внутрь, сказал я, позвоню в древесную службу и куплю деревьев.
КРАТКОЕ МОЛЧАНИЕ
Кленов, сказал я.
О, Питер, что за прекрасная мысль, радостно сказала Алисон. Но кто эти люди в нашей гостиной?
В МОЛЧАНИИ МЫ ОЗИРАЛИ ДВУХ ЛЮДЕЙ, СИДЕВШИХ НА СОФЕ
Осознав, что люди эти – учитель музыки и настройщик, которых мы заказали, я сказал: Ну что, опробовали рояль?
Ага, ответил первый, и не смог в нем дна от покрышки отличить.
А вы? спросил я, повернувшись к другому человеку.
Фиг знает, ответил он с сильно озадаченным видом.
И в чем у нас тут проблема? спросил я.
ТУТ БЫЛО СТЫДЛИВОЕ МОЛЧАНИЕ
Если честно, сказал учитель музыки, вообще-то это не моя специализация. На самом деле, сказал он, я жокей.
А вы? спросил я у его спутника.
О, я подлинный настройщик роялей, ответил настройщик. Только у меня не очень хорошо получается. Никогда не получалось и никогда не будет.
МЫ В МОЛЧАНИИ РАССМОТРЕЛИ ПРОБЛЕМУ
У меня есть предложение, объявил я. Как вас зовут? спросил я, кивнув жокею.
Шибздик, ответил он, а моего друга – Падла.
Что ж, Шибздик, сказал я, нам нужен жокей для скаковой лошади по имени Дэн, который потеряет форму без выездок. А вы, Падла, вы можете посадить кленовые деревья, которые я только что заказал для нашего дома.
ТУТ БЫЛО РАДОСТНОЕ МОЛЧАНИЕ, ПОКА ШИБЗДИК И ПАДЛА ПЫТАЛИСЬ ПЕРЕВАРИТЬ ХОРОШИЕ НОВОСТИ
Я остановился на жалованье в $12 000 в год для Шибздика и чуть меньше – для Падлы. Свершив это, я поехал на «роллсе» на Кортландт-стрит показать его моей любовнице Амелии.
Когда я постучал в дверь квартиры Амелии, та отказалась ее открыть. Вместо этого она принялась репетировать гаммы на флейте. Я постучал еще раз и позвал: Амелия!
ЗВУКИ ФЛЕЙТЫ ЗАПОЛНЯЛИ БЕЗЗВУЧНЫЙ КОРИДОР
Я постучал еще, но Амелия продолжала играть. Поэтому я сел на ступеньки и начал читать газету, лежавшую на полу, в интервалах стуча и все это время недоумевая насчет психологии Амелии.
«Монтгомери Уорд», заметил я в газете, на 401/2. Амелия так упорствует, раздумывал я, из-за Алисон?
Я БЕЗМОЛВНО РАЗДУМЫВАЛ, ЧТО МНЕ ДЕЛАТЬ
Амелия, наконец сказал я (через дверь), мне хочется вручить тебе славный подарок стоимостью примерно $5500. Как тебе такое?
БЕСКОНЕЧНОЕ МОЛЧАНИЕ. ЗАТЕМ АМЕЛИЯ С ФЛЕЙТОЙ В РУКАХ ОТКРЫЛА ДВЕРЬ
Ты серьезно? спросила она.
Безусловно, ответил я.
Ты можешь себе это позволить? с сомнением спросила она.
У меня есть новый «роллс», сказал я и вывел ее наружу, где она любовалась автомобилем длительное время. Затем я дал ей чек на $5500 от Коммерческого национального, за который она меня поблагодарила. Вернувшись в квартиру, она грациозно сняла с себя одежду и вложила чек в книгу на книжной полке. Без одежды она выглядела очень хорошенькой, хорошенькой, как водится, и мы с приятностью провели время час или больше. Когда я покидал квартиру, Амелия сказала: Питер, мне кажется, ты очень приятная личность, отчего мне стало очень хорошо, и по пути домой я купил новый серый дакроновый костюм.
КОГДА Я ВРУЧАЛ ПРОДАВЦУ ЧЕК МЕДИЦИНСКОГО НАЦИОНАЛЬНОГО, ОН СДЕЛАЛ ПАУЗУ, НАХМУРИЛСЯ И СПРОСИЛ: ЭТО НОВЫЙ БАНК, ЧТО ЛИ?
Где ты был? спросила Алисон, я уже много часов жду обеда. Я купил новый костюм, ответил я, как он тебе нравится? Очень славный, сказала Алисон, но давай быстрее, мне после обеда надо за покупками. За покупками! сказал я, я иду с тобой!
Поэтому мы наскоро пообедали «вишиссуаз» и мороженым и попросили Падлу отвезти нас на «роллсе» в Федеративный универсальный магазин, где купили множество вещей для нашего нового дома и новую лошадиную попону для Дэна.
Как ты думаешь, может, надо купить униформу для Падлы и Шибздика? спросила Алисон, и я ответил: Думаю, не стоит, не похожи они на людей, которым понравится носить униформу.
ЛЕДЯНОЕ МОЛЧАНИЕ
А я думаю, им следует носить униформу, твердо сказала Алисон.
Нет, ответил я, думаю, что нет.
МЕРТВОЕ МОЛЧАНИЕ
Униформу с чем-нибудь на кармане, сказала Алисон. С гербом или чем-то вроде.
Нет.
ТУТ БЫЛ ИНТЕРВАЛ, В КОТОРЫЙ Я ОТПРАВИЛ ЧЕК НА $500 000 МУЗЕЮ СОВРЕМЕННОГО ИСКУССТВА
Вместо униформ я купил Шибздику трубку «Кейвуди» и немного трубочного табака, а Падле купил настоящую серебряную ковбойскую пряжку на ремень, да и сам ремень в придачу.
Падла был очень доволен серебряной ковбойской пряжкой и сказал, что Шибздик, наверное, тоже будет доволен, когда увидит купленную ему трубку «Кейвуди». В конечном итоге ты был прав, шепнула мне Алисон на заднем сиденье «роллса».
Алисон решила, что на ужин приготовит пирог – может быть, шоколадный пирог, – и мы пригласим на ужин Падлу, и Шибздика, и пилотов Джорджа и Сэма, если они в городе и не летают. Она принялась рыться в своей поваренной книге, а я в своем любимом кресле читал «Новости „Некки“».
Тут из гаража пришел Шибздик с тревогой на лице. Дэн, сказал он, нездоров.
ОШЕЛОМЛЕННАЯ ПАУЗА
Все ударились в панику от мысли о болезни Дэна, и я купил немного каопектата, от которого, как полагал тем не менее Шибздик, толку все равно никакого. Каопектат стоил $0,98, и я расплатился за него чеком Основного национального. Посыльный из аптеки, которого звали Эндрю, предположил, что Дэну требуется врач. Это показалось разумным, и я дал Эндрю чаевые чеком Промышленного трастового и попросил его привести лучшего врача, которого только можно найти за такой короткий срок.
МЫ ПЕРЕГЛЯДЫВАЛИСЬ В БЕССЛОВЕСНОМ СТРАХЕ
Дэн лежал на боку в гараже, время от времени постанывая. Его лицо было густо-серого цвета, и стало ясно, что если им незамедлительно не займутся, можно ожидать худшего.
Питер, бога ради, сделай же что-нибудь для этой бедной лошади! вскричала Алисон.
СДЕЛАВ ПАУЗУ ЛИШЬ ЗАТЕМ, ЧТОБЫ ВЫХВАТИТЬ ИЗ ЯЩИКА СТОЛА СВЕЖУЮ ЧЕКОВУЮ КНИЖКУ, Я КУПИЛ КРУПНУЮ БОЛЬНИЦУ ПОЧТИ ЗА $1,5 МИЛЛИОНА
Мы отправили Дэна прямо в его трейлере со строгим наказом обеспечить его лучшим. Шибздик и Падла сопровождали его, и когда явились Эндрю с врачом, я тоже поспешно отправил их в больницу. Беспокойство о Дэне в тот момент занимало мой разум превыше прочего.
Тут зазвонил телефон, и Алисон сняла трубку.
ВЕРНУВШИСЬ В ГОСТИНУЮ, АЛИСОН ЗАМЯЛАСЬ
После чего сказала: Это какая-то девушка, тебя.
Как я и подумал, то была Амелия. Я рассказал ей о болезни Дэна. Она очень расстроилась и спросила, не кажется ли мне уместным, если она съездит в больницу.
МГНОВЕНИЕ НЕРЕШИТЕЛЬНОСТИ, ЗА КОТОРЫМ ПОСЛЕДОВАЛО МУЧИТЕЛЬНОЕ МОЛЧАНИЕ
Ты не думаешь, что это будет уместно, сказала Амелия.
Нет, Амелия, сказал я честно, не думаю.
Тогда Амелия сказала, что подобное указание на ее незначительный статус во всей нашей жизни не оставляет ей ничего для ответа.
РАЗГОВОР ЗАВИС
Чтобы приободрить ее, я сказал, что навещу ее в ближайшем будущем. Это ей понравилось, и диалог завершился на теплой ноте. Однако я знал, что Алисон начнет задавать вопросы, и вернулся в гостиную с некоторой тревогой.
ЛАКУНА, ЗАПОЛНЕННАЯ СОМНЕНИЯМИ И ПОДОЗРЕНИЯМИ
Но тут внутрь ворвались пилоты Джордж и Сэм с поистине хорошими вестями. Они узнали о болезни Дэна по радио, как они сказали, и, преисполнившись заботой, прилетели прямо в больницу, где узнали, что Дэну промыли желудок, и все стало хорошо. Дэну полегчало и он отдыхает, сказали Джордж и Сэм, и примерно через неделю сможет вернуться домой.
О Питер! довольным макаром воскликнула Алисон, наше суровое испытание завершилось. Она самозабвенно поцеловала меня, а Джордж и Сэм пожали руки друг другу и Эндрю, Падле и Шибздику, которые только что вернулись из больницы. Чтобы отпраздновать, мы решили все вместе слетать в Лондон и Рим на реактивном «Виконте», который я купил за неразглашаемую сумму и на котором Сэм, по его собственным уверениям, умел летать очень хорошо.
Золотой дождь
Поскольку нужны были деньги, Питерсон откликнулся на объявление, в котором говорилось: «Мы вам заплатим за выступление на телевидении, если ваши убеждения достаточно глубоки, а личный опыт отдает чем-то необычайным». Он набрал номер, и ему велели явиться в кабинет 1551 Грейбар-билдинга по Лексингтон-авеню. Так он и сделал и, проведя двадцать минут с мисс Древ, спросившей, подвергался ли он когда-нибудь анализу, был допущен до программы под названием «Кто я?».
– В чем вы располагаете глубокими убеждениями? – спросила мисс Древ.
– В искусстве, – ответил Питерсон, – в жизни, в деньгах.
– Например?
– Я убежден, – сказал Питерсон, – что обучаемость мышей можно снизить или повысить, регулируя количество серотонина у них в мозгу. Я убежден, что у шизофреников выше встречаемость необычных отпечатков пальцев, включая линии, образующие почти замкнутые круги. Я убежден, что сновидец смотрит во сне сон, двигая глазами.
– Как интересно! – воскликнула мисс Древ.
– Все это есть во «Всемирном альманахе», – ответил Питерсон.
– Я вижу, вы скульптор, – сказала мисс Древ. – Это чудесно.
– Какова природа программы? – спросил Питерсон. – Я никогда ее не смотрел.
– Позвольте мне ответить на ваш вопрос другим вопросом, – сказала мисс Древ. – Мистер Питерсон, вы абсурдны?
Ее гигантские губы были измазаны сияющим белым кремом.
– Прошу прощения?
– Я имею в виду, – убедительно продолжала мисс Древ, – расцениваете ли вы свое существование как дармовое? Ощущаете ли вы себя de trop[16]? Присутствует ли тошнота?
– У меня увеличена печень, – предположил Питерсон.
– Это превосходно! – воскликнула мисс Древ. – Это очень хорошее начало! «Кто я?» пытается, мистер Питерсон, обнаружить, кто люди есть на самом деле. Люди сегодня, по нашим ощущениям, прячутся в себе, отчужденные, упавшие духом, они живут в муках, отчаянии и неверии. Зачем нас бросили сюда и покинули? Вот вопрос, на который мы стараемся ответить, мистер Питерсон. Человек стоит в одиночестве посреди стертого анонимного пейзажа, боясь и трепеща, его тошнит до смерти. Бог мертв. Повсюду сплошное ничто. Ужас. Разобщенность. Конечность. «Кто я?» подходит к этим проблемам коренным, радикальным образом.
– По телевидению?
– Нас интересуют основы, мистер Питерсон. Мы не шутки шутим.
– Понимаю, – сказал Питерсон, не забывая о сумме гонорара.
– А теперь я хочу знать вот что, мистер Питерсон: вас интересует абсурд?
– Мисс Древ, – сказал он, – сказать вам по правде, я не знаю. Я не уверен, что убежден в этом.
– О мистер Питерсон! – воскликнула шокированная мисс Древ. – Не говорите так! Вы будете…
– Наказан? – предположил Питерсон.
– Вас абсурд, может, и не интересует, – твердо сказала она, – зато вы очень интересуете абсурд.
– У меня много проблем, если это вам поможет, – сказал Питерсон.
– Для вас проблематично существование, – с облегчением произнесла мисс Древ. – Гонорар – двести долларов.
– Меня покажут по телевизору, – сказал Питерсон своему галеристу.
– Вот стыдоба, – отозвался Жан-Клод. – Избежать никак нельзя?
– Неизбежно, – сказал Питерсон, – если я хочу есть.
– Сколько? – спросил Жан-Клод, и Питерсон ответил:
– Двести.
Он оглядел галерею – не выставлены ли хоть какие-то его работы.
– Смехотворная компенсация, учитывая дурную славу. Ты будешь под своим именем?
– А ты случайно…
– Никто не покупает, – сказал Жан-Клод. – Дело, без сомнения, в погоде. Люди мыслят в категориях… как ты называешь эти штуки? – ХристоПосудин. В которых можно плавать. Ты не обдумаешь еще раз то, о чем я с тобой уже говорил?
– Нет, – ответил Питерсон. – Не обдумаю.
– Два маленьких пойдут гораздо, гораздо быстрее одного большого и огромного, – сказал Жан-Клод, отводя взгляд. – Распилить пополам – дело ведь нехитрое.
– Предполагается, что это произведение искусства, – сказал Питерсон как можно спокойнее. – Ты не забыл еще: произведения искусства пополам не распиливают?
– Там, где можно сделать распил, – сказал Жан-Клод, – там не очень трудно. Я могу двумя руками обхватить. – И он свел пальцы обеих рук в кольцо для наглядности. – Всякий раз, когда я смотрю на эту работу, я неизменно вижу две. Ты абсолютно уверен, что в самом начале твой замысел был верен?
– Абсолютно, – ответил Питерсон.
Ни одна из его работ выставлена не была, и печень его раздулась от гнева и ненависти.
– У тебя весьма романтичный импульс, – сказал Жан-Клод. – Позицией я смутно восхищаюсь. Ты слишком начитан в истории искусств. А она отчуждает тебя от возможностей достичь аутентичной самости, имманентной для нынешнего века.
– Я знаю, – сказал Питерсон. – Не ссудишь мне двадцатку до первого?
Питерсон сидел у себя в студии на нижнем Бродвее, пил «рейнгольд» и думал о Президенте. Он всегда ощущал близость к Президенту, однако теперь чувствовал, что, согласившись на появление в телепередаче, совершил нечто постыдное, и Президент вряд ли это одобрит. Но мне нужны деньги, твердил он себе, телефон отключен, а котенок плачет и просит молока. И у меня заканчивается пиво. Президент считает, что изящные искусства нужно поддерживать, размышлял Питерсон, и уж конечно он не хочет, чтобы я оставался без пива. Интересно, думал он, то, что я чувствую, – просто вина за то, что я продался на телевидение, или нечто поэлегантнее: тошнота? Печень его стонала в нем, а он взвешивал ситуацию, при которой объявят о его новых отношениях с Президентом. Он работал у себя в студии. Произведение в работе должно будет называться «Праздничные поздравления» – оно состояло из трех автомобильных радиаторов: один от «шевроле-тюдора», один от «фордовского» пикапа, а один от «эссекса» 1932 года, – плюс бывший телефонный коммутатор и другие предметы. Расположение их казалось правильным, и он приступил к сварке. Через некоторое время вся эта масса утвердилась на своих ногах. Прошла пара часов. Питерсон отложил горелку, снял щиток. Подошел к холодильнику и обнаружил в нем сэндвич, оставленный дружелюбным старьевщиком. Сделан сэндвич был торопливо и без вдохновения: тонкий ломтик ветчины между парой ломтиков хлеба. Тем не менее Питерсон слопал его с благодарностью. Постоял, посмотрел на свою работу, время от времени переходя с места на место, чтобы взглянуть под другим углом. Тут дверь в студию распахнулась, и вбежал Президент, волоча за собой шестнадцатифунтовую кувалду. Первый удар расколол основной шов «Праздничных поздравлений», две половинки расстались, точно влюбленные, – еще миг держались друг за дружку, а затем ринулись в разные стороны. Двенадцать агентов Тайной службы скрутили Питерсона парализующей комбинацией своих тайных захватов. А он хорошо выглядит, подумал Питерсон, очень хорошо, здоровый, зрелый, подтянутый, надежный. Мне нравится его костюм. Второй и третий удары Президента раскололи радиатор «эссекса» и радиатор «шевроле». После чего он накинулся на горелку, гипсовые слепки на верстаке, отливку Родена и палочного человека Джакометти, которых Питерсон купил в Париже.
– Но мистер Президент/ – закричал Питерсон. – Я думал, мы друзья!
Тайный агент укусил его в затылок. Тут Президент вознес кувалду повыше, повернулся к Питерсону и сказал:
– У тебя больная печень? Это хороший знак. Прогресс налицо. Ты начинаешь мыслить.
– Я вообще-то думаю, что этот парень в Белом доме чертовски хорошо делает свою работу.
Цирюльник Питерсона, человек по фамилии Камбуз, народный аналитик и автор четырех книг, озаглавленных «Решение быть», был единственной персоной на свете, которой Питерсон решился доверить свое былое ощущение сродства с Президентом.
– Что же касается его отношений с тобой лично, – продолжал цирюльник, – то они, в сущности своей, – что-то вроде отношений Я-Ты, если ты меня понимаешь. И ты должен рулить ими с полным осознанием последствий. В конце концов, человек переживает только самого себя, говорил Ницше. Когда ты сердишься на Президента, ты переживаешь лишь себя-в-ярости-на-Президента. А когда между вами все о'кей, ты переживаешь себя-в-гармонии-с-Президентом. Классно и здорово. Но, – сказал Камбуз, намыливая, – ты хочешь, чтобы отношения между вами были таковы, что ты переживал бы Президента-в-гармонии-с-тобой. Тебе хочется его реальности, въехал? Чтобы ты смог вырваться из ада солипсизма. Снять чуточку с боков?
– Все знают язык, кроме меня, – раздраженно вымолвил Питерсон.
– Послушай, – сказал Камбуз, – когда ты говоришь обо мне с кем-то другим, ты ведь говоришь «мой цирюльник», правда? Еще б не говорил. Точно так же я смотрю на тебя как на «моего клиента», въехал? Но ты сам же не считаешь себя «моим» клиентом, а я не считаю себя «твоим» цирюльником. О, ад еще тот. – Бритва выкидным ножом полоснула по затылку Питерсона. – Как сказал Паскаль: «Естественное несчастье нашего смертного и хилого состояния так убого, что, когда мы рассматриваем его пристально, утешить нас не способно ничто».
Бритва ракетой просвистела возле уха.
– Слушай, – сказал Питерсон, – а что ты думаешь об этой телепередаче, называется «Кто я?»? Видел когда-нибудь?
– Честно говоря, – ответил цирюльник, – отдает она библиотекой. Но они тех людей обрабатывают будь здоров, точно тебе говорю.
– В каком смысле? – возбужденно спросил Питерсон. – Чем обрабатывают?
Простыню сдернули и встряхнули с резким хлопком.
– Об этом даже говорить – ужас, – сказал Камбуз. – Но большего они и не заслужили, только эти крошки.
– Какие крошки? – спросил Питерсон.
В тот вечер высокий человек, по виду – иностранец, с открытым выкидным ножом в руке, размером с мясницкий, вошел в студию, не постучав, и сказал:
– Добрый вечер, мистер Питерсон, я котопьянист, не хотели б вы послушать что-нибудь эдакое?
– На котопьяно? – ахнул Питерсон, отпрядывая от ножа. – О чем вы? Чего вам?
Биография Нолде соскользнула с его колен на пол.
– Котопьяно, – сказал гость, – это инструмент дьявола, дьявольский инструмент. Не нужно так потеть, – сокрушенно добавил он.
Питерсон попробовал храбриться.
– Я не понимаю, – сказал он.
– Позвольте объяснить, – любезно сказал высокий человек, по виду – иностранец. – Клавиатура состоит из восьми котов – окотавы, – заключенной в корпус инструмента таким образом, что наружу выступают только их головы и передние лапы. Исполнитель нажимает на соответствующие лапы, и соответствующий кот реагирует – неким взвизгом. Кроме того, существует возможность тянуть их за хвосты. Тянохвост – или, вероятно, мне следует назвать его хвостянистом, – (он неискренне улыбнулся), – располагается в задней части инструмента, где и находятся хвосты. В нужный момент тянохвост тянет за нужный хвост. Хвостовые ноты, разумеется, довольно-таки отличаются от лапных нот и производят звуки в верхнем регистре. Вы когда-нибудь видели подобный инструмент, мистер Питерсон?
– Нет, и я не убежден, что он существует, – героически ответил Питерсон.
– Есть превосходная гравюра начала семнадцатого века работы Франца ван дер Вингаэрта, мистер Питерсон, где изображено котопьяно. На котором, кстати, играет человек с деревянной ногой. Осмотрите мою собственную ногу. – Котопьянист поддернул штанину, и появилась ногоподобная штуковина из дерева, металла и пластика. – А теперь не желаете ли сделать заявку? «Мученичество Св. Себастьяна»? Увертюра к «Ромео и Джульетте»? «Праздник для струнных»?
– Но почему… – начал Питерсон.
– Котенок плачет и хочет молока, мистер Питерсон. А стоит котенку заплакать, котопьянист заиграет.
– Но это не мой котенок, – резонно возразил Питерсон. – Этот котенок мне просто навязался. Я пытался отдать его в хорошие руки. Я даже не уверен, здесь ли он до сих пор. Я не видел его с позавчера.
Появился котенок, с упреком взглянул на Питерсона, после чего потерся о механическую ногу котопьяниста.
– Секундочку! – воскликнул Питерсон. – Все это подстава! Этого кота здесь не было два дня. Чего вам от меня нужно? Что я должен делать?
– Выбор, мистер Питерсон, выбор. Выбрав этого котенка, вы избрали способ столкновения с тем, что вы не, так сказать, котенок. Сделали усилие со стороны pour-soi[17] для…
– Но это он меня выбрал! – воскликнул Питерсон. – Дверь была открыта, я и опомниться не успел, а он уже лежал на моей кровати под армейским одеялом. Я к нему никакого отношения не имел!
Котопьянист воспроизвел свою неискреннюю улыбку снова.
– Да, мистер Питерсон, я знаю, знаю. Все, что происходит с вами, – один гигантский заговор. Я такое уже слышал сотню раз. Но котенок здесь, разве нет? Котенок рыдает, разве нет?
Питерсон посмотрел на котенка – тот плакал огромными тигриными слезами в пустое блюдце.
– Послушайте, мистер Питерсон, – сказал котопьянист, – послушайте!
Лезвие громадного ножа прыгнуло обратно в рукоять, издав дынц! – и началась отвратная музыка.
Через день после того, как началась отвратная музыка, прибыли три девушки из Калифорнии. Питерсон открыл дверь – неуверенно, в ответ на настойчивый трезвон, – и обнаружил, что на него таращатся три девушки в джинсах и толстых свитерах, в руках – чемоданы.
– Я Шерри, – сказала первая, – это Энн, а это Луиза. Мы из Калифорнии, и нам нужно где-то остановиться.
Они были невзрачны и в высшей степени целеустремленны.
– Извините, – сказал Питерсон, – я не могу…
– Мы можем спать где угодно, – сказала Шерри, озирая просторы студии у него за спиной, – даже на полу, если придется. Мы уже так делали.
Энн и Луиза привстали на цыпочки, чтобы лучше видеть.
– Что это за смешная музыка? – спросила Шерри. – Звучит довольно отпадно. Мы не доставим вам никаких хлопот, это ненадолго, пока мы связь не установим.
– Да, – сказал Питерсон, – но почему я?
– Вы же художник, – сурово произнесла Шерри. – Мы видели внизу табличку «Художественная мастерская, нежилой фонд».
Питерсон обматерил противопожарные правила, которые требовали вывешивать подобные таблички.
– Послушайте, – сказал он. – Я даже котенка не могу накормить. Я даже себя пивом не могу снабдить. Это неподходящее для вас место. Вы здесь не будете счастливы. Моя работа неоригинальна. Я незначительный художник.
– Естественное несчастье нашего смертного и хилого состояния так убого, что, когда мы рассматриваем его пристально, утешить нас не способно ничто, – сказала Шерри. – Это Паскаль.
– Я знаю, – слабо ответил Питерсон.
– Где сортир? – спросила Луиза.
Энн прошествовала на кухню и принялась готовить из припасов, извлеченных из рюкзака, нечто под названием «телятина engage?»[18].
– Поцелуй меня, – сказала Шерри, – мне нужна любовь.
Питерсон сбежал в дружественный бар по соседству, заказал двойной бренди и втиснулся в телефонную будку.
– Мисс Древ? Это Хэнк Питерсон. Послушайте мисс Древ, я не смогу этого сделать. Нет, в самом деле. Меня кошмарно наказывают даже за то, что я об этом думаю. Нет, я серьезно. Вы и вообразить не можете, что тут происходит. Пожалуйста, возьмите кого-нибудь другого? Я сочту это огромной личной услугой. Мисс Древ? Прошу вас?
Остальными соискателями были молодой человек в белой пижаме по имени Артур Пик – специалист по карате – и пилот авиалинии, при всех регалиях – Уоллес Э. Райс.
– Просто будьте естественными, – сказала мисс Древ, – и, конечно, откровенными. Мы начисляем очки по обоснованности ваших ответов, и это, разумеется, измеряется полиграфом.
– Какого еще полиграфа? – спросил пилот авиалинии.
– Полиграф измеряет обоснованность ваших ответов, – ответила мисс Древ, и губы ее засияли белым. – Как же еще нам узнать, если вы…
– Врем? – предположил Уоллес Э. Райс.
Соискателей подключили к машине, а машину – к большому светящемуся табло, висевшему у них над головами. Конферансье, как без удовольствия заметил Питерсон, напоминал Президента и выглядел отнюдь не дружелюбным.
Программа началась с Артура Пика. Артур Пик поднялся в своей белой пижаме и показал сеанс карате, в ходе которого сломал три полудюймовые сосновые доски одним пинком босой левой ноги. Затем рассказал, как обезоружил бандита поздно вечером в «А-и-П», где работал помощником менеджера, – маневром, который назвал «тресь-чун», и показал на конферансье.
– Как вам это нравится? – залился трелями конферансье. – Это просто что-то, или как? Публика?
Публика ответила восторгом, а Пик скромно стоял, заложив руки за спину.
– А теперь, – сказал конферансье, – давайте сыграем в «Кто я?». И вот перед вами ваш ведущий – Билл Лиммон!
Нет, не похож он на Президента, решил Питерсон.
– Артур, – сказал Билл Лиммон, – за двадцать долларов: вы любите свою маму?
– Да, – ответил Артур Пик, – конечно. Звякнул колокол, табло замигало, и публика завопила.
– Он врет! – закричал конферансье, – врет! врет! врет!
– Артур, – произнес Билл Лиммон, поглядывая на свои карточки с текстом, – полиграф показывает, что обоснованность вашего ответа… сомнительна. Не хотите ли попытаться снова? Давайте еще разок?
– Вы с ума сошли, – сказал Артур Пик. – Конечно, я люблю свою маму.
Он шарил рукой под пижамой, нащупывая носовой платочек.
– Ваша мама смотрит сегодня эту передачу, Артур?
– Да, Билл, смотрит.
– Сколько вы уже изучаете карате?
– Два года, Билл.
– И кто платил за уроки?
Артур Пик замялся. После чего сказал:
– Моя мама, Билл.
– Они были недешевые, правда, Артур?
– Да, Билл, недешевые.
– Насколько недешевые?
– Пять долларов в час.
– Ваша мама не зарабатывает столько денег, не так ли, Артур?
– Нет, Билл, не зарабатывает.
– Артур, а чем ваша мама зарабатывает на жизнь?
– Она швейная работница, Билл. В швейном районе.
– И сколько она там уже работает?
– Всю жизнь, я думаю. С тех пор, как мой старик умер.
– И много денег она не зарабатывает, как вы сказали.
– Нет. Но она сама хотела платить за уроки. Настаивала на этом.
Билл Лиммон сказал:
– Она хотела, чтобы ее сын умел ломать доски ногами?
Печень Питерсона скакнула, а на табло огромными сияющими белыми буквами высветилось: НЕВЕРИЕ. Пилота Уоллеса Э. Раиса подвели к признанию, что в авиарейсе Омаха-Майами его поймали со стюардессой на коленях и в его капитанской фуражке: бортмеханик сделал моментальный снимок «Поляроидом», и после девятнадцати лет безупречной службы его, Уоллеса Э. Райса, вынудили уйти в отставку.
– Это было совершенно безопасно, – сказал Уоллес Э. Райс, – вы не понимаете, автопилот может управлять этим самолетом гораздо лучше меня.
Далее он признался, что всю жизнь испытывал невыносимый зуд по стюардессам, главным образом связанный, по его словам, с тем, как полы их форменных курточек доходят лишь до самого верха бедер, а его собственный мундир с тремя золотыми полосками на рукаве темнеет от пота, пока не становится совершенно черным.
Я был не прав, подумал Питерсон, мир абсурден. Абсурд наказывает меня за то, что я в него не верю. Я подтверждаю абсурд. С другой стороны, сам абсурд абсурден. И не успел ведущий задать первый вопрос, Питерсон заговорил.
– Вчера, – сказал Питерсон телевизионной аудитории, – в пишущей машинке, выставленной перед салоном «Оливетти» на Пятой авеню, я нашел рецепт Супа из Десяти Ингредиентов, включавших в себя камень из жабьей головы. И пока я в изумлении стоял там, милая старушенция налепила на рукав моего лучшего костюма от «Хаспела» маленькую голубую наклейку, гласившую: ЭТА ЛИЧНОСТЬ ЗАМЕШАНА В КОММУНИСТИЧЕСКОМ ЗАГОВОРЕ ПО ЗАХВАТУ МИРОВОГО ГОСПОДСТВА ВО ВСЕМ МИРЕ. По пути домой я миновал вывеску с десятифутовыми буквами ОБУВЬ ТРУСА и услышал, как человек распевает жутким голосом «Золотые сережки», а прошлой ночью мне снилось, что у нас дома на Мясной улице перестрелка, и моя мама втолкнула меня в чулан, чтобы я не попал под огонь.
Конферансье замахал помрежу, чтобы Питерсона выключили, но Питерсон не затыкался.
– Вот в таком мире, – говорил он, – абсурдном, если угодно, тем не менее вокруг нас цветут и обостряются возможности и всегда есть шанс начать заново. Я незначительный художник, и мой галерист даже не хочет выставлять мои работы, если без них можно обойтись, но незначителен тот, кто незначительно поступает, и молния еще может ударить. Не примиряйтесь. Выключите свои телевизоры, – сказал Питерсон, – обналичьте страховку жизни, пуститесь в безмозглый оптимизм. Ходите по девушкам в сумерках. Играйте на гитаре. Как вы можете отчуждаться, если еще и не связались? Открутите мысль назад и вспомните, как это было.
Помреж размахивал перед Питерсоном большим куском картона, на котором было написано что-то угрожающее, но Питерсон его игнорировал, сосредоточившись на камере с красной лампочкой. Огонек все время перескакивал с одной камеры на другую, чтобы сбить Питерсона с толку, но Питерсон огонек перехитрил и следовал за ним, куда бы тот ни прыгнул.
– Моя мама была девственницей королевских кровей, – говорил Питерсон, – а папа золотым дождем. Детство мое было буколическим, энергическим и богатым переживаниями, закалившими мой характер. Юношей я был благороден разумом, бесконечен способностями, формой выразителен и похвален, а уж в способности схватывать…
Питерсон все говорил и говорил, и хотя в каком-то смысле он врал, в каком-то – не врал совершенно.
Примечания
1
Следовательно (лат.).
(обратно)2
Ремесло (фр.).
(обратно)3
Среда (фр.).
(обратно)4
Положение обязывает (фр.).
(обратно)5
Дом, семья (фр.).
(обратно)6
И пр. (лат.).
(обратно)7
Скука, тоска (фр.).
(обратно)8
Повсюду (лат.).
(обратно)9
Человек занимается метафизикой так же, как дышит, сам того не желая и почти никогда не сомневаясь (фр.).
(обратно)10
Мыслю, следовательно (искаж. лат).
(обратно)11
Восхитительное безделье (ит.).
(обратно)12
Опасные связи (фр.).
(обратно)13
От фр. merde – дерьмо.
(обратно)14
Где моя книга?… Где твоя книга?… Где его книга?… Все это прошло в 1924 году (фр.).
(обратно)15
Позвоните мне как-нибудь на днях (фр).
(обратно)16
Излишним (фр.).
(обратно)17
Бытие-для-себя (фр.).
(обратно)18
Ангажированная (фр.).
(обратно)



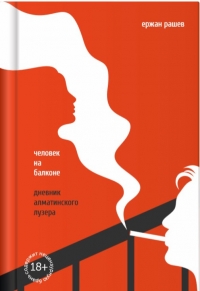

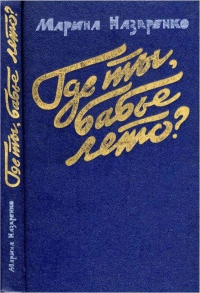


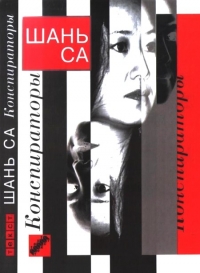
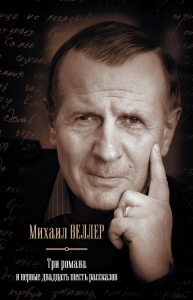
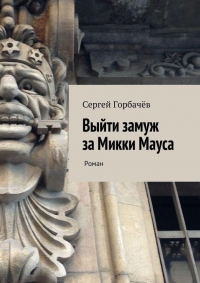
Комментарии к книге «Возвращайтесь, доктор Калигари», Дональд Бартельми
Всего 0 комментариев