Юлия Лешко Ангел в темноте Проза
Вместо предисловия
На мой «круглый» день рождения Юля подарила мне повесть с посвящением – вот эту повесть, с этим замечательным посвящением.
Я не знаю, как появляются на свет литературные произведения, «из какого сора растут цветы». Но, читая эту книжку, находила в ней обрывки наших разговоров, воспоминания детства и юности, которыми делилась с Юлей, свои сиюминутные впечатления и более глубокие переживания. Казалось бы, ничего особенного: две женщины разговаривают, смеются, иногда плачут вместе, жалуются друг другу, радуются, обсуждают новости… Что именно ее вдохновило? Не знаю! Она и сама, наверное, не знает!
«Ангел в темноте» – это, конечно, не биографический очерк, а просто художественное произведение, которое родилось из нашего долгого общения. И Рита Дубровская – это не я, и коллеги Риты – это не существующие в реальности люди (даже если кто-то и найдет сходство героев с известными телеперсонами или созвучие их имен с конкретными именами), и события, описанные в этой повести, – больше чем на половину вымышленные. Да это и неважно. А важно – для меня, по крайней мере, – что автор (и моя подруга) уловила самое главное: жажду творчества и любовь к людям – то, что движет и мной, и большинством моих коллег.
Да, я не Рита Дубровская, мои личные и семейные обстоятельства далеки от описанных в «Ангеле…». Непохожи они и на ту историю, что рассказана в маленькой повести «Доброе утро, Елена!», хотя эта вещь задумывалась когда-то как киносценарий, а роль предназначалась для меня. Но я не отрекусь от причастности к двум этим повестям и двум героиням, потому что все лучшее во мне Юля увидела, поняла и воплотила на бумаге. Спасибо!
Светлана Боровская,
телеведущая и актриса
Ангел в темноте
Светлане Боровской —
за доброе утро в ее сердце.
Глава 1 …Вне конкуренции
В нашей большой гримерке утром (а это настоящее раннее утро, «вторые петухи» – еще нет семи часов) всегда несколько нервно. Нет, разумеется, никто не психует, не швыряется друг в друга расческами или косметикой, и даже не повышает голоса. Во-первых, на это еще элементарно нет сил: сказывается хронический, тотальный недосып телевизионщиков вообще, ведущих утренних программ в частности, а во-вторых… Работаем вместе не первый день и уже научились не просто за дверями гримерки, а непосредственно за вертушкой телецентра оставлять свое временное или постоянное недовольство жизнью. И все-таки… Да, нервно.
Приходим на работу раньше положенного – все, не сговариваясь, чтобы исподволь подготовиться к утреннему эфиру. У меня он прямой, дублей не будет, поэтому нужно сделать все возможное, чтобы люди верили: мое утро по-настоящему доброе, и я от всей души хочу, чтобы оно стало таким у всех, кто на меня смотрит.
В зеркале, которое занимает противоположную стену, вижу Лену, молодую коллегу из АТН. Она ведет восьмичасовой новостной блок, отбивающий первый час моей работы в эфире. Лена задумчиво смотрит в окно, где с высоты одиннадцатого этажа видно только ясное небо и редкие облака, ждет, когда ею займется гример-парикмахер. Сегодня это Валя, опытный и надежный мастер: готовит грим, достает какие-то баночки и кисточки. Впрочем, хорошенькой и телегеничной Леночке еще не нужен ни особо опытный, ни надежный специалист по красоте. Чего не скажу, положа руку на сердце, о себе. Я старше Леночки на… Господи, примерно вдвое, что ли? Так, сегодня я об этом думать не буду. И завтра, впрочем, тоже. Вот не буду об этом думать, и все! С таких подсчетов начинается реальная старость. Вместо того чтобы считать разницу в возрасте и делать прикидки, гожусь я кому-либо в матери или нет, надо включать природное чувство юмора и профессиональный оптимизм.
Решено!
… Ну, да, да, я – чисто теоретически – гожусь Леночке в матери! Если бы моя первая любовь в восьмом классе не была бы безответной, если бы эта самая моя первая любовь, шалопай Андрюшка Бахрушин был отъявленный сердцеед или вообще негодяй, а я была бы просто безответственной девицей, а еще лучше, если бы родилась не в Советском Союзе, а на юге Индии, где замуж выходят в четырнадцать. Да, в общем тогда я могла бы стать матерью в пятнадцать лет и сейчас бы уже гордилась такой умницей и красавицей дочерью, как Леночка.
Я все-таки «подумала об этом» сегодня и сейчас, вопреки железному правилу незабвенной Скарлетт О'Хара. Налицо кризис среднего возраста.
Тушу смешок, украдкой смотрю на свою постоянную гримершу Наташу и вижу по ее спокойной, как у Будды, но не очень мотивированной улыбке, что она тоже еще не вошла в колею. «Жаворонков» среди нас нет, большинство присутствующих – «совы», причем «совы» трудовые. Я, к примеру, вчера домой вернулась около часу ночи: вела юбилейный корпоратив на одной крутой строительной фирме. Гонорары, в принципе, на дороге не валяются, а для представителей моей профессии, не умеющих производить ничего, кроме хорошего впечатления, художественный конферанс на юбилее – отличный способ подработать. В общем, наулыбалась и наумилялась на полгода вперед, представляя гостей, раздавая и принимая комплименты, дирижируя тостами, объявляя концертные номера приглашенных звезд и стихийные самодеятельные выступления сотрудников. Да… А Наталья учится заочно: когда ей, одинокой матери, контрольные писать, кроме как ночью?
Мы не просто связаны по работе, мы дружим с Наташей много лет. Я вообще все знаю о ее жизни, также, как она о моей. И моя «неувядающая» телевизионная красота – это, кстати, во многом ее личная заслуга. Примерно процентов на пятьдесят. Тут замаскировать, здесь подчеркнуть, обвести, нарастить… Глядишь – и глаза светлее, и улыбка нежнее, и цвет лица наводит на мысль о здоровом образе жизни. Еще тридцать процентов трудового вклада в мою внешность записываю на счет операторов: ребята стараются от души, ибо нас, женщин «за тридцать», надо снимать аккуратно, вдумчиво, порой изобретательно. Одним словом, с чувством… или сочувствием… Ой, что-то я и вправду сегодня никак не соберу себя по фрагментам!
Справедливости ради надо добавить, что еще двадцать процентов я ставлю в заслугу исключительно маме и папе. Моей красивой маме всегда говорили: «Катя, как Риточка на тебя похожа… Но ты все равно лучше». Мама действительно и внешне лучше меня, и вообще. А папа в молодости был как две капли воды похож на французского актера Жана Маре. Это сейчас уже не очень похож, да и Жана Маре теперь знают только киноведы. Воспоминания о родителях заставляют меня снова украдкой улыбнуться. Наташа замечает мою «необязательную» улыбку и тоже немного расслабляется, чего уж там…
Новый день вступает в права, скоро мы начнем шевелиться уже не по инерции, а вполне осмысленно и даже с некоторой грацией, нащупаем общий ритм и станем не самой тусклой частью этого постоянно меняющего картинку яркого калейдоскопа – телевидения.
Наташа распустила мне волосы по плечам и серьезно, почти грозно всматривается в мое отражение в зеркале. Потом начинает экспериментировать с прической. Со стороны может показаться, что она от нечего делать шалит: то сделает два девчачьих хвостика-белочки, то перекинет волосы вперед, как в страшненьком японском фильме «Звонок»… Говорит:
– Может, Кармен сегодня закрутим, а? Все наверх, гладко, колечки на виски? Ты как, в настроении?
Я смеюсь в ответ:
– Шутишь? Я сегодня не Кармен, я сегодня старуха Изергиль. Что-то меня невротическая бессонница замучила вконец. Устаю от перепадов: сначала перевозбуждение – потом бессонница. Засыпаю под утро. Кофе не помогает. Ну и глянь, результат на лице: «И я была девушкой юной, лет сто или двести назад…»
Наташа отмахивается:
– Ну вот, только самокритики нам с утра не хватало. Найдется, кому про тебя слово доброе сказать, я тебя уверяю… Сто раз тебе говорила и буду говорить: «Ты прекрасна, спору нет! Ты на свете всех милее…» А сейчас я еще сделаю, что «и румяней, и белее!»
Она убирает мои волосы под плотную повязку: с прической еще не определилась. И теперь решает, что делать с лицом. Ну, а выражение этого лица остается за мной…
Обожаю, когда она своей умелой рукой придает мне черты, «знакомые миллионам телезрителей». Мне иногда просто интересно: какой же я стану на этот раз? Я, конечно, никогда не говорила Наташе, что теледива в зеркале – это плод ее художественного воображения, талантливо воплощенный при помощи кистей и красок. И не скажу. Но я так думаю. Гляну порой на себя и прямо слышу голос экскурсовода «за кадром»: «Маргарита Дубровская. Портрет работы Натальи Петровой. Сангина, тушь». Или акварель – как когда…
Нет, ни румяней я быть не хочу, ни белее: от природы бледная. Вслух говорю:
– Нет, давай, может, тон смуглее положим, что ли? Бледная я какая-то…
Наташа кивает и выжимает на спонжик немного тональника цвета загара…
И тут дверь слегка приоткрывается, а окно у нас, по случаю неумолимо поднимающейся на улице жары, уже открыто. Поэтому в комнате тут же образуется небольшой сквознячок, и жалюзи на окнах начинают легонько хлопать и при этом звонко дребезжать. Передо мной на столике лежат странички сценария, и они вот-вот улетят в образовавшийся воздушный коридор. Улетят расписанные редакторами мои приветствия и паузы, улыбки, шутки и импровизации. Но я успеваю придавить их расческой.
Валя, уже наколдовавшая что-то на Леночкиной головке, не прерывая работы, кричит в сторону двери:
– Заходите или закройте дверь! Дует!
Дверь на мгновение закрывается, но теперь явственно слышится красивый, богато модулированный голос, произносящий какие-то приветствия, смеющийся и воркующий. Неповторимый голос. Всем известный голос. Низкий, властный, мягкий, берущий в плен. Это Алиса.
Алиса входит в гримерку, небрежно бросает шикарную сумку «Прада» на банкетку, а в воздухе тут же возникает и отменяет все остальные запахи волшебный аромат «Императрицы». Название ее любимого парфюма известно не всем, но роскошный, праздничный, какой-то торжествующий «букет» – это Алисина визитка. В Алису можно влюбиться только за этот теплый шлейф, летящий за нею вслед.
Да, наша «первая леди» телеэкрана элегантна, энергична, стремительна. Рядом с ней хочется стать лучше… самой себя, хотя бы. И поэтому так же энергично и стремительно навстречу ей встает из кресла доселе тихо читавшая Рубину гримерша Ирина Станиславовна.
Алиса привычно играет королеву, а то, как ведут себя окружающие, красавицу не заботит. Корона, как говорится, с нее никогда не упадет. Ни-ког-да.
Алиса подходит к своему привычному месту, садится в крутящееся кресло, поворачивается к присутствующим, говорит, улыбается… Все одновременно:
– Девочки, всем привет! Здравствуй, милая, – это уже непосредственно мне: – Ты уже слышала? Тебя выдвинули на «Золотую Телевышку»!
На появление, приветствие и выдачу «в эфир» сенсационной информации у нее ушло ровно тридцать секунд. Привычка: на телике время ценится не на вес золота, а куда дороже. Чувство времени у нас в крови! Еще полторы секунды Алиса смотрит в огромное зеркало – этого достаточно, чтобы понять, что большие голубые глаза сверкают, светлые волосы вьются, очаровательный носик вздернут, мимических морщин не видно.
И все это время я молчу, таращусь в зеркало прямо перед собой, не в силах отвести глаз от отражения ворвавшегося тайфуна с нежным женским именем. Если честно, я просто застигнута врасплох. И взволнована, и обрадована, конечно. Наконец, нахожу в себе силы и поворачиваюсь к Алисе:
– Правда? – не довольно глупо, а просто глупо спрашиваю я. Уж, наверное, правда, если Алиса говорит об этом при всех.
Алиса тоже поворачивается ко мне со своей дивной улыбкой и кивает. Мое замешательство очевидно. Черт, ну почему эту благую весть мне принесла именно она? Наши отношения друг к другу, к сожалению, весьма далеки от внешних проявлений симпатии и дружелюбия. Для этого есть миллион причин, и, если честно, ни одна из них не может быть объективно признана веской. Вот ведь парадокс! Но Алиса меня не любит. Я ее тоже.
Как будто подслушав наш с Наташей недавний разговор, Алиса кокетливо, ни к кому не обращаясь, произносит:
– Я прекрасна, спору нет!
Ирина Станиславовна, занявшая место за плечом Алисы, несколько раз нажимает педаль под креслом – поднимает ее повыше. Задумчиво трогает светлые пряди Алисиных волос острым концом металлической расчески… Пока она обдумывает прическу, суперзвезда поворачивает ко мне свое улыбающееся лицо:
– А что это ты замерла, милая? Так рада? Или, правда, первый раз слышишь? Ну не может быть, неужели я первая успела?
Алиса серебристо смеется, похоже, она получает от ситуации максимум удовольствия. Да, да, кое-кто уж мог бы мне сообщить это известие раньше. Однако вот… Алиса – первая всегда, первая во всем!
Ладно, не прыгать же мне до потолка от радости – Господи, наконец-то заметили, отметили, выдвинули! Лучше было бы сделать вид, что краем уха уже слышала об этом, намекали, мол, друзья и знакомые. Поэтому я, с загадочной улыбкой, спокойно и вежливо произношу:
– Спасибо за приятную новость, Алиса. Я действительно очень рада. И не знала ничего.
Алиса милостиво (ну как у нее это получается?) кивает: другого она и не ждала. Но вот удержаться от колкости никак не может – иначе, видимо, утро не состоится:
– Да не за что. Ты действительно заслужила… Я что-то забыла: сколько ты уже на телике трубишь – лет семнадцать?
Ага, а вот теперь: «Помяни, Господи, Давида царя и всю кротость его…»
– Пятнадцать.
Да, работаю я тут пятнадцать лет, а всего мне… Да, и не пятнадцать, и не восемнадцать, как хотелось бы. Что же это сегодня за утро такое тематическое?!
Алиса даже ручкой всплеснула, чем явно помешала Ирине Станиславовне в ее парикмахерских трудах:
– Ой, ну это вообще чудесно! Юбилей!.. Вот в честь юбилея и получишь. Бог даст…
Между двумя последними фразами – коротенькая пауза. Хорошо заметная только очень тренированному уху, моему то есть.
Мне удается непринужденно улыбнуться еще раз. Довольно лучезарно.
Пока беседуют «звезды», гримерши молчат. Но Наташа уже пару раз больно дернула меня за волосы. Это предупреждение, чтобы я не сорвалась на какую-нибудь дерзость. Не бойся, Наташка, не сорвусь. Плавали, знаем…
…Мы с Наташей дружим много лет, я крестная ее Павлика, и уж для нее-то не секрет, что искренности в Алисиных поздравлениях никакой. Ну не любит меня красавица Алиса, что тут поделаешь?
Сегодня я молодец: не поддалась на провокацию и не дала Алисе повод цапнуть меня побольнее – с годами все же приходит какой-то опыт! А раньше ей не раз удавалось довести меня до слез двумя-тремя «любезностями». Я, конечно, проливала их наедине с собой или в жилетку Наташке, но менее горькими от этого они не становились…
Почему наши отношения с примой сложились так странно? Хочется льстить себя надеждой, что блестящая, обаятельная, зрителями всех возрастов и, особенно, непосредственным начальством любимая Алиса видит во мне серьезную соперницу.
Объективно говоря, так оно и есть. Мы абсолютно не похожи внешне, но общего между нами так много, что это не может не бросаться в глаза. Только я моложе Алисы – вот и все.
Скажете: ну, неужели так вульгарно?
О, не судите строго и опрометчиво. Чтобы понять, почему так властно время именно над нами, «входящими в каждый дом» с экрана телевизора, нужно самому хоть раз попасть в объектив телекамеры. И обнаружить, что этот зоркий объектив максимально приближает и делает очевидным все, что вы считали незаметным, не бросающимся в глаза. Возраст, например. Лишний грим «по телевизору» выглядит разоблачительно и жалко, и ни талантом, ни личным обаянием не компенсировать нанесенный временем ущерб.
Да, возрастной ценз имеет место быть. И победительная молодость на телеэкране куда предпочтительнее очаровательной зрелости. Я, разумеется, о женщинах говорю, в первую очередь. К мужчинам иное отношение, да и критерии другие.
…Ах, нет, еще, еще вдохнуть этот разреженный, наэлектризованный воздух, оказаться под искусственным слепящим светом софитов, очутиться в этой ирреальной атмосфере. Улыбнуться всему миру сразу, понять каким-то… надцатым чувством, что тебе улыбнулись в ответ все или почти все, к кому ты обратила свой взгляд, устремленный в пространство. Почувствовать кожей, что это такое – эфир. Нет, недаром он называется этим пьянящим, наркотическим словом. Мы не можем без этого жить. Нам будет больно без него…
Я могу думать о чем угодно или не думать вовсе – там, в Зазеркалье, все идет своим чередом. И обе мы волшебно преображаемся: под умелыми руками из художественного хаоса возникают прически, накладывается (или проявляется сам собой?) макияж, начинают сиять глаза, глубже становится дыхание… И, наконец, мы обе исключительные красавицы: я – сероглазая брюнетка, смугло-румяная «фам фаталь», Алиса – ослепительная блондинка с голубыми глазами, «девушка моей мечты» всех времен и народов.
Мне приносят чашечку кофе, я даже ухитряюсь закурить сигарету.
И к Алисе подходит мальчик-ассистент, целует руку, что-то интимно наговаривает на ухо, подает какие-то бумаги, которые она жестом отсылает прочь.
Скоро эфир.
Кто-то включает телевизор, это – не Наш канал. На экране реклама: стайка молодых людей, юношей и девушек, привлекает внимание прохожих групповым прыжком в работающий фонтан. Ребята ныряют в водичку рыбкой, презрев возможную опасность сломать себе шеи, и через мгновение выпрыгивают наружу, подобно дрессированным дельфинам, преображенные, прозрачные как стекло, текучие и искрящиеся. Звучит музыкальная фраза, такая же прозрачная и освежающая. Очень красиво. И мне сразу хочется пить. Все поглядывают на экран, и некоторое время наблюдают за «ныряльщиками», а потом принимают прежнее положение.
А мой пульс уже отсчитывает минуты перед эфиром…
Да, банальная разница в возрасте и угроза «преемственности поколений» – это, пожалуй, самая приятная версия Алисиной антипатии. Но не исключено, что я просто вызываю у нее отрицательные эмоции самим фактом своего существования. Демонстрировать их открыто она не может себе позволить: это – на ее-то высокой позиции – просто непрофессионально. Да я вообще готова поспорить с кем угодно на миллион в любой валюте, что она никогда, никому, ни при каких обстоятельствах не хамит. Мне было бы даже интересно посмотреть, как прекрасная Алиса орет на кого-то или, к примеру, непечатно ругается… Нереально. И неважно, что у нее творится внутри: гнев, досада, разочарование, обида! Внешних проявлений не будет. Как настоящую леди, ее ничего не может ни напугать, ни удивить, ни вывести из себя. Такого класса мне никогда не достичь. Впрочем, у меня и темперамент другой, и дипломатичности явно не хватает. Воспитание, конечно, попроще.
Ладно, что есть, то есть. Другой я уже не стану. Алиса, к сожалению, тоже…
Пора в студию. Я благодарю Наташу (словами – за прическу, рукой – за поддержку) и направляюсь к двери, когда Алиса, игнорируя заботливые руки Ирины Станиславовны, наносящей последний штрих, поворачивает ко мне свою красивую головку:
– Знаешь, кто еще заявлен в твоей номинации? Глеб Кораблев и Татьяна Корниенко.
Я замираю. Наступает минутная пауза, только говорит работающий телевизор. Кто-то из гримерш тихонько свистит. Я бы тоже присвистнула, да не умею. Потому что слова тут не особенно уместны: ах, и Глеб Кораблев тоже…
Все ясно. Она ведь могла бы сразу мне это сказать, но удовольствие нужно растянуть до максимума! Против лома нет приема, а Кораблев – это даже не лом, а градобойная машина. В смысле популярности и профессионализма. Таня Корниенко, ведущая ток-шоу для подростков, – славная девчонка, но никак не соперница, нет… А Глеб абсолютно объективно лишает нас обеих шансов на победу, по определению, так сказать.
Нужно что-то произнести. «Фраза на уход», как говорят в театре. И вот она найдена:
– Да ладно. Главное не победа!
Алиса одобряет кивком мои натужные «веселье и находчивость»:
– Конечно! – и улыбается. Дело в том, что у нее в активе две высшие профессиональные награды.
Мне хочется усилить произведенное обманчивое впечатление:
– Да, кстати, забыла спросить: а тебя в этом году номинировали?
– Ну что ты, не три же года подряд, – откровенно снисходительно произносит грандесса. – Я веду церемонию награждения.
В переводе это обозначает: «Я вне конкуренции». И это правда, черт возьми…
Глава 2 «Не надо бороться за любовь…»
Все, забыть про уязвленное самолюбие, Алису, проблемы, про все на свете: я – в кадре. Сижу в удобном широком кресле, передо мной низкий столик, украшенный цветами. За спиной – журчащая стекающей по стеклу водой прелестная инсталляция – выдумка нашего дизайнера. Эта «текучая» стена очень успокаивает, с ней как будто легче дышится. Чуть в стороне – монитор, на котором сейчас транслируются фрагменты из фильмов с участием пожилого актера: сегодня он мой гость в студии. В микрофоне за ухом шелестит голос режиссера, дающий последние установки, я что-то отвечаю. Это так привычно, что уже не инструктаж, а ритуал.
Время от времени взглядываю на мониторчик, освежаю в памяти старые кинофильмы: это хорошие фильмы, есть среди них даже шедевры отечественной киноклассики. Я действительно рада: предчувствую, что старичок-актер, народный артист еще Советского Союза, – приятный интеллигентный собеседник. Ходит медленно, говорит негромко, наверное, немного приболел. А может, просто старенький. Сколько ему? Лет восемьдесят? По-моему, я его молодым в кино никогда и не видела. Ладно, придется настроиться на ностальгию…
Я привычно строю прогнозы перед эфиром: как, в какой тональности пройдет беседа. И так радуюсь, когда ошибаюсь! Иногда самые скромные, замкнутые на вид люди поражают остроумием, а признанные краснобаи – искренностью, которой от них никто и не ждал. Любой человек для меня – сюрприз. Или мне везло до сих пор?
Сейчас пойдет «подводка», камера зафиксирована на мне. А в это время на второе кресло не без помощи сопровождающей его девушки усаживается пожилой актер. И когда он готов, я поворачиваюсь к нему и произношу:
– Давайте поприветствуем Николая Пантюхова, народного артиста Советского Союза, народного артиста, которого любят и знают в нашей стране, наверное, все. Взрослые помнят его замечательные роли в фильмах, ставших классикой отечественного кино, а дети смотрят мультики, в которых самые добрые, самые сказочные персонажи говорят голосом Николая Петровича. Здравствуйте, дорогой Николай Петрович…
Николай Петрович здоровается и смотрит на меня небольшими, кроткими, но весьма проницательными глазками. Интересно, что он сейчас думает обо мне? Это, конечно, выяснится исподволь в ходе беседы, но первое впечатление, которое мы производим на незнакомого человека, как правило, оказывается верным. Но не будешь же спрашивать об этом…
Между прочим, когда эфир закончился, мне рассказали, что редактриса откомментировала мою беседу с Пантюховым примерно в таких выражениях: «Ну дает Маргарита! Спорю, что она о нем узнала только сегодня, а так подает, будто он ей в детстве сказки лично рассказывал!»
Если честно, то о своих визави стараюсь хоть почитать что-нибудь. То есть поинтересоваться их жизнью на самом деле. Люди ведь тонко чувствуют, интересны они тебе или нет, либо это «просто работа». И результат соответствующий… Но старичка-актера я не впервые вижу, помню, даже плакала над судьбой одного его героя, отца, покинутого дочерью. Маленькая еще была. Так что моя симпатия к нему не наигранная, а вполне сформировавшаяся за долгие годы нашего заочного знакомства.
Конечно, всех, кто ко мне на эфир приходит, я любить не могу, да это и не надо. Но умею – как-то само выходит! – в каждом человеке найти что-то, что вызовет уважение именно у меня, Маргариты Дубровской – без оглядки на самое высокое общественное мнение, его личный авторитет или мировую славу… Нахожу, и тогда все идет как по маслу: герои начинают чувствовать себя в студии как в гостях – охотно рассказывают о себе, делятся новостями, улыбаются от души… Они ведь и правда в гостях: кроме меня, сидящей напротив, вокруг очень много людей, незаметно делающих свою работу. Но эти люди тоже смотрят, слушают, улыбаются, грустят.
Вот и я с улыбкой слушаю старичка. Краем глаза вижу, что камера меня сейчас не берет. Поэтому веду себя так, будто мы совершенно одни: киваю ему, могу прикоснуться к своему лицу, почесать нос. Николай Петрович освоился и уже рассказывает мне, как знакомой, о своей актерской жизни:
– Внешность у меня, как видите, не героическая. Да-да, и в молодости я не был красавцем. Неудачников каких-то играл часто, горемык… Пьяниц, опять же. Солдат, крестьян. Руководителей среднего звена… Бригадиров на стройке – человек пять, и почти всегда Петровичей, как я сам… А мечтал сыграть большую любовь. Потому что в жизни, в моей жизни такая любовь была. Она была, правда, не очень счастливая… Счастьем было то, что мне было дано все это пережить. И до сих пор кажется, что лучше меня любящего человека никто не сыграл бы…
Я внимательно слушаю старика, но это не мешает мне параллельно думать о своем.
Со мной так часто бывает: случится что-то, и я думаю, мучаюсь, пытаюсь найти выход, жду какого-то совета и обязательно получаю его, только не от подруг, мужа, матери…
Да, я человек, кажется, вполне здравомыслящий, не мистик, отнюдь! Надеюсь, не истеричка, хотя, бывает, склонна к рефлексии. И вот я, вся такая реалистка и прагматичка, время от времени получаю… Послание.
Это может быть обрывок случайного разговора в метро. Или строчка из книги. Однажды увидела рекламу по телевизору со слоганом: «Все приходит вовремя к тому, кто умеет ждать». Поняла: это мне… Или Послание является вот так, «своими ногами», как гость в студию. Приходит, и вместо заезженных от частого употребления киношных воспоминаний рассказывает о своей жизни, о своей прекрасной несчастной любви. Чтобы среди всех его слов я нашла одно, или два, или целую фразу, обращенную лично ко мне.
Спасибо старику за это доверие, за нечастую в наше время откровенность – это дорогого стоит, как всякая честность, как доброта. Я знаю: зрители сейчас не сводят глаз с экрана и у кого-то уже увлажнились глаза от мысли: «и я любил, и у меня так было…»
Да, его рассказ о том, как он понимает любовь, – это именно то, что так нужно было услышать МНЕ сейчас, сегодня. Или вчера, или год назад? Когда же начался этот нервный непокой, это изнуряющее смятение? Турбулентность какая-то непрерывная…
Старый актер говорит спокойно, почти не интонируя, не делая никаких лишних жестов, – сказывается академическая актерская выучка, еще Станиславский считал, что «жесты обедняют речь». Это наши телеведущие через одного взяли моду махать руками как мельница, норовят ткнуть «перстом указующим» едва ли не в глаз собеседнику. И отучить их от этого невозможно!
Николай Петрович умеет держать аудиторию – первый признак большого таланта. Его слушают все. Даже оператор – я вижу его глаза, значит, он не в объектив смотрит… Но мне его не просто слушать: надо внимать, потому что вот, вот он – пришедший, наконец, ответ на вопросы, которые мучают меня не первый день:
– Нет в тебе любви – и все впустую. «Медь звенящая, кимвал звучащий». Это Библия… Знаете, есть фраза: «Не так уж важно, веришь ли ты в Бога. Важно, верит ли Бог в тебя». Так и любовь. Не нужно за нее бороться. Если это настоящая любовь, наступит день и час, когда она начнет бороться за тебя… Кстати, зрительской любви это тоже касается.
Мне нужно задать ему все вопросы, подготовленные редактурой, а я не хочу перебивать этого человека. Вопросов девочки насочиняли много, но пусть никто на меня не обижается: большинство из них того порядка, что я называю про себя «где и когда вы родились?» Не диво: сами-то они родились намного позже, чем взошла звезда актера Пантюхова. Что им «Станционный смотритель», что им «Неоконченная пьеса…»? Дела давно минувших дней… В общем, будет очередное замечание от режиссера, не первое и не последнее на моем счету, но две трети этих «животрепещущих» вопросов я проигнорирую. Дожидаюсь, когда он закончит мысль, и только потом спрашиваю:
– Зрительская любовь и популярность – это одно и то же?
Старичок-актер улыбается довольно хитро:
– Популярность – это когда узнают. Известность – это когда фамилию помнят. А любовь – это когда телевизор не выключают. Как думаете, нашу передачу сейчас смотрят или телевизор выключили?
И мы оба, не сговариваясь, поворачиваемся в сторону камеры, как будто и впрямь решили проверить – не выключили? И я слышу в наушнике голос режиссера: «Отлично, Рита, даем блок рекламы…»
Сейчас вытащу из уха клипсу микрофона – «подслушку», можно будет встать, поулыбаться, немножко потянуться. Не вдруг, а вполне ожидаемо сверху, «по громкой связи», звучит голос режиссера:
– Маргарита, спасибо, все было здорово. Немножко отклонилась от темы, немножко отсебятины. Но это, пожалуй, претензии к редактуре. Лучше нужно готовить вопросы гостю. Давайте, друзья, поблагодарим Риту за удачный эфир.
Все в студии улыбаются (кто искренне, кто не очень) и аплодируют. Это тоже милый обычай в нашем коллективе. Так аплодируют командиру воздушного лайнера после удачной посадки в аэропорту назначения. Мы полетали и приземлились! Ура! Я делаю реверанс и посылаю наверх воздушный поцелуй…
Мне правда хорошо. Я прекрасно провела это утро в компании с хорошими людьми, делая любимое дело. И, кажется, даже поумнела – самую малость. Если это возможно, конечно, в мои-то годы! Шучу, как всегда, шучу…
Почти бегу по длинному, ярко освещенному коридору, влетаю в лифт, нажимаю кнопку с цифрой 9. Выскакиваю, с кем-то здороваюсь и иду уже медленно, с достоинством. Моя цель – кабинет директора Главной дирекции музыкальных и развлекательных программ. Моя задача – выплеснуть накопившиеся отрицательные эмоции и, если повезет, подпитаться положительными. Поможет мне в этом директор, Сергей Александрович Сосновский, или нет, зависит от множества причин. Занят ли он, хорошее ли у него настроение, не разлюбил ли он меня, в конце концов, за прошедшее с последней нашей встречи время. За два?…За два дня.
Чтобы это выяснить, надо первым делом преодолеть первый барьер: его хорошенькую, как Золушка из старого кино, но остренькую на язычок, как мачеха из того же фильма, секретаршу Масяню.
Еще не открыв тяжелую начальственную дверь, я начинаю свой внутренний разговор с Сергеем. Но сбиваюсь на воспоминания.
Наверное, я так никогда и не вырасту. В смысле не стану окончательно взрослой. Во мне по сей день живы все детские воспоминания и обиды… Я никогда не произношу вслух, но про себя часто повторяю смешное детское слово «подговаривают». Вот Алиса «подговаривает». Девчонки в школе против меня часто «подговаривали» моих немногочисленных подружек. И подружки начинали меня избегать. Что «подговаривали»? Что я «воображаю», «выступаю», «задаюсь». Выделяться в наше время было неприлично, и в детском коллективе строго осуждалось.
Но это, конечно, было правдой: я и воображала, потому что была очень хорошенькой, и выступала – где и как могла: артистичная натура уже давала о себе знать!
Мама говорит, что я всегда была очень веселым, неистребимо жизнерадостным ребенком. Другие дети в садик шли с ревом, а я – с песней! В буквальном смысле. Я по дороге в сад громко пела все известные мне песни.
Выбор был небогатый: песенки из мультиков, а также избранные фрагменты из репертуара Аллы Пугачевой и Льва Лещенко. Старший брат, который меня отводил в садик, страшно стеснялся этих концертов и держался от меня на расстоянии. Иногда даже на другую сторону улицы переходил, стараясь не терять из виду. Он ведь был мальчишкой. Когда я выросла, он рассказывал мне, что из множества песен я запоминала от силы по одному куплету, да еще и безбожно перевирала текст. Да, слова я часто забывала (это и сейчас за мной водится), но придумывала свои или просто пела «ля-ля-ля». И меня это вовсе не смущало, я вопила свои «попурри» во весь голос. Иногда песню можно было узнать только по отдельным словам: слух в ту пору у меня был не идеальный. Но прохожие мне улыбались, некоторые даже мимоходом гладили по головке радостно голосящее дитя.
Я вхожу в стильную приемную, опираюсь руками на Масянин столик:
– Машенька, шеф примет? Спроси.
Маша-Масяня жестом показывает мне на кресло:
– Посиди, я его недавно с Питером соединяла, сейчас проверю.
Осторожно нажимает кнопку, и на мгновение приемную заполняет баритон Сосновского. Все ясно, шеф еще занят. Маша продолжает свою работу: что-то набирает, стуча по клавиатуре и требовательно глядя в экран монитора. Между прочим, ее личные мелкие недостатки в виде повышенной наблюдательности и умения безупречно формулировать колкости – всего лишь продолжение отменных профессиональных достоинств. Мне Сергей много раз говорил о Маше в таких высоких степенях, что впору было заревновать. Рассказывал, что она все договорные документы тщательно редактирует, часто и толково правит (у нее юридическое образование) до, после, иногда вместо него, а вот он ее не правит никогда. И в стратегических вопросах – закупка лицензионных программ, заключение долгосрочных договоров, расширение связей – ее холодноватый, хорошо организованный ум бывает очень полезен. Мне, если честно, было приятно слушать и видеть, как он гордится своей помощницей. Еще бы, он сам ее когда-то нашел, «разглядел» и уговорил с ним работать.
Не буду ей мешать. Сажусь в кресло и снова уношусь в детские воспоминания.
…Да, приходится признать: наверное, я всегда стремилась к успеху. В детском саду солировала на всех утренниках, а больше всего обожала читать стихи у елки, и чтобы потом дали подарок и все мне хлопали. В школе тоже лезла в любой «литмонтаж»: помните, стояли на сцене дети и читали тематические стихи в очередь. Голос у меня был громкий, звонкий, да и стеснительной я не была – я была «активной», поэтому меня всегда выбирали для выступлений в праздничных концертах. А потом стала их вести: громко и выразительно объявлять номера и имена исполнителей. И была при этом страшно довольна и горда собой. Что мне эти танцоры и музыканты: споют песенку, спляшут полечку и уйдут за кулисы. А я все выхожу и выхожу на сцену, и мне все хлопают и хлопают!
Маша включает принтер, берет и перечитывает вылезший из него листок бумаги, встает (став при этом ненамного выше) и, негромко стукнув дверью, заходит в кабинет.
Потом выходит и, придержав открытую дверь, обращается ко мне зачем-то официально:
– Вас ждут.
– Спасибо, – слегка растерянно говорю я ей и захожу в большой кабинет с длинным, похожим на подиум столом посередине.
Сергей Александрович, пряча улыбку, говорит доброжелательно, но «по-чужому»:
– Здравствуйте, Маргарита!
Я уже закрыла дверь, но зачем-то продолжаю игру:
– Здравствуйте, Сергей Александрович. Явилась по вызову.
Но игра уже надоела ему:
– Иди сюда.
Подхожу, сажусь на подлокотник кресла, обнимаю его за плечи, целую в висок… Я влюблена в этот четкий профиль, в эту ироничную бровь, в эти сильные, «гетманские» глаза. Я влюблена… Он нажимает кнопку селектора и говорит негромко:
– Маша, я занят.
Голос Масяни звучит бесстрастно, как всегда:
– Я поняла.
Но эта лишенная выражения интонация мгновенно выводит меня из себя:
– Что она поняла? Что она может понять? Я сама еще ничего не поняла, а она уже что-то поняла!
Сергей смотрит несколько отстраненно:
– Она сказала только то, что сказала. А что она должна была ответить: «Йес, сэр?» «Не извольте беспокоиться?» «Слушаю и повинуюсь?»
Я машу рукой, слезаю с подлокотника и сажусь на стул, стоящий у стены. Да, я раздражена и насуплена. Нет, надо с собой что-то делать. Если меня может расстроить незначительная фраза, если я вижу намеки там, где их нет, – у меня серьезные проблемы.
Впрочем, я и так знаю, что у меня проблемы.
Сергей смотрит на меня спокойно: его, похоже, не трогают подобные вспышки. Догадываюсь, почему. Уверенные в себе мужчины так себя и ведут: невозмутимо, не акцентируя внимание на том, что им не интересно. Но делают выводы.
Он говорит так, будто моего «выбрыка» и не было:
– Я все равно вызвал бы тебя, потому что хотел видеть и потому что посмотрел твой эфир. Отличная работа! Я горжусь тобой, моя девочка!
Ну-у… Огрызнусь, пожалуй:
– Не называй меня «моя девочка», пожалуйста. Я скоро четвертый десяток разменяю.
Сергей смеется:
– А с математикой у тебя, похоже, не очень, да? Что это с тобой, Рита? Какая муха тебя укусила?
Точно, четвертый десяток – это после тридцати. Пройденный этап… Ладно, не хочу больше огрызаться, я ведь «жалеться» шла:
– Не муха, а лиса. Алиса.
Он встает, подходит к моему стулу, садится передо мной на корточки, берет мою руку. Я вижу, что он прячет улыбку, но все равно таю, таю… Сергей целует меня, сам садится рядом и, преодолев слабое сопротивление, пересаживает меня к себе на колени. Нет, с ним я все-таки девочка, совсем девочка…
Голосом доброго сказочника, покачивая меня на коленях, он говорит:
– Алиса не лиса. Она из другой сказки.
Так, надо срочно слезть с колен: злиться в таком положении очень неудобно и смешно. Я и слезаю, и встаю перед ним в позу кувшина – руки в боки:
– Боже мой, да у меня, оказывается, есть еще один повод для ревности.
Я имею в виду исключительно его жену, однако это не тот случай, когда дерзость сойдет мне с рук. Ответ не заставляет себя ждать:
– При желании ты можешь насчитать еще одиннадцать. Или двенадцать. Как друзей Оушена.
Закусывать удила не стоит, но и остановиться я не могу:
– Нет, правда, Сережа! И ты, Брут… без ума от несравненной Алисы. А почему, собственно? Вот ты даже не узнал, в чем дело, а слово в ее защиту сказал! Ты бы спросил сначала, почему я такая настеганная?!
Сергей по-прежнему спокоен, черт бы его побрал. И ироничен совсем некстати, на мой взгляд.
– И я не Брут, и ты не Юлий Цезарь. Давай я минералки попрошу у Маши. Ты ее выпьешь. Или умоешься. В чем дело? Что ты не поделила с Алисой?
Все, хватит: шеф начинает серьезно раздражаться, и мне пора прекратить капризы. Сейчас возьму себя в руки.
– Почему ты не сказал, что меня номинировали на «Телевышку»?
Пожав плечами, он отвечает, как ни в чем не бывало:
– Я сам только недавно узнал.
– Ну да, ты же у нас академик, – я-то знаю, что телеакадемики месяца за два начинают обсуждать кандидатуры номинантов, но он не хочет оправдываться.
– Если ты намекаешь на мой опыт, в смысле возраст, я проигнорирую твои слова. А если хочешь отдать должное моему высокому профессионализму, скромно и с достоинством поклонюсь. Да, я телеакадемик. Иди-ка, поцелуй меня за это.
Он невероятно импозантен и обаятелен. Он просто неотразим. Ах, если бы это было только мое эксклюзивное мнение. Нехотя подхожу ближе. А он целует меня нежно-нежно. Да, как маленькую. И я готова разреветься. И уже всхлипываю:
– И эта стерва еще поздравляет меня! Знает же, что мне никогда не перебить Кораблева.
Сергей снова хмурится:
– Прошу тебя… Во-первых, Алиса не стерва. Во-вторых, Кораблева не перебить никому. Особенно, когда он говорит. Особенно в прямом эфире. Это отдельная песня. И потом… Не факт! Я, например, проголосую за тебя.
Я все еще горячусь:
– Но объективно Глеб сильнее! И рейтингу его «Решки» выше!
Сергей смеется:
– А зато тебе письма приходят мешками от зрителей!
Теперь смеюсь я:
– Когда у нас говорят «мешками», это значит, что два в неделю!
Я обнимаю его, прижимаюсь ухом к груди и слышу, как стучит сердце и успокаивающе рокочет мягкий баритон:
– Другим не пишут совсем! Два в неделю… В месяце четыре недели… В году… Да наберется мешок, точно наберется!
Век бы так сидела и слушала, слушала… Неважно, что он просто меня утешает, готовит к поражению, неважно. Я все понимаю, но пусть он говорит. Только, справедливости ради, замечаю:
– Ну-да, большущий такой мешок. Как у инкассатора. Ладно, что я в самом деле. Это Алиса твоя виновата.
Сергей задумчиво произносит:
– Алиса в Зазеркалье…
Что-то странное проскальзывает в этой реплике. Горечь? Или вспомнил что-то, что их связывает? Я внимательно смотрю на него:
– Что-что? В Стране Чудес?
А он уже, как ни в чем не бывало, улыбается:
– Нет, чудеса как раз в стране Алисы. А она в Зазеркалье. Ну, хватит. Не люблю говорить за глаза. Не злись на нее. Лучше учись. У нее есть чему поучиться. Женственности. Мужеству.
Вот оно что – поучись!.. И я снова бешусь:
– Знаешь, я, пожалуй, пойду.
Ну и не напугала. Не скрываясь, глянув сначала на часы на стенке, потом на руке, он спокойно отвечает:
– Иди, моя хорошая. Пора уже и мне орлов своих собирать на задел. И не злись. В субботу поедем в Пущу, есть тема. Хочешь?
Я замираю. Хочу ли я?… В Пущу… Утренний туман… Роса на траве… Птицы поют, тишина, он рядом… Плюс еще человек двадцать – съемочная группа. Все равно! Да, да, безумно хочу в Пущу, в чащу, на край света, с ним! Но вслух говорю задумчиво:
– Наверное, хочу. А что я дома скажу?
Он смотрит на меня нежно и понимающе:
– А мы сюжетик снимем для твоего «Доброго утра». Там поместье белорусского Деда Мороза закладывают, очень, по-моему, симпатичный проект. Ну все, иди, Рита, сейчас люди придут.
Я украдкой вздыхаю. Не могу не понимать, что в организации подобных «сюжетиков» у него накоплен значительный опыт. Все понимаю, но… Это сильнее меня. Уже от двери бросаю небрежно, как могу:
– Между прочим, мне в письмах чаще всего в любви объясняются.
Ой, и на что я рассчитываю? «Попала»? Нет, «мимо»!
– Верю. Я тебя тоже люблю. Безответно.
И последнее слово остается за ним. Как всегда.
Глава 3 «Я знаю, что ты знаешь, что я знаю…»
Гримерка уже опустела. Изредка в нее еще входят и выходят, но мы с усталой после напряженной смены Наташей сидим в креслах спиной к дверям и курим, положив ноги на низкий подоконник широкого окна, пуская дым по направлению к безоблачному небу слушая шуршание шин и хлопанье автобусных дверей на остановке.
Разговор долгий, неспешный, паузы длинные. Тема – мой роман с Сосновским. Хотя что тут обсуждать? Как погоду. Сегодня ясно, завтра – дождь. По всей территории… Наташка не язва, подкалывать меня ей ни к чему. Просто констатирует факты:
– А ты что думала, никто не узнает?
Я отмахиваюсь:
– Да ничего я не думала. Господи, все я понимаю. У меня это впервые, у него – лебединая песня.
Наташа неожиданно запрокидывает голову и громко смеется:
– Ой, не кажи, подруга! Песня лебединая… Лебедь! Да он соловей-разбойник, а не лебедь!
Могла бы и не уточнять. Экскурсы в орнитологию тоже ни к чему: мне и самой понятно, что наши отношения временны. И раз уж я сама ляпнула про песню, то надо в данном случае говорить о куплете или припеве. Вслух говорю:
– Ну так и не осуждай. Да, влюбилась. Да, я не первая и, наверное, не последняя. И все равно – ничье не дело.
Наташка косится:
– А Миша не догадывается?
Я морщусь, как от головной боли. Не Наташке и отвечать бы не стала… – Слушай, по-моему, ему все равно. Работа, работа… Частые командировки, деловые встречи. А может, и не только деловые. Знаешь, как я его называю? «Действующий отец». А муж… Почти номинальный…
Наташка смотрит с иронией:
– А попроще? Для лиц с неоконченным высшим?
– Не притворяйся. Чего проще? Одно название – муж… По-моему, я для него уже давно как сестра.
Наташа машет рукой с сигаретой. Дымок рассеивается, как и моя уверенность в том, что говорю. Вот и Наташа подтверждает мои сомнения:
– Не верю.
Ладно, я и сама понимаю: это желание оправдать собственное отношение к Мише.
– Ну, пусть не совсем… А! Не будем об этом. Будем считать, что Сосновский – это как раз моя лебединая песня.
Наташка молчит. О чем-то думает, прикидывает – сказать или не надо? И говорит, так осторожно-осторожно:
– Он тебе в отцы годится.
Я хохочу: похожая сентенция мне сегодня в голову уже приходила, когда я подсчитывала мои шансы быть матерью Леночки из АТН. Утренние математические выкладки и озвучиваю:
– Если бы я была его внебрачным ребенком, зачатым в восьмом классе средней школы, тогда да, в отцы.
Молчим. А потом Наташа, затушив сигарету в пепельнице, произносит:
– Знаешь, а я бы не отказалась от такого отца. Правда…
Я киваю в ответ:
– Я тоже, если честно. Ну может ты и права по большому счету. Ой, ничего я не знаю… Меня, наверное, в детстве недолюбили…
Наташка смотрит хитро:
– И ты почему-то решила наверстать упущенное с главным Дон Жуаном нашего телевидения? Ну-ну…
Ладно, пора по домам. Что мы сейчас с Наташкой решим мою дальнейшую судьбу? Нет. Встаю, потягиваюсь:
– Ну и хватит нотации читать. И кстати, про отцов. Миша очень любит нашу Катьку. И только поэтому наш брак надежен, как швейцарский банк. Все, пошли. Хочешь, до дома довезу?
Мы спускаемся с центральной лестницы, ведущей в Телецентр. Мы похожи на «покоривших вершину» альпинистов: усталые, но довольные. Как иллюстрация к мысли о разнообразных «вершинах» на автостоянке рядом с телецентром обнаруживается Алиса. Отвернувшись от нас, она говорит с кем-то по телефону.
Мы с Наташкой садимся в мой «меган», дверцы хлопают, и Алиса оборачивается на звук.
Приветливо улыбается (ну это у нее просто рефлекс), и царственным жестом открывает свою машину. Садится и одновременно успевает сделать нам «пока-пока».
А я не улыбаюсь в ответ: я уже устала ей улыбаться. Да еще и шиплю:
– У, бочка динамитная!
Наташка смеется:
– Ну ты даешь! Какая Алиса бочка? 40 кг с ботинками!
Машина едет по городу. Наташа что-то рассказывает, оживленно жестикулируя. Я смотрю на дорогу, время от времени кивая подруге, но думаю о своем.
«Бочка динамитная»… До сих пор удивляюсь, как я смогла придумать такое! Однажды во дворе мы с девочкой из нашего подъезда сделали «секреты»: закопали в земле красивые «золотинки» от шоколадок, бусинки, цветы и закрыли сверху стеклышком. Популярное в нашем детстве было занятие – делать «секреты». И очень важно было этот «секрет» сохранить: никому постороннему не «выказать». Найти чужой «секрет» было невероятной удачей, ведь туда попадали самые красивые фантики и стеклышки, а иногда даже целые брошки!
В общем, девчонка, с которой мы делали «секреты» во дворе, дождалась, когда я уйду домой, и забрала все мои сокровища! И так ровненько-ровненько разгладила песочек над разоренным тайничком! Темным вечером перед сном я стянула у папы спички, выбежала проверить свой «секрет» и обнаружила пропажу. Предательство!..
Гнев охватил все мое существо, я бросилась в подъезд, вихрем взлетела на пятый этаж. Я нажимала и нажимала кнопку знакомого звонка, пока сердитая подружкина мама в халате и «бигудях» не открыла дверь.
Предательница, разорительница «секретов» испуганно выглядывала из-за косяка двери. Я увидела ее – и свет померк от ярости. «Это ты!» – заорала я, забыв о приличиях.
«Что случилось, Рита? – перепугалась „предательская“ мама. – Не кричи так, поздно, все уже спят». Негодяйка в пижаме, однако, спряталась в своей комнате. Ее мать еще не успела договорить, как противная девчонка закричала оттуда: «Это не я! Это не я!»
«Ты! – еще раз страшным голосом крикнула я и, нисколько не стесняясь присутствия взрослого, добавила: Бочка динамитная!»
Зря она назавтра рассказала об этом инциденте во дворе. Эффект получился, прямо скажем, неожиданный: никто ей не посочувствовал и меня не осудил – законы детства суровы и справедливы. А прозвище оказалось не только смешным, но и подходящим. Девчонка в самом деле была и толстенькая, и очень вредная. Она так и осталась «бочкой динамитной» до восьмого класса. А потом пошла учиться. По-моему, в какое-то торговое ПТУ. Больше я ее не встречала, переехав в другой город в семнадцать лет. Надеюсь, свою привычку брать чужое она оставила в детстве…
Я сворачиваю в арку: вот и Наташин двор. Наташа чмокает меня в щеку и выходит из машины, а я выезжаю обратно на дорогу.
…Сколько моих «секретов» разрушено с тех давних пор – и не сосчитать. Когда я лишаюсь очередного своего сокровища и мне нечем себя утешить, я вспоминаю: «Бочка динамитная!» И тихо смеюсь… но чаще – плачу.
Глава 4 Ангел в темноте
Я дома. Вхожу в квартиру, открывая дверь своим ключом, и тихонько кричу: «Милый, я дома!» Это моя грустная игра. В одном американском фильме увидела: женщина входит в дом и так же кричит. А потом добавляет: «Ах, я забыла, я же не замужем…»
Я замужем, но мой муж дома и вечером-то нечастый гость, а уж днем… Иногда он шутит: «Кто на что учился». Или еще так: «Ученье – свет, а неученье – чуть свет на работу». Ну-да, он экономист, с двумя высшими образованиями, а я так, «погулять вышла», всего лишь актриса.
Я действительно в дипломе значусь как «актриса театра и кино». Но последнюю свою роль сыграла в дипломном спектакле. Это была Катарина в «Укрощении строптивой». А потом… Совершенно случайно попала на телевидение. И с тех пор, вот уже пятнадцать лет, пытаюсь доказать себе и другим, что случайностью это все же не было. Сложно? А кому легко! Все кому-то что-то доказывают – всю жизнь, особенно натуры артистичные, творческие. Я все же причисляю себя именно к таким.
Захожу в ванную. Студийный грим выглядит в домашнем интерьере уж очень театрально, скорее смыть… Облачаюсь в длинный халат – вот оно, счастье… Сейчас – плюх! – на диван перед телевизором и… не включу его! Книжечку возьму, почитаю. Что бы такое взять, под настроение…
Иду мимо комнаты дочери к стеллажу, который тянется вдоль всего коридора: где тут мой любимый «лошадник» Дик Фрэнсис? Его детективы действуют на меня как чашечка чаю с молоком, потому что он настоящий англичанин во всем: и в творчестве, и в жизни. Блестящий джентльмен, жокей Ее Величества, даже его остроумие сдержанно – это «улыбающийся», а не «смеющийся» английский юмор…
На настенном бра прикреплена забавная игрушка – ангел в длинной белой ночной рубашке с крылышками. Это наш родной, очень важный ангел. У него есть своя биография, своя история.
…Когда моя Катька была совсем маленькой, она боялась темноты. Ничего особенного, многие дети боятся, но моя своенравная с младых ногтей девица еще и болезненно стеснялась этого. Поцелую ее на сон грядущий, выключу свет, а она начинает хныкать, тоненько, как зайчик. И ночничок-лилия дела не менял: хнычет моя кроха и не признается почему. Впрочем, и говорила-то она тогда едва-едва.
Только годика в четыре наконец призналась, бедняжка, со слезами: «Мама, я эту куколку боюсь…» И показала на ангела, висевшего на зеркале в ее детской.
Игрушечного ангела подарила ей крестная, подруга моя школьная, Жанна. Очень славный ангелок, с круглой румяной улыбающейся мордашкой, с золотым колечком-нимбом на светленьких кудряшках, из-под беленькой ночной рубашки торчат розовые пяточки. А крылышки маленькие, как у воробья. Хорошая, добрая игрушка, совсем не страшная.
Правда, в темноте он слегка светится, уж не знаю, из чего сделан, но светится. Чуть-чуть… Красиво – на взрослый взгляд. И все-таки, наверное, немного жутковато – на детский. Вот Катька и испугалась его когда-то и продолжала бояться так долго! Со страхами нужно бороться, по себе знаю. Очень они мешают жить.
Разговор с дочерью начала издалека:
– Зайка моя, почему ты его боишься, это же твой ангел-хранитель! Видела, как он в темноте светится?
– Ты его убери, выброси… – и отвернулась даже, бровки нахмурила.
Я думаю, нет, мало ли чего ты в следующий раз бояться начнешь – так все и выбрасывать?
– Перестань, Катя. Как это мы его в мусорку выбросим, чтобы он среди картофельных очистков что ли лежал? Он же маленький, хороший, помнишь, тебе тетя Жанна его подарила? Она тебя очень любит.
Но Катя оставалась непреклонной. И тогда я спросила:
– Ну хочешь, расскажу тебе сказку про ангела?
Сказка – это и поныне самый мощный аргумент в любом разговоре с дочерью. Правда, на тот момент я подходящей сказки про ангела не знала, поэтому пришлось сочинять на ходу. И вот что сочинилось…
– Жил-был маленький ангел. Он очень любил играть, петь песенки, гулять. Знаешь, как гуляют ангелы?
Катька подумала и предположила:
– В парке?… Не знаю.
Ну я-то, положим, тоже не очень знаю, какие прогулки у ангелов, но уж если начала, надо продолжать:
– Ангелы, Катя, летают из дома в дом, смотрят, как поживают маленькие детки, которых они защищают. Днем и ночью летают. Днем заботятся о малышах, следят, чтобы они хорошо кушали, маму слушались. Берегут их. Вот упал, например, малыш, а ангел тут как тут, подставил ладошки – и малышу не больно. Ночью присматривают, чтобы сладко спали, видели хорошие сны и ничего не боялись.
Тут она впервые глянула на нашего «пернатого» с робким интересом…
Воодушевленная первым успехом выдвинутой версии, я продолжила:
– И вот однажды один маленький ангел прилетел в дом, где все уже давно спали, а свет был выключен. Он немножко боялся темноты (ну совсем как ты). Но он очень любил маленькую девочку, которая жила в этом доме…
Абстрактные герои в этом возрасте впечатления не производят, поэтому Катька тут же уточнила:
– А как ее звали?
Отлично, подумала я, пусть знает, что не она одна на свете трусишка…
– Танечка ее звали, Киселева, к примеру… В общем, ангел подумал об этой девочке и заметил, что…
Я сделала специальную «сказочную» паузу и увидела, что глаза у Кати сделались круглые, как личико у игрушки с нимбом.
– Что?… – шепнула она заворожено, заранее готовая и испугаться, и обрадоваться…
А я добавила оптимизма в голос и объявила:
– Что он светится! И чем больше он думал о девочке, которая жила в этом доме, тем ярче светился! Как маленький фонарик! Или как светлячок – помнишь, мы отдыхали на море, там вечером кругом летали светлячки?… Он посветил-посветил сам себе, быстро нашел комнату маленькой девочки, поправил ей одеяльце, поцеловал в лобик и полетел обратно. А светился он от любви. Вокруг было темно, но он освещал свой путь собственной любовью…
Это уже не было похоже на детскую сказку, но Катька отвлеклась от моего рассказа: она смотрела на своего игрушечного ангела-хранителя с явной симпатией. А он улыбался ей в ответ… То есть он-то улыбался и раньше, но заметила его улыбку Катька, кажется, только тогда…
… Я рассаживаю плюшевых игрушек на диване в Катиной комнате… Над диваном фото: я, Миша, Катя обнялись и смеемся. Когда это было? Год назад. Всего год назад. Целый год назад…
А моей Кате уже восемь лет. Она давным-давно не боится темноты. Маленький ангел по-прежнему висит в ее детской, и она любит смотреть на него перед сном. Она просит выключить свет, чтобы посмотреть, как он светится. Иногда подолгу держит его рядом с лампочкой, чтобы он светился ярче. Я знаю, что иногда она с ним шепчется. По-моему, о чем-то просит.
Она, наверное, уже забыла мою сказку, зато ее хорошо помню я. И, несмотря на то, что сама ее сочинила, очень хочу в нее верить…
Слышу, как открывается дверь: это Катя. Ее с подружкой-соседкой забирает из школы подружкина мама в те дни, когда у меня не получается. У меня часто не получается…
– Катя, а я уже дома.
Присаживаюсь передней на корточки, целую любимую мордочку:
– Соскучилась по своему котенку-малышонку. Ухожу рано, прихожу поздно. Работа такая, Кать…
Чмокаю часто-часто, сюсюкаю, тормошу свою девчонку, а Катька вздыхает по-взрослому:
– Да знаю…
Расстегивает босоножки и начинает рассказывать с лукавым выражением на мордашке:
– Сегодня утром смешно было. Мы с папой сели завтракать, папа включил телевизор. Ты там с каким-то дедушкой разговаривала. Папа и говорит: «Давай попьем чай с мамочкой». А я ему говорю: «С мамочкой – это хорошо, это вкусненько. И бутербродик мне тоже намажь».
Мы смеемся: она довольная своей шуточкой, я тем, что она уже умеет шутить. Чувство юмора в нашей жизни – штука бесценная. Нет, не самая, конечно, ценная, но нужная, обиходная вещь…
А самое ценное… Что? И я снова вспомнила «дедушку», как его назвала Катя, Николая Пантюхова.
Я уверена: ничего в нашей жизни не бывает случайным. Ни одна встреча, ни одно слово. Вот и сказку, которую я четыре года назад сочинила на ходу, мне наверняка продиктовало что-то, что умнее и сильнее меня. Эта простенькая сказка на самом деле предназначалась для меня. Как маленькое напутствие перед грядущей долгой дорогой. Во тьме, рассеять которую может только любовь…
Глава 5 Бывало и подобрей
Я проснулась, но вставать еще не хочется. Даже не взглянув на будильник, знаю, который час: сейчас без какой-то мелочи семь. Узнаю «сигналы точного времени» по звукам из приоткрытого окна: троллейбусы ходят довольно часто, в рабочем режиме, и уже начали стучать по асфальту каблучки, а это значит, настало время идти на работу служащим; все чаще заводятся и уезжают со стоянки во дворе автомобили. А вот детских голосов и хныканья еще не слышно: в детский сад рановато. И солнечный свет за сиреневыми занавесками спальни особый: он еще не набрал свою дневную силу. Полежать еще?
Кровать Мишина, естественно, уже пуста: одеяло откинуто на спинку, подушка по-солдатски аккуратненько взбита. Издалека слышно, как в ванной течет из крана вода: Миша предпочитает бриться станком, а не «Филипсом» с плавающими ножами, который я ему подарила когда-то на Новый год, поддавшись на уговоры телевизионной рекламы. Семи еще нет, а он не дождался звонка будильника и уже бреется. Значит, спешит.
Отмечаю все эти факты со странным чувством облегчения с оттенком вины. Господи, да что же это такое? Я живу в постоянном осуждении самой себя за то, за это, за неудачи, за тщеславие, за то, что влюбилась, за то, что разлюбила!
Резко отбрасываю одеяло, как будто вместе с ним хочу отбросить совершенно неуместные и просто вредные утром мысли. Попробуем перестроиться с неприятных размышлений о том, что я, судя по всему, разлюбила своего мужа, на какие-то плюсы. Погода, может, сегодня будет хорошая? Ну да, снова жара. Сегодня на работу к девяти, а не к шести? Но это не плюс, не минус, не повод радоваться и не причина огорчаться. Это просто неотменяемая повседневность, так похожая на мою семейную жизнь.
Нет, искусственно формировать настроение не получается. И поэтому вот уже почти год каждое утро меня, как звонок будильника, настигает мысль о том, что мы с Мишей вместе только потому, что у нас есть Катя. И еще о том, что ни он, ни, тем более, я не захотим менять что-то в нашей, а главное в ее жизни.
Да, все это не очень красиво. Не так красиво, как кажется кому-то со стороны. Про нас все время говорят «красивая пара», вкладывая в это понятие и благополучие, и успех, и любовь, конечно.
А вот ноги у меня действительно красивые. Могли бы быть подлиннее, но я ведь не модель и не балерина. Щиколотка тонкая, линия плавная, целлюлита пока нет. Это я так старательно настраиваюсь на позитив, как будто уговариваю себя: у меня ведь и достоинства есть, не правда ли? Хотя бы внешние.
В этот момент в спальню входит Миша, продолжая вытирать лицо полотенцем. Свежий, энергичный. Уж он-то себя наверняка не изводит по утрам самоанализом, даже когда для этого есть основания. Мельком глянув на меня, Миша открывает дверцу шкафа и произносит:
– Проснулась уже? Доброе утро.
Я сажусь по-турецки, тянусь за расческой на маленьком столике, начинаю расчесываться:
– Бывало и подобрей.
И сразу понимаю, что ляпнула не то. Эх, всей стране могу сказать: «Доброе утро!», не обращая внимания на свое настроение, а родному мужу – язык не повернулся. Вот, теперь нужны объяснения. «А почему не доброе?» – «А потому…» И дальше, все в анекдотической прогрессии. Помните «оговорочку по Фрейду»? Когда вместо: «Передай мне соль» – «Ты мне всю жизнь переломала!»
А не буду ничего объяснять, а то придется рассказывать этот анекдот или другую старую как мир историю. Например: Адам и Ева жили-были в райском саду, потом Ева нашла яблоко. Адама в этот роковой момент рядом не оказалось, а подвернувшийся по случаю змей доступно объяснил девушке все про вкус яблок и пользу витаминов: цвет лица, укрепление зубов и корней волос. Или что-то другое он ей наговорил? Наверняка, другое. Неважно, главное – это было интересно и познавательно. Съела Ева яблочко с превеликим удовольствием, а потом, с уже меньшим удовольствием, отправилась искать Адама. Нашла и обнаружила, что змеи и яблоки отныне волнуют ее куда больше, чем праведный супруг. И на обыденные приветствия мужа стала отвечать мелким хамством. Примерно так…
Вслух, разумеется, я не произношу ни слова.
Миша, однако, не пропускает мое замечание насчет «недоброго» утра мимо ушей. Ничего не спрашивает и садится рядом, смотрит на меня мгновение и… делает движение расстегнуть свою свеженькую, мною лично выглаженную рубашку…
– Мадам, давайте опоздаем на работу вместе… надолго. Скажем, что попали в пробку.
Удивительная толстокожесть. Разве не заметно, что я не расположена шутить? И вообще – ни к чему не расположена. Я спускаю ноги с кровати и говорю довольно сухо:
– А в какую пробку попала я? Наверное, в метро. Иногда мне кажется, Миша, что ты живешь на какой-то особой волне. И не способен настроиться на мою. Ну, хотя бы в мелочах.
Если он и обиделся, то виду не подает. Просто встает, пожимает плечами, но говорит серьезно:
– А о каких волнах ты сейчас говоришь? Я думаю, диапазон у нас все-таки один. Ну, мне так кажется. Только режим дня разный. Я уже и не помню, когда ты меня целовала. Хотя бы…
Я нарочито глубоко вздыхаю, подхожу к зеркалу и уже в зеркальном отражении вижу на самом деле расстроенное лицо мужа. Мне становится неловко. Подхожу к Мише и обнимаю его, положив голову ему на грудь:
– Ладно, прости меня, негодяйку. Но еще неделю я буду невыносима. Потерпи.
Миша обнимает меня крепко, смеется с облегчением и в то же время немного озабоченно:
– Значит, у нас есть две новости, одна – хорошая, другая – плохая. Хорошая – ты точно знаешь, когда перестанешь быть… м-м… негодяйкой. Плохая – долго придется этого ждать.
С небольшим усилием принимаю игру:
– Есть еще третья новость – главная. Ни плохая, ни хорошая. Нет, если честно, то плохая: через две недели состоится вручение «Золотой Телевышки».
Миша качает головой и хмурит брови:
– Я об этом уже давно слышал. Рекламу по телику гоняют уже месяца два. А что плохого в этом, не понимаю?
Приходится объяснять:
– Ну, новость в том, что меня номинировали на «Телевышку». И мне ее не дадут.
Михаил, сделав паузу, спрашивает:
– Ты так уверена? Почему?
– Долго объяснять… Сильные соперники…
– У меня тоже сильные соперники, – пытается поддержать меня муж, обнимая еще крепче, – но я же не сдаюсь!
– А… И я не сдаюсь, а что толку?
Я безнадежно машу рукой и, убрав голову с груди мужа, направляюсь к двери ванной. Смотрю на себя в зеркало. Зеркало меньше, чем в спальне, освещение «теплее», и лицо у меня теперь тоже чуть-чуть другое. Я поднимаю брови, пробую улыбаться. Вернее, стараюсь придать лицу менее кислое выражение. Получается! Беру щетку и зачесываю волосы назад, стягиваю их туго-туго.
Моя любимая работа. Моя чертова работа. Сейчас я приеду на студию, и ведь никто не догадается, какой раздрызг в моей душе. А почему, собственно, мои коллеги должны страдать от моего настроения? А почему мои зрители должны видеть мою кривую улыбку и страдальческие глаза? Потому что мне скоро сорок, и я чувствую себя белкой в колесе? Ладно, что уж перед собой лукавить: да, пусть белкой! Но эта белка день изо дня расчесывает свой пушистый хвост, тренирует лапки, подкрашивает глазки и вообще – без ума от того, что ее сверкающее на солнце колесо стоит на самом видном месте. Белка ведь еще и «песенки поет, и орешки все грызет, а орешки не простые…»
Голос Миши возвращает меня в реальность:
– Рита, я ухожу!
Почему так странно подпрыгнуло сердце от обычных слов?
Ой, матушка, а ведь ты боишься: вдруг однажды эти слова прозвучат в иной тональности?
В другой раз крикнула бы из ванны «пока!» и продолжила чистить зубы. А тут выплюнула пену изо рта, сполоснула лицо, сдернула с крючка полотенце, вытираясь на ходу, подошла к мужу и чмокнула в гладкую щеку. И только тогда сказала:
– Пока!
И муж, кажется, не ожидал такого порыва. Даже портфель на пол поставил:
– Какая ты у меня все-таки красивая, Ритка! Глазам больно.
И вдруг меняет интонацию:
– А давай в августе возьмем тур и покорим Джомолунгму!
Смеюсь от души. Я еще и тронута – почти до слез:
– Ты это придумал из-за «Телевышки»? В смысле эту высоту мне не взять, так хоть на Джомолунгму сбегать?
Миша обнимает меня крепко-крепко, просто сжимает и продолжает:
– Да при чем тут это… Нет, ты представь: мы поднимаемся все выше и выше, мы одни во Вселенной. И это несмотря на то, что сзади – десять человек проводников из местных, несущих нашу туристскую кладь. Цветут горные цветы, поют горные орлы, или кто там еще… Первозданная тишина, красота и воздух, от которого кружится голова…
Воображение у меня богатое: толпа низкорослых жилистых аборигенов, сгибающихся под грузом рюкзаков, палаток и провианта, тут же встает у меня перед глазами. Я уже вижу их усталые смуглые лица, равнодушные к горным красотам глаза, опущенные вниз, на каменистую тропу. Вижу и нас с Мишей, с идиотскими рекламными улыбками, приставив к глазам руки козырьком, обозревающих окрестности. Сквозь смех спрашиваю у него:
– Но там, на вершине, ты ведь вручишь мне утешительный приз – цветной телевизор? Я же без телевидения жить не могу…
Михаил, направив на меня указательный палец, говорит серьезно:
– Заказ принят, сценарий утвержден, детали – в рабочем порядке. Все, пошел.
Дверь за ним закрывается.
Да, кажется, Миша и в самом деле настроен провести свой отпуск именно так. А я? В общем, его сценарий еще надо согласовать с моим руководством… С моим любимым руководством… И вряд ли этот сценарий будет утвержден без поправок.
В этот момент на туалетном столике звонит мобильник – это опять Миша. Я спрашиваю в трубку:
– Ты решил вручить мне не телевизор, а холодильник? Или мы заберемся на другую гору?
Голос Михаила в трубке звучит очень серьезно и озабоченно, нет и тени от прежнего игривого тона:
– Прости, я забыл тебе сказать. Я задержусь сегодня вечером. Возможно, надолго. У меня есть проблема, которую я должен срочно решить. Все, пока.
Я задумчиво нажимаю на кнопку «отбой». Ну вот, и у него тоже проблема. И он мне тоже о ней не говорит.
Иду будить Катьку. А она уже не спит, наверное, мы разбудили дочку своими разговорами. Сажусь к ней на постельку, кладу голову на подушку рядом, целую в тепленькое, покрасневшее за ночь ушко:
– Доброе утро, зайка.
Катька обнимает меня и говорит еще не проснувшимся голосом:
– А меня возьмете с собой? Подниматься выше и выше?
Я опять начинаю смеяться: к толпе воображаемых носильщиков клади добавляется еще парочка наемных бедолаг, несущих паланкин с гордо восседающей в нем Катькой. А ей отвечаю:
– Ну, куда ж мы без тебя, солнце мое в оконце?
И правда, куда мы без нее?
Глава 6 На обе лопатки
Я уже минут пятнадцать сижу в кабинете редактора и пробегаю глазами сценарий передачи. Ольга Васильевна в это время занята своими бумагами, но попутно дает ценные указания:
– Ты вопросы почитай, конечно, но… Знаешь, я сильно подозреваю, что ребята будут отвечать «да», «нет», «ну», «ага» и «угу». А тебе придется развивать эти и другие красноречивые междометия до параметров логических ответов. И чтобы все это в конечном итоге напоминало связную беседу.
Я смеюсь:
– Вообще, не факт, что если они борцы, то только морду бить умеют.
И редактор смеется:
– Да они не морды бьют, они на лопатки кладут. Просто как сделать это, они знают, а как об этом рассказать нет.
Я, если честно, со спортсменами знакома мало. Возможно, Ольга и права.
– Может, мне с ними о чем-нибудь другом поговорить? Увести разговор в сторону?
Ольга Васильевна смотрит на меня с усмешкой:
– Рита, мало тебе предупреждений об отсебятине? Ребята на европейском чемпионате «серебро» взяли, по-моему, об этом стоит поговорить, это серьезный повод для разговора. Конечно, все мужики у тебя в эфире рано или поздно все равно заговаривают про любовь, но… хоть для начала, что ли, давай про спорт!
Я пожимаю плечами:
– Интересно же про все: про любовь, про спорт, про жизнь. Начнем, конечно, про спорт. Греко-римская борьба… Пять раз произнести вслух – уже какой-то разговор. А там уж, как пойдет. Помните, как мне полковник милиции Бродского в эфире читал? «Прощай, позабудь и не обессудь. А письма сожги, как мост. Да будет мужественным твой путь, да будет он прям и прост».
Ольга смотрит на меня как-то особенно внимательно и вдруг говорит:
– Рита, по-моему, тебе надо думать об авторской программе. Ты созрела. А вот «Утро» явно переросла.
Так, сразу я ничего не говорю, не до такой степени мы накоротке, но спросить-то можно!
– Ольга Васильевна, это вы мне комплимент сделали или намекаете, что я уже не вписываюсь в молодежный формат?
Она даже хмурится недовольно:
– Брось, Рита. Какое там, «не вписываешься», при чем тут молодежный формат. Ты замечательно работаешь! Но рамки тебе тесноваты. Я же не зря про «отсебятину»… Если дать тебе волю, ты сама придумаешь вопросы и так «раскрутишь» собеседника, как никто! Люди с тобой хотят разговаривать, с тобой лично, это очень важно… Ты же наша Опра Уинфри!
Я задумываюсь: ведь подобные мысли мне уже приходили в голову. Не про Опру, конечно, мании величия у меня нет. Но… в конце концов, я же не собираюсь «будить страну» до пенсии. И мне есть, чем поделиться с экрана, кроме лучезарной улыбки.
Ольга Васильевна наблюдает за мной. И «забрасывает» еще одну «удочку»:
– Назвать передачу как-нибудь… Может, «Мастера и Маргарита»?
Я отрицательно качаю головой:
– Очень уж в лоб… И претенциозно. Нет, тут надо подумать.
Ольга даже смеется от удовольствия:
– Вот видишь, я права! Ты уже не хочешь слушать и соглашаться. У тебя обо всем свое мнение.
Пожалуй, Ольга Васильевна права. Я киваю задумчиво, а она продолжает:
– Рита, поверь моему опыту. Я тебя старше и здесь – всю жизнь, со студенческой скамьи, буквально. Еще студенткой бегала по заданиям, куда пошлют. Ты просто рождена для телевидения. С этим действительно или рождаются, или нет.
Целый день вспоминаю этот разговор. Он очень важен для меня и во многом объясняет мой внутренний «раздрызг»: да, мне хочется делать больше, чем я делаю. Я еще не знаю как, но, по-моему, знаю что.
А завтра поговорю с плечистыми ребятами из сборной по греко-римской борьбе: пусть научат меня, как укладывать судьбу «на обе лопатки» и выигрывать хотя бы «серебро»…
Я еду к маме. Еду в ее новую квартиру, которую сама ей и подарила. «Сама» – это, конечно, перебор, «сама» – это Миша, его деньги. Он у нас основной добытчик на всю семью. Иначе никак не получается, да и по определению, так сказать, не может быть: у него реальное дело, он (вернее, его «сотоварищи» – фирма) производит конкретную продукцию – такую же весомую, как все, что он говорит и делает. Это асфальтовая плитка, маленькие тяжеленькие «паззлы», которые своим фигурным панцирем покрыли уже почти весь наш город. Раньше, когда дело только раскручивалось, он радовался, как ребенок, оказавшись на улице, вымощенной «своей» плиткой: обязательно топнет по ней ногой и скажет: «Наша земля!»
Но, конечно, если бы не моя ласковая убедительность, у мамы не было бы новой квартиры, совсем недалеко от нашей собственной.
Я родилась в деревне, вернее, в маленьком поселке городского типа под Молодечно. И ничего из этого самого раннего детства не помню: вскоре после моего рождения семья переехала в районный центр. Позже мама рассказывала, как радовалась новой «благоустроенной» квартире: она была в центре Молодечно, на пятом этаже, внизу, как на ладони, располагался городской рынок. Это казалось маме пределом ее мечтаний, и это, наконец, воплотилось в жизнь!
Когда я подросла, и мы с ней стали подружками, мама делилась: «Я всегда знала, что буду жить в большом городе, буду смотреть вечером в окно и видеть море огней!» И показывала мне это «море огней» – по-разному светящиеся окна в квартирах таких же пятиэтажек, габариты проезжающих по нешироким улицам машин, уличные фонари, ночное освещение рынка…
Когда я стала взрослой и уехала учиться в столицу, родители объявили мне, что вместе жить больше не будут. Семью они сохраняли исключительно ради меня: старший брат уже был женат, давно жил отдельно. Это, конечно, для меня, семнадцатилетней, не стало страшным открытием: и не такие взрослые дети все чувствуют и замечают, даже если родители «шифруются». А наши семейные проблемы были слишком очевидны: папа часто «давал повод». Родители развелись, а вот жить пришлось все равно вместе, просто по разным комнатам, как соседи.
В общем, спустя год я вышла замуж. А через несколько лет, когда у меня родилась Катька, мама приехала помогать мне на первых порах, да так и осталась. А папа и сегодня живет в нашей маленькой квартирке в Молодечно, в комнате с видом на «море огней». Я часто бываю у него, так часто, как могу. Это мой папа, и я его люблю и жалею…
Конечно, мне очень повезло с мужем. Отчуждение, возникшее между нами, – это только моя вина. Объяснить все это я могу, а вот исправить что-то? Не знаю, не знаю…
Да, мамина квартира… Сначала мы приобрели новую для нас, с расчетом, что мама будет по-прежнему жить с нами вместе. Дело в том, что вот этой анекдотической пошлятины по поводу «тещи и зятя» в нашей семье никогда не было.
Это не значит, что они с Мишей были «не разлей вода». Но мама, раз и навсегда оценив спокойную надежность моего мужа и поверив ему, очень уважала его. И даже в наших ссорах всегда принимала его сторону. Он-то об этом и не знал, но именно мама могла найти для меня такие слова, что я складывала лапки ковшиком и бежала мириться. Однажды, после очередной нашей размолвки, она сказала мне: «Ему тридцать, а у него уже виски седеют. Думаешь, легко ему? И еще твои свинячьи выходки терпеть…»
Сочетание ее душевной теплоты и простонародной грубости меня мигом приводили в чувство. И становилось жалко Мишу, в ту пору действительно загибавшегося на производстве, и себя, эгоистку, и маму, наверное, жалевшую и меня, и его, и себя.
Еще запомнился случай. Поругались мы с мужем, как водится, сижу, надутая, у мамы в комнате, шиплю ей все, что недовысказала ему. А она так буднично, вполголоса говорит: «Ну, разведись с ним, где еще такого доброго, такого смешного найдешь?» И слезы у меня хлынули потоком, и побежала к своему, действительно доброму, действительно смешному…
А какие претензии к мужу я выдвигала тогда? Стыдно даже вспоминать. Дома бывал мало. С Катькой не гулял. Денег тоже не хватало. Ах, да, еще не проявлял ко мне должного внимания. Попросту говоря, со мной не спал. И ведь причины его мужских проблем были мне понятны, они уважительными были, эти причины, даже, пожалуй, социальными. Трудным было «перестроечное» время: финансовая неразбериха, общая нестабильность, дефицит. Но нет! Шашки наголо и в бой! Дура… И как его хватило на все: и дело свое отстоять, и мои истерики вытерпеть? Может, чувствовал, если уж он дрогнет, то Екатерина Дмитриевна костьми ляжет, а семью дочери сбережет. Нет, конечно, свою семью. Ведь мы по-прежнему семья.
Мама много лет терпела и ждала, когда ее горячо любимый гулена угомонится. Сдалась только тогда, когда гулянка, по понятным причинам, прекратилась, а началась пьянка – по тем же понятным причинам.
Вот мамин дом на Некрасова. Высокая «башня», построенная по новой, какой-то то ли «каркасной», то ли «монолитной» технологии. Смотрю на это торжество современного градостроительства с гордостью. Да не только за то, что свой дочерний долг – хотя бы и при помощи мужа – перед матерью выполнила, а просто: люблю свой город! Так здорово смотреть на эти дома-супермодели, раскрашенные в яркие теплые цвета, и мечтать, что все в нашей жизни будет хорошо: чисто, прочно, надежно, достойно. Мы ведь уже живем в таких домах! Вот они – потрогать можно, потопать, сказать: «Наша земля!»
Мама открывает дверь с ручкой и листком бумаги в руках:
– Привет, доча, – и убегает в комнату. Оттуда кричит: – Проходи, я сейчас, рецептик один запишу только…
Прав был герой одного старого фильма: «Ничего не будет: одно телевидение!» На работе у меня телевидение, дома – во всех комнатах, прихожу к маме – вот оно!
Захожу в комнату. Рецепт не кулинарный: целитель-самоучка Халатов на пару с некогда популярной актрисой поучает малообразованных домохозяек, как беречь здоровье. Актриса говорит почти так же много, как и Халатов, улыбаясь при этом, как Гуинплен. Углы ее накачанного силиконом (или жиром с ягодиц, не знаю…) рта подтянуты вверх, но латексный натянутый лоб и лишенные мимических морщин глаза как будто не принимают участия в улыбке. Если абстрагироваться от ее трескотни, и просто смотреть в глаза… Ужас! Да, но «человек, который смеется» хоть попал в руки жестоким изуверам, а эта богатая дама по доброй воле легла под нож пластического хирурга.
– И чему ты у них учишься? – спрашиваю я, садясь с мамой рядом на диван.
– Нужно с утра выпивать стакан минеральной воды с ложкой меда и соком половины лимона, – говорит мама, все еще глядя на экран. – Это полезно для обмена веществ, а значит для кожи, волос, общего тонуса. Напиток – тормоз для старения.
– Стареть нужно с достоинством, – неожиданно назидательно изрекаю я. Неожиданно для самой себя, потому что проблема старения занимает меня последние дни больше, чем хотелось бы.
Мама смеется:
– Вот и ложились. Я, кажется, только этим и занимаюсь все время: старею с достоинством.
Я спохватываюсь:
– Мам, да я не про тебя, про себя. Настраиваться как-то надо на новый возраст, чтобы не выглядеть смешно. Ну, помнишь ту байку про кинозвезду: «Маленькая девочка… Девушка… Молодая женщина… Молодая женщина… Молодая женщина… Бабушка умерла». Вон, как эта мумия.
Киваю на экран, где Халатов со своей свежемороженой коллегой уже прощаются с телезрителями.
Мама замечает:
– Да уж, зря она так с собой. Нос зачем-то поправила, губы надула. Зря, у нее в молодости носик был курносый, глаза синие, блондинка… Чего еще хотеть? Такая была миловидная.
Сочетание этих «особых примет» полностью совпадает с набором прелестей Алисы. Вспоминаю Алису, и все мои проблемы встают передо мной «в полный рост». И я решаюсь поделиться ими с мамой.
– Знаешь, мама, я номинирована на «Золотую Телевышку» в этом году. Но почти наверняка мне ее не присудят, – от частого повторения, видимо, эти слова я уже могу произносить спокойно, почти без выражения. Уже хорошо.
– Почему? – растерянно спрашивает мама. – Нет, так нечестно. Несправедливо! Когда я бываю в санатории, у меня все просят твой автограф, ну вот все. Как узнают, что я мама Риты Дубровской, так сразу улыбки, вопросы… Ты очень популярная! Я тобой так горжусь! Вот поеду на Нарочь, ты мне подготовь автографы – отвезу всем девочкам из персонала, которые просили. И фотографии дай, они будут рады.
– Я фотографии с автографами дам, конечно. Даже календарики дам, – дело в том, что у нас же на канале их специально печатают для «промоушена», у меня их вагон, – но я не об этом, мама.
– А о чем? – мама смотрит, чуть отклонив голову, как бы со стороны. И вдруг – как обухом: – С Мишей что-то не так?
А я, не сгруппировавшись вовремя, отвечаю, как есть:
– И с Мишей тоже.
Мама встает и выключает без толку вещающий телевизор. Садится в кресло, которое стоит у стены. Как будто отодвигается от меня. Да, тут поддержки не жди.
– В чем дело-то? – устало спрашивает мама.
– Во мне, – честно отвечаю я. – Я чувствую, что ко мне все просто привыкли, что ли. Зрители, коллеги, муж. Я расту, изменяюсь, старею, наконец. И отдаю им всем больше, чем получаю! Я просто обозначена как-то, ну и ладно. Наверное, мне этого уже мало.
– Тебе хочется большого и сильного чувства от них от всех? – надо же, мама иронизирует. А я не буду:
– Да, ответного чувства.
Мама настроена юмористически:
– С мужем – это понятно. Хотя мне кажется, Миша относится к тебе даже лучше, чем…
– Чем заслуживаю? – кротко вопрошаю я.
– Нет, чем раньше. Ну ладно, это мое мнение. А как ты проверишь, вот со зрителями? Они должны поцеловать экран, когда ты на нем появляешься?
Как я легко начинаю злиться в последнее время!
– Знаешь, легче всего смеяться над тем, чего не понимаешь. Попробую на примерах из жизни… Миша – бизнесмен. Он работает, вкладывает деньги, ну что еще… Разрабатывает стратегию, строит планы, реализует их. И конечный результат – налицо. Ты воспитываешь мою дочь, меня воспитываешь до сих пор («просвистело и ухнуло прямо в мой огород», как говорит мама), и результат тоже виден.
– Заметен, прямо скажем, – вставляет мама свои ответные «пять копеек».
– А у меня результат может быть один – признание коллег, профессионалов. Потому что их признание – это реальное подтверждение моей пусть не очень заметной, но вовсе не призрачной популярности у зрителей. Все связано. И знаешь, не так обидно, когда работаешь год из года, и это воспринимается как должное. Обидно, когда вроде бы заметили, но решили ничем не отмечать. По здравому, так сказать, размышлению.
Мама обдумывает мои слова. Я молчу. Не жду, что она выдаст какую-то сентенцию, которая меня утешит или объяснит что-то. Что объяснять, зачем утешать… Так и происходит: утирать мои невидимые миру слезы никто не собирается.
– Пойдем, чаю попьем, – говорит мама, направляясь на кухню.
Мы пьем чай и едим чудные пирожки с капустой и картошкой. Мама не боится располнеть: очень уж она у меня энергичная. Я, будем считать, тоже.
За окном вечереет. Сгущаются сумерки. Мама поворачивает голову смотрит в окно. У нее красивый профиль: правильный нос, брови вразлет… Мне достались мамины брови и папин нос. Давно я не ездила к папе, в Молодечно… И мама вдруг говорит, будто подслушав мои мысли:
– Помнишь, я тебе говорила давно: «Однажды я буду жить в городе, и у меня за окном будет море огней». Думала, что это про ту нашу квартирку, в Молодечно, а это было про вот этот мой дом. Смотри, какие огни внизу… Спасибо вам, дети, вы у меня лучше всех.
Горло перехватывает… А внизу сияет и переливается вечерней светомузыкой столица. Вон там, чуть левее – проспект Победителей, высотные отели, казино, реклама, если посмотреть на восток – сверкает разными цветами «бриллиант» Национальной библиотеки. Столичные дороги пестрят светлячками машин, автобусов, трамваев… Мама отводит глаза от окна, с будничным звяком ставит чашку на стол, смотрит на меня и произносит:
– А теперь рассказывай, что у вас все-таки случилось с Мишей. Или с кем-то другим?
Глава 7 «Звездный бал»
Как все началось? Красиво…
На нашем канале запустили очередную «развлекаловку», супер-пупер-мега-шоу: лицензионный проект «Звездный бал». Обкатанный, кажется, уже во всем мире, и во всем мире имеющий успех: медийные персоны танцуют с профессионалами, пары соревнуются, что-то там выигрывают. Кто-то сразу умеет танцевать, кто-то учится на глазах у зрителей. Правда, интересно! И шоу продолжается бесконечно: зрелище того стоит. Зрители в восторге, звезды, по-моему, еще больше восхищены. Замечательно!
Сразу было решено, что вести программу буду я: во-первых, я хорошо вписываюсь в формат, во-вторых, сама неплохо танцую. Оставалось только найти мне партнера-ведущего. Предполагалось, что мы, ведущие, сами должны хоть немного потанцевать, не для конкурса, конечно, а для антуража – это логически вписывается в контекст шоу: пара-тройка па в кадре должна смотреться эффектно. И тут выяснилось, что единственный из моих коллег, кто умеет танцевать, это Игорь Сорокин. Но он ниже меня ростом и смотримся мы рядом просто забавно. То, что симпатяга Игорь ниже меня, и раньше бросалось в глаза, это очевидно. Но в данной ситуации этот факт было до слез обидно признавать: танцует-то он и правда великолепно – долгое время занимался в студии бального танца.
Была сделана попытка подыскать замену мне по принципу «те же данные, но ниже ростом». Ни одна кандидатура не прошла («браво, Рита!»): здесь очень важен момент импровизации, а импровизировать в кадре трудно порой даже лучшим из нас. Я умею.
Вернулись на исходную позицию и стали «скрести по сусекам» в поисках партнера для меня. Предложенный в качестве варианта конферансье из мюзик-холла, остряк, умница, хохотун с ослепительной улыбкой, довольно сносно танцующий вальс, не подошел тоже. Чтобы вписаться в формат и общаться с нашими звездами на равных, ему пришлось бы тщательно изучать их творческие и личные биографии. Он их попросту не знал! Кроме, разумеется, поющих на эстраде. А ведь для участия в конкурсе были заявлены и киноактеры, и спортсмены, и музыканты, и циркачи. Со многими из них я знакома лично, почти все были у меня в утреннем эфире, некоторые – не по одному разу. Итак, нужен был человек, отвечающий вот таким суровым требованиям: «свой среди своих», знающий всех не понаслышке, высокий, красивый, обаятельный, умеющий и поддержать конкурсантов, и пошутить экспромтом, и главное – танцевать!
И тогда свою кандидатуру предложил он, сам Сергей Александрович Сосновский, наш многоуважаемый шеф. Оказалось, что в юности он тоже увлекался бальными танцами.
О-о-о… Как он вошел в студию! Конечно, я его видела не в первый и даже не в сто первый раз. Но увидела все же впервые.
«С чего начнем?» – спросил он. «С танца!» – бойко ответила я.
С танца все и началось…
Несколько фонограмм он взмахом руки отменил: «Нет, не фокстрот, нет, не ча-ча-ча…» А когда раздалось тягучее танго «Stop» из фильма «Горькая луна», он сделал знак: «Да!»
И обнял меня.
Я вспоминаю этот момент каждый раз, когда он прикасается ко мне. Хотя это неповторимо. Кто-то говорит о своих первых ощущениях, что это похоже на удар током. Нет, конечно. Я, привыкшая связывать с «живой жизнью» самые смелые фантазии, не буду даже вспоминать про поражение электричеством. Испытала однажды на себе, еще в раннем детстве. Там – болевой шок, пусть сиюминутный, здесь же был чистый чувственный восторг!
Как и положено в танго, одной вытянутой рукой он взял и приподнял мою, другой обнял меня чуть выше талии. И «сообщил движение» нашей паре, двинув меня в нужную сторону. Он смотрел мне в глаза, и эти глаза улыбались. Но лицо оставалось чуть отстраненным – так ведь и нужно танцевать танго! А вот я улыбалась, как дура, потому что меня никто и никогда так не кружил, не обнимал, не отталкивал и не принимал в объятия, как он. Хриплый голос певицы Сэм Браун уносился все выше, а моя танцующая душа летела в сверкающую пропасть. Существительное «пропасть» и глагол «пропасть», как можно заметить, однокоренные слова. У них ударение в разных местах, а по смыслу они очень близки. Вот я и пропала. Я влюбилась.
Мы танцевали и танцевали, а потом фонограмма закончилась. Он галантно поцеловал мне руку, я сделала глубокий реверанс. Раздались такие аплодисменты, которых эта студия не слышала потом ни разу во время самого конкурса! Все сбежались ближе к танцполу и хлопали, хлопали, кричали «у-у!» и даже свистели, как на рок-концертах. Я чуть не лопнула от счастья!
«Кажется, у нас получилось, да, Рита?» – спросил он. И я почувствовала, что заливаюсь румянцем. «Да», – сказала я с интонацией невесты, стоящей под венцом.
Ну, это уж потом мне Наташка открыла глаза на репутацию Сосновского как самого опасного сердцееда в масштабах нашего профсоюза. А может – и за его пределами! Потом. Когда было поздно, безнадежно, безвозвратно.
Передача шла в записи, поэтому иногда за смену удавалось записать два-три эфира, по-разному. Наши звезды танцевали, кокетничали, красовались перед камерами, стараясь быть элегантными и пластичными, обаятельными и обворожительными. Я делала все то же самое, только посвящалось это не зрителям (пусть простят меня), а ему. Он был безупречен! И если меня можно было упрекнуть в излишнем кураже, то Сергей Александрович держался джентльменом и с конкурсантами, и со мной.
Вспоминаю то время, и до сих пор меня охватывает дрожь волнения. На работу я бежала как на свидание. Прекрасно зная, что придется переодеваться и наносить студийный грим, сто раз меняла наряды, тщательно красилась, меняла духи. Духи-то оставались на мне в любом случае! В ход пошла редко мной употребляемая «тяжелая артиллерия» – «Черная магия» и «Гипноз». Эти на самом деле тяжелые, цепляющие, волнующие ароматы, как оказалось, он не выносил раньше. Но в атмосфере этой ярмарки тщеславия они были очень кстати. И он привык: это для него был не мой запах, а запах «Звездного бала».
Но волновала ли я его тогда так, как он волновал меня? Если что-то и было, он умело скрывал свои чувства. Очень долго.
Пока однажды, после очередной многочасовой записи в «шестисотке», он не окликнул меня на стоянке перед телецентром.
– Рита! Подожди меня.
Я остановилась. И пока он шел ко мне от своей машины, не думала вообще ни о чем, в голове был какой-то невероятный сумбур: как будто бал продолжается, я стою с бокалом шампанского, отпив уже половину, и жду его приглашения на танец. И вот он идет – приглашать меня на вальс.
– Не заводится. Подвези меня до Площади Победы, пожалуйста, – сказал он довольно буднично, пряча в карман ключи от своей «вольво».
Легкий звон в голове прекратился мигом: это, наверное, лопнули последние пузырьки шампанского в моем воображаемом бокале.
Я тоже что-то совсем обычное сказала в ответ, села за руль, он – рядом. Машина плавно тронулась с места.
Мы молчали всю дорогу. Сначала это было тягостно: все-таки хоть из вежливости можно было затеять какой-нибудь разговор. Можно было обсудить наш проект, поделиться впечатлениями, посплетничать немного, наконец.
Нет! Он молчал и смотрел в боковое стекло.
Я тоже решила молчать.
А в чем, собственно, дело? Я его везу, это его забота быть вежливым со мной. Я дама, в конце концов. И субординацию я тоже не нарушаю своим упрямым молчанием: а вдруг у шефа настроение плохое, машина не завелась, то да се?…
Где-то на площади Якуба Коласа, на светофоре, то есть за две минуты до нашей «конечной» остановки, я вдруг поняла, почему он молчит. И почему машина «не завелась». И мне стало трудно дышать…
Нет, я не настолько самоуверенна, как может показаться со стороны. Большинство моих поклонников – виртуальны. Я вышла замуж в восемнадцать лет, и все эти годы была «верной супругой и добродетельной матерью». В общем, во многих вопросах, в том числе в стратегии обольщения и в тактике измен, я полный профан.
Но я просто кожей почувствовала: он напряжен и взволнован не меньше меня. И я ему очень, очень нравлюсь.
Он сказал:
– Спасибо, очень выручила, – и вышел, мягко захлопнув за собой дверь.
Он не попрощался, а я не успела ничего сказать в ответ. Сидела, сжав руль руками в перчатках, и смотрела на него. А он стоял на тротуаре и тоже смотрел на меня, долго, минуту, наверное. Больше я выдержать не смогла и уехать тоже! В ушах пульсировало: «Назад-дороги-нет… Назад-дороги-нет…»
Выскочила из машины, успев, однако, автоматически включить аварийку, и мигом оказалась рядом. Он стоял, положив руки в карманы своего длинного пальто «редингот», и серьезно смотрел на меня, все так же молча. И вот каким был наш первый поцелуй: я крепко вцепилась в широкий воротник пальто, прижалась к нему всем телом, как смогла, и дотянулась губами до его щеки.
Он улыбнулся. И опять ничего не сказал! А чего, впрочем, говорить – все и так было слишком ясно нам обоим.
А вот каким был наш второй поцелуй: я изловчилась и попала в улыбающиеся губы.
Только тогда он мне чуть-чуть ответил – губами. И сказал вслух:
– Как я рад. Я уже думал, мне показалось, – и наконец-то обнял мои плечи.
– Показалось? – я засмеялась. – Да я с ума схожу по тебе!
– Давно? – настала его очередь засмеяться.
– Вот с того танго… – и я пропела, как смогла, «Stop».
Под мое мяуканье мы покачались немного друг у друга в объятьях. И… очарование первого признания почему-то рассеялось. Но снова стало душно и тесно, и сердце переместилось ближе к горлу. Я отстранилась, вернее, попыталась это сделать – он не отпустил. И сказал прямо в ухо, глухим, но властным голосом:
– Завтра мы встретимся на этом месте. И начнем все сначала.
Я улыбнулась, глядя в пол, и двинулась к машине. Ноги в таких особых случаях бывают ватными, но вата – это что-то легкое, а я тащила за собой пушечное ядро. Мне кажется, каждый мой шаг отдавался звоном тяжелой цепи. Как я не хотела уходить! Но все же влезла в машину, отключила аварийку и тронулась.
Чувствовала себя как зомби. «Завтра значит завтра. Здесь? Ладно. Сначала?… Да».
Вот так все и началось.
Продолжение было более прозаическим. Здесь, на площади Победы, была квартира его старшей дочери, которая в тот год уехала продолжать учебу во Франции, в докторантуре Гренобльского филиала Сорбонны. Вторая его дочь, тоже умница, учится в школе. А жена, говорят, очень хороша собой.
Но об этом я старалась не думать тогда, не хочу думать и сегодня. Понятно почему? Думаю, понятно.
Мы пришли в эту квартиру пешком. И лифта в этом старом доме не было. Пока поднялись на четвертый этаж, дыхание сбилось – у меня. Я так и не смогла восстановить его…
Если бы я решилась рассказать обо всем этом моей маме, то рассказала бы именно так. Конечно, никогда не смогла бы передать подробности.
Но они были прекрасны, как они были прекрасны! Если мужчина умеет так танцевать, еще лучше он умеет любить: я знаю теперь это наверняка. Он знает секрет гармонии. Покоряться его пластике и власти легко: да, он все решает сам, но ни один твой вздох, ни один порыв, ни одно движение, ни одна мольба не останутся незамеченными.
Я все-таки говорю об этом?…
Впрочем, все подробности можно вместить в одну простую фразу: «Я стала женщиной». С ним я стала женщиной, вот и все.
Эту тщательно оберегаемую и всеми силами скрываемую перемену во мне, к сожалению, отметили многие. Первым, конечно, ее заметил мой муж. И удивился. Наше отдаление друг от друга началось гораздо раньше, но если спросить его мнение, он будет придерживаться именно этого времени: осень прошлого года.
Ну, и что я могла ответить маме на ее вопрос?
Я ушла от ответа, сославшись на «кризис среднего возраста». И кстати, это тоже правда, просто не вся.
Глава 8 «Ситуация меняется, а модель поведения остается прежней»
Никто не знает, какой важный у меня сегодня день. Никто, даже Наташа, которая (по наитию, видимо) круто завила, распустила мне волосы по плечам и предложила яркую помаду, не знает, что сегодня я буду примерять на себя корону мега-звезды Опры Уинфри – непревзойденной королевы телеэфира. В душе у меня вполголоса звучат африканские «спиричуэлс», хотя я уверена, сама Опра предпочитает другую музыку.
Какую, интересно?… Музыкальные предпочтения – это, по-моему, безошибочный ключ к разгадке человеческой личности.
Опра должна любить классику, или григорианские песнопения, или Элтона Джона, одним словом, классику в любом жанре. Да, наверняка она предпочитает музыку, которая уравновешивает эмоции и восстанавливает душевные силы.
Вот я за великую Опру Уинфри все и решила. Надо будет все-таки поинтересоваться и ее мнением на этот счет, при случае, в Интернете.
Наташа брызгает лак на укладку, еще раз проводит кисточкой по лбу… Она закончила свою работу, у нас есть еще минут восемь, можно было бы поболтать. Но сегодня почему-то болтать не хочется.
Моего гостя, модного психолога-консультанта, уже причесали и слегка загримировали, и он вышел в коридор: сосредоточиться, собраться. Сосредоточусь и я.
Итак, Ольга Васильевна дала мне сегодня «карт бланш»: разрешила строить разговор в прямом эфире по принципу ток-шоу. Диалог будет живым, мои вопросы будут рождаться из ответов героя, или, наоборот, он будет меня спрашивать, а я отвечать. Как пойдет!
Конечно, персона Опры Уинфри в качестве эталона телеведущей «всех времен и народов» принимается у нас далеко не всеми. Мы все же по-разному мыслим с американцами, да и представления о границах откровенности у нас иные. Я даже не очень уверена, что блестящая полемистка, бесстрашная исповедница, а то и провокаторша Опра сделала бы на нашем телевидении такую же невероятную карьеру, как у себя на родине. В славянском менталитете изначально заложена скромность, а американцы, напротив, культивируют безграничную внутреннюю свободу, а уж как разнообразно ее проявляют, и говорить не стоит. В эфир к Опре приходят гении и сумасшедшие, латентные маньяки и самозваные пророки, оперные дивы и патологоанатомы, писатели и уборщики мусора. Но, конечно, есть какая-то магия в том, что все они – все, без исключения! – в конце концов открывают перед ней, а значит и перед зрителями, свою душу. Ну, или что там у них есть внутри вместо души…
Нет, я вовсе не стремлюсь выворачивать моих гостей наизнанку. И контингент у меня другой: даже в виде
«эксклюзива» не попадаются ни «пограничные» личности, ни маргиналы. Да и раннее утро, пожалуй, не так уж располагает к откровениям. Но если бы у меня, в самом деле, была авторская программа, и шла она в прямом эфире, в «прайм-тайм», мне было бы о чем поговорить с людьми. Ну, мечтать – так уж ни в чем себе не отказывать!..
…Работаем!
Как и следовало ожидать, психолог, которого зовут Олег Витальевич, сразу решил взять ситуацию под свой контроль, начав читать коротенькую, «минут на двадцать», лекцию о психологической совместимости, о трудностях взаимопонимания, поисках компромиссов в общении и так далее. Или я слишком много читаю, или тема уже несколько приелась: разобщенность, одиночество, коммуникативный голод, эмоциональная глухота…
Ему чуть больше сорока, почти мой ровесник. У него приятное умное лицо, большие светлые глаза, очки в дорогой металлической оправе, голос мягкий, несмотря на низкий тон, интонация немного назидательная – он ведь еще и преподает, в университете, кажется, даже на нескольких факультетах. Ознакомительная «лекция», разумеется, заняла чуть больше минуты, но… стало скучно. Даже мне!
Я даю зрителям еще немного послушать «вводную» в его исполнении, дожидаюсь крохотной логической паузы и невинным голосом спрашиваю:
– А что, Олег Витальевич, определило ваш выбор профессии? У вас тоже были трудности с общением?
Олег Витальевич замирает на долю секунды, дыхание как будто перевел. Ага, «клюнуло», что называется! Опра, наверное, именно в таких случаях произносит свое фирменное: «Ага, момент!» Я мысленно погладила себя по головке, как это любит делать Сергей Александрович Сосновский, потому что психолог встрепенулся, и я почти физически почувствовала, как он принимает решение – отделаться общими фразами или сказать чистую правду. Я посмотрела ему прямо в глаза и улыбнулась, очень по-дружески, и правда взяла верх.
– Конечно, у меня, как и у многих, были трудности с общением. Причем не только со сверстниками, но и в семье. Как все подростки, я очень переживал из-за конфликтов с родителями, с отцом особенно. Все повторяется в каждом поколении, это закономерно и естественно. Это нормально, особенно когда об этом читаешь в книгах. А когда сам сталкиваешься с этим в жизни, кажется, что рушится мир. Но вот книги… Книги мне на определенном этапе помогли. Я, мальчишка, однажды увидел в магазине скучную книженцию в тусклой обложке – «Психология семейных отношений». Открыл ее прямо там же, у прилавка, напоролся взглядом на «пример из жизни» – и уже не смог оторваться!
– Книга помогла вам решить свои проблемы?
– Да нет, никакая книга проблем не решает. Та книга просто открыла мне, что я не одинок в своем одиночестве, что это можно и нужно пережить и даже извлечь из этого пользу, неконкретную, нематериальную, разумеется. Просто любой человеческий опыт оказывается дороже всего в конечном итоге. Ничто так не обогащает, как то, что удалось пережить или преодолеть в себе.
Я чувствую, что этот успешный столичный психолог добился так многого в своей профессии не только потому, что приобрел «многая знания». Он, наверное, отзывчивый и теплый человек… И искренний – у него хорошие глаза.
– Я слышала похожее выражение: «То, что нас не убивает, делает сильнее». Если вернуться к трудностям в общении… Что делать, если, несмотря на приобретенный ценный опыт и правильные психологические установки, говоря вашим языком, тупиковые ситуации в общении с людьми все время повторяются? Может, нужно просто прекратить общаться с какими-то конкретными людьми?
Олег Витальевич задумчиво приподнимает брови:
– Такие случаи, конечно, тоже нередки, но это чаще касается семейных отношений. Производственные отношения, межличностное общение в трудовом коллективе можно и нужно нормализовать в любом случае. «Развод», фигурально выражаясь, или увольнение отдельных членов коллектива – это радикальная мера. Но и она, как правило, проблему не решает – ни личную, ни коллективную. Другое дело – семья. Здесь включаются другие механизмы, возникает другой эмоциональный фон и психологические предпосылки. Нет, каждый случай нужно рассматривать отдельно. Иногда непониманием люди называют то, что проще и честнее было бы назвать элементарным отсутствием интереса друг к другу, угасшей любовью.
Нет, до мисс Уинфри мне еще ой как далеко: лидировать в этой беседе не получается. Не подозревая о том, психолог вторгся в мои сокровенные переживания и… уже начал меня консультировать. Я говорю по-прежнему максимально нейтральным тоном:
– Олег Витальевич, ваши корпоративные тренинги пользуются успехом и у нас в стране, и за рубежом: я знаю, вас приглашают в Россию, Украину, Польшу. Но давайте подробнее остановимся на семейных проблемах, ведь нас сейчас смотрят люди, сидящие у экранов домашних телевизоров. Как разобраться в истинных проблемах в семье? Как их решить самостоятельно, чтобы не нанести психологический ущерб родным? Возможно ли это в принципе?
Психолог делает красивый жест: на мгновение поднимает вверх полураскрытую ладонь, как бы взвешивая эти проблемы на руке – тяжело? Тяжело.
– Нужно быть, в первую очередь, честным с самим собой. Люблю? Не люблю? Дорожу семьей? Или хочу создать новую? Однако если человек приходит к выводу, что проблема в семье есть, обозначает ее и начинает искать пути ее решения, это, как правило, говорит о том, что он хочет сберечь свою семью и отношения с супругом.
Ну вот, самое время обсудить со специалистом мои личные проблемы. Сделаю это без ущерба для телезрителей и с пользой для себя:
– Часто семью, которая распадается на глазах, сохраняют только ради детей. Считается, что дети страдают сильнее своих конфликтующих родителей и что последствия развода губительны, порой необратимы для психики ребенка. Как вы оцениваете родительскую жертвенность: она, по-вашему, оправданна? Что перевешивает на чаше психологических весов: правда и счастье ребенка, или правда и счастье его страдающих родителей?
Он улыбается мне. Понял, что у меня «живой» интерес.
– Давайте говорить не о жертвенности, а о любви. На жертву, на самопожертвование способны очень немногие люди. И, кстати, все вкладывают в это понятие разный смысл. Да и любовь каждый понимает по-своему. И все-таки… Я рискую встать в оппозицию к общественному мнению, но буду утверждать: семью, однажды созданную по любви, нужно сохранять всеми силами. Я не говорю о каких-то экстремальных ситуациях, каких тоже немало: пьянство, насилие в семье… Если нет реальной угрозы жизни и здоровью, если речь идет о так называемых «временных трудностях», семейных кризисах. Переживать кризисы, стоически терпеть периоды взаимного охлаждения…
– На глазах у ребенка? «Временные трудности» могут длиться годами…
– Да, конечно, так чаще всего и бывает. Однако жизнь продолжается! Если не решились на крайние меры сразу, значит, в них нет острой необходимости. Не надо лгать детям, но и посвящать их во все проблемы взрослых не стоит. Можно, в конце концов, на собственном примере учить терпению, прощению, любви. Учить хранить семью, в которой еще теплится любовь, если не любовь, то уважение, не уважение, так сострадание, доброта. Пока живо в семье хоть какое-то добро по отношению друг к другу! Улыбчивая искусственность в отношениях ранит детей куда сильнее, чем серьезная откровенность, а нравственное мужество формируется именно в семье.
… В общем и целом разговор получился интересным и познавательным. Надеюсь, не только для меня и Ольги Васильевны, но и для широкой зрительской аудитории. Если кто-то прислушается к советам этого человека и решит «перетерпеть» трудности в семье, это будет уже неплохо. Я, по крайней мере, готова терпеть и дальше. Но есть еще два человека, о планах которых я могу только догадываться. Будут ли так же «терпеть» эти двое? Мой муж и мой… не муж. К сожалению…
Конечно, я и до разговора с психологом была настроена на то, чтобы ничего не менять. Но ведь жизнь порой преподносит такие сюрпризы…
Мы минут пять, как вышли из кадра, направляемся к выходу из «шестисотки». И уже в коридоре Олег Витальевич вдруг взглядывает на меня с каким-то профессиональным прищуром и произносит:
– Маргарита, я обратил внимание, что вы машинально рисуете что-то на бумаге. Можно взглянуть, что?
Я раскрываю папку и молча достаю мои листочки. Я всегда рисую одно и то же – солнышко и птичек. Малохудожественные каракули, детские почеркушки: много солнышек, много птичек…
– Что скажете, доктор? Какой диагноз? – спрашиваю кокетливо, но все же волнуюсь, самую малость.
А «доктор» отвечает вполне серьезно:
– Не обидитесь?
– Уже обиделась – на это предположение, – парирую я. А сама и правда слегка завибрировала.
– Мне хотелось бы ошибиться, Маргарита, – говорит психолог, – но вам не хватает любви.
– В каком смысле? – холодно спрашиваю я.
– Не знаю, – пожимает плечами «доктор». – Это, в общем-то, спорная теория, но она имеет место быть. Все эти каракули на самом деле не случайны, они – из подкорки. Солнце – это самое яркое воплощение тепла. Вам хочется больше тепла и свободы. Свобода – это вот эти галочки. Это ведь птицы, верно?
Я киваю, но сдаваться не хочу:
– Птицы, но я вполне… то есть, у меня все в порядке.
Психолог улыбается:
– Не сомневаюсь. А обручальное кольцо вы… просто забыли сегодня надеть?
Я машинально прикасаюсь к безымянному пальцу: так и есть, забыла… Забыла, потому что «просто забыла», или – опять нечто «из подкорки»?
Олег Витальевич, кажется, еще и читает мысли:
– Не обращайте внимания, Маргарита. Мне, наверное, просто не хочется с вами так быстро расставаться. А вот заинтересовать собственной персоной хочется. И хочется продлить с вами знакомство. Как вам такая откровенность?
Я смотрю на него с немного наигранным удивлением. А потом решаю отбить этот чисто мужской «пас» в его же обезоруживающей манере:
– Олег Витальевич, неужели сейчас вы пригласите меня в ресторан?
– Да, а вы согласитесь. Мы ведь еще не договорили.
И вот мы уже сидим за столиком в нашем кафе на первом этаже и пьем кофе. Олег Витальевич очень ненавязчиво «продолжает знакомство»:
– Дело в том, что человек склонен искать самые простые объяснения всему, что с ним происходит. И это правильно, это норма человеческой психики. А вот излишнее самокопание – уже отклонение от нормы. Ну, разумеется, если это не часть профессии, как моей или вашей.
Я делаю глоток и закуриваю. Тяну время, чтобы ничего не говорить, а только слушать. Психолог привык к внимательной аудитории, мое молчание его не тяготит.
– Некоторые ваши вопросы показались мне немного личными. Остановите меня, если я касаюсь запретной темы. Хотите, я и не буду ее касаться вовсе. Но еще одну установочку вам дам, согласны? Она проста как все сущее. Правильный вывод – это верное решение, как в математике, так и в психологии. Сделали вывод из сложившейся ситуации – значит, уже почти нашли выход из нее.
Мы говорили бы еще долго, и не знаю, чем закончился бы этот разговор, возможно, исповедью. Я уже раскрыла рот, чтобы задать очередной вопрос «доктору», но тут в кафе заходит мой любимый Сергей Александрович. Не один: рядом с ним – веселая, как птичка, Алиса. Алиса щебечет, жестикулирует, играет глазами, Сергей внимательно слушает ее, улыбаясь и глядя вниз перед собой – это у него такая манера внимать на ходу. Они очень увлечены разговором и не сразу замечают нас с психологом. Но совсем не заметить кого-либо в небольшом кафе невозможно, и вот уже Сергей машет мне рукой и чуть кивает моему визави. Он наверняка смотрел наше «ток-шоу», а это всегда дает какое-то ощущение знакомства с героем передачи. Я кисло улыбаюсь в ответ. Сергей поворачивает голову к Алисе, а та только и ждала, когда можно будет продолжить беседу, не отвлекаясь на мелочи.
Почти со скрежетом перевожу взгляд на Олега Витальевича и напарываюсь на его понимающую улыбку:
– Коллеги? Или начальство?
– Коллега и начальство, – отвечаю я невозмутимо. Как мне кажется, невозмутимо.
А психолог-то наш – и впрямь орел! Все понял, все просчитал, да еще и молчит загадочно, хочет, чтобы я сама сказала что-то интересное для него, как для практика. Нет, ничего не скажу, улыбнусь вот ему вежливо, и все, разговор окончен – на эту тему, по крайней мере.
Без особой связи с предыдущим, Олег Витальевич спрашивает:
– Маргарита, а коньяк у вас тут заказать можно?
– Можно, – отвечаю я, – но желательно после работы.
– В таком случае, может быть нам переместиться в какое-то другое место? Я так понимаю, вы на сегодня уже освободились?
Я раздумываю недолго. Мне очень хочется сейчас уйти отсюда и больше не видеть, даже боковым зрением, как склонились друг к другу и говорят о чем-то Сергей и Алиса. Это, конечно, бегство.
А как вежливо и доходчиво дать понять тонкому знатоку человеческих душ, что я хочу пойти куда-то не с ним именно, а просто уйти и все?
Он опережает меня на полсекунды:
– Мне показалось, что вы просто хотели бы уйти отсюда. Или я не прав?
Да что же это такое! Так и будет просчитывать мои следующие шаги?! Не выйдет:
– Олег Витальевич, вы меня пугаете своей проницательностью. Да, мне хочется уйти. Не буду объяснять, почему. Но я никуда не пойду. Вы у меня в гостях, мы пришли попить кофе. Вот давайте и попьем! И коньяк сейчас закажем.
– А как же начальство? – спрашивает с улыбкой «доктор».
– Напишу объяснительную, а он объявит мне выговор. Мы найдем компромиссное решение, – мило улыбаюсь в ответ.
Олег отходит к стойке, я мечтательно смотрю в потолок, но прекрасно при этом вижу, как Сергей Александрович бросает на меня полтора взгляда: «целым» отмечает мое присутствие, «половинкой» сканирует место нахождение моего спутника.
Олег Витальевич возвращается. Мы делаем по глоточку.
– Я вам, наверное, надоел со своей лекцией, – сообщает мне мой догадливый собеседник, – но, если позволите, еще пару слов в тему скажу.
Я, согретая изнутри капелькой коньячку, милостиво киваю:
– Что вы, мне очень интересно…
Олег Витальевич как бы мельком, но довольно внимательно взглядывает на Алису и Сергея и произносит:
– Человек устроен так, что ситуация меняется, а модель его поведения остается прежней. Если знаешь кого-то не первый год, нетрудно догадаться, как он будет себя вести в разных обстоятельствах.
– Почему вы мне об этом говорите? – искренне удивляюсь я.
– Потому что вы мне очень нравитесь. Потому что мне, судя по всему, не на что надеяться. И потому что я знаю, а может быть, вижу причину.
Мне не хочется больше играть словами:
– Ну хорошо, причину вы знаете, а следствие? Психолог пожимает плечами:
– Ну я же не Господь Бог… Извините Маргарита, ваш муж… тоже намного старше вас?
– На одиннадцать лет.
Какой смысл притворяться и делать большие глаза на слово «тоже»? Мол, что значит «тоже»? А кто еще «тоже»? А почему вы, собственно, решили, что «тоже»?…
Да, тоже. Когда-то, до моего безумного романа с Сосновским, мне казалось, что одиннадцать лет – огромная разница в возрасте. Космос! Как же все относительно!..
Олег Витальевич понимающе кивает, но никак не комментирует этот факт. А потом говорит:
– Не знаю, как у вас, а у меня есть ощущение, что мы знакомы больше, чем три часа. И я очень рад этому знакомству. Между прочим, ваша коллега и ваш начальник, по-моему, собираются уходить. И пока я в вас окончательно не влюбился, нужно идти и нам.
Моя очередь понимающе кивнуть, но не комментировать это заявление по поводу «влюбился». Я тоже психолог, Олег Витальевич, работа такая.
Я сегодня без машины: в городе у меня нет особых дел, до Катькиной школы доберусь и на метро. Сегодня моя очередь забирать девчонок.
А Олег Витальевич, естественно, за рулем. Широким жестом приглашает подвезти меня на серебристом «додж караване» – наперсток «Старого Кахети», выпитый с кофе, его, видимо, не смущает. Пообщавшись с ним, начинаю понимать: он, в случае чего, так любого гаишника заговорит, что человек в погонах и с жезлом будет уверен, что граммульку тяпнул как раз он сам, а никак не водитель.
Но ехать почему-то отказываюсь. Впрочем, знаю почему: просто хочу побыть одна. Вслух говорю:
– Мне еще нужно в магазин забежать, в продуктовый. И чего я взбрыкиваю по мелочам, почему мне так хочется его разочаровать? Он мне – «влюбился», а я ему – «продуктовый магазин». Потому что не люблю, когда меня просчитывают и предсказывают мой следующий шаг. Или все же что-то, сказанное им, действительно меня зацепило и осело «в подкорке»? Что именно? Что-то про «меняющуюся ситуацию и модель поведения»?
Олег Витальевич целует мне руку:
– Удачи вам, Маргарита. Пусть у вас все будет хорошо.
– Спасибо, Олег Витальевич. До свидания, – в ответ улыбаюсь я. – И вам всего хорошего.
Я еще не дошла до метро, когда «додж караван» свернул на проспект.
А зайду-ка я в продуктовый магазин!
Глава 9 Психология семейных отношений. Теория и практика
Я безумно люблю Катьку и очень привязана к мужу. Но когда дочь вытворяет что-то из ряда вон, реакция моя однозначна – вся в отца! Что именно я вкладываю в это выражение, без пространных объяснений поймет любая женщина.
Учительница Ульяна Вячеславовна приветливо здоровается и спрашивает:
– Маргарита Владимировна, у вас не получилось прийти на родительское собрание? Тут есть несколько небольших финансовых вопросов.
Так, вторая часть мне понятна: очередной добровольный взнос на что-то внебюджетное. Плачу без комментариев.
А первая? Почему у меня не получилось прийти на родительское собрание? Да я про него просто не знала. Дневник не смотрю принципиально, а Катька ничего не сообщила. Странно. До сей поры я ходила на собрания, как на работу. Однако разбираться с дочерью буду наедине, обойдемся без публичной порки.
Всю дорогу болтаем с девчонками о том о сем… Настроение у девочек хорошее: через неделю каникулы, без пяти минут лето.
Катина подружка – хорошая девочка, умненькая, спокойная, смешливая. Но лидер в их парочке, конечно, Катя. И вот этот самый лидер-неформал, очевидно, волнуется: нервно смеется и время от времени поглядывает на меня с некоторой опаской. Ничего, пусть попереживает. Интересно, зачем ей понадобилось скрыть факт родительского собрания, если там всего лишь собирали деньги на внеплановый косметический ремонт лингафонного кабинета?
А дома, как только закрываю входную дверь, поворачиваюсь к дочери и спрашиваю в манере, которую психолог семейных отношений не одобрил бы наверняка:
– Ну и?…
И Катька, которая сегодня наглядно демонстрирует правильность генетических теорий, отвечает мне так, как ответил бы Миша. Он обычно пропускает мимо ушей мои красноречивые междометия, игнорирует выразительные интонации и сразу переходит к сути.
– Я тебя не обманула, а просто не сказала.
– Это, конечно, тебя полностью оправдывает, как тебе кажется, – сурово говорю я.
Доморощенный философ изрекает:
– Промолчать – не обмануть.
Все, хватит риторики, спрашиваю прямо:
– Почему ты не хотела, чтобы я пошла на родительское собрание? Там же ничего особенного не было.
Молчит. Потом делает гримаску и говорит:
– А я откуда знала, что там будет. Может будет, может нет.
– Да в чем дело-то, Катерина? – начинаю нервничать я.
– Я Петьке Парфеновичу в ухо дала, – признается дочь. Я смеюсь:
– Ух ты! И попала? А за что?
Катька поняла, что возмездия не будет и объясняет:
– Он сказал: «У Дубровской мать – „телепузик“, а Катька – карапузик».
Я чешу под носом, скрывая смущенную улыбку. Хочется расспросить подробнее: я, честно говоря, не очень понимаю, что это за персонажи такие – телепузики? Положительные или отрицательные? Умные или глупые? Милые или противные? Что-то читала в прессе, будто они якобы деформируют детское восприятие действительности, что ли… Это была статья по педагогике, по-моему. Восьмилетний мальчишка так смешно и, на мой взгляд, не очень обидно зарифмовал моего… ну да, карапузика (давно ли она перестала им быть?) со мной. Ну и что теперь, драться? Если бы Катя была «в меня», то просто разревелась бы, если уж так обиделась. Но Катя «в отца»: ее обидели – она тут же дала сдачи, и весь разговор. И кого при этом защищала моя боевая дочь – меня или себя, уже не важно.
Ничего умного не придумав, спрашиваю:
– Ну, и как его ухо?
– Болело, наверное. Распухло, красное… Он ревел. Это хуже:
– А ты чем стукнула?
Катька, кажется, и сама изумлена всей этой историей:
– Да кулаком…
Нет, надо поговорить с Мишей на эту тему. Его характер: покладистый и долготерпеливый, но в экстремальной ситуации – импульсивный и взрывной.
Катька еще смотрит на меня:
– Ругать не будешь?
– Не буду, – отвечаю я. – А Ульяна Вячеславовна не ругала тебя?
– Ругала. Обещала вызвать в школу родителей. И Петькиных тоже. Он все время ругается разными словами, а тут собрание как раз…
Ладно, если педагог в курсе драки и не подняла шума, значит, все в порядке, но еще один «штрих» к портрету дочери сделан. И это – дочь своего отца!..
Я в детстве не дралась, даже когда сильно обижали. Обижали ведь и меня…
Да я и сейчас не «дерусь», а может, надо?
Телефонный звонок на кухне отвлекает меня от педагогических и прочих раздумий. Это Оксана, моя подруга, с которой мы познакомились в роддоме: лежали на соседних койках…
– Привет. Есть у тебя время поговорить?
Если Оксанка звонит на городской, значит разговор долгий.
– Есть, конечно.
Оксана молчит немного, потом спрашивает со вздохом:
– Как у тебя дела? Я тебя утром по телевизору смотрела, но не с начала. Ты с каким-то мужиком так по-умному разговаривала…
– Да, стараюсь, – перебиваю я, понимая, что не передачу ей хочется обсудить, а что-то более личное. – Ксан, случилось что?
Оксана молчит. Плачет, что ли?
– Плачешь, что ли?
– Уже нет.
Оксанка – девушка очень эмоциональная, но со знаком «плюс». Готова радоваться любому положительному явлению: хорошей погоде, хорошему человеку, смешному происшествию, вкусной пироженке. Если она «уже» не плачет, значит причина для слез была по-настоящему серьезная. Истерик без особых оснований, как у меня, например, у Оксаны не бывает, а я ее в разных ситуациях видела: и в смешных, и в не очень смешных. Однажды мы с детьми и колясками в нашем лифте на полтора часа застряли на уровне седьмого этажа, то есть между шестым и седьмым. Тетки из ЖЭСа не смогли лифт ни с места сдвинуть, ни открыть, вызвали монтеров из ремонта. Дети орут, я шиплю, да еще в туалет хочу со страшной силой, и страшно, между прочим. А Ксанка с тетками только перешучивается в образовавшуюся при застревании щель.
– Ксана, хочешь, приезжай ко мне, поговорим тут. Я тебя по телефону не вижу, а понять ничего не могу.
Ксанка тихо пыхтит в трубке. Потом спрашивает:
– А может, ты ко мне?
Я немного раздумываю. В кои-то веки с дочерью хотела дома побыть. А то уж и мама мне как-то раз полусерьезно замечание сделала: «Поменьше бы о работе думала, побольше о семье, а то корпоративы… кооперативы… презентации… Не мать, а ехидна». Что за зверь ехидна, не знаю. На мамины слова отшутилась: «Не знаю такого животного, не видела. Но, судя по названию, у него есть чувство юмора! Да, иногда я ехидничаю. А вы повод не давайте».
Да ведь и у Оксанки наверняка не просто свободный вечер, который не с кем скоротать…
Ладно, решено, тут недалеко, съезжу.
– Катя! – кричу, повернувшись к дочкиной комнате.
– Что? – возникает на пороге.
– Я на часок к Оксане съезжу, ладно? Ты, может, уроки пока сделай, приеду, поиграем во что-нибудь, – говорю ей.
Я уже давно в разговорах с Катькой не добавляю к именам моих подруг слово «тетя». Она обращается к ним тоже только по имени: у нас так принято. И не только потому, что это «по-европейски». Мне кажется, в кругу родительских друзей ребенку легче адаптироваться к взрослому миру. Называя взрослых друзей по имени, маленький человек чувствует себя если не на равных с ними, то увереннее – точно.
Моя мама, общаясь дома с подругами, никогда не выгоняла меня из комнаты. Какие-то уж очень женские вопросы они решали, разумеется, без меня. Но их разговоры, как правило, «запретных» тем не касались, а мне было очень интересно слушать, как они что-то одобряют, над чем-то смеются, чему-то радуются. Я до сих пор благодарна маме за то, что она таким образом проявляла ко мне свое уважение.
Катя, которую сегодня счастливо миновало наказание за «молчание, а не ложь», с легким сердцем отпускает меня ненадолго.
Оксана живет через остановку от меня, только я еду к ней не на трамвае, а на «реношке»: прямо по улице и в «рукав». Мне очень нравится ее уютная квартира, в которой малая площадь компенсируется отменным вкусом хозяйки. Это всего лишь хрущевская «полуторка», но светлые обои, встроенные зеркальные шкафы, компактная мебель и полное отсутствие ковров где бы то ни было создают эффект просторного, наполненного воздухом и светом помещения. Широкие окна, прозрачные занавески, на стенах – немногочисленные картины и плоская панель телевизора. Несколько элегантных цветочных кашпо, самое большое из которых – роскошная монстера в прихожей. Светильники тоже небольшие, в стиле хай-тэк… Красиво! И все продуманно, и ничего не случайно. Оксана – дизайнер широкого профиля, дома ее талант тоже не отдыхает: она шьет, создает интерьеры и моделирует ландшафты. Вот такой рядом со мной живет «человек эпохи Возрождения»!
Она и сама всегда очень элегантная и продуманная. Сочетание цветов в предметах ее туалета всегда приводят меня просто в священный трепет: полутона сочетаются и перекликаются, один цвет намекает на другой, структуры тканей дополняют друг друга безупречно. Когда я вижу очередной шедевр, созданный Оксанкиными руками, сама себе напоминаю в такие моменты пчелу, нашедшую дивный цветок: о, сколько же там должно быть нектара! Хотя это – чисто эстетическое удовольствие.
Оксана шьет иногда и мне. За годы дружбы изучила мои особенности и темперамент, недостатки фигуры и вкусовые предпочтения. Вообще-то, я одеваюсь везде, где могу найти что-то подходящее: в магазине, на торговой выставке, на распродаже, иногда даже в сэконд-хэнде. Миша за эту «всеядность» меня время от времени отчитывает. А зря! Я не шмоточница, просто для меня это еще один способ самовыражения. Я, например, очень люблю одежку фирмы «Марк и Спенсер», которая позиционирует свои изделия как «одежда для немодных женщин». Хитрый ход: кажется, что обидели потенциальных покупательниц, а на самом деле – сделали комплимент. Немодная женщина – это, другими словами, женщина вне моды, самодостаточная дама, которой одинаково идет и кринолин, и набедренная повязка, и скромный кардиган. Это она их украшает, а не они ее!
Но Оксанины туалеты – это мой «золотой фонд». Она всегда мне шила для каких-то особенных случаев. Например, мое тридцатилетие (короткое бирюзовое, с открытыми плечами), или Международный кинофестиваль, открытие которого я вела (зеленая и золотая парча, декольте, в пол), прием во французском посольстве по случаю Дня взятия Бастилии (маленькое черное), свадьба близких друзей, где мы с Мишей были свидетелями (сиреневый костюм «шанель»)…
Неумолимо приближается еще один такой особый случай: торжественная церемония невручения мне «Золотой Телевышки».
Вот с этого и начну разговор. Оксанка расслабится, а потом уж расскажет все, что посчитает нужным.
Оксана открывает дверь и молча стоит, прислонившись к косяку, наблюдает, как я снимаю обувь. Не оживленная, как обычно, а как-то нехорошо спокойная. А я старательно заполняю паузу:
– Знаешь, я сама хотела к тебе напроситься на днях. Может, успеешь мне сочинить что-нибудь к «Телевышке»?
Оксана рассеянно кивает:
– Давай, у меня как раз появилась новая интересная ткань. Я тоже о тебе подумала: твой стиль.
– Правда? – оживляюсь я чуть больше, чем следует. Не нравится мне это ее «скорбное бесчувствие». Кстати, а где Сергей? Ее мужа тоже зовут Сергей. Тоже… А почему тоже, а с какой стати тоже? Это я все продолжаю воевать с прозорливым психологом, хотя он уже одержал чистую победу по очкам. – А где Сережа?
Оксана бросает взгляд куда-то в бок и отвечает:
– К маме поехал.
«Ага, поссорились, – смекаю я, – и, видно, серьезно поссорились, раз он – к маме, а ей нужно советоваться с подругой…» А вслух продолжаю бытовой разговор:
– Покажи тряпочку-то.
Мы заходим в меньшую комнату, это как бы Оксанкин кабинет. Она раздвигает зеркальные дверцы шкафа-купе, роется на полочке. И, наконец, достает нечто темнеющее в пакете.
Когда она разворачивает отрез ткани, то это нечто оказывается струящимся шифоном, постепенно меняющим цвет от аспидно-черного до белоснежного. Я говорю: «Ах!» Это действительно ах!
– Смотри, – говорит Оксанка уже более оттаявшим голосом, – черный будет низ, а к плечам платье уже будет белым, переход из цвета в цвет – на талии. Я нарисую тебе, как придумала.
– Супер! – от души восклицаю я. – То, что нужно!
И начинаю взахлеб рассказывать о своих жалких планах выглядеть в момент своего профессионального фиаско на высоте – ну хоть внешне:
– Понимаешь, мои переживания, в общем, никого не касаются. Хочу выглядеть так, как будто я спокойна, уверена в себе. Я выше тщеславия! То есть я, конечно, ничего не выше… И обидно до слез, и комплексы давят, но марку-то держать надо! Вот как Анна Каренина в ложе оперы, помнишь, в кино. Сидит, такая вся прекрасная до невозможности, улыбается, и никто не знает, что у нее внутри.
Оксана смотрит на меня внимательно. Прикидывает фасон, что ли? Но нет, не фасон.
– Рита, Сергей меня бросил.
Вот это да. Пауза повисает тяжелая, как кирпич.
– То есть как это бросил? – выговариваю я, чтобы что-то сказать.
– А как бросают? Раз – и бросил. Ушел. Пока к маме на время, потом, видимо, к ней.
Я прижимаю уши: «к ней»?… Но спрашиваю:
– А почему не сразу к ней?
– А она замужем. Пока.
Бог ты мой… Вопросов хочется задать миллион. Нет, не надо никаких вопросов. Оксана молчит. Потом продолжает:
– Вот ты ехала, а я все думала, думала: рассказать – не рассказать. Потом решила – расскажу. Еще вашу передачу, как по заказу, посмотрела, где вы с этим умником жизни учили… Да нет, я не иронизирую, это так, от бессилия… Все правильно вы там говорили, только от реальности далеко.
«Не так уж и далеко, – мелькает у меня. – В моем случае ну очень близко».
– А где Вадик? – спохватываюсь я. В самом деле, где Вадим в такое время? Ему, как и Катьке, всего восемь.
– Тоже у мамы, только у моей. Незачем ему наши разборки наблюдать.
Значит разборки уже состоялись. Что нужно говорить в такой ситуации? Может, лучше помолчать вдвоем и все же:
– Ты сказала, что она пока замужем. Тоже уходит от мужа? Все у них уже решено?
Оксанка смотрит себе на руки, крохотные, трудолюбивые, тоненькие ручки… Поднимает на меня глаза. Господи, плачет…
– Она беременна. И будет рожать ребенка от моего мужа. Вот так.
Я не нахожу, что сказать.
Не нахожу, что сказать еще и потому, что Оксана – одна из немногих моих близких подруг, которая знает про Сосновского. Про нас с Сосновским…
Будто прочитав мои мысли, Оксана говорит:
– Ты не обижайся, Рита, но я раньше как-то легче на эти вещи смотрела: ну, любовница, ну, любовник. Как бы все это – от слова любовь, а теперь…
Да, я понимаю, что она имеет в виду. Ну да, я тоже склонна думать, что вот у меня – любовь, а вот Сережка поступил с Ксаной подло. А в сущности, какая разница? Все, все, все понимаю. Но люблю!..
Господи, ну зачем у нее повсюду зеркала… В одном из них я вижу свое отражение, и оно мне сейчас очень не нравится.
Глава 10 «Не учите меня жить!»
Я уже почти доехала до дома, когда зазвонил телефон. Сергей всегда говорит так, будто мы не разговаривали, самое большое, минут десять: вот еще и трубка не остыла, а он вспомнил кое-что важное и звонит:
– Рита, завтра не опаздывай, пожалуйста, хочу, чтобы ты присутствовала на переговорах. Есть решение купить одну лицензионную программу, планирую тебя в качестве ведущей. Вот поприсутствуешь, пусть правообладатель на тебя полюбуется. И я тоже, лишний раз.
Я невольно улыбаюсь и говорю:
– И я на тебя полюбуюсь… вблизи.
Сама с собой не заключишь пари, больше не с кем! А спорю, что он не поймается, не произнесет ни слова объяснения или, хуже того, оправдания… Типа: «Милая, просто мы с Алисой обсуждали очень важное-преважное дело, и я не мог подойти к тебе, и ты, дорогая, была так занята собеседником, что я не…» И так далее. Не будет этого! И в усеченном варианте не будет! Спорим, Рита?
И, конечно, я вчистую выигрываю это блиц-пари! А может, проигрываю: играю-то сама с собой…
Он просто говорит по существу, только то, что ему нужно мне сообщить:
– Потом бизнес-ланч, потом… Мы с тобой решим, что будет потом.
Единственное, что я могу извлечь из своего перехваченного от нахлынувшего волнения горла, – хрипловатое «да»…
Этот мужчина имеет надо мной неограниченную власть. По иронии судьбы, он ведь еще и мой непосредственный руководитель!
Потом, когда магия его голоса ослабевает, начинаю вдумываться в смысл того, что он мне сообщил.
Покупают какую-то лицензионную программу. Меня он планирует ведущей. Все это – прекрасные новости, любая на моем месте уже висела бы в невесомости от счастья.
Но… А как же мой утренний эфир? И как же мои наполеоновские планы по поводу авторской программы?
Ладно, утро вечера мудренее. А сейчас я открываю дверь своим ключом, на всякий случай, вдруг Катька заснула ненароком.
И слышу голос Миши, который говорит по телефону:
– Ты никак не уяснишь: я не могу это решить вот так быстро, и если ты не забыла: у меня семья еще есть…
«Ты не ЗАБЫЛА, у меня семья ЕЩЕ ЕСТЬ…»
Достаточно! Подслушивать я не буду и прятаться тоже. Громко захлопываю дверь. На этот звук Миша выходит в прихожую. Не отнимая трубки от уха, целует в щеку, свободной рукой поддерживает меня, пока я снимаю босоножки.
– Ну все, извините, я больше не могу говорить. До свидания.
«ИЗВИНИТЕ».
Диплом об актерском образовании уютно лежит и, возможно, даже пылится в отделе кадров нашей Телерадиокомпании, но мастерство, как говорится, не пропьешь. Как ни в чем не бывало направляюсь в ванную, мою руки, гляжусь в зеркало. Вот они, мои неверные глаза, которые так не понравились мне в зеркальном отражении у Ксаны. Вот они, и вон он – уголек страсти, еще тлеющей после звонка Сергея.
И вот мой муж, который так резко меняет интонации с моим появлением на пороге.
Бабушка покойная говорила: «Хто парася ўкраў, у таго ў вушах пiшчыць».
А я, со своим увесистым «парася», конечно, слышу оглушительный писк отовсюду: и муж себя ведет подозрительно, и к любовнику куча претензий… Хороша, нечего сказать.
Но как легко прощаем мы себе свои грехи, ведь все так понятно, так объяснимо. И как трудно проявлять ответную снисходительность к ближним…
Та же бабушка, которая всю жизнь вкладывала в меня большие и малые крупицы женской мудрости, полученной ею в наследство от своих бабушек, учила, как лучше всего вести себя в запутанных житейских ситуациях: «Будзь разумнейшая, маўчы…»
Попробую. Как получится насчет «разумнейшай», не знаю, а некоторое время помолчать могу.
Если Миша начнет объяснять, хоть в двух словах, с кем он разговаривал то на «ты», то на «вы» да еще и обсуждал наличие у него семьи, значит, в чем-то и он передо мной виноват.
Миша, однако, не торопится с комментариями, не спешит с оправданиями. Наоборот, ведет себя до такой степени буднично, что я начинаю думать, что мне все показалось и ничего странного в его разговоре не было. Ну да, то «ты», то «вы», и семья у него имеется. Мало ли, для чего понадобился именно этот аргумент.
И без всякой связи с предыдущими внутренними рассуждениями спрашиваю у мужа:
– А с кем ты это разговаривал сейчас?
Миша, который сидит напротив телевизора и последовательно «листает» каналы, без всякого выражения отвечает:
– Это по работе.
– А, – говорю я. Можно подумать, это что-то проясняет. Но продолжения, судя по всему, не будет. Ну, на нет – и суда нет. – Катька уже спит?
Миша задумчиво выслушивает какую-то международную экономическую новость, потом переводит на меня взгляд и говорит:
– Ну конечно, десятый час уже… Хотела тебя дождаться, читала «Гарри Поттера» в постели. Я заглянул к ней – спит на книжке… Устает, заяц…
Эх, папа, устает наша девчонка и от уроков, и от переживаний. Слава Богу, вот они, каникулы, буквально послезавтра! Не буду рассказывать Мише про учиненный Катькой самосуд над обидчиком «телепузиков» Петькой Парфеновичем, проехали. При этом мне почему-то кажется, что решительные действия дочери ему больше понравились бы, чем нет.
Но мне очень хочется рассказать ему про невеселые Ксанкины дела. Не то, чтобы в назидание… И все-таки, мы дружим уже столько лет: дни рождения детские вместе отмечаем, на шашлыки ездим к ним на дачу. Миша с Сергеем, конечно, не такие друзья, как мы с Оксаной, но все эти годы приятельствуют, уважают друг друга. Интересно, как прореагировал бы Миша на новость о прибавлении в семействе и о возможном изменении состава их семьи? Осудил бы? Промолчал? Пожал плечами? Даже предположить не могу. И любая его реакция была бы «пробным камнем», выражением его отношения к жизни. Мужская солидарность или протест?
Вот только не знаю, стоит ли опережать события: а вдруг еще все у Оксаны и Сергея наладится? Дал бы Бог, в самом деле. Вот только как?
Миша выключает телевизор, поворачивается ко мне. Его поза – руки локтями на коленях, подбородок уперся в сложенные замком ладони – мне кажется какой-то настороженной. И голос тоже кажется напряженным:
– Рита, нужно кое-что обсудить.
У-ух…
«Парася» у меня в ушах сейчас лопнет от визга, но я смотрю на мужа прямо, киваю спокойно:
– Давай обсудим. А что именно?
Миша встает, подходит к незадернутому окну. Он тоже любит наш вечерний город…
– Понимаешь, я сейчас думаю об одном серьезном деле. То есть, я давно над ним думаю, уже больше месяца, но нужно принимать какое-то решение, а я никак его не приму. В общем, это касается нас обоих…
Я сижу, буквально не дыша. Однако разнообразные мысли мечутся в мозгу, как молнии, – быстро, криво и невпопад. А Миша продолжает:
– Что-то я в последнее время места себе не нахожу. У тебя тоже проблемы, я же вижу, поэтому и не гружу тебя, стараюсь не грузить…
Все, спокойствие, хоть оно и кажущееся, мне изменяет. Я подхожу к Мише, и он обнимает меня за плечи. Теперь мы оба смотрим в одном направлении, прямо как пишут в умных книжках про правильную семью: «Муж и жена должны смотреть не друг на друга, а в одном направлении». Тогда все будет хорошо. Ну, вот, смотрим…
Там, на востоке, еле видна бессонная башня телецентра: вон они, красные сигнальные огоньки на краях крыши, видимо, чтобы самолеты не цепляли крыльями. Если напрячь воображение или взять сильный бинокль, пожалуй, можно углядеть три окна большого кабинета Сергея Александровича Сосновского. Может быть, он и сейчас на работе – день у него сильно ненормированный, его тоже «грузят» все кому не лень, а он – везет.
– Миша, а ты нагрузи меня, – говорю я, – вдруг помогу?
И внезапно чувствую такой необыкновенный прилив теплоты, нежности и почему-то жалости к мужу, что поворачиваюсь к нему лицом и просто вешаюсь на шею, совсем как в наши первые дни… Из-за разницы в росте и весе он иногда брал меня подмышки и раскручивал, как пропеллер, – ему было очень легко сделать такую карусель. Как я смеялась тогда, как я была счастлива!
Сейчас меня не очень-то раскрутишь, да и места в комнате для этого маловато. Просто стоим и целуемся: нежно, по-семейному, мягко, без страсти…
Но ведь нежно! Но ведь по-родному! Бог с ним, что без страсти!
Впрочем…
– Завтра поговорим, – тихо говорит Миша. – Пойдем спать. Ты еще негодяйка?
Я смеюсь в ответ:
– Законченная.
Вот ведь ужас, это чистая правда!
Никогда не нарушаю правила уличного движения. Никогда! Вот научили меня ездить в автошколе, вот накричался на меня на сто лет вперед мой инструктор, и все – я теперь в любое время дня и ночи отчеканю любое правило, проанализирую любую ситуацию на дороге и приму правильное решение: этого пропущу, тут обгоню, здесь заторможу.
На городском конкурсе «Леди за рулем» заняла почетное третье место! Миша после этого руку мне пожал по-мужски и сказал: «Горжусь! Раньше выходил из машины и землю хотел целовать, что довезла целым, а теперь – доверяю. Доверяю и горжусь!»
Конкурс был два года назад, о нем и в газетах писали, и по телевизору показали в новостях. Лучшей «леди за рулем» стала одна наша эстрадная певица, поклонницей таланта которой я никогда, если честно, не была. Но эта ее уверенная победа на, казалось бы, максимально удаленном от творчества конкурсе меня очень впечатлила. И еще то, как она просто рассказала об истоках своего мастерства: «Когда я только начинала петь, то возила всю свою группу на гастроли: костюмы, инструменты, реквизит. У нас был микроавтобус ГАЗель. Вот и научилась…» Ну еще бы! После советского микроавтобуса ей на «лексусе» разъезжать – семечки! Это как с галер на яхту. Понравилась она мне тогда очень, а после водительского конкурса почему-то стали нравиться и ее песни.
Иногда и меня, зануду и педанта за рулем, тормозит человек с жезлом, но это почти всегда формальность, еще и автограф попросит, если узнает. Однажды я ехала на утренний эфир, еще пяти часов не было. На пустынном проспекте, на котором в этот рассветный час людей нет совсем, да и машин совсем немного, затормозила на красный свет, выстояла положенную минуту, тронулась дальше… На автомате, не потому что увидела служивого с полосатой палочкой, заканчивающего дежурство. И вдруг он жезл поднимает: «Стоять!» Я, конечно, остановилась, а он подходит, берет под козырек и говорит: «Счастливого пути, дисциплинированный водитель!» И смеется.
К чему это я?
А к тому, что сегодня придется садиться за руль: я проспала! Последнее слово хочется произнести с придыханием: про-спа-ла. Миша встал по обыкновению, ни свет ни заря, покормил и благословил Катю, которую сегодня вместе с подругой повез в школу подругин папа, потом сам ушел на работу. Утреннюю жизнь своей семьи я ощущала в сладкой полудреме, фиксировала ключевые моменты: Катькины сборы, какое-то мелкое «совещание» папы с дочерью на кухне, поиск коричневых босоножек за пять минут до выхода, – но сама в них участие принять никак не могла. Ну не могла и все!
Мы этой ночью как будто вернулись друг к другу. Я вернулась? Или он? Надолго ли? Не знаю… Это была близость, которая подтвердила, что мы в самом деле близки.
Думаю об этом вскользь, но с удовольствием. Не мешает моему прекрасному настроению ни угрюмо ползущая к цифре 9 стрелка на часах в прихожей, ни то, что позавтракать толком не успеваю, ни даже порванные в спешке колготки. Я бегаю, как ошпаренная, из ванны в спальню, из спальни на кухню, отработанными движениями «наношу основные черты лица»…
Все! Ключи от машины в сумке, права всегда со мной. В путь!
Сажусь за руль, и легкая утренняя истерика остается в прошлом. Зорко гляжу вперед: помеха слева… А этому уступлю… Так, на желтый не успела… Ждем зеленой стрелки на повороте.
Между прочим, определенная философия в этом есть. Да, мне нравится ездить по правилам и жить, в общем, тоже. Но если на дороге все более или менее понятно, то как же разобраться с мелкими и крупными ДТП, пробками и объездами в моей личной жизни?…
Может быть, для начала отказаться от ланча с Сосновским?
Ну да, от ланча отказаться легко, а что делать с остальным? Если бы я так много значения не придавала работе, если бы не связывала с телевидением все на свете: прошлое, будущее, успехи, переживания, любовь… – да, тогда можно было бы сделать над собой титаническое усилие и гордо отказаться от ланча с Сергеем Александровичем и не метаться между ним и мужем, как стрелка аварийки на панели: туда-сюда, туда-сюда…
Приехала. Мой «рено» чирикает мне «пока!», и я взлетаю по ступенькам, вот мой пропуск, вихрем проношусь мимо вертушки… Лифт, коридор, «привет, Лариса», «доброе утро, Костя», «хорошо, Наташа, забегу…» Пред светлые очи Масяни я предстаю в 8.58.
– Доброе утро, Маша. Сергей Александрович вызывал меня к девяти. Не опоздала?
Маша сегодня неважно выглядит и говорит немного в нос:
– Посиди, Рита, он в кодфередц-зале с партнерами, сейчас придет. Кофе хочешь? Я только что приготовила.
Беру кофе из ее рук и спрашиваю:
– Простудилась, Маша?
Маша отрицательно качает головой:
– Аллергия на пух. Тополидый.
Она так и говорит – «тополидый», «кодфередц-зал». Сочувственно киваю и уже хочу поделиться своими знаниями об аллергии (у меня в эфире как-то был гомеопат широкого профиля, который удачно лечил и сезонную аллергию тоже), как в приемную входят Сосновский и еще двое невыносимо элегантных мужчин. Один – примерно ровесник Сергея Александровича, другой – чуть моложе. Встаю навстречу и здороваюсь первая: в данном случае сначала я должна соблюдать субординацию, а уж затем мужчины – этикет, если сочтут нужным.
Ответив на мое приветствие, Сергей Александрович произносит:
– Замечательно, Маргарита уже здесь. Прошу… Он пропускает в свой кабинет сначала меня, за мной проходят господа партнеры, затем входит сам.
Я сажусь на стул, который расположен спинкой к окну. На фоне окна, знаю это наверняка, любая женщина выглядит моложе. Хотя в этой солидной компании я и так девочка.
«Девочка моя…» Господи, где все мои благие намерения?
Сергей смотрит на меня мельком, но я вижу, что он доволен моим внешним видом и подобранным к случаю костюмом. Мой «дресс-код» – черный жакет с узким и глубоким, но не вызывающим вырезом, длинный рукав и прямая юбка до середины колена, из украшений – только серебряные серьги с горным хрусталем, – прекрасно вписывается в последующий бизнес-ланч. Видимо, и остальным его планам мой наряд тоже вполне соответствует.
И я опять забыла надеть обручальное кольцо!
Сосновский говорит первым:
– Маргарита, введу вас в курс дела. Проект, который мы сейчас обсуждаем, ориентирован преимущественно на женскую аудиторию. Называется он «Не учите меня жить!», хотя как раз этим мы с вами и будем, надеюсь, заниматься. Родился он в Германии, и аналогов ему в мире очень много. Популярное ток-шоу… Его основная «фишка» – игровые многовариантные реконструкции житейских ситуаций и интерактивное голосование зрителей. То есть та или иная ситуация проигрывается несколько раз, и зрители воочию убеждаются кто прав, кто виноват, что можно изменить, что изменить уже невозможно… В общем, большие и малые женские проблемы обсуждаем всем миром: улаживаем конфликты, мирим невесток со свекровями, воспитываем детей, выдаем замуж, разводимся, остаемся вдовами… Попутно, естественно, хвастаемся нарядами, делимся рецептами и так далее. И вот еще пикантная деталь: ведущая – не третейский судья, не адвокат и не истина в последней инстанции, она как бы подруга всем присутствующим в зале дамам и героиням передачи. Причем, подруга, как она есть: может быть ироничной и даже насмешливой по отношению к ним, ее мнение может категорически не совпадать с мнением присутствующих, она может провоцировать споры, а иногда и просто сталкивать лбами противников. Поведение ведущей – почти всегда импровизация, и ее право быть непоследовательной и даже необъективной, нравиться или не нравиться кому-бы то ни было, зрителям в том числе. Не стоит бояться того, что зрители это не одобрят! Практика показывает, что такой оригинальный имидж ведущего – бóльшая заманка, чем улыбающаяся и со всем согласная милашка. Маргарита, я не вас сейчас имею в виду. Но зрителю порой приятнее чувствовать себя умнее и справедливее человека в студии.
Выслушиваю всю эту тираду и вдруг четко понимаю: сейчас я скажу «нет». Ладно, не сейчас, а через час, наедине с шефом, но я все-таки твердо скажу «нет». А пока осторожно произношу негромким голосом:
– Очень похоже на ток-шоу Малахаева «Не надо „ля-ля“».
Господа партнеры, не сговариваясь, начинают быстро отрицательно качать головами, а старший берет слово:
– Нет, разница принципиальная. Цель Малахаева – скандал, скандал и еще раз скандал. Чем больше шума – тем выше рейтинг. Наша ведущая, несмотря на то что она девушка «с перчиком», ищет и все-таки находит компромиссные решения в самых безвыходных, казалось бы, ситуациях…
Кривовато пожимаю плечами, всей фигурой выражая сомнение. Вообще-то я себя стервой не считаю, и даже будучи по первой профессии актрисой, «стервочку с перчиком» изображать не хочу. И не хочу никого стравливать в эфире, и подтрунивать – на всю страну! – ни над кем не хочу. Я считаю, что люди, в большинстве своем, не заслуживают к себе такого отношения, и цель помирить, примирить, поженить – не оправдывает средства. Мне так кажется. Тот же Малахаев исхитряется вытащить на свет божий человеческие слабости и пороки отнюдь не с целью их изжить, истребить на корню тут же, в студии. Да нет, не для этого… Так уж, разве что разлечься с экстримом: провести экскурс в темные глубины человеческой натуры, попугаться или посмеяться вместе с почтеннейшей публикой…
Нет. Я не буду этого делать.
Но это все мои размышления. А у присутствующих джентльменов, похоже, нет никаких сомнений, что я всей душой с ними и уже примеряю на себя этот «пикантный» образ. Младший из партнеров (между прочим, галстучек у него настоящий Fendi) добавляет:
– В оригинальном проекте немецкая ведущая работала на контрасте. Она голубоглазая блондинка, этакий ангелочек, но язычок у нее – не дай Бог, она до слез иногда доводила своих героев. Рейтинги зашкаливали! Она потом стала «лицом» одной всемирно известной компании, производящей острые соусы, кетчупы и приправы, заслужила репутацию, так сказать… У вас тоже замечательная внешность.
Я машинально улыбаюсь в ответ на комплимент, он продолжает что-то говорить про «кошечек с железными коготками».
И вот тут я начинаю что-то понимать. Кошечки, говорите… Ангелочки… Смотрю на Сосновского, а он преувеличенно внимательно слушает правообладателя. Ничего, подожду, пока его ясный взор обратится ко мне, уж очень хочется взглянуть в глаза любимому человеку. Так, значит, НАША голубоглазая блондинка с острым язычком уже отказалась от участия в этом шоу «Малахаев в юбке», после чего высокая честь была предложена мне.
Спасибо, милый. И твой бизнес-ланч, равно как и забойное ток-шоу, тоже состоится без меня. В самом деле – «Не учите меня жить!»
… Сидим за столиком в «Аргонавтах» молча. То есть мужчины негромко обсуждают новости последнего кинорынка, а я со сдержанным аппетитом ем отличный шопский салат. «Аргонавты» – единственное место в нашем городе, где брынзу в него кладут овечью, а не коровью. Вот я и кушаю. Меня, собственно, никто ни о чем и не спрашивает. Сижу, украшаю стол, разбавляю мужскую компанию и время от времени вздрагиваю, когда Сергей, сидящий напротив, смотрит на меня. В его взгляде постепенно все четче проявляется то снайперское выражение, которое неизменно волнует меня все это время. Наверное, так должен смотреть охотник или… киллер, изучающий «повадки и прыжки» своей потенциальной жертвы, потому что, когда дойдет до настоящего дела, любой ее жалкий рывок в сторону будет предвосхищен. Попытки к бегству бесполезны, и все задуманное свершится.
Глава 11 Информация к размышлению
…Да, да, да!
Ну конечно, все свершилось. И я лежу рядом с ним, обезоруженная, побежденная, вознесенная, а потом долго-долго падавшая с небес на землю, задыхаясь, беспомощно цепляясь за облака… Слезы – очень близко.
Мое бренное тело еще переживает ослепительные мгновения, и чувственные сполохи бегают от губ до кончиков пальцев, как огоньки на новогодней гирлянде. Синие… Красные… Зеленые… Не хочется открывать глаза, не хочется двигаться: боюсь, что эта светомузыка сразу закончится.
Он целует меня в раскрытую ладонь и уходит в душ. А я сжимаю ладошку: пусть поцелуй останется внутри – ненадолго… Подожди… Нет, уходи…
Пока он приводит себя в порядок, я приведу в порядок мысли – не дело обсуждать производственные вопросы в постели. Вот сейчас выйдем, сядем в его машину и…
Нет, вернемся в телецентр, подойдем к лифту и я…
Лучше так: я выйду из лифта на своем этаже, повернусь к нему помахать на прощание ладошкой и скажу…
Сергей входит в комнату, садится на край нашего грешного ложа, застегивая на запястье часы – он носит консервативные «Rado». Это вообще его стиль: спокойная классика, уместная во всем и всегда. Галстучек от Fendi за штуку баксов Сосновский не нацепит никогда – у него другие статусные вещи.
– Вижу, тебе не хочется участвовать в этом шоу, да?
Я сажусь, подтягиваю колени к подбородку, группируюсь, одним словом.
– Да, не хочется.
Он как-то не особенно огорченно кивает. Не удивлен! Он знал, что я откажусь уже утром, когда был разговор в его кабинете. Еще бы: по-моему, он меня изучил до такой степени, что нам и разговаривать не очень нужно. И все-таки спрашивает:
– А почему?
Мне больше не надо собираться с мыслями, я уже все обдумала. И финтить тоже не буду: это, в конце концов, просто бессмысленно. Как там моей знаменитой тезке советовали: «Никогда ничего не проси, особенно у тех, кто сильнее тебя. Сами предложат…» Надо перечитать при случае, пригодится.
Мне уже предложили. Но не то, что мне нужно, категорически не то! Но и просить взамен «не того» ничего не буду, а вот отказаться от предложенного – мое право.
– Сережа, немножко глупо сидеть вот тут перед тобой, в чем мать родила, и объяснять, в чем суть моего профессионального кредо, а? – вдруг раздражаюсь я и тянусь за халатом. Это его халат – в белую и синюю бархатные полосы. Он мне очень к лицу, я знаю. Надеваю и резким самурайским движением туго затягиваю на талии широкий пояс. – Сейчас я тебе изложу свою творческую позицию, вот только трусики натяну, лифчик застегну и приступлю сразу же.
Он улыбается, с видимым удовольствием глядя на меня, такую злую. Наверное, думает: «не сильно же я ошибался, предлагая тебе это стервозное шоу…», притягивает к себе, усаживает на колени. Одно легкое движение – и вот уже я сижу, кукла куклой, в его объятиях! От его невозмутимости мне делается плохо, хочется нарушить этот чертов порядок вещей, в котором он – хозяин положения, а я вольна лишь идти на поводу!
Ярость придает мне силы – и я опрокидываю его обратно на постель, и прижимаю обе его руки к матрасу, сдавив своими цепкими ручонками его сильные запястья, наваливаюсь сверху всей своей небольшой тяжестью и… целую его так, как он целует меня: неумолимо ломая сопротивление и упиваясь своей победой, временной, но победой!
…Когда мы подходим к его машине, я говорю, закрепляя свой недолгий триумф:
– И машину поведу сама.
Он улыбается, пряча искрящиеся глаза:
– Конечно, ты. Конечно, сама.
Еду, глядя прямо перед собой, как Максим Максимович Исаев, который возвращается в Берлин.
Мы едем на телецентр. Из образа Штирлица выйти трудно: информации к размышлению – хоть отбавляй… Юстас хочет кое-что обсудить с Алексом, но… боится. Все-таки Центр!
Да, мне очень хочется развеять свои подозрения, а может быть, убедиться в своей правоте. Предлагал ли он Алисе ведение этого «гвоздя» сезона? И если она отказалась, то как объяснила свой отказ?
Мне многое хочется с ним обсудить. Самое главное: даст ли он мне шанс попробовать свои силы в собственном проекте, в моей авторской программе, у которой еще нет ни названия, ни концепции, ни, тем более, финансового обоснования? Ничего нет, кроме меня и моей мечты.
Глушу мотор. Мы сидим молча. Надо идти…
Сергей вздыхает. Еще пара минут, и он снова станет Сергеем Александровичем. Но пока метаморфоза не случилась, он поворачивается ко мне и говорит негромко:
– Я люблю тебя.
Я не первый раз слышу от него эти слова, но, видит Бог, сейчас они звучат как-то особенно. Смотрю на него выжидательно:
– Нет, это я тебя люблю.
Он качает головой:
– Я, я люблю тебя. Я тебя обожаю. И пока не знаю, что мне с этим делать.
Вот это да! А с этим нужно что-то делать? Наверное, нужно, но что?
– Все, пошли, – берет у меня из рук ключи и выходит из машины. Иду следом, как привязанная. Он открывает мне дверь, мы входим в вестибюль, и ровный шум работающего телецентра втягивает нас внутрь. Мы – на работе, мы – дома…
Глава 12 «Рыбачка Соня как-то в мае…»
За что себя похвалю: где-то за дней пять до «Золотой Телевышки» я… забыла про нее. То есть не то чтобы впала в амнезию, а просто перестала думать об этом этапном событии в моей профессиональной жизни, некогда было!
После того, как мы выяснили с Сосновским, что ток-шоу «Не учите меня жить!» мне лично не подходит по определению, Сергей Александрович сделал вывод, что оно не подходит и нашему каналу тоже. К выводу этому он пришел не единолично, в этом ему помог художественный совет, наш «великий хурал», в который, кстати, входит и Алиса. Но очередность, несомненно, была следующая: сначала решил он, потом – худсовет, хотя в него входят не менее серьезные и уважаемые люди. Я просто знаю, что Сосновский может быть очень убедителен, когда этого хочет. Все это знают.
Повлиял ли на это решение мой резкий отказ? Или мои «веские» аргументы? Не знаю, не уверена. Лицензионный проект, как правило, дорогой, «рекламоемкий» продукт, женские капризы тут определяющего значения иметь не могут. Но, может быть, сработало то, что и Алиса не восприняла эту задумку с должным энтузиазмом? Она ведь тоже не первую собаку доедает на телике, и какую-то изначальную, запрограммированную ущербность этого действа поняла сразу. Только я «изогнула спину», как кошка на воду, а Алиса, вероятно, как-то серьезно обосновала свое несогласие. На провокационные вопросы по поводу Алисиного отказа от участия в «Не учите…» Сергей так и не ответил, просто сказал, что она на худсовете озвучила примерно те же претензии к проекту, что и я. Ну, может быть, в более мягкой форме, что вообще характерно для Алисы и совсем не характерно для меня. Последнее замечание – это не мое личное наблюдение, а вердикт моего любимого шефа. Ладно, закрыли тему.
Одну закрыли, другую надо открывать…
С прошлой пятницы мы с Ольгой Васильевной начали работать над концепцией моей авторской программы, и постепенно она стала выстраиваться, но все еще выглядела как кучка пестрых паззлов рядом с маленьким фрагментом сложенной картинки. Исходные данные были не так уж фундаментальны, а именно: мое желание уйти в «автономное плавание» и то, что я уже способна на этот поступок.
Мой личный и творческий кризис в учет, слава Богу, не брались. Мои непонятки в семейной жизни, естественно, тоже. Завышенная самооценка и гипертрофированное самолюбие, как две из тысячи причин всего вышеперечисленного, в принципе не обсуждались. Спасибо Ольге Васильевне, что она, с ее рациональным умом, оставила за бортом (раз уж мы «поплывем» куда-то вместе…) все, что прямо к делу не относится. И поставила во главу угла одно-единственное мое профессиональное качество, которое для нее сомнений не вызывало никогда: интеллигентную доброжелательность. И еще кое-что, что уж и вовсе «к делу не пришьешь»: мое личное обаяние. Это ее формулировки, сама-то я считаю, что все еще проще: в эфире я настоящая, и поэтому со мной охотно разговаривают, обсуждают проблемы, жалуются на жизнь, делятся радостью самые разные, такие же настоящие люди.
Странно: случайная фраза мне самой объяснила нечто ускользающее… В эфире я настоящая. Это не значит, что в других местах я притворяюсь. Хотя… да, так я далеко зайду. Что-то мне господин психолог Олег Витальевич намекал про излишнее самокопание: не надо, мол, вредно…
И все же! Проведя под прицелом зорких телекамер полтора десятка лет, я уяснила главное: им видно все, что ты хочешь скрыть. Поэтому ищи в себе лучшее, когда зажигается красная лампочка рядом с объективом, и это лучшее неси людям. Остальное, по возможности, оставь за кадром.
Долго мучились с названием, даже немножко покричали друг на друга. Ольга Васильевна настаивала, что в названии нужно заявить мою, как она выразилась, «сердечность», и без конца варьировала разные кардиологические термины. Я убеждала ее, что эти названия медицинские, больничные, а потому болезненные, они мгновенно вызывают внутреннее отторжение. А уж пищу для комментариев дают всем желающим острословам – хоть сто порций! Я ли не знаю, как наши зубастые телевизионщики, пародисты доморощенные, переиначивают названия даже самых популярных программ! Мою, если она состоится, тоже ждут суровые испытания дружеской критикой, надо быть к этому готовой: такова жизнь! Но подставляться заранее не хочется. Все эти, предложенные Ольгой, «кардиограммы» и «кардиологии» тут же превратятся на устах моих коллег в «инфаркты», «миокарды», «патологии», «эпикризы» и т. д., и т. п. Кончится все «клиникой»…
Потом Ольгу Васильевну унесло бурным течением мысли в другую сторону, и она решила в названии подчеркнуть мое «позитивное обаяние». Вот ее варианты: «Солнечный зайчик» (это я зайчик?!), «Позитив ТВ», «Коктейль „Маргарита“»… Она, конечно, оправдывалась, что все это – так называемая «рыба», что она просто «разминает мозги». Ну и я в стороне от разминки не стояла. По поводу «Зайчика» скромно поинтересовалась, а не волки ли явятся ко мне в студию? Не в костюмчике ли от «Плейбоя» следует мне их встречать? Так и вижу себя в белых ушках и шортиках с хвостиком – ну зайчик же, без малого сорока лет!
Про «Позитив» напомнила, что в Питере давным-давно трудится целая компания с этим названием, как насчет наглого нарушения авторских прав? А уж намеки на гламурное питье меня просто развеселили: «А почему не „Брудершафт с Маргаритой“? Или „На посошок“?» И где-то в пылу полемики я произнесла, как всегда, не придавая особого значения словам: «Я ведь женщина!..»
И вот тут бдительная Ольга Васильевна подняла бровь. А потом изрекла: «Да, ты женщина, и поэтому можешь быть… разной. Ты многого не знаешь, хочешь разобраться… Ты любопытна, простодушна, кокетлива, сентиментальна, расчетлива…»
«Сто-оп, Ольга Васильевна. Это вы сейчас к чему говорите?» – спросила я, хотя через секунду уже поняла, к чему. Вот так сумбурно и родилась концепция моей авторской программы. Мы назвали ее: «Я – женщина».
И сегодня я иду к Ольге, чтобы прикидывать «пилотку» – первый выпуск, который (сначала в виде сценария) мы заявим для обсуждения на худсовет.
Вот у Ольги Васильевны входная дверь легкая, как парус, не то, что у Сосновского в его имперском кабинете. Надо ему сказать при случае: люди, которые тянут на себя его «оборонительное заграждение», совершают ненужные усилия и чувствуют сопротивление, которого, может, и не последует от самого хозяина кабинета. А к Ольге идут с идеями и предложениями в приветливо распахивающиеся двери, почти как в распростертые объятия!
Она встречает меня улыбкой и жестом приглашает садиться. Сама разговаривает по телефону. Я сажусь и оглядываюсь по сторонам, пока она терпеливо разъясняет кому-то порядок оформления заявки: видно, не одну меня мучают творческие потуги.
Кабинет ее мне знаком до мелочей. На стене за ее спиной в разновеликих рамочках – фото звезд, с которыми она дружила, работала, просто встречалась однажды. Но сегодня мой взгляд цепляет, наверное, самая старая фотография, висящая в Ольгиной «галерее Славы».
На групповом фото я смутно различаю знакомые лица: вот это Сосновский, чуть левее – Ольга, рядом с ней – один наш ныне маститый телеоператор, в ту пору, вероятнее всего, никому не известный ассистент, еще знакомые и полузнакомые люди… Ольга продолжает говорить по телефону, то есть теперь она, кивая, выслушивает какую-то взволнованную тираду, а я подхожу поближе.
Какие они все красивые на этом старом черно-белом фото. Оно, судя по всему, увеличено с меньшего формата, и от увеличения по изображению пошла «зернь» – растр, но это сделало его только выразительней, придало ностальгический шарм, как изломы и сепия – пожелтелость на карточках в семейном альбоме.
Сейчас Сергей уже почти весь седой. У него красивая, что называется, благородная седина, которая совсем не старит, еще и подчеркивает яркую синеву глаз и загар, который с него круглый год не сходит… Но на фото над высоким лбом темнеет густая и, по-моему, не очень тщательно причесанная грива: у него, в самом деле, похожее на львиную гриву обрамление лба. Он в каком-то свободном джемпере, под которым рубашка с расстегнутым воротом, без галстука, улыбается своей опасной белозубой улыбкой… У меня начинает чаще биться сердце, а к горлу подкатывает комок. А где была я, когда он, такой молодой и красивый (ему ведь тут еще нет и тридцати) позировал на новом телецентре для истории? Калькулятор в мозгу щелкает быстро… так, я училась в школе, в городе Молодечно, классе в девятом, наверное.
Рядом с ним стоит юная красавица с распущенными по плечам светлыми волосами. Она, вероятно, недавно вышла из кадра: наметанным глазом я узнаю, что это профессиональный грим – густоваты накрашенные ресницы, тени на веках темные, уходящие к вискам, по моде того времени. Сосновский обнимает ее за плечи, она чуть наклонила к нему голову, как будто хочет быть ближе.
Девушка прекрасна.
– Узнаешь? – голос Ольги возвращает меня к действительности. – Алиса.
Я буквально вытаращиваюсь, силясь сопоставить этот волшебный образ с коротко стриженой, худенькой и подвижной, как мальчик, Алисой.
– Я думала, это его жена, – выговариваю, наконец.
– Нет, его жена – радистка, она и сейчас на радио «Свет столицы» работает, – говорит Ольга, и я даже не пытаюсь как-то скрыть свой безумный интерес к этому фото, к Сосновскому, к Алисе. Интересно, знает Ольга Васильевна о наших с Сергеем отношениях? Нет, даже не интересно: конечно, знает. У нас все всё про всех знают.
То, как он непринужденно обнимает за плечи Алису, в общем, ни о чем не говорит. Я знаю, что они учились на одном потоке и их связывают давние дружеские отношения. Насколько дружеские? У Ольги, которая училась как раз вместе с Алисой, об этом я спрашивать, разумеется, не буду, а у него спрашивала, и не раз, но он спокойно и твердо пресекает эту тему на корню.
Я уверена: они любили друг друга. Ну как им было не влюбиться? Сияющая красота Алисы пробивается даже на этом тусклом фото – сквозь черно-белую зернь, сквозь время. А он так хорош, что у меня, стоящей на безопасном (длиной в двадцать лет!) расстоянии, все равно подкашиваются коленки.
– Рита, ты уже решила, кого будешь приглашать в «пилотку»? – и по тому, что она называет меня по имени, я понимаю, что Ольга повторяет свой вопрос – первый раз я его не услышала. Замечталась…
– Хотела посоветоваться с вами. Честно говоря, мне хочется в этой передаче чаще общаться с мужчинами. Целевая аудитория, понятное дело, женщины, но собеседников-мужчин должно быть больше. И первый, конечно, обязательно будет мужчина.
Ольга раздумывает недолго, кивает:
– Да, согласна. Феминистки нас за это осудили бы, ну и черт с ними. Ты – женщина, мир мужчин тебе не всегда понятен, но интересен, вот и установим этот телемост с мужским миром.
Это не значит, что мне не интересны женщины. Как это мне могут быть безразличны «сестры мои»? Чем бы мы ни занимались в этой жизни, есть «обязанности», равные для всех: любить, рожать, страдать, прощать… И выбора нет. Вернее, мы можем выбрать только тех, кого будем любить, от кого будем рожать, из-за кого страдать, кого прощать… И каждая, даже самая руководящая дама, самая выдающаяся прима-балерина, наедине с собой свой список заслуг, побед или поражений начнет мыслью о том, что она – женщина.
Мне кажется, или это правда: мужчины заявляют о своей принадлежности к сильному полу гораздо реже, чаще всего – в каких-то экстремальных случаях. Примерно так: «Я же мужчина, в конце концов!»
– Думай, думай. Давай прикинем заставку и приветствие. Они должны быть выдержаны в одном ключе – это твоя «визитка».
Звонок Оксаны звучит не очень кстати, но не ответить я не могу. Извиняюсь перед Ольгой и выхожу из кабинета. Оксанин голос мне категорически не нравится: очень уж спокоен, жизни в нем совсем нет, только усталость:
– Заедь сегодня, платье готово.
– Хорошо, я прямо после работы заеду, ближе к семи. Ты не против?
– После работы я совершенно свободна.
Да, конечно… Слава Богу, наступили каникулы. Моя Катька и мама с энтузиазмом, которому я завидую по-страшному, собираются на отдых в Болгарию, а Оксана уже отправила сына в пионерский лагерь. Ее Сергей, судя по всему, дома уже не живет.
После той нашей встречи мы не виделись с Ксаной. Я знала, что она творит мне наряд, но примерки нам давно не нужны: у нее целый архив выкроек на мою фигуру, и вкусу ее я доверяю полностью. А других поводов встретиться… я малодушно не искала. Ведь я не «исправилась»: по-прежнему встречаюсь с чужим мужем, по-прежнему – чужая жена.
Как мне хотелось бы вывалить на Оксану все мои переживания, пригласить ее в мой… мир иллюзий. Может быть, она и не посоветовала бы мне ничего дельного, но и такой одинокой бы себя не чувствовала. Да, я «чужую беду руками» не разведу, но пусть она хоть выговорится со мной, хоть выплачется…
Не разведу я чужую беду. Правда, и… разводить никого не собираюсь, и сама разводиться не хочу. Хотя одного моего желания, естественно, недостаточно, а повернуться может по-всякому. Можно подумать, Оксанка ожидала, что ее налаженная семейная жизнь вдруг рухнет в одночасье.
Но она-то этого исхода точно не заслужила, чего, положа руку на сердце, не скажешь обо мне.
Когда Наталья просвещала меня по поводу «лебединой песни» Сосновского, у нее проскочило такое выражение: «Не ты первая открыла эту дверь». Верно, не я.
И до меня в эту «дверь» стучались, входили, выходили, плакали перед ней и громко хлопали ею разнообразные другие. Ах, нам всем так хочется быть для кого-то единственными!
Вот только жизнь не балует, и совершенства в ней все еще недостает. И потому жена у Сергея Александровича – не единственная, и у меня, наверняка, двузначный порядковый номер, и Оксана теперь будет фигурировать в биографии своего мужа как первая жена, а та, другая, собирающаяся ныне под венец, автоматически становится второй…
Поговорю-ка я об этом как-нибудь в эфире. Начистоту. И начну свою передачу словами: «Я – женщина…»
Я уже ухожу от Ольги, когда мне в голову приходит авантюрная идея:
– Ольга Васильевна, в первый эфир я приглашу Сосновского.
Ольга смотрит на меня с легким удивлением:
– Почему его?
Примем как «дано», что наши отношения с шефом для нее не секрет:
– Он интересный собеседник. Мне есть с ним что обсудить.
Ольга пожимает плечами:
– Ты все же аргументируй.
Легкая внутренняя дрожь пробегает в груди, как предчувствие…
– Он возглавляет коллектив, в котором очень много женщин. Женщина и телевидение – это неисчерпаемая тема, только зацепи… Ракурсов – не сосчитать: адресность, выбор контента, женские профессии на телике, в кадре и за кадром… я его раскручу!
Ольга задумчиво кивает:
– Ну давай, забросим удочку. Конечно, он тебе не откажет.
Я в этом, кстати, не так уверена, как Ольга. Этот и «наживку» запросто выплюнет, и удочку поломает. Но попробовать стоит… Я подмигиваю Ольге и тихонько напеваю:
– «Рыбачка Соня как-то в мае, направив к берегу баркас, сказала Косте: „Все вас знают, а я так вижу в первый раз…“»
Глава 13 Крылья ангела
Платье лежит на большой двуспальной кровати, раскинув рукава, как белоснежные крылья. Струящаяся юбка тоже разложена так, как будет смотреться в движении.
Оксана безупречна даже в мелочах. Я тоже уделяю мелочам большое внимание: ничего не могу с собой поделать.
От волшебства, лежащего на покрывале, меня отвлекает посторонняя мысль о том, что Оксана, наверное, не спит сейчас на этой широкой кровати. Не знаю, почему я так думаю, но, кажется, не ошибаюсь.
– Ну, что ты молчишь, – спрашивает Оксана, – нравится?
– Безумно! Можно, примерю? – я начинаю раздеваться, а Оксана приподнимает воздушный наряд, чтобы мне было удобнее его надеть.
Она застегивает молнию сзади (тоненькая «змейка» исчезает в шве, будто ее и не было), а я осторожно поворачиваюсь к зеркалу…
Платье делает меня выше и стройнее: антрацитовая юбка, поднимаясь к талии, постепенно теряет свой угольный блеск, на уровне ребер ткань становится серой, а вот рукава и плечи ослепляют белизной. Этот белый цвет работает как подсветка у профессиональных фотографов: лицо высвечивается снизу, глаза становятся яснее, а лицо – одухотвореннее. Меня так однажды снимали для одного глянцевого журнала. У парня-фотографа не было в полевых условиях (съемка шла в парке) специального экрана, но у профессионалов всегда находится выход из положения. В общем, его ассистент снял с себя белую майку, растянул ее передо мной на руках и направил на лицо отраженный свет. Таких сияющих глаз, как на том фото, у меня, по-моему, никогда в жизни не было!
Я оборачиваюсь к Оксане, обнимаю ее:
– Ксанка, я тебя люблю. Даже мечтать не могла о таком. Я в нем супер, правда?
Оксана тоже довольна, я это вижу. Конечно, одно дело шить вещь и только представлять, как она будет выглядеть, и другое – «оживить» ее, надеть.
Я делаю несколько шагов вперед, назад на цыпочках – туфли я сняла в прихожей. Платье держит в объятьях – другого слова не подберу.
Оксана, наклонив голову, смотрит на меня и задумчиво спрашивает:
– А может, академики решат, что ты все-таки лучшая? Я недолго раздумываю над ответом:
– Нет, не решат. И знаешь, извини меня, что я тебя всякой ерундой грузила… ну, в смысле, плакалась тебе, жаловалась. Ерунда все… На этом вечере я буду самая красивая, ну и хватит с меня. Что толку обижаться? На обиженных что-то куда-то возят. Хочу заявиться с новым проектом, готовлю пилотную программу на худсовет. Послезавтра камеру дают, и студию я уже заказала.
Оксана смотрит на меня с улыбкой. Замечательная у нее улыбка, теплая-теплая:
– Молодец. Про что проект?
Кажется, оттаивает моя подруга помаленьку…
– Да про нас, грешных! Рабочее название: «Я – женщина». Начинать и заканчивать буду словами: «Я – женщина», – а в промежутке буду разговаривать с мужчинами и женщинами обо всем, что меня в тот момент будет интересовать.
Оксанке, вижу, становится интересно:
– Ты платье снимай, и пойдем кофе пить. Расскажи еще.
Рассказывать еще, по большому счету, нечего. Но если ей, в самом деле, интересно, попробую объяснить, а заодно и сверюсь с моей потенциальной «целевой» аудиторией. Ксанка, кстати, всегда меня смотрит по утрам.
Жизнь наша такова, что, живя почти рядом, мы нечасто встречаемся. А по телевизору можем «видеться» каждые два дня: в нашей утренней программе такой график.
Я еще раз любуюсь собой в зеркале, потом снимаю платье: оно и невесомое, и немнущееся, замечательно. В нем я буду чувствовать себя спокойно и уверенно, уж очень оно мне к лицу. И когда камера, по традиции, будет останавливаться на взволнованных лицах всех номинантов, по очереди, пока не прозвучит имя победителя, мое будет светиться, как будто изнутри… Да, великая вещь – элегантность. У нас, женщин, не так уж много оружия в арсенале: помада, каблучки, духи. Но все это наносит «точечные удары» по превосходящим силам противника. А вот это шуршащее произведение портновского искусства – просто артиллерийская установка «Град» по своей сногсшибательной силе! Кофе у Оксаны такой же вкусный, как и все, что она делает своими руками. Я делаю глоток, закуриваю:
– В общем, приглашаю в студию героя, представляю его. На экране – нарезка фрагментов его жизни: фото, репортажики с рабочего места: хроника, если спортсмен, кино, если артист, и так далее… Потом начинаем разговор. Принцип такой: я – женщина, любопытная по природе, увлекающаяся. Мне интересно, а значит, будет интересно еще многим женщинам у телевизоров. Передача будет идти в записи, поэтому мне будет чем «оживить» картинку. И я постараюсь, чтобы это было… в самом деле живо, как в жизни. Иногда – печально, иногда – смешно, иногда – серьезно. Никогда – одинаково! Сколько людей – столько историй, столько сюжетов. Как думаешь, получится?
Оксана кивает с улыбкой:
– Получится. По себе знаю: тебе можно рассказать все, потому что ты умеешь слушать. Я даже не знаю… может, у тебя выражение лица какое-то особенное? Я рассказываю, а ты как будто проживаешь со мной: и улыбаешься вовремя, и глаза отводишь, когда мне это нужно. Правда, правда. Может, ты просто хороший человек?
И вдруг, без всякого перехода, начинает плакать.
Я вздыхаю и отворачиваюсь к окну. Пусть поплачет, нет у нас другого способа преодолеть боль и облегчить сердце. После слез и дышится легче, и глаза как будто становятся зорче.
А что касается «хорошего» человека… Ну, наверное, я не самый плохой человек, вот только мужу, тоже хорошему человеку, почему-то изменяю. Заочно отравляю жизнь незнакомой мне женщине, с мужем которой изменяю… своему хорошему человеку. Злюсь и обижаюсь на Алису, которая тоже, в принципе, не монстр. Ревную любимого человека ко всем на свете, ни минуты не задумываясь, имею ли на это право…
Изменить эти обстоятельства я пока не готова. Все «остаются на местах», все остается так, как есть. Но, может быть, мне попробовать хоть немного изменить себя, а все остальное расставит по местам время? «Я – женщина» – это моя первая попытка.
Оксана уже не плачет, достает из кухонного шкафчика бумажную салфетку, вытирает слезы.
– Знаешь, я вот все думаю, анализирую, пытаюсь понять: в чем я ошиблась? В том, что мужа любила? Доверяла ему больше, чем себе? Дура, значит? Помню, читала где-то: «Доброта – не глупость, а подлость – не ум». Если я перестала нравиться своему мужу, будь я хоть семи пядей во лбу…
Слушаю подругу молча. Не знаю, какое у меня выражение лица сейчас, возможно, виноватое, потому что мне хочется оправдаться перед ней, да и перед собой заодно.
Пока я раздумываю, как это сделать, Ксанка окончательно взяла себя в руки, настолько, что может задать вполне бытовой вопрос:
– Ты куда в отпуск собираешься?
И я смеюсь в ответ – очень искренне, потому что на этот вопрос мне ответить легко:
– Миша хочет отдохнуть в горах, зовет на Джомолунгму. Шутит, конечно…
Ксанка пожимает плечами:
– Почему шутит? Есть такие туры, а ты сама куда хочешь?
… А я хочу на край света. И не в отпуск, а навсегда. И не с Мишей, а с Сосновским. И что я могу с этим поделать?
Глава 14 Сказки Пушкина
Минута молчания затянулась. Я стою перед Сосновским, оперевшись для верности руками в его стол, и жду. Хочется направить на него пульт дистанционного управления от телика и понажимать на кнопки, чтобы звук быстрее появился. Пульта нет. И звука нет.
Наконец он поднимает на меня свои соколиные очи и говорит:
– Рита, сядь. В ногах правды нет. Сядь, ты меня отвлекаешь.
Хочется что-то дерзкое ответить, но не в моих интересах сейчас дерзить. Сажусь на стул, но руки кладу не на коленки, а на стол перед собой, и в точности повторяю его позу: вытягиваю их вперед и сцепляю в замок.
Мы думаем. Вернее, «Чапай думает», а я так, погулять вышла.
Конечно, я раздражена. И ведь заранее понимала: чудес не бывает, он не согласится просто так: «Да, Рита, конечно, приду, прибегу быстрее тебя и буду тебе как на духу отвечать на все твои дурацкие вопросы…» Догадывалась, что будет сопротивляться. Надеялась, что сумею это сопротивление преодолеть, не прибегая, по возможности, к обычным женским штучкам. Нет, штучки здесь не пройдут, сейчас решается мое профессиональное будущее. Да мне и не нужны его скидки и поблажки. А вот помощь нужна, его участие в моей передаче – это и есть его дружеская, я бы даже сказала, товарищеская помощь.
Ну, что-то похожее я в течение получаса уже пыталась ему втолковать. Говорила много и, кажется, убедительно. Он внимательно слушал, и вот замер, завис.
Наконец тяжело вздыхает и глаголет:
– Я бы хотел посмотреть твою первую передачу со стороны, «изнутри» это сделать сложнее. Это, во-первых. Во-вторых, я не совсем понимаю, к чему такая спешка. К новому сезону ты отлично успеваешь, даже если «пилотку» подготовишь в июле, например. За это время выберешь героя, соберешь материал, окончательно определишься с форматом. Нащупаешь, в руках подержишь все, что сейчас только воображаешь. Скоропалительность эта твоя меня настораживает. Опять же, меня приглашаешь в качестве первой жертвы…
Я перебиваю Сергея Александровича:
– Ну что ты такое говоришь! Какая жертва? Ты не забыл, я не захотела вести «Не учите меня жить!» Это там были бы жертвы. Я ведь объяснила, почему именно ты мне нужен. Я просто прошу меня поддержать! Получится первая передача, и все поймут, что и следующие я тоже сделаю. Получится с тобой, значит, с другими будет легче. У тебя авторитет, ты «зубр», академик…
Теперь он вскидывается:
– Тогда почему ты не подготовила и не принесла мне вопросы? У тебя на завтра «шестисотка» выписана, а ты ко мне приходишь сегодня и приглашаешь, как на свидание. Экспромт!
Просто удивительно, но запретную тему мы обходим легко, даже не цепляясь за слово свидание.
– Сергей, почему я тебе должна готовить вопросы, когда другим никаких вопросов готовить не буду? Фишка этой передачи именно в экспромте! Живой разговор! Я уже наговорилась «по бумажке», понимаешь? «Где и когда вы родились? Прекрасная погода, не правда ли?…» Если у меня получится, это будет интересно. Помоги мне самой в этом убедиться!
Господи, неужели он так же нервничал, когда предлагал мне это клятое «Не учите меня жить!» Если да, что ж…
тогда он умеет держать себя в руках, а я нет. Ладно, пусть так, зато я умею брать себя в руки, когда надо:
– Сережа, это же не прямой эфир. То, что мы наговорим, и я потом смонтирую, увидят даже не зрители. Вернее, сначала – не зрители, сначала – худсовет. Они же, вы, точнее, все будете решать, что с этим делать.
Еще один тяжелый вздох.
– Рита, ты напоминаешь мне героиню пушкинской сказки.
Я уже перепсиховала, мне хочется смеяться:
– Ну, и какой же?
– Той, что не захотела стать владычицей морскою, а заказала суши из золотой рыбки.
Обидеться, что ли? Ладно, не буду. Встаю, подхожу к нему, обеими руками глажу его седую львиную гриву, прижимаю эту голову к груди… Ну, слава Богу, обнял, кажется, не поссоримся.
– Неужели ты думаешь, я тебя подведу? Неужели допущу, чтобы кто-то сказал, что Сосновский дал своей дуре-любовнице передачку, чтобы она потешила свое больное самолюбие? Разве это на меня похоже?
Молчит, только нежнее прижимает меня к себе. Время идет, я здесь уже долго. Надо что-то решать. Решает… и разжимает объятия:
– Ладно, уговорила. Во сколько?
Я лезу к нему с поцелуями, но он отвечает на них только из вежливости:
– Все, все, Рита. Я почему-то расстроен и измотан, а мне еще работать. Во сколько запись?
– В десять сорок пять.
Он кивает и прикрывает лоб и глаза ладонью. Иду к двери. Скажи что-нибудь вслед… Оглядываюсь еще раз, с надеждой, но он набирает номер на мобильнике. Все, аудиенция закончена.
* * *
Катька у бабушки, и дома очень тихо. Миша, по обыкновению, придет домой только ночевать: у него, как всегда, много работы, и совсем немного семьи. Ну и хорошо, вот и отдохну, завтра – трудный день…
Набираю в ванну воды и ищу книжку, которую не жалко взять с собой почитать, лежа в пенке. Книжка находится не сразу, вот она: Гай Мраков, «Никогда не ум. RU». Детектив, написанный с мрачнейшим черным юмором, то, что мне надо сегодня. Сюжет лихой и забавный: гениального хакера, который легко взламывает сложнейшие базы данных и «заметает следы», запуская неуничтожимый вирус, ловит талантливый частный детектив. Переключусь и расслаблюсь, перестану «репетировать» завтрашнюю запись.
Нежусь в пене недолго: надоедает читать про приключения детектива, мне почему-то все больше нравится хакер, который с веселым цинизмом ворует деньги у богатых и нечестных сограждан. Встаю под душ и напеваю, по всегдашней привычке, лирические песни советского экрана: «Каким ты был, таким остался…», «Первым делом, первым делом самолеты, ну а девушки…» и свою коронную – «Звать любовь не надо, явится нежданно…» Под песенку из фильма «Моя любовь» я обычно завершаю водные процедуры.
Когда выхожу из ванны в розовом халате и с тюрбаном на голове, вижу сидящего на диване улыбающегося Мишу. Он переодет по-домашнему, значит, дома давно. За шумом воды я не услышала, как он пришел. Встает мне навстречу, обнимает:
– Привет… Сижу, слушаю… Думаю, какие все же у моей жены перышки, какой носок, и голосок тоже чудный…
Раскручиваю полотенце, вытираю волосы:
– Ты рано сегодня что-то, все в порядке у тебя?
Миша по-прежнему улыбается:
– Да не очень.
И замолкает. Наверное, ждет, что я буду расспрашивать. А мне надоела эта игра в молчанку, я сегодня уже «слушала тишину». Но все равно не буду расспрашивать ни о чем. Захочет – расскажет. Мне есть чем заняться: расчешу волосы, высушу…
Но Миша, похоже, не собирается делать эффектную паузу:
– Рита, мне предлагают возглавить филиал нашей фирмы в России, в Екатеринбурге.
Я сажусь на диван – новость застает меня врасплох. Но привычка быстро думать делает свое дело – я вникаю в суть его слов, и вот уже кровь приливает к голове: э, так у меня и волосы быстрее высохнут, без всякого фена…
– Подожди… как в Екатеринбурге? Это что, север какой-то, Урал? А я, а Катя, а мама? Как все тут?
Миша смотрит на меня, подбирая слова:
– Я уже давно над этим думаю, Рита. Ехать мне надо сначала одному, потому что производство в начальной стадии, еще много работы по наладке, первые пуски планируются только через полгода, в лучшем случае. Штат надо укомплектовать, куча оргвопросов, не решенных… Квартиру первое время придется снимать, то есть фирма, естественно, снимает.
Обилие бытовых подробностей действует на меня ошеломляюще: значит, уже давно все идет своим порядком, даже, наверное, ищут подходящую квартиру, какие-то стадии уже пройдены и какие-то оргвопросы уже решены. А какие-то – еще нет, например вопрос о семье, обо мне…
«У МЕНЯ ЕЩЕ СЕМЬЯ ЕСТЬ» – всплывает вдруг в памяти. Ах, вот оно что…
Так, я думала, у меня меньше проблем. Что ж, значит, в очередной раз ошиблась. Беру слово:
– Миша, ты говоришь так, как будто ты не обсуждаешь предложение, а уже принял его.
Муж мнется:
– Ну, скажем так… я склонен сказать «да».
Я смотрю на него почти с любопытством:
– Еще раз позволю себе напомнить: еще есть я, Катя, мои родители. Твои живут далеко, но будут жить еще дальше, по факту! С этим со всем как?
Что-то в последнее время я стала часто сталкиваться с единоличными судьбоносными мужскими решениями. Круто распорядился жизнью своей семьи Оксанин муж Сергей, его тезка Сергей Александрович Сосновский попытался то же самое сделать с моей профессиональной жизнью, теперь очередь Миши предлагать мне варианты судьбы.
Впрочем, по трезвому размышлению… не я ли еще совсем недавно плакалась мужу на то, что моя профессиональная состоятельность под большим вопросом? И не он ли говорил мне о своих проблемах, а я с готовностью предлагала «нагрузить» ими меня? И самое главное: не оба ли мы подготовили эти события всем своим… стилем жизни? Как еще назвать помягче то, как мы жили в последнее время? Холодность и легкую, но с трудом скрываемую усталость друг от друга? Уход каждого в свою личную жизнь? Моя личная жизнь – это Сосновский. Моя личная жизнь – это работа. Даже затрудняюсь сказать, в какой очередности располагаются эти важнейшие составляющие моей личной жизни. Его личная жизнь… надеюсь тоже, в первую очередь, – работа, но и тут возможны варианты, конечно.
То, что говорит Миша мне в ответ, звучит неутешительно:
– Во-первых, я уезжаю туда ненадолго, один. Устроюсь, обоснуюсь, начну работать. Это, в принципе, долгосрочная командировка, не ссылка же… Вы можете никуда не ехать.
Миша замолкает. Последняя фраза ему дается непросто. Потом говорит:
– Но если все-таки мы поедем всей семьей, это тоже будет не навсегда. Несколько лет, контракт предусматривает пять, затем – корректировка с учетом интересов обеих сторон. Это важный участок нашего производства, открывающий новые перспективы. И то, что я беру на себя ответственность за это дело, очень серьезно для меня. Рита, Екатеринбург – культурный город, центр крупного российского региона. Региональное телевидение, где ты смогла бы о себе заявить. Может быть, и тебе можно что-то начать с чистого листа… У меня же отец был военный, мы переезжали с места на место, я сменил множество школ в своей жизни. И знаешь, только приобрел от этого, ничего не потерял. Мне кажется, мы тоже приобретем, а тут можем потерять даже то, что есть. Мы и так многое… растеряли, или я ошибаюсь?
Что я могла сказать в ответ? Ничего. Только заплакать. Вот это я и сделала: впервые за этот нервный день.
Глава 15 Белый танец
Сергей Александрович не знает, как я его представлю за кадром. У меня уже все готово: нарезка хроники, фрагменты передач с его участием, много фотографий – разжилась везде, где смогла, даже у Ольги Васильевны позаимствовала студенческие снимки. Ту фотографию, со стены, тоже сканировала… Слова подобрала, соответствующие случаю, но сейчас ему ничего озвучивать не буду: посмотрит смонтированную передачу и уж тогда все о себе узнает!
Тему для разговора в титрах, сразу после «шапки» «Я – женщина», обозначила «Звездный бал». Но сама для себя определила ее как свободную. Просто потому, что на заданные темы я говорю уже очень много лет подряд, с разной степенью вдохновения повторяя вопросы, подготовленные для моих гостей заранее и не мной.
Однако и эта свободная тема все-таки должна войти в определенное русло. Каким образом творческий человек прокладывает себе путь в профессии? Человек успеха, Сергей Александрович Сосновский, расскажет о себе зрителям и… мне, конечно. И, может быть, из этой беседы я пойму, есть ли у меня хоть малейший шанс подняться на новую ступень?
А сейчас он сидит в кресле, стоящем немного наискосок к камере и ко мне тоже. Между нами – небольшой стеклянный столик с чашечками «спонсорского» кофе и низенькой, как для икебаны, вазой с цветами, которые почти стелются по поверхности стола. Сосновский редко работает в кадре, но, как и все телевизионщики, чувствует себя «под прицелом» спокойно и уютно – как дома, потому что так оно, в сущности, и есть.
– Сергей Александрович, мы с вами вместе вели танцевальное шоу «Звездный бал», и именно это навело меня на тему сегодняшнего разговора. Я женщина, и мне кажется, есть какие-то непрямые ассоциации между телевидением и вот таким грандиозным, бесконечным балом. Мы здесь все ведем свои партии: кто-то танцует в центре, под светом ярких ламп, кто-то играет в оркестре, а кто-то потом, когда танец закончится, натрет паркет… Я, например, до сих пор не могу опомниться от счастья, что меня вообще пригласили на этот бал! А вы давно и успешно руководите самой праздничной Дирекцией нашего канала, если можно так выразиться, сегодня вы – один из распорядителей нашего «бала». Расскажите, с чего вы начинали?
Приподнимает одну бровь – лишь на мгновение. Не понравился вопрос, формулировка, кокетство мое неистребимое? А что мне с ним делать, это я, я – женщина… Но отвечает мой важный визави так, будто вчера у него на столе лежал примерный вопросник, и он успел подготовиться к телеинтервью…
– Знаете, а я в буквальном смысле, действительно, несколько лет жизни отдал бальным танцам. В молодости… Другие в футбол гоняли или в секции по каратэ ходили, а я разучивал шаги и поддержки, самбу и румбу. И не жалею нисколько: танцы и развивают, и дисциплинируют не хуже спорта. Это тоже, своего рода, командная игра – у меня ведь партнерши были замечательные. В чемпионатах разных, кстати, мы тоже участвовали, но это отдельная тема.
Может, и отдельная, может, ты и не особенно расположен вспоминать о своих успехах на региональных смотрах-конкурсах, а у меня на тему твоих бальных танцев есть хорошая, качественная кинохроника. Спасибо ребятам из архива – они сберегли новостной альманах чуть ли не двадцатилетней давности, для прикола, для юбилея или вот для такого случая: шеф, молодой и красивый, с исключительно прямой спинкой кружит в вальсе воздушную партнершу. Фред Астер не просто отдыхает – спит!
Разговаривать с ним на «вы» мне совсем не трудно. Я ведь и отношусь к нему, пожалуй, на «вы», несмотря на наши близкие отношения. Ему тоже не составляет труда общаться со мной официально: без малого пятнадцать лет он, когда приходилось, обращался ко мне именно так: «Маргарита, вы…» и так далее.
Сижу и откровенно любуюсь, как он владеет собой и темой, на которую говорит.
– Телевидение – это бал? Метафора красивая, конечно, но, как всякая метафора, не безупречна. Нет, я воспринимаю свою работу далеко не как бесконечный праздник. Да, Главная дирекция музыкальных и развлекательных программ – уже само это название звучит очень празднично, для непосвященных. Но создание хорошего настроения – это работа огромного количества чрезвычайно серьезных людей, которым в процессе, боюсь, и улыбаться-то особо некогда…
Делает паузу, потом мимолетно улыбается и продолжает:
– Помню, был такой старый анекдот про человека, который пришел к психиатру с жалобой на постоянную депрессию. Тот ему советует: «А вы сходите в цирк, там сейчас замечательный клоун выступает, обхохочетесь, про депрессию забудете!» Пациент совсем низко опускает голову и говорит: «Я и есть тот самый клоун». Я часто вспоминаю этот анекдот, потому что время от времени он очень «в тему».
Знали бы вы, дорогой Сергей Александрович, насколько сейчас «в тему» ваш старый анекдот… Но сегодня я – «весь вечер на арене», а посему буду продолжать в позитивном ключе:
– Я иногда думаю, что телевидение – это замечательная игрушка, которая никогда не надоедает и которую мужской мир придумал специально для нас, женщин. Женщины сидят у экранов, женщины красуются на экране, и, кажется, большинство передач ориентированы на женскую аудиторию. Я, наверное, открываю Америку или просто по-женски обольщаюсь на этот счет?
В его чуть прищуренных глазах – явная ирония. Может быть, мне кажется, а может, и нет… Но думает он, скорее всего, примерно так: «Ну что, уже не рада, что взялась за гуж? Вопросы твои спонтанные, друг с другом мало связанные, с эмоциями – явный перебор. Думаешь, „вывезет“ твое фирменное обаяние? Ну-ну. Ладно, так и быть, помогу, поиграю с тобой в поддавки…»
– Что касается большинства программ, выходящих из недр нашей дирекции, то безусловно. Да, пожалуй, по сравнению с остальными производящими дирекциями, мы настоящие дамские угодники. Поспорить с нами в желании угодить дамам может только дирекция художественных и лицензионных программ: им принадлежит право закупки телесериалов. А «телемувики», как известно, бесспорные лидеры всех и всяческих рейтингов.
– В таком случае, следующий вопрос: каким вам видится собирательный образ дамы, для которой приобретаются лицензионные программы и создаются оригинальные проекты, одним словом, формируется ваш контент?
– Вас интересует социальный портрет среднестатистической женщины-зрительницы?
– Ну, зачем же так научно… хотя, наверное, по-другому сказать нельзя, давайте – портрет!
Смотрит на меня так, будто сейчас начнет надиктовывать фоторобот. Что ж, улыбнусь, поморгаю, чуть-чуть пародируя его мимику, приподниму бровь: похожа?
– Средний возраст – «тридцать +», и эту формулировку придумал не я. Замужем. Образование – среднее, средне-специальное…
Есть у него такая очаровательная манера: внимательно смотреть на собеседника и делать паузы с таким видом, что он ждет не дождется следующего вопроса. Надо перенять… а пока спрашиваю:
– Извините, что перебиваю, а дамы с высшим образованием телевизор не смотрят?
– Очень выборочно. И я сейчас говорю конкретно, о наиболее рейтинговых программах своей дирекции. Время от времени мы проводим социальные опросы, и их результаты показывают, что развлекаться «по телевизору»
предпочитают домохозяйки и пенсионерки, а также женщины, занятые в сфере обслуживания, на производстве. Это – более восьмидесяти процентов целевой аудитории. Сейчас задам вопрос, после которого можно будет «переходить на личности»:
– Но при этом большинство женщин, работающих на телевидении, в частности под вашим руководством, имеют высшее образование?
– Да. И большинство мужчин, кстати, тоже.
– Я чувствую, что в этом кроется какой-то парадокс, но, пожалуй, затрудняюсь его сформулировать…
– Давайте, я попробую вам помочь. На самом деле никакого парадокса нет. Развлекать труднее, чем развлекаться, – это вовсе не странно, это естественно. Самое яркое телевизионное шоу – это до мелочей продуманное, технически оснащенное, четко налаженное производство. Производство, которое требует и умственного напряжения, и физических затрат от хороших специалистов. Под специалистами я подразумеваю всех: режиссеров, операторов, декораторов, осветителей, ведущих, звукоинженеров, монтажеров. Чтобы обеспечивать этот интеллектуальный и технический ресурс, надо учиться, и не один год. Я бы сказал – всю жизнь. Это не просто, конечно.
Бешеный юмор в его искрящихся глазах делает его слова двусмысленными. Да, да, не просто, но я ведь учусь! И у вас, Сергей Александрович, тоже! Вот сейчас, например…
– Вот вы мне все замечательно разъяснили, и действительно, все встало на свои места. Значит, чтобы хорошо развлекать, надо долго и трудно (чуть не сказала нудно) учиться этому серьезному делу.
– Именно серьезному делу. Так и есть, без всякой иронии.
Сама понимаю, что сейчас, в этот момент стало очень заметно: в жанре свободного интервью я все-таки новичок. Ну и что, эта беседа – мои первые абсолютно самостоятельные шаги. Но что-то, может быть тень неуверенности, мелькает у меня в глазах… И от неуверенности рождается следующая, не очень обязательная фраза:
– Мы все, можно сказать, рождаемся, чтобы стать зрителями: открыли глаза – и все, готовы смотреть, видеть, откликаться. Жаль, что способность показывать не заложена в человека при рождении. И тут уж все равны – и мужчины, и женщины.
Он едва заметно пожимает плечами:
– Профессионализм, видите ли, не талант, он от природы не дается.
И вдруг, когда я совсем не ожидаю от него ничего похожего, Сергей Александрович едва заметно кивает мне! И у меня словно камень с души падает: Господи, да он же поддерживает меня, а не поддразнивает! А у меня – просто мания преследования! Ведь он пришел сюда, чтобы помочь мне, а не утопить, как котенка.
Я немного расслабляюсь и сразу чувствую, как приходит второе дыхание:
– Сергей Александрович, вы из той категории профессионалов, работа которых остается чаще всего за кадром. Личное участие в проекте «Звездный бал» – это всего лишь исключение, которое только подтверждает правило. Да, зрители могут увидеть вас на официальном сайте телевидения в Интернете, прочитать имя в титрах передачи, но это, пожалуй, и все. Популярность программ, которые создаются в вашей дирекции, вам лично известности не добавляет. То есть вы делаете «медийными» персонами других, а сами скромно остаетесь в тени.
Сосновский улыбается, ни слова не говоря в ответ на мою тираду. Не дам отмолчаться:
– Когда вы делали первые шаги в профессии, то предполагали, что так и будет?
– Конечно. Как большинство моих коллег, я журналист. Суть нашей профессии в том, чтобы делать известными других, в первую очередь.
Он едва заметно хмурится, и я опять замираю: о чем он подумал сейчас? Обо мне? О том, что я не журналистка, и это очень заметно? Делаю над собой усилие и продолжаю:
– Если можно, расскажите о своих студенческих годах. Наверное, это было очень интересно.
Он отвечает без единой ностальгической нотки в голосе, почти сухо:
– Ну, конечно, это было замечательно, как у всех, по-моему. Я окончил факультет журналистики Белгосуниверситета. На третьем курсе у нас была специализация, мы разделились на будущих журналистов-газетчиков и «радистов». Радисты, в свою очередь, тоже разошлись в разные стороны: кто-то на радио, кто-то на телевидение. Я выбрал последнее. И вот тогда стало, действительно, по-настоящему интересно…
Так, значит, ни слова об Алисе я не дождусь. «Школьные годы чудесные» – это не наш мотив. Ну, и я не буду больше сюсюкать по поводу альма-матер.
– Когда вы начинали, в каком состоянии была дирекция, которую вы сегодня возглавляете?
Говорю осторожно и нейтрально, как бы боясь нарушить дистанцию. Но тайно надеюсь: вот-вот, сейчас Сергей Александрович настроится, вспомнит, как пришли на телевидение молодые, честолюбивые выпускники журфака, влюбленные в свою профессию и друг в друга. Как мечтали, вступали в конфликты с начальством, фрондировали и шалили, по пути набивали шишки, разбивали чьи-то и свои сердца…
Опять в его глазах заплясали огоньки, заметные только мне:
– Почему вы не сказали: в которой мы с вами работаем? Ее не было совсем, то есть она была, но называлась по-другому, и задачи перед ней ставились иные, все было строго, если не сказать сурово идеологизировано. В общем, это был прошлый век. В прямом смысле – это был ХХ век.
– Вы начинали с должности…
– Рядового редактора. Я занимался редактированием музыкальных программ.
– Звучит очень буднично.
– Вот как? А на самом деле моя деятельность больше всего напоминала увлекательную игру в казаки-разбойники, – Сергей Александрович делает раздумчивую паузу, интервал примерно в три секунды чистого времени. – Вы, Рита, играли в детстве в такую игру?
А вот и не поддамся на провокацию, отвечу без тени кокетства. Неважно, что я женщина! Не буду отрекаться от своего детства, чтобы скрыть возраст, ведь наши детские игры – это довольно четкие временные ориентиры.
– Да, я хорошо помню эту игру: мы делились на казаков и разбойников, бегали друг за другом по стрелкам, рисовали их на стенках, асфальте, путали следы. Мы с вами, Сергей Александрович, играли, я думаю, примерно в одни и те же игры. Я ведь тоже «рожденная в СССР».
– В самом деле? Мне всегда казалось, что вы рождены уже после подписания документов в Беловежской пуще…
Я думала, что дала понять своему чуткому собеседнику: в эту «игру» я не играю! Не понял он, что ли?
– Сергей Александрович, это вам, наверное, показалось, когда вы меня по телевизору видели. В таком случае, это заслуга наших замечательных операторов и осветителей. Но давайте вернемся к казакам-разбойникам.
Он снова серьезен:
– Да. Так вот, «казаками» были бдительные работники Гостелерадио, которые отслеживали любой идеологически невыдержанный элемент, а мы, молодые и хулиганистые реформаторы ТВ, были, конечно, «разбойниками».
– И на какую же широкую дорогу вы выходили?
– На широкую дорогу пропаганды зарубежной музыкальной культуры. Протащить в эфир (пусть даже ночной!) что-нибудь из мировых музыкальных хитов в исполнении настоящих «звезд» зарубежной эстрады, а не только Карела Готта, Бисера Кирова или Анны Герман, – это было смело, круто, как мы сейчас говорим. А если посмотреть сегодняшними глазами на то наше фрондерство мальчишеское… ну, показали мы кусок концерта Элтона Джона, выступление «КiSS» хитро вставили в передачу о западной масскультуре… Любой из молодых фанатов рока сейчас плечами пожмет с недоумением: вот уж подвиг… А это и был подвиг – по тем временам.
Вот, наконец, переломный момент нашей беседы. Он больше не провоцирует меня, не подкалывает и не подыгрывает. Мы говорим «на равных». Почти…
– Чем вы рисковали?
– Работой, репутацией, комсомольским билетом. Пожалуйста, не спрашивайте меня, насколько все это было для меня серьезно. Не буду отвечать. Серьезно. Времена были, вообще, не шуточные.
– Перестройка начала 90-х все изменила?
– Да, культурная революция выпала именно на эти годы. И это, конечно, была именно революция: со стихийным бунтом, с самосудом, с открытыми шлюзами, в которые хлынуло все сразу – хорошее, плохое, низкопробное, ранее запрещенное…
– Сергей Александрович, а в кадре вы работали? Он снова улыбается:
– Что, уже незаметно, что работал? Года четыре работал ведущим музыкальной программы «Про рок в своем Отечестве».
– Пока… не сняли?
– Пока не повысили.
И я поулыбаюсь. Оксанка говорит, что я улыбаюсь всегда вовремя. Проверим на практике:
– О, замечательно! Научите, как сделать карьеру на телевидении?
– Рита, это личный вопрос?
– У меня все вопросы личные.
– Вы хотите узнать мой рецепт или задумались о своей карьере?
– А мне пора задуматься? Сергей Александрович, теперь я вижу, что вы были телеведущим. И что всерьез занимались бальными танцами: вы, как в танце, все время ведете. И так получается, что мы разговариваем, как в Одессе – отвечая вопросом на вопрос…
Смеется:
– Ну хорошо, вернемся из Одессы в Минск. Рецепта я не знаю. В моей собственной биографии все случилось вопреки. Я ведь, если честно, не очень хорошо учился, у меня было много троек: знания тогда оценивали по пятибалльной системе, если вы помните.
О, это уже перебор. Я помню!
– Я помню. По каким предметам были ваши тройки?
– По политэкономии, экономике сельского хозяйства. У меня был не просто не «красный» диплом, его и «синим» считать можно было только условно, цвет даже сложно определить… Очень много было удовлетворительных оценок.
– По английскому, наверное?
– Вы шутите: чтобы всерьез увлекаться рок-музыкой, английский знать было необходимо. Рок был нашей религией, и английский как раз я знал отлично. Сейчас хуже: практики мало… Специальные предметы у меня хорошо шли, и я очень рано стал сотрудничать с теле видением. К моменту окончания университета я уже заручился поддержкой спортивной редакции, они обещали, что сделают на меня заявку.
– Я так поняла, что вы больше танцами увлекались, а вы еще и спортсмен?
– Ну да… КМС. Плавал хорошо, в волейбол играл за сборную университета, сюжеты делал на спортивные темы. Заявку на меня сделали, как обещали, но на работу взяли все-таки в «музыкалку».
Я тщательно изучила «этапы большого пути» моего шефа, но некоторые вещи для меня – просто открытие. Кандидат в мастера спорта по плаванию и волейболист, надо же… Я тоже начинаю чувствовать себя спортсменкой: хочу сыграть с Сосновским гейм в большой теннис. Ну, отбивай!
– Что еще я не знаю о главном человеке самой праздничной дирекции нашего телевидения? Вы служили в армии?
– Нет, на факультете была военная кафедра. Мы выходили из университета в звании младшего лейтенанта, потом его надо было подтверждать на сборах.
– Вот как! И какой род войск?
– Танкисты.
– Сергей Александрович, но с вашим ростом… какой, кстати, рост у вас, если не секрет?
– Дело в том, что военная специальность для будущих журналистов определялась без всякой связи с их физическими данными. Сначала на журфак поступали самые разнокалиберные ребята, а потом их ставили перед фактом, что им суждено стать еще и танкистами. Мой рост – сто восемьдесят семь, я ни в один танк не влезу. Да и вообще я по натуре очень миролюбивый человек, можно сказать пацифист.
Сейчас я ему «подмигну»:
– Когда возникают проблемы с сотрудниками, всегда решаете их мирным путем?
– Надеюсь, у вас не будет повода убедиться в обратном.
– Я тоже очень на это надеюсь. О чем я забыла вас спросить, или о чем бы вы сами хотели рассказать?
– О многом можно было бы рассказать, если позволило бы время: о людях, которые меня учили, о людях, с которыми учился. В общем, обо всех, кого любил и люблю. Все они, так или иначе, связаны с главным делом моей жизни – телевидением. И раз уж мы с вами почти все время говорили о женщинах… среди них женщин – большинство.
– Спасибо вам, Сергей Александрович, за эту последнюю фразу – особое спасибо. Ведь я – женщина!
Ну, и кто кого загонял «по корту»? Я устала ужасно! После самого сложного прямого эфира я так не уставала ни разу. После «Звездного бала» не уставала никогда, а тут… Выходим из студии молча, молча ждем лифта и так же молча заходим в кабину. Как только дверь закрывается, Сергей обнимает меня и целует, очень нежно. За последние два с половиной часа я успела забыть, каким нежным он бывает. И я с готовностью отвечаю на его поцелуи, при этом краем глаза поглядывая на меняющиеся цифры на табло: 6… 5… 4…
Выхожу из лифта, но он не идет за мной. Я оборачиваюсь:
– Не едешь?
Он отрицательно качает головой:
– Много работы, Рита, позовешь меня на монтаж, хорошо?
Моя очередь упрямо помотать головой:
– Нет, Сережа, не позову, потом посмотришь, на худсовете.
Он улыбается:
– У тебя золотой характер, поэтому такой тяжелый. Делай, как знаешь.
Я вяло машу на прощанье рукой.
Когда на следующий день я отсматриваю материал в монтажной, вдруг обнаруживаю то, что во время раз говора не было заметно нам, но стало очевидно в записи. Я же всегда говорила: перед камерой скрыть ничего невозможно.
Невозможно скрыть нежность в глазах и улыбку – слишком теплую, слишком родную, слишком ДЛЯ ТЕБЯ. Ты – для меня, я – для тебя.
В общем на экране видно невооруженным глазом: мы очень увлечены не столько разговором, сколько друг другом.
Глава 16 «И спускаемся мы с покоренных вершин…»
Церемония вручения главной телевизионной награды – это всегда роскошное, если не сказать помпезное, действо. Лучшие креативщики телевидения соревнуются в изобретательности, создавая сложные декорации, оригинальный сценарий, продумывая до мелочей очередность концертных номеров, формируя ансамбль ведущих. По традиции, церемонию ведут несколько пар, и партнеры в этих парах – представители разных телеканалов. Дамы – в вечерних туалетах, мужчины – в смокингах. В зале минимум посторонних, хотя к телевидению, по большому счету, все имеют то или иное отношение. Но сегодня, здесь, в этом торжественном зале все свои, посвященные, почти небожители. Я фактически не иронизирую: люди, которые не просто «входят в каждый дом», но еще и формируют общественное мнение, диктуют стиль отношений и моду, учат, лечат, воспитывают с экрана телевизоров, наверное, со стороны не могут восприниматься иначе.
Поэтому я нисколько не удивлена, что еще на подходе к ступенькам Дома кино меня окружает стайка поклонников: две оживленные дамы в возрасте, парень с девушкой и солидный мужчина средних лет. Последний преподносит мне великолепный букет из белых роз и целует руку.
Плащ, который я накинула на свое черно-белое платье, благородного пурпурного оттенка: цветы на этом фоне кажутся еще белее, как будто сделаны из тонкого мейсенского фарфора. Кстати, у цвета моего плащика есть название: «Мария Стюарт». Я об этом узнала от моей подруги Оксаны. Она объяснила мне, что мятежная шотландская королева в день казни надела наряд именно такого пурпурно-кровавого цвета, чтобы ее собственная кровь не была заметна на фоне пламенеющего бархата.
Я не Мария Стюарт, конечно, но что-то символичное в этом моем прикиде есть, только я сейчас войду в сверкающий огнями вестибюль и расстанусь со своей огненной мантией. И никому не придет в голову, что я себя ассоциировала – хоть на секунду! – с честолюбивой и властной женщиной, которую одновременно лишили короны и жизни и которая о потерянной короне жалела куда сильнее – до последнего мгновения отнятой у нее жизни.
У меня сегодня никто не отнимет корону по той простой причине, что никто меня ею и не короновал. И не собирается.
И хватит, Маргарита, хватит!
А все же хорошо, что мне подарили эти чудные цветы. В обнимку с нежно благоухающим букетом, который и обращает на себя внимание, и прикрывает меня, уже не так одиноко. Легонько прижимая цветы к груди, я подхожу к зеркалу, в котором вижу себя… и Сергея Александровича, поднимающегося по ступенькам об руку с высокой красивой шатенкой в элегантном костюме цвета сомон. Это, конечно, его жена. За те несколько секунд, которые я позволяю себе потратить на изучение супруги моего любимого начальника (нет, вот так – любимого-начальника), я успеваю разглядеть приятное умное лицо, немного усталые, кажется, светлые глаза, красивые ноги в очень дорогих туфлях. Она мне нравится. Я ей, наверное, нет, даже если ей (а вдруг?…) ничего не известно о хронической склонности мужа заводить служебные романы, и мой светлый телевизионный облик не омрачен в ее глазах сведениями о наших отношениях с Сосновским.
Направляюсь к своему почетному месту в первых рядах партера: ну как же, я ведь номинант. Стоящие по бокам интенсивно освещаемой сцены телевизионные камеры и краны-журавли направлены, в первую очередь, именно на эти ряды, ведь среди номинантов сидят и лауреаты, еще не ведающие о своей грядущей победе.
Некоторые, разумеется, «ведают» о своем триумфе заранее. Вон стоит в окружении коллег блестящий Глеб Кораблев – ироничный, остроумный, прекрасно образованный, настоящая телезвезда. Он, конечно, давным-давно в курсе, что на заднем сиденье его «лексуса» сегодня вечером будет располагаться тяжеленькая золотая фигурка «драчуна в юбке» – символическое изображение устремленного к успеху работника телевидения. Его правая рука высоко поднята, в ней зажато нечто вроде звезды, но с расстояния более метра звезда кажется увесистым кулаком, которым он кому-то грозит, а юбка – это расширяющееся книзу одеяние, переходящее в поста мент, украшенный гравировкой. «Лучший ведущий развлекательной программы» – вот что будет написано на награде Глеба.
Ладно, все эти внутренние размышления – в пользу бедных. А бедная на этом празднике жизни сегодня, конечно, я.
Еще и вымотанная донельзя: весь вечер накануне провела в монтажной вместе с Ольгой Васильевной. Пилотку сделали, но, Господи, какой ценой…
Нет, в общем, получилось даже хорошо. Это Ольга сказала, а я ее мнению полностью доверяю. Хорошая заставка, динамичная, элегантная, с юмором, в ритме клипа: я смотрю из окна, читаю книгу, в два уха выслушиваю каких-то старушек, болтаю по телефону, проверяю дневник, стою с поварешкой… Последнее, что я делаю – включаю телевизор, в котором сама и сижу. Забавно! Я подобный стиль называю «не надо надувать щеки». Помните, как Остап Бендер учил Кису Воробьянинова надувать щеки для важности? Вот-вот, не надо важничать, заставка мне понравилась.
Начали монтировать видеоряд, дробить наше пространное интервью на кусочки, иллюстрировать ретро-вставками. Нет, правда, хорошо получилось, с настроением, но не без накладок, конечно.
В кучке студенческих фотографий, на четырех или пяти из них Сосновский опять стоял вместе с Алисой! Именно вместе – не рядом. И тут уж я решила преодолеть робость и спросила-таки у Ольги, что же их связывает.
Ольга Васильевна немного подумала, потом сказала:
– Да, вот эти фотки я уберу, Лена ведь тоже будет смотреть передачу.
«Кто у нас Лена? Лена – жена…» – без посторонней помощи догадалась я. Но уточнять ничего не стала: ну и что, мол, что Лена увидит… Во-первых, не хочется быть маниакально настойчивой, а во-вторых, из замечания Ольги Васильевны уже можно сделать единственный, вполне определенный вывод: значит, что-то было, и это что-то может вызвать неприятные воспоминания у жены.
Да, я не стала бы расспрашивать больше, но Ольга сама решила меня просветить. По-моему, это было продиктовано ее женской солидарностью – не со мной, конечно, с женой Леной. А может, чтобы я тоже сделала какие-то выводы. Она ведь ко мне хорошо относится… Не знаю. Знаю одно: Ольга поведала мне эту историю не из желания перемыть чьи-то косточки, не такой она человек.
…Итак, на третьем курсе Сосновский женился на однокурснице Леночке. Лена была хорошенькая, веселая девчонка, оба они были «радистами». Они хорошо смотрелись в кадре на учебных занятиях, хорошо понимали друг друга. Подружились, полюбили, поженились. К концу четвертого курса Лена взяла академический отпуск: ушла в декрет – у Сосновских родилась дочка. А Сережа продолжал учиться, подрабатывал везде, где мог, и, в общем, они справлялись.
А потом на журфак поступила девочка Алиса из Гродно. Алиса жила в общежитии, мужская половина которого тут же начала за ней со страшной скоростью «бегать». Алиса была красавица, Сережа тоже был красавцем – едва ли не самым красивым парнем на журфаке. Да, он уже был женат. Но в юности этому придается несколько иное значение, чем в зрелости.
Сергей Сосновский не изменял своей юной жене. Но не потому, что его моральные устои были столь прочными, нет, какие там еще устои – в двадцать-то с небольшим… Это Алиса была неприступна.
Любовь испытывала их долго. Сергей закончил учебу (Лена к тому времени перешла на заочное отделение), пошел работать на телевидение. Алиса тоже пришла в телецентр на практику. Это и оказалось «засадой»…
– А что потом? – шепотом, как в стихотворении Евтушенко, спросила я.
Ольга задумчиво наморщила лоб, бросила на меня быстрый оценивающий взгляд, что-то взвесила и решила все же сказать мне правду:
– Мы с Алисой совсем не подруги, просто я вместе с ней пришла на практику, все было на моих глазах. Она, конечно, любила его сильнее, это точно. Он всегда был такой веселый, вечно хохот у них в музыкалке стоял, девушки на шее – гроздьями… А Алиса слишком всерьез восприняла их связь, полюбила его. Закончилось все «хорошими отношениями». И абортом, конечно.
Я сидела не дыша. Мне стало горько – за юную прекрасную Алису, которая не стала выдвигать живот как аргумент в борьбе за чужого мужа, Оксанкину драму вспомнила…
Не хотела больше расспрашивать Ольгу Васильевну, но она сама поставила точку в своем рассказе:
– Алиса потом два раза выходила замуж. Очень приличные были парни. Но, что-то не пожилось.
…Героиня моих дум тем временем появляется на сцене с Вадимом Золотовицким, ведущим новостных программ Центрального канала. Алиса сегодня в узком сиреневом платье с открытыми плечами. На фоне атлетичного Вадима смотрится просто волшебно – фея Грез из «Спящей красавицы». Они по очереди приветствуют публику. Я улыбаюсь им из зала: камеры работают, в любой момент оператор может взять меня в кадр.
У нее действительно очень красивый голос – ее хочется слушать, не задумываясь, о чем она говорит. А говорит она о замечательных наших телеоператорах, лучший из которых сейчас взбежит на эту сцену за весомым доказательством того, что он не только хорошо видит, но и хорошо показывает то, что видит, другим. Честь разорвать конвертик с именем счастливчика доверена нашему патриарху операторского цеха Олегу Мухину. Что он и делает. Алиса берет у него листок бумаги, торжественно называет имя, звучат фанфары…
Вот он, счастливчик, уже бежит через ступеньку откуда-то с четвертого ряда. Я его не знаю, он с другого канала. Молодой парень с хвостиком на самом темечке. Надеть на него кимоно, сунуть в руки меч – и будет один из «Семи самураев». А, я его как-то видела в деле: меня, помнится, позабавила его специфическая стойка – он наклонялся к глазку своей телекамеры, а ноги при этом расставлял намного шире плеч. Для устойчивости, что ли? Тогда мне показалось – это такой мальчишеский форс, понты, как сейчас говорят. А вот и не понты, а «Золотая Телевышка»!
Первого лауреата наградили, но перед тем, как приступить к следующим номинациям, на сцену приглашают поющую телезвезду. Она поет своим небольшим, но чистым и приятным голосом хорошую старую песню «о главном».
Церемония, надо сказать, неторопливая. А куда спешить? Всем доставляет необыкновенное удовольствие сидеть сейчас в зале и поздравлять друг друга, и радоваться за коллег, и смотреть на них со своих, в кои-то веки, зрительских мест… Сезон кончается, благодатное время сбора «урожая» профессиональных наград.
Вручение «Золотой Телевышки» будут транслировать по телевидению позже, уже в записи и в сильно урезанном виде. И все мои коллеги, я знаю, будут заново просматривать фрагменты нашей общей истории. Я тоже…
Сижу и откровенно красуюсь в своем платье. Сейчас, когда нижняя часть скрыта за спинкой переднего кресла, оно кажется белоснежным. Вообще-то, белое в кадр надевать не рекомендуется, так же, как и абсолютно черное – контрасты не на пользу телеизображению. Но сейчас, на фоне вишневого бархата кресел, я, наверное, смотрюсь неплохо.
Знаю, что Сосновский с женой сидят в центре партера, ряду в пятнадцатом, наверное. Там – весь наш «генералитет». Видел он меня? Да уж, наверное, видел.
На сей раз Оксанка превзошла себя. От коллег я уже выслушала тысячу комплиментов, и все они были, как никогда, заслуженными.
По диагонали от меня, рядом ниже, расположился красавец Глеб Кораблев. Ждет своей очереди. Но улыбается он замечательно: в самом деле искренне радуется за друзей. Телеакадемики, конечно, справедливо рассудили, отдав ему пальму первенства и в этом году…
Алиса что-то говорит Вадиму явно не по протоколу, но в микрофон, и по залу шелестит смех. А я прослушала: что же она такое смешное сказала… Странно, после Ольгиного рассказа про их роман с Сосновским я не стала относиться к ней хуже. Я даже, кажется, больше не ревную ее. Вот чудеса психологии… Олег Витальевич бы оценил мою реакцию как парадоксальную. Да, всего не просчитаешь…
Все идет по сценарию. Выходят на сцену окрыленные номинанты, после коротеньких, но очень прочувствованных речей возвращаются в зрительный зал счастливыми лауреатами, певцы поют, танцоры танцуют… Если я и чувствую себя Золушкой на балу, то только потому, что просто устала: накануне мне пришлось перебрать слишком много фасоли, посадить целую аллею роз и заодно познать самое себя.
Алису и Вадима на сцене Дворца уже сменили моя соперница по номинации Таня Корниенко и спортивный комментатор Павел Гусаков. Тоже замечательно смотрятся вместе: худенькая длинноногая Таня, одетая в маленькое черное платье, кажется просто взволнованной школьницей, которую («ладно, так и быть, собирайся, малая!») взял с собой на корпоративную вечеринку старший брат Паша. Таня волнуется, и поэтому немного частит, а Паша плавны ми жестами и неторопливой интонацией уравновешивает их дуэт. На какое-то мгновение мне кажется, что на сцене стоят молодые Сергей и Алиса: у Паши тоже очень красивая улыбка, а у Танечки так же плещутся по плечам белокурые прямые пряди.
Опять от запоздалой жалости сжимается сердце. Господи, если такая великолепная, такая победительная женщина, как Алиса, не смогла удержаться рядом с этим мужчиной, то на что рассчитываю я, с моими капризами, рефлексиями и весьма сомнительной «профпригодностью»?
Я ведь в последнее время не просто плыву по течению, а еще паруса подняла и веслом помогаю, чтобы меня несло скорее. Меня и несет, но куда, куда?
Муж не сегодня-завтра уедет из дома в Екатеринбург, благородно оставив за мной право выбора: ехать или не ехать вслед за ним. И я опять откладываю «на потом» это важное решение: время еще есть, еще многое может измениться. В общем, мне обо всем нужно очень серьезно подумать. По-моему, я разучилась думать серьезно: защищаюсь от жизни своей извечной иронией, а жизнь порой не понимает шуток и наказывает всерьез.
Послезавтра состоится худсовет, с моей профессиональной состоятельностью хоть что-то будет ясно: заявят меня с моей «Я – женщина» в сетку будущего сезона или не утвердят мой проект.
Ничего, из «Утреннего эфира» меня, в любом случае, никто пока не гонит.
И письма мне зрители мешками шлют.
И Миша еще на чемоданах не сидит.
И Сергей меня еще… не бросил.
Прорвемся!
О! Лера Иванова и Петр Гараев, третья пара ведущих, оглашают мою номинацию. Надо приосаниться – кожей чувствую, что меня держат в кадре. Выражение лица никак не оформляется, а надо бы спокойно улыбаться, как будто только что ответив на вопрос: «А вы любили когда-нибудь?»
Любила. Люблю. Буду любить.
«…И лучший ведущий развлекательной программы…»
Ну, и не надо бы такую эффектную паузу тянуть, Лера. Лучший и ведущий – это все слова мужского рода, а мы с Танечкой Корниенко – женского. Больше номинантов нет.
«…Глеб Кораблев!»
Фанфары. Все, и я, конечно, аплодируют. Глеб поднимает над головой своего второго по счету «Драчуна в юбке», сейчас что-то скажет подходящее к случаю: «Спасибо жене Жанне, спасибо коту Ваське, спасибо руководителям канала, спасибо родным и близким…» Да нет, не будет он выпендриваться. У него с юмором и иронией тоже все в порядке, но он ведь и в самом деле профессионал и от души гордится этой наградой. Ее непросто заслужить, это правда.
Глеб наклоняется к микрофону (невысокой Лере ее напарник сделал его пониже) и говорит:
– Я еще хочу поблагодарить двоих прекрасных женщин, с которыми судьба меня свела в этой номинации. Это самая красивая, самая утренняя, самая светлая женщина нашего эфира Рита Дубровская – давайте поаплодируем ей, друзья! – и маленький добрый гений Танечка Корниенко! Девочки! Я вам не соперник, я ваш поклонник!
И Глеб красиво становится на одно колено, раскидывает руки в стороны, как крылья: в правой – золотой приз, в левой – фантазийный букет из лилий и ирисов. Спасибо, Глеб, на добром слове. Но смотришься ты отлично, и знаешь об этом: вот и фотографы спохватились и начали щелкать затворами друг за другом, запечатлевая этот почти балетный номер. Телевидение у нас в крови, мы чувствуем кадр. Завтра этот кадр будет наверняка опубликован во всех газетах, да и в новости его непременно вставят.
Все остальное проходит без накладок – ровно, оптимистично, иногда – трогательно, иногда – пафосно. Все, финальный концертный номер – и на сцену вновь выходят ведущие, все три пары. Заключительные слова, аплодисменты…
Я направляюсь к выходу, прозаически сворачиваю в женский туалет. Здесь, во Дворце, это бытовое помещение мало чем отличается от парадного фойе – те же люстры, те же зеркала от пола до потолка, стеклянные двери, хорошо, что не везде.
Останавливаюсь возле зеркала, внимательно рассматриваю свою физиономию: не то чтобы любуюсь, скорее ищу, к чему бы придраться. Пудрю лоб и нос и уже тянусь за расческой, когда слышу как две женщины, стоящие в метре от меня, вполголоса переговариваются друг с другом. Они не с телевидения, это точно: наверное, чьи-то родственницы. Одна говорит, перебирая вещи в сумочке:
– Она мне на все мероприятия пригласительные билетики всегда оставляет, на премьеры разные, концерты. Сама не успевает, наверное, ходить кругом, а может старается себя поберечь. Работа у нее тоже, видишь, не сидячая, да и нервная…
Приятельница кивает:
– Но по ней никак не скажешь, что больная. Такая роза-мимоза…
Первая соглашается:
– Старается, не сдается… А я иногда смотрю на нее, как она лежит на гемодиализе, и думаю: не дай Бог что, ведь она одна. С мужем – в разводе, детей нет. Но она молодец: диета, здоровый образ жизни, работу очень любит свою.
Я ловлю себя на том, что внимательно прислушиваюсь к их разговору. И следующая фраза заставляет меня вздрогнуть:
– Сиреневое платье это она в Париже купила. Я знала, что она в сиреневом будет, она мне еще на прошлой неделе рассказывала, что наденет…
Так, сейчас потечет тушь. Сейчас я разревусь к чертовой матери, и это будет нормально, потому что мне давно и срочно нужно выплакаться. Вот только «донести лицо» до такси и добраться… может, не до дома, а до Оксанки? Там уж я дала бы себе волю…
И конечно первая, на кого я наталкиваюсь в фойе, – это Алиса. Прекрасная, как мечта, с гордо поднятой красивой головкой, с ямочками на персиковых щечках, во французском сиреневом платье, которым она похвасталась на прошлой неделе медсестре, которая регулярно делает ей гемодиализ. Видит меня и мои глаза с непролитыми слезами.
Не знаю, как это объяснить, но она сразу понимает: я «на слезе» не потому, что мне не дали красивую золотую игрушку. Понимает и ничего не говорит по этому поводу. А говорит совсем простые слова:
– Прекрасно выглядишь сегодня.
Я киваю и отвечаю почти совсем не дрожащим голосом:
– Ты тоже.
И протягиваю ей свой букет. Она берет мои белые розы осторожно, будто боясь уколоться. Зря боится: шипов там нет. На фоне ее сиреневого платья фарфоровые бутоны тоже очень хороши.
– Спасибо! Мне сегодня что-то никто ничего не подарил… Да, кстати, Рита, я посмотрела твою программу – мне понравилось.
– Правда? – вскрикиваю я. – Тебе правда понравилось? Не самодеятельность?
Алиса качает головой:
– Нет, конечно, я буду голосовать «за».
Делает паузу, смотрит лукаво. Эх, Алиса не была бы Алисой…
– И платьице у тебя ничего. Самострел, конечно, но вещь дизайнерская. С портнихой познакомишь?
И я не обижаюсь, а смеюсь в ответ. Я, наверное, уже не смогу на нее обидеться никогда.
Глава 17 Два часа чистого времени
Когда я выхожу из Дома кино, то обнаруживаю, что на улице идет дождь, прекрасный, обильный, теплый летний дождь. Мне хочется сделать какую-то паузу в этом эмоциональном вечере, и я ухожу дальше от центрального входа. Многоступенчатое крыльцо Дворца опоясывает весь фронтон, за его широкими квадратными колоннами легко спрятаться.
Я иду к тому краю, что выходит на кусок площади перед Дворцом, ограниченный с одной стороны его стеной, с другой – автостоянкой. Сейчас сяду прямо на ступеньку и покурю…
Но я не сажусь, а только прислоняюсь спиной к колонне, потому что вижу картину, от которой не могу оторвать глаз.
Там, на площади, двое мальчишек и одна девчонка, всем – лет по семнадцать, бросают друг другу «летающую тарелку». Легкий оранжевый пластиковый диск хорошо летает и под дождем. Когда он летит, вращаясь, от одного игрока к другому, вокруг него веером разлетаются брызги. Как красиво!..
Девчонка ловит тарелку чуть хуже, и я долго не могу понять почему. Потом понимаю: у нее очень короткая юбочка, она немного стесняется, поэтому не всегда может прыгнуть высоко или сделать выпад в сторону, как это делают два ее лохматых сверстника. Они хохочут, что-то кричат сквозь дождь юными птичьими голосами, не обращая внимания ни на льющиеся сверху струи, ни на меня, стоящую на ступеньках под крышей. Им хорошо, они молоды, счастливы и свободны так же, как и их тарелочка, рассекающая дождь…
Ухожу раньше, чем закончится их игра. Иду, и меня еще долго провожают их смех и победные выкрики. Уже в такси меня настигает Оксанкин звонок:
– Ну, как прошло?
Я что-то и правда очень устала, не хочется пускаться в подробности:
– Нормально, потом все расскажу. Вместе по телевизору посмотрим, хочешь?
Оксанка чуть-чуть молчит, потом произносит нерешительно:
– «Телевышку» не дали?
Меня разбирает смех:
– А ты надеялась, что все-таки дадут? Передумают, да? Нет, Ксанка, чудес не бывает.
Оксана говорит окрепшим голосом:
– А вдруг, бывает? А может, бывает?
И я понимаю, что подруга моя потихоньку приходит в себя. Надо бы поддержать ее в этом направлении, как-то укрепить хорошее настроение какой-нибудь новой затеей.
– Приеду к тебе на днях, ладно? Если мой проект пройдет на худсовете, будем готовить следующую передачу о тебе.
Подруга моя смеется:
– Так, оказывается, твоя передача называется «Я – брошенная женщина»? Я приду, поделюсь опытом, только свистни.
* * *
Уже дома я решаю: завтра поеду к папе, давно у него не была.
Меньше двух часов на машине – и вот я в городе своего детства. Он, конечно, изменился с тех пор, стал выше и шире, но милая провинциальность, которую не спрячешь, выглядывает и из окон пятиэтажек, и из глянцевых стеклопакетов новых – то ли каркасных, то ли монолитных (как бы это выучить, наконец?) – домов.
Наверное, так же скромно провинциальность выглядывает и из меня, вот уж почти двадцать лет как столичной жительницы.
Папа по-прежнему живет в нашей квартире напротив городского рынка. Он теперь на пенсии. Освободилось время для любимой его рыбалки, вот он и пропадает на окрестных водоемах с начала и до конца сезона. Слава Богу, подледный лов не уважает, а то я уж и не знаю, как переживала бы эту «тихую охоту». На рыбалочке-то папа любит «усугубить»: компания единомышленников у него есть. Эх, и ведь переучивать уже поздно…
Когда я начала взрослеть, мой папа стал дарить мне на дни рождения письма. То есть подарки он дарил тоже, но вместо открытки всегда писал длинное содержательное письмо.
Письма были очень назидательными, с какими-то яркими примерами из жизни, даже со стихами, и, конечно, это было… компиляцией. Он писал их ответственно, как экзаменационное сочинение: подбирал литературные первоисточники, придумывал эпиграф. Милый мой папа, смешной мой папа… Только в конце он подписывался всегда одинаково: «Твой папка, моя лапка». Это был наш пароль.
Я выгружаю из машины сумки и пакеты: по привычке волоку гостинцы из Минска. Папа всегда говорит: «Ты как в пионерлагерь едешь». Ну конечно, мой «юный пенсионер» крайне неприхотливый в быту – может целый год прожить исключительно на жареной картошке. Да, еще готов с утра до ночи пить чай с лимоном, прикусывая намазанный маслом и присыпанный солью батон. Главное, чтобы в доме были сигареты, спички, ну и… закусить!
Папа встречает меня радостно, хотя я и предупредила его звонком, берет из рук пакеты:
– Ну вот, опять родительский день в пионерлагере. Чего ты, Ритка, нагружаешься? Слава Богу, не голодаю. Сейчас обедать будем.
Иду мыть руки с дороги, попутно отмечая казарменный порядок в комнате, новые занавески на кухне и серенькие тапочки, примерно 36-го размера, в прихожей.
О, папа к моему приезду напек блинов, нажарил рыбы и… насолил малосольных огурчиков?! Я беру один крохотный зеленец и звонко хрумкаю, вопросительно кивая на эту вкуснятину:
– На рынке купил или сам замолосолил?
Папа улыбается себе как-то «в усы», хотя усов сроду не носил:
– Ну какая разница? Вкусно же… Не выпьешь со мной?
– Я же за рулем.
Только теперь начинаю замечать, что папа мой не просто аккуратно, а, пожалуй, и модно подстрижен, что в доме пахнет не только сигаретным дымом, но и какой-то бытовой химией. Ага, новая стиральная машина на кухне…
– Папа, у тебя завелся что ли кто-то?
Папа смеется:
– А что это за слово такое – «завелся»? Машина заводится и тараканы. Познакомился с хорошим человеком, дружим, общаемся, ходим друг к другу в гости. Не спросила бы, сам бы рассказал. Вот глазок у тебя, доча… Все-то ты видишь, все-то замечаешь.
Смеюсь и я:
– Как зовут хорошего человека? Я по размеру ноги еще не научилась отгадывать.
– Какой размер? А… Катя ее зовут.
Я свищу неважно, но тут присвистываю:
– Специально искал, чтобы имя не перепутать?
Отмахивается папка от моих шуточек:
– Кого я искать буду, в шестьдесят с заячьим хвостом. Так уж сложилось. Захочешь – познакомлю в следующий раз, она в соседнем подъезде живет, недавно переехала.
– Удобно, – говорю я. Ладно, хватит допрашивать папу. Судя по всему, не очень-то он расположен пока меня в личные дела посвящать. Видно, ничего еще твердо не решено, несмотря на тапочки в прихожей и купленные для совместного удобства предметы обихода.
На самом деле я больше рада, чем нет. В свете последних событий, когда, может так случиться, нам с Мишей придется уехать… Надо же, вот я об этом и подумала, как о вполне возможном варианте. И ведь так спокойно подумала…
Раньше я все мечтала, чтобы родители на старости лет помирились, снова жили вместе, но… Мама очень хорошо прижилась в Минске: мне иногда кажется, что она теперь больше минчанка, чем я сама. Обиды на папу, конечно, тоже перестали быть актуальными, но и начать сначала у них не получилось бы. Я никогда не давила на нее, понимая, что мною движут эгоистические соображения, а их жизнь – это их жизнь.
И я стала рассказывать папе про свое бытье-житье. Не уходя в личные подробности, расписала свой новый проект и наполеоновские планы про то, как общалась в эфире со своим непосредственным начальником, весьма непосредственным начальником…
С юмором рассказала и даже показала в лицах, как вручали «Телевышку». Папа хохотал и заверил меня, что обязательно посмотрит передачу, хоть мне ничего и не дали. Наверное, удивится, что все там происходило не так забавно, как изобразила я…
Ничего не рассказала ему о наших с Мишей делах. Сама еще ничего толком не знаю… Рассказала, что мама с Катькой уже две недели плещутся в Черном море на юге Болгарии, когда звонят, то обе верещат от радости, как дельфины, и дают мне послушать, как шуршит прибрежная волна…
Папа рассказал о серьезных недоработках, допущенных итальянскими конструкторами спиннингов, и своем личном вкладе в их усовершенствование, различия клева на опарыша и дождевого червя, принципиальную разницу между собственно опарышем и дождевым червем. Потом мы вместе, по памяти, но со знанием дела оценили вкусовые качества стародорожского самогона и виски «Баллантайн»: по нашему общему мнению отечественный натурпродукт проигрывал знаменитому шотландскому брэнду только в вопросах рекламы. Книга «Похороните меня за плинтусом» папе понравилась, а вот фильм нет.
…Мы бы еще долго так сидели за столом, курили на балконе и болтали – обо всем, ни о чем, только бы слышать родной голос подольше. Но уже вечереет, пора в дорогу. Папа и сам торопит меня:
– Лето – летом, а все равно темнеет. Уже в восемь свет не тот. Ты осторожнее давай там, на дороге…
Целую отца в щеку, он меня – в обе:
– Недельки через две приезжай: лещиков насушу, пивка попьем с тобой, а может, Мишу прихватишь с собой?
Машу рукой:
– Сама приеду, а про Мишу обещать не буду. Такой он у меня занятой…
Перед тем как сесть в машину машу папе рукой. Он стоит на балконе, облокотился на бордюр, курит. С этого расстояния – очень красивый мужчина: плотный, густобровый, улыбчивый. Хоть куда!
Я уезжаю с легким сердцем. Мой маленький «реношка» бодро трогает с места… и через полчаса, с жалким вяканьем в моторе, застревает, не доехав до какой-то деревушки пару километров.
Глава 18 Я лечу…
Ну, и что делать? Лезу в сумку за мобильником и… о, ужас! Мобильник разряжен и, судя по всему, давно: дисплей глухо темный, на все попытки включения сурово отвечает: «Разряжен. Зарядите аккумулятор». То-то никто не звонил мне весь вечер! Я еще подумала: «Вот, и никому я не нужна…»
Подведем неутешительный итог: ни до мужа, ни до эвакуатора мне не дозвониться. Просить помощи у проезжающих мимо машин? М-м… что-то страшновато, не хочется незапланированных приключений.
До деревни Денаричи я не доехала совсем чуть-чуть, дойду пешком и все звонки сделаю из ближайшей к дороге хаты.
Хорошо, что я в брюках и спортивных туфлях без каблуков: иду споро. Ни одной несущейся по трассе машине, к счастью, не приходит в голову остановиться и спросить у одинокой девушки, куда это она идет в такое время.
Мне хватает двадцати минут, чтобы достичь цели. И вот я уже взлетаю на крыльцо и, не найдя звонка, стучу железной круглой ручкой в дверь. Вообще, в деревнях ложатся спать рано и встают до рассвета, но в этом доме еще не выключили свет.
– Иду… – слышится голос из-за дверей. – А чего ты стучишь, открыто же…
И тут женщина видит, что на пороге стоит кто-то незнакомый.
– Добрый вечер, – говорю я. – Вы извините меня, пожалуйста, у меня проблема. Вы не разрешите мне позвонить мужу в Минск? У меня авария случилась, я машину на дороге бросила… Я вам денежку оставлю…
– Заходите, – говорит женщина. И включает свет в просторной прихожей, которая больше всего похожа на студию, как говорят в Европе. В одной стороне – кухонный комплекс и обеденный стол, в другой – стиральная машина, гладильная доска, у стены – диван, дальше – широкий коридор, уводящий в другие помещения, телевизор, укрепленный под потолком…
Да, телевизор. Как же без него.
– Ой! – радостно изменившимся голосом вдруг говорит женщина и, чуть повернув голову, кричит: – Денис! Денис! Иди, посмотри, кто к нам в гости приехал! Ой, я же вас не узнала сразу… Пойдемте, пойдемте, вот телефон, тут…
Из комнаты выходит молодой парень, видимо, сын хозяйки, смотрит на меня с интересом и тут же смущается:
– Здравствуйте.
Что говорить дальше, он не знает. Я отвечаю на его приветствие и снова обращаюсь к хозяйке, одновременно набирая номер Миши:
– Мне ужасно неудобно, но… можно, я тут у вас подожду, пока за мной муж приедет?
Женщина уже с совершенно осознанной улыбкой, которая адресована не просто незваной гостье, а лично мне, говорит:
– Да ради бога! Сейчас на стол накрою, покушайте с дороги…
В телефонной трубке возникает голос Миши:
– Да, слушаю вас.
– Миша, это я, Рита.
Миша хмыкает:
– А я думаю, что это за номер такой странный… Привет. Ты где?
– А ты где? – спрашиваю я в свою очередь, понимая, что уж точно он не дома, раз не заметил моего отсутствия.
– Я на работе еще… А что случилось?
– Я сломалась на дороге. И телефон сдох. Приезжай за мной, я в деревне Денаричи.
– А ты у отца была?
– Ну да, я от него уже возвращалась…
– Так…
Терпеливо жду его решения, но тут подает голос скромный Денис:
– А какая машина у вас?
– «Рено Меган», – отвечаю я ему, прикрыв трубку ладонью. Слышу, как, так же прикрыв трубку ладонью, что-то кому-то говорит Миша.
– А что случилось с машиной?
Я смотрю на парня внимательнее, потом кричу мужу в трубку:
– Миша, когда определишься, позвони на этот номер.
– Хорошо, пару минут.
Я кладу трубку на рычаг, продолжаю беседу с Денисом:
– Я не специалист… квакнуло что-то, потом треск и… все.
Парень глубокомысленно кивает.
– А где машина – впереди или за деревней?
Я невольно улыбаюсь: юный Денис, похоже, не просто так интересуется.
– Я из Молодечно ехала, до вас, может, километр не доехала.
Денис говорит:
– А мы сейчас с батькой посмотрим, что с вашей тачкой. Он как раз соседу помогает, у него «ниссан» гавкнулся. Давайте ключи.
Я нерешительно тянусь за сумкой. Денис ободряюще машет рукой:
– Не бойтесь, давайте.
Из комнаты выходит хозяйка: она переоделась и выглядит теперь моложе. Теперь я вижу, что она старше меня, но моложе моей матери. Видимо, Денис не единственный ее ребенок, а младший. Она приветливо говорит:
– Как вас называть можно?
– Рита, – говорю я.
– Денис, беги скорее, батьку зови. Они починят, не сомневайтесь. И мобильник свой подключите, вон розетка. Подзарядка есть? А то ночуйте у нас, тут всем места хватит. Пойдемте за стол, чай готов.
Я втыкаю в розетку подзарядку, и мы садимся за стол. Мне все же не очень ловко, а вот она смотрит на меня с улыбкой и нескрываемым интересом. Честно говоря, я давно привыкла к нему: людям всегда забавно видеть человека «из телевизора». Как будто я сказочный, вымышленный персонаж…
– А что в Молодечно делали? К передаче, может, готовились?
– У меня там папа живет. Я в Молодечно выросла, школу закончила, – отвечаю я, с неожиданно проснувшимся аппетитом накалывая на вилку кусок домашней колбаски.
– Да что вы? – непритворно радуется женщина. – Ой, меня Елена Петровна зовут, я же не сказала. Так вы землячка наша, да?
– Ну да, – говорю я с набитым вкуснятиной ртом. И почему-то мне становится необыкновенно весело и легко. Мне даже хочется рассказать Елене Петровне, как я хорошо съездила к отцу, но в это время звонит телефон.
– Муж, наверное, – догадываюсь я и подбегаю к телефону.
– Рита! – голос Миши звучит озабоченно. – А тебя там потерпят еще часок-полтора? Не могу вырваться, заяц. По селектору с Екатеринбургом переговариваемся, раньше трафика не было… ну, не прогонят? Я через час, примерно, выеду.
– Елена Петровна, можно еще у вас побыть, муж только через часа полтора приедет? – спрашиваю я.
Хозяйка с готовностью кивает:
– Рита, а можно, я еще соседку, Веру позову? Пусть она на вас тоже посмотрит, полюбуется…
Я смущаюсь совершенно непритворно. Посмотреть на меня? Здесь, в этих Денаричах, как между небом и землей. Кто я здесь: столичная телезвезда Маргарита Дубровская или просто молодая женщина Рита, родом из этих мест, случайно попавшая в гости к землякам? Но все равно киваю: пусть приходит, не мне же выбирать гостей в этот вечер.
На пороге, буквально через пару минут, возникают Вера, Денис, его отец и еще какой-то мужчина, видимо, сосед.
Все они радостно оживлены: починили мою «птичку», в доме – неожиданное застолье… Хозяин дома тянет довольно замасленную руку:
– Здравствуйте! Сюда на вашей приехали, так что…
– Руки помой, потом «здравствуйте», – строго говорит Елена Петровна, расставляя еще тарелки.
Но я успеваю пожать эту рабочую руку:
– Спасибо вам…
Мы еще сидим некоторое время за столом, говорим все сразу. О чем? А колбаса вкусная! Дороги у нас хорошие. Молодежь все равно спать под утро ложится – хоть в городе, хоть в деревне! Выпить – это ничего, можно иногда, наркотики – вот где ужас… А настроение у меня всегда хорошее, это правда… Волосы лучше гладко зачесывать, мне так «лучше идет». Дочь Катя, муж Миша…
Ух ты! Забыла про мужа Мишу!..
Несусь к мобильнику:
– Миша, меня починили! Сама приеду, не спеши!
– Может, дождешься, одиннадцатый час все-таки?
– Нет, все в порядке, я сама! Ты дома жди.
– Ты не лети только…
* * *
Но я лечу. Я лечу в этой теплой тьме, не глядя на спидометр, согретая отцовской любовью и чужим, но почему-то тоже родным домашним очагом. И мыслей почти нет, только нежность, темнота и неясная надежда…
Я уже вижу приближающиеся огни столицы, когда в сумке звонит телефон. Я знаю, кто это звонит, но отвечать не буду.
А завтра – увидимся.
Рифмуется с любовью…
В дверь кабинета Ольги Николаевны негромко постучали. Конечно, это дежурный врач Ирина Сергеевна. «Могла бы и не стучать, это же не гостиничный номер», – подумала Ольга. Она знала, что Ирина Сергеевна таким нехитрым образом проявляет свое уважение, а если уж совсем откровенно – приучает к подчеркнуто уважительному отношению ее, Ольгу, не так давно занявшую пост заведующего отделением старшего возраста в детском онко-гематологическом центре. Обращается к ней теперь большей частью официально, по имени-отчеству, особенно при сотрудниках, хотя иногда точно так же прилюдно называет – то ли по ошибке, то ли по привычке – просто Олей, как это повелось у них давным-давно, с тех пор, как они стали работать вместе…
А ведь, и правда, уже немало лет прошло. Сколько – семь? Восемь? Больше?
– Оля, соседке твоей сегодня получше, уже можно подойти.
– Температура упала?
– Да, почти нормальная. Скачет пока.
– В динамике понаблюдаем. Напугана девчонка?
Ирина Сергеевна с сомнением покачала головой:
– Не знаю. Виду не подает. Интересная девочка: то ли очень хорошо воспитанная, то ли такая гордая…
– И то, и другое.
– Ты ее родителей знаешь?
– Не близко. Виделись иногда, здоровались через раз. Они живут в соседнем подъезде. Марина с моей Наташей в параллельных классах учатся.
– А почему ее в отдельную палату попросили после реанимации положить? С девчонками все же лучше было бы, наверное…
– Попробую узнать.
– Я так поняла, папа из «новых»?
Ольга задумчиво пожала плечами.
Однажды ярким летним воскресным утром поднявшаяся по привычке рано Ольга смотрела из окна кухни во двор. Из соседнего подъезда вышли трое – мама, папа, дочь.
Ольга знала, что девочку зовут Марина Бохан, она училась в восьмом «Б» классе, а вот с ее родителями знакома не была. Впрочем, с самой девочкой она тоже не знакомилась: Наташа с Мариной подругами не были. Просто Ольга Николаевна знала, что эта красивая стройная девочка – сверстница дочери. Довольно высокая, с темными блестящими волосами до плеч, ровно подстриженными, как у моделей «Космополитена», Маринка очень красиво двигалась. Ольга всегда ставила ее в пример Наташке: «Выпрямись, не сутулься, смотри, как девочка замечательно ходит, как струнка». Дерзкая ее Наташка беззаботно отмахивалась: «Она с пяти лет танцами занимается, а ты меня зачем-то в художественный уклон отдала. Теперь она ходит как струнка, а я рисую, как… Кукрыниксы».
Маринкин папа – невысокий, плотный моложавый мужчина с приятным улыбчивым лицом – судя по всему занимался каким-то бизнесом. Навряд ли он был крупным дельцом. Жили-то они, в конце концов, по соседству, разве что квартира у Боханов была четырехкомнатная, кажется…
Мама – очень хрупкая, всегда немного грустная большеглазая женщина, ровесница Ольги, не работала, наверное поэтому у нее чаще всего был такой скучающий вид, а может просто Ольге она попадалась не в настроении.
В то утро они подошли к своему нарядному джипу «Kia» цвета морской волны и какое-то время стояли рядом, о чем-то переговариваясь. В руках у отца были объемные сумки, Марина держала сетку-авоську с арбузом, мама шла налегке. Наверное, собирались на пикник. Эта радующая глаз картина была похожа на рекламный ролик: дочь с отцом засмеялись чему-то, а мама казалась по обыкновению немножко меланхоличной. По ее лицу было заметно, что она пытается понять, над чем смеются ее муж и дочь, но мысли ее далеко. Она улыбалась мягкой, немного отсутствующей улыбкой. Ольга, наблюдавшая за ними, стала невольно повторять их мимику: сначала улыбалась, потом так же, как красивая мама девочки, чуть удивленно приподняла брови…
Почему Ольга Николаевна вспомнила то прелестное утро именно сегодня, когда в восемнадцатой палате лежала с пугающим диагнозом (а других у Ольги в отделении просто не было) красивая девочка Марина? Наверное потому, что тогда, летом, ей показалось: у этих людей нет и не может быть проблем, такие они спокойные, жизнерадостные и благополучные. Она была в этом так же твердо уверена, как в ясном солнечном утре за окном.
* * *
В палате у Маринки сделали все, чтобы комната как можно меньше была похожа на больничную палату. Одеяло принесли свое, яркое и легкое, поставили маленький портативный телевизор, рядом – такой же небольшой магнитофон, на подоконнике рассадили пять кукол Барби в разных нарядах.
Маринка сидела на кровати, откинувшись на две подушки, немножко бледная, особенно по контрасту с развеселой пестренькой пижамкой, и очень серьезная.
Когда Ольга вошла в палату, девочка удивилась. Узнала. Нет, пожалуй, даже обрадовалась.
– Здравствуй, Марина, – произнесла Ольга Николаевна и улыбнулась, как улыбнулась бы хорошей знакомой, подруге дочери.
– Здравствуйте.
Ольга взяла стул и пододвинула его ближе к кровати. Журнал регистрации и ручка в ее руках – только повод для неурочного визита. Она приветливо, с симпатией смотрела на Маринку.
– Узнала меня?
– Конечно. Простите, я…
– Меня зовут Ольга Николаевна.
– Я знаю, вы мама Наташи Ботяновской.
– Да, и теперь еще твой лечащий врач.
Марина опустила глаза, минутное оживление прошло. Ольга открыла свой журнал, взяла со стола градусник, встряхнула его и протянула девочке.
– Как ты себя чувствуешь сегодня?
– Нормально.
Пауза.
– Замечательно, – пауз быть не должно. Лечить надо всем – словом в том числе. Каждое слово, произнесенное рядом с больным человеком, должно нести успокоение и, по возможности, искреннюю надежду. «Температуры нет – уже хорошо. А завтра будет еще лучше, а послезавтра, возможно…» Ничего не возможно, послезавтра никого не выписывают с подозрением на острый лейкоз. Маринке об этом знать не обязательно, но Ольга-то знала наверняка.
– Ольга Николаевна, я что… умру? – вопрос был произнесен старательно спокойным голосом, но вот страшное слово выговорить без запинки и взрослому не под силу, а тут – дитя. Взрослеющее, но все-таки дитя. Ольга перестала заполнять журнал, подняла на девочку глаза. Секунду оценивала ее настроение, а потом ровным будничным голосом, без какой-либо деланной бодрости ответила:
– Нет, не умрешь.
Опять зависло молчание. Видно было, что Марине очень хочется спросить о многом, но что-то мешает. Что? То же, что и Ольге – страх. Ужас, не прошедший после возвращения из пылающего тошнотворного забытья, дремлющий до поры в каждом…
– Раньше с тобой было что-нибудь похожее? – спросила Ольга осторожно, но все так же буднично, как если бы речь шла о насморке.
Марина задумалась ненадолго и кивнула.
– Не так, но… как-то зимой на физкультуре стало плохо, голова закружилась, я даже упала. В медпункте сказали, что это возрастные изменения. Я вообще устаю очень часто. Мама говорит: «Привет тебе от компьютера, от Масяни твоей ненаглядной…»
Марина улыбнулась, вспомнив, наверное, маму, а может – Масяню. Ольга, понятия не имеющая, о ком идет речь, все же кивнула и, пользуясь минутным изменением настроения девочки к лучшему, спросила мягко:
– Ты уже немножко освоилась тут?
Маринка подняла на нее вмиг похолодевшие глаза:
– А мне нужно освоиться? Я что, надолго сюда?
– Пока не знаю. Нужно пройти полное обследование. Маринка помялась немного и все-таки, наконец, решилась:
– Ольга Николаевна, я не ребенок, со мной можно по-взрослому разговаривать. Скажите мне правду.
Ольга невольно улыбнулась: «Хорошая какая девчонка, отважная…»
– Начнем с того, что ты все-таки ребенок, и уже поэтому у тебя максимум шансов на выздоровление. Детский организм не спрашивает у своего хозяина разрешения, вопросы провокационные ему не задает, как ты, он просто хочет быть здоровым. Твой организм сделает все возможное, чтобы поправиться, я тоже. И не я одна, так что лучше нам, Маринка, не мешать.
– Чем? – едва слышно произнесла Марина.
– Настроением мрачным, вопросами вот такими неправильными.
Помолчали. Ольга взяла градусник, посмотрела, встряхнула. 38.7, ничего хорошего.
– А ты не заскучаешь одна в палате?
– Я люблю быть одна, привыкла.
– Потому что одна у родителей?
– Я везде одна. У родителей одна, у бабушки с дедушкой одна, в школе одна.
– У тебя что, подружек нет?
Опять настороженный взгляд.
– А это имеет отношение к моей болезни?
Ольга даже смутилась: как, однако, умеет держать дистанцию эта девочка!
– Иногда не знаешь, что имеет, а что нет. Хорошо, Марина, я поняла, что тебе надоели мои вопросы, впредь я буду менее любопытна.
Маринин взгляд смягчился, она даже попыталась улыбнуться:
– А можно я тоже вас кое о чем спрошу?
– Конечно.
Несколько секунд Марина смотрела на Ольгу пристально, изучающе. Ольга постаралась не показать замешательство, но… уж очень умные у девчонки глаза. Нет, почему-то передумала спрашивать:
– Ну хорошо, я подумаю и потом спрошу.
Ольга встала, мягко прикоснулась к худенькому плечу девочки.
– Я вечером еще раз приду.
И уже у дверей, взявшись за ручку, оглянулась на Марину еще раз:
– Только не спрашивай, какова длина Дуная и как в телефон голос по проводу попадает. На остальные вопросы я постараюсь ответить.
Маринка улыбнулась чуть теплее чем раньше. Поняла, что Ольга Николаевна хочет поднять ей настроение, хотя бы незамысловатой шуткой.
Ольга закрыла за собой дверь и на секунду остановилась. Проходивший мимо высокий молодой человек в белом халате поздоровался с ней; она, очнувшись от тяжелых мыслей, ответила и пошла к себе.
«Стоит ли уговаривать родителей положить ее вместе с другими девочками? Она, пожалуй, слишком хорошо понимает свое положение. Слишком… Речь правильная, девчонка начитанная. Все она понимает… Еще и другим объяснить сможет».
* * *
Геннадий вбежал в вестибюль больницы, нажал кнопку лифта, нетерпеливо посмотрел на табло: лифт стоял на предпоследнем этаже. Ладно… Быстрым шагом он направился в сторону боковой лестницы, побежал по ней вверх через две ступеньки, считая этажи и на ходу вытаскивая из сумки белый халат.
Вот и четвертый этаж. Выход с лестницы прямо посередине длинного коридора, по одну сторону которого палаты, по другую – широкие окна. Направо или налево? У кого бы спросить? Время для посещения неурочное, и медперсонала что-то не видно.
Лифт приехал. Из него вышла и уверенно направилась куда-то направо пожилая женщина. Солнечный свет, льющийся из широких окон, очень ярок. Бабуля под ним – как на ладони: разношенные старые туфли на низком резиновом ходу, бордовая трикотажная кофта, темная немаркая юбка, простые чулки, платочек беленький на голове повязан… Простая деревенская женщина, похожая на многих. Похожая…
Гена внезапно почувствовал, как в горле встал комок. Сам не понял, как негромко окликнул:
– Мама!
А женщина услышала и обернулась.
Конечно, это не мама – мамы уже нет… У пожилой женщины доброе милое загорелое лицо, напевный голос с сильным полесским акцентом. Именно с полесским, Гена сразу понял это, когда она, дождавшись, когда он подойдет ближе, ласково заговорила с ним:
– Памылiўся, сынок?
– Да, извините…
– А чаго ж ты iзвиняешся? Хiба ж ты мяне пакрыўдзiў? Засмеялась тихим, застенчивым смехом:
– Нават бабулей не назваў – «мама»… Хто жа на «маму» пакрыўдзiцца? Пахожа на мацi тваю? Жывая яна?
– Умерла два года назад.
– А-а… Царства нябеснае…
Пошли рядом. Женщина покивала головой, сочувственно глянула на Гену снизу вверх:
– А тут у тебя кто, сынок?
– Дочка.
– Маленькая?
– Пятнадцать лет.
Снова кивнула бабуля. Вздохнула тяжко:
– А у мяне ўнучачка маленькая, шэсць гадкоў усяго. Хварэе.
Дальше шли молча до места, где коридор разделял воздушный переход в соседний корпус. Женщина остановилась, посмотрела на Геннадия и, помешкав немного, перекрестила его:
– Помогай тебе Бог, сынок.
Посмотрела ему в глаза и добавила:
– I нiчога ты не памылiўся. Усе мы тут родныя. Ва ўсiх гора адно.
Пошла своей дорогой, медленно переставляя заметно уставшие ноги.
Геннадий посмотрел ей вслед, потом повернулся и пошел по коридору в противоположную сторону, читая таблички на дверях.
Вот, наконец, то, что нужно: «O. Н. Ботяновская». Коротко постучался и, не дождавшись приглашения, вошел:
– Ольга Николаевна, здравствуйте.
Ольга, что-то искавшая в книжном шкафу, обернулась:
– Здравствуйте…
На лице у вошедшего мужчины – удивление, радость узнавания и… какая-то неожиданная надежда. Он даже заулыбался:
– Это вы? Надо же!
Ольга улыбнулась в ответ:
– Садитесь, пожалуйста.
– Как хорошо, что это вы… – с волнением в голосе проговорил отец Марины. – Мне будет легче с вами разговаривать. А я не знал, что вы врач, то есть я, кажется, слышал, но не думал…
Помолчал, то и дело пятерней ероша длинноватые волосы…
– Не знаю, с чего начать…
– Простите, как вас можно называть? Геннадий… – решила помочь ему Ольга Николаевна, вспомнив запись из истории болезни его дочери.
– Можно просто Геннадий, Гена.
Что-то в Ольгиных глазах, а может, просто ее белый халат, заставило Геннадия продолжить:
– Степанович.
– Геннадий Степанович, я пока не могу сказать вам ничего определенного. В течение недели, может быть, полутора-двух будут сделаны все необходимые анализы, тогда можно будет говорить о чем-то конкретно.
Ольга старалась говорить как можно мягче: ей понятно было состояние отца. Сколько раз она произносила похожие слова, скольким мамам и папам.
Геннадий набрал полную грудь воздуха и выговорил главное, то, ради чего пришел:
– Я хотел бы вывезти дочь на лечение за границу. Когда и как я смогу это сделать? Объясните мне механизм, так сказать, в какой последовательности…
В первый момент Ольга смотрела на Геннадия с удивлением, впрочем, только в первый момент, – и это не однажды бывало в ее практике.
– Геннадий Степанович, давайте не будем забегать вперед. Кроме того, заграница – не Мекка, не панацея. Не исключено, что Марине мы сможем помочь здесь, дома, своими силами.
Ольга почувствовала вдруг, что начала заикаться, чуть ли не мямлить: не могла подобрать нужные, убедительные слова – очень мешало какое-никакое, а знакомство, просто соседство с этим человеком. Ей стало стыдно перед самой собой – что это она вдруг?
– Я не хочу говорить резкости, но вы, надеюсь, не рассуждаете по принципу «нет пророка в своем отечестве»? – взяв себя в руки, спросила она довольно холодно.
Геннадий немного смутился. Но решимости не утратил:
– Я… совершенно безотносительно… я не имел в виду вас конкретно, вообще наших врачей… но… Нет, я не хочу оправдываться! И не буду. Вы же не будете спорить, что уровень…
Ольга выслушала его длинную сбивчивую тираду молча. Потом сказала тихо, без малейшего пафоса, без агрессии:
– Поверьте мне, «квасной патриотизм» тут ни при чем. Да, многое оставляет желать лучшего. Странно было бы спорить по поводу оборудования – на восемьдесят пять процентов оно не наше, и медикаменты мы используем большей частью импортные. Уход, возможно, тоже лучше у них, но что касается квалификации, может быть не стоило бы так категорично…
Геннадий красноречиво прижал руку к сердцу, но Ольга жестом попросила не перебивать ее:
– Оправдываться я ведь тоже не собираюсь, ни в коем случае. И к диспуту нашему не готовилась заранее, поэтому точных цифр не назову, но вы уж поверьте, я же практикующий врач: процент излеченного лейкоза у детей в возрасте Марины и у них, и у нас примерно одинаков. Да, я скажу страшную вещь: одинаково невысок. Взрослых это впрочем, к сожалению, тоже касается.
Геннадий неожиданно резко перебил Ольгу:
– Я вам не верю.
Ольга замолчала. Трагических примеров своей правоты приводить не хотелось, а ведь они были, да что там – они были у всех на слуху…
Потом спросила очень тихо:
– Вообще мне не верите или в частности, по поводу статистики?
– Да не цепляйтесь вы к словам.
Только сейчас стало заметно, что Геннадий не просто расстроен, но и очень устал. Видимо, не спал ночью – глаза красные. Ольга посмотрела на него с сочувствием и пониманием, которого он от нее, видимо, не хотел принимать.
– Знаете, я ведь не враг ни вам, ни, тем более, вашей дочери. Мое твердое убеждение: кровь нужно лечить там, откуда человек родом, понимаете?
Геннадий устало, но при этом все равно иронично кивнул головой:
– Ольга Николаевна, а вы идеалистка.
Ольга опустила глаза: все, что угодно, только не идеалистка. Ей ли, с ее опытом, так часто печальным, трагическим, кидать в лицо ни на чем не основанные обвинения. Идеалистка? Звучит почти как идиотка. При чем тут идеализм… Да, она в глубине души считала себя оптимисткой, но вслух этого никогда и никому не говорила. Была суеверной. И это скрывала. Верила в Бога. Но не считала нужным афишировать и свою веру.
Без веры в этой профессии работать нельзя – так считала Ольга. Конечно, она знала немало людей, которых можно было смело называть профессионалами и которые работали, даже не задумываясь о столь высоких материях. В большинстве своем они честно и ответственно, насколько хватало совести и умения, исполняли свой долг. Чаще всего их было не в чем упрекнуть. Ну, разве что в… излишне спокойном отношении к делу. Работа, мол, как работа… Заметнее всего это спокойствие – вот ведь в чем ужас! – было пациентам. А ведь они работали и работают с детьми.
И все-таки ей претили досужие разговоры о так называемом профессиональном равнодушии и цинизме. Не судите! Им все равно, несмотря ни на что, «есть чем оправдаться перед Богом».
Геннадий видел, что Ольга искренне огорчена финалом их разговора. Видно по ней, что она просто хороший человек. И все же он решил не сдаваться. Решила не сдаваться и она.
– И все-таки… Мы еще поговорим на эту тему, – попробовала не обидеться Ольга Николаевна.
– На эту – навряд ли, – отрезал Геннадий. Встал:
– Я могу сейчас навестить Марину?
Ольга посмотрела на часы над дверью кабинета:
– Сейчас тихий час.
– Я ждать не могу, у меня времени мало. Время для меня теперь, знаете ли, как никогда, – деньги.
Ольга Николаевна кивнула, понимая, что Геннадий не просто остался при своем мнении – он настроен на решительные действия. Что ж, это его отцовское право. Неизвестно, в какие двери кинулась бы стучать она, Ольга, если бы…
– Если она не спит, конечно, зайдите. Вы ведь никого не побеспокоите: кроме нее, там никого нет.
Все-таки проскользнуло в интонации какое-то недопонимание… Геннадий почувствовал его и усмехнулся:
– У Марины непростой характер, Ольга Николаевна. Она всегда выбирала, с кем быть, сама. Ей сейчас трудно, наверное, не время менять ее привычки.
– Знаете, изоляция, даже добровольная, в ее состоянии – не самое лучшее. Ей бы отвлекаться чаще на что-то, просто с кем-то болтать…
– Маринка не болтушка. Она…
Геннадий улыбнулся неожиданно милой, обезоруживающей улыбкой. Улыбнулся так нежно, будто дочка оказалась рядом. Сразу стало видно, что он очень любит дочь и по-настоящему страдает.
– Она – философ.
Ольга невольно улыбнулась в ответ, вспомнив серьезную девочку, умеющую так четко формулировать свои мысли. И не стала рассказывать отцу, какие «философские» вопросы задает его Марина.
– Пойду.
– До свидания, Геннадий Степанович.
Дверь за Геной закрылась.
Ольга задумчиво повторила:
– До скорого свидания…
* * *
Утром Ольга, стараясь производить как можно меньше шума, причесывалась возле зеркала, когда из соседней комнаты послышался заспанный голос дочери:
– Мама, я сегодня к папе поеду.
– Он сам к нам собирался в субботу приехать: бабушка яблок из деревни передала… – откликнулась Ольга и заглянула к дочери.
Наташка потягивалась, но вставать, по всему видать, не собиралась.
– Вставай, Наташка, стройся, сейчас ЦУ на день буду давать.
Ну, конечно, так и встанет Наталья по команде: перевернулась на живот, змейкой переползла на другой край кровати, чтобы было видно сквозь открытую дверь, как мать причесывается:
– Папа звонил? А я где была?
Ольга в тон дочери повторила:
– А ты где была?
Наташа засмеялась. И надо же – вышла все-таки из своей кельи в пижаме, завязанной узлом на загорелом животе, начала расплетать растрепанную за ночь косу:
– Мам, в школу через две недели, дай хоть последние деньки как следует догулять, чтобы не жалеть, что лето кончилось.
И стала приплясывать у зеркала, как Бритни Спирс, покачивая бедрами, сверкая голым пупком и напевая при этом совсем из другого репертуара:
– Я так хочу, чтобы лето не кончалось!..
Ольга внимательно и нежно посмотрела на дочь, все той же танцующей походкой слоняющейся между кухней и комнатой. Взрослеет. Заметно округляется… Если не видеть совсем еще детского личика, можно подумать – девушка, настоящая…
Она не в состоянии была контролировать Наташку – просто времени не хватало, именно на контроль. И поболтать вроде успевали утром, и посекретничать иногда, и бытовые проблемы решить – ну, получалось же как-то, между делом. А вот следить за распорядком ее дня, режимом питания, фиксировать приход и уход – никак. Оставалось только доверять ей. Но, кажется, этот стихийно выработавшийся метод воспитания оказался вполне действенным. Об одном только просила Ольга у дочери, нет, требовала категорически: не курить! Наташка пообещала, что курить не будет. Честно рассказала, что пробовала, но ей не очень понравилось. «Не очень?» – переспросила Ольга Николаевна, грозно насупив брови. «Совсем мне не понравилось», – ничуть не струсив, успокоила Наташка.
Наверное, со временем возникнут проблемки посерьезнее, чем «курить – не курить»… Но это уж будем принимать, как говорится, по мере поступления. И… философски надо ко всему этому попробовать относиться. «Что миру – то и мамкиному сыну». Дочери, то есть.
И тут же, конечно, вспомнила про Марину. Уже стоя у дверей, оглянулась на дочь и спросила:
– Ты Марину Бохан хорошо знаешь?
– Знаю. И ты ее знаешь – она в соседнем подъезде живет.
– Она заболела очень серьезно, лежит у меня в отделении…
Наташка посмотрела на мать с каким-то недоверием. Молчала, думала.
Ольга спросила:
– Хорошая она девочка, Маринка?
Наташа задумчиво ответила:
– Нормальная. Потом помотала головой:
– Хорошая…
Потом засмеялась и добавила:
– Помнишь, как-то в мае жарко-жарко было, градусов под тридцать? Сережка Котовицкий поливал из шланга грядки под окном?
– Как жарко было помню, а как Сережка грядку поливал не помню, извини…
– Ну, не важно. Он-то петрушку, цветы поливал, огородик там у его мамы маленький, а жарко же…
– Ну и что?
– А то, что ребята в футбол играли, говорят ему: «Полей, Котя, сверху, сделай дождь…» Ну он и полил.
– А зачем ты мне все это рассказываешь?
– Да потому что он, когда струю воды на мальчишек направил, попал на лобовое стекло этого Маринкиного джипа!
– А дальше?
Наташка засмеялась, вспоминая ЧП дворового масштаба:
– А что дальше? Стекло-то темное, под солнцем за день нагрелось, а вода – холодная! Поняла?
– Что, лопнуло?
– Не просто лопнуло, а как…
Наташка подбирала слова…
– Как мозаика стало, в мелкую трещинку!
Ольга ахнула…
А дочь, довольная произведенным эффектом, продолжала:
– Котя зеленый стал от страха, как этот джип. Баксов семьдесят такое стеклышко стоит, прикинь! Где Котиной маме их взять?
Ольга кивнула понимающе…
– Так вот. Маринка отцу сказала, что это она сама, хотела, мол машину помыть, ну и…
Ольга улыбнулась, открыла дверь. А Наташка, уходя в сторону ванной, еще договаривала, уже больше сама себе:
– А ведь никто ее об этом не просил…
* * *
Геннадий вышел из магазина, направился к машине, припаркованной неподалеку, и тут его окликнул плотный симпатичный молодой мужчина с очень коротко стрижеными волосами. «Андрюха», – подумал Гена, не оборачиваясь. Так и есть.
– Гена, Ген!
Геннадий помахал другу рукой, мол, вижу, подходи, и вставил ключ в замок. Тот уже подбегал слега вразвалку: несмотря на то, что Андрей был моложе Гены лет на шесть-семь, он был грузноват, хотя круглолицего симпатягу-весельчака Андрюшку по кличке Чингачгук это не портило.
Гене не очень хотелось разговаривать сейчас с Андреем, но и обижать его не хотелось тоже. А он точно обидится, если отделаться парой фраз да уехать, куда глаза глядят…
Подбежал, запыхался:
– Привет! Ты куда пропал? Вчера Тимошка в «Данькове» праздновал тридцатник, спрашивал, чего тебя нет?
Геннадий, поворачивая ключ в замке, ответил спокойно:
– Не смог, Андрюша. Занят очень.
– Что, опять сам в рейсе был?
– Нет, Лешка поехал.
– А чего тогда?
Гена посмотрел на Андрея минуту-другую, на его веселое круглое лицо, раздумывая, стоит ли посвящать его в свои проблемы… Решил, что не стоит.
– Андрей, настроение не то.
– А вот и поднял бы! Очень неплохо отдохнули. Я еще и в рулеточку погулял классно. Просадил, правда, две штуки, но зато стресс снял! На месяц вперед! – Андрей хохотнул довольно, вспоминая, видимо, вчерашний вечер.
Гена кинул на него отчужденный взгляд. И даже сам почувствовал – нехорошо посмотрел на друга. Так смотрят не на друзей, а как раз совсем наоборот… На классовых врагов так смотрят, пожалуй. Переспросил, как будто не расслышал:
– Сколько продул?
– Две штуки, говорю, – а Андрей, по всему видно, испытывал удовольствие оттого, что легко может позволить себе такой проигрыш.
Гена непроизвольно помотал головой, как будто прогоняя нахлынувшие невеселые свои мысли.
Простая душа, Андрей, судя по всему, несколько озадачился странноватой реакцией друга:
– А чего ты, Геник? А для чего я ломаюсь, как папа Карло? Мне и Киска ни слова не сказала. Я ж зарабатываю… Я че, каждый день две тонны просаживаю? Я выигрываю, может, больше. Чем зарабатываю вообще…
Гена кивнул рассеянно, посмотрел на него длинно… «Сказать – не сказать? Нет, не сказать». И открыл дверцу:
– Все, Андрюха, извини. Спешу.
Андрей, уже начиная понимать, что все-таки что-то не то и не так, попытался задержать его:
– Ген, а что случилось-то? Может, тебе бабки нужны? Чего ты на эти две штуки так задергался? Я ж вижу! Тебе что, для дела не хватает? Ты, может, задолжал кому?
Но Гена уже сел в машину.
Андрюша все не мог успокоиться:
– Геник, я ж тебе сам по жизни должен, как белка лесу… Ты только скажи…
Геннадий, уже вставив ключ зажигания, ответил:
– Андрей, не в бабках дело. Вернее, не только. Ты не поможешь. И никто мне не поможет.
Машина тронулась с места.
Андрей остался в явном недоумении. Постоял, разведя руки, и еще сказал, уже вслед:
– Ну, я не понял…
* * *
Гена открыл дверь своим ключом. Прямо в прихожей на низенькой кожаной банкетке сидела Светлана, его жена. Голова запрокинута, глаза закрыты, руки замочком на животе. Она часто так руки складывала, когда Маринкой ходила…
Посмотрел и понял: она сидит в этой позе уже давно.
– Свет, ты чего тут сидишь? – Гена присел на корточки перед женой.
Света подняла на него полные муки большие глаза. Карие, как у дочери…
– Был у Марины?
Гена встал со вздохом, снял и повесил на вешалку куртку.
– Был.
– Как она?
– Нормально. Ну, в общем, нормально.
– Плачет?
– Нет. Вопросы вот только разные задает. А я ничего не могу ей ответить.
Подошел к жене, стал ласково перебирать темные, как у Марины, волосы.
Света тут же начала тихо, без всхлипов, плакать. Гена, обняв жену, быстро-быстро заговорил, гладя ее по голове, как маленькую:
– Не плачь, не плачь, Светка. Я все сделаю, не плачь. И деньги будут, все нормально будет. Я сегодня Чингачгука встретил, он тоже денег даст, если надо будет.
Света привыкла верить мужу. Уже немножко успокоившись, вытирая мгновенно покрасневшие от слез глаза, спросила у Геннадия:
– Ген, а почему вы Андрюшу Чингачгуком зовете? Потому что Каранчук?
Гена, все еще гладя Свету по голове, объяснил:
– Да он же свои первые деньги на гадах сделал. В смысле, на змеях.
Света, невольно улыбнувшись сквозь непросохшие слезы, пошутила:
– Он их что, на вес продавал? Или яд доил?
– Он их купил оптом, дешево, случайно почти. Смешная история… А потом показывал за большие деньги.
Света удивленно подняла брови:
– Кому?
– Ну не нам же с тобой… Людям. Выставку открыл в Тройке. У народа на руках тогда была денежная масса – инфляция, а ни хлеба особого, ни зрелищ не было. Вот все валом и повалили на его экзотических гадов смотреть.
Света вздохнула, неожиданно почувствовав какое-то странное облегчение. Даже засмеялась. И Гена от радости, что жена отвлеклась, продолжал свой рассказ про Андрюхины «миллионы», чтобы еще немного ее рассмешить.
– Сами сходили – друзьям рассказали, что вот, мол, питона с анакондой по улицам водили, как видно, напоказ… Из уст – в уста, из уст – в уста, короче, поперло тут Андрюхе. Немалую капусту он на этом деле срубил. Сам не ждал! Вот. А потом он, неблагодарный, всех гадов таким же оптом школе какой-то подарил с зоологическим уклоном, а сам издательский комплекс купил, небольшой такой.
Света, уже почти успокоившаяся, вытирая ладошками непросохшие ресницы, направилась на кухню. Гена – за ней, украдкой заглядывая в милое заплаканное лицо.
– И что издавал?
– Этикетки, обертки для кондитерских изделий печатал. Не сам, конечно. А уж потом занялся этим своим чугунным литьем. Это ему ближе как-то – каминные решетки, ограды, ворота опять же. Да и бизнес пошел неплохо. Сейчас вот навострился ворота свои чугунные с дистанционным управлением делать. Молодец!
Света, внезапно изменившись в лице, спросила:
– Так он сказал, что даст денег, да?
Гена вздохнул.
– Если попрошу, конечно, даст. Сколько сможет. Но я сначала сам постараюсь все сделать. Если надо будет, я все машины продам. Свою долю Леше продам. Главное – Маринку вылечить! А уж потом пойду к Андрюхе в рабочие наймусь, каминные решетки буду ваять…
Света посмотрела с нежностью на мужа:
– Ты же не умеешь…
– А знаешь: научись танцевать, а остальному горе научит…
Да. Напрасно. Напрасно произнес это слово – «горе». Так и есть: снова заструились слезы.
Но ведь шути – не шути, а горе, оно горем и останется. Геннадий добавил:
– Маринку наша соседка лечит, знаешь, из второго подъезда.
Света спросила, нахмурив брови:
– Кто это?
– Ольга Николаевна. Симпатичная такая, темненькая, волосы узлом, дочка ее с Маринкой вроде учится.
– А, да… Что она говорит?
– А что она скажет? Будем лечить, будем надеяться.
Света снова закрыла лицо руками, снова заплакала:
– Ген, ну за что? Ну почему Маринка? Разве я… Разве мы…
Гена, поняв, что утешения бесполезны, ушел в соседнюю комнату.
Это комната дочери. Когда въехали в новую большую квартиру, разрешили ей выбрать себе «помещение». Долго пришлось ютиться у Светиных родителей – втроем в одной комнатке… Ну, она и выбрала… Родители тогда переглянулись: спальня им в результате досталась куда меньше. Ладно, Маринка, владей!
Большое зеркало – во всю стену, как в тренажерном зале, станок – это Гена сам из толстого орешника вырезал, отполировал, привинтил. Два раза поднимал после этого: выросла доченька… Шкаф. Несколько платьев, остальное – джинсы, брючки, бермуды, майки, топики, боди, бюстье… Гена знал толк в девчачьей моде: первый советник у дочери и главный спонсор, конечно.
За стеклом книжного шкафа стояли ее любимые фотографии. Вот она танцует, вот в маминой шубе – с накрашенными губами, в большом шелковом с кистями мамином же платке, плотно повязанном на голове концами назад, позирует, как взрослая… Вот она смеется, запрокинув голову… Гена улыбнулся изображению, как будто Маринке в ответ. И позавидовал жене, что она может плакать.
* * *
Ольга уже два часа, как пришла домой, а Наташки все не было…
Ольга и поужинать успела на скорую руку, и заварила чай, и нарезала любимую Наташкину коврижку с орехами и изюмом. Одной пить чай было неохота, а когда еще эта красавица заявится. Хоть бы позвонила…
И тут раздался звонок. Но позвонили в дверь. Подбежавшая Ольга открыла – нет, не Наталья. Это Костя Дубинский из хирургического отделения.
Костя с мамой жил недалеко и часто заходил к Ольге. В последнее время даже чаще, чем раньше.
Они дружили и до того, как Ольгу назначили заведующим отделением, только до назначения он называл ее без отчества. Ольга, на «вы». Ну, ничего. Одиннадцать лет разницы между ними позволяли ей в ответ называть его просто Костей. У себя дома, разумеется.
– Можно, Ольга Николаевна? Не помешаю?
– Заходи, Костя. Чайку хоть со мной попьешь, а то без компании как-то и не пьется.
Костя зашел и первым делом вымыл руки. Намылил два раза, как перед операцией, вытер тщательно. Сразу видно, что он хирург: сильные руки с аккуратными, коротко подстриженными ногтями даже на вид надежные…
Сел за стол, оперся привычно спиной на холодильник… Ольга придвинула ему чай и варенье, села напротив с дымящейся чашкой. Такие вечера уже давно вошли у них в привычку: два-три раза в неделю Костя приходил к Ольге. И Ольга, конечно, догадывалась, почему он так зачастил именно сейчас…
– Варенье клубничное?
– Яблочное.
– Это жаль… Клубничное-то поглавнее будет…
– Не будет. Яблок в этом году прорва, а свекровь все присылает и присылает. На зиму мы с тобой, Константин, при яблоках, имей в виду.
– Наташка дома?
– Где там. Последние деньки вольные, гуляет подруга моя.
– Я тогда покурю.
– Курите, доктор… – Ольга подвинула ему им же когда-то давно принесенную пепельницу в виде коричневой спящей собачки.
Костя затянулся, посмотрел на Ольгу, как будто приготовился к разговору. И даже начал говорить, но Ольга сразу почувствовала, что это не то, что он хочет с ней обсудить. Уже довольно давно хочет, уже скоро полгода…
– Ирина сказала, что девочка из восемнадцатой палаты ваша знакомая?
– Ну как знакомая? С Наташей в параллельных классах учатся, но не дружат. Кстати, анализы ее должны были быть готовы к вечеру? Ты не в курсе?
– Миелограмма еще не готова.
«Это – только через месяц…» – подумала про себя Ольга Николаевна, кивнув Косте.
А Костя полувопросительно произнес:
– Родители ее в Германии хотят лечить.
Ольга тяжело вздохнула. Молчала, задумчиво покусывая губы. Казалось, забыла про гостя. Но Костя этого не заметил, а может, просто решился начать важный для себя разговор:
– Знаете, я до сих пор не решил, правильно я из науки в практику ушел, или нет. Когда цифрами оперируешь, статистикой, как-то легче. Больная Н., поступила тогда-то, с первичным диагнозом… А когда оказывается, что больной Н. восемь лет, что у нее серые глазки и оттопыренные ушки прозрачные… И громче всего больная Н. плачет оттого, что бантик повязать ей больше некуда – головка-то лысенькая…
Костя глубоко затянулся – и треть сигареты сразу превратилась в ломкий серый столбик.
Ольга все еще молчала, но теперь внимательно слушала, подперев лицо ладонью.
Костя продолжал, с заметным усилием выговаривая слова:
– Знаю, что вы скажете. Если не я, то кто же… Но самое паршивое – сознавать себя бессильным…
Ольга покачала головой, сказала вполголоса, боясь спугнуть решившегося, наконец, на тяжелый разговор Константина:
– Не всемогущим, Костя. Так верней.
Он взял в руку пустую чашку, повертел ее, потом поставил обратно.
– Оля, я уже полгода не оперирую. Если по-хорошему – уходить надо.
Ольга жестом попросила его замолчать:
– А, вот ты о чем… Нет, об этом – давай не сегодня, Костя. И лучше – никогда! Я думала, ты оперировать уже в состоянии…
– Да нет, сегодня! Я ведь давно вам хочу сказать. Да все эти полгода! Ольга Николаевна, боюсь, это была… не минутная слабость!
– Костя, когда эта твоя «не минутная» слабость все-таки пройдет, тебе стыдно будет. А она пройдет. Надо только подождать. Ты даже говорить ничего будешь. Не будешь рассуждать, правильно ты к нам на работу пришел или неправильно… Просто начнешь работать. Как раньше. И не оправдывайся, пожалуйста. Это уж точно лишнее. Я про тебя и так лучше всех все знаю.
Ольга встала, выглянула в прихожую: на часах почти девять.
– Интересно, куда же это все-таки Наташка ускакала…
Костя сидел, склонив голову, играл своей пачкой сигарет – то на один бок поставит, то на другой перевернет. «Минздрав предупреждает…» Не предупреждает. Опять предупреждает…
– Когда мне было совсем паршиво, вот тогда вы мне помогли. Помогите мне еще раз. Тем более это теперь в вашей… компетенции.
Ольга стояла у двери, опершись на косяк плечом. Задумчиво смотрела на молодого коллегу. Нет, должен справиться сам…
– Знаешь, Костя, ничего я тебе говорить не буду. Я сейчас ищу слова, которые нужны другому человеку. У тебя – проблема, а у него – горе. И вот ему я сначала должна помочь словом, а потом, по возможности, делом. Если, конечно, получится…
– Если получится… – эхом повторил Костя. И тут снова раздался звонок в дверь.
Ольга подхватилась:
– Может, Наташка… Сейчас получит, негодяйка!
Но это снова не блудная дочь, на пороге – яркая пышнотелая женщина, ровесница Ольги:
– Привет-привет! Ничего, что я без звонка? Карточки нет, а до киоска идти столько же, сколько до подъезда…
Она зашла вслед за улыбающейся Ольгой на кухню и увидела Костю. Тот встал – не для того, чтобы уйти, а просто по привычке вставать перед вошедшей дамой. Эффектная женщина с удовольствием посмотрела на симпатичного гостя подруги, кивнула Ольге, чтобы та представила их друг другу. Ольга сделала жест в сторону Кости:
– Это Костя, мой коллега. А это Лена, моя подруга детства.
Лена очень оживленно выразила удовольствие от знакомства с молодым доктором:
– Очень приятно, – было заметно, что ей и в самом деле очень приятно.
Костя улыбнулся, даже чуть-чуть поклонился в ответ, но все-таки начал прощаться:
– Ну ладно, Оля, я пойду уже, мама волноваться будет…
Ольга понимающе кивнула, а вот Лена, судя по всему, немного расстроилась:
– Ну вот, не успели познакомиться, а вы уже уходите…
Константин, немного виновато улыбаясь, все-таки направился к выходу.
Оля пошла за ним вслед:
– Я провожу…
Она смотрела, как доктор Костя нажимает кнопку лифта, улыбалась ему как можно нежнее. Ей было до слез жаль парня, но ведь ему, как хирургу, не хуже ее была известна истина: иногда, чтобы вылечить, нужно сделать больно.
– Оля, депресняк-то уже прошел. Я почти в порядке.
Ольга кивнула:
– Ты даже не представляешь, как я тебе верю. У тебя просто сердце очень нежное. Тебе бы сердце немножко закалить, а руки…
– А руки заточить.
Ольга Николаевна засмеялась:
– Костя, когда ты родился, тебя Бог за руки подержал.
Костя сделал какое-то движение к Ольге, но она быстро-быстро закрыла дверь, и уже оттуда крикнула:
– До завтра, доктор!
А на кухне на нее напала Лена:
– Ну, чего ты его отпустила? Какая-такая мама, взрослый же мужик. Красивый такой доктор Костя. Жалко, молодой. Нет, ну чего это он убежал так быстро? Я не кусаюсь.
– Ленка, брось. Это… без вариантов.
– Знаю, знаю, не ходи сорок за двадцать. Так ведь я не замуж собралась! – Лена расхохоталась.
Ольга проговорила с улыбкой:
– И тебе не сорок, и ему не двадцать. Просто… не тот вариант и все.
Лена закурила, с явным интересом взглянула на подругу:
– А что, у вас… роман?
Ольга отрицательно покачала головой:
– Ленка, отстань. Просто, если будешь его у меня встречать, глазки не строй. И вообще, не трать обаяние напрасно. Он… ну, не такой, как тебе нужно.
Лена смотрит на подругу с внезапной догадкой:
– Да что ты? Не такой? Не «какой»?
Ольга с укоризной остановила Лену:
– Ой, не придумывай ты ничего лишнего. Совсем в другую сторону не такой. Проблемы у него. Я сказала, ты забыла. Принимай все так, как есть.
Лена, уже задумчиво, с какой-то материнской ноткой протянула:
– Ну надо же, такой парень чудный – и на тебе. А чего он, ликвидатор? Или на атомной подводной лодке служил, что ли?
Ольга не выдержала:
– Лен, ты успокоишься или нет? Какая, к черту, лодка? У него психологическая травма дала такой сбой. Это посильнее реактора бывает!
Потом уже спокойно продолжила:
– А он и правда чудный, впечатлительный только. Жаль, что все свои комплексы в профессию приволок. И мама у него пожилая, поздно родила его.
Помолчала, посмотрела на притихшую подругу, оценила – доверить ли, и рассказала:
– Полгода назад у него на столе девочка умерла.
Лена охнула, положив руку на высокую грудь…
– Его вины никакой, он сделал все правильно, все, что мог… Комиссия работала…
Ольга замолчала, вспомнив события полугодичной давности. Именно тогда она поняла, что обозначает выражение «почернеть от горя». Костя в те дни действительно был черным: сгорбившийся, бледный, нахмуренный, с вечно опущенными в пол ясными своими глазами.
Далекая от медицины подруга не сводила с нее глаз, слушая и переживая, – и за бедного доктора Костю, и за маленькую девочку, и за ее несчастную, незнакомую ей мать…
– А у него стресс: оперировать не может, – продолжила наконец Ольга. – Не может взять в руки скальпель. Ассистирует только, а хирург – от Бога. Ну, и все остальное тоже не может. Да и не хочет, по-моему.
Лена кивнула понимающе и все же спросила:
– А кто-нибудь еще знает, что у него проблемы?
– Ну, естественно. В смысле, с работой. А про личные только я знаю, потому что от него невеста ушла сразу, он мне и рассказал. Ну, девице-то скатертью дорога. Дура, ей бы помочь ему… А все? Все думают, что он мой любовник. Мы же дружим…
– А ты не отрицаешь?
– Не-а. Зачем? Я женщина свободная.
Лена попыталась осмыслить ситуацию. Посидела, пожимая плечами, поднимая и опуская брови… И вдруг раскатисто, звонко рассмеялась:
– Слушай, у меня соседка есть, это чудо какое-то. Раньше мы с ней немного общались, ну так, по-соседски – соли там занять, спичек, сигаретку стрельнуть… Она думала, я в разводе. А я ей как-то сказала в порыве откровенности, – что на меня нашло, не знаю, – что замужем не была, а Люся – плод моей большой свободной любви… Ой, ты бы видела, как она переменилась. Свысока – не свысока, но как-то покровительственно стала себя держать. Ну, она-то замужем, законная, так сказать супруга своего… – Ленка засмеялась еще громче. – …А этот ее Сидореня – фамилиё их такое замечательное – еще и бьет ее смертным боем, по-моему, в честь каждого полнолуния… Но все равно! Гордая такая мужняя жена. И что характерно, фингал у нее всегда строго под правым глазом. Я однажды ей в лифте говорю: «Нина, а что муж-то твой, левша, что ли?»
Ленка расхохоталась до слез, Ольга тоже засмеялась.
– И что?
– А все! Не здоровается со мной!
Подруга утерла выступившие от смеха слезы. И сказала уже совсем серьезно:
– А с Костиком этим чудным… Ну надо же, как нечестно!
Спросила через паузу:
– С Андреем видишься?
Ольга покивала:
– Угу. Он же к Наташке приходит. Ну, вот где ее черти носят, а?
– Придет, не волнуйся, не поздно еще. А назад не просится?
– Андрюша? Нет, – Ольге не очень хотелось говорить на эту тему, ну да куда от Ленки денешься?
– А если бы попросился?
– Не знаю, Лен, ничего я не знаю.
– А кто знает?
– Ну что теорию разводить? Не просится же.
Подруги помолчали.
Лена вдруг засобиралась, спохватившись:
– Ладно, пойду, психотерапевт ты мой внештатный. Люська уже, небось, заждалась.
И обе замерли, услышав, как в замке поворачивается ключ.
Лена радостно пошла в прихожую:
– Вот, зря волновалась. Привет, красавица!
Наташка даже вздохнула с облегчением, увидев мамину подругу – значит, не влетит:
– Здрасть, теть Лен, – и, хитренько улыбаясь, убежала в сторону ванны. «Косметику смывать, будто я не видела, что опять глаза, как у бульдога, с двух сторон обведены», – поняла Ольга.
Лена, уже в дверях, сказала подруге, кивнув на закрытую дверь ванной:
– А хороша растет, чертовка! Твоя кровь…
Ольга помахала вошедшей в лифт Лене и медленно закрыла за ней дверь. Что-то, может быть, слово «кровь», вернуло ее к прежним мыслям о грустной девочке с длинными волосами, которая ждет ее в палате номер восемнадцать.
Ее ждали и другие дети, но не так, как эта знакомая девочка. Ольга ощущала ее ожидание почти физически. Ожидание и надежду.
* * *
В Маринкиной палате с утра тихо звучала музыка. Это Элтон Джон, ее любимый певец. Он пел о том, что верит в любовь. Дома на видеокассете у Маринки был записан клип, где плавали между небоскребами фантастические дирижабли и одинокая девушка со скрипкой играла посреди автомагистрали.
У Маринки не было мальчика, как у большинства ее одноклассниц, да и не влюблялась она еще ни разу по-настоящему. Ну, разве что позапрошлым летом в Болгарии ей очень понравился красивый смуглый мальчик Благовест… Они даже целовались в последний вечер. Это была Маринкина тайна от всех, даже от папы.
Марина полулежала на подушках, листала иллюстрированный женский журнал и подпевала Элтону Джону «I belive in love…», когда дверь с еле слышным скрипом открылась. Марина с удивлением посмотрела на это странное явление, потому что дверь открылась, а на пороге никто не появился.
– Кто там? – тревожно спросила она. Неужели кто-то шутит? Может, папа пришел? Он любит розыгрыши…
Из-за косяка выглянуло пол-личика – видны только маленькое ухо и краешек глаза:
– Я, – голос тонкий, но не робкий. Его обладателю интересно, а не страшно. Бояка не пошел бы вот так запросто в чужую палату.
– А кто – ты?
В проеме двери появилось дитя – маленькая худенькая девочка в линялом байковом красном халатике в розовых ромашках. Головка – совсем «босая», поэтому девочка больше похожа на мальчика. Немножко смешная. Нет, совсем не смешная. Хорошая, как воробышек.
– Я Зося.
Маринка улыбнулась маленькой гостье:
– Ну, проходи, Зося, раз пришла.
Зоська зашла и, косясь на рассаженных на подоконнике кукол, осторожно присела на краю Маринкиной постели. Видно, почувствовав, что нельзя только таращиться на чужих кукол, а надо и разговор вести, спросила:
– Ты новенькая?
Марина кивнула, глядя на Зоську с симпатией и интересом.
– А как тебя зовут?
– Марина.
Зоська поболтала маленькими ножками в комнатных тапочках, видно было, что ей и хочется поговорить с красивой взрослой девочкой, но она не очень знает о чем. И Маринка пришла ей на помощь:
– Ты в какой палате лежишь?
– В десятой. Нас там шесть: я, Янка, Света, еще одна Светка, Инна и… Галька еще была.
Она вдруг почему-то замолчала и быстро взглянула на Марину. Марина невольно нахмурилась. В голову ей опять полезло все самое ужасное…
Но Зоська, и не заметившая, как замерла Марина, беззаботно продолжила:
– А Гальку выписали на прошлой неделе. До дому. Это все твои куклы?
Марина улыбнулась: девчонке сразу хотелось про кукол спросить, она видела.
– Да, но только я в них давно не играю. Это просто… талисман.
– А что такое талисман? – Зося отвлеклась от созерцания красавиц на окне ради интересного непонятного слова.
– Ну, это такая вещь, которую всегда берут с собой, чтобы повезло.
Задумалась маленькая. И вдруг просияла:
– У меня тоже есть.
– А у тебя что?
– А вот, – и Зоська достала из-под халатика крохотный серебряный крестик на шнурке.
У Маринки вздрогнули губы:
– Это самый лучший талисман, Зося, лучше, чем мои куклы.
Зоська, услышав про кукол, подошла к подоконнику, внимательно осмотрела каждую, но не притронулась ни к одной. Маринка смотрела на девочку, улыбалась. Прошло время, когда она так же смотрела на прекрасных Барби.
…Вон ту, «Barby-style», папа первую привез из Польши, давным-давно. Она была первой не только у Маринки, но и вообще в их подготовительной группе. «А ручки согинаются?» – спрашивали девчонки. Маринка, которая и в шесть лет знала, как надо правильно говорить, важно отвечала: «Согинаются». И великодушно всем давала с Барби поиграть. И хотя у нее и ручки, и ножки сгибались, подружки играли с ней как со стеклянной.
Это уж потом глазастые, пышногрудые, длинноногие настоящие и поддельные Барби заполонили прилавки магазинов и рынки. У Маринки все были настоящие, от фирмы «Маттель». Ей-то не особенно это важно было, но вот папа любит все настоящее.
Маринка вспомнила про каждую куклу, и про детский сад, и про папу, а Зося все ходила от одной Барби к другой, заглядывала в их близнецовые лица.
– Какая тебе нравится, Зося? – спросила у девочки Марина.
– Все, – шепотом ответила гостья.
Маринка улыбнулась, глядя на худенькие ручки, заложенные за спину:
– Хочешь, я тебе подарю одну? Зоська испуганно повернулась:
– Ой, што ты, яна ж колькі грошыкаў каштуе! – и взялась руками за ушки, покачивая при этом головой. Видно было, что она кому-то подражает, от кого-то это уже слышала.
Маринка не отступала, понимая, что надо скромную Зоську уговорить:
– Выбирай, Зося.
Девочка поняла, что эта взрослая Марина не шутит и правда может подарить. Взяла одну, в пышном вечернем платье-кринолине с декольте и вырезом на спине, скрытом под пышными белокурыми волосами. Но потом, видимо, решила, что это слишком, и поставила ее на место. Выбрала самую скромную, «Barby-sport», в костюмчике для большого тенниса, с ракеткой в руке.
Маринка хотела привстать, но… так вдруг закружилась голова, накатила слабость, что пришлось откинуться на подушки и полежать тихонько… Вот, сейчас, пройдет…
Не проходит. Маринка собралась с силами и сказала, так четко выговаривая слова, что получилось почти строго:
– Зоська, возьми ту, что тебе понравилась, в пышном платье. Мне не жалко, а ты чего сама себе жадничаешь?
Зоська взяла куклу за ножки, разгладила кринолин, повертела так и сяк, любуясь, как сверкает бриллиантовое колье на шее куклы-красавицы. Оглянулась на бледную, покрывшуюся испариной Маринку, еще не веря, что куколка ее… И, как маленькая сомнамбула, начала двигаться к выходу. Потом, будто опомнившись, вернулась к лежащей неподвижно Марине, тихо-тихо сказала:
– Спасибо.
И выбежала, не простившись, со своим богатством из Маринкиной палаты. Затопали все дальше, дальше маленькие ножки…
Маринка какое-то время полежала неподвижно, глядя перед собой невидящим взглядом. Потом расстегнула пижамку и достала из-за выреза майки свой нательный крестик – изящный, золотой, на тоненькой цепочке. Он лежал на ее узкой ладошке и поблескивал алмазной гранью так празднично, как маленькая елочная игрушка. Она перевернула его и прочитала на оборотной стороне слова, которые очень часто слышала от покойной бабушки, подарившей ей когда-то этот бесценный крестик: «Спаси и сохрани».
* * *
Около полудня в кабинет заведующей отделением пришла медсестра, положила на стол Ольги Николаевны кипу разновеликих листков и листочков. Ольга перебрала их все, внимательно перечитала. Отложила несколько в сторону, в том числе с надписью «Бохан М. Г.».
Прочитала и задумалась…
А вот и Ирина Сергеевна.
– Ну, посмотрела? Как тебе Петкевича результаты? Неплохо, правда?
– Да, картина не самая плохая. Наверное, не стоит менять комплекс… – Ольга замолчала, снова взяла в руки Маринкин листик.
– Видели, Ирина Сергеевна?
Ирина Сергеевна заглянула в бумажку, кивнула:
– Четвертая группа, резус отрицательный… Не часто встретишь.
Ольга усмехнулась:
– У меня такая же…
Ирина Сергеевна посмотрела на Ольгу профессиональным взглядом:
– Я не знала, что ты резусница. Ты поэтому второго так и не родила?
Ольга грустно улыбнулась в ответ:
– А мне и Наташку не советовали. Не рекомендовали, так сказать.
Ирина Сергеевна сложила руки на груди:
– А ты, конечно, не послушалась?
– Как видите. Я хоть и студентка была, но все равно – медик, а в собственных глазах – так просто завтрашнее светило медицины. Кто бы меня смог убедить, что от беременности стоит воздержаться, а уж если случилось, то… чревато как бы. Никого я не послушала.
Ирина Сергеевна кивнула с одобрением:
– И слава Богу!
Ольга немного помолчала, а потом продолжила, улыбаясь своим воспоминаниям:
– Самое интересное, что по генетике у меня была пятерка. Я все эти резус-факторы посчитала, все учла, прикинула процент вероятности аномалии… В общем, не учи ученого! Но это теория. А практика… Короче, рожала я на два с минусом, вот с этим самым, от резуса отрицательного.
Ирина Сергеевна села на стул, приготовившись слушать. Но Ольга, кажется, уже все рассказала. Улыбка сошла с лица, она стала смотреть в окно, как будто стараясь увидеть что-то очень важное, но… далекое. Потом минутное наваждение прошло и она «вернулась». Заметила по-прежнему заинтересованное лицо Ирины Сергеевны и завершила разговор:
– А Наташка-то у меня получилась положительная… Она мое молоко выплевывала. Выплюнет, да как заорет басом! А я сцеживаюсь в раковину и тоже реву в голос: больно, обидно – молоко такое густое, качественное…
Ирина Сергеевна покивала:
– То-то твоя Наталья на искусственном вскармливании такая богатырша вымахала.
– Она и родилась больше четырех килограммов. Крупный был плод… – задумчиво сказала Ольга, снова вчитываясь в Маринкины бумажки.
Ирина заметила, что Ольга не отводит глаз от исписанных листков. Сказала:
– Какой папа у этой Маринки хороший. Каждый день к ней приходит. Я мимо палаты проходила, слышала, как она смеется. Он ей что-то говорит «бу-бу-бу», голос низкий, а она, как звоночек: «ха-ха-ха».
Ольга выслушала и произнесла со вздохом:
– Он ее в Мюнстер повезет. Для него в своем Отечестве… ничего нет.
Ирина Сергеевна взглянула на коллегу, прищурившись. А потом решилась:
– Оля, я не берусь его судить.
– Разве я сужу? Просто мне кажется, что тут, дома, ей и стены помогут, не только мы с вами.
Ирина кивнула, но все же пожимает плечами в раздумье:
– Конечно, ему спонсоры не нужны.
Ольга досадливо покачала головой:
– Нужны будут. Он не олигарх. Да только вот… Маринка здесь родилась, и он сам, и ее мама. И бабушка, и дедушка пили эту воду, ели этот хлеб, дышали…
Заметив поднятые брови Ирины Сергеевны, с некоторой запальчивостью продолжила:
– Ну да, и воздух у нас не горный, и вода далеко не криничная, и Чернобыль бабахнул… Но у крови есть память. Немецкий донор, при всех факторах совпадения поделится с ней еще и своей… генетической памятью, информацией, ну как еще объяснить? Его кровь, его мозг – не хуже и не лучше. Они просто другие. Чужие. Степень вероятности отторжения от чего зависит? А здесь, в Беларуси, и чужой человек хоть немного, а родной.
Ирина Сергеевна развела руками:
– Оленька, да ты просто поэт от гематологии.
Ольга махнула на нее рукой: она уже слышала нечто подобное от Геннадия Степановича Бохана!
– Не надо иронизировать. В чем-то я все равно права, вы же со мной согласны. Папа этой девочки сказал, что я идеалистка. Ну, хорошо. Но когда-нибудь, кто-нибудь, пусть не я, найдет этой «поэзии» вполне научное объяснение.
Ирина Сергеевна со вздохом вернулась на землю:
– А без донора девочке не обойтись – ни там, ни здесь. У нее есть брат или сестра?
Ольга подняла на нее печальные глаза:
– Она одна. Но вот у родителей надо обязательно взять анализы, на всякий случай. Будет хотя бы ясно, кому с ней ехать… в Мюнстер.
* * *
Вечером к Ольге Николаевне заглянула медсестричка:
– Ольга Николаевна, там вас девочка из восемнадцатой палаты, из отдельной, просит зайти, Марина… как ее, Бохан…
Ольга кивнула и пошла к Маринке.
Было еще не очень поздно. В вестибюле дети – маленькие и подростки – смотрели какой-то совсем взрослый, судя по жгучему поцелую на экране, сериал. Один, другой заметили идущую по коридору Ольгу, начали здороваться вразнобой. Ольга прошла мимо, чуть коснувшись пары головок рукой…
В палате у Марины телевизор не работал, зато звучала музыка: сегодня у нее было настроение для Бритни Спирс.
Бритни была единственной поп-звездой, которую Ольга Николаевна узнавала, что называется, с закрытыми глазами: Наташка очень любила ее песенки и всячески подражала хорошенькой американке.
Ольга Николаевна зашла к Марине, тихо закрыла за собой дверь. Постояла у двери, положив руки в карманы халата:
– Что случилось, Марина? Тебе нехорошо после процедур?
– Добрый вечер, Ольга Николаевна. Если честно, я просто узнала, что вы дежурите и хотела поговорить. У вас найдется для меня время?
Ольга села на стул рядом с кроватью, некоторое время помолчала, глядя на уже сгустившиеся сумерки за окном. Маринка тоже молчала. «Ладно, – подумала Ольга, – помолчим».
Потом сказала с мягкой улыбкой:
– У тебя очень хорошие манеры, Марина. Моей Наташке есть чему у тебя поучиться… Знаешь, я сейчас шла мимо нашей комнаты отдыха, и детки все: «Здравствуйте, здрасьте, Ольга Николаевна!» А видели меня сегодня раз по пять каждый… Потому что в деревне здороваются чаще, чем в городе: принято так. Они же почти все из маленьких поселков, деревень… И я вот шла и подумала: а чем плохо лишний раз человеку здравствовать пожелать. Правда, Маринка?
Необычное обращение врача заставило Марину тоже улыбнуться и немного расслабиться. Она кивнула и вспомнила, как в деревне летом ходили с бабушкой в продуктовый магазин. Через всю деревню шли и всю дорогу: «Добрый день! Здравствуйте!»
Ольга легонько вздохнула и спросила:
– Так о чем ты хотела поговорить?
Марина опустила глаза.
– Ольга Николаевна, я не буду спрашивать… ну, о чем вы не разрешаете спрашивать. Я просто хочу попросить вас… Когда будут приходить мои родители… Вы не говорите им правды, – и с отчаянием посмотрела на Ольгу. Видно было, что ее очень тревожит ее состояние.
Ольга посмотрела на Марину с укоризной, но ничего не сказала в ответ. Тогда девочка, как бы собравшись с духом, продолжила:
– Знаете, Ольга Николаевна, у нас такая семья, как бы это вам объяснить… Мама очень болезненная. Голова у нее все время болит, она даже плачет от этого. Мы с папой всегда старались ее беречь. Она вот на лыжах покатается – и неделю с температурой. Или окно откроет в машине – и все, готово: простыла. И нервы у нее слабые, она плачет вообще часто от ерунды.
Ольга внимательно слушала, а Маринка, видя, что ее слушают с интересом, стала говорить свободнее:
– У нас с папой даже шутка такая есть: у нас в семье один ребенок и двое взрослых, а ребенок – это мама.
Ольга улыбнулась, и Маринка улыбнулась тоже.
– И с чувством юмора у нее проблемы. Иногда с ней пошутишь, а она обидится, в общем, сложно с ней.
Маринка непритворно вздохнула, а Ольга постаралась спрятать улыбку. Следующие слова Марины не оставили от этой улыбки и следа:
– А теперь вот я заболела… Не знаю, как она перенесет. Я ведь у нее одна, других детей уже не будет.
Ольга заговорила мягко, стараясь не обидеть девочку, но тоном, не допускающим возражений:
– Марина, есть темы, на которые я вынуждена тебе запретить говорить.
Марина поспешно кивнула. Ей очень важно было, чтобы Ольга Николаевна не ушла:
– Да, я знаю, знаю, но я не об этом даже хотела…
Потом помолчала немного. Глаза ее предательски заблестели, а голос задрожал, но она все-таки сказала:
– Да нет, об этом.
У Ольги вздрогнули брови: уж очень похожа интонация девочки на отцовскую, Генину.
– Ольга Николаевна, вы обманывайте моих родителей, пожалуйста, сколько можно будет. Не говорите им, как у меня на самом деле. Ведь клятва Гиппократа не про это, не про то, чтобы правду говорить?
Ольга подвинула свой стул ближе, чуть-чуть приобняла Марину за плечи:
– Хорошая ты, Маринка. Дочка-мама… И не плачь, пожалуйста.
* * *
В гастрономе вечером обычная толчея. Усталая после работы Ольга Николаевна положила в корзину пакет кефира, сметану, направилась к хлебной стойке.
А Светлана перебирала коробочки с йогуртами, когда краем глаза заметила Ольгу. Долго смотрела на нее, забыв про покупки, но подойти не решалась.
В кассе Света заняла очередь почти сразу за Ольгой, машинально расплатилась, не сводя глаз с Ольги, которая, по-прежнему не замечая ее, неторопливо пошла к выходу из магазина.
И на улице Света шла за Ольгой шаг в шаг, и так же, гуськом друг за другом, они направились к дому.
Но когда между ними осталось всего несколько шагов, Света остановилась, развернулась и пошла к своему подъезду. Но тут мимо Ольги с веселым визгом пронесся на трехколесном велосипеде малыш, сделал резкое движение и чуть не вывалился из седла. Ольга успела подхватить его и… заметила Свету, стоящую возле своего подъезда. Кивнула приветственно ей головой. Света робко улыбнулась в ответ, сделала один нерешительный шаг по направлению к Ольге, другой, но Ольга уже сама шла навстречу Светлане.
– Здравствуйте.
Света как эхо ответила:
– Здравствуйте.
Ольга сделала паузу, потом, не дождавшись от Светланы никакого вопроса, произнесла:
– Марина сегодня неплохо себя чувствует. Только мне показалось, что она очень скучает без вас. Папа бывает у нее часто…
Света быстро-быстро закивала, опустив голову. Потом сказала приятным тихим голосом:
– Я всю эту неделю собираюсь, собираюсь… и не могу.
Ольга удивилась и даже не дала себе труд скрыть это:
– Почему?
Света подняла на нее свои огромные глаза, быстро наполняющиеся слезами, снова отвела взгляд:
– Ничего, если мы посидим с вами немножко?
Ольга с готовностью присела на скамейку.
И вдруг, как будто вспомнив, Светлана сказала:
– Меня Светлана, Света зовут. Извините, я сразу не представилась.
Ольга кивнула, и Света, глубоко вздохнув, начала говорить:
– Вы, наверное, привыкли к исповедям, да?
Ольга пожала плечами:
– Дети редко исповедуются. Жалуются, капризничают, плачут, ябедничают, но исповедоваться – нет. Да и в чем им?
Светлана опустила голову:
– Мне есть в чем.
Ольга решила переждать все паузы, все вздохи. Ей нелегко, этой женщине.
– Видите ли, Ольга Николаевна, у нас такая семья. Мы с мужем…
Было заметно, что ей трудно говорить. Мимо с победным кличем снова промчался, бешено крутя педалями, бесстрашный малыш на велосипеде. Света задумчиво посмотрела ему вслед.
– В общем, я знаю, что нуждаюсь в моей семье, в моем муже сильнее, чем они во мне.
Это признание прозвучало довольно неожиданно для Ольги. Она хотела остановить поток признаний Светы, но та жестом попросила выслушать:
– Да ничего в этом особенного нет, Господи, сплошь и рядом кто-то целует, а кто-то подставляет щеку. Главное – любить. Но я… В общем, вольно или невольно, теперь уже не знаю – так получилось, но я в нашей семье оказалась на положении самой слабой, что ли. Вы не поверите, ведь даже Маринка относится ко мне как старшая!
Ольга кивнула, вспомнив разговор с девочкой.
Света немного помолчала, а потом сказала уже совсем другим тоном, почти отчужденно:
– Это я виновата, что Маринка больна. Бог меня наказал, что надо мной всегда тряслись, как над маленькой: «Тише, мама уснула, у нее головка болит, у нее сосуды слабые», «Мамочка посидит в шезлонге, пусть отдыхает, может быть, заснет, а мы с тобой на складных стульчиках». И так всегда, везде, все время, а трястись надо было над ней.
Ольга сидела, опустив глаза, не перебивала, но и не делала ничего, чтобы выразить свое отношение.
Судя по всему, они ровесницы. И, конечно, ей было понятно, как трудно Свете сейчас. Она понимала, что избалованная, благополучная Светлана ненавидит себя за то, что смогла когда-то, возможно просто повинуясь женскому инстинкту, занять в семье самое привилегированное положение. «Мама-ребенок»…
Скорее всего, с ребенка все и началось. Беременная Светочка плохо себя чувствовала, ее в буквальном смысле носили на руках. Потом Светочка родила, и не высыпалась, и уставала, и мастит, и еще сто напастей – мало ли что.
Ольга строила свои догадки, а Света продолжала, почти сквозь слезы.
– А теперь… А теперь я вообще не знаю, что делать.
Но закончить ей не удалось: прямо к ним, сидящим на скамейке, широкими шагами, с широкой улыбкой на симпатичном лице и тяжелым рюкзаком («с яблоками!» – мигом догадалась Ольга) за плечами приближался бывший муж Ольги Андрей.
– Добрый вечер! Я не опоздал?
Ольга и Света встали, но не потому, что Андрей явился, а потому что разговор нарушился, оборвался на полуслове. Посмотрели друг на друга: Ольга – в замешательстве, Света – в смущении.
Ольга представила их, раз уж встретились:
– Света, это мой муж, Андрей.
Света протянула Андрею слабую тонкую руку:
– Светлана.
Андрей начал, наконец, понимать, что помешал какому-то важному разговору:
– Я, кажется, помешал…
Света очень быстро отрицательно покачала головой:
– Нет-нет, что вы! Мне уже пора.
Ольга легонько прикоснулась к Светиному рукаву:
– Встретимся завтра вечером, Света, хорошо? Договорим.
Света кивнула с несколько принужденной улыбкой:
– Обязательно, – и почему-то обеим стало понятно, что решиться на вторую попытку поговорить Светлане навряд ли удастся.
Ольга Николаевна взяла Андрея под руку, и они вместе направились к их подъезду. Андрею было не очень удобно идти так, как они шли, – рюкзак тянул назад сильнее, чем легкая рука жены, но лицо у него было почти счастливое:
– Спасибо тебе.
– За что?
– Что сказала муж, а не бывший муж.
Ольга засмеялась:
– Ой, не подлизывайся, пожалуйста.
И внезапно остановилась, как будто наткнулась на какую-то невидимую преграду. Ей показалось, она что-то поняла, когда Андрей сказал бывший муж… Она взглянула на него, освободила свою руку, быстро вынула из кармана ключи, сунула их ему, развернулась и быстрыми шагами, почти бегом устремилась к Светиному подъезду:
– Андрюша, я сейчас…
Она догнала Светлану на втором пролете лестничной площадки. Голос ее прерывался от быстрой ходьбы:
– Света, что все-таки случилось? Ведь что-то еще случилось, правда?
Света посмотрела прямо в глаза Ольге и, наконец, выговорила:
– У меня будет ребенок.
Ольга невольно охнула. Лицо ее посуровело:
– Какой срок, Светлана?
Что-то в ее тоне покоробило Светлану, и она ответила с едва заметным вызовом:
– Месяц, может быть, полтора.
Опустила голову.
– Я не знала. Да и не надеялась уже… мы не надеялись.
Ольга молчала, опустив глаза. На лице у нее почти ничего не отразилось, но она все-таки выговорила:
– Теперь даже не стоит проверять, подходите ли вы ей в качестве донора.
Света посмотрела на Ольгу, нахмурив брови. Она поняла, как именно расценила Ольга Николаевна известие о ребенке:
– Ольга Николаевна, я не пыталась… подстраховаться. Вы ведь об этом подумали, да? Маринку… – голос ее дрогнул, – не заменит никто. Но Гена…
Ольга, услышав это «но Гена…», тихо спросила:
– Вы боитесь, что муж оставит вас?
Светлана, услышав в этих словах не вопрос, а утверждение, даже упрек, произнесла спокойно и твердо:
– Пожалуйста, не нужно оценивать меня до цента, Ольга Николаевна. По отношению к своей дочери я не совершила никакой подлости. А муж… Если с Маринкой что-нибудь… Мне его… на этом свете не удержать, а вот ребенок удержит.
Женщины еще какое-то время стояли молча, погрузившись каждая в свои мысли. Потом Света, не попрощавшись, начала медленно подниматься вверх по лестнице. Ольга, тоже ничего не сказав, пошла вниз.
* * *
Ольга своей быстрой уверенной походкой шла по коридору клиники, мельком взглядывая на таблички. Вот и нужная дверь с надписью «Лаборатория».
– Здравствуйте, девочки, – сказала она приветливо сидящим за столиками пятерым разновозрастным женщинам. Девочки, недавние выпускницы медучилища среди них тоже есть, но самая старшая – Екатерина Васильевна – куда старше Ольги.
– Здравствуйте, Ольга Николаевна, – очень охотно отозвались на «девочек» сразу все пять голосов.
Ольга подошла к ближайшему от двери столику, расстегивая и подтягивая кверху рукав халата, села на место пациента.
– Екатерина Васильевна, возьмите у меня на развернутый анализ.
Дородная женщина в белоснежном до легкой голубизны халате, застегивающемся сзади, взяла необходимый инструмент, при этом слегка удивленно посмотрев на Ольгу. Та заметила ее взгляд:
– Да-да, хочу внести свои данные в банк доноров.
Опытная лаборантка кивнула, по ней было заметно, что она недоумевает, но предпочитает ни о чем не спрашивать. Надо – значит, надо.
Быстрые, точные, отработанные за долгие годы работы движения… Ни одного лишнего усилия, ни одной лишней секунды боли для пациента: осторожно, бережно, уверенно. Ольга откровенно любовалась работой Екатерины Васильевны.
Ну вот, кажется, все готово. Все емкости заполнены, все бумажки подписаны. «Ботяновская О. Н.»
Профессиональным голосом Екатерина Васильевна произнесла:
– Завтра после тринадцати…
Потом, спохватившись, что это анализ Ольги Николаевны, добавила с извиняющейся улыбкой:
– Я сама завтра занесу, Ольга Николаевна.
Ольга пошла по коридору, зажимая локтем ватку.
Увидела знакомую фигуру, движущуюся от лифта.
Это Зоськина бабушка. Ездит к своей ненаглядной «унучачке», как на работу.
– Здравствуйте, Ольга Николаевна, – приветливо улыбнулась докторше бабуля, полезла в сумку, достала банку с грибами. Грибы белые, крошечные, разрезанные красиво пополам. – Это вам. А я опять до Зоськи, скучает она без меня.
Ольга улыбнулась, укоризненно покачала головой:
– Софья Павловна, я же просила, не возите ничего. Неловко понесла банку, взяв одной рукой за крышку, кивнула идущей навстречу Ирине Сергеевне:
– Опять Зоськина бабушка грибочки привезла.
Ирина Сергеевна покачала головой:
– Скажу я ей…
Ольга махнула рукой:
– Не надо, я выброшу, а бабку не стоит расстраивать – она же от чистого сердца. Я уже ей пыталась объяснить один раз про цезий, а она мне: «А ў нас ўсе ядуць – i нiчога!» И верно – ничего…
Ирина Сергеевна заметила, наконец, что у Ольги ватка в сгибе локтя:
– Что, Ольга Николаевна, решили собой в кои-то веки заняться?
Ольга с загадочной улыбкой кивнула и толкнула свободной рукой дверь в свой кабинет.
Ирина Сергеевна какое-то мгновение постояла, потом пожала плечами и пошла дальше по своим делам.
* * *
Гена подъехал к зданию со скромной вывеской «Мы и наши дети. Благотворительный фонд». Припарковался рядом с черным «мерсом», направился к внушительной деревянной двери. Тяжелая дверь советского образца открывалась с трудом. А может, ему просто так показалось от не проходящего в последнее время, не отпускающего ни днем, ни ночью чувства усталости.
Геннадий постучался и вошел в небольшой светлый кабинет. На столе – компьютер, вокруг – солидная офисная мебель, за столом – благообразный респектабельный человек средних лет с участливым лицом. «Профессиональное какое у него лицо», – мелькнуло у Геннадия.
– Здравствуйте.
– Здравствуйте, – подчеркнуто сердечно откликнулся привставший ему навстречу человек за столом.
А Света в это время сидела дома на диване, рассматривала старые фотографии: их с Геной свадьба, маленькая Маринка, все трое на пляже… Она подолгу вглядывалась в каждое фото, читала надписи на обороте – у Гены была привычка делать подписи на снимках. Он всегда хорошо помнил, что они делали перед съемкой, что говорили, как прошел день, даже что ели!
Вот на обороте ее, Светиного портрета, написано: «Светка сегодня все время проигрывала в настольную игру „Эрудит“ и злилась. А чего злиться? Пусть наша мама не эрудит, зато какая КРАСАВИЦА!»
Света отложила фотографию – собственная безмятежная физиономия вызывала у нее чувство, похожее на брезгливость.
А вот осеннее фото. Да, это они ездили в деревню к Генкиной маме, она еще была жива. Все четверо на фоне старого, но крепкого, достойного деревенского дома. Вот здесь очень заметно, как похожи Гена, его мать и Маринка. А Света – как из другого теста… Убрала и эту фотографию.
Ей тяжело далась Маринка. Замучил ранний токсикоз, она почти все время лежала в больнице. Несколько раз положение было настолько тяжелым, что ей предлагали сделать прерывание беременности, но Светлана, вопреки всему, чувствовала: на самом деле угрозы жизни ни ей, ни ее капризному младенцу нет.
После родов тоже были осложнения: она и понятия не имела, что у нее проблемы с почками, оказалось – есть.
Долго не могла набрать вес. Других после родов разносит вширь, а Света высохла как щепка. Даже такая пышная, «голливудская», как говорил иногда Гена, до родов и во время беременности грудь опала. Светлана украдкой от мужа оплакивала свою былую красоту. Остались только большие карие глаза да улыбка, которая так нравилась мужу…
Он старался помогать ей, как мог. Но это было время, когда их с Лешей фирма только разворачивалась. У них было два большегруза, они занимались грузоперевозками – из России в Беларусь, из Беларуси – в Украину. Часто сами садились за руль. Как говорил Гена: «Корона не упадет».
Корона и не падала, но и до того времени, когда машинный парк вырос в четыре раза, было далеко. Почти целая Маринкина жизнь, с первого дня бережно запечатленная ее отцом на фотографиях.
Геннадий вышел из здания благотворительного фонда. Какое-то время стоял на крыльце, засунув руки в карманы. Ему казалось, что он о чем-то думает. А на самом деле он повторял название фонда, которое при многократном повторении приобретало какой-то странный смысл: «Мы и наши дети». Ну да. Именно мы и наши дети. Вид у него был растерянный и озадаченный.
Мимо проходил мужчина средних лет. Геннадий остановил его жестом:
– Извините, у вас закурить не найдется?
Мужчина зачем-то сначала мельком кинул взгляд на вывеску, потом только отрицательно помотал головой:
– Бросил, не курю.
Две молодые девушки, чуть старше Маринки на вид, проходя мимо и заинтересованно глянув на представительного мужчину, остановились. Одна из них, совсем юная, открыла сумочку, достала пачку «L amp;M», с улыбкой протянула Гене.
Он, внезапно нахмурившись и смерив девчонку взглядом, отказался:
– Спасибо, я передумал. И вам, девчонки, не стоит курить.
Девушки, иронично переглянувшись («Да неужели?») и недоуменно пожав плечами, пошли дальше.
Он еще постоял, посмотрел им вслед, потом медленно направился в противоположную сторону. Шел медленно, погруженный в свои мысли, Потом, опомнившись, повернул назад, к забытой им от огорчения машине.
* * *
Ольга сидела за столом, вытянув перед собой руки, рядом, на стуле, опершись локтями о колени, с опущенной головой сидел Гена. Так сидели и молчали они уже довольно долго.
Наконец, Ольга тихо произнесла:
– Этого следовало ожидать.
Гена покачал сокрушенно головой:
– Я не ожидал. Мне казалось, в острых случаях…
Ольга осторожно перебила, украдкой посмотрев на Гену:
– Очень многие нуждаются… Очень много острых случаев…
Мужчина выпрямился на стуле. В его позе – и отчаяние, и решимость:
– Я все равно найду выход.
И тут совсем тихо, почти бесшумно приоткрылась дверь… но никто в кабинет не зашел.
Ольга сказала:
– Войдите, – в ее интонации проскользнула какая-то нотка, по которой Геннадий понял: она знает, кто прячется за дверью.
Но нет никакого ответа. Гена удивленно посмотрел на Ольгу, попытался встать и подойти к двери, но она жестом остановила его:
– Зося, это ты? – позвала, чуть повысив голос.
В ответ из-за двери послышалось тихое хныканье. Ольга очень ласково заговорила, протяжно, певуче выговаривая не совсем знакомые Гене слова:
– Зоська, нэндза, хадзi спаць…
Из-за двери донесся детский голос, так же растягивающий гласные:
– Нэ хо…
А Ольга все продолжала уговаривать невидимую «нэндзу» на понятном им двоим языке:
– Шо ще такэ – «нэ хо»? Сцiхнi, Зося, i хадзi сюды. Така хвайна дзеўка, а раве як удод.
Хныканье стихло на мгновенье – обидное слово «удод» заставило замолчать девчонку. А потом тонкий голос начал свою заунывную песню сначала:
– Ольга Николаевна, пазванiце бабе, я да дому хочу…
В слове «хочу» девочка делала ударение на первый слог. Ольга посмотрела на Гену, как бы ища поддержки, и еще раз напевно, ласково произнесла:
– Баба ў цябе ўрано была, она ж не доiхала ще…
Тихое хныканье стало тихим всхлипыванием, потом послышались быстрые удаляющиеся шажки – Зоська убежала, не закрыв за собой дверь.
Гена, наблюдавший эту сцену с невольной улыбкой, спросил:
– На каком это вы языке с ней говорили – по-украински?
Ольга отрицательно покачала головой и пошла к двери:
– Она из Брестской области. Там что ни деревня, то своя мова. Мешанка, «трасянка» – и польские слова, и русские, и белорусские, и украинские… Все ведь рядом. А вот песни поют – и не слышно, что речь мешаная. Такие там песни красивые, особенно свадебные.
Закрыла дверь, выглянув на всякий случай в коридор – а вдруг стоит где-то недалеко, плачет, как часто бывало, у окна маленький зяблик в красном хала тике? Нет, побежала в палату к подружкам. По не счастью…
– Я там, когда училась в институте, практику проходила. И после Чернобыля работала в Ивановском районе, там река Ясельда протекает, приток Припяти.
Оба молчали, задумавшись, – каждый о своем.
Потом, коротко взглянув на Гену, как будто оценив, стоит ли ему доверить чужую беду, Ольга Николаевна произнесла:
– Зосю мы вылечить не можем, поддерживаем только. Она у нас по полгода лежит. Не знаю, как в школу пойдет – ей ведь шесть уже исполнилось весной. А за границей ей могли бы помочь, но…
Гена понимающе кивнул – теперь он этот вопрос изучил обстоятельно.
Ольга продолжила:
– К сожалению, ее очередь не скоро подойдет. И я просто Бога молю о чуде…
Гена спросил осторожно:
– Семья… неблагополучная?
Ольга даже руками всплеснула возмущенно:
– Да почему же сразу неблагополучная? Обычная семья. Живут в деревне, у родителей еще двое детей, постарше. К счастью, они здоровы. Каждую копейку берегут, собирают Зоське на операцию…
Гена взъерошил по привычке волосы:
– Я ведь и раньше в газетах часто видел – просят помочь, публикуют счета. Все думал: надо перечислить, а потом как-то все не до того. Еще и подумаешь – что мои деньги, капля в море. А вот теперь…
Ольга покачала головой:
– А как же – и у Зоськи есть свой счет.
Гена с надеждой взглянул на врача:
– И что? Поступают деньги?
Ольга, с грустной улыбкой ответила:
– Без комментариев, как говорят в голливудских фильмах.
Гена невольно улыбнулся:
– А вы любите голливудские фильмы?
Ольга, неожиданно открыто улыбнувшись после этого грустного разговора, подтвердила:
– Люблю! Особенно мелодрамы – у них почти всегда счастливый конец.
* * *
Заглянув на следующее утро в палату Маринки и увидев ее спящей, Ольга хотела уйти, но голос девочки остановил ее:
– Ольга Николаевна, не уходите.
Ольга подошла ближе.
– Температуру измерим? – спросила Марина.
Ольга Николаевна отрицательно покачала головой:
– Тебе же недавно Ирина Сергеевна мерила. Вроде, нормально пока, в пределах допустимого… Ты же, наверное, сама чувствуешь, что полегче?
Ольге очень хотелось спросить ее о вчерашней встрече с отцом, но она не решилась. Но все равно Маринка опередила ее:
– Ольга Николаевна, помните, вы разрешили задавать мне любые вопросы, кроме?
– Конечно, помню, – поспешно кивнула Ольга.
– У меня есть один вопрос, но он… взрослый, – Марина села поудобнее, а руки скрестила на груди.
Поза получилась неожиданно напряженная и почему-то властная, ни дать ни взять – прокурор при исполнении! Ольга Николаевна почувствовала даже какой-то трепет: о чем спросит-то?
– Интересно, интересно… в смысле – его задают только взрослым, или его вообще не стоит задавать?
Маринка с сомнением посмотрела на Ольгу и все же спросила:
– Ольга Николаевна, почему вы развелись с Наташиным папой?
Ольга поняла, что изменилась в лице, не смогла совладать с собой: она ожидала всего, чего угодно, но только не этого. Неужели девочка чувствует, что в отношениях родителей намечается кризис? Может быть, хочет подстраховаться, набраться опыта «выхода из кризисных ситуаций»? Нет, не похоже.
Ну что? Выразить недоумение? Намекнуть на бестактность и неуместность подобных вопросов? Спросить, ей в тон: «А это имеет отношение к чему бы то ни было?» И все – доверия больше не будет. А оно еще так им понадобится…
Ладно, о чем бы дитя ни спрашивало, лишь бы не… И все-таки чувство некоторого комизма ее собственного положения взяло верх, она улыбнулась и сказала:
– Хорошо, раз обещала, отвечу. Мы не сошлись характерами.
Маринка кинула на нее обиженный взгляд и замкнулась.
Ольга, понимая, что обидела девочку, осторожно проговорила:
– Я догадываюсь, Марина, что ты спросила не просто из любопытства, но почему все-таки?
Марина ничего не ответила, испытующе глядя на Ольгу. Ольга, пожав плечами, нерешительно продолжила:
– У нас… возникли разногласия по разным вопросам. Нет, серьезные глаза Маринки не дадут отвертеться, и Ольга продолжила, слегка иронично:
– Ну, например, я встаю очень рано, а он может спать до полудня, потому что спать ложится в полночь. Я люблю бисквитный торт, а он – песочный, и цвета нам всегда нравились разные…
Потом коротко взглянула на девчонку и уже совершенно серьезно закончила:
– Я носила белый халат, от меня и дома всегда пахло больницей, я часто дежурила по ночам, а ему, как оказалось, больше нравились черные кружева, французские духи и… свобода выбора.
Сделала паузу, а потом, совсем как взрослую подругу, попросила:
– А теперь объясни мне, зачем тебе это нужно было знать.
Маринка долго собиралась с мыслями и выдала, наконец:
– Я догадывалась. Он просто не любил вашу работу.
Ольга улыбнулась одними губами, а Маринка, заметив эту кривоватую улыбку, абсолютно уверенно заявила:
– Он вас просто ревновал, да! А вы ведь свою работу не поменяете, правда? Вот ему и пришлось уйти. Но, я думаю, он вас любит, очень любит.
Ольга встала, какое-то время смотрела на Маринку, склонив голову. Все понятно. Она хотела убедиться, что работа для нее, Ольги, важнее всего. Вот и убедилась таким простым способом. Не клятву же Гиппократа, в самом деле, с нее заново брать? Бедная, маленькая Маринка, еще и постаралась утешить: «он вас любит».
Ну, ладно. В конце концов, она так долго набиралась храбрости для этого вопроса.
– Когда-нибудь из тебя выйдет очень неплохой психолог, Маринка. Поступай после школы в мединститут! Хотя это совершенно не обязательно должно стать профессией…
Маринка посмотрела на нее сначала с затаенной болью – после школы? А оно наступит, это «после школы»?
И все-таки потом на лице сама собой расцвела улыбка. Ольга поняла: девочка и в самом деле верит каждому ее слову. И поняла, что очень хочет поплакать где-нибудь, где никто не увидит ее слез. Поплакать о бедной Маринке, о своей Наташке, об Андрее, который дорог несмотря ни на что, о себе, о Косте… Но нет такого места у Ольги Николаевны, нет…
Перед тем как выйти, Ольга наклонилась, поцеловала Маринку в бледный висок – так уж попало – и сказала девочке то, что та очень хотела услышать:
– А я и правда очень люблю свою работу. И тех, кого лечу, очень люблю…
* * *
Гена ходил к Маринке через день. Не потому, что не хотел – очень хотел, рвался к ней всей душой! Но мысль о том, что рассчитывать он отныне может только на собственные силы и астрономическую, по его понятиям, сумму должен набрать в невероятно, рекордно короткие сроки, – ведь грозная болезнь кредита не даст, – заставляла его работать с удвоенной силой. Он искал заказы, расписывал рейсы таким образом, чтобы это было суперрентабельно. Леша, ныне финансовый директор, а раньше, и прежде всего, лучший друг и верный соратник, почуял недоброе в этой вновь введенной «потогонной системе».
– Ген, всех денег не заработаем. Ты чего? Август кончается, в отпуск пора, ребятам надо отдохнуть.
Геннадию не хотелось до поры до времени рассказывать другу о болезни Марины, но, видимо, это время все-таки настало.
– Леша, купи у меня мой пакет акций.
– Давай, – с едва заметной иронией тут же согласился Алексей и полез в карман за бумажником. – Почем отдаешь?
Но шутить Гене совсем не хотелось:
– Очень скоро мне понадобятся тридцать тысяч долларов.
– Хорошие деньги, – серьезно ответил Алексей. – Когда нужны?
– Вчера.
Алексею тоже расхотелось шутить. Знал он Гену давно, не раз были в серьезных переделках, в бытность свою «водителями». Если нужны деньги – значит, нужны. Если не говорит зачем – тоже есть причина. Помощи не просит. А это почему?
– Своими силами хочешь обойтись?
– А иначе не получается.
– В чем дело-то? На выкуп похоже, уж ты меня прости. Что молчишь? Случилось что?
Гена посмотрел на друга: сам того не зная, Леха попал в точку. Выкуп. Только не у людей, с людьми бы как-нибудь, общими усилиями…
У Леши у самого двое, близнецы Петр и Павел, ему ли не понять.
– Маринка заболела моя. Острый лейкоз. Нужна операция за границей.
Алексей смотрел исподлобья, думал. А что думать? У него налички нет, все в деле. Генкину долю выкупить – опять же не за что. Кредит в банке? Связей таких нет, что их грузоперевозки – мелочь…
Впрочем, если задуматься, и сумма невелика. Но вот чтобы сейчас взять и достать из сейфа – нету.
– Гена, думать будем, – сказал Алексей. Больше пока он ничего сказать не мог. Гена и сам это знал.
* * *
Гена засунул через щель в двери руку, хлопнул ею страшно, как Кинг-Конг. Потом зашел сам. Маринка с улыбкой отложила книгу:
– Папа!
Геннадий вошел, сел на краешек кровати, обнял дочь. Долго они сидели молча, чувствуя родное тепло друг друга. Отец спросил:
– Ну, как ты, котенок?
Маринка пожала плечами:
– Знаешь, я почти полдня как будто здорова, а вечером опять температура поднимается.
Маринка вздохнула – ей отца было жаль чуть ли не больше себя: вон как рубашка вспотела, круги синие под глазами.
Гена взял руку дочери в свою, погладил ее, сказал подчеркнуто убедительно и твердо:
– Все будет хорошо.
Марина посмотрела на отца так прямо и так внимательно, что он невольно смутился, но тут же взял себя в руки и продолжил все тем же уверенным тоном:
– Мне нужно уладить кое-какие дела на фирме и очень скоро я тебя увезу в Германию. Немецкие врачи творят чудеса…
Марина неожиданно резко оборвала отца:
– Не всегда.
Геннадий отрицательно покачал головой и с прежней твердостью повторил:
– А я говорю – все будет хорошо, вот увидишь. Я все сделаю.
Марина, все так же прямо глядя на папу, сказала:
– Что ты все сделаешь, я верю. Я даже знаю, что ты сделаешь. Фирму продашь, да? Эти все «алки» и фуры, да? Дачу нашу продашь, вообще все продашь, да?
Геннадий молчал какое-то время, потом почти усталым голосом произнес:
– Да, Маринка, я все продам и увезу тебя в Германию.
Некоторое время оба сидели тихо. Потом Маринка, как бы сдавшись, спросила:
– А Ольга Николаевна с нами поедет?
Геннадий удивленно посмотрел на дочь:
– Маринка, ты же у меня не маленькая. В каком качестве с тобой поедет Ольга Николаевна? И зачем, вообще? И почему она должна с тобой ехать? Если в качестве лечащего врача – так там свои специалисты. Если ты с ней подружилась и это твой каприз – я даже не знаю, что сказать. У нее работа, своя жизнь, масса обязанностей, я просто удивляюсь тебе.
Маринка упрямо молчала, глядя в одну ей видимую точку на стене, а потом заявила спокойно и твердо:
– Значит, я никуда не поеду.
Нервы у Геннадия, наконец, сдали, и он почти закричал на дочь:
– Нет уж, это я буду решать, мы с мамой, – поедешь ты или нет! Это тебя Ольга Николаевна уговаривает не ехать?!
Маринка положила успокаивающе руку отцу на плечо:
– Да не сердись ты, папа. Ничего она не уговаривала, не думай, просто мне кажется…
Маринка замолкла, теребя кончик пижамки:
– Папа, я ей верю. Она говорит, что я поправлюсь. Я ей верю, папа. Она вылечит меня.
Геннадий смотрел на дочь и чувствовал, как жалость пересиливает раздражение. Сил на продолжение этого разговора уже не было. Оба молчали.
Маринка, внезапно почувствовав прилив слабости, откинулась на подушку.
– Пап, ты иди, я посплю.
Геннадий, не отводя взгляда от лежащей с закрытыми глазами Маринки, послушно пошел к двери. Показал ей, не открывающей глаз, на пакет с фруктами, который он повесил на спинку стула:
– Мама тебе прислала, что ты любишь…
Уже в дверях он столкнулся с Ольгой. Они встретились глазами, и Ольга почти растерянно ответила на прямой и строгий взгляд Геннадия. Не поздоровавшись и не попрощавшись, он вышел. Ольга какое-то время смотрела ему вслед: от вчерашнего доверительного взаимопонимания, казалось, не осталось и следа.
* * *
Несколько дней спустя Геннадий встретил Андрюху Каранчука. Поздоровались, и Гена сразу понял: Андрей все знает.
Но обсуждать с ним свои проблемы ему не хотелось. Из головы не шел пустенький разговор на улице: «Две штуки… Две тонны…» Так все запросто…
«Странный все же парень, этот Андрюха, – подумал Гена. – Из простой семьи, Киска его, в смысле, Ксения – тоже девчонка без затей. А ведь какие аристократические замашки! Давно ли бегал как саврас без узды, заказы перехватывал, хвастался: „Мороженое „Герда“ ел? Оберточку видел? То-то!“»
Андрей играл, и очень немногие, его жена Ксения да пара друзей, знали, что это у Чингачгука уже не забава, а болезнь. Другие проигрывали легкие, шальные деньги – Андрей проигрывал то, что зарабатывал. При этом что было, пожалуй, самым опасным, он был везучим.
Деликатности при всем том у Андрюхи было не занимать. Он понял: ни расспрашивать Геннадия не надо ни о чем, ни советов давать. Да и что он мог посоветовать? Поделиться – да, а советы… Кому они нужны?
– Гена, давай посидим где-нибудь завтра или послезавтра, как у тебя со временем?
И незамысловатое это предложение вдруг вызвало у Гены неожиданный отклик в душе. Да, хотелось расслабиться. Нет, если честно, хотелось напиться.
– Давай, Андрюша. К себе приглашаешь?
Андрей головой покачал:
– Не, у меня мы по-черному нажремся. Не надо это. В приличное место пойдем, в «Мида$».
– Это куда ты деньги относишь всю дорогу? – не удержался Гена.
Добродушный Андрюха и в мирное-то время в драку не лез, а уж теперь и вовсе не хотел огрызаться:
– И приношу оттуда же… Там кухня хорошая, кабинеты есть, тебе понравится.
* * *
Если бы Ольга Николаевна умела читать мысли, она давно начала бы со Светланой Бохан нужный им обеим разговор.
Она пришла бы к ней домой, не уточняя адреса, как на свет маяка. Свете и в самом деле казалось, что она излучает тревогу и боль, что эту ее ритмично, с каждым ударом сердца отдающуюся в висках, пульсирующую боль можно увидеть. Светлана даже точно знала, какого цвета ее боль. Конечно, красная. Багровая…
Ольга Николаевна не услышала «позывных» Светланы. И тогда Света сама нашла ее, это оказалось совсем не трудно.
…Они сидели в комнате Ольги Николаевны с шести часов вечера. Время близилось к полуночи. Давно пришла и тихонько позвякивала чем-то то на кухне, то в ванной Наташка, несколько раз звонил телефон, зачем-то приходила и ушла ни с чем пожилая соседка со второго этажа. Женщины разговаривали, и им нельзя было мешать: Наташа, заглянувшая в комнату матери и увидев грустную Маринкину маму, поняла это сразу и, как смогла, постаралась обеспечить конфиденциальность.
Светлане нужно было выговориться, нужно было покаяться.
Столько накопилось в ней за недолгое время болезни дочери… И главное – то, что прежде стало бы праздником в доме, теперь виделось карой Божьей, испытанием, которое послано свыше и которое она не сможет вынести достойно.
Света боялась сообщить мужу о своей беременности. Она просто не могла представить, как он прореагирует. Радости не ждала. Скорее, Геннадий увидит в этом дурной знак. Столько лет они мечтали о втором ребенке, а дождались именно теперь, когда жизнь дочери на волоске!
Света терзалась: чем она реально могла помочь своей дочери? Изменило ли бы что-нибудь в ее судьбе избавление от…
– Что делать? – спрашивала и спрашивала Света у Ольги.
Но вопрос, даже повторенный многократно, оставался риторическим.
Кто посмел бы давать советы матери, когда решалась судьба ее ребенка? Никто. А когда решалась судьба обоих ее детей – Маринки и того, у кого еще не было ни земного возраста, ни имени?
И Ольга тоже долго думала, прежде чем рассказала Светлане о том, о чем обычно не рассказывала никому: о страшном дне, когда новорожденная Наташка могла осиротеть, если бы…
Если бы не чужая кровь, которая стала ей родной.
* * *
Светлана сделала ошибку и понимала это. Исправить ее было уже невозможно.
Марина в тот раз встретила ее почти весело, но Света знала за ней эту особенность: дочь привыкла ее жалеть. Наигранная бодрость Маринки под лозунгом «маму нельзя волновать» не могла обмануть материнское сердце. Бледненькая, с постоянно появляющейся на лбу испариной, синевой вокруг больших карих глаз… Ей хотелось плакать, глядя на дочь, а вместо этого она делала вид, что все в порядке.
Сейчас ее просто угнетали ее собственные, кажущиеся пустяковыми болячки. Да наплевать и растереть всю эту вегето-сосудистую дистонию! Эти вечные, изматывающие мигрени! Света, совсем недавно всерьез страдавшая от тяжких головных болей, перестала болеть совсем. Она обнаружила отсутствие головных болей почти случайно: когда не болит, об этом ведь и не вспоминаешь. «Да я просто симулянтка…» – изводила она себя упреками. А потом вспомнила: где-то читала, что на войне люди не болели «мирными» болезнями. «Я сейчас тоже на войне, болеть – не время».
Да, «маму нельзя волновать». Это же неписаный закон для Маринки, кажется, с тех пор, как она начала говорить. А вот теперь пусть мама поволнуется по полной программе. Заслужила. Всей своей безмятежной жизнью до…
Как случилось, что они заговорили об этом?
Марина, давно не видевшая мать, стала рассказывать ей про Ольгу Николаевну, про девочку Зоську, которая приходит к ней в гости каждый день. Она проходит в клинике ежегодный курс лечения, но скоро уедет, потому что пойдет в школу. И как она будет без нее? Без ее нехитрых рассказов про деревню, про бабулю, про огород и трудодни, про «куренят», которых нужно спасать от ворон, про диснеевские мультики, которые давным-давно не смотрит сама Маринка.
А Света слушала, с какой нежностью к почти незнакомой, чужой девочке говорит Маринка, и хотела рассказать ей про маленького брата или сестру, который появится скоро. Очень хотела, но боялась. Ей казалось, что обещание встречи с маленьким родным человечком заставит думать только о будущем, о самом хорошем, и для этого она должна будет собрать все силы для жизни. Иногда же, наоборот, она воображала, что Маринка может заревновать к еще нерожденному малышу, что почувствует себя лишней. Как можно было рассказать и одновременно дать понять, что она по-прежнему, навсегда главная в их с папой жизни?
И она ни о чем не рассказала девочке. Только не потому, что не успела найти нужные слова, а потому, что Марина вдруг, без видимой связи с предыдущим, спросила у матери:
– Мама, почему у меня такая плохая кровь – резус отрицательная?
Светлана на мгновение задумалась: она не знала ответа. Потом заговорила, на ходу придумывая, как это можно объяснить Маринке:
– Плохая? В смысле – отрицательная? Она не плохая и не хорошая сама по себе, но достаточно редкая. Я читала, что отрицательный резус только у четырех процентов населения Земли. Я, кажется, даже слышала, что происхождение этой группы крови – инопланетное. Может быть, кто-то из наших дальних родственников с Марса? Наверное, мой дядя Сережа. – И Света улыбнулась со слабой надеждой, что дочка вспомнит маминого дядю, блондина с огромными синими глазами, и эта простенькая шутка хоть ненадолго отвлечет Марину от тяжелых мыслей.
– И все эти инопланетяне больны как я?
Сердце Светланы сжалось.
– Нет, не все. Болезнь вообще не выбирает группу крови.
– А что она выбирает? – Марина смотрела на мать в упор.
А ведь Ольга предупреждала и Геннадия, и Светлану о возможности таких разговоров и очень просила пресекать их на корню. «Девочка впечатлительная, – говорила она. – Хватит ей и того, что она придумывает себе сама. Никакой пищи для ее раздумий не должно поступать извне!»
С Ольгой Николаевной Маринке дискутировать было бы куда сложнее, а мама, стоит признать, не была для Марины таким уж непререкаемым авторитетом.
Она ведь и в семье вела себя как взрослая, а с матерью – как старшая.
Света вспомнила недавний, в начале этого лета состоявшийся телефонный разговор с подругой. Та позвонила Свете и стала по обыкновению жаловаться, что ни на что не хватает времени, что она ходит пегая – некогда в парикмахерскую вырваться, что нужно делать ремонт, а муж никак не раскачается, и так далее. «А как ты?» – спросила она у Светы, наконец выговорившись.
«А я в баню собираюсь, – смеясь, ответила ей Светлана. – Пойдем со мной, бросай ты свое семейство. Я с собой масочки возьму, травку в термосе настоим, попьем после баньки, потом в парикмахерскую зайдем, ты покрасишься, я постригусь…»
Подруга на это сказала: «Счастливая ты, Светка» – и отказалась от культпохода в баню.
А Света еще и добавила: «А я, моя дорогая, свое счастье с девятнадцати лет строю. Вот теперь одно мое счастье пирог на кухне печь собирается, а другое квартиру убирает. Вернусь из баньки, а все будет в ажуре!»
Что пироги! Маринка в магазин ходила лет с шести! За хлебом, конечно, за молоком: за чем еще посылать кроху? А мясо выбирать научилась, кажется, с десяти. Готовила отлично: ей просто нравилось кормить семью, она любила, чтобы мать с отцом восхищались ее талантами и хвалили стряпню. Бабушка, покойная Генина мама, научила ее чудные огурцы солить в банках, но с таким особенным бочковым хрустом…
«Моя бедненькая, моя маленькая мамочка», – нежно говорила она иногда Свете, лежащей с холодным компрессом на голове и таблеткой «тройчатки» наготове. И Светлана знала: маленькая, это не потому, что Марина была ее уже года два как выше на пару сантиметров.
И эта «маленькая» мамочка не смогла бы даже при сильном желании обмануть свою «большую» дочь.
– Пойми, Маринка, из всякой ситуации есть выход. Всегда! Ты даже не представляешь, как много людей сейчас ищут этот выход для тебя. Ольга Николаевна мне рассказала подробно, что и в какой последовательности она будет делать. Все это очень серьезно. Придется многое вынести, но ты же у меня хорошая, умная девочка. Ты должна очень стараться выдержать все это и выжить, – Светлана говорила и не знала, верный ли она нашла тон. «Плакать нельзя!» – это Ольга приказала, лгать нельзя – дети остро чувствуют ложь.
Но Маринка не должна терять надежду! И какой ценой этого добиться – так ли это важно?
– У Ольги Николаевны такая же группа крови, как у тебя, – сказала мать, глядя прямо в большие глаза дочери.
Умная Маринка выдержала взгляд и не задала больше ни одного вопроса, но поняла: мама сказала ей об Ольге Николаевне не просто так, к сведению, и не для того, чтобы она не чувствовала себя одинокой. Она сказала это зачем-то. Зачем?
* * *
Нужно было сделать несколько очень важных дел.
Полностью подготовить Наташку в школу – это, предположим, она сделает и сама.
Закупить продукты впрок насколько возможно, наготовить полуфабрикатов.
Попросить маму почаще контролировать Наташку по телефону, хотя эта хитрюга при желании бабушку вокруг пальца обведет запросто, какой уж там контроль.
Надо договориться с Андреем, чтобы он пожил какое-то время дома, в смысле, у них дома, с Наташкой.
Ольга задумалась. Да, даже если это покажется Андрею замаскированным приглашением вернуться обратно, все равно она будет просить его пожить с дочерью.
Что скрывать, она давно хотела, чтобы Андрей вернулся. Никаких кардинальных изменений после развода в его судьбе не произошло: не женился, снимал квартиру, работал по-прежнему в маленькой стоматологической фирме с милым названием «Смайлик».
Возможно, она поторопилась в свое время, не стоило делать таких резких движений. Ну, загулял мужик… бывает.
Нет, невозможно от всего на свете застраховаться и ко всему морально подготовиться. А ведь когда-то они с Ленкой на одном из частых их «советов в Филях», помнится, разводили теории за рюмочкой коньячку: почему это мужчины переносят измену тяжелее, чем женщины?
– Потому что мужики своих братьев по полу уважают просто по определению и крепко обижаются, до глубины души, – важно, со знанием дела рассуждала Елена.
Ольга кивала: верно, без разницы, – случайная измена или длительный роман, – мужчина разбираться не будет (если он мужчина, конечно) и из ревности много бед наделать может.
– А женщины? Господи, конечно, внешние проявления могут быть самыми разными, – продолжала глубокомысленно теоретизировать подруга, – кто-то слезы льет, кто-то чешский хрусталь бьет вдребезги. Ну, это у кого какой темперамент. А в душе, в этой самой ее глубине? Женщина для женщины все равно никакая не загадка и не авторитет, по большому-то счету. Чем какая-то тетка или девица лучше меня, прекрасной? Отвечаю: ничем. Практически невозможно! Скажи?
– Да, – с готовностью кивала Ольга, мол, прекрасней нас найти трудно!
– Куда легче простить измену под лозунгом «Не вижу соперницы!» – продолжала мудрая как змий Ленка. – Особенно, если неверный супруг не собирается под венец.
Ольга поддакивала: да, мол, если случайная интрижка – ерунда, можно и простить. После испытательного срока. Легко! Вот если встретится умная, которая его душевно привлечет, тогда все. Но ведь умных-то – раз, два и обчелся? Ты да я, да мы с тобой…
Вот так они рассуждали, красивые, уверенные в себе, состоявшиеся именно так, как хотели, именно в том деле, которым занимались, молодые женщины, с легкостью строя теории и втайне надеясь, что практикой их проверять не придется.
Пришлось. И не Ленке, конечно, которая сама долгое время была любовницей, хотя слова этого сильно не любила.
Так уж совпало тогда: выдался очень тяжелый месяц, Ольга дневала и ночевала на работе. Аврал в клинике совпал с защитой диссертации, в общем, свет мерк в глазах. Напряжение сказывалось, но волю эмоциям на работе она дать не могла – рикошетило по родным и близким. Наташка, зная крутой нрав матери, просто по стенке ходила, а Андрей как-то задумчив стал. Ольга думала, тоскует по ней, неласковой и невнимательной, вечно усталой и раздраженной. Нет, и не тосковал вовсе, какая там тоска…
Здесь бы ей встрепенуться, вернуться в семью, переложив часть своей непосильной ноши на кого-то, кому можно доверять. Разве их мало рядом с ней, надежных товарищей?… Нет. «Хочешь, чтобы было сделано хорошо – сделай сам». Вот сама и делала, рвалась на части.
… Поняла, что изменил, – вдруг. Не думала, не анализировала, теорий не строила – просто поняла: есть другая.
И вместо гнева, ярости, еще каких-то ярких эмоций навалилось тяжелое глиняное разочарование. «Иди ты к черту, – подумала тогда Ольга, – если уж я тебе не жена и не женщина, иди ты к черту…»
И, кажется, что-то в этом роде и высказала.
Он почему-то на удивление оперативно собрался и в самом деле ушел.
Потом Ольга Николаевна, изменив собственным принципам, обратилась к знакомому юристу, многим ей обязанному, и тот устроил молниеносный развод.
Вот скоропалительного развода Андрей, пожалуй, не ожидал. Развод его мигом отрезвил. И так же, как раньше Ольга ясно поняла, что есть у него дама сердца, сейчас она тоже ощутила: нет больше этой дамы.
И только тогда, после развода, как горькое послевкусие, пришла обида. Стали вспоминаться прекрасные годы их жизни – все, за исключением вот этого, проклятого года. Как они учились, как жили вместе, по-детски стараясь быть самостоятельными, как родилась Наташка, и какой новой, другой стала жизнь с ее появлением.
Однажды, еще «до того», Андрей как-то сказал ей: «Ты ощущаешь, между нами сейчас какое-то другое чувство, уже не совсем любовь». Ольга опустила тогда голову: любимая работа отнимала у нее много сил, и не всегда на нежность мужа у нее находился отклик. Она даже придумала шутливо-грустную отговорку: «Я люблю тебя всей душой, а на большее ты не рассчитывай…»
Но он говорил о другом: «Я люблю тебя и как жену, и как ребенка, и как мать. Это любовь, похожая на дружбу, а может дружба, похожая на любовь».
Они прожили тринадцать лет и развелись за четыре дня.
Ухитрились помириться – на уровне дружественных визитов и ответных коммюнике – ради Наташки. Но сердце… сердце у Ольги очень болело, и она знала: оно также болит и у ее мужа, которого она так и не научилась называть бывшим.
* * *
Между тем, как Геннадий оглушительно хлопнул дверью в собственном доме и очень тихо закрыл за собой дверь в кабинете Ольги Николаевны, прошло минут сорок. Двадцать из них – на дорогу. Еще двадцать – на разговор.
– Как вы могли? Что вы наделали? Я же дал вам ясно понять: я делаю все, что в моих силах, чтобы найти каналы и средства и вывезти мою дочь на операцию в Германию! – почти кричал, тяжело переводя сбившееся после бега по ступенькам дыхание, Геннадий.
Ольга сидела за своим столом, как судья на процессе, но чувствовала себя, как обвиняемый. Дождавшись паузы, произнесла:
– Никто не стал бы делать операцию без вашего согласия. Я лишь поставила вашу жену в известность о том, что есть донор, который может оказаться идеальным для Марины.
– А может и не оказаться! – вновь мгновенно вскипел Геннадий.
– Есть факторы, которые невозможно учесть, – как могла спокойно отвечала Ольга.
– А какие факторы вы учли, принимая за меня решение об операции?!
Это было слишком! Даже для расстроенного отца.
– Геннадий Степанович, я практикующий врач, и отдаю себе отчет в своих действиях и… планах.
Гена замолчал, время от времени глубоко вздыхая, как если бы ему не хватало воздуха. Ольга Николаевна оценила его душевное состояние и решила, что нужно с ним говорить именно сейчас.
– Видите ли, Гена, – она сознательно опустила отчество, очень нужно было добиться взаимопонимания, – существуют факторы совпадения. Они включают в себя множество параметров: группа крови и резус – это из тех понятий, которые доступны любому человеку, не обязательно медику, другие большей частью имеют латинские названия и редко употребляются в повседневном общении, но, поверьте мне на слово, – они тоже есть.
Длинная речь заметно успокоила раздраженного Геннадия. Он слушал, не понимая половины, завороженный спокойной интонацией и такой же спокойной уверенностью Ольги.
– Вы меня называли идеалисткой, кажется? Нет, я не идеалистка, я холодный расчетливый прагматик, когда речь идет о жизни моих пациентов. И еще, вы не вправе меня упрекать ни в чем, потому что Марина – ровесница моей дочери. Я помню ее во дворе совсем маленькой. Она мне… не чужая, так уж получилось, пусть простят меня другие детки. Для нее я сделаю не просто, как всегда, – все, что могу. Я сделаю больше, чем могу.
– Я хочу вам верить, очень хочу. Боюсь, у меня и выхода другого нет, но… – начал Геннадий, но, увидев, что Ольга не договорила, остановился.
– И еще – к вопросу об идеализме. Вернее, я совсем о другом, о факторе совпадения.
Ольга посмотрела в глаза отцу Марины.
– По-всякому может случиться, но попытку сделать нужно, тем более, что результаты подбора донора очень хорошие…
Ольга задумалась на мгновение, а потом продолжила:
– Видите ли, операцию по пересадке костного мозга можно сравнить… – Ольга невесело улыбнулась, вспомнив другой разговор, с Ириной Сергеевной, – ну да, с поэзией. Рифму подобрать легко, но вот получатся ли стихи? Знаете, рифма к слову «кровь» – не одна. Но вот если со словом «любовь» она рифмуется поэтично, то с «морковью» – не очень…
– Как вы можете вот так, несерьезно… – начал с упреком Геннадий.
И тут, так вовремя и так не вовремя, вошел Костя Дубинский:
– Можно к вам, Ольга Николаевна? Вы вызывали?
– Подожди минутку, Костя, – сказала Ольга, но Геннадий сделал запрещающий жест рукой:
– Я ухожу.
«С чем он ушел? – с острой жалостью подумала Ольга. – Куда он пошел?»
* * *
В жизни бы не догадалась Ольга Николаевна, куда двинули Геннадий Степанович Бохан со срочно вызванным другом Андреем Каранчуком. Они пошли, предусмотрительно оставив машины на круглосуточной стоянке, напиваться в казино «Мида$».
И сначала по-честному хотели только напиться. И это им, конечно, удалось, – но тоже не сразу.
Андрея не то подводила в этом вопросе, не то, наоборот, выручала «весовая норма»: при весе почти в сто килограммов выпить ему, чтобы действительно напиться, нужно было немало. Как он сам говорил: «Если никто по башке бутылкой не треснет, я под стол не упаду».
Геннадия «не брало» – сказывалось нервное напряжение. Не «помогла» и усталость – полбутылки литрового «Абсолюта» прошли незамеченными…
Но теперь, правда, Гена мог говорить с Андреем, как с другом, без недосказанностей.
Света дала согласие на то, чтобы Маринку оперировали здесь, в больнице, где она сейчас лежит.
Андрей тяжело вздохнул:
– Гена, если дело только в деньгах, дай время – наберем «комсомольским набором», – заговорил он, прижав руку к груди.
– Знаю, – отмахнулся Геннадий, – знаю, что наберем. Как наберем – знаю, как отдавать – ладно, тоже придумаю, но время, время не ждет!
Помолчали.
– Сначала сделают химию, химиотерапию. Это ужас, Андрюша, это кошмар… – Гена понял, что может расплакаться как ребенок, перевел дыхание. – Потом нужно будет пересаживать костный мозг от донора.
– А донор есть? – осторожно спросил Андрей.
Геннадий кивнул:
– Она говорит, что есть, но вот рифма… – Гена помотал головой.
Андрей с некоторой опаской заглянул ему в опущенное лицо: нет, это, кажется, не пьяный бред, но какая, к черту, рифма?
…Как они оказались за игровым столом в точности сказать потом не мог ни Андрей, ни, тем более, Гена.
Однако это случилось.
Наверное, алкоголь все-таки сделал свое черное дело, потому что дальше Геннадий помнил события вечера только отрывочно. Помнил девушку-крупье в серебристой блузке и черном фирменном галстуке-бабочке с миниатюрной брошечкой в виде значка «$». Помнил кучку разноцветных и постоянно меняющихся в количестве фишек. Помнил толпу, выросшую сама собой вокруг их стола…
В какое-то мгновение пропал звук – так ему показалось. Он видел Андрея, широко и беззвучно открывающего рот и какую-то миловидную даму в сильно декольтированном коротком черном платье, которая тоже беззвучно хохотала и аплодировала. Кому?
Потом пропало изображение…
Наверное, ненадолго. Вот какая-то лестница, по которой Гена идет, нет, плывет, как катер на воздушной подушке. А это мощные руки Андрюхи поддерживают его в пути по почти отвесным лестничным маршам.
А это кто? Какая-то мерзкая рожа… Рядом еще две или три, и тоже не краше…
Тут включился звук:
– С тобой, падла, поделиться? – это Андрюшин голос. И Андрюшин чугунный кулак, от которого рожа вместе с хозяином улетела куда-то в сторону.
А на помощь уже бежали рослые ребята в черных костюмах с бейджами на лацканах – секьюрити «Мида$а»…
* * *
Гена очнулся только дома. На диване. По диагонали. Одетый. Обутый.
За окном занималось раннее утро. Господи, и Светка лежит рядом…
Почувствовав, что Гена проснулся, открыла глаза жена:
– Гена, что произошло? – начала было она. – Как ты себя чувствуешь?
Вопрос о самочувствии вызвал у Геннадия нервный смешок – самое время справиться у него о здоровье.
– Света, ты прости, я не помню… Я что-нибудь натворил? – Геннадий попытался заглянуть жене в глаза. Получилось с трудом. Но нет, кажется, не плакала.
Светлана ответила не сразу, немного искоса глядя на мужа:
– А ты что, совсем ничего не помнишь?
– Помню, – храбро ответил Геннадий. Ни черта он не помнил, только опять промелькнули, как в кино, кадры прошедшего вечера.
Света села на диване, потом, поправив халатик, двинулась куда-то в сторону прихожей.
Вернулась. В руках, чуть наотлет – пестрый пластиковый пакетик. Белозубая красотка с бокалом чего-то красного в руках улыбалась с пакетика отвратительно зазывной улыбкой…
– Что это? – спросил без особого интереса Геннадий. Света молча подошла к дивану и высыпала на пол кучу перетянутых резинками серо-зеленых пачек.
– Андрей все говорил вчера: «Дуракам везет, новичкам – пруха…» – процитировала она тихим голосом.
Гена медленно отвернулся к стене.
* * *
Ольга лежала на столе и улыбалась. Ей так странно было видеть знакомые лица именно в этом ракурсе – снизу. Костя в зеленой униформе, с поднятыми вверх кистями, затянутыми в перчатки, Леночка, Николай Петрович, анестезиолог… Не поворачивая головы, она знала, чувствовала: где-то рядом Маринка.
– Ольга Николаевна, будем считать до десяти? – это Николай Петрович спросил.
Ольга Николаевна смотрела, как опускается к ее лицу маска.
– Нет, я вам стихи лучше прочитаю…
И медленно начала:
– «Ты излучаешь ясный свет. Пять сотен „да“, семь сотен „нет“. Забудь вопрос, найди ответ…»
И все. Мягкая теплая пелена накрыла ее: сначала потерявшие вес ноги, потом подобралась к груди, и, наконец, окутала голову…
…В палате кроме нее лежало еще четверо «первородок», но она, Ольга, была самой молоденькой и единственным медиком, пусть еще не дипломированным, но все же. Она внимательно прислушивалась к своим ощущениям со вчерашнего вечера. Срок… Ужасно волновалась, хотя уговаривала себя, и дышать старалась по учебнику.
Наталья Дмитриевна приходила к ней, когда надо было и когда не надо:
– Ну что, Олюшка? Просится?
– Затаилась чего-то, – слабо улыбалась ей Ольга.
– Ну, к утру разойдется. Пора уже, – погладила ее по плечу пожилая акушерка.
Они познакомились на практике. Дотошная студентка совалась во все, что ей нужно и не нужно было знать – все-то она хотела уметь… Очень понравилась молодая женщина Наталье Дмитриевне и вот надо же – к ней и попала рожать. Да что там, попросилась.
«Я не потому, что мне обязательно по знакомству рожать надо, – сказала она тогда, как бы извиняясь. – Я всю жизнь так живу: со мной рядом только те люди, кому я доверяю полностью. Иначе не могу…»
Можно сколько угодно готовиться к родам, но случаются они все равно всегда внезапно.
В шестом часу Оля тяжело спустила ноги с кровати, пошла в туалет, вымыла руки, посмотрела вниз на лужицу возле умывальника: «Неужели я наплескала?…» Э, нет, это воды отходят…
– Девочки! – тихо крикнула, выйдя в коридор. Медсестра за столиком подняла со скрещенных рук голову – заснула. Увидела держащуюся за живот, согнувшуюся пополам и медленно оседающую на пол Ольгу, и побежала к ней, роняя с ног шлепанцы.
– Ну что ты будешь делать, – причитала над протяжно стонущей, закусившей до крови губу Ольгой Наталья Дмитриевна, – как врач, так все не слава Богу.
Ольга то слышала ее знакомый голос, то не слышала ничего кроме оглушительной, кромсающей ее на части боли. Крик младенца, ее дочери, она тоже не слышала. Началась жизнь ее бесценного ребенка – и стремительно, стуча в висках отбойными молотками, пошла на убыль ее собственная.
Она не слышала, какой переполох поднялся в родильном отделении. Не знала, как вливали в нее все запасы нужной группы, имеющиеся в отделении, и как они, эти запасы, кончились. А она все истекала кровью, и не было, казалось, силы, чтобы ее остановить…
Не знала, что по радио уже несколько раз передали тревожное сообщение: «Молодой женщине в родильном отделении роддома на улице Бельского срочно требуется прямое переливание крови четвертой группы, резус отрицательный…»
Не знала, что рядом с роддомом очень быстро образовалось скопление такси – таксисты все время слушают радио, потому и откликаются первыми… Не знала, что они же бесплатно подвозили и подвозили тех, кто спешил к ней на помощь, бросив все свои дела, забыв о своих заботах… Она никогда не видела их лиц и, конечно, не узнала их имен…
Просто однажды наступило утро, а потом день, когда усталая Наталья Дмитриевна выговорила рядом с ней, но как будто через бархатный занавес:
– Ну, слава Богу! – и перекрестилась.
Сидела рядом с ней долго-долго, украдкой вытирая слезы, чтобы Ольга их не видела.
– Где Андрюша? – прошептала запекшимися губами Ольга.
– Внизу, скурился весь, два дня не ел, не спал… – ответила Наталья Дмитриевна, тяжело, но с облегчением вздохнув. – Как девчонку-то назовешь?
– Теперь – Наташей, – уголками губ улыбнулась Ольга.
– Спасибо, – помедлив, сказала Наталья Дмитриевна. – А хотела-то как?
– Маринкой, – ответила Ольга.
– Ну, а как дальше-то? Как дальше?
…А ведь это не далекий голос Натальи Дмитриевны. Это мужской голос… а, это Николай Петрович!
– Дальше? – спросила, с трудом возвращаясь из забытья, Ольга и вспомнила последнюю строчку: – «Тебе всего пятнадцать лет…»
– Это ваши стихи, Ольга Николаевна? – спросил Николай Петрович. Ольга знала эти хитрики – проверяет, в сознании ли пациент.
– Нет, – ответила она, – это один кубинский поэт написал, давно, в прошлом веке.
* * *
Как тогда, как давным-давно, сидел возле ее кровати Андрей. Господи, какое усталое, какое родное у него лицо… Что это он, плачет? Плакал, милый…
– Олюшка, ты прости меня, прости, – прошептал Андрей. – Какой я неумный был, это, наверное, не я вообще был, да?
– Неумный? – как могла иронично прошептала Ольга.
– Ну, дурак я был, идиот, – твердо произнес муж, так и не сумевший стать бывшим. – Простишь?
– Я люблю тебя, я очень люблю тебя, – сказала Ольга. Ей очень хотелось спать. Теперь, она знала, что будет спать очень сладко, как в детстве, а может быть как тогда, когда вернулась в жизнь – к мужу, к маленькой дочери, к людям…
* * *
Геннадий Степанович Бохан зачем-то подергал ручку знакомой двери – конечно, закрыто. Оглянулся.
Медленно пошел по коридору, читая таблички. Вот, кажется, сюда…
Ирина Сергеевна почему-то сразу обратила внимание на пестрый пакет в руках Маринкиного папы.
– Здравствуйте, – сказал он. – Я хотел бы узнать расчетный счет одной девочки, фамилию я, к сожалению, не знаю. Зовут ее Зося. София, наверное?
Ирина Сергеевна кивнула.
– Именно София. Пишите…
Доброе утро, Елена!
Возле элегантного, построенного в виде развернутой книги двенадцатиэтажного здания Академии управления маршрутка затормозила. Расхлябанная дверца с не то вежливой, не то угрожающей надписью «Дверями не хлопать, пожалуйста!» отъехала, и из машины, торопясь, стали выскакивать люди, тут же устремляясь в разные стороны. Молодой человек, всю дорогу таращившийся на Елену, дождался, пока она проберется, согнувшись, со своего заднего сиденья, галантно подал ей руку, пытаясь одновременно заглянуть за большие черные очки. Елена помощь приняла, кивком поблагодарила, легко спрыгнула с подножки и, почему-то сняв на улице свои солнцезащитные очки, направилась к метро. На молодого человека она даже не оглянулась. Тот разочарованно посмотрел вслед неспешно удаляющейся загадочной красавице, которую он где-то, кажется, все-таки видел, а потом, все убыстряя темп, пошагал по своим делам. Утро: некогда…
Идущая неторопливо Елена тоже немного опаздывала. Но сегодня был не ее эфир, поэтому особенно спешить было незачем, и она пошла к метро не по центральной улице вместе с общим людским потоком, а другой, своей любимой дорогой: по узкой улочке между большим, отлично оборудованным стадионом Академии и скромной пристройкой к старому жилому дому – зданием журфака университета, который когда-то закончила сама. Она любила ходить именно здесь. Потому что иногда, особенно золотой осенью, вот как сейчас, когда утром еще солнечно, но уже не по-летнему свежо и прохладно, именно здесь ей, сливающейся с толпой идущих на занятия студентов, удавалось мысленно «поиграть» самой с собой в возвращение в юность.
Золотая осень? Или «бабье лето»? Она всегда путала, когда кончается одно, и начинается другое.
Елена очень любила свои утренние прямые эфиры, – ей, «жаворонку», они были совсем не в тягость: около пяти утра за ней приезжал телевизионный «рафик», мчал по оживающим понемногу улицам до Телецентра, и дальше все шло в привычном ритме: прическа, грим, «микрофон включен», звонки телезрителей… Доброе утро!
На баскетбольной площадке Академии управления студенты, по виду не старше второго курса, сегодня играли в баскетбол. Елена шла мимо и любовалась, как они прыгают, носятся, пасуют… Девчонки на невысоких трибунах «болеют», преподаватель свистит в свисток, крики, смех…
В тот момент, когда Елена поравнялась с изгородью, окружающей стадион, один из парней с такой силой стукнул по мячу, что тот перелетел через чугунные копья изгороди и, нахально подпрыгивая, покатился все дальше, дальше… Одинокий мячик еще скакал по тротуару, когда Елена уже прошла мимо.
Другой игрок, высокий парень с лохматой русой головой подбежал к забору, проследил взглядом траекторию движения мяча, увидел, что ближе всех к нему только темноволосая девушка, одетая в черные брюки и джемпер. Без особой надежды в голосе окликнул ее:
– Девушка!
Елена, уже отвлекшаяся от спортивного зрелища, сначала не обратила внимания на оклик. Но, парень, «прибавив громкости», повторил свой призыв:
– Прекрасная девушка с чудесной походкой, оглянитесь!
На этот раз Елена услышала, обращение ей понравилось, и она обернулась на голос с улыбкой, чуть удивленно приподняв брови.
Юноша посмотрел на нее, она – на него… Кажется, на мгновение паренек в красной футболке «Найк» забыл, зачем к ней обращался. Наконец он выговорил, уже с другой, не такой призывной, но от этого не менее искренней интонацией:
– Прекрасная девушка, вы не могли бы мячик кинуть. Во-о-он он покатился! Я бы и сам добежал, да пара кончится, а надо еще этим накидать… Пожалуйста!
Елена молча, не заставляя себя долго упрашивать, кивнула баскетболисту, вернулась за сиротливо лежащим у обочины мячом и легким движением, выдающим хорошую спортсменку, «подала» мяч парню. Тот ловко принял его, улыбаясь действительно красивой и стройной Елене все шире:
– Спасибо!
– Пожалуйста, – просто ответила Елена, отряхивая ладошки и поправляя сумочку на плече, и спокойно отправилась дальше.
На лице у парня за несколько секунд отразилась целая гамма чувств: смутное узнавание, интерес, восхищение… Вместо того, чтобы сразу вернуться на площадку, он пошел вдоль изгороди, стараясь не отстать от Елены и в то же время взглянуть еще раз на ее красивое лицо. Она видела его маневры, но шла, не поворачивая головы, и улыбалась – не забавному симпатичному мальчишке, а… просто так, хорошему осеннему утру.
– Мне кажется, я вас знаю… я вас где-то видел…
Лена невольно улыбнулась – именно эти слова она слышала от незнакомых людей чаще всего, поэтому и отвечала всегда примерно одно и то же:
– Хотелось бы верить… – и, уже не оглядываясь, направилась к спуску в метро, по привычке доставая из сумочки свои темные очки.
Неожиданный ответ заставил парня озадаченно поднять густые темные брови… Тут с площадки донесся возмущенный окрик:
– Шумахер, блин, ты играешь или что?
Парень обернулся на голос, сильным броском послал мяч в толпу игроков и трусцой побежал на площадку, все еще оглядываясь, с заметным сожалением, на удаляющуюся от стадиона Елену… Внезапно он остановился, круто развернулся и крикнул вслед еще не ушедшей из поля зрения женщине:
– Елена! Доброе утро, Елена!
Лена уже стояла у ступенек перехода, ведущего к метро. Она улыбнулась сама себе, секунду подумала, обернулась и все с той же открытой улыбкой помахала симпатичному парню рукой. А потом, прыгая совсем по девчачьи то через одну, то через две ступеньки, спустилась вниз. И без того хорошее настроение почему-то стало просто прекрасным!
А парень на стадионе, до последнего мгновения провожавший глазами ее стройную, как будто четко нарисованную черным на ярком золотисто-синем фоне этого утра фигурку, высоко подпрыгнул, победно вскинув вверх одну руку:
– Йес-с!
И побежал к своим товарищам, на ходу принимая подачу. Его точное попадание в корзину совпало с финальным свистком судьи.
«Хорошее начало дня!» – подумал и он.
* * *
Некоторые коллеги Алексея Александровича Найденова утверждали, что аудитория, полная студентов, – это великолепное живое пособие по психологии группы, а может быть – даже модель общества в миниатюре. Возможно, задайся кто-то такой целью, здесь трудновато было бы выделить классы или социальные группы, но уж обозначить психотипы и определить ролевые установки – сколько угодно.
У Найденова же за десять лет работы на факультете журналистики сложилось противоположное впечатление: это студенты наблюдают, классифицируют их, преподавателей, по своим, часто неизвестным науке классам, типам, отрядам да и семействам – чего уж греха таить. И что характерно – ребята себе в этом отчета не отдают ни одной секунды: живут себе и живут, учатся, прогуливают, сдают и заваливают сессии, влюбляются. Кажется, влюбляются, из всего перечисленного, – с наибольшим энтузиазмом.
Вот они сидят, такие разные и все же, как бы ни стремились к обратному, такие похожие: слушают, не слушают, смотрят в окно, мечтают, разгадывают, маскируясь под конспект, японские кроссворды (вон та девочка слева, например), а на задней парте двое тихо и почти незаметно для окружающих целуются за сдвинутыми рюкзачком и сумкой…
Алексей Александрович относился к студентам отнюдь не с исследовательским интересом, он просто любил их. Каждый год с волнением ждал встречи с новыми студентами – античную литературу проходят только на первом курсе. Один зачет, один экзамен – до свидания! А иногда приходилось встречаться еще раз. Не с «хвостистами», двоек он принципиально не ставил, с поступающими в аспирантуру – на предмет пересдачи. Он всегда шел навстречу претендентам и ставил на балл выше уже поставленной когда-то им же оценки, несмотря на то, что вполне отдавал себе отчет: осведомленность студента в «античке» не стала за прошедшие годы глубже.
После звонка он пару минут постоял у стола, улыбаясь то ли своим мыслям, то ли студентам. Потом, скрестив на груди руки, подчеркивая интонацией чеканный ритм гекзаметра, с едва заметной иронией продекламировал:
Крив был Гнедич поэт, преложитель слепого Гомера, Боком одним с образцом схож и его перевод…В аудитории, слегка по случаю чтения стихов притихшей, послышались короткие смешки. Студенты уже немного успели привыкнуть, что симпатичный и импозантный Алексей Александрович всегда слегка «прикалывается», чуть-чуть пародируя общепринятую «профессорскую» манеру поведения.
Выдержав небольшую паузу, он заговорил:
– Эту эпиграмму Пушкин посвятил своему современнику Николаю Ивановичу Гнедичу, выпускнику Московского университетского пансиона, члену Российской академии и библиотекарю Императорской публичной библиотеки, чей блестящий талант и титанический труд приблизили к нам одно из величайших произведений антич ной литературы – «Илиаду» Гомера. Впрочем, справедливости ради, стоит уточнить, что первый ироничный опус Александра Сергеевича на тему перевода вполне компенсируется второй, более известной эпиграммой, – и процитировал, чуть-чуть понизив свой приятный, мягко звучащий в баритональном регистре голос:
Слышу умолкнувший звук божественной эллинской речи, Старца великого тень чую смущенной душой…– Невозможно не восхищаться переводом Гнедича, даже будучи совершенно равнодушным к творчеству самого Гомера, – продолжил Найденов. – Надеюсь, кто-то из вас уже сегодня может выразить свою солидарность с мнением «солнца русской поэзии», не принимая его слова на веру, а исходя из собственного опыта?
Он выжидающе посмотрел на студентов. По правде говоря, на положительный ответ он не особенно рассчитывал: ни его любимая «Илиада», ни «Одиссея» в школьную программу не входят, а по доброй воле современные школьники читают разве что Пелевина да Сорокина. Наконец, одна из девушек скромно подняла руку.
Алексей Александрович заметил, улыбнулся ей с легким поклоном:
– Рад за милую девушку. Но еще больше рад за вас, друзья мои, – вам предстоит заново открыть для себя эту жемчужину мировой литературы.
Студенты отнюдь не внимали ему – на этот счет он не обольщался. Но также твердо знал: ходят на его лекции по античной литературе без особого отвращения. Найденов оглядел аудиторию с нескрываемой симпатией: множество интересных, умных лиц – озорных, задумчивых, всяких.
Ему нравилось преподавать на журфаке. У журналистов – небольшой набор, на курсе всего пятьдесят человек. Конкурс традиционно серьезный, проходной балл – высокий. В результате – что ни студент, то индивидуальность. И в большинстве своем – действительно творческие личности.
– Особое внимание Гомеру советую уделить не только поклонникам высокой поэзии, но и любителям высокой стипендии, – все в том же, несколько возвышенном стиле сообщил вдруг студентам преподаватель. – На экзамене я всегда задаю дополнительные вопросы по «Илиаде» или «Одиссее» – это мои любимые произведения, мой конек.
– Троянский такой конек… – тут же раздалась реплика с галерки. Многие хмыкнули. «Ага, про коня знают все, ну и слава Богу…» Найденов улыбнулся:
– Браво! – удовлетворенно произнес он. – За чувство юмора я способен накинуть целый балл.
Тот же голос зазвучал снова, с заметным восхищением:
– Уау!
– А вот за «уау» и прочие возгласы и междометия времен палеолита – столько же сбросить…
– Ладно – «аве!» – тут же нашелся «полемист» с галерки.
Все засмеялись, Алексей Александрович тоже:
– А здесь больше любителей античности, чем мне сначала показалось. Ну что ж, я рад. Думаю, мы поладим.
«Конечно, поладим», – повторил Алексей Александрович про себя. Способностью ладить со студентами без «задруживаний» и игры в демократию, или без «панибратства и амикошонства», как выражался декан журфака Александр Федорович Пальчиков, сорокатрехлетний доцент А. А. Найденов славился на весь факультет. И знал об этом.
* * *
В редакцию «Доброго утра» Елена шла по длиннющему коридору главного корпуса, здоровалась со знакомыми, мимоходом заглядывала в студии. Остановилась у «шестисотки», в которой шла запись программы о кино «Блоу-ап». Известный тележурналист Сергей Катаев, огромный, бородатый, бронебойно обаятельный автор и ведущий программы, брал интервью у красивой и очень популярной, благодаря ролям в неплохих телесериалах, актрисы. Елена знала, что Сергей хорошо и довольно давно знаком с Ириной Извековой, с интересом и симпатией следил за ее творчеством со студенчества, поэтому артистка охотно откликается на каждое его приглашение на съемку. Ну правда, он со всеми звездами более или менее знаком, но Ирину снимает все равно чаще других. Может быть потому, что Извекова не только узнаваемая, «снимаемая» актриса, но и просто интересный собеседник? Начитанная, интеллигентная, интервью у нее брать – как в большой теннис играть с хорошим партнером.
Лена решила пару минут послушать Сережин разговор с актрисой, подумав при этом: «Может, пригласить ее в „Доброе утро“ гостем в студии? Интересно будет с ней пообщаться, зрители ее знают…»
Смотрела на Катаева и мысленно аплодировала: дружеские отношения на экране Сергей никогда не демонстрирует – никаких «Петька», «Колька», «Танечка», «Ирочка»… Вот и сейчас он говорил с актрисой без намека на фамильярность, уважительно обращаясь на «вы». Ирина, хорошо понимающая правила игры, отвечала «в тон».
– И вот такой еще вопрос, традиционный, почти банальный, но мне, действительно, интересно… Вы совсем недавно в телесериале сыграли интриганку, очень достоверно, впечатляюще. До этого у вас была замечательная роль в мелодраме, такая вы там были верная супруга и добродетельная мать… Отказались, насколько мне известно, от проб на роль Элизы Дулитл… А есть ли какая-то роль, которую вам очень хотелось бы сыграть, даже если это из области чистой фантазии или если она уже сыграна в кино кем-то до вас?
Извекова улыбнулась, подумала какое-то время, поправляя светлую челку.
– Несбыточное что-то? Никто не поставит и никто не утвердит? Наверное, Прекрасную Елену. Да, Елену Троянскую!
Катаев с надежно спрятанной в густой бороде иронической улыбкой продолжал свой любезный допрос:
– Не ожидал, признаться. И чем вам интересен образ этой роковой женщины, античной сердцеедки, так сказать, из-за которой началась длительная кровопролитная война, погибла славная Троя?
Умненькая Ирина, даже почувствовав иронию, сдаваться не хотела:
– Это мужской взгляд на вещи. По-моему, Данте даже поместил Елену в один из кругов своего ада. Я думаю, Елена ни в коем случае не была сердцеедкой. В общем, ни одно слово из… современного лексикона ей не подойдет. А что касается рока? Все, что с ней случилось, было действительно роковым стечением обстоятельств, поэтому мне и интересна ее личная драма. Ее муж, спартанский царь Менелай, был, судя по всему, достойным человеком, и Парис, вероятно, заслуживал ее любви. Пока шла война, Елена не просто повзрослела – она почти состарилась! Я говорю сейчас не с современной позиции, а исходя из античных критериев… Если подсчитать – за тридцать или даже около сорока ей было. Но ни один из мужчин не захотел уступить ее сопернику. Разве это не интересно? Но самое потрясающее, мне кажется, в этой истории то, что война началась из-за любви! Единственная в истории человечества. Если я не ошибаюсь…
Катаев, явно получая удовольствие от разговора, произнес:
– Ну, хорошо… Я думаю, вы и в самом деле смогли бы воплотить на экране этот многогранный образ, но положение дел в нашем кинематографе вам, Ирина, известно не хуже моего, а «Илиада» – это суперколосс, который потянули бы разве что в Голливуде…
Елена пожалела, что не может дослушать их беседу до конца, улыбнулась выпавшему на время из кадра Катаеву, легонько помахала ему рукой и продолжила свой путь, улыбаясь собственным мыслям.
Странно, как-то с запозданием, как цветное фото из «Полароида», проявился в памяти Елены парень со стадиона. Высокий, широкоплечий, красная майка «Найк», мокрая от пота, волосы русые, спутанные… Темные густые брови – порода… А глаза… Серые? Нет, кажется, голубые, с темным ободком вокруг зрачка.
«Господи, да он же красив, как бог, этот утренний мальчишка», – вдруг осенило Елену.
«Утренний мальчик», – повторила она про себя еще раз. И поняла, что ей очень приятно вспоминать, с каким откровенным восхищением он глядел на нее, как обрадовался, узнав, наконец. Елена почувствовала легкое, шаловливое волнение, как в детстве, перед каким-то долгожданным праздником, на который все придут нарядные и обязательно получат подарки.
Проходя мимо зеркальной стены в вестибюле телецентра, она посмотрела на свое отражение, поправила гладко зачесанные темные волосы. А потом подняла руку, имитируя подачу мяча… Хоп! Да, именно так она и сделала утром. И тут же, осторожно оглянувшись, как нашалившая девчонка, не заметил ли кто ее спортивные упражнения, приосанилась и направилась к лифту уже совершенно обычной походкой.
«…с чудесной походкой…»
Скучающий за столом на вахте немолодой милиционер с живым интересом пронаблюдал за маневрами популярной телеведущей…
* * *
У Елены и Алексея Александровича редко получалось позавтракать вдвоем: то у нее утренний эфир, то у него первая пара.
А оба очень любили именно утренние часы, проведенные вместе. Алексей утверждал, что без утра, проведенного с Еленой, весь день может пойти наперекосяк. А все почему? Никто не сделал чай, как он любит, – крепкий зеленый, второй залив, с молоком; никто не запек бутерброд, как ему нравится, – с сыром, колбасой и помидорами; никто не рассказал ему на дорожку, что он – любимый муж, что по нему будут скучать весь день и что надо купить ему, наконец, мобильник, потому что до вечера забывается половина из того, что хотелось бы обсудить днем.
А Лена заметила, что если она не позавтракает с Лешей, ей ко всему прочему целый день жутко хочется есть – видимо, от чувства моральной неудовлетворенности. И тогда она без конца пьет кофе, и покупает чипсы, и они с девчонками бегают за пиццей, и она набирает килограммы, как борец сумо…
В длинном халате, с небрежно подколотыми волосами, никуда не торопящаяся Елена плавала по кухне их небольшой квартирки. Алексей, уже почти одетый, только без пиджака, уселся за стол, украдкой читая газету, небрежно подброшенную им только что на стол рядом. Лена автоматическим движением отодвинула газетку подальше, за пределы поля зрения Алексея:
– Я все вижу.
Они отлично понимали друг друга без лишних слов, но борьба с чтением за едой, кажется, уже давно вошла в утреннюю традицию, стала своеобразным ритуалом.
– Я должен быть в курсе.
– Вечером все увидишь по телевизору, а сейчас поешь нормально. Язва, между прочим, это «праздник», который всегда с тобой.
– Язва со мной случилась пять лет назад, теперь все прошло.
– Вот как? Целых пять лет назад? На что ты намекаешь, милый?
Алексей Александрович засмеялся: да, вот уже пять лет, как они вместе. И надо же было этой клятой язве дать о себе знать именно во время их медового месяца!
Медовый месяц пришлось в экстренном порядке перенести – в связи с лечением молодого мужа в стационаре. Зато потом «медовый» период у них явно затянулся – на эти самые пять лет. По крайней мере, за годы, проведенные вместе, они не смогли ни надоесть, ни даже просто буднично привыкнуть друг к другу: на это работала даже разница в ритме жизни – каждому его профессия навязывала свой…
Может быть, как иногда шутил Алексей Александрович, это случилось еще и потому, что его популярная супруга оставила после замужества свою звучную и уже довольно известную в профессиональных и зрительских кругах девичью фамилию Покровская, тем самым как бы закрепив за собой статус невесты навсегда. Лена, не лишенная честолюбия молодая телезвезда, действительно в свое время робко попросила у него об этой уступке, зная, как ревностно относятся мужья к данному вопросу.
А может быть, они по-прежнему ощущали себя едва ли не молодоженами потому, что у них до сих пор не было детей.
По радио звучала музыка, за окном радостно «чирикали» своим приближающимся хозяевам готовые в путь автомобили, по проезжей части все чаще ездили автобусы и троллейбусы. Лена любила шум проснувшегося города – он ее бодрил так же, как и бодрая беззаботная болтовня диджеев с FM-радиостанции.
Она поставила перед Алексеем тарелку с живописным гастрономическим натюрмортом: яичница, два ломтика сыра, большой помидор, разрезанный надвое, пучок петрушки… Даже голову наклонила от удовольствия: красиво вышло.
Алексей с интересом посмотрел на это произведение:
– Ленка, на что похоже?
Уже отвернувшаяся к своей овсянке на плите Лена ответила, взглянув мельком:
– Дед Мороз летом.
Алексей засмеялся:
– Да ну?! Я думал, закат в Сахаре на фоне оазиса. Лена присмотрелась:
– И солнца два? Это что, закат в Сахаре глазами умирающего от жажды? Сейчас чаю налью.
– А где Дед Мороз-то? – продолжал невинно развлекаться Алексей.
Елена взяла вилку как указку:
– Смотри! Глаза, щеки красные, шапочка желтая, борода зеленая – это летний такой Дед Мороз.
Ее супруг пригляделся еще раз – точно! Произнес с уважительной интонацией:
– Кулинар… Дизайнер… Красавица!
И потянулся обнять жену.
Лена засмеялась коротким смешком, с нежностью посмотрела на мужа.
И в эту идиллическую минуту по радио послышался всегда немного смеющийся голос популярного диджея Кости Шанина. В своей обычной несерьезной манере он начал свою любимую игру со слушателями:
– А теперь наш традиционный конкурс «Ша!» от Кости Шанина, это я для тех, кто только что проснулся, и сегодня – от компании «Коти». Давайте отгадывать, если хотите получить в качестве приза портативный набор парфюмерии унисекс… Внимание! Этот человек имеет какое-то отношение к формуле, но не математик, у него есть брат… ему, вообще-то, сам черт не брат… ха-ха-ха… и он, его брат… ха-ха-ха… тоже не математик… Шампанское он не пьет, он вообще, хм, по-моему, не пьет, но вот обливается им довольно часто… В общем, кто этот человек? Назовите его знаменитое, я вам подсказываю, знаменитое имя. Ждем ваши версии по телефону 2-100-900 в течение десяти минут. Поехали…
Зазвучала легкая музыка. Лена какое-то время постояла неподвижно, глядя в одну точку, расположенную примерно возле вентиля газовой плиты.
Не обративший внимание на шанинскую галиматью Алексей спокойно продолжал завтракать, украдкой заглядывая в незаметно подвинутую ближе газету.
– Лен, а чай?
Лена, по-прежнему немного похожая на сомнамбулу, рассеянно выключила огонь под кастрюлькой со своим геркулесом, взяла чайник и медленно налила заварку в стоящую на столе открытую сахарницу до краев.
Алексей, какое-то время зачарованно смотревший на это безобразие, наконец спохватился:
– Лена! Что ты делаешь?
Лена «очнулась» и увидела, что наделала, засмеялась, засуетилась:
– Ой, я сейчас, я просто задумалась.
Алексей удивленно спросил:
– Да над чем, моя хорошая? Над парфюмерией унисекс?
И, чтобы как-то утешить расстроенную своей неловкостью Елену, продолжил эту несерьезную тему:
– Так она тебе не подойдет, унисекс вообще не твой стиль. Унисекс… звучит даже как-то обидно, мне кажется. Секс – он или секс, или… а может, моя родная, ты влюбилась?
И тут произошло то, чего желавший рассмешить жену Алексей Александрович меньше всего ожидал.
Лена внимательно посмотрела на него, а потом села рядом, положила руки на стол перед собой и сказала – просто, как поздоровалась:
– Может быть.
Вмиг переставший улыбаться Алексей посмотрел на жену с интересом и… недоверием, молча.
Лена поправила волосы, как бы собираясь с мыслями, улыбнулась, а потом повторила – удивительно беззаботно:
– Может быть. Ты знаешь, я встретила одного парня…
Ошарашенный этим заявлением Алексей откинулся на спинку стула и стал смотреть на жену с все возрастающей тревогой и ожиданием.
Лена на мгновение «споткнулась» о его прямой и уже совсем не веселый взгляд, но почему-то все же продолжила:
– Понимаешь… ты ведь меня лучше всех понимаешь? Ты не бойся, сейчас я все объясню…
Алексей Александрович произнес – уже окончательно серьезно:
– Лена, а я боюсь.
Она попыталась улыбнуться, было видно, что она уже жалеет о сказанном, но потом, упрямо мотнув головой, все же продолжила:
– Я и видела-то его всего пять минут на вашем стадионе… но, знаешь, вспоминаю уже два дня. Ничего не могу с собой поделать – просто стоит перед глазами, наваждение какое-то! Вспоминаю, как он говорит, как двигается… он похож на щенка – такой грациозный, свободный, смешной!
Алексей опустил подбородок на скрещенные руки, но так и не смог отвести глаз от Лены. А она, улыбаясь – Боже мой! – нежно и мечтательно.
– У него такое лицо! Я видела его пять минут, а оно изменилось сто раз. Глаза? То круглые, как блюдца, детские почти, то… совсем наоборот!
Как бы спохватившись («Господи, что я несу?»), она убрала, наконец, с лица неуместную просветленную улыбку, посмотрела на молчаливого, отодвинувшего и чашку, и тарелку, и газету мужа. Он по-прежнему сохранял видимость спокойствия, но это ему тяжело давалось.
А по радио Шанин уже вовсю дискутировал со слушателями – никто пока не отгадал фамилию гонщика Формулы-1… «Да, эрудиция на нуле…» – автоматически отметила про себя Лена.
Алексей молчал, как стена. Чтобы как-то разрядить обстановку и оправдать свое невинное увлечение, Лена продолжила «объяснительную»:
– Понимаешь, он такой раскованный, легкий… И он так вел себя, что за эти пять минут я… почувствовала себя и красивой женщиной, и совсем юной девушкой, с которой можно познакомиться просто так, на улице, и маленькой девочкой, которая еще играет в мяч и не боится запачкаться или даже разбить коленки.
Алексей, невозмутимо выслушав и этот монолог, ни слова не говоря в ответ, придвинул к себе тарелку и начал сосредоточенно поедать яичницу. Теперь настала очередь Елены удивляться:
– Леша, я лучше тебя понимаю, что это смешно и несерьезно, как вообще все, что я говорю, но может, жевать все же не стоит? Какие-то у тебя перепады в настроении…
Алексей отложил вилку, отрицательно покачал головой и снова принялся за трапезу. Нет, аппетит, судя по всему, пропал. Он посмотрел на жену и заговорил с нарастающим раздражением, которое, видимо, уже не было сил скрывать:
– Перепады? Да нет. Понимаешь, Лена, вот эта яичница – это реально, вилка – это реально, а все, что ты мне сейчас сообщила, поделилась, так сказать… – это… это ужас какой-то!
Он начал заметно нервничать.
– Это бред! Я жую, просто чтобы не свихнуться!
Но жевать, конечно, перестал.
Найденов встал, подошел к окну. Лена сидела все в той же позе.
Алексей Александрович, как видно, собравшись с силами, продолжил:
– Как гром среди ясного неба! Лена!
Он обернулся к жене, присел перед ней на корточки, взял за руки, глянул в лицо:
– Лен, это ведь ты, правда? Ты, моя жена, моя любовь, моя подруга! Ты мне ближе всех на свете! Мне скоро пятьдесят!
Этого перебора Елена стерпеть не смогла:
– Тогда мне скоро – сорок!
– Не за горами! – не сдался ее супруг. – И ты мне вот так, запросто, ничуть не беспокоясь, что я думаю, что я при этом чувствую, рассказываешь про какого-то мальчишку, у которого, видишь ли, глаза, как блюдца, уши, как у щенка, или что там еще… Как его хоть зовут, негодяя?
Лена, улыбнувшись растерянно, ответила:
– Не знаю.
Меньше всего она ожидала от Алексея столь драматической реакции на свое невинное увлечение «утренним мальчиком»… Ну, смех, ирония, в крайнем случае – сарказм! Да нет, посмеялся бы только… Она привыкла делиться со своим мужем всем: проблемами на работе, и переменами в настроении, и прочитанными книгами, и всплывшими внезапно воспоминаниями, и понравившимися песнями, даже снами… Чем этот мальчишка, который так украсил утро понедельника и которого она скорее всего не увидит больше никогда, отличался от сна? Или песенки?
Алексей Александрович, явно не желавший успокоиться, всплеснул руками:
– Нет слов! Ты еще и не знаешь, как его зовут! Здорово! И проливаешь чай мимо кассы!
И тут Лена, как будто спохватившись, выдала еще одну подробность:
– Наверное, ты его знаешь! Он же студент…
Видимо, это была последняя капля. Глаза Алексея округлились, и он удрученно подвел итог:
– О! Как это я упустил… Он же студент! Стыдитесь, Елена Сергеевна!
«Из этой ситуации можно выйти, только выяснив все до конца или переведя все в шутку», – решила для себя Елена Сергеевна и сообщила последнее, что ей было известно о прекрасном «негодяе»:
– Да, его еще позвали ребята из его команды – Шумахер!
И Алексей Александрович действительно засмеялся – от неожиданности:
– Замечательно! Хорошая фамилия, звучная и, что особенно симпатично, – распространенная.
По радио в этот момент послышался ликующий возглас Шанина:
– Наконец-то! Как же можно было та-а-ак долго соображать, друзья мои? Стыдно должно быть, образованные же люди в большинстве своем… Конечно, это Михаэль Шумахер! Вам нравится парфюмерия «Коти» именно в версии унисекс? Отлично… Поздравляю!
Алексей отвесил шутовской поклон в сторону радиоприемника:
– Спасибо! – и вышел из кухни. Елена выскочила следом – ей-то казалось, что конфликт почти исчерпан…
– Алеша!
Но Алексей Александрович уже стоял в дверях. Перед тем, как выйти, он обернулся к Елене и сказал с печальной иронией:
– Знаешь, Ленка, мне никогда не нравились мое имя и отчество.
Елена растерянно спросила, думая при этом, «не дай Бог, разыграется язва…»:
– Почему, Леша?
Алексей ответил с грустной улыбкой, открывая дверь:
– Так звали Каренина…
Какое-то время Елена посидела на кухне одна. По радио все ерничал и заливался смехом от собственных шуток Костя Шанин, но сейчас он ее просто раздражал.
Что, разве они с Лешей не ссорились раньше? Миллион раз. Вот только не по поводу ревности.
В прямом эфире часто раздавались звонки телезрителей, которые просто и открыто признавались ей в любви. Операторы, как правило, эти звонки не фильтровали: они очень оживляют диалоги со зрителями. «Вы замужем?» – прямо спрашивали ее иногда мужские зрительские голоса. «Мы замужем, – в тон отвечала Елена, иногда добавляя: – И мы очень счастливы»…
У них и в самом деле была достаточная разница в годах – пятнадцать лет. Но худощавый, невысокий, очень прямо держащийся, стройный, откидывающий назад густые волосы с высокого ясного лба Алексей всегда выглядел моложе своего возраста. А сама она, темноволосая и ярко сероглазая, напротив, смотрелась чуть-чуть – года на два – старше, чем ей было на самом деле. Никогда она не думала, что Алексей может всерьез переживать из-за этих пятнадцати лет между ними. Значит, надо было думать. Значит, всегда в глубине души он боялся, что жена встретит кого-то опасно молодого, красивого… Леша красавцем не был, но, видит Бог, разве в этом дело!
Разве в этом дело?
А в чем?
Почему мальчик с прозвищем Шумахер так прочно засел у нее в голове? Что, если не ослепительное обаяние юности так привлекло ее, благополучную, нежно любящую и любимую замужнюю двадцативосьмилетнюю женщину?!
Что толку лукавить перед самой собой? Лена вздохнула и стала собираться на работу.
* * *
Елена шла по своему обычному маршруту к метро, украдкой взглядывая на стадион Академии, но там уныло бегали какие-то разнокалиберные бегуны по кругу. Шумахера среди них не было.
Алексей Александрович сидел в преподавательской. Кто-то заходил туда, кто-то выходил – он автоматически здоровался и прощался с коллегами. Сидел, углубившись в свои записи, но мысли его были далеко, в прошлом…
Летняя сессия, экзамен по античной литературе. В расписании экзаменов напротив надписи «антич. лит.» – другая, «препод. Найденов А. А.». Его первый экзамен на журфаке.
Лена Покровская – совсем еще девчонка, студентка-первокурсница. Он – молодой преподаватель. И неизвестно, кому страшнее. Она садится перед ним, сжимая в руках билет. Он смотрит на нее и видит, как будто впервые за весь этот учебный год, что девушка очень красива. Начинает спрашивать, заглядывая в ее билет, и почему-то все сильнее смущается. А вот Лена отнюдь не смущена, смотрит на симпатичного преподавателя с кокетливым интересом. По всему видать, что не очень-то прилежная студентка эта красавица Елена. Он задает наводящий вопрос, она какое-то время говорит, правильно, но… недолго. Он удивлен ее лаконизмом, что-то спрашивает еще. Девушка пожимает плечами, улыбается ему улыбкой женщины, которая нравится мужчине и явно знает об этом. Билета не знает, а вот что нравится – знает наверняка…
Не глядя на девушку, он спрашивает еще и еще что-то. Елена отвечает, наклонив голову, при этом старается заглянуть в глаза Найденову. Тот совершенно уже «потерял лицо», даже слегка покраснел и глаза прячет. Куда там… Девчонки на заднем плане хихикают себе в ладошки. Наконец, он берет зачетку девушки, что-то быстро пишет в ней и отдает обратно. Елена медленно встает и, раскрыв зачетку, лучисто улыбается Алексею. Тот смотрит на нее откровенно любующимся, а может быть – влюбленным взглядом. Лена направляется к двери. 5:0! Это чистая победа красоты над интеллектом…
СТАРЦЫ, ЗАВИДЕВ ИДУЩУЮ К БАШНЕ ЕЛЕНУ, ТИХИЕ МЕЖДУ СОБОЙ ГОВОРИЛИ КРЫЛАТЫЕ РЕЧИ: ИСТИННО, ВЕЧНЫМ БОГИНЯМ ОНА КРАСОТОЮ ПОДОБНА…Они виделись в факультетских коридорах часто, все пять лет, пока училась Елена, но не общались, только здоровались. А поженились гораздо позже. Лена закончила журфак и уже работала на телевидении, тогда еще в литдраме – редакции литературно-драматических программ. Там они и встретились, когда его пригласили для какой-то, вылетевшей уже из памяти консультации… До консультации ли было, когда Она сама подошла к нему, напомнила о себе, о своей нахальной пятерке по античке. А ему и не надо было ничего напоминать: он уже давно помнил сам и даже купил в ювелирном магазине… Впрочем, в тот раз он Ей ничего не сказал, просто пригласил в ресторан. Она рассмеялась, спросила: «Алексей Александрович, вы проголодались или хотите побыть со мной вдвоем?» Он, помнится, тогда просто опешил. А Она, такая веселая, озорная, еще и добавила: «Пригласите меня в гости, а?»
Он «пригласил» ее замуж в тот же вечер – и она согласилась…
За эти пять лет Елена стала, кажется, только красивее. А он сам? Скоро сравняется в возрасте с предметом, который преподает.
Найденов с трудом вернулся из своих приятных воспоминаний, печально вздохнул и направился к аудитории.
Но, когда прозвенел звонок и он открыл дверь в шелестящую конспектами аудиторию, все было в порядке, хотя бы на посторонний взгляд. Он уже взял себя в руки. Это снова был прежний Алексей Найденов – легкий, ироничный, уверенный в себе человек.
В свойственной ему манере, он сразу перешел к делу, но нет – сегодня обычной лекции не получится…
Постояв у кафедры, Алексей Александрович окинул взглядом аудиторию и начал…
Бессонница. Гомер. Тугие паруса. Я список кораблей прочел до середины: Сей длинный выводок, сей поезд журавлиный Что над Элладою когда-то поднялся. Как журавлиный клин в чужие рубежи — На головах царей божественная пена — Куда плывете вы? Когда бы не Елена, Что Троя вам одна, ахейские мужи? И море, и Гомер – все движется любовью. Кого же слушать мне? И вот Гомер молчит, И море черное, витийствуя, шумит, И с тяжким грохотом подходит к изголовью.Студенты слушали внимательно. Алексей, вдохновленный необычной тишиной, продолжил:
– Да… Несмотря на описываемые бои, колесницы и военные корабли, «Илиада» прежде всего – история о любви, причем во всех ее проявлениях. О любви… Я часто думаю о самом странном, но и о самом человечном проявлении любви, описанном в «Илиаде», – когда Ахиллес сжалился над своими врагами, отдал им тело Гектора и заплакал.
Он помолчал, подумал про себя: «Обычная интеллигентская рефлексия, ведь собирался говорить о Валерии Катулле…»
Студентам, видимо, передалось его настроение – сего дня они вели себя куда тише обычного. Но парочка на галерке все-таки начала тихо-тихо, осторожно целоваться за сдвинутыми сумками… «Все в порядке, жизнь продолжается», – не то констатировал, не то успокоил себя Найденов, и продолжал:
– Как всякое великое произведение, пережившее свое время на века, «Илиада» таит в себе загадки и вместе с ними, наверное, грядущие открытия. Одна из самых пленительных загадок «Илиады» такова: почему в огромном произведении, вместившем в себя многократные, подробные и красочные описания все тех же кораблей, боевых одеяний воинов, театра военных действий, легендарного щита Ахилла, наконец, красоте Елены – причины, виновницы этой грандиозной распри – уделено всего несколько строк? И ни одна из них напрямую не описывает ее божественной красоты! Почему?
Он прошелся глазами по лицам студентов, вглядываясь в парней, как будто пытаясь угадать – кто бы из них мог быть Шумахером… Впрочем, не исключено, что мальчишка учится по соседству, в Академии: стадион ведь у них один на два вуза.
Один парень, наконец, произнес не совсем уверенно:
– Гомер был слепой.
Все засмеялись. Алексей Александрович улыбнулся тоже.
Другой парень, как бы споря с сокурсником, веско возразил:
– Но кое-что, судя по всему, он в своей жизни повидал. Алексей Александрович осторожно, чтобы не нарушить ход рассуждений ребят, уточнил:
– Скорее, Гомер многое слышал. Существует версия, что иониец Гомер написал свою «Илиаду» на богатом материале троянских сказаний.
Девушка, явно первая красавица курса, произнесла, кокетливо наматывая прядку волос на палец с эффектным маникюром:
– Я знаю, что некоторых красавиц, вот Натали Гончарову, например, ненавидели за смерть Пушкина… Цветаева ее ненавидела. Может, Гомер ненавидел Елену? За все беды, что она принесла? Вот и решил – пусть ты хоть сто раз красавица, я про тебя писать не буду…
– … чертова кукла, – добавил в тон какой-то остряк с галерки. Прозвучало это, впрочем, как-то двусмысленно. Несколько обескураженная красотка оглянулась на комментатора с галерки и с достоинством села.
Найденов одобрительно кивнул красивой девочке:
– Оригинальная теория, но и она маловероятна. Как бы Гомер ни относился к Прекрасной Елене, своих собственных чувств он все же не выдал…
Шумахер слушал интересную дискуссию и задумчиво рисовал профиль Елены. Но не той, что своей божественной красотой сгубила Трою с подавляющим числом мужского населения. Это – другая Елена… Гладко зачесанные волосы, четкие строгие брови, прозрачные, почти светящиеся серые глаза. Потом он пририсовал к ее головке длинные локоны, высоко скрепленные на макушке, длинную лебединую шею, добавил тунику со складками…
Алексей Александрович как раз проходил мимо, но, когда преподаватель был только в шаге от него, задумчивый художник встрепенулся и успел перевернуть листок…
* * *
Говорят иногда: «Покажи, как ты живешь, и я скажу, кто ты». В случае с Борисом эта штука не прошла бы. На стене его комнаты, почти по периметру, не оставляя свободной ни пяди обоев, висели плакаты со спортивными звездами – Роналдо, Зидан, Михаэль Шумахер, Борис Беккер, Анна Курникова, Алина Кабаева… Музыкальный центр, полка с лазерными дисками и видеокассетами – обычные мальчишеские атрибуты – тоже ничего не сообщали об индивидуальности их владельца.
Вот в шкафу было кое-что интересное: парадная форма ВДВ, например, с солидным набором значков…
А в столе, в ближнем к стене ящике, на дне лежала тетрадка с четырнадцатью лирическими стихотворениями, из которых самому автору нравились только два. Остальных он стеснялся.
А под диваном, на котором растянулся Борис, прятались до следующего лета подводное ружье и итальянские ласты.
Но кто же будет заглядывать в шкаф, в стол или под диван?
Борис спал, как спят только очень молодые и очень здоровые люди – на животе, обняв подушку и раскинув загорелые сильные ноги. В шесть часов утра вместе с последним сигналом точного времени к нему в комнату пришла мама и начала осторожно будить:
– Сынок, вставай!
– М-м-м… Рано…
– Ты же вчера попросил разбудить.
Борис несколько секунд безуспешно силился раскрыть глаза, наконец, ему это удалось. Он посмотрел на часы, тут же вскочил, одним прыжком – мимо удивленной такой метаморфозой матери – переместился к телевизору и включил его. А там… Ну, наконец-то! Уже несколько дней он не мог поймать Елену в эфире!
– Доброе утро! – на экране появилась сияющая Елена и ее симпатичный партнер-ведущий. Они начали с обычного диалога о погоде на сегодня, потом промелькнул музыкальный клип, потом кто-то позвонил в студию, потом они представили гостью – известную, по их словам, и абсолютно незнакомую Борису актрису.
Борька уселся прямо перед экраном как был – лохматый, неумытый, в одних трусах. Мама спросила:
– Тебе завтрак сюда подать или сходишь на кухню поешь?
Но Борис как будто не услышал – он смотрел на экран. Потом с улыбкой произнес:
– Доброе утро, Елена…
А уж потом обратился к несколько озадаченной матери:
– Мам, принеси сюда, ладно?
Мать еще некоторое время постояла в дверях, с интересом наблюдая за сыном, потом пошла готовить своему большому мальчику завтрак.
* * *
Лена, закончив съемку в утренней передаче, сняв лишнюю косметику и распустив волосы по плечам («чтобы отдохнули»), шла мимо редакционной комнаты передачи «Блоу-ап». Из нее мигом выскочил заметивший ее краем профессионально зоркого глаза Катаев. Натягивая на ходу свою неизменную рыжую кожаную куртку, легко догнал ее, приобнял за плечи:
– Привет, любовь моя! Как вообще дела?
Усталая Лена шла рядом, привычно не сбрасывая руки своего приятеля Катаева с плеча, подумав попутно: «… если бы к Сережке приревновал хоть раз – так ведь нет…» Вместо ответа легонько махнула ладошкой и вдруг спросила:
– Слушай, Сереж, а ты веришь в любовь с первого взгляда?
Катаев засмеялся:
– И ты еще спрашиваешь? Ты – спрашиваешь?! Как только вижу тебя, красавица, так сразу и верю! Верю, ве-ру-ю!
Лена улыбнулась ему, покачала головой:
– Сережка, у тебя все красавицы! И во всех-то ты влюблен, старый греховодник…
Сергей остановился, со значением высоко подняв указательный палец:
– Шалишь! Не во всех! В тебя точно влюблен, я проверял. Знаешь как? Эмпирическим путем. Я ведь за тобой даже ухаживать не могу всерьез. Ты не замечала? Робею.
Благоговею. Это – настоящее, это – сильнее меня. И потом – разве ж ты ответишь на мое большое чистое чувство, а? Нет? Нет! А я, видишь ли, не пробовал жить с разбитым сердцем, но мне кажется – это больно… Типа инфаркт.
– «Это сильнее меня, это страшнее огня!» – пропела Лена с иронией. Она, может быть, лучше, чем кто-то другой знала, что вальяжный и практически неотразимый для женского пола Катаев на самом деле верный муж и очень хороший отец двоих взрослеющих детей. «Иметь успех у женщин и пользоваться им – это две большие разницы, как говорят в Одессе. Я имею, что скрывать. Но не злоупотребляю!» – это он ей сам однажды сказал в своей обычной лихой манере. Но уж Елена-то знала – говорил он вполне серьезно. Дон Жуан-теоретик…
Но сегодня он явно не был настроен на серьезный лад, болтал без умолку:
– Ленка, кстати, ты знаешь, я недавно сделал потрясающее открытие: лучшее, что я читал о любви, написано на обертках жвачки «Лав из»…
Елена засмеялась:
– А ты «Гранатовый браслет» не пробовал перечитать, или «Ромео и Джульетту»?… Я тебе составлю примерный списочек на досуге…
Катаев не унимался:
– Все это само собой. Но если не впадать в литературные крайности, вернуться, так сказать, с Парнаса на землю, тут и заметишь, что «лав из», то есть любовь – это что-то совсем простое, будничное, родное. Вот, например: «когда, вернувшись домой с лыжной прогулки, ты находишь свои тапочки на теплой батарее».
Лена засмеялась, покивала понимающе:
– Да, да, именно тапочки… Или когда после передачи тебя ждет машина у подъезда, которая отвезет тебя домой, где на батарее уже стоят тапочки, нет, лучше минералка в холодильнике. Подбросишь может, Сережа?
– А как же, конечно подвезу!
Едва они вышли, непрерывно то здороваясь, то прощаясь с коллегами, из здания телецентра, как Елена увидела: на нижней ступеньке лестницы стоит «утренний мальчик». Она узнала его высокую фигуру и растрепанную шевелюру сразу, хотя теперь он был в джинсах и светлой легкой спортивной куртке. Сердце ее застучало так быстро, что стало трудно дышать, она даже поперхнулась. «Это еще что с вами, девушка?» – с веселым ужасом мелькнуло у нее в голове…
Борис увидел, что Лена не одна, и вид у него сделался решительный и непреклонный. Руки за спиной, взгляд исподлобья, – прямо аллегорическая фигура «Непокоренный»… Лена остановилась.
Катаев, доставая ключи от машины, поторопил ее:
– Ну что, пошли?
Лена дотронулась до его плеча и сказала:
– Спасибо, меня, кажется, ждут…
И пошла мимо слегка удивленного Сергея к переминающемуся с ноги на ногу мальчишке.
Тот молча протянул ей руку. Вместо цветов в его руке было зажато красное яблоко.
Лена взяла яблоко и улыбнулась:
– Ты мне надоел…
У удивленного таким приемом Бориса брови тут же поползли вверх:
– Когда ж я успел?
Лена рассмеялась, почувствовав, как легко ей вдруг стало дышать:
– Я все время думаю о тебе.
Борис кивнул и сознался:
– А я – о тебе.
– Ты как меня вычислил? – спросила Елена.
– Это же просто… А вообще я тут часа три уже хожу.
Какое-то время они молча шли рядом, глядя в землю, как школьники на первом свидании. И шли бы так еще долго, но Борис спохватился:
– Лена, я же на машине! Давай… подвезу!
Лена, тут же вспомнив смешной разговор с Катаевым об изречениях из «Лав из», со странной для самой себя нежностью к этому незнакомому парню спросила:
– А как тебя зовут?
– Борис.
Лена подумала: «Показалось?» И повторила, как бы пробуя имя на вкус:
– Парис? Ты что, грузин?
Борис даже головой замотал от изумления:
– Почему же грузин?
– Ну, они такие имена любят – Парис, Онегин, Гамлет…
Озадаченный Борис остановился, внимательно посмотрел на нее, немного прищурив свои голубые с темным ободком глаза, и медленно повторил:
– Борис. Борька. Боб. Очень просто. Но ход твоих мыслей мне нравится…
И они засмеялись, глядя друг на друга.
На стоянке у телецентра всегда много машин. Они шли мимо «мерсов», «фордов», «фольксов» и «опелей». Последний в этом ряду стоял ярко-желтый, как желток яйца деревенской курицы, «запорожец» с черными тонированными стеклами. Борис нажал на пульт, дверцы пискнули и открылись. Лена при виде этого чуда техники от души засмеялась:
– Вот это тюнинг! Так тебя поэтому зовут Шумахер? Борис ответил со скромным достоинством:
– И поэтому тоже.
Они сели в машину, Борис развернулся и спросил у внезапно притихшей Елены:
– Куда поедем?
Она задумалась: лучше всего было бы доехать домой, попрощаться с Борисом, Бобом, Борькой… Короче, отправить парнишку домой, к маме, и закрыть эту тему. Поэтому она взглянула – не без сожаления – в его светлые глаза, легко вздохнула и сказала:
– Мне нужно домой, Боря.
Борис, перед тем как тронуться в путь, вполголоса осторожно спросил:
– Тебя ждут?
Елена, серьезно глядя на него, ответила:
– Надеюсь.
Она и в самом деле надеялась, что ждут, очень ждут…
Машина тронулась с места. Ехали молча. Всю дорогу Лена украдкой смотрела на руки Бориса – тонкие, но сильные, с совсем еще юношескими запястьями, на его чистый, сосредоточенный профиль. Свою смешную машину он вел легко, с каким-то даже изяществом маневрируя в оживленном городском потоке.
Ее короткие взгляды не остались незамеченными, и ответный взгляд, который Борис бросил на Елену, был взглядом не восхищенного мальчика – мужчины. Лена заметила, что он хочет о чем-то спросить ее. Можно было бы помочь парню, но оба упорно «держали паузу».
Приехали. Так быстро? Лена сказала негромко:
– Останови здесь.
И вышла из машины. Борис тоже вылез, выпрямился и стоял, такой высокий, опершись о крышу своей маленькой тачки, ждал. Чего? Елена постояла еще минуту, потом сказала решительно:
– Спасибо, Борис. Мне пора.
Борис посмотрел на нее задумчиво и вопросительно:
– Мы… увидимся еще?
Лена улыбнулась: «Если бы ты знал, милый мальчик, как я хочу ответить „да“, но я скажу „нет“», – подумала она, но вслух почему-то сказала:
– Мне кажется, увидимся.
В одно мгновение Борис оказался рядом с ней:
– Мне тоже так кажется.
Лена, не готовая к такому порыву, отстранилась, чуть отодвигая его от себя ладошкой и чувствуя вновь нахлынувшее волнение:
– Не спеши.
И, не простившись, как могла решительно направилась к своему дому.
* * *
С неритмично бьющимся («Почему? Неужели из-за Бориса?» – почти с гневом на себя думала Елена) сердцем нажала на кнопку звонка. Дверь открыл Алеша – так быстро, будто все время стоял рядом. Увидев сияющие глаза Елены, как-то сразу понял, что ее блажь не прошла, и, резко повернувшись, ушел в комнату.
Лена направилась следом, скидывая на ходу босоножки, помыв в ванной руки и снимая с вешалки халатик. Старалась держаться так, будто утреннего разговора не было, вечерней поездки не было, и вообще ничего не было и все в порядке!
– Леша, поужинаем? – и юркнула на кухню, первым делом переложив яблоко Бориса из сумки в низ холодильника, смешав его с другими плодами осени.
Алексей нарочито спокойно сказал:
– Ужин почти готов.
Лена с удивлением выглянула из кухни:
– Что значит почти? Ты что-то приготовил?
Алексей Александрович прошествовал на кухню, с независимым видом подошел к плите, приподнял крышку на кастрюле:
– Вода уже кипела, я ее посолил, сейчас брошу пельмени.
Лена робко улыбнулась. Нежность и жалость переполняли ее, она хотела что-то сказать, что-нибудь очень хорошее своему дорогому человеку… Но видя настроение мужа, только смиренно согласилась со скромным меню:
– Замечательно, обожаю пельмени.
Но разве сладить вот так, в один вечер со своей порывистой натурой? Как можно вести себя, словно ни в чем не бывало, если у него такие измученные глаза?
– Леша!
Алексей, уже засыпавший пельмени в воду, жестом заставил ее замолчать:
– Лена!
Она уселась за стол, задумчиво подперев ладонью щеку, стала смотреть в окно. Потом, по-девчоночьи хихикнув, тихо сказала:
– Знаешь, я так счастлива сегодня!
Он даже замер у плиты, перестав помешивать пельмени.
Елена глянула на него испытующе и прошептала:
– Мой любимый муж ревнует меня! Потому что – как смешно, ты только подумай, – в меня безответно влюбился чудесный мальчишка, такой чистый, такой искренний.
Но поток комплиментов мальчишке был тут же прерван: ревнивый муж бросил ложку в кастрюлю, развернулся к сжавшейся от этого звона легкомысленной жене и почти крикнул:
– Лена, ну что это такое? Откуда это бессердечие? Тебя так и тянет поделиться своими впечатлениями, а мне каково? – и вышел, выбежал из кухни.
Вода в кастрюле зашипела, переливаясь через край, и погасила огонь. Лена, автоматически повернув вентиль, побежала вслед за Алексеем:
– Леша, что ты называешь бессердечием? Я ведь никого не обманываю и никому ничего не обещаю!
Найденов уже сидел в кресле, прямой, напряженно вглядываясь в экран, где шло невероятно далекое от круга его интересов ток-шоу «Я сама».
Лена встала перед экраном, скрестив руки на груди, – муж упорно не замечал ее. Тогда она опустилась перед ним на колени, обняла обеими руками:
– Прости меня… Я глупая, бессовестная, наверное… Прости меня! Хотя? Это же просто… смятение чувств, это пройдет.
Алексей спросил резко:
– А ты сказала ему, что замужем?
– Нет! И он не сделал ничего похожего на предложение, чтобы я ему ни с того ни с сего объявила: «Какой пассаж! Я, в некотором роде, замужем!»
Помолчала. Потом добавила уже совсем другим тоном:
– Все. Я больше не буду с ним разговаривать.
Найденов неожиданно снова взорвался:
– Лена, если ты не думаешь, что говоришь, то хотя бы слушай, КАК ты говоришь! Это же для тебя подвиг, жертва, которая мне, признаться, не нужна!
Постоял у окна. За окном опускались на их тихий спальный район осенние сумерки.
Потом произнес устало:
– Иногда я понимаю, почему браки, в которых супруги мало общаются, прочнее.
Елена пожала плечами:
– А зачем нужна такая семья, в которой не общаются? И что хорошего в семье, если от мужа нужно скрывать даже… мелочи?
Алексей от этих слов вновь вспыхнул от негодования:
– Лена, да не мелочь это! Вот ты мне скажи: он красивый, этот парень?
Лена невольно улыбнулась:
– Да. Нет! Да… он вообще-то… он очень смешной, Леша.
Найденов выслушал и грустно кивнул головой:
– Ты уже забыла, ты все забыла… Прежде чем мы поженились, ты мне сказала однажды: «Я тебя люблю, потому что ты самый смешной на свете»…
Елена бросилась к мужу, но он мягким жестом отстранил ее:
– А по-настоящему смешон я именно теперь.
* * *
Ночью оба долго не могли заснуть. Лена приникла было к мужу, попыталась поцеловать его, но он – правда, с видимым усилием – отстранился:
– Лена, я же не громоотвод.
Это было очень обидно слышать, и Лена отвернулась. Но заснуть все же не удавалось: день выдался трудным. Может быть, завтра все изменится?
Какое-то время спустя Леша стал дышать ровнее. «Спит», – подумала Елена уже совсем спокойно…
А Алексею Александровичу снился в это время странный сон: он в доспехах древнегреческого воина стоит в аудитории за кафедрой и декламирует:
– Гнев, о, богиня, воспой Алексея, Александрова сына! – понимает, что больше слов не знает, и с силой ударяет по кафедре своим коротким эллинским мечом. Кафедра с треском раскалывается надвое…
Этот звук, впрочем, оказался вполне реальным. От резкого хлопка, раздавшегося на кухне, проснулись оба. Лена испуганно спросила, забыв про запрет и крепко прижимаясь к мужу:
– Что это, Леша?
Найденов вздохнул:
– Это, Ленка, нервы мои не выдерживают.
Потом добавил:
– Вообще-то это бутылка с минералкой лопнула, я ее в морозилку положил. Ты же любишь, чтобы холодная…
Лена еще долго лежала без сна, глядя в потолок и нежно улыбаясь своим грешным и праведным мыслям.
* * *
На следующий день у Лены снова был утренний эфир. Маринка Карасева заболела, а они работали только парами: Марина и Олег Звягин, Елена и Володя Морозов, Диана Бурцева и Сережа Калиновский. Пары подбирали тщательно, как космонавтов в полет на Марс. Смешливая Маринка все время пикировалась с Олегом, они были как бы вечные противники в споре: «Мужчина и Женщина. Кто виноват, и что делать?» Диана и Сережа, наоборот, работали в одном ключе – оба такие дельные, цельные, интеллектуальные. А Лена и Володя брали душевностью, особой доверительной интонацией, неподдельной симпатией друг к другу и зрителям. Елена знала, что на ее имя приходит больше всего редакционной почты. Какие-то ей отбирали, специально готовили для эфира, большинство же посланий острозубые редактриски комментировали так: «Лен, тут к тебе обратно сватаются… Ты как, согласная?»
Она встала очень рано («как на утреннюю дойку» – вспомнила она Лешину обычную в таких случаях шутку). Алексей, конечно, еще крепко спал. Она нежно поцеловала его в щеку, но он даже во сне чуть-чуть нахмурился.
Лену у подъезда уже ждал студийный микроавтобус, она запрыгнула в него, привычно согнувшись, поздоровалась с теми, кого подобрали раньше, и «рафик» понесся по пустынным в такую рань улицам.
Все было как обычно, разве что парикмахерша Света предложила Елене новую прическу, несколько меняющую ее привычный облик. После того, как Светлана закончила, Лена взглянула на себя критически, но осталась довольна: затянутый на самой макушке узел удлинял шею, делая ее чем-то похожей на балетную Кармен, завитая прядь спускалась к плечу. «Очень актуальный в свете последних событий образ», – иронически подумала она о самой себе и, вполголоса напевая «Любовь – дитя, дитя свободы…», направилась к «трехсотке».
Когда Елена услышала голос Бориса, звучащий в студии, она почти не удивилась:
– Лена, вы любите спорт?
Так, она постарается вести себя с ним так же, как и с обычным зрителем. Профессионал она, в конце концов, или зачем? Лена привычно улыбнулась и доброжелательно подтвердила:
– Да, разумеется! Я, между прочим, КМС по художественной гимнастике и очень этим горжусь!
– Правда? А как вы относитесь к автогонкам?
Вот тут уж она просто рассмеялась, вспомнив его желтенький «болид»:
– Смотря к каким. Если это Формула-1, то положительно, а если по городу – то не очень.
Борис не унимался:
– Сегодня на улице Бельского, в семнадцать ноль-ноль по местному времени, возле дома номер 83 стартует тренировочный заезд местной команды Феррари!
Володя Морозов, хорошо знавший, где живет Лена, неодобрительно посмотрел на свою соведущую, которая не смогла сдержать совершенно неуместного заливистого девчачьего смеха, и обратился к невидимому собеседнику:
– Неужели именно по этому адресу?
Борис невозмутимо продолжил:
– Да, там дорога хорошая, городского транспорта нет. Я приглашаю прекрасную половину «Доброго утра» принять активное участие…
Но Лена уже взяла себя в руки и, мило улыбаясь, ответила:
– Спасибо за интересный звонок, мы со съемочной группой «Доброго утра» обязательно постараемся…
А сама подумала: «Ну, хватит, Елена Сергеевна, покатались немного и ладно. Приехали…»
* * *
Елене и в голову не пришло, что дома, именно на словах «мы постараемся» ее давно уже бодрствующий муж Алексей Александрович выключил телевизор.
* * *
Лена приехала домой после утренней передачи очень быстро, нигде не задерживаясь. А ведь телецентр такое место, из которого невозможно уйти, двадцать раз не остановившись, не перекинувшись со знакомыми хоть парой слов, не узнав последние новости.
Взлетела, как птица, на третий этаж…
Алексей был на кухне, уже одетый для выхода на улицу допивал чай.
Запыхавшаяся Елена спросила, с виноватой нежностью глядя на него:
– Ты чего сегодня так рано собрался? Какая у тебя пара?
Найденов ответил, ополаскивая чашку и аккуратно, как-то слишком – будто для натюрморта – аккуратно ставя ее на полку:
– А у меня сегодня нет пары.
Потом повторил, явно «со значением»:
– Нет пары… – и пошел в прихожую.
Лена поняла, что происходит что-то важное, что-то плохое, и торопливо пошла вслед за ним.
Алексей остановился, снимая с вешалки плащ:
– Холодает…
Сделал паузу. Посмотрел на нее – не то сердито, не то с жалостью:
– Лен, я поживу у мамы пару недель, ты пока разберись с… чувствами. Я буду… ждать.
Елена не знала, как поступить. Держать за рукав? Броситься на шею? Опять просить прощения? За что? Ей-то казалось, что все уже кончилось – видит Бог, не начавшись, – и в доме должен наступить мир, прежний покой, доверие. Слезы комком встали в горле. Хотела что-то сказать – и не смогла. Только слабый писк прозвучал, смешной и нелепый.
Но Алексей подошел к ней, легонько, как-то мельком поцеловал в щеку и вышел, осторожно закрыв за собой дверь.
Лена вернулась на опустевшую кухню, устало опустилась на стул и заплакала.
* * *
Желтенький «зэп» несся по улицам, такой же веселый, как и его водитель, легко обгоняя своих собратьев, по возможности вписываясь в «зеленую волну» и эффектно затормозив только возле дома Елены. Борис посмотрел на окна и понял, что не знает, на какую сторону выходят Еленины. И все же посигналил: «Если услышит – судьба»…
«Ну, конечно, он! Кто бы еще такой сигнал себе догадался поставить», – подумала Лена, услышав хрипловатую музыкальную трель. Отбросила в сторону толстый дамский журнал, в котором только что прочитала, воодушевившую было ее, фразу: «…самыми прочными считаются браки, если разница в возрасте партнеров составляет пятнадцать лет. При этом непринципиально, кто из них – муж или жена – старше».
Лена осторожно выглянула в окно: так и есть, «Феррари» и его пилот. Она кинула взгляд на часы – ровно семнадцать ноль-ноль. А вдруг как раз сейчас вернется простивший ее и соскучившийся Леша? Придет, а ее нет? Пару секунд она постояла в замешательстве, а потом решительно сняла с плечиков плащ: вечера теперь прохладные. Лицо, отразившееся в зеркале, ей не понравилась – уж очень засияли глаза.
В городе – осень, но уличные кафе еще долго, не меньше месяца будут стоять на улицах, радуя глаз яркими зонтиками над пластиковыми столами. Вот и хорошо. Ну, присели за столик под зонтиком двое. Сидят, пьют кофе, разговаривают у всех на виду. Телезвезда и ее молодой коллега, будущий журналист. Разве им не о чем поговорить?
Им было о чем поговорить. Они уже обсудили последний эфир, Еленину прическу и выходку Бориса, прогулянные им же три пары. Какие именно пары прогулял Борька, обсуждать не стали, и слава Богу… Зато в подробностях проанализировали реальный шанс потерять стипендию и личные качества старосты группы Вити Мокрицына («Хуже всего, когда человек похож на свою фамилию! – категорично высказался Борька. – А этот – прямо иллюстрация в толковом словаре»). Елена вспомнила, что в их времена старосту группы выбирали, а не назначали сверху, и что у них был хороший староста, понимающий. Он сейчас в Германии живет. Женился там, бизнес у него какой-то мелкий…
Да, в наше время… У них оно другое.
Лена посмотрела на Бориса с улыбкой и спросила:
– Сколько тебе лет, Борис?
Он укоризненно покачал головой:
– Вопрос о возрасте считаю риторическим, а потому на него не отвечаю. Ни-ко-му! И не задаю, кстати, тоже.
Елена сказала, немного испытующе глядя на парня:
– Мне двадцать восемь.
На подвижном, изменчивом лице Бориса мелькнуло («Да-да, милый!» – подумала, заметив это, Лена) удивление, но он быстро нашелся:
– Я сразу подумал, что мы ровесники!
Лена даже рассмеялась:
– Борька, врешь!
Борис, с видом бывалого, умудренного долгой жизнью человека изрек:
– В армии, особенно в десанте, где я имел честь служить, год за два идет, а иногда – за три.
– Ты отслужил в армии? Что, не поступил в первый раз? – предположила Лена.
Борис отрицательно покачал головой:
– И не пытался. Ну, какой журналист в семнадцать лет? Жизни не знает, общаться тоже, в общем, не умеет. Нет уж, я сначала школу жизни немножко прошел, а потом – в университет.
Неожиданно для Лены он наклонился и поцеловал ее руку, лежащую на столе. Женщина вздрогнула: нежное прикосновение было совсем легким, но если бы ее сейчас заставили встать и уйти, она не смогла бы сделать и шага на своих, наверное, отнявшихся ногах. А Борис, то ли в самом деле не заметив ее волнения, то ли так замечательно владея собой, продолжил как ни в чем не бывало:
– Я после второго курса на заочное переведусь – пойду работать. Может, к вам на ТВ возьмут, в спортивную редакцию, но скорее всего на радио – меня уже сегодня там ждут с руками и ногами…
«Да, у тебя красивый голос», – подумала Елена, а вслух сказала, чтобы скрыть никак не проходящее волнение:
– А почему именно спорт, Борис?
Он откинулся на спинку красного пластикового стула, сцепил замком на затылке поднятые руки и процитировал известные и Елене слова:
– «Две самые важные вещи на свете – вершить великие дела и писать о них»! В общем, когда понял, что олимпийским чемпионом ни по плаванию, ни по боксу я, скорее всего, не буду, а без спорта жить не смогу, выбрал спортивную журналистику. Я люблю спорт – это мужское дело.
Лена посмотрела немного укоризненно:
– А как же женщины-спортсменки?
– А они мечтали родиться мальчиками! Не вышло, ну, не повезло – пошли в спорт самоутверждаться. И все-таки, согласись: брать высоту, ставить цель, преодолевать себя, выигрывать – это все по-мужски!
Камээс по художественной гимнастике, искоса испытующе глянув на него, спросила:
– А проигрывать?
Подняв на нее свои светлые очи, Борис неожиданно серьезно ответил:
– И особенно – проигрывать. Держать удар.
– А ты умеешь? – грусть нахлынула на Елену так внезапно… Пусть бы он ничего не заметил!
А он и не заметил:
– Думаю, что умею.
Потом повторил, с другим ударением:
– Или думаю, что умею!
Пока загрустившая Елена обдумывала его слова, Борис смотрел на нее долго-долго. Так и не поняв до конца, о чем он думает, Лена отвела взгляд первой.
* * *
Они оказались возле ее дома так быстро, что Лена рассмеялась:
– Ты, наверное, техосмотр по блату проходишь, да? У тебя же мотор от «мерседеса».
– А вот и родной мотор у моего «зайчика»! Не веришь?
Сидеть в «запорожце» было не очень комфортно, а уходить не хотелось.
Лена уже давно перестала клясть себя за легкомыслие. Несколько раз она ловила себя на том, что, пробудь Алексей с ними вместе весь вечер, разве что поцелуй, обжегший ее руку, мог вызвать его законное возмущение. Да и то это было, в сущности, так целомудренно, так по-рыцарски…
Расставаться не хотелось. Лена посмотрела на свои темные окна: нет, чудес не бывает – он не вернулся.
«Девичья гордость» все-таки заставила ее выговорить приличествующую обстановке фразу:
– Спасибо, Борька, все было очень хорошо. Погуляла с тобой, как девчонка, даже помолодела немножко…
И открыла дверцу… Но Борис сделал какое-то мягкое неуловимое движение, и она сама не поняла, что… ну да, что она, взрослая двадцативосьмилетняя женщина, по-прежнему сидит в нелепой желтой, светящейся в темноте машинке напротив собственного подъезда; дверца этого кабриолета открыта для всеобщего, несмотря на сумерки, панорамного обозрения, и целуется с мальчиком, который младше ее черт знает на сколько лет; она даже обняла его для удобства за шею… И самое ужасное – не чувствует при этом ничего, кроме головокружительного восторга!
…Все-таки удалось. Удалось вырваться из его пленительных объятий.
А вот уйти сразу – не получилось.
Она стояла и не знала – а что сказать теперь? Борис стоял рядом, склонив голову на плечо, улыбался и смотрел на нее с явным обожанием. Самое время для фразы: «Я, в некотором роде, замужем…» Вот именно, в некотором роде. Надолго ли?
Лена улыбнулась своим мыслям:
– Нахальный ты мальчишка, Борис. Уходи! – и повернулась было, чтобы уйти. И тут же услышала, как он захлопнул обе дверцы. Любопытство взяло верх: «Вот так, сразу послушался и ушел?» А он и не думал уходить, боле того – уже стоял рядом, все с той же выжидательной, притворно-покорной улыбкой и приплясывающими чертиками в потемневших по случаю сумерек глазах.
Елена полюбовалась на медленно проступающие на небе крупные осенние звезды, потом с едва заметным вызовом спросила:
– Сейчас попросишь чаю?
Борис без всякого напора, даже робко ответил:
– Да я бы и съел чего-нибудь…
Лену эта робость успокоила. Она повернулась и пошла в подъезд. Борис, бесшумной индейской походкой, – за ней.
В прихожей, не зажигая света, Лена закрыла дверь, стоя спиной к Борису. И только потянулась к выключателю, как он очень нежно, совсем не порывисто, обнял ее сзади за плечи. Лена не сделала попытку освободиться, но и не повернулась к Борису. Тогда он положил ей на плечо свою кудлатую голову, как жеребенок, и также мягко, как жеребенок, коснулся губами ее длинной, прямо созданной для поцелуев шеи…
Все!
Это уже был криминал! Надо было срочно остановиться. Иначе! И Лена решительно нажала на выключатель.
Яркий свет немного отрезвил обоих, но если Лена была хоть немного смущена и взволнована, то Борис, как ей казалось, – ничуть: улыбался ей ласково и абсолютно безмятежно…
…До тех пор, пока не подошел к книжной полке, где стояли ровным рядом толстенькие маленькие фотоальбомы.
– Я посмотрю? – и открыл первый попавшийся.
Подошедшая поближе Елена с некоторым удовлетворением заметила, что он просто застыл над альбомом с пестрой цветной обложкой. Заглянула через плечо: ну-ну, она и Алеша в Турции, в Кушадасах. У Леши выгорели волосы, а она в своем желтом купальнике, с повязанным вокруг бедер платком-парео похожа на цыганку… Борис механически перевернул еще несколько страниц. Потом, справившись с волнением, спросил:
– Так ты замужем?
Лена, погрузившаяся на мгновение в свои мысли, ответила:
– Теперь – не знаю.
Совершенно ошеломленный Борис, как будто не веря глазам своим, спросил:
– Лена, твой муж Найденов? Алексей Александрович? У тебя же другая фамилия?!
Лена посмотрела на Бориса даже с интересом:
– Да, это мой муж.
Потом, развернувшись, пошла на кухню со словами:
– Самый лучший муж на свете… Ну, пойдем, покормлю. Она больше не боялась – ни его, ни себя.
Борис осторожно, как будто тот стеклянный, положил альбом на место и уже без прежней решимости пошел за ней…
* * *
Здесь, на кухне, где она была хозяйкой, Лена окончательно вернулась в реальность. Открыла холодильник, достала сверток с ветчиной, глянула лукаво на притихшего своего поклонника:
– Бориска, а ты чего, жениться на мне решил?
Он посмотрел на нее укоризненно и все-таки выговорил:
– Я догадывался… Нет, я надеялся… Ты ведь не носишь кольцо…
Лена протянула ему не так давно целованную руку с перстнем, в котором сиял серо-синий камень, редкий сорт горного хрусталя:
– Вот мое обручальное кольцо.
И, доставая из холодильника еще какие-то упаковки, продолжила, стараясь сдержать охватившее ее снова волнение:
– Сначала он увидел это кольцо в витрине. И серьги – вот эти… Комплект, гарнитур… А потом встретил, нет, вернее, снова встретил меня – я ведь училась на курсе, где он преподавал.
Она на секунду прервалась со своими приготовлениями, посмотрела в пустоту, в никуда с невольной улыбкой.
– Он мне потом говорил: «Знаешь, я понять не мог, чего меня так влекут эти камни, просто гипнотизируют! А потом просто сдался и купил их. И оказалось, это был сигнал: они же похожи на глаза моей любимой, которая обязательно станет моей женой…»
Она вздохнула, и старательно ровным голосом продолжила:
– Поэтому в Загсе он одел мне на палец это кольцо, и я его ношу… всегда.
Борис выслушал эту лирическую тираду молча. Он всего за полчаса как будто стал серьезнее и… взрослей? Лена, встретившись с его потерянным взглядом, спросила нежно, почти по-матерински:
– Ну, с чем будешь бутерброд?
Но Борис уже, кажется, забыл про бутерброд:
– Что?… – потом спохватился, что это был повод задержаться и торопливо проговорил: – Да, пожалуйста… с сыром.
Елена аккуратно нарезала колбасу и сыр, уложила на блюдце, подвинула ближе к Борису. Он почему-то не взял. Потом она положила в мойку нож, села на стул и, глядя в окно, начала рассказывать:
– Однажды я ездила в командировку. Очень рано надо было ехать, а я как всегда опаздывала. Собиралась впопыхах, на Лешу накричала, будто он виноват, убежала, даже не поцеловала его, такая злая была…
Она сделала паузу. Борис сидел, как на скамье подсудимых, поставив руки на колени, опустив голову.
– Потом, уже в автобусе, успокоилась, никуда не опоздала, – продолжала Лена. – Открыла сумочку, а там, в газетке, представляешь, – бутерброд! Успел подкинуть, пока я бегала, как кошка угорелая… Кривой такой, смешной, куски толстые, неровные…
Она сделала паузу: неожиданный комок сжал ей горло.
– Я никогда в жизни ничего вкуснее не ела, чем этот бутерброд!
Борис, конечно, понимал, что сейчас самое время уйти, «романтический ужин» уже состоялся, но не нашел в себе силы встать со стула.
А Лена, кажется, совсем не обращая на него внимания, все с тем же полуотсутствующим видом продолжала:
– Знаешь, у него, по-моему, вообще нет недостатков, так, смешные мелочи… Вот он зонты теряет все время. Мы женаты всего пять лет, а он уже потерял их штук десять. Я заставлю утром взять – вечером он приходит без зонта.
Она засмеялась, взглянув на Бориса, будто приглашая посмеяться вместе, потом добавила:
– Но когда мы в дождь идем куда-то вместе, он его нигде не оставит, не забудет, потому что на улице надо прикрывать меня.
Борис решился, наконец, спросить:
– Лена, и он от тебя ушел?
Лена посмотрела на него оценивающе:
– А ты бы не ушел? Я ведь ему рассказала, что познакомилась с тобой.
У Бориса сделались большие глаза, а заметившая это Лена спросила:
– Тебе это странно? А мне не странно. У меня нет и никогда не было от него никаких секретов… Не было. Я просто рассказала, что встретила…
Она встала, подошла к подавшемуся к ней Борису и подняла руку со сверкающим под электрическим светом камнем над его красивой головой. Потом, не сразу, нежно погладила. И только после этого продолжила:
– Встретила всю… юность мира в одном, таком милом, таком прекрасном лице и, как видишь, поддалась очарованию.
Конечно, Борис понял, что это прощание. Взял ее руку, потом другую, положил их себе на плечи и обнял Елену за талию. Лена не отстранилась, потому что всему, даже самому нежному поцелую, приходит конец.
Уже у входной двери Борис нашел в себе силу проститься с прекрасной Еленой. Вот только слово «до свидания» ему никак не давалось.
– Ну, хорошо. Я пойду, Лена. У меня, я же совсем забыл, завтра семинар…
Лена кивнула. Он вышел.
Еще держась за ручку двери, произнес:
– Знаешь, а я тоже умею делать бутерброды… А больше ничего.
Пошел к лестнице. Обернулся.
– А зонта у меня нет. И никогда не было. Я люблю дождь… В дождь не нужно никому объяснять, почему плохое настроение.
И, еще раз посмотрев на Лену, побежал вниз.
Она стояла неподвижно, пока не услышала, как знакомо пискнули дверцы, как зафыркал мотор его «запорожца», – и просто закрыла лицо руками.
* * *
Свои семинары по античной литературе Алексей Александрович всегда проводил в форме зачетов. Не из вредности – оценки ведь все равно останутся только в его личном журнале. А просто потому, что к зачету или экзамену у него уже складывалось определенное впечатление о студенте, он знал, чего от него ожидать, к кому проявить снисхождение, к кому – большую требовательность. Были случаи, когда только по результатам семинаров он ставил пятерки абсолютно не знающему ответа на конкретный билет студенту…
Хорошенькая девушка, которая так любит японские кроссворды, оказалась начитанной умницей. Выслушав ее ответ на основной вопрос билета, Найденов, улыбаясь, предложил:
– Если вы мне ответите, как звали собаку Одиссея и где находится древняя Колхида, я поставлю вам пятерку. Это будет первый шаг к автоматически сданному экзамену.
Девушка задумалась. Потом, кивнув сама себе, уверенно произнесла:
– Ну, Колхида – это в Грузии. Вернее, Колхида – это Грузия… А собаку?
По лицу девушки было явно заметно, что наличие собаки у царя-путешественника для нее вообще новость.
Найденов склонился над своим журналом, что-то в нем записал, с улыбкой вновь обратился к девушке:
– Когда я учился у профессора Лапидуса, это был коронный вопрос. А коронный ответ на него был вот как раз… «Лапидус». Один студент выдал: «Лапидус, говорит, эту собаку звали, ясное дело…» Семен Наумович очень был интеллигентный человек, ничего ему не сказал, двойку даже не поставил, а вот легенда пошла гулять с курса на курс…
Девушка робко улыбнулась и пошла на свое место. А Алексей Александрович сказал, обращаясь уже ко всем присутствующим, уткнувшимся в свои листки:
– А пса Одиссея звали Аргус.
Только Борис сидел прямо, не глядя в свой разрисованный гладиаторскими боями, без единой буковки листок. Услышав свою фамилию, встал и решительно направился к столу преподавателя.
Тот взглянул на него мельком:
– Садитесь. Ну, покажите ваш билет…
Все еще стоящий Борис протянул бумажный прямоугольник с совершенно безразличным видом.
– Так, «Труды и дни», Гесиод… Очень интересно! – Алексей Александрович заглянул в свой кондуит и тут как будто в первый раз увидел там фамилию Шумский – и осекся. Он понял, кто перед ним. «Ну, конечно, этот красавчик Шумский… Господи, мог бы и раньше догадаться. Мало ему, что девчонки бегают строем…»
Борис стоял еще секунду, потом сел и с непонятным большинству присутствующих вызовом произнес:
– Извините, я не готов.
Найденов посидел некоторое время молча, потом сказал немного охрипшим от волнения, мгновенно ставшим усталым голосом:
– Да я и сам не готов…
Те из студентов, что были не очень увлечены своими ответами и шпорами, невольно подняли голову, услышав непонятный диалог.
Преподаватель и студент молчали, насколько позволили обстоятельства. Потом Борис встал, чтобы уйти. Куда глаза глядят. Но Алексей остановил его:
– Подождите.
Борис сел на место, не глядя на Алексея Александровича. «Он не производит впечатления труса. Отчего же все сбежать-то норовит?» – подумал доцент.
Пауза явно затянулась. И все-таки, через еще какое-то невыносимое время Найденов, наконец, спросил у Бориса негромко:
– Теперь вы можете мне ответить, почему в «Илиаде» ничего не написано о красоте Елены?
Борис невежливо молчал – так казалось со стороны. А потом начал говорить с все большим запалом, даже агрессивно:
– Он ничего и не мог написать о ее красоте. Не мог! Он ведь и правда был поэтом, этот бродяга. И понимал, наверное, что слова, даже если это стихи… обычны, они стираются. Они повторяются, повторяются и просто стираются от употребления! Все, что ни скажешь, может оказаться банальным, недостойным этой женщины… А из-за Елены началась война.
Уже очень многие, забыв про свои потенциальные автоматы, откровенно слушали необычно эмоциональную для рядового семинара по античке тираду Бориса…
Он сделал паузу только чтобы привести в норму дыхание. Вдохнул и продолжил, прямо глядя внимающему преподавателю в глаза:
– И при чем тут вообще красота? Сказать, что у нее красивая походка? Ну и что? Или что глаза красивые, огромные, бездонные, да? Но разве в этом дело? Она – чудо! Искренняя, веселая, юная! Она… Само ее имя обозначает Свет! Вот она есть – и светло. А нет ее – и это просто день, четверг, – парень резко взглянул на свои часы, – тринадцать часов пятьдесят шесть минут по местному времени.
Оказалось, страстный монолог все же отнял у него какие-то внутренние силы: он откинулся на спинку стула и опустил свой уже не такой дерзкий, как прежде, взор.
Но уже теперь Найденов, скрестив руки на груди, во все глаза смотрел на парня. И опять повисла тягостная пауза, в которой напряженно участвовала вся аудитория. Наконец Алексей Александрович тихо сказал:
– Отлично.
Борис спросил без всякого напора, без недавней мальчишеской агрессии, скорее из вежливости:
– Что?
И Алексей Александрович повторил:
– Отлично. Садитесь.
Борис вернулся на свое место, но не сел. Взял свою спортивную сумку, кинул в нее ненужный листок с гладиаторами и, не оглядываясь и не прощаясь, пошел к двери.
Преподаватель сидел за столом, опустив глаза, крутя в руках ручку. Тем временем в аудиторию постепенно вернулась строгая атмосфера экзамена. И только на последней парте парень, на сей раз не целующийся со своей сидящей рядом и что-то строчащей на листике подружкой, никак не мог отвести глаз от лица доцента Найденова. По его глазам было видно, что что-то он, кажется, понял…
* * *
…Елена потопталась немножко у знакомой двери, потом условным тройным звонком дала о себе знать.
Дверь открыла свекровь. Крошечная, в неизменном кружевном воротничке на неизменном темном платьице…
Без всякого предисловия, еще не впустив Елену в прихожую, она начала свой «плач Ярославны»:
– Лена! Ну что случилось? Вы поссорились? Я ничего понять не могу, Леша молчит. В чем дело, а? У меня давление скачет, бессовестные вы поросята!
Лена зашла, обняла пожилую женщину, которая так и не опустила раскинутых рук в жесте, похожем на позу из индийского танца «катхак», прижалась к ее к худенькому плечу головой, потом освободила свекровь из своих объятий и пошла на кухню.
Было слышно, как шумит вода в ванной. «Леша дома!» – радостно подумала Елена.
Лена села за стол, вытянула ноги, а пожилая женщина села на стульчик рядом, смотрела на невестку с надеждой и тревогой.
А та вдруг сказала, глядя на нее не то насмешливо, не то печально:
– Галина Алексеевна, а вам не кажется, что вы засиделись в мамах?
Свекровь с недоумением взглянула на невестку. Лена, довольная произведенным смятением, продолжила, уже осторожнее:
– Вам не пора стать бабушкой?
Лешина мама прижала тоненькую ручку к груди, вот-вот заплачет. Но глаза засияли – как елка в Новый год!
– Леночка…
Лена засмеялась, наслаждаясь произведенным эффектом. И, чтобы поднять пожилой даме настроение, стала ее поддразнивать:
– Пора, пора с внуком в песочницу! А то все по концертам, да по театрам… Лексикон пора новый осваивать, чтобы было о чем с другими бабушками беседовать, интонации надо разучить специальные…
Елена уже откровенно расшалилась, а завзятая театралка тоже, наконец, рассмеялась от души, все еще не веря в такое чудо. Ей просто нравилось, как резвится любимая жена ее сына, такая веселая, такая милая…
– А ну-ка, повторяйте за мной: «Ле-еша! Ты куда! Там лужа! Выйди из воды, простудишься!..» – никак не унималась молодая женщина. Что ж, пришлось подчиниться! И Галина Алексеевна послушно повторила довольно-таки громким и неожиданно противным, «наседкиным» голосом:
– Леша, выходи из воды, простудишься!
За мгновение до этих слов в ванной смолк шум воды, и Алексей все услышал. Он открыл дверь ванной, стоя на пороге в одной купальной простыне, как в тоге. На лице у него отразился явный испуг:
– Мама, что с тобой?
Но из кухни на его встревоженный голос сначала вышла Лена, а за ней – улыбающаяся мама.
Лена подошла к нему, уткнулась лицом в простыню на плече, постояла, а потом подняла на мужа глаза, похожие на серо-синий горный хрусталь:
– С мамой все в порядке. И со мной тоже…
И обняла его. Он, не в силах больше сопротивляться, обнял ее в ответ.
Мать, глядя на них, улыбнулась так хитро, что стала похожа на старенькую лисичку, и выдала:
– Леша, Ленка говорит, у нас будет маленький. Найденов невольно отстранился, внимательно посмотрел на блаженно улыбающуюся жену:
– Правда?
Лена посмотрела на растерявшегося мужа и засмеялась – грудным, затаенным смехом, снова пряча голову у него на груди:
– Месяцев через десять. Раньше не смогу…
* * *
Снова утро. Но не то «золотая осень», не то «бабье лето», похоже, кончились.
Выскочившая из автобуса Елена идет к метро вместе с густой толпой пассажиров, приехавших в центр из спальных районов, – так короче.
Успела зайти в последний вагон, и состав тронулся…
Показалось или нет? У светящегося табло стоял Борис. Да, конечно, он: через плечо – спортивная сумка. Кого-то ждет?…
Лена проводила его глазами, положив ладошку на стекло, закрыв от себя или, может быть, погладив, его стройный силуэт.
* * *
А Борис надеялся увидеть ее: она ведь всегда ходит этой дорогой. Зачем – он и сам не знал. Так, поговорить с ней хоть пару минут. Как у нее дела, что нового…
Он все смотрел и смотрел, а ее все не было и не было. Один раз ему показалось, что это она. Да, девушка была тоже стройная, тоже темноволосая, но не Елена.
«Наверное, с дачи, – рюкзачок, астры в руках…» – успел подумать о ней Борис перед тем, как вдруг…
…Из порвавшегося пакета, который держала девушка, сначала на лестницу, а потом и на платформу посыпались яблоки!
Они прыгали, яркие и веселые, по ступенькам, катились под ноги вмиг развеселившимся пассажирам. Многие стали подбирать яблоки, подносили их девушке, а она что-то щебетала и смеялась, отмахиваясь: положить ей их было уже некуда.
Борис тоже подобрал те, что докатились до него, и подошел к дачнице. Она показала ему уже доверху набитый рюкзачок и сказала:
– Все, больше не влезет. Да вы возьмите, пожалуйста, угощайтесь! У нас их еще много! И они очень вкусные, попробуйте…
Борис посмотрел в ее веселые глаза, взял себе самое красное яблоко…
И пошел к выходу.
Дитя, сестра моя… (Подружка осень)
Я очень люблю поезда. Не как средство передвижения, а как перевалочную базу – между тем, что было, и тем, что будет.
Я предпочитаю поезда самолетам. Мне нравится мерный стук колес, мелькающие за окном пейзажи, «эмпээсовский» чай… Я езжу в поезде, как другие женщины ходят в парикмахерскую, чтобы чуть-чуть измениться, снять стресс.
И, конечно, я сажусь в поезд не для того, чтобы просто ехать, куда глаза глядят – чаще всего я езжу в Минск к своей подруге Женьке.
Нашей дружбе четверть века, чуть меньше, чем нам самим. В общем, мы подружились сразу же, как научились отличать друг друга в ползающей по ясельному ковру компании.
Наверное, наша столь долгая и верная дружба была предопределена. Мы родились в одном роддоме с интервалом в шестнадцать часов. Дело было в военном городке, наши мамы ухитрились попасть в роддом в самый праздник. Первого мая, видимо, в честь моего рождения, трудящиеся высыпали на улицы с флагами и транспарантами, а второго, когда родилась Женька, они весело поднимали рюмки и бокалы дома…
Сохранилась фотография, где наши мамы после выписки стоят рядом возле роддома с одинаковыми свертками в руках. Наши рожицы, еле видные в кружевах, почти неразличимы. Между прочим, наши мамы никогда не были подругами, так что наш первый общий снимок – случайность.
Самое яркое воспоминание того, дальнего детства – утренник в младшей группе детского сада. Уж не помню, в честь какого праздника, но всем детям раздали цветные воздушные шарики. Женьке достался огромный ярко-красный, а мне – длинный и зеленый. Смутно помню, что была я не в восторге от доставшегося мне шара, да и не шара к тому же, и разревелась. Все недоброе в этом мире наказуемо, зависть в том числе, и первый опыт я получила именно тогда. Злополучный шар лопнул, а я зашлась в омерзительном вое. Смолкнуть меня заставила не воспитательница, а Чудо. Женька протягивала мне свой прекрасный шар – красный, целый… Я пыталась ей напомнить об этом случае много раз, но она только отмахивалась: «Брось, все ты сочинила». Или говорила: «Ну, родная, видно, ты так визжала, что другого способа заставить тебя замолчать не нашлось».
А я помню, правда, помню…
Мы росли, взрослели, такие разные астрологические близнецы. Женька была невысокая, ладная, очень смышленая, смешливая и живая. На щеках у нее были ямочки, и не только когда она смеялась, но и когда говорила. А я была стеснительной, худенькой, долговязой, с торчащими локтями и коленками, мало улыбалась. Мама говорила: «Просто странно – ты как будто знаешь, что мы будем жить в Ленинграде, – заранее такая бледненькая и худосочная. Там почему-то все такие».
Я никогда не завидовала Женьке, но всем своим детским сердцем восхищалась ею. Однажды услышала краем уха, когда мы шли мимо учительской: «Красавица растет…» У меня не было ни малейшего сомнения, что речь идет о Женьке. Прошло немало времени, пока я поняла, что говорили-то, наверное, обо мне.
В нашем детстве и юности все было, как у других подружек: и общие влюбленности, и интриги, и ссоры, и примирения. Женька умела мириться. Однажды, нам уже было лет по тринадцать, она мне сказала: «Знаешь, мне не нравится выяснять отношения. Если поссоримся, давай на следующий день встретимся как ни в чем не бывало. Мы ведь все равно никогда не поссоримся совсем, правда?» Мы не уставали друг от друга, нам всегда было интересно вместе. Женька любила поболтать, я – послушать. Откровенничать я могла только с ней, а она умела понимать меня правильно, лучше, чем кто-то еще.
А если посмотреть на нас тогдашних со стороны – ну что у таких разных девчонок могло быть общего? Женька всегда была центром любой компании, неформальным лидером, а меня многие считали гордячкой. Она любила конкурсы и подвижные игры – я их просто боялась: а вдруг запутаюсь в своих длинных ногах, грянусь оземь всеми костьми, то-то будет смеху… Женька тоже падала, разбивала коленки, но она даже хромала как-то очень ловко и без всякого смущения могла сказать красивому синеглазому девятикласснику Игорю Пахомову: «Пахомов, ты чего стоишь, не видишь – девушка упала?» И столько было в ее веселом голосе такой же веселой власти, что все ей обычно охотно подчинялись. И я в том числе.
Женька хорошо училась, почти не занимаясь при этом. Она много читала, а это помогало быть лучшей по многим предметам. Одно ей не давалось – иностранный язык. Это было для меня просто загадкой! У Женьки было отличное произношение, говорили, из-за хорошего музыкального слуха, но она не могла осилить грамматику. «Англичанка» говорила: «Женя, ведь у тебя прекрасные способности!» А я была усидчивой, и поэтому английский знала куда лучше.
В десятом классе нам пришлось расстаться. Обычное дело для детей военных: отца Женьки перевели в другой гарнизон, а мой вскоре демобилизовался и вернулся на родину, в Ленинград. Три года мы переписывались. За это время многое изменилось, изменились мы сами, но по-прежнему чувствовали необходимость друг в друге.
Я как будто заранее знала: когда лопнет мой очередной зеленый шар, подойдет Женька и протянет мне свой – целый, красный. И снова все будет хорошо.
Когда прошел срок службы Женькиного папы, он тоже вернулся туда, откуда был родом – в Минск. А Минск и Ленинград – это близко, двенадцать часов поездом.
* * *
Как-то сама собой родилась и укрепилась традиция: дни рождения отмечать вместе. Благо, что 1 и 2 мая всегда были выходными днями. Мы и студентками приезжали друг к другу в гости, а когда закончили институты и стали работать, старались поддерживать нашу традицию. Иногда это были единственные два дня в году, когда мы встречались, но, как говорила Женька, «дело не в интенсивности общения».
Тот памятный Первомай не был исключением – наше двадцатипятилетие я ехала отмечать в Минск. Женька предупредила по телефону, что меня ждет сюрприз, но какой именно, естественно, не сообщила.
Сюрприз открыл мне дверь. Высокий темноволосый молодой человек, из-за плеча которого едва виднелась моя миниатюрная подруга. Не помню точно, как я прореагировала на Сережу в тот первый раз. Скорее всего, была просто немного смущена внезапностью его появления в нашей с Женькой жизни. Для нее-то, конечно, никакой внезапности не было, а мне стало немножко тревожно, одиноко. Вернее, чуть более одиноко, чем всегда.
«Вот моя красавица-подруга», – объявила Женька, и на ее лице появилось обычное для таких случаев выражение. Мне иногда казалось, что она демонстрирует меня своим друзьям и моим новым знакомым как собственное изобретение или открытие… Не знаю, но вид у нее при этом был очень гордый. И еще она всегда считала нужным добавить с великолепным прононсом: «Банк „Креди Лионнэ“».
Я действительно работала в Ленинградском филиале банка «Лионский кредит», но особой гордости по этому поводу не ощущала. Мне, отличнице, окончившей факультет переводчиков иняза с красным дипломом, но не сумевшей при этом как-то проявить себя ни на профессиональном, ни на каком-то ином поприще, не казалось великим достижением то, что я работала личным секретарем директора филиала пусть даже одного из старейших банков Европы. Я и сейчас училась, постигая абсолютно чуждую мне экономику, хотя понимала, что по-настоящему в моей карьере пригодится все та же пресловутая способность к языкам. Я их, слава Богу, выучила аж четыре. Вот и секретарствовала – устно и письменно – на английском, французском, немецком и итальянском. По-русски я на работе только думала и писала письма Женьке, если выпадала минутка.
Я протянула Сереже руку и сказала: «Вообще-то я Анна, но дома и Женька меня зовут Асей». Он улыбнулся в ответ, осторожненько пожал мне руку и сказал в тон: «Я доктор Градов. Но и на работе, и Женька меня зовут Сережей. А ты действительно красавица».
Он работал в отделении детской реанимации, жених моей подруги доктор Градов. Я узнала об этом чуть позже, за столом. И почему-то именно этот факт окончательно примирил меня с появлением Сережи в нашей с Женькой жизни…
Почему нашей? Потому что с самого детства я привыкла к тому, что моя и Женькина биографии развиваются параллельно. Мы даже болели одними и теми же болезнями! Теперь мне предстояло самое трудное – привыкнуть к тому, что параллельные прямые плавно перейдут в перпендикулярные.
Да, мне было очень грустно в тот мой приезд. Я смеялась Женькиным шуткам, что-то рассказывала о своем житье-бытье, забавляла их с Сережей парадоксами французского менталитета, с которыми мне приходилось сталкиваться каждый день, и которому я не переставала удивляться.
И все же…
То, что они смотрели на меня с одной стороны стола, а я сидела по другую (а ведь в начале вечера чинно рассаживались с трех сторон!), то, что Женька, видимо, инстинктивно, то приобнимала Сережу за плечи, то касалась его руки, а он, так же бессознательно, брал ее руку в свою, было и чудесно и… невыносимо.
Наверное, я слишком привыкла, что очень долго в личной жизни и у меня, и у Женьки не происходило ничего значительного, вернее настоящего.
У нее всегда было много поклонников, а меня, прекрасную, сильный пол почему-то избегал. Причем началось это еще в институте. Один раз я даже стала «Мисс переводческого факультета», но ухажеров у меня от этого не прибавилось. Шустрые коренастые девчонки из предместий, мои однокурсницы, одна за другой прямиком из общежития выскакивали замуж; как правило, с толком, с чувством, с расстановкой выходили замуж и рафинированные «домашние ленинградки»… А я сидела в библиотеке, а чаще – дома и писала подруге Женьке письма, в которых вопросительных знаков было куда больше, чем восклицательных.
Устройство по отцовской протекции в «Креди Лионнэ» мало что изменило в моей личной жизни. Вероятно потому, что большинство моих коллег были безнадежно женатые французы. Нет, мне говорили комплименты, приглашали танцевать, почтительно провожали к дому, потом, когда я купила машину, до машины… Но редкий смельчак решался назначить мне свидание или просто пригласить в ресторан. И правильно, потому что чаще всего я отказывалась хотя бы потому, что никогда не видела себя замужем за иностранцем. Со своим любимым я должна говорить на родном языке – при переводе многое теряется…
Я не феминистка, не синий чулок, не закомплексованная старая дева, но что-то во мне, конечно, долгое время было не то. «Ты слишком много читаешь, – безапелляционно заявляла Женька в ответ на мои стенания. – В результате у тебя слишком умное лицо. Знаешь, многие мужчины воспринимают это как вызов и комплексуют. А потом добавляла: Да потеряй ты голову хоть раз! Наделай глупостей! Все сразу поймут, что ты живая, что ты не снишься…»
Правда, так лихо поучая меня, Женька вовсе не считала себя примером для подражания. Прямо скажем, не очень везло и ей.
Профессия – а она после окончания радиотехнического института работала в рекламном отделе выставочного центра – предполагала очень широкой круг знакомств. 85 % мужчин, с которыми ей приходилось общаться по долгу службы, попадали в эпицентр ее обаяния, напрочь забывая об очень важных вещах – цели визита, например, или своем семейном положении. Иногда она действительно «делала глупости», впрочем, не слишком кручинясь при этом, потому что она-то действительно была очень живой. Не той резвушкой-хохотушкой, как в детстве, а новой – спокойной, энергичной, собранной, как ее обожаемый компьютер, и при этом – очень естественной и любезной. Самое удивительное – от природы веселая и остроумная Женька мало улыбалась. А ведь улыбка у Женьки такая светлая, такая нежная! Но – «для домашнего пользования».
Почему же мы, дожив до двадцати пяти лет, так ни разу и не вышли замуж?
Правда, меня однажды позвал замуж француз – представитель дирекции нашего банка. Попросив меня задержаться после работы, он весьма доходчиво объяснил мне, что моя внешность, манеры и даже возраст вполне соответствуют его вкусу, а его положение в обществе и банковский счет просто не могут не устроить меня. Во время объяснения мсье Пулен даже чуть-чуть волновался, перебирая в моих руках подаренные им фрезии. Все было очень симпатично, но необходимость грассировать всю оставшуюся жизнь меня в тот волнующий миг не прельстила. Равно как и сам элегантный месье Пулен с его четким пониманием жизни. Мне удалось не вызвать в нем праведного гнева, мягко (о, великий и могучий французский язык!) отказав ему, но удержаться от попытки уволить меня он все-таки не смог. К счастью, достаточно веской причины помимо моей черной неблагодарности для увольнения не нашлось, и его происки потерпели крах.
Работа на капиталистов отнимает у меня большую часть времени, а личной жизни без определенной свободы, как известно, не бывает.
Значит – не бывает…
* * *
Женька выходила замуж в октябре. В Минске стояло короткое бабье лето и, возвращаясь по залитым солнцам улицам домой из Загса, Женька радовалась: «Успели до дождей!»
Невеста была без фаты, в платье из серебристой ткани, но зато в роскошном белом пиджаке. Сиреневые, розовые и белые астры в ее руках были похожи на забавного разноцветного ежика – Женька держала их за самые головки.
Выскочив из такси, стали фотографироваться у дома Женькиных родителей. Сережа оторвал один из шариков с машины, Женька взяла его в руку и как-то особенно ласково улыбнулась мне. Она помахала мне рукой с шариком, и я поняла, что она вспомнила мою любимую детскую историю… и в этот миг щелкнул фотоаппарат.
У меня есть эта фотография. Если бы не облетевшие деревья, можно было бы подумать, что на дворе май.
После ее замужества наши встречи не стали реже. Чаще я приезжала в Минск: им с Сережей трудно было вырываться вдвоем. Я полюбила этот город – и зимой, и летом очень чистый, нешумный, малолюдный в сравнении с Питером. Молодожены водили меня по городу, показывали достопримечательности: Красный костел святых Симона и Елены, Троицкое предместье… Вечером, уже дома, произошел смешной инцидент.
– Ну что, запомнилось тебе что-нибудь, Ася? Целый день колесили… – спросил Сережа.
– Да я, наверное, уже не заблужусь в Минске. Все понравилось, хорошо у вас.
– А что особенно? – не унимался Сережа.
Не знаю, какого ответа он от меня ждал. Архитектурой Минск потрясти меня, как ни жаль, не смог.
– Знаете, что меня поразило больше всего?
– Прямо уж поразило?
– Да. Грустный Ленин. Самый грустный, какого я когда-нибудь видела.
Повисла пауза. Не засмеяться, глядя на обескураженные лица моих друзей, я не могла.
– Анна, Бог с тобой, какой еще грустный Ленин? – выговорила Женька.
– Ну, как же! Сидит на площади, задумался. Вокруг народ, кто на скрипке, кто так стоит…
Как они смеялись! А потом наперебой объясняли, что это Якуб Колас, классик национальной литературы, что, слава Богу, недоразумение выяснилось так скоро, а то весть о печальном вожде мирового пролетариата уехала бы вместе со мной в Питер, а там людская молва понесла бы ее дальше…
* * *
Целый месяц я жила воспоминаниями о той моей поездке. Вспоминала все слова, сказанные мне Сережей, все самые неважные, самые незначительные. Я, которая казалась себе многомудрой, разочарованной в жизни и мужчинах дамой, перебирала в памяти все его добродушные комплименты, все невзначай брошенные взгляды. Но главное – в моей «сокровищнице» была фраза, которую я не променяла бы ни на какое самое цветистое признание в любви, даже если бы с этим признанием ко мне разбежался сам Ален Делон.
Мы сидели вечером за кухонным столом, пили сухое вино. Женька очень смешно рассказывала, как она проводила международную полиграфическую выставку и в последний день перед открытием лихорадочно исправляла грамматические ошибки, которые обнаружила в великом множестве на громадных транспарантах. Как пьющий художник важно объяснял ей, что умеющий рисовать писать не должен, а обратная идиома у него никак не получалась, потому что с ударением в слове «писать» у его подсознательно возникли проблемы…
Женька рассказывала, я смеялась, а Сережа, томный, разомлевший от вкусного ужина, легкого вина, общества приятных женщин, вдруг сказал: «А жалко, что я не живу в Объединенных Эмиратах». «Да, там тепло», – сказала я. «Там богато, там нефть!» – добавила Женька. «Там я завел бы себе гарем», – важно изрек Сережа. Мы покатились со смеху. Для молодожена это было лихо, но, слава Богу, у Женьки с чувством юмора все нормально, поэтому она спросила своего размечтавшегося мужа: «А нам-то с Асей в твоем гареме место найдется?» – «Так мне больше никто и не нужен», – успокоил жену Сергей.
Промаявшись несколько дней, я пошла на ужасный с точки зрения собственной морали поступок. Купив билет в оба конца, я поехала в город моей безответной любви. Приехала рано утром, но кралась по улицам города «аки тать в нощи»: ехала троллейбусом, в метро не спускалась – там можно встретить Женьку, а предстать пред ее светлые очи во всей красе… Скорее я дала бы обрить себя наголо. Женька, Женька, прости меня!
Я ехала в детскую клиническую больницу. Я уже знала, как ее найти: Сережа в тот мой приезд махнул рукой влево от проспекта, по которому мы ехали к ним домой.
Впрочем, найти больницу было половиной дела, а вот пробраться в отделение реанимации оказалось задачей посложнее.
Судьба избавила меня от этого испытания. Пока я осмысливала возможные варианты незаметного проникновения туда, где работает мой любимый доктор, к подъезду с надписью «Приемный покой» подъехала газель с красным крестом, и из нее выбрался… Сережа. Выбрался – потому что он, такой высокий, очень странно согнулся в три погибели, неся на руках маленького человека. Никогда раньше я не видела, чтобы можно было обнимать дитя, прикрывая его спиной, плечами, даже головой…
Как я любила его в эту минуту! Коротковатый белый халат, голые по локоть сильные руки, нахмуренные брови вразлет – таким я его еще не знала…
Я видела его не больше минуты – он быстро скрылся за дверью приемного покоя, но я вполне была счастлива и этим.
До вокзала я шла пешком и совсем не устала…
* * *
Как-то весной они приехали в Ленинград на пару дней. Мои родители были страшно рады, да и Женька всегда умела создавать праздник своим присутствием.
Было чудесно. Мы бродили по моему любимому городу, я сама на своем «гольфе» свозила их на Васильевский остров, к Ксении Петербуржской. Мы – все трое – написали записочки Ксении – таков обычай. Я написала в своей: «Пусть мы все будем счастливы».
А они и были счастливы – это ведь невозможно ни скрыть, ни сыграть. Да, зная свою подругу, я и представить не могла, чтобы Женька вздумала играть это. Она не то что светилась изнутри, она искрилась снаружи…
А Сережа, неболтливый и немного грустноватый по обыкновению, просто выглядел очень отдохнувшим, будто бы сбросившим хоть на время какой-то тяжкий груз.
Когда-то он поделился: «Знаешь, к нам иногда попадают такие крохи. Нужно внутривенно вводить, а у них ручки толщиной с мой палец…»
Я почему-то всегда помнила о его профессии. Мне кажется, даже если бы я не знала точно, кто он, я догадалась бы: этот человек лечит детей. Он спасает им жизнь.
«Иногда не получается, – однажды сказала мне Женька. – На него в такие дни больно смотреть – он умирает вместе с ними».
Пасмурный весенний питерский денек, высокий Сережа, маленькая Женька, чугунные узоры ограды на Васильевском, две руки, два кольца…
В тот день я совершенно отчетливо, окончательно поняла, что люблю Сережу. Люблю. Признаться себе в этом оказалось очень легко, приказать себе тут же забыть об этом – невозможно.
Что может быть банальнее, смешнее и жальче, чем безответная любовь к любимому мужу любимой подруги?
Так я старалась вразумить, пристыдить сама себя, но все было бесполезно.
Освободившись от необходимости врать самой себе, я упивалась своими противоречивыми чувствами. Ни о каком романе с Сережей я и думать не хотела, нет! Мне достаточно было любить его издали. Я знала, что никому не наврежу своей любовью. Впрочем, эту мою жертву никто не примет, просто не заметит – уж я постараюсь. Мои невидимые миру слезы останутся при мне.
Господи, а ведь этого следовало ожидать! Мы с Женькой слишком долго смотрели на мир «одной парой глаз»…
Они уехали, а я в ближайшую субботу пустилась в тот же путь, к Ксении. Она меня вразумила, может быть, она и спасет.
Ехала в трамвае, смотрела на лица пассажиров, думала: «А ведь я не одна к Ксении. Как много страж дущих…»
Ксения меня, наверное, не приняла: молитва на мой грешный ум не шла. И поделом… Я погладила чугун решетки там, где его касались их пальцы, и тихо, светло всплакнула.
А на обратном пути я познакомилась с Сашей.
Вернее, познакомился со мной он, но виновата в этом я сама.
Он стоял у самой двери в трамвае и на каждой остановке выходил, выпуская пассажиров, а потом опять заходил последний. Я уставилась на него во все глаза: в профиль он был ужасно похож на Сережу! Не почувствовать мой немигающий взгляд было невозможно, он обернулся в мою сторону, а я… чуть не закричала от отчаяния.
Наивно было полагать, что внешнее сходство влечет за собой и внутреннее, но поначалу мне, наверное, было достаточно и этого.
Поймав мой пристальный взгляд, высокий парень в черной куртке оглянулся на всякий случай: не протиснулся ли ему за спину еще кто-нибудь, а потом, видимо, заинтересовавшись столь нахальной растрепанной блондинкой с красными от слез глазами, стал медленно пробираться в мою сторону. Когда я сделала движение по направлению к выходу, он форсировал события и через секунду уже стоял рядом со мной на остановке.
У него хватило ума и деликатности, чтобы не спросить у меня в лоб, что вызвало мой неподдельный интерес. Вместо этого он спросил, правильно ли вышел на этой остановке, потому что разыскивает дом номер… От меня не укрылся его быстрый, можно сказать, молниеносный взгляд в сторону ближайшего дома, а также то, что номер он назвал тот, что находился на приличном расстоянии от остановки. Одно осталось для меня загадкой: как он смог сходу определить направление, в котором поплетусь я?
Было в его галантном нападении что-то гусарское. Несмотря на то, что в докторе Сереже гусарства не было никакого, мой новый знакомый Александр, так похожий на него, мне понравился. Кстати, первое впечатление меня не обмануло: Саша был не гусаром, но – кирасиром! Он был членом элитного ленинградского клуба «Солдаты 12-го года». Это было так оригинально, так мило, немного ребячливо и очень романтично.
Мы стали встречаться, и мне показалось, что наша встреча – это знак свыше. «Каждому – свое». Это, наверное, мое. А Сережа – Женькино.
Он называл меня не Асенька, а Осенька – от слова осень. Наверное потому, что я часто грущу. Мне нравилось. И все вокруг говорили, что мы прекрасная пара. Правда, когда мы бывали вместе в гостях, я не ловила себя на том, что все время хочу сидеть с ним рядом, касаться его руки и чтобы он обнимал меня за плечи…
Саша не спешил с предложением, а я не настаивала на оформлении наших отношений хотя бы потому, что, несмотря на близость, возникшую между нами, я так до конца и не определилась в своих чувствах. Просто, наверное, начала понемногу привыкать к тому, что со мной рядом красивый, добрый, неглупый молодой человек, которому небезразлична не только моя наружность… Все было как будто хорошо, и все же было что-то «недо…» в наших отношениях. Иногда я сама казалась себе настоящим чудовищем, холодным, бесчувственным, но милостиво принимающим знаки внимания; иногда – несчастнейшим существом на свете, никем не понятым, никем не оцененным; иногда хотела разорвать эту полулюбовную связь, но чаще всего думала о Саше как о единственном спасении от самой себя. Три года мы разбирались друг в друге, а каждый – в себе…
Все решилось само собой, когда я почувствовала, что беременна. Первым делом я сообщила об этом не Саше, как нужно было бы, – я кинулась звонить Женьке.
– Ася, Анна, с ума сойти! – Женька кричала в трубку что-то радостное и нечленораздельное. – А сколько ей уже?
– Кому ей – беременности? – грубовато осведомилась я.
– Девочке, – растерянно уточнила Женька. И я вдруг поняла, что она плачет.
И тоже заплакала. Я плакала не оттого, что мне предстояло сообщить отцу моего ребенка о его скором появлении на свет, а потом ждать его высочайшего мужского решения. И не потому, что вне зависимости от этого решения, я буду рожать от полулюбимого мужчины, а от любимого не рожу никогда. И не потому, что просто боюсь всего этого…
Я заплакала после этого простого, теплого слова «девочка». То, как произнесла его Женька, было невыносимо. Она, конечно, хотела ребенка, наверное, девочку. А ребенка у Женьки не было, у нее был только Сережа.
…А у меня был Саша. Он поступил по-мужски, и уже назавтра мы отправились в ЗАГС. Нас обещали расписать через два месяца. Мою маленькую девочку никто и не заметит. О ней будем знать только мы четверо: я, Женька, Саша и Сережа. В том, что она сразу рассказала обо всем Сереже, я не сомневалась.
* * *
…Единственный раз мы отмечали наш день рождения, а заодно и наше с Сашей новоселье вчетвером. Моя аристократичная свекровь сделала царский жест – разменяла свою шикарную квартиру в «старом фонде» на очень неравнозначные две. Худший вариант достался нам, но мы в обиде не были, напротив…
Я, уже основательно беременная, куксилась в своем широком платье, в своем широком кресле с бокалом красного виноградного сока в руках.
Сережа присел возле меня на ковер, погладил ласково по руке и сказал:
– На УЗИ разглядели что-нибудь?
– Девчонка, – ответил за меня мой муж, пытавшийся настроить свою гитару в другом углу комнаты.
– Странно. Говорят, девочки всю мамину красоту забирают, а я тебя, по-моему, никогда красивее не видел.
Я в тот вечер была на слезе, поэтому тут же разнюнилась:
– Да неужели? Я без этих пятен была бледновата? Широкий нос меня очень украшает? Ты вообще раньше-то меня видел, Сереж? Гоген, вот кто бы меня оценил…
Сережа улыбнулся, вернулся к Женьке, обнял ее за плечи.
– За вас, девочки, – сказала моя подруга.
До сих пор помню коктейль, который я выпила за Женькин тост: слезы с виноградным соком, один к ста…
* * *
Впрочем, идиллии не было – ни в моей семье, ни в Женькиной. С ее слов знаю, что в первые годы семейной жизни слово «развод» было очень часто употребляемым в их семейной лексике. Причин было множество: Сережу раздражали Женькины частые командировки, а особенно – поклонники, которые ее, замужнюю, одолевали пуще прежнего. «Ну придай своему чарующему голосу пару-тройку хриплых нот, – язвительно советовал он ей, – чтобы они не думали, что ты уж так неотразима». Женька смеялась, втайне радуясь, что ее по-настоящему красивый муж так ревнует ее. А ему чаще всего было не до смеха: на Женькиной визитке значился и их домашний телефон, мужские голоса частенько звонили домой… Не знаю, не хочу думать, что Женька всерьез могла изменить своему Сереже, но не нравиться она не могла. «Это непрофессионально!» – дерзко заявляла она иногда. И хорошо, что Сережа при этом не присутствовал.
Иногда разводом шантажировала Женька. Сережа много курил – «снимал стресс», как он выражался, а Женька видела в этой вредной привычке целую философию. «Ну, оставь меня вдовой, оставь. Ни ребенка, ни котенка, кому я нужна? Ты же эгоист, тебе все равно, что потом со мной будет…»
«Если я не буду курить, я буду пить. Выбирай», – в пылу полемики однажды заявил Сережа, чем поверг Женьку в еще больший шок. Позже она признавалась мне, что на его месте, наверное, пила бы не просыхая…
Я, в силу своего вялого темперамента, редко устраивала своему супругу сцены, хотя причин для этого тоже было немало. Эгоизм, который во время нашего долгого романа как-то не бросался в глаза, в совместной жизни стал очень заметен.
И неважно даже – мне, по крайней мере, – что Саша не проявлял особого трепета по отношению к моим «беременным» прихотям и капризам. Гораздо неприятнее для меня было то, что к не родившемуся еще (но так любимому мной) ребенку он ухитрялся проявлять столь же беззаботное равнодушие.
Мой уход в декрет, совпавший с ремонтом нашей новой, но очень старой квартирки, сильно подорвал благосостояние молодой семьи. Жить в долг я к своим почти тридцати не научилась, а накопления подходили к концу.
Мой кирасир в свободное от «потешных» боев время трудился в турагентстве средней руки. Его заработок напрямую зависел от сезона, политической обстановки в мире, курса доллара, стихийных бедствий… Уйдя в декрет, я стала зависеть от всего этого тоже – и это было невесело. Мое предложение поискать работу поинтереснее в финансовом отношении энтузиазма не вызвало. Но зато вызвало встречное предложение: «Давай продадим машину, будем ездить на метро». Я, с таким трудом получившая права и еще надеявшаяся сама возить свою маленькую на дачу, резко запротестовала. «Мама поможет», – добил меня супруг…
Вспомнив школьные уроки труда, я шила разные мелочи для детского приданого, когда однажды, в один не прекрасный вечер открылась дверь, и вошел Саша с объемным баулом в руках.
– Осенька, – как-то вкрадчиво сказал он, – у тебя золотые руки…
Уловив в его голосе смутно знакомые интонации, я почувствовала себя Золушкой, которая должна натянуть на ножищу сестрицы свой хрустальный башмачок.
Баул был доверху наполнен раскроенными… буденовками.
– Отличный заказ с «Ленфильма», – щебетал Саша. – Тут всего три шва… Неплохо заплатят. Нам же пригодится?
Вероятно, за мой монотонный титанический труд заплатили и в самом деле неплохо. Но деньги очень пригодились моему супругу, а вовсе не мне. Не нам…
Помню, как неделей позже он от входной двери метнулся прямиком на кухню, крикнув оттуда:
– Осенька, я сейчас!
Брюшко мое к тому времени выросло настолько, что в домашние тапочки я влезала наугад – не видела их. Вот и тогда, нащупывая ногами тапочек, я замешкалась в комнате, когда дверь торжественно распахнулась, и в комнату влетел мой Саша.
О, что это было за зрелище!
Он весь сверкал – пуговицы, аксельбанты, лампасы! Высокий кивер он для пущего эффекта держал на согнутом локте, глядел орлом, щелкал каблуками…
Подушка – вот что сбило с него кивер и спесь, а также погасило улыбку. С меткостью, которой сама не ожидала от себя, неуклюжей, я швырнула в него вышитой думкой, на которой лежала до этого, нервно хихикнула, а уж потом дала волю слезам…
– Ну что ты ревешь? Мне некогда было звонить, такой случай, костюм бы ушел! Ты знаешь, сколько стоит его сшить, это же ручная работа! А тут по случаю, можно сказать, халява!
Я слушала вопли моего «оловянного солдатика» вполуха, меня больше беспокоило то, что происходит внутри меня. Во-первых, что-то происходило с душой, по-моему, громко, больно топая по сердцу, из нее уходила последняя любовь, а во-вторых…
В общем, к ночи мне стало совсем худо. «Скорая», слава Богу, не заставила себя уж очень долго ждать, и я отправилась рожать. Темная летняя ночь, тепло от асфальта, синеватые проблесковые огни на «скорой», растерянное, совсем детское лицо моего никак не взрослеющего мужа…
Я не доходила совсем немного, но может быть, это и к лучшему. Моя маленькая девочка не доставила мне никаких обычных в этих случаях хлопот, только счастье, безумное счастье встречи с ней!
– Похожа на меня, – расцвел Саша, впервые увидев дочь.
– И на тебя тоже, – зачем-то брякнула я. Впрочем, это было хамство, о котором я тут же пожалела и поспешила загладить. – Смотри, какие бровки, мои…
Маленькая примирила нас, даже сблизила, но, к сожалению, ненадолго…
Женька звонила мне каждый день, Сережа тоже давал мне по телефону дельные советы, которые порой вгоняли меня в краску. Благодаря их звонкам я чувствовала себя центром вселенной. Но центром вселенной была, конечно, уже не я.
– Как ты ее назовешь? – спросила как-то Женька.
– Евгенией, разумеется, – ответила я.
Женька помолчала, а потом спросила:
– Почему, Ася?
– Привыкла за столько лет, люблю это имя, – сказала я. А потом решилась и добавила: – Если бы моего мужа звали Сережей, я назвала бы ее Сашей, в часть моей мамы. А в честь ее папы – велика честь…
– Да что это с тобой? – изумилась моя подруга.
– Все в порядке, Женька. Пока в порядке.
Может быть, я была излишне требовательна, но меня и в самом деле изумлял мой муж. С одной стороны, он охотно играл с Женькой-маленькой, сюсюкал, таскался с ней на руках к зеркалу, любовался портретным сходством с собой, неотразимым… С другой стороны, ревновал меня к маленькой, жаловался на мою холодность, никогда не вставал к ней по ночам, из-под палки стирал ее пеленки.
Однажды я прочитала: мнение о том, что дети укрепляют брак, ошибочно. На самом деле дети – серьезное испытание. Помню, не поверила тогда. А вот теперь убедилась на собственном опыте.
Женьке-маленькой не было еще и года, когда Саша впервые уехал от нас к маме – пожить на время. Отдохнуть, отоспаться…
Он «отсыпался» почти шесть месяцев, проспав день рождения дочери. Его мама, а моя свекровь, тоже, видимо, вздремнула в тот день – я не стала их будить…
Приехавшая с очередным грузом «гуманитарной помощи» моя мама, человек прямой и недипломатичный, объявила с порога:
– Видела твоего красавца на Невском. С товарищем и девицей. Чует мое сердце, девица его, а не товарища.
Я заплакала не сразу, а потом, когда уложила Женьку спать. Бежать в суд с заявлением о разводе не хотелось. Просто – не хотелось, было почти лень.
Стало так пусто. И еще вспомнилось, как мы впервые мыли нашу доченьку. Саша нацепил белый медицинский халат и держал девочку так, как обычно мужчины держат хрупкие предметы, – чуть наотлет. Сходство с Сережей в этом облачении опять больно ухнуло где-то в сердце, а потом наваждение прошло…
Извиняться за сына приехала свекровь. Раньше мы никогда не беседовали так долго и так откровенно.
– Ася, ведь Саша… он немного не от мира сего, он любит праздник…
– Я тоже, – не к месту встряла я.
– Ты женщина, Ася, а он, наверное, никогда не станет взрослым. Ты думаешь, я в восторге от его инфантильности? От этих его солдатиков? Но я и винить его не могу. Мы с Сашиным папой развелись очень давно, он был маленький, возможно, я его… перелюбила. Он, наверное, только в своем этом клубе ощущает себя солдатом, героем… Ты прости его.
Мне показалось, что передо мной сидит парламентер, что завтра сам Саша, размахивая белым флажком, улыбаясь своей растерянной улыбкой, вернется домой. Мне даже захотелось этого – нестерпимо.
Но… Следующим жестом свекрови стало извлечение из сумочки довольно увесистого конверта.
– Формальности потом. Правда, Ася?
Женька уже вовсю топала в своем манеже. Красивая, вкусно пахнущая тетя явно нравилась ей, она что-то силилась сказать ей на своем голубином языке, тянула ручку…
Что-то, видимо, дрогнуло в Сашиной маме, она взяла эту крохотную ручку, поцеловала несколько раз, и решительно двинулась к двери.
– Ну почему я должна… – всхлипнула она и, не договорив и не попрощавшись, ушла.
А мы остались.
А мы остались одни.
* * *
Мой декретный отпуск по понятным финансовым причинам не мог длиться вечно, то есть столько, сколько положено. Заботу о маленькой взяла на себя моя мама. А я, мало изменившаяся, по словам моего шефа, вышла на работу.
Машина, которую я неизвестно зачем приобрела еще до замужества, теперь пришлась очень кстати. Ездила я не ахти как, но гаишники сильно не обижали, а коллеги-водители, видимо, старались меня объезжать, с опаской глядя на ряд веселеньких эмблем, которые я прилепила на задний бампер. Там у меня красовались «туфелька», «ребенок в машине», «70» и «чайник». Так примерно я определяла свой профессиональный водительский уровень.
Выезжая со всеми мерами предосторожности со стоянки рядом с банком, в зеркало заднего вида я как будто увидела что-то знакомое в высоком мужском силуэте, стоявшем чуть поодаль от центрального входа. Первая мысль: «Папочка явился?» – вспыхнула и угасла: улыбаясь как всегда чуть неловко, ко мне быстрым шагом приближался Сережа.
– Видел, видел твой полицейский разворот… – начал он, садясь на переднее сиденье. Было видно, что он рад меня видеть. – А чего это ты сзади всю свою биографию в картинках навесила? Какие такие «70», у тебя права уже года четыре…
– Да я бы и «У» на крышу установила, если бы с Женькой не каталась…
– Дай мне порулить, у меня тоже права есть. Профессиональные, кстати, я «скорую» могу водить.
– Шутишь, такое движение! Во дворе дам поводить, у нас там есть детская площадка со светофорчиками. Ты чего не позвонил что приедешь?
– Женька велела тебя застукать врасплох, все ли у тебя в таком порядке, как ты поешь по телефону.
– Застукал?
– Маму твою застукал. Ты ведь не говорила, что выходишь на работу.
Стараясь выглядеть заправским водителем, а заодно и сильной, самостоятельной женщиной, я лихо вырулила на проспект.
– Саша мне помочь ничем не может – у него проблемы с работой, да и не хочет, по-моему… Свекровь, дай ей Бог здоровьица, время от времени подкидывала кое-что, но я у нее и брать-то не хочу – у нее взрослый сын на руках…
Мы подъехали к моему дому, поднялись в лифте, улыбались, каждый – своему.
– Я ведь ее ни разу не видел. Вот не поверишь – люблю ее, – сказал Сережа.
«А я – тебя», – подумала я…
Сережа пробыл у нас четыре дня – приезжал на какой-то семинар или курсы повышения квалификации.
Четыре лучших дня, какие только можно представить. Позвонила Женька, я утешила подругу, что муж ее на кормлен, в чистой рубашке, даже курит меньше обычного. Прибегая домой, первым делом по докторской привычке он мыл руки, а потом устремлялся к Женьке, сменяя мою маму.
Как они с моей девчонкой понимали друг друга! Женька моя по всем приметам обещала стать страшной болтушкой, явно не в меня, и гулила без конца, с множеством интонаций. Сережа говорил с ней «на равных». Тащил ее вечером в ванную и в ответ на недовольное ворчание говорил: «Согласен, произвол. Целиком и полностью поддерживаю вас в ваших справедливых требованиях. Свободу! Свободу карапузам…» «Высокий штиль», незнакомые слова, почтительная интонация приводили мою кроху в полное замешательство. Бабушка-то с ней большей частью сюсюкала…
…После купанья, когда он расхаживал по комнате с засыпающей Женькой на руках, убаюкивая ее, я сказала: «Да положи уже, она сейчас быстро уснет, сурок мой толстый».
– Не лишай меня этого удовольствия, Ася, – как-то очень серьезно ответил Сережа.
Я помолчала и решилась:
– Я никогда не спрашивала, Сережа… Почему у вас нет детей? Из-за Женьки?
Спросила и пожалела.
– Не говори, если не хочешь.
Сережа кивнул и грустно улыбнулся:
– Знаешь, Женька – очень женщина. Чтобы не грузить тебя терминами, у нее переизбыток женских гормонов.
Помолчал и добавил:
– Привет из Чернобыля… А иногда я думаю, что все это из-за меня.
Я подняла брови и отвела глаза, а он продолжал:
– Мне кажется, это наказание за то, что я вмешиваюсь в промысел Божий.
Еще помолчал.
– Но даже если Бог решил, что дитя должно умереть, а я могу этому помешать, я ведь все равно буду это делать.
Мне так хотелось обнять его в эту минуту. В этом порыве не было ничего чувственного, поэтому я подошла и обняла его – его и Женьку…
* * *
Когда Сережин семинар кончился, он уехал. Я не провожала его, у нас в банке не принято отпрашиваться. Он позвонил с вокзала: «Поцелуй Женьку». Я ответила: «И ты Женьку поцелуй».
А вечером моя девочка, кажется, ждала его. Или мне показалось?
Когда маленькая заснула, раздался телефонный звонок. Я успела схватить трубку, прежде чем он повторился. Голос в трубке заставил меня окончательно вернуться в реальность.
– Ася, это я.
Сашин голос был почти нежен.
– А это я. Что случилось, папочка? Почему звонишь так поздно? Мы спим…
– Прости. Поговори со мной, Осенька.
Господи, да за что же мне все эти испытания? Ведь сейчас мой неверный супруг начнет жаловаться мне на свою незадавшуюся жизнь…
– Саша, ты поссорился со своей любимой девушкой?
– Ой, это не ты со мной говоришь, Ася. Ты ведь никогда не была язвой.
– Ладно, извини. Просто мне иногда тоже хочется поплакаться, да некогда и некому.
– Неужели некому?
Что это, попытка ревности? Нет, скорее желание любой ценой продолжить разговор. В самом деле, детская жестокость: «ну, поиграй со мной. Тебе больно? А мне скучно…»
– Саша, если хочешь, приезжай завтра. Поговорим, Женьку посмотришь, она уже такая большая девица…
Видит Бог, унижаюсь не ради себя. В ответ – пауза, а потом:
– Ася, я, кажется, встретил женщину, которой я нужен. Ледяной душ.
– Совет да любовь, – выговорила я наконец. Потом, посовещавшись с собой пару секунд, добавила:
– А знаешь, мой дорогой, по-моему, на свете есть только две женщины, которым ты действительно нужен такой, какой есть, – это твоя мама и дочь. Так что не строй иллюзий.
Оглохнув от собственного свистящего шепота, я и не услышала, что в трубке раздаются короткие гудки. Интересно, давно? Отбой. Есть в этом что-то символичное…
* * *
Женька приехала как всегда экспромтом. Невеселый питерский февраль, пронизывающий ветер с Финского залива… Выпили по рюмочке по случаю недавно оформленного развода. Маленькое солнышко бегало между нами, как могло, встревало в разговор. Хорошо, что ничего не понимало.
– Как это вас развели? Женька такая маленькая…
– А ему срочно надо. Он женится, выезжает в Канаду на ПМЖ.
– Ух ты! Эк его занесло…
– Новая жена бизнес-вумен, оч-чень решительная дама.
– А ты дала согласие на его выезд?
– Да с дорогой душой! Алименты мне его, сама понимаешь, погоды не делают. К Женьке он, по-моему, абсолютно равнодушен. Зато врать девчонке не надо. «Папа за границей» – и все ясно. Разве нет?
– Дама в возрасте, надо полагать?
– Не так чтоб очень. Лет на одиннадцать его старше. Свекровь говорит, что она отлично выглядит… В общем, я так понимаю, нашел себе «секунда мадре»…
– Что-что?
– Ах, да, ты же не смотришь сериалы. «Вторая мама», значит. То, что ему нужно.
Помолчали.
– А ты себе что-нибудь думаешь насчет личной жизни?
– Женька, это мое основное занятие.
– Нет, правда, тебе ж не двести лет, в самом деле!
– Брось, Женя. Я же не Козьма Прутков. Я хочу быть счастливой, но этого мало.
– Да я в жизни не поверю, что такая женщина никому не нужна! Посмотри по сторонам внимательно! И отходи, оттаивай…
– Не сезон, – хмуро отшутилась я, но разве от Женьки отобьешься!..
– Зайду-ка я к тебе в офис, гляну наметанным глазом, нет ли достойных?
Шутки шутками, а в офис она и правда заявилась. Пришлось представить ее коллегам. С ума сойти, она не нашла ничего лучшего, как стать клиентом нашего банка!
К счастью, с языками у Женьки всегда была напряженка, иначе месье Рошфор, заведующий департаментом, и вовсе ошалел бы от изящной, как француженка, Женьки. Я сдержанно переводила их воркотню, пока месье Рошфор не предложил Женьке перейти к делу.
– Все, говори «эскузе муа, мерси, адье» и пошли к выходу, – шепнула я ей. Но куда там!
– Авек плезир, – улыбнулась не мне вконец разрезвившаяся Женька, и Рошфор повел ее к русскоговорящему клерку.
– Кошмар, – с непроницаемым выражением лица бесновалась я. – Авантюристка, кривляка, мотовка…
* * *
– Подожди, – смеялась вечером Женька, – на мои 300 долларов лет через десять проценты нарастут. Я вот про них забуду, а потом как найду. И вообще, ты себе не представляешь, как приятно сознавать, что у тебя есть валютный счет в «Лионском кредите».
А потом добавила:
– А глаз-то и правда не на кого положить.
– Кстати, это у нас вообще не поощряется, еще и с работы можно вылететь.
– Да ну?
– Запросто.
– Значит, нужно искать в других местах. Надо же, у меня на работе мужиков – кишмя кишит, а тут у вас… Ты в театре давно была?
– Жень, не смеши меня. Это ты давно не была в театре. Самые интеллигентные люди, которые ходят в театр, – это актеры. Иностранцев я в расчет не беру… И вообще, Женька, хватит. Ты еще в ресторан мне предложи сходить…
– Не самая плохая идея, если задуматься.
– О, нет! Даже если я с кавалером, в ресторане я себя всегда чувствую десертом!
– Аська, если ты десерт, то лимонный.
– Я тебя тоже очень люблю. Вы с моей мамой как сговорились: «лимон, лимон».
– Ладно, киви.
Женька сделала мечтательное выражение лица и произнесла с таинственной интонацией:
– Анна, ты знаешь, как посвящают в буддийских монахов маленьких мальчиков?
– Евгения, я не маленький буддийский монах.
– Я от природы наблюдательна. Их запускают в большую темную комнату с завязанными глазами и говорят: выход есть.
Разве я могла объяснить моей милой подруге, что из мало освещенной комнаты, в которой я поселилась, есть много выходов. Дело лишь в том, что я не хочу ее покидать.
Назавтра я провожала ее на поезд. Тема моего вселенского одиночества так взволновала мою хорошую Женьку, что она не могла удержаться от еще одного напутствия:
– Как хочешь, Ася, но любовника завести надо. У тебя глаза, как у сфинкса. Не потому, что загадочные, а потому, что ему восемьсот лет.
Я не могу ей врать, не научилась.
– Женя, у меня любовника нет, но я люблю. И зачем я ей это сказала?
И в этот момент проводница заглянула в купе и профессиональным голосом сказала:
– Провожающие, покиньте вагон…
Хорошо, что нет времени для объяснений. Хорошо, что Женька не спросила, кого же это я люблю…
Вот только почему она так грустно улыбнулась мне на прощанье из окна вагона?
* * *
Повседневность – это лучшее средство от неразделенной любви. Повседневность как необходимость производить какие-то обязательные, по возможности максимально приближенные к быту действия. Конечно, это рецепт годится не для всех. Но у нас, Тельцов, самой природой ориентированных на созидание, получается переключаться. Это, кажется, называется сублимацией: кто-то пишет стихи, кто-то вышивает, кто-то закармливает близких выпечкой. Одна моя подруга стирает. Да, что-то в этом есть: загрузить машину, задать программу, с облегчением услышать успокаивающее урчание. Потом – девятьсот оборотов барабана, и можно доставать чистое белье. Развешивать его, вдыхать запах свежести и понимать – все меняется к лучшему. Еще немного – и от любви не останется даже следа, только легкий аромат.
Я углубилась в переводы. Замечательно помогало отвлекаться от мыслей о двоих мужчинах – моем «будущем бывшем» муже и о Сереже, конечно. Денежки мне платили небольшие, но довольно регулярные: заказчики просто передавали меня по цепочке. Спасибо им – это было очень вовремя во всех отношениях.
Я переводила какие-то технические инструкции, выполняла сессионные задания для заочников, а однажды мне попался увлекательный научный труд на тему воспитания детей в неполных семьях. Английские педагоги детально исследовали психологию девочки, растущей в отсутствие отца. Несмотря на то, что речь шла об английских реалиях и менталитете, прогнозы меня не порадовали. Но обратной дороги, похоже, не было.
Саша время от времени возникал в разговорах с друзьями. Сережа, разумеется, тоже шел ровным фоном наших бесед с Женькой. И так уж получалось, что избавиться – в мыслях, конечно, – от обоих главных мужчин моей жизни я никак не могла.
И я все думала, все анализировала, все искала ответы, все задавала сама себе риторические вопросы…
Как-то раз, кажется, целую вечность назад, я увязалась за Сашей: посмотреть на «потешные бои», увидеть, что же представляет собой его увлечение, воплощенное в жизнь? Не раскрашенные оловянные солдатики, неподвижно стоящие по разным сторонам кукольных редутов, а молодые мужчины, программисты и системотехники, менеджеры и банкиры, наряженные в форму солдат 1812 года, вполне всерьез бегающие друг за другом по полю со штыками наперевес. Я не позволила себе ни единой нотки иронии, когда просилась «в поход». Просто сказала: «Возьми меня с собой, мне очень интересно». И получила ответ, от которого зашлась в долгом хихиканье: «Современников не пускаем». Я, значит, современница, а вы кто – классики, что ли?
Ладно, потом как-то нашли компромисс: у Джозефины (жены одного из Сашиных друзей) можно попросить дамский наряд в стиле Наташи Ростовой, только не на балу, а на охоте… Джозефина (в просторечии – Наташа Карасева) в ту пору ждала ребенка, и хотя завышенная талия и объемный складчатый лиф наряда могли скрыть ее интересное положение от посторонних глаз, женщина предпочитала о баталиях и «викториях» мужа узнавать в пересказе.
Я примерила Наташино платье и окончательно поняла, что никогда не смогу разделить увлечение моего мужа.
Из зеркала на меня глядела типичная «современница», нацепившая маскарадный костюм и шляпу «каретой». Я прошлась по комнате, пошуршала подолом по паркету, но ничто не всколыхнулось в моей непроходимо «современной» душе – даже в качестве игры мне это не понравилось.
Однако когда мы прибыли на место, я была поражена обилием женских персонажей в этой игре: там были дамы, маркитантки и даже одна гусар-девица. Гусар-девица была, вероятно, очень состоятельна: у нее была своя лошадь.
Какое-то время мы наблюдали за баталией, потом она закончилась безоговорочной победой «наших» (хотя бывало и иначе: историческую правду члены клуба «реконструировали» на совесть!), и все направились на «бивуак».
Реконструировать скромную походную трапезу русских солдат, к счастью, никто не догадался, и все дружно занялись приготовлением шашлыков… Впрочем, как знать: а может, и герои 1812 года так же накалывали на кончики своих сабель мясо, жарили его на углях, а потом запивали красным сухим вином?
А потом «солдаты» и «офицеры» пели. Замечательно пели. И когда один молодой человек запел романс собственного сочинения о том, как он был, к сожалению, женат, но всей душой любил тоже несвободную женщину, глаза мои затуманились от слез. Саша сидел рядом, очень красивый в своей очень красивой форме. Он заметил, что я прослезилась, и нежно обнял меня за плечи. Наверное, решил, что я растрогана обстановкой, что мне все так нравится, что удержаться от слез я не смогла. А я плакала совсем не поэтому…
Одна молодая женщина, тоже чья-то жена, спросила меня вполголоса: «А почему Саша зовет вас Осенька? Очень похоже на осу…» Я объяснила, почему. И твердо про себя решила: «жужжать» о том, что меня совсем не увлекло главное хобби мужа, не буду.
А может, стоило чуть-чуть увлечься? Стать к нему ближе, сохранить семью, забыть… или нет, не думать о другом?
В общем, если раскладывать все по полочкам, гадать, в какой момент мной была совершена ошибка, то очень многие из моих поступков окажутся неправильными. И многое можно было бы исправить, кроме единственного факта, который изменить я была бы не в силах – существование Сережи, мужа моей подруги Женьки. И об этот факт, как о неприступный русский редут, разбивались все мои «а если бы то», «а если бы так».
Моя маленькая дочь, к сожалению, еще не могла быть мне собеседницей, да я и не смогла бы с ней обсуждать свои личные проблемы. Мама тоже сразу «закрывала» тему, когда речь шла о моей несложившейся семейной жизни. Саша был ей странен с самого начала: она реалистка, у нее на все прямой и ясный взгляд, стройная система житейских ценностей. Жаль, что не могу похвастаться тем же.
«Грузить» подругу я тоже не хотела. Если уж она с полу слова способна меня понять, то открытым текстом ей ничего говорить точно не нужно…
Да и хороша бы я была со своими жалобами на несчастную судьбу!..
И я сидела за переводами и на всех доступных моему сознанию языках думала об одном и том же.
Иногда я пускала свои мысли в другое русло. Я не маленькая девочка, и вполне допускаю, что Женьке тоже было что рассказать мне о Сереже. Трудная работа, непростой характер, вокруг него всегда так много женщин: коллеги-врачи, медсестры, благодарные матери маленьких пациентов… Может быть, и Женька порой терзалась ревностью, муками недоверия, обидой на невнимание? Не припомню.
Любовь прощает все, а нелюбовь все осуждает. Вот как все просто.
Что бы ни делал человек, которого ты любишь, ты сама – за него, за весь свет! – его оправдаешь.
А нелюбимому можно было бы и в лепешку разбиться, и это была бы… разбитая лепешка.
Чьи-то стихи, знакомые с юности, странным рефреном звучали у меня в мозгу на фоне французских технических терминов и немецких грамматических упражнений: «…Я выдумаю цирковые трюки, и сказочки, понятные для всех, чтобы казалось: лампа не потухла, чтобы, по крайней мере, хоть дразня, резиновая розовая кукла с твоим лицом шла около меня».
Вот Саша, так похожий на мою любовь, и стал такой куклой для меня. И я наигралась? Плохое слово, так похожее на правду. И это значит, я не права.
Но повседневность затягивает раны. И маленькая девочка, растущая рядом и, несмотря ни на что, радующая каждым шагом и каждым движением, становится твоим главным врачом. Главным…
Какие быстрые года после тридцати! Вот уже моя Женька рассказывает мне о новостях в детском саду, вот моя мама, свежеиспеченная пенсионерка, свободная от других проблем, кроме меня, расспрашивает, как маленькую, как я себя вела на работе.
– Не вагоны же ты у себя в банке разгружаешь, в самом деле. До отпуска ведь не дотянешь, упадешь где-нибудь. Я уже забыла, как ты улыбаешься.
– Не обращай внимания. Сегодня к шефу важные гости приходили, очень много улыбалась. Один немец заладил: «Лореляй, Лореляй…» А я ему: «Данке…» Чуть дождалась, когда в машину села. Сразу – рот подковкой. Так и отдыхала всю дорогу до самого дома.
– Чего в Минск не съездишь? Не зовут? Когда ты Женьку последний раз видела?
– Видела давно, а слышала в среду.
– Как они там?
– Кошку завели. Басей назвали, говорят, в честь меня – она дымчатая, глазастая.
Я все-таки дотянула до отпуска, вопреки мрачным прогнозам моей мамы, и, взяв с собой дочку, поехала в Минск на пару дней.
Нас встретил Сережа. Моя коммуникабельная дочь, конечно, не помнила его, но познакомилась вновь с удовольствием. Не очень-то привычная к мужскому обществу, вела себя отменно. Видимо, решив поразить нового дядю воспитанностью, важно спросила:
– Как ваше здоровье?
Сережа от неожиданности серьезно ответил:
– Благодарю, не жалуюсь.
Я засмеялась:
– Ну что, доктор, дождался?
– А вы-то все хорошеете, Анна Дмитриевна.
– Да, стараюсь. Хочу, чтобы через десять лет меня принимали за Женькину сестру.
– Что мама, не скучает на пенсии?
– Нет, мы разве дадим поскучать. Мне кажется, она даже помолодела. По крайней мере, с новой силой чувствует себя моей мамой. Бабушкой-то она давно стала, а вот мамой – как в первый раз. А я иногда чувствую себя девочкой, ста-аренькой такой девочкой…
– Женькины старики тоже на пенсии, так у нее обратная картина: она заявляет, что у нее теперь трое детей. Третий – я, ты поняла, да?
Привычная смена станций коротенького минского метро, десять минут, и вот уже «калi ласка, пакiньце вагоны…» Открыла Женька с кошкой на плече.
– Знакомьтесь, кто еще не знаком.
Женька-маленькая, конечно, потянулась к кошке.
Я обняла Женьку, почувствовав вдруг, как она похудела. Но в тот момент я этому значения не придала.
Стол уже был накрыт, весело расселись по местам. Я с тихой радостью наблюдала, как общаются «старые друзья» – Сережа и моя девочка. О чем они говорили вполголоса на кухне? Что обсуждали возле телевизора? Почему вместе пошли в магазин? Им было явно хорошо вместе, этой парочке, несмотря на то, что Сережу вполне можно было бы измерять в «Женьках»: две с половиной Женьки…
– Жень, ты чего такая бледная? Или мне кажется?
– Не кажется, Ася.
Что-то в ее голосе меня насторожило.
– Что случилось, Женька?
– Заболела я, Ася.
– Как?
– Плохо заболела.
«Не буду грузить тебя терминологией…» – вспомнила я.
– Подожди, подожди, что значит плохо?!
– Хорошо вообще редко болеют. А я – совсем плохо.
Как-то очень холодно стало – от горла до пяток, только кровь забилась в висках…
– Ты скажешь мне что-нибудь или нет?
Женька молча покачала головой.
Мы всегда болели одними и теми же болезнями, это было даже странно – ведь мы не близнецы… Помню, в восьмом классе половину зимних каникул провалялись в больнице с почками: лежа на снегу, смотрели, две здоровенные дурищи, на звезды. Недолечили, видно, до конца ни ее, ни меня, потому что время от времени почки давали о себе знать.
Я на нервной почве маялась желудком, и Женька тоже жаловалась на гастрит. В общем, все это было переживаемо. О «плохом» как-то не думалось. Женька, Женька, моя легкая, веселая, моя жизнерадостная Женька…
– Анна, не плачь, мои похороны не завтра.
– Ты еще ерничаешь…
– А что ты предлагаешь мне делать? Ну что?
– Неужели нельзя совсем ничего сделать? Хоть попытаться?
– Можно. Можно отодвинуть дату, так сказать, недели на две.
– Невозможно с тобой разговаривать. Как ты можешь шутить еще на эту тему?
– По-твоему, я шучу?
Какие, к черту, шутки. Я смотрела на нее во все глаза. Нет, нет, не может быть! Женька, это же моя прежняя Женька, только бледноватая, в самом деле, и худенькая.
– Ася, ты помнишь, я была у тебя в банке? Француз этот, с литературной фамилией…
– Скорее, с гастрономической… Ну и что?
– У меня там открыт счет… Я завелась с пол-оборота:
– Ты что, уже завещание решила опубликовать?!
– Не кричи, послушай…
– Не собираюсь ничего выслушивать!
– Проценты, конечно, еще не наросли…
– Ты просто невозможна! Я сейчас тебя стукну!
– Самое время… Последний раз мы с тобой дрались лет в пять…
Смотри-ка ты, а я не помню… Спрашивать из-за чего, спустя три десятка лет, было глупо, но я и в самом деле не помнила.
– Неужели ты помнишь, Женька?
– А я, знаешь ли, боюсь боли. Я, кажется, все ссадины свои помню… Однажды Андрюшка Рубан треснул меня учебником по голове и побежал, а я – за ним, возле умывальника поскользнулась, как грохнусь… До сих пор помню.
Помолчала.
– Я боюсь боли, Ася.
– Я тоже, Женька.
«Мне будет больно, как тебе, моя родная. Мне будет еще больнее потом. А Сережа? Бедный мой Сережа?!»
– А Сережа знает, Женька?
– Знает. Наверное, он раньше меня понял, что что-то не то. Сделал у себя анализы, но к врачу не послал. Видно, поздно. Или бесполезно? Лечит сам: колет что-то. Заметила, как он постарел?
И тут вернулись из магазина Сережа и Женька. Сережа посмотрел на нас и понял, что я все знаю. Вздохнул, помог раздеться своей маленькой подружке, сказал:
– Иди-ка поиграй с Баськой, я покурю.
– Курить некрасиво, – заявила мелкая Женька.
– Не может быть. Это у вас в садике так считают? – грустновато пошутил Сережа.
– Так мама говорит, – не унималась девчонка.
– Если мама, тогда согласен, – но все равно пошел на лестничную площадку.
Постояв между нами, повертев головкой, глядя то на меня, то на Женьку, моя, в общем-то, смышленая дочь чинно удалилась с кухни.
– Ася, без завещания все-таки не обойтись.
– Послушай, меня совершенно не волнуют имущественные вопросы!
– Не поверишь, меня тоже. Но я не тебе хочу кое-что оставить, а Женьке.
Я уже рыдала, не скрываясь. В соседней комнате громко играла музыка – моя Женька ловко управлялась с аппаратурой…
– Я оставила деньги под пароль на предъявителя. В этом году ты их, конечно, не снимешь. Позже, когда поймешь, что уже можешь…
Я даже плакать перестала.
– Женя, что ты такое говоришь? Какой пароль, какие деньги? Так и вижу себя, бегущую снимать твои проценты!
– Пароль простой…
Женька тяжело вздохнула, будто ей не хватает воздуха. Вот сейчас было особенно видно, что она больна. И все же Женька не была бы Женькой!..
– Попробуй отгадать!
– Тройка, семерка, туз… – полусмеясь, полуплача выговорила я.
– Нет. Не отгадала.
Женька отошла к окну, долго-долго смотрела в сгущающиеся сумерки.
– Сережа.
Она произнесла это так тихо, так нежно, как будто позвала. Я кинулась к ней, обняла за плечи, она, такая маленькая, спрятала у меня голову на груди…
А он как будто услышал этот тихий голос, вошел на кухню. Господи, неужели у него и раньше были такие седые виски?
* * *
Женьки не стало через несколько месяцев.
Незадолго до этого она еще несколько раз звонила мне, но ни разу не пригласила приехать.
– Не хочу, чтобы ты меня видела такой.
– Какой, Женька?
– Я похожа на гербарий.
– Все шутишь…
– Может, потому еще и жива?…
Болезнь, конечно, давала о себе знать. Прежней веселости, казалось, неистребимой, уже не было. Но и обозлиться на весь свет из-за несправедливости, которая приключилась именно с ней, Женька не смогла.
Однажды позвонила на работу.
– Знаю, что ты не позволишь себе плакать на работе, потому и звоню…
– Плевать я ни на кого не хотела.
– Какая ты грубая бываешь, неженственная. Ася, я не хочу, чтобы ты приезжала, ну, потом, когда…
– Женя, разве это можно обсуждать вот так?!
– Я что, напоминаю тебе Берлиоза?
– Какого еще Берлиоза?!!
Она смеется. Смейся, Женька, посмейся еще…
– Да из «Мастера и Маргариты», ты что, не помнишь?… После того памятного разговора о «завещании» она больше ни разу не заговаривала о моей личной жизни, не давала советов, вообще ни о чем не спрашивала. Да и могло ли быть по-другому? Ведь все было и так ясно. Тогда, в феврале, я сама призналась ей во всем. Разве нужно было что-то объяснять своему… почти отражению? Ее «завещание», в общем-то, было написано прямо под мою диктовку…
Чувствовала ли она, что в моей любви к ее мужу не было ни тени предательства по отношению к ней? Наверное, да.
Иначе… Да все было бы иначе.
* * *
Сережа не позвонил мне, но прислал телеграмму. Я аккуратно свернула ее и спрятала далеко-далеко, в толстый том Паустовского.
Слез не было. Я еще ничего не осознала до конца, но знала, что буду делать дальше. Я сначала поеду к Ксении, потом поставлю свечку в Спасе на Крови, закажу сорокоуст. Вечером посмотрю наши фотографии. А потом крепко-крепко обниму свою Женьку и попробую заснуть.
Я больше никогда не приеду в Минск. Я буду врать себе, что она жива, мы просто не можем встретиться – другой город, двенадцать часов поездом…
* * *
Еще год прошел незаметно. Когда в доме не по дням, а по часам растет непоседливая, своенравная девчонка, время летит стрелой.
Вот и Новый год наступает… В комнате светло от солнца, от снега за окном. Елку мы с Женькой наряжаем уже два дня – не спешим, растягиваем удовольствие. Но сего дня – 31 декабря, а нам еще надо приготовить подарки деду с бабушкой, Женькиным детсадовским подружкам.
– Что это, мама?
– Это бабушке кофточка. Нравится?
– Не очень. Колючая.
– Неженка ты какая! Это верблюжья шерсть, между прочим.
– А это что?
– А это – деду комплект спортивный. Пусть на лыжах ходит.
Задумалось мое «солнце». Перебирает вещички – то шапочку, то варежки потрогает.
– Мама, дай мне шарфик!
– Зачем он тебе, он мужской.
– Подарок подарю.
– Кому, Женька? Неужели папе? Папа далеко, пусть ему Санта Клаус дарит.
– Я знаю. Не папе.
– Кому тогда?
Пауза. «О, этот чистый взгляд…»
– Сереже.
– С которым на утреннике танцуешь?
– Ты что, забыла: в Минске Сережа…
«Господи, только бы не зареветь!»
Когда в дверь позвонили, ничего во мне не дрогнуло: маме самое время придти.
– Бабушка, бабушка! – заскакала моя егоза.
– Деда Мороза вызывали? – на пороге стоял Сережа. В дубленке, но без шарфа!
Женька первая бросилась ему на шею, а я не могла пошевелиться.
– Женька, как я соскучился! – сказал мой любимый, глядя мне в глаза.
Девчонка прыгала, не унималась:
– Сережа, Сережа приехал!
– Осторожно, Женька, тут игрушки…
Первое, что я увидела, открыв коробку, – был сверкающий красный шарик. Очень красивый, очень хрупкий…
Ветка
«У нее были очень красивые глаза и губы». В который раз он подумал так о женщине, сидевшей за крайним столиком у окна. Самое интересное, что эта фраза в его воображении возникала как… будущее воспоминание о незнакомке. «Вот, – думал он, – вернусь в Минск и буду вспоминать, что у нее были очень красивые глаза и губы. Не когда-то были, а именно сейчас, вот этой ранней зимой, в этом маленьком лесном санатории, собравшем под своей крышей всего на несколько дней всего несколько десятков отдыхающих…»
* * *
А у нее и в самом деле всегда были очень красивые карие глаза и полные, четкого рисунка, темно-розовые губы. И в юности, и в молодости, и потом, и теперь. Что-то, конечно, перестало быть красивым, что-то – просто не было очевидным, а вот эта красота – осталась.
Она нечасто задумывалась о своей красоте: всегда были мысли поважнее и заботы посерьезнее. Так, иногда… когда смотрела на взрослую дочь, так много и так мало унаследовавшую от нее. Когда смотрела в зеркало, думалось почему-то совсем о другом.
Она давно заметила, что человек, сидящий за столиком в компании немолодой супружеской пары и дамы (именно дамы…) неопределенного возраста украдкой наблюдает за ней. С привычной иронией отметила для себя его интерес и тут же, про себя, откомментировала: «Акела промахнулся», хотя мужчина шифровался, как боец невидимого фронта, и, кроме осторожных скользящих взглядов, ничем свое внимание к ней не выдавал.
Послеобеденные прогулки по лесу сразу стали для нее приятной привычкой. В отличие от большинства женщин, предпочитавших гулять парами и при этом болтать без умолку, она всегда гуляла одна. Думала обо всем и ни о чем, погружалась в воспоминания, копила впечатления, даже немножко заочно делилась мыслями с теми, кто ее ждал в Минске.
Доходила до конца широкой тропки-аллеи, поднимала голову и смотрела на невысокую, но раскидистую сосну, выросшую на этой дорожке. Люди протоптали две окружные, вокруг кряжистого ствола, тропинки, и путь продолжался дальше, дальше… Где-то там, минутах в двадцати ходьбы, было лесное озеро. Она не ходила туда: уж очень ей понравилась сосна, ее пышные тяжелые ветки, в каком-то приветственном жесте широко раскинутые навстречу идущим. Одна из ветвей кроны вообще походила на поднятую руку с растопыренными пушистыми пальцами: «Привет!.. Пока!..»
Ночью выпал снег. Она открыла глаза в уже привычный для нее «час волка» – бессонница, не отпускающая даже на отдыхе… Она вздохнула: все, теперь с трех до шести, как по расписанию, она не сомкнет глаз. И тут же заметила: за окном было непривычно светло для этого времени суток. «Снег», – поняла она и, кажется, даже почувствовала свежий уличный морозный воздух. И какая-то детская, запрыгавшая в груди радость заставила ее вздохнуть глубоко-глубоко. Спустя несколько минут она спала, ровно дыша, с немного приподнятыми уголками губ, которые так понравились седеющему сыну Сирано де Бержерака и миссис Хиггинс, как она про себя окрестила внимательного мужчину за соседним столиком.
Ее любимую ветку тоже укутало снегом, и теперь она уже не была такой приподнятой – ни по расположению, ни по настроению. Снег продолжал падать, и ветка почти на глазах провисала все ниже, ниже.
«Что за дурацкая привычка – всему придавать значение, везде искать знаки? Это просто дерево, просто ветка, просто снег, а уж никак не символ моей жизни… Мне вовсе не тяжелее, чем всем остальным, и моя ноша – это груз, который несут все мои ровесницы. Хватит, все нормально. А будет… да прекрасно все будет! Однажды…»
Она посмотрела вверх, постояла несколько минут, вдыхая морозно-кислородный коктейль, и собралась идти обратно: пора было на процедуры, а потом – в бассейн.
Волшебство, если задуматься: в эту зимнюю пору окунаться в подогретую минералку, ложиться на безмятежную гладь и воображать себя то дельфином, то медузой, то русалкой, то субмариной… Благодать! А если еще и прошептать вполголоса: «Сестрица-водица, давай водиться», а потом попросить у воды смыть какую-нибудь из многочисленных печалей, то так и будет. Все эти приятные, уютные, так замечательно праздные мысли промелькнули в мозгу ярким калейдоскопом картинок-впечатлений-предвкушений. Пора было идти воплощать все эти фантазии наяву, но…
На тропинке стоял и улыбался мистер Хиггинс де Бержерак, длинноносый, умноглазый и чуточку чопорный даже в спортивной куртке и в лыжной шапочке с помпоном.
– Мы, вижу, выбрали один маршрут. Добрый день, – слегка поклонился он в знак приветствия.
Она улыбнулась своей особой улыбкой, которая обычно пригождалась ей, когда нужно было соблюсти вежливость и подчеркнуть отсутствие интереса:
– Терренкур тут небогатый. Здравствуйте, – и, не развивая тему, двинулась в обратный путь. И в этот момент очень кстати раздался рингтон телефона. Едва заметно кивнув джентльмену, она уже говорила в трубку: – Да, Олик, слушаю вас. Как там наши дела…
Сотрудница, с которой она работала уже почти четверть века, а потому именовавшаяся уменьшительно-ласкательно, начала рассказывать как дела «на материке». Остановилась на текучке, плавно перешла на новости и сплетни, мельком справилась о самочувствии и спросила, есть ли на кого глаз положить. В ответ на прерывающуюся смехом (сотрудница всегда охотно смеялась своим собственным шуткам и метким словечкам) тираду, она ответила:
– Природа тут замечательная – глаз отдыхает.
– Ага, – смекнула Олик, всегда умевшая по одной интонации уловить истинный смысл произнесенных слов, – значит, и взглянуть не на кого. Чудес не бывает.
– Да я, как бы, не за этим сюда…
– Да я догадываюсь, что не за этим. За этим надо в Хургаду летать или в Лепельский военный санаторий ездить. Так, спросила и спросила: чем черт не шутит!
Нечистого помяни, а он уж тут… Сдавленный «ох…» сзади заставил ее оглянуться. Мистер Хиггинс де Бержерак все еще стоял под ее любимой сосной, с головы до ног осыпанный снегом: охнувший рот был виден, а залепленные щеки и глаза – не очень…
– Ветка! – сказал он. – Снег обвалился… прямо на меня.
– Прямо на голову? Больно? – спросила она с улыбкой. И проговорила в трубку: – Олик, я перезвоню.
Мужчина стал отряхивать снег с шапки и отирать лицо ладонью:
– Да все в порядке…
И очень «кстати» спросил:
– Простите, как вас зовут?
Она произнесла свое мелодичное, немного карамельное имя, но не спросила, как зовут его. Он почему-то тоже не представился, а лишь повторил по слогам…
– Красивое имя, вам подходит. Будем знакомы…
«Все-таки снежком-то вас, видно, прибабахнуло: раз не сказали, как зовут, не будем мы знакомы…» – улыбнулась она едва заметно про себя, но кивнула и отправилась по намеченному маршруту к светящемуся нежно-голубыми окнами корпусу с бассейном. Освободившаяся от груза ветка снова по-дружески махала ей вслед зеленой пятерней.
* * *
Он и сам не мог понять, что так сильно привлекало его в этой женщине?
Наверное то, что, глядя на нее, хотелось задать ей множество вопросов, и на каждый получить подробный, обстоятельный ответ. Как ее зовут, он уже знал, а вот чем она занимается – даже предположить не мог. Вот ведь фокус – с его-то жизненным опытом! Нет, пожалуй, она могла быть врачом. Не хирургом, наверное, но терапевтом или педиатром – вполне. Или педагогом (да, педагогом, но ни в коем случае не учительницей). Музыкантом? Как вариант – писательницей. А может, министерским работником? Категорически не могла быть инженером, бухгалтером, экономистом, физиком, математиком. Физическим трудом тоже заниматься не могла – это очевидно. Значит, не повар, не ткачиха, не мотальщица, не фрезеровщица. Наверняка у нее было хорошее образование, может быть – ученая степень. В какой же области? Ладно.
Какие еще вопросы ему хотелось задать? В каком месяце она родилась? Это важно: гороскоп, зодиак… Какие любит цветы и цвета? Это тоже характеризует, он давно заметил… Есть ли у нее дети? Что она сейчас читает? Ее любимая книга? Мелодия? Как расположены линии у нее на ладони? Что может ее рассмешить? Он почему-то очень ясно представил, как она смеется – негромко, но звонко и искренне, со смешной гримаской, не задумываясь при этом о мимических морщинах.
«Старый дурак», – неожиданно подумал он сам про себя и улыбнулся: дураком он, конечно, не был, просто ему очень понравилась эта женщина, не произнесшая в его присутствии и десяти слов. Господи, да он в жизни не встречал человека, который так же умно, так обаятельно, так бархатно умел бы молчать!
Ему, преподавателю столичного вуза, по определению нравились умные немногословные люди. А у нее еще были очень красивые глаза и губы. Вот ведь как…
Срок его путевки истекал послезавтра.
* * *
Она не очень дружила с техникой, но тут сделала над собой усилие и внесла в программу своего мобильника некоторые коррективы. Теперь четыре самых важных абонента обозначались мелодией из фильма «Профессионал», а все остальные по-прежнему заливались поднадоевшим «Жаворонком». «Важных» звонков она ждала и немного побаивалась, «неважные» первое время с легким сердцем игнорировала – две недели могут обойтись и без нее…
Но без нее обходиться никак не хотели – ни «важные», ни «неважные». Это самую малость раздражало, но больше почему-то все-таки радовало, и игнорировать звонки она перестала.
Звонили по разным поводам.
Поздравляли с профессиональным праздником.
Советовались по работе.
Приглашали на мероприятия.
Требовали подтверждения явки.
Пытались взять блиц-интервью.
Сетовали на ее отсутствие в городе.
Интересовались, когда она вернется.
Намекали, что помнят о ее дне рождения.
Проявляли осведомленность в ее делах.
…Никто, конечно, не спросил, что она читает, какое время года или какие цветы предпочитает и что ее может рассмешить в данный момент…
* * *
Обеды в большом зале столовой становились все оживленнее день ото дня: многие уже перезнакомились, кое-кто подружился. Явных романов не наблюдалось, но взаимные симпатии были уже очевидны. И это было немного печально: у большинства «смена» подходила к концу.
Она смотрела по сторонам с безмятежностью инопланетянки или гостьи из далекого будущего: здешняя жизнь обтекала ее, как вода в волшебном бассейне, не оставляя никаких отчетливых следов.
Отдых был нужен ей как передышка – перед новым большим делом. Новым было даже не дело, а ее собственная роль в нем. Оно, это начинание, волновало и радовало куда больше, чем приближающийся день рожденья, чем наступающий Новый год. Оно затаенно искрилось в обозримом отдалении, от него исходила позитивная энергия, ровно и мощно подпитывающая ее издалека. Это было здорово: знать, что ее ждет такая работа, понимать, что все получится, должно получиться! Обещать самой себе подарок и быть уверенной, что подарок будет замечательным…
Она была вежливой и любезной с окружающими – по привычке, без малейшего усилия со своей стороны. Ни один вопрос, обращенный к ней, не остался без ответа. Она с первого раза запомнила имена-отчества всех, кто выразил желание ей представиться – это тоже была чисто профессиональная привычка: запоминать с первого раза. По общему мнению, она производила очень приятное впечатление, но ни дружить, ни кокетничать, ни просто болтать не стала ни с кем. Окружающие восприняли ее выбор с уважением: уж очень легко и элегантно она держала определенную своим выбором дистанцию, и поэтому вечерам отдыха с белыми танцами и караоке она предпочитала вечерние прогулки «к сосне».
Там, под ее неподвижной сенью так хорошо дышалось и думалось. Обо всем.
* * *
…Наломать цветущих веток гибискуса в вестибюле и сформировать скромный букетик, конечно, было бы чистой воды хулиганством, хотя цветы взять больше было негде. А хотелось, так хотелось что-то приобрести ей в подарок! Оказывается, именно в тот день, когда он должен вернуться в город, ей исполнится… Сколько ей может исполниться? Можно было уточнить, но зачем?
Он ходил по округе, с прикладным интересом поглядывая на дикорастущие элементы предполагаемой икебаны. Ничто не радовало, ничто не вписывалось в идею.
На ужин он пришел, все еще не пришедший к решению проблемы, что было ему, в общем, несвойственно. Выход должен быть, и он должен быть найден! Занял свое место, втайне обрадованный, что дама за его столом сделала умопомрачительной пышности прическу: из-за этого редута можно было украдкой наблюдать милую улыбку и умный взгляд глубоких карих глаз – и прощаться с ними.
* * *
В понедельник некоторых отдыхающих не досчитались: начался новый заезд, контингент сменился. Ранний автобус отвез их в ближайший райцентр, а дальше добираться домой надо было самостоятельно. Время в лесной обители шло незаметно, и ей вскоре предстояло то же самое.
Она заметила, что длинноносый интеллигент пропал, но никакой печали не почувствовала. Только улыбнулась, вспомнив, что накануне он немного напугал ее, неловко уронив раскладную металлическую стремянку, которую куда-то нес вместе с парнем из обслуживающего персонала. Лестница громыхнула в тот самый момент, когда она расчесывала перед зеркалом чуть влажные после бассейна волосы. Она оглянулась, поняла, в чем дело, и спокойно отправилась к себе. Двое с лестницей тоже продолжили свой путь. Парень из обслуги громко чихнул.
* * *
День рождения порадовал немалым количеством звонков и эсэмэсок, ярко-голубым небом, солнцем и довольно ощутимым морозом. За завтраком ее мило поздравили от лица работников санатория, поаплодировали и поулыбались отдыхающие…
После завтрака она вышла на свою тропу. Шла, засунув руки в рукава шубки, как если бы эти рукава были муфтой. Потом, посмотрев по сторонам, как девчонка, немножко пробежалась, чтобы согреться…
И вдруг остановилась как вкопанная. За ночь ее любимая сосна на перепутье каким-то чудом сбросила с себя весь снег и стояла совсем зеленая. А на «приветливой» ветке краснело пять небольших яблок! Они так забавно смотрелись рядом с круглыми шишечками, что она рассмеялась, в одно мгновение связав лесное чудо с загремевшей по кафелю вестибюля стремянкой.
Возвращалась в свой корпус раскрасневшаяся, помолодевшая, веселая, время от времени оглядываясь назад. Ни одно яблочко не оторвалось и не упало, все пять краснобоких шариков крепко держались за ветку. Они были настоящие…
«А Вы любили когда-нибудь?…»
На втором курсе университета мы, будущие журналисты, проходили производственную практику. Кто где, а мне повезло: меня взяли в отдел культуры «Советской Белоруссии». Возглавлял его в те годы замечательный журналист Роман Алексеевич Ерохин – интеллигентный, умнейший человек, признанный мастер слова, мэтр… Практика пошла мне на пользу: Роман Алексеевич умел учить. Не излагал, не давил авторитетом, а приглашал размышлять, задавать себе вопросы и делать выводы. Правил мои школярские материалы и одновременно «чистил» речь, приучал дисциплинировать мышление. Невероятно остроумный Ерохин умел метко, но необидно пошутить. Его уроки помню до сих пор…
Однажды я по заданию редакции съездила в командировку в районный центр: там очень хорошо, очень творчески работал местный Дом культуры. Привезла нечто (что мне самой показалось вполне удавшимся очерком…), положила на стол Роману Алексеевичу. Тот принялся внимательно читать. Дочитал до конца. Не спеша снял большие роговые очки, посмотрел на меня внимательно, как будто увидел впервые, и через долгую паузу спросил: «А вы любили когда-нибудь?»
Сначала я опешила, а уж потом стала смеяться. Засмеялся и он: понял, что я поняла, и поняла правильно… Так сухо, так холодно и равнодушно было изложено на бумаге все увиденное мною в скромном Доме культуры небольшого райцентра, что впору было усомниться, способна ли я испытывать простые человеческие чувства…
С тех пор этот вопрос я задаю себе всегда, когда пишу статью, рассказ, повесть, сценарий. Чтобы никто, кому на глаза попадутся мои строки, не подумал, что я не умею любить.
Умею! И люблю! Профессию, которая полна сюрпризов, как мешок Деда Мороза, – тут тебе и интересные встречи, и яркие впечатления, и разнообразные эмоции: я работаю в журнале «На экранах», посвященном кинематографу, и этим все сказано.
Как я перешла от журналистики к беллетристике?
Это был 2000 год. Министерство культуры, Союз кинематографистов Беларуси и киностудия «Беларусьфильм» объявили конкурс на лучший сценарий. И на спор (буквально! Поспорили на глазированный сырок…) с главным редактором журнала «На экранах», Людмилой Ивановной Перегудовой, с которой работаю вместе уже четверть века, я написала сценарий под названием «Сверкающий красный шарик». На тот момент это был не сценарий, а, как оценило беспристрастное жюри, литературный материал. Но его отметили дипломом. Да, мой скромненький диплом тогда прошел почти незамеченным на фоне остальных сценариев. Однако экран впоследствии увидел только мой «литературный материал». Снятый на его основе фильм «Подружка Осень» стал во многом первым. Мой первый шаг в кино. Первая совместная постановка с российской студией «Позитив ТВ». Первая коммерческая ласточка на «Беларусь-фильме»: первый проект, который очень быстро окупился и принес реальную прибыль киностудии.
Маленький четырехсерийный фильм скромного формата. На белорусском телевидении его и сейчас, спустя столько лет, показывают и осенью, и на 8 марта.
Маленький «литературный материал» стал моим первым опытом в прозе: он по праву и открыл первый сборник моих повестей и рассказов «Подружка Осень», изданный Белорусским Домом печати.
…Говорят, если сумел хобби сделать своей профессией, половина счастья у тебя в жизни точно есть. Когда с удовольствием ходишь на работу, это огромная радость. Когда приходишь и знаешь, что тебя ждут люди, которых ты понимаешь, с которыми ты дружишь не только по долгу службы, но и по велению сердца! Я и над книгами, и над сценариями работаю так же – в удовольствие. Особенно активно – в августе, когда отпуск в редакции «На экранах». Я этот месяц называю «мой болдинский август», потому что в отпуске обычно занимаюсь своим хобби: пишу!..
У меня достаточно и профессиональных сценаристских наград, но все равно я настаиваю на том, что писательство – это хобби.
Вот, например, повесть «Тадж-Махал» писала «по заказу» моей лучшей подруги, которая живет в Санкт-Петербурге. Однажды она пожаловалась мне на усталость, на череду разочарований и обид и, чтобы преодолеть затянувшуюся «черную полосу», попросила написать «что-нибудь хорошее, для души».
Я писала, не торопясь, по одной главе, по две, и отправляла ей по электронной почте. А она читала это, как будто получая отрывки повести в разных номерах журнала, и давала читать сотрудницам. И в это время впервые «слава коснулась меня своим крылом»… Однажды подчиненная моей подруги спросила: «Марина Александровна, а вам прислали уже продолжение?» Марина ответила, что уже получила, но времени распечатать пока нет. «Давайте поменяемся: я дам вам на вечер свежий номер „Elle“, а повесть сейчас сама распечатаю», – попросила девушка. Читали «Тадж-Махал» всем офисом. Мне было необыкновенно приятно об этом узнать…
…Я журналист, работающий в специализированном журнале, который посвящен кино. Так получилось, что и написанная мною проза почти вся экранизирована. А кино – это страшная зараза. Оно затягивает и не отпускает.
Когда была премьера «Подружки Осени» на киностудии, я поняла, что меня так пленяет в этом деле. Когда придуманные тобой герои начинают жить своей жизнью, их судьба кого-то трогает до слез, их любят зрители…
В общем, я, наверное, все пишу именно с этой целью: приглашаю своих читателей любить то, что люблю сама. Поэтому пишу легко. Мук творчества не знаю. Хорошо это или плохо? Думаю, нет в этом ни достоинства, ни недостатка: я ведь не замахиваюсь на глобальные темы и не считаю себя «инженером человеческих душ». Пишу о том, что понятно любой женщине и ни одну из нас не оставит равнодушной: любовь, материнство, верность, измена. Женские радости и печали.
Каждая женская судьба таит в себе уникальный сюжет. И каждая – драматична. Помните: «Бог, не суди! – Ты не был Женщиной на земле!»
Я люблю писать о тех, кто мне дорог. Мои подруги узнают в героинях себя. Иногда я, не скрываясь, кладу в основу сюжетов судьбы моих близких. Это мой способ признаться им в любви.
Один молодой журналист как-то спросил у меня, не хотела бы я работать в Голливуде? Ход мыслей вполне понятен: Голливуд для большинства сценаристов – предел мечтаний. Но я не представляю и не хочу представлять себя в Голливуде. Возможно, это просто патриотизм, которого я, кстати говоря, ничуть не стесняюсь. Я действительно люблю нашу страну, мне понятны и близки наши люди. Мы живем одними проблемами и прекрасно понимаем друг друга. Мы впитали славянскую культуру и ментальность с молоком матери. И работать мне легче здесь. И успех у нашего зрителя вселяет мне уверенность в правильности моих художественных и нравственных ориентиров.
…У фильмов, снятых по моим сценариям, есть одна забавная особенность. Замечено не мной: по окончании съемочного периода в жизни женщин, напрямую связанных с этими картинами, происходили какие-то позитивные перемены – одни выходили замуж, у других рождались дети. Причем не только первенцы, но и долгожданные, что называется, выстраданные! Этот факт не раз был предметом разнообразных шуток в среде моих коллег…
А вдруг?… Так хочется верить, что таким же чудесным свойством обладают мои книжки. Хотя бы одна из них!..
Юлия Лешко



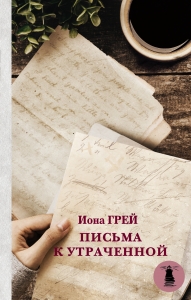
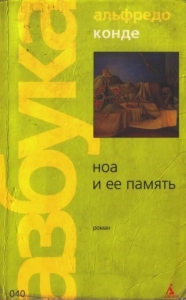
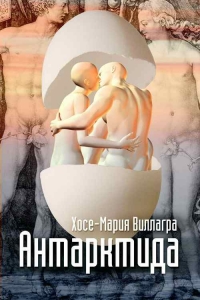

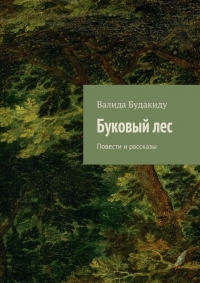



Комментарии к книге «Ангел в темноте», Юлия Альбертовна Лешко
Всего 0 комментариев