Анатолий Санжаровский Подкарпатская Русь (сборник)
Русиния
У каждого блудного сына
Есть память. Её не отнять.
Есть верба, берёзка, рябина,
Живая иль мёртвая мать,
И время, которое мчится,
И старость в положенный срок.
Но что в его сердце творится –
Не знают ни люди, ни Бог.
Владислав ВепринцевАнглияКакие бы берега река ни размыла,
всё равно она в старое русло возвращается.
За морем теплей, да дома милей.
Русинские пословицы1
Куда сердце летит, туда и око глядит.
В один день по две радости не живёт.
И не было у старухи Анны длинней и мучительней ночи.
Старуха не спала, даже не сомкнула и разу глаз. Лежала, вслушивалась в тишину за окном, вслушивалась в липкую тишину дороги. Она распрекрасно знала, что только завтра, ближе туда к полднику, отправится в Мукачево Торбиха к московскому поезду, что повезёт её, разъединую, на автобусе её же сын Василько, повезёт сразу, как только расает доярок по домам с обеденной дойки – про всё про то Василько сам вчера пел на все лады.
Василька старуха видела в своей хате не каждый ли божий вечер. Конечно, оно уже так, где коза, туда и козёл через тын глядит.
Подобрела, совсем выросла Маричка, стала вертёшка внученька роскошной, парадной невестой. Тот-то чья-то радость спеет…
Приворачивал Василько под тем благовидным предлогом, что вместе с Маричкой заочно учился на агронома, до четвёртого уже курса доскакали, и старуха говорила, что она тоже уже на четвёртом курсе, поскольку не пропустила ни одного вечера, когда Василько был с Маричкой в её, старухином синем свежепахнущем елью теремке, жившем одной своей половиной на Ивановой усадьбе, а другой – на Петровой. Молодые читали-решали там что, старуха вязала. Одних не спокидала. Как только Василько на порог, а старухи нету, срочно объявлялся вседеревенский розыск. Умучится, запарится, бывало, Иван, а неминуче доищется-таки её. Тут же погорячливый указ:
– Мамко! Вам на лекцию. Сами профессор дожидаются!
Со Вздвиженья – кафтан с шубой сдвинулся – зачастил Василько через день да каждый день, поёт, материал пошёл трудный, одному ума не дать.
И не поймёт старуха, то ли студент Василько, то ли ухаживатель, то ли то и то разом, только видит, переломила гордая Маричка своё серденько к парубку, полюбила тоже – до смерточки нравится он ей, у души лежит.
Глянулся и старой Василько, уважительный, видный с лица – из десятку не выбросишь! – вышла старуха из Ивановой воли, наладилась покидать молодых. Совестно на них тишком таращиться поверх спиц, как журавль в кувшин, не рука мимо воли своей лезть в чужую лавочку.
И стала ловить причины выскочить из хаты в вечер: услышит, проходит кто-то мимо, увеется, с час её нет – короче все новости не обговоришь; подал голос пёс, спешит утихомирить пса да заодно подразведать, кто ж это там не внушил ему симпатию.
– Василько, ты как повезёшь мамку на станцию, так подверни ко мне на минутушку.
Пообещал Василько.
Можно было не беспокоиться, слово у парубка верное. Ан нет. Нету веры самой себе, до звона в ушах вслушивается в тишину дороги; сначала отдалённо, глухо, потом всё ясней, нарастающе вьётся в душу монотонный пчелиный стон именно Василькова автобуса. Старуха не спутает его ни с каким другим.
Старуха всполошённо вскакивает, налётом летит к калитке в зелёных железных воротах, к груди припиная подушечками пальцев накинутую поверх плисовую фуфайку.
Но чёрная дорога пуста.
Нигде ни огонёшка.
Ни к старухе, ни от старухи.
Старуха, боясь, что вывалится кто из соседних или из своих же, из сыновых, школ (и у соседей, и у Петра, и у Ивана эва какие хоромины, старуха навеличивала их школами), застанет её, распатланную, в чёрно стекавшей до пят сорочке, в напахнутой на плечи фуфайке, неслышно утягивается назад; и калитку, и дверь в свою ладную хатку, где так поглянулось заниматься внучкам, старуха оставляет незапертыми на крючок: а вдруг он вернётся, а вдруг он нагрянет, а у нас всё закрыто, подумает, что его не ждут, вовсе не ждут, того и заперлись именно от него.
Легла старуха; уже через какие-то малые минуты привстав, снова надставила ухо – вслушивалась в жизнь дороги, и снова явственно слышала знакомый стон, и снова, одетая с испугу холодом – ах, прохлопала! – вскакивала.
За ночь она раз пять выбегала на дорогу, да понапрасну всё.
Зато утром, на первом свету, когда в спехе подоила и проводила в стадо свою Цватулю, как стала у плетня, так мёртво и простояла ровно до той поры, покуда в дальней ещё дали не завидела Васильков автобус.
Выскочила старуха на серёдку дороги, неистово растаращила в стороны плотные кулачины с махотку.
«Стойте! Стойте! – и молил, и требовал решительный её вид. Предупреждал: – А и не станете – не сойду!»
Натянула Торбиха губы.
Настороже сбычила на старуху глаза:
«Лихоманка тебя сгреби!»
Сколько Лизка Торбиха себя знала, её мать никогда не жаловала Голованей, обегала. Ни с самой Голованихой, ни с ребятами и разу не заговорила. Не забылось, не выпало из ума и то, что при всякой встрече Голованихины хлопцы с поклоном здоровались – старая молча отворачивалась. Почему? На Лизкины расспросы мать не отвечала.
Торбиха не сводила злых, как у волчицы на привязи, глаз с приближавшейся старухи Анны, похожей на крест. Смято пустила меж зубов:
– Накинь газку… Провей сторонкой…
– С чего бы это? – Василь зорковато покосился на мать, сидела сбоку на переднем сиденье. – Поищи дурачков в стране Буратино. А я обещал бабе Ане. Я и…
Василь нарочито выключил мотор. Подбился к обочине.
– Спасибко, Лизушка! Спасибко, родимка! – радостно запричитала старуха, дородная, крепкая, тряско подбегая к дверце, что встречно открывалась с подскрипом.
«Вот Маша деловая…»
Из-под набухлых бровей Торбиха пасмурно косилась на суетливую, шилом вертевшуюся старуху, из великой милости чуть поворотилась к той лицом:
– Баб! Ты с какого будешь году?
– Со старого, Лизушка. Со старого… Старе поповской собаки!
– Оно и видать. Совсем уже рухнула на кактус… Нетерпёжка тебя спалила. Ты чё ж выползла на саму на центру? А ну стопчи какой ветрогон колёсами. Чё тогда?
– А ничего тогда, Лизушечка, – отдыхиваясь, ласково пела старуха. – Совсемушко ничегошоньки… Беда – мой дом… Я, Лизочка… – старуха споткнулась, потерялась, виновато сложила тяжёлые руки на груди, – я… я… я и не знаю, с какого боку забежати с просьбушкой.
Розвалевая Торбиха, расплывшаяся на всё двухместное сиденье, – толщи она была безмерной, оттого, даром что имела своего «Жигулёнка», колыхалась одна в автобусе: ни в какой же легковик её не запихнёшь! – нарочито глубоко, до дна лёгких, вздохнула, так что от втягиваемого воздуха заходила оконная занавеска. Судорожно сглотнула слюну.
– Опять за рыбу гроши? И мне тоже – посмотри тамочки моего?
– Эге ж, Лизушка, посмотри, – горячечно зашептала старуха. – До краю жизни буду помнить, родимка!
Шатнулась от старухи Торбиха, поскучнела лицом.
Тихое озлобление легло в каменный охриплый голос:
– Ой, бабо! Ой, баламутка! Разболталась, як тещин язык… И где прикажешь смотреть? По тельвизеру? Иль, можь, в широком цветном кине?
– Высоки те пороги на наши ноги… Так высоко мой не залетит, – вслух подумала старуха. Помолчала. В осторожи подсказала: – А ты в жизни… А ты в людях поспытай.
– Толечко и осталось! Да народу ж кругом, как песку окиянского! Чё теперь, носись от окияна до окияна по всей неисходимой белой стыни, тереби всякого-каждого: не знали Ван Ваныча Голованя? Не видали – не пробегал тут часом Ван Ваныч Головань?.. Пустой, горевая душа твоя, номер. Пусто-ой!
Старуха расшибленно сникла.
Накаляясь, всё ересливей забирала Торбиха:
– Ей-бо, ума не взведу… Как репьях придорожный, хошь к кому припьёшься. Кто куда ни едь, ко всякому со своей нескладицей насыпаешься. А подумай ежли?!
– Я, Лизушка, и думаю, – неуверенно возразила старуха. – Живое живёт и думает… Как не думать? Не иголка эть. Чело-век!
– Да и Канадочка не стог. Шутка ли в деле… Где искать? Как искать? Ду-уренькая…
Торбиха хохотнула и раз, хохотнула и два, будто заводила смех, будто брала разгон для смеха.
Но, летуче глянув в глаза старухе, обиженно смотревшей исподлобья и готовой дать вспышку, натянуто замолчала.
Молчала и старуха, лишь одними глазами подгоняла: ну говори, говори, выговаривайся!
Торбиха покосилась на Василя, лежал лицом на скрещённых на руле руках, наклонилась к старухе. Доверительно спросила:
– Ой! Иль у тебя кисель в коробке? Дуренькая! Ну на коюшки искать-то?
Будто морозом одело старуху. Дрогнула от нежданно вывороченного вопроса. Словно отгоняя, отталкивая его, замахала обеими руками на Торбиху:
– Будет тебе колотить без пути. Да как это не искати? Человек же! Под годами. Ветхий уже, поди… Люди помирают и дома… А он? Гдей-то он? Може, хвороба взяла… Лежью лежит… Сытый ли? Чиста ль на ём рубаха? Ель кому подати воды? Узнать бы, где он, что с ним, я б тогда в покой вошла…
Торбиха осоловело вылупилась на старуху.
Спросила абы спросить:
– Будь живой, разь не дал бы вести?
– А може, оттуда и не дашь. Вон на неделе съявился один в Ракошине. Сорок два летушка ани слуху ани духу. А тут тебе р-раз и на! Выщелкнулся! Петро возил к нему на легковике. Полдня распытывала… Не… Не совстречал моего. Велика Канадонька… Расставалась я со своим… Иванко на руках, Петуся под серденьком во мне… Ох и времечко какое большое сошло-слилось… Тебя ж, как и Петра моего, ещё не было на свете, как разома уходили Ваши батьки в заморье…
– А мне уже полста набежало…
– Везучая… Повидаешься со своим… Тогда в соседях жили! Гляди, и там по-соседски держатся… Поспытай-таки, родимушка… Подобенки[1] его у меня нету. Зато, – старуха достала с груди фотографию, – я дам тебе эту. Тут Иван и Петро. Сыны. Иван – вылитый сам. Возьми, родимушка…
Торбиха милостиво приняла фотографию.
Фотография была тёплая.
2
Беда беду видит по следу.
Беда беду найдет, хоть и солнце зайдёт.
Бедность за море гонит.
В былые чёрные времена карпатского мужика, русина[2], иначе и не называли, как бедак, то есть бедняк, горький пан беды.
Своего у русина было столько поля, что заяц перескочит, а урожай и мышь унесёт. Пустую, яловую землю не накажешь. Как захочет, так и уродит.
Счастлив был русин, если в семье рос сын.
Русин – сын Руси!
Сын был всё. С сыном связывались все надежды на широкую долю. Не во всяком ли доме сын виделся в будущем этаким волшебником-богатырём, кто выведет на свет из долгого тёмного тоннеля заблудившийся бесконечный поезд со всеми – до воли! – богатствами, какие только и могла нарисовать больная фантазия постоянно голодного человека.
Русин перебивался с хлеба на воду, жил с дня на день, и силу ему давала вера, что вот растёт сын, что вот вырастет, вот поднимется сыновец и тогда непременно всё в доме переломится в райскую сторону: сходит сын за чужое море, добудет в дом спокойный богатый достаток.
Сына торопили с женитьбой, торопили с детьми. И обязательно парню-первенцу пристёгивали имя молодого, ещё не мудрого годами, отца.
Зачем?
И в знак уважения к молодому отцу.
И в знак памяти о молодом отце.
Уж кто-кто, а старики знали, что уезжавшие – люди часто пропащие. Раз пошёл человек – как камень в воду.
Мало кто возвращался из заморья. И коль забрала чужбина самого отца, так пускай хоть память про него живёт дома в имени сына.
У Ивана уже бегали четыре девочки-погодки.
Да только кто ж им рад?
– Вот что! – пригрозил Иван молодой жёнке, ходила в тяжести. – Притащишь пяту девку – в Боржаве вместях с тобой затоплю. Давай-но у дом хозяина. Парубка давай! Ты там уж постарайся как, что ли… Получше ищи сына. Сы – на!
Нашёлся хлопчик.
Родился, как в мешке: квёлый, хиловатый. Одно основанье при нём – кожа да кости.
Назвали Иваном.
В пожизненные долги втолкал всю родню Иван-старшой, а скопил-таки, сбил денег на дорогу; клялся-божился высылать оттуда всё до копья…
Уехал, так и потерялся без вестей в тех Штатах.
Ни писем, ни денег не гнал.
Затосковала мать со своими горюшатами, расхворалась, спала с тела, в нитку вытянулась. Болезнь и нужда прибрали её.
Сирот мал мала мень разобрали по одному дядья-тётки. Вошёл Иван-младшой в совершенство лет, принял брак, взял из такой же бедной фамилии, как и сам.
За Аннушкой положили в приданое клок земли, расплохонькую хатку-соломенку, тесную – пальца пропихать некуда. Ну да Бог-то с ней, с плохонькой. Ну да Бог-то с ней, с тесной. Главное, крыша над головой! Что ж ещё?
Аннушка оказалась не промах.
С первого же раза получай, Иван, Иванушку!
Расправил мужилка изношенные в работе худые плечишки. Подступается к Аннушке с беседой.
– Надобно жить так, чтобушко во всем порядок плясал. Вот дала сынака – порядок! Но на этом покуда порядок у нас и кончается. Разве, – трудно пригнул к выполированной в работе ладони клешню мизинец, – это порядок, что мы ни за граммочку ломаем на пана горб? Разве пан видит наши слёзы? От слёз он твердеет от наших, как берёза от воды. Разве, – загнул безымянный, – это порядок, что крыша не нонь-завтра накроет нас шапкой? Разве, – ещё загнул палец, – порядок, что при живых больших детях где-то беспризорником блукает по той Штатской земле нянько?[3] Ни долларика не пригнал. Ни центика от него не видели… Что он там, американских собак дражнит? Иль, можь, Богу работает[4]?
– Поняй посмотри… – обречённо прошептала Анна, видя, под что это бьёт Иван клин.
– И пойду, и пригоню блудня. Пол-улицы сымается… Вербовщик насказал такейсько!.. Пойду со всема. Коль на плечах добра голова, заработаю и на нову хату, и на хлеб, и к хлебу. А оттуда кружком в Штатскую землю. Живой не буду, а примчу нянька добирать последние часы дома.
На дорогу надо было восемь тысяч.
Капиталов таких молодые и во сне не держали. И сошлись на том, что тысячку подзаняли у еврея-магазинщика, умолили продать корову и тёлку – приходились на пять семей дядек и тётек, задешево пустили Аннушкино приданое – землю.
Земля та стоила воза денег, но ловить большие не стали, малыми бы кто подживил, абы на дорогу сбиться. И землю ту продали не насовсем, а так, на уговоре отдали: через год ежель не возвернём деньжанятки, твоя, пан, земля на век вековущий.
Расчуял пан наживу. Видит, некуда Голованям деваться, срезал и так с малой цены ещё полцены, подумал-подумал да снял ещё четверть, да ещё полчетверти…
Мало ему задарма взятой земли. С наказом толкается:
– Смотри, Иване, не утвори, как батько твой.
– Да Вы что! Не пособи мне в том Господь – сам не сделаю. Как можно спокинуть семью без ничего?
Смолчал пан. Только усмехнулся в душе, веря, всё польётся так, как ему и думалось. А думал пан про то, что всё в жизни повторяется. Качнулся вон дед ухватить заокеанский капиталец – укатали старого американские джорджики. Там и сгинул в безвестности. Ушёл батько – голосу не подаёт, не то что денег. Уцелился вот сынаш…
«А батько, доведался я стороной, без хаты там, без работы. Вскочил ты, парубоче, в батькову колею. Ты уже в той колее с первой минуты твоего начала… Не будь ты в той колее, да разве б я брал под условие у тебя землю?» – в довольстве млел пан, зная, не всё так деется, как в параграфе написано. Ради приличия посочувствовал. Вышло наигранно. В голосе у него лаку кипело выше глаз:
– И что вы вцепились в ту Америку, как блоха в собаку?
– А я и не иду в ту Америку! – ответил Иван. – Нету больше у нас в роду ей веры. В Канадоньку я…
– А-а-а… – неопределённо протянул пан, думая: «Там тоже ухватишь шилом патоки… Поменял ты, тюха-матюха, слепую кобылу на носатую».
Упылил Иван в апреле.
А уже в октябре подал, пригнал первые деньги.
Не слилось и года, откупили назад Аннушкино приданое, разошлись долгами с магазинщиком. И такой богатой почувствовала себя Анна, как курица на куче зерна.
А Иван всё слал долларики, всё слал письма, ласковые, скучливые. С месяца на месяц обещался вернуться насовсемушко и вдруг будто кто обрубил. Ни писем, ни денег.
Что хочешь, то и думай.
3
Печаль не солнце, а сушит.
К беде дорог много, а от беды и стёжки нет.
Торбиха вернулась!
– Торбиха вернулась!
Ни дать ни взять съехало село с ярмарки. В какую сторону ни пусти шаг, только и шуму, только и радости:
– Торбиха вернулась!
– Торбиха вернулась!!
– Торбиха вернулась!!!
Заслышала про то старуха Анна – сжалась, потерялась вся.
Страшно вдруг стало узнать давножданные вести, прижало уёрзнуть и от Торбихи, и от всяких новостей, добрых ли, худых ли.
Не выбирая тропки, выскочила на осенний огород, опустелый, растерзанный, скорбный.
От Торбихи упрятаться впросте, думала она чуть погодя.
А от молвы?
У притворенной, не закрытой на вертушок калитки, что вела в поле, старуха опустила тяжёлую руку на заострённую штакетину, невольно сронила с плеча усталый взгляд на огород.
Уныло сыпала предвечерняя изморось.
В лунки, оставшиеся после копки картошки, тяжело накидало дождя. Меж блюдец воды там, там, там – повсюду – мёртво, поверженно валялись вывороченные с корня, уже без шляпок, подсолнуховы будылья.
«Боже! Какой же тут Мамай бушевал?»
Сколько себя помнила, утрами-вечерами толклась она до пота в огороде. Что отщипывал в плату зажимистый принц Рудольф, у которого в придорожной харчевне и стряпала, и налаживала, подавала на стол, что отстёгивал потом колхоз – всё это мелко лилось лишь в приварок к тому единственно надёжному, что отламывал один огород.
За этим клочком – в когдашнюю пору его подарили ей в приданое – они вместе несли уход. Сынов подняла ему эта земля. Каждую весну, каждое лето её холили, не на цыпочках ли ходили, только уроди, без меры насыпь в погреба картошки, насыпь досхочу прочей огородины; едва не молились на высокие крепкие подсолнухи, изо дня в день поворачивавшие навстречь солнцу свои золотые головы, чтобы семя больше взяло солнечной силы.
А настал час, посрезали шляпки, будылья кинули гибнуть под дождями. Какие мы по осени мамаи…
Подавленно уронила старуха взгляд и обмерла: из-под резинового её сапога, из чёрной слякоти жалко смотрела на свет пустая трубочка подсолнухова стана, и в этой раздавленной в грязи трубочке увидала она себя вчерашнюю.
Судьба забрала у неё в двадцать первую весну мужа, забрала и молодые, и зрелые уже годы, забрала здоровье, красоту, силу – забрала всё, что только можно взять у человека за три четверти века.
Переломила себя старуха, подняла смятую трубочку.
«Вот с кем была я на одном полозу…»
С тихой виноватостью подбирала она и сносила в сухость к сараю под застреху сырые, отяжелелые будылья, в бережи землёй засыпала голыми руками блюдца воды.
Эти остекленелые блюдца казались старухе незакрытыми глазами покойника.
Звон про возвращение Торбихи раскатился по селу, как и полагается, до её появления.
Попорченный с лица оспою знакомый дедок – Торбиха звала его рябой тёркой – подвёз её за рублевик с поезда до автобусной станции. Однако вжиматься в бильчанский автобус уже с тыкеткой, с билетом, в кулаке раздумала.
Вещей не мала гора.
Оно, конечно, люди сейчас добрые, в услужение всяк норовит войти, всяк готов подсобить.
«Кому, – думала Торбиха, – лень вскочить с моим узелком? Да вот как бы по забывчивости не стали услужники с моими узелочками и выскакивать… Враг их знает…»
Народу набивалось, как мурашей на оброненную арбузную запятую. Самой за всем своим хозяйством в такой теснотине не усмотреть, и тогда Торбиха, с выгодой в свою сторону отдав билет у отходившего автобуса, наказала через знакомцев, чтоб на всех ветрах летел за ней Василько.
Одной в автобусе куда спокойней.
Василь смял огрызок папиросы о спичечный коробок.
Затормозил.
– Ты ж тут поглядывай, – Торбиха показала на узелково-чемоданное всхолмье, что размахнулось по всему проходу. – А я на секундочку… Отнесу бабе новостёху.
Скупо, с осторожностью, притворила за собой автобусную дверь, дёрнула к себе – твёрдо, крепостно закрыла! – и валко заколыхалась к Голованихе.
Трудно пропихнулась в узь калитки. Увидала за голыми, как пальцы, деревьями старуху. Шумнула:
– Бабо!
На чужой голос припали к окнам лица и в Ивановом, и в Петровом домах. Поставила Торбиха всех на уши. Ну-ка, ну-ка, с чем это ломит Торбиха, разряженная, как кукушка?
Всё в крайнем любопытстве встречало, провожало Торбиху в глушь двора.
Только милолицая Маричка одна постреливала в обратную сторону. К улице.
Лишь конец автобуса ей видать; не отлепляя лица от стекла, она в беспокойстве то вытянется с цыпочек в нитку, то сожмётся, выискивая нетерпеливыми глазами Василька.
– Да не вертись ты шилом! – ворчит на племянницу Петро, что скалой навис над ней во всё окно.
Маричка выжидательно притихает, словно мышь на крупах. Потом тихомолком клонится-таки к краю окна. Да как ни выворачивай глаза, дальше автобусова хвоста ничегошеньки не видать.
Непонятной тревогой занялось, захлестнулось сердечушко, зашуршали по стеклине ресницы, смаргивая обиду.
«Сда-ай капелюшку… Покажись, святой чё-о-ортушка тебя бей!» – молила про себя Маричка, и её щека улыбчивым розовым кружком разлилась по стеклу.
Вроде доплескались до Василькова сердца её молитвы, подался он назад.
Вот уже на видах. Лыбится шире Масленицы.
Зацвела Маричка.
Тихонько приставила палец себе к груди, летуче глянула в спину Торбихе, наставила на неё, будто целилась, палец, потом на Василя. Мол, к кому идти? К ней? К тебе?
Василько распахнул руки. Что за вопросы!
Забухал в грудь пудовыми оковалками. Конечно же, ко мне! Ко мне!
Свежее просторное лицо радостно-отчаянно разошлось в сочной легкокрылой улыбке.
Лечу, Василько! Лечу!
Маричка тишком отлепилась от стекла, так же тихонько стала разгибаться, боясь потревожить дядю. Обернулась – прыснула в кулак.
Чего ж осторожничать? В доме ни души!
Даже не заметила, как и дядя, и отец, и мать убрели за Торбихой.
Стрелой прошила Маричка к автобусу.
Встречно приоткрылась дверца, приняла её и тут же шалый поцелуй опалил ей душу.
– Бабо Аня! – загремела Торбиха, краем глаза победно наблюдая, как и из того, и из того дома к ней ручейками тёк народ. – Что ж ты там возюкаешься в земле? Иди-но послухай, шо тебе сама Торбиха скаже! Бачила ж я твого пар-р-разита!
Старуха плетьми сронила руки, качнулась и вряд ли удержалась бы на ногах, не окажись на ту минуту подле сарая; к стене и припала плечом.
Иван и Петро – каждый уже поспешал впереди своего семейства, что вытянулись в две цепочки, цепочки уже смыкались в клин, – кинулись к матери, поддержали; услужливая из невесток метнулась в сарай, выкатилась в тот же миг с садовой лавкой.
4
Не тем капля камень долбит, что сильна,
а тем, что часто падает.
Когда не режут, кровь не течёт.
Усадили мать.
Молча стали по бокам сыны. Стали надёжно, придерживая её за плечи.
Старуха отрешённо смотрела то на Ивана, то на Петра.
Выдохнула в каком-то светлом удивленье:
– Иванко… Петрик… Вы слыхали?.. Божечко мой… Нянько наш уявился. Нянько… Ей-ё… Не падае бабья слеза на камень…
С минуту она стеклянно смотрела перед собой, и Бог весть что варилось в её душе.
Блаженная улыбка стекла с лица.
Просеклась на нём тревога.
– Живого! Совсем живого бачила?! – заторопила старуха слова, безотрывно глядя на Торбиху и ожидая от той только подтвердительного ответа. – Можь, ты всё то понавыдумала?
Обиделась Торбиха, что не верят ей. Ничего не стала отвечать. Только стыло подобрала губы.
– Что же ты? – Глаза у старухи округлились. Воистину у страха глаза по яблоку. – Что же ты – грому на тебя нету! – молчишь? Иль поиграть доспелося?
Вскинулась на ноги, твёрдо, с силой притянула к себе Торбиху за лацканы новёхонького бежевого плаща:
– Ну скажи-и…
Нервно заплакала старуха, опустив голову Торбихе на плечо и неловко охватив её за шею.
– Говорю… Блище Вас бачила, – с каменным равнодушием ответила Торбиха. – Что ж его пустое свистеть? Какой мне с того привар?
Старуха виновато отступилась.
Оправив на себе плащ, Торбиха, разодетая не по погоде толще некуда – как вор на ярмарке, – просквозила по блёсткам пуговиц, широченно размахнула полы. Жарко!
Все увидели яркую не нашу этикетку на шёлковой нитке. Однако никто и бровь не подломил, не подхвалил обнову.
«Лучше б я мимо пролетела, – в досаде подумала ненастливая Торбиха, торопливо, с вызовом застёгиваясь. – Вот так за всэ добрэ благодарять… Щэ бока начистять…»
– Ты уж, Лиза, извини, что всё наперекрёс выскочило. – Выкричала, вылила старуха голос, теперь говорила уже мягче, уступчивей, однако с недоверием. – Вот колоколишь ты… Бачила…
– Ближче, чем Вас! – с холодной готовностью подвторила Торбиха.
– А, извини, не бреше твоя верхняя губа?
– И нижняя правдоньку торочит! Чего б заздря греметь крышкой?
– Опиши тогда.
– Чего ж проще. Какой родился, такой и есть. Сверху не закрасишь. Обличьем… – Торбиха внимательно посмотрела на Ивана, – обличьем схожий вот на Иванкову сторону.
– Про лицо я тебе сама пела на проводинах. Ты могла и не выронить это из памяти… Ты лучше скажи, что у него такое особенное на теле?
Торбиха всплеснула руками.
– Куча смеха и тилько, бабо! Да что ж я с им в одной кровати просыпалась? Не тот он мужик, чтоба позвало на что с ним такеичкое… Из себя дробнесенький… Мелочёвка… В меру не вошёл. По силам цыплак цыплаком. Что цыплак – слабше весенней мухи, слабше тени! У него смерть стоит за ухом дожидается…
– Постой! Постой, девка! – защитно вскинула старуха руку. – Лучше сознайся, что не видела. А так чего ж человека худославить?.. А особенное его на видах. Не обязательно одёжку спускать.
Хмыкнула в задумчивости Торбиха.
– А ведь, кажись… На одном ухе, на самом кончике мочки – с горошину родинка. Навроде серёжки?
– Вот! – старуха кинулась к Торбихе. – Видала! Лизушка! Родимушка! – Обнимая и целуя Торбиху, старуха горячечно запричитала, зажаловалась ей про то, что и на другом ухе была у Иванка такая же серёжка живая. Да не угодил раз Иван пану. Пан до таких степеней крутил ухо женатому мужику – оторвал серёжку. – Ня-я-анько!.. Живо-ой!
И Иван, и Петро, стоявшие, как на похоронах, не могли взять в толк эту весть.
Жизни их клонились к вечеру. Были они по годам уже давно дедами. Иван вон обсыпан внуками. И вдруг тебе на сыскался у них папычка!
Нелепым, кощунственным представилось им навеличивать этим детски-чистым, высоким словом кого-то, именно кого-то стороннего, чужого.
Что соседа слева, что соседа справа, что любого прохожего, что того заокеанца звать отцом было одинаково непонятным, недостижимым – ни Иван, ни тем более Петро вовсе не знали его в лицо, не видали даже с карточки и ничего сыновьего, ничего благодарного не поднялось в их душах к тому далёкому ветхому старчику, невесть как вывороченному Торбихой из людской суетной преисподней.
Казалось, Иван не слышал матери. Отсутствующе, каменно смотрел перед собой и не мог приставить ума, не мог понять, что ж тут такое деется.
Присевший на лавку Петро, мягче норовом, покладистей, упёрся массивным вислым подбородком в сцепленные пальцы рук, что стояли локтями на коленях, тяжело ворочал жернова мыслей, и были его мысли про то, что всё в этом свете возвращается на круги своя. Поехала Торбиха – воротилась. Завеялся, затерялся полвека назад батенько – обозначился…
– Нянько… нянько… – больным шёпотом звала в слезах старуха, ладясь зарыться лицом у Торбихи на груди.
– Бабо! Ну на шо тако убиваться? Я ж Вам всё одно не достану его из пазухи, – набряклым голосом басовито прогудела Торбиха и, трубно охнув, повалилась старухе на плечо.
Саданул Петро кулачиной в ребром выставленную аршинную ладонищу, поднялся глыба глыбой!
– Перфект[5]! Весёленький перфект! Без сливовицы не разберёшь, – и, полуобняв плачущих, пробасил: – Айдате к столу, айдате. Айдатеньки!
Торбиха, патлатая, расхристанная, будто очнувшись, разом перестала блажно выть, кинулась подправлять волосы под нарядную газовую косынку не нашей работы.
– Вот дура с придурью! – честила себя. – Во-от уж где пересоленная дурайка! Вы-то, бабо, по делу кричите. А я с чего за компанию увязалась?
– Давайте, давайте в дом, – легонько поталкивая женщин, не отступался Петро. – Примете горячий градус, там всё сразу и прояснится.
– За присоглашение к хлебу, Петруня, спасибко, – в ласке улыбнулась Торбиха. – Да не в час… Некогда…
И к старухе:
– Я, бабо Аня, главно не сповестила… Вы… Жалко Вас…
Вы всю жизню его выглядали. Кричите об ём как! А он там – парази-и-итствует!
Отшатнулась старуха.
– Лизушка! Что ты!? Что ты!? Не лови греха на душу. Вода всё сполощет. Злого слова – никогда!
– Не брешу, бабо.
И Торбиха – о, у Торбихи из рук не выпадет! – чувствуя, что каждое её слово в цене за золото идёт, пустилась со всей обстоятельностью, в деталях расписывать, как её встретили ладом да шиком, как закатили в её честь роскошную вечёрку, как стали сходиться гости и как тут-то Торбиха и вспомни про фотографию, вспомни и спроси и хозяев, и первых гостей, а не слыхал ли кто про деда Голованя. Ну пропал же такой человече без вестей!
– Это когда ж и успели запихнуть его в пропащои? – говорят ей и кажут в окно на пару, что приближалась. Мелконький старичок не то вёл, не то сам для надёжности держался – и это было всего вероятней – за середину опущенной руки ещё крепкой женщины под годами. – Наш Иванко ещё хват на все заставки. Собственной персоной! С собственной мадамкой Любицей! Бачь, саукался пар-разитяра!
– От живой жены женился? – темнея, удушенно прошептала старуха. – Что ты, Елизавета?! Из-под измороси да под ливень… Не бей язык попусту. Не верю! – обрубила с твёрдой решимостью.
– А думаете, – вкрадчиво стелется Торбихин голос, – я сразу поверила? Подождала… Входят… Разглядела я дедка. Не об чём, бабо, скажу я, тужить. Коржавенький бухенвальдский крепыш… Согнулся, как гриб при дороге. Ветхонький… А завидел меня, кто и прыти дал, бежака ко мне – ему про меня уже сорочили, – руки трясучие даёт:
«Дочурчинка… моя… Лизаветушка… Что ты принесла мне с родного краю?»
«Поклон от бабы Ани. От хлопцев».
Он так и отдёрнулся от меня… Будто громом его по уху огрело:
«Ка-ак?!.. Они ж-ж-живы?!»
«А чего б это им и не быть живу? Вы вон, извинить, при новой хозяйке казакуете! А Ваша баба Аня дотеперь щэ удруге не отдалась…[6] Дотеперь всё верит-надеется на встречку… Полвека ждёт! О! Подвиг русской любви!»
Даю я ему карточку.
Глянул плюгавик – как стоял, привалился к дверному косяку, росу пустил… Стоит… Слезой слезу погоняет… И раз по разу: прости, прости… Что я, батюшка? Да и – что прости?
«Ах, Лиза, горевая ты Лиза… Кабы ты знала, кабы только ведала, кто навсправде твой батько. И до точности знай то я сама… – думала в бессилии старуха. – Одно время жила помеж людей побрехенька: той старичинка навроде твой батько. А там кто его зна?
5
Беду пусти во двор, а со двора уже не выгонишь.
Блоха кусает, а за что – не знает.
Рыба никогда не забудет плавать.
Закаменело всё в старухе. Как же так, не понимала она, ведь не проводила она, придавленная бедой, и дня, чтоб не вспомнила своего Иванка, всё убивалась, как он там да где. Всё выглядала, всё ждала. А он на тебе! Расспокойненько живёт-милуется с другой. Детей, гляди, нарастил…
Мысль о детях с чужой напугала, смяла старуху.
До чего потерянная… Даже не спросила у Лизы про детей. Не спросила, и какая она из себя, мадама его. Интересная, наверно, раз кинулся от живой жены. Чем интересная? Что такое особенное подмешал в неё Господь?
Совсем без пути стала.
Как же не выспросить было сразу про всё про это?
Ругая свою неповоротливость, своё неумение вызнать всё потребное в подпавший момент, наладилась старуха к Лизе разведать всё до полной ясности.
Лизы дома не оказалось.
На стук выползла к калитке босая, простоволосая бабка Клавдя. Невысокая, высушенная долгими годами и недужью, была она совсем плохая. От неё дохнýло старостью.
Свисая впалой грудью с палки и круто заломив шею, Клавдя бельмасто всматривалась в Анну и не узнавала.
– Святая душа на костылях, чего ломаешься? – Гостье показалось, что её разыгрывают. – Скоро ты перестала признавать. Ско-оро…
– Голос, Аня, твой, – печально гундосила Клавдя. – А лицо… Лица я не разберу. Как туманом кто завесил… Я, Аня, какая тепере зрительша? Этот, – поднесла пучок дрожащих пальцев к пустой глазнице, прохлёстнутой ресничной строчкой, – ещё в позату зиму крысоловка выстегнула. А этот, пёс, лодыря корчит, не хочет путяще смотреть. Недовольна я им… Вроде как корка на этот глаз кинулась. Смотрит он у меня унутрь…
Тяжёлая ноша старость…
Встречались Анна с Клавдей в последний раз без малого лет двадцать назад. Не меньше. То жили в соседях, не каждую ли минуту друг у дружки на видах. А как Головани расстроились на новом месте, как раскатились дворами, так с той поры и не сводила бабок старость.
– Клава, – просветлённо выдохнула Анна, – тебе Лизка не хвалилась про Иванову жинку-канадочку? Я всё думаю, чем это она его привязала? Иль попалась какая милолицка, красивше?..
– Э-э-э, красивше! Не было красивше тебя в Белках – и за морем не под печкой горох сеют, – не будет и там. Не вижу я, какая ты зараз. Зато расхороше бачу тэбэ тогдашню, молоду. Как ни подумаю, бачу тольке молоду. Кругом шашнадцать! Цвето-ок… Года плывуть, як вода. Мы с тобой однех лет, на однаковой колхозной работёшке руки рвали. А на! Ты ещё геройша на ходьбу! А я даль калитки уже и боюсь дорожку мять. Пло-о-о-тно хвороба за меня взялась. Гниль я вся унутрях…
Жалобилась Клавдя обстоятельно.
По её словам, жить ей оставалось недолго и только поэтому Господь свёл её в прощальный раз с Анной, и свёл единственно затем, чтоб Анна дала прощение.
– Мочей моих не хватает, – жалилась Клавдя. – Лежи гляди в окно на кладбище… День за днём и всё ближе к смерти… А всё никак… Богово дело какое? Просит человек, так прими… Ка-ак я просила Верховного прибрать – не примае. Лишняя я у него. И всё не потому ль, что вина на мне перед тобой большая?..
Анна слушала с укором и не перебивала чисто из бабьего любопытства, мол, какой же ещё там можно наварить чепухи на постном масле. Не выдержала да и сплесни:
– Наплела! На пяти возах не вывезешь.
– Больша-ая… Молода, Аня, была, глупа была, как сто пудов дыма… Врачову ошибку земля спрячет, да не мою… Минуту не удержала себя – полный век казни! За что-о ж меня так больно Вышний бьёт?
Водились они смалу и до той самой молодой поры…
Года с три распускал Иван перья перед неприступной Клавдюшкой. А там, приглядевшись, и катни коляски к подружке. К Аннушке. Да так всё у них горячо покатилось, что через неделю какую и заслал сватов.
Проплакала да спрятала до часу своё горе Клавдя.
В вековушах не осталась и она.
Родили по двое.
В один день, в одной артели ушли их мужики на заработки.
Вскоре нашлась Лиза.
Анна аккуратно получала от своего и письма, и деньги. Кдавдя же – ничего. И тогда…
– Аня, дай руку, я искажу, что я тогда такое отломала.
Несмелой ощупкой отыскала Клавдя протянутую руку, припала к ней щекой и – выронила.
– Не могу, – прошептала отуманенно, – не могу… А с той поры я только ж и звала этот случай…
Потерянные, стояли они друг против дружки, и каждая думала своё.
Первой не вынесла долгого молчания Клавдия.
– А! – надсадно махнула разом обеими руками, будто оттолкнула от себя что тяжёлое, невидимое, не дававшее ей ходу; примирительно-судорожная улыбка просеклась на усталом, поникшем лице. – Ева вон в раю царевала да и та согрешила. А про нас, про тоскливых вилюшек, какие уж там и перетолки?
– Ты, Клава, – с холодной рассудочностью возразила Анна, – на всех одну бирку не цепляй. Это в чём же мой, скажем, грех? Как бомага, чиста я и пред Богом, и пред детьми, и пред мужем.
– А перед собой? – с ядом в голосе крикливо выворотила Клавдя. И спокойно, твёрдо – как приговор: – А перед собой ты грешна. Ну усуди, свой ум – царь в голове… Какая живая душа не просит радости? Какая молодая душа не просит утехи? А была ты цвето-о-ок… Всем наравилась…
– Что ж мне теперь, быть всехмужней веселилкой?
– Всех не всех… Ну, пошёл Иван… Да и ветер ему в спину. Гони далей! Что тепере с твоей чистоты – мёду опиться? Два лета отжили, а тама не твой. Усе пять десяточек на стороне. К какой к другой прибрехался, пригрелся и выпала ты из ума. Мужики все кобелюки! Как к какой повернулся, к той уже и виснет на шею, как чёрт на вербу… Я, Михална, перед Богом грешна, перед детьми грешна, перед тем своим кобелём заморским – справедлива! Я знала, раз завеялся с глаз – не вернётся. Он, можь, ещё на пароход не взошёл, а мне писарчук жуковину[7] на мизинец уже надевал… И угощал не чаем неженатым[8]… – Клавдя просыпала мелкий счастливый смешок. – Как утка на воде нагулялась!
– Не того ль, скоропослушница, твой тебе ни строчки, ни детишкам даже на дырку от бублика не пригнал?
– Можь, и оттого. Да зато никто у нас не в обиде. Он там наискал, я туточки. Ездила Лиза, проведала. А мне и на дух его не надь. Как увспомню… На меня ж смотрел, Анечко, яко на собаку!
– В чём это проявлялось?
– В чём, в чём… Внагляк требовал собачьей верности! На что раскатал губищи!? А сам… Как-тось чую скрозь сон его стон: «Наденька!.. Наденька!..» Я хлоп его кулачиной по плечу: «А ну рапортуй, кривой стручок, что это за Наденьку ты захороводил?!» Он луп-луп глазенятами по сторонам и подаёт такущую оправданку: «Видишь же… Одеяло с меня скатилось, я и командую тебе: «Надень-ка! Надень-ка!». Выкрутился супостатий! Ладно… Ну… Всё одно, с ним я б и тут не ужила. А раз так… Каковски у нас всё повернулось – к лучшему… Я другим эсколе скоромилка была… Что он, что те – без разницы. У всякого то и богатёшки, что по свистульке худой… Это ж жениховцев ежеле до единого собери – в хату не впоместятся! Е-е-есть кой-кому что вспомянуть, когда понесуть на рушниках в тое село. – Клавдя качнулась в сторону близкого кладбища, заметного головами старых крестов. – В том селе худо-нахудо: петухи не поют, люди не встают… И под тебя в том селе выроют земляночку… Только ты-то, подружа, что вспомнишь? Проплыли твои лета навпрасно, как листья по воде. Ох… Ох да и какие мужики подкручивали усы, глядючи тебе в спину?! – Клавдю снова завалило в старую набитую колею. – Иль ты до дна мёртвая была? Иль тебя не ш-шакотало? Всё фырк! Фырк! Ни одного не подпустила на радостную близь. Дурё-ё-ёка… Привереда ещё та… А привередливой бабе и в раю плохо, и в аду холодно… Ну не с полна ж ума такими парубками плетни городила! И вот тепере ты искажи, не грех ли это великий перед самой собой? Изжить жизню в узде, как коняга?! А никто сторонний узду не набрасывал тебе на душу, на желания. Всё сама, как есть сама. А подради чего? Чтобушко бабайки на возрасте, у коих нетушки мочей уже самим грешить, подхвалили: ах, какая верная мужняя жинка! Ну, похвалили бабки. А он тебя похвалил? Ты ему верность тащила – он про тебя и думать забыл, как только выкатился из Белок за первый поворот. А можь, думаешь, Боженька про тебя воспомнит, сдарит ещё одну жизню? Божечко, Михална, не дурак. У Божечки всё на строгом контроле. Двух жизней ещё никому не подал…
Клавдя долго всласть тренькала языком, радуясь счастливому случаю, что при живом человеке никто не осаживает. Совсем не то, что при Лизке. При той как чуть разбежишься, выбурит мигалки. Тут и приказ летит молчать. А то молоти да молоти, полная тебе волюшка!
И бабка мела без умолку.
Да навалилась беда. Выронила вожжи, забыла, куда ехала. А забыв, конфузливо сама собой замолчала, как-то беззащитно косясь на все стороны невидящим, подёрнутым коркой, глазом.
– Ну ты чтой-то замолчала? Приехала? – гневливо рубнула Анна.
– Я, Аня… Совсема выпало из ума… Совсема забыла, что зуделось сказать…
– Ты всё пела, что винна передо мной. Так ив чём твоя вина?
– Того я, Аня, не искажу…
Упорство, с каким Клавдя наотмашь отказывалась называть свою вину, вынесло Анну из равновесия, как сильная вешняя вода воробьиное перо.
Тяжело плюнула она Клавде под ноги да и со двора.
6
Верховино, Верховино, рiдна моя мати,
Чому твои дгти мусять по свгтку блукати?
Старинная коломыйка[9]:
Молотил весь век, а веять нечего.
Что написано пером, то не вытянешь волом.
Дорогой Анна перебирала, тасовала свою жизнь и так и эдако, всё выискивала, где ж это Клавдя подпустила ей вони. Но, как ни перетряхивала прошлое, ничего худого не выскакивало против Клавди.
За что же тогда она просила прощения? В ту и в ту сторону по живой трассе пролетали машины, клоня к долу привялые пыльные травы по обочинам.
Старуха не замечала ни машин, ни встречного люду.
Она б и Петра не заметила, не возьми тот её за руку.
Рассеянно посмотрела она на Петра, вовсе не обратила внимания ни на то, что встрел он её на полпути от дома (никогда такого не было, чтоб так далеко встречал её сын, откуда и с чем ни возвращайся она, встречал самое лучшее уже у самой у калитки), не заметила ни того, что сиял он, как дитя.
Ничего не видела, ничего не слышала старуха кроме беды, которую она ясно не знала по имени, но которая – была, давно ли, недавно ли, но была, и сотворила её слепая Клавдя.
Что за беда могла быть? И беда ли, раз не заметила сама?
В тревоге мать передала Петру разговор с Клавдей.
Спросила:
– Ты-то что на всё на это скажешь?
– А ничего! – весело хохотнул Петро. – Клавдя да бес – один в них вес. Нашкодила где по мелочёвке, теперь вертится, как посоленная… Забудьте, мамо, про ту Клавдю. У нас новость покруче. Меня с Иваном нянько в гости вызывают! Визы на месяц пригнали. И письмо.
Петро поднёс матери к глазам исписанный лист со следами тщательных сгибов. Хрустко встряхнул.
– О Господи! – отдёрнулась старуха от белого листа. – Как ни летело, да ударилось… А ну читай! – и в нетерпении легонько подтолкнула Петра в локоть. – Читай же!
«Дорогие мои, – читал Петро, – я без меры в счастье, что узнал про Вас правду. Вы здоровы, живёте добре.
Я радый, что у Вас, сынки, свои дома каменные. Радый, что вместе с Вами живёт наша мамка. Уважайте, угождайте мамке, бо она с Вами мучилась, доводила Вас до дела. Берегить, почитайте мамку».
Трудно Петру разбирать отцову руку.
Запнулся.
Мать не поталкивала в локоть. Не торопила.
«Берегите, почитайте мамку… – с несмелой сторонней радостью повторила про себя. – Ишь, по-омнит…».
«Тяжко мне вспоминать…
Когда мы поженились, у нас над головой не было путящой крыши. Жались в соломенке тесной, негде повернуться. Потому я и покинул Вас, уцелился в хвалёную сторону разжиться деньгами, прикупить землицы, вывести на бережку Боржавы хату окнами к солнцу да зажить по-людски.
Но не так сталось, как гадалось.
На голого, сынки, скрось капает…
Хатку я купил без мала через двадцать лет, в сорок шестом, и то не дома. А на другом конце чужого света. Купил под долги. Полных двадцать лет отдавал.
А хатка сама с кулачок, деревянненькая. Зато каких капиталов стоила. Шестьдесят тысяч долларов!
Сынки, хотел я это не писать, да куда ж денешься? Куда ж его не писать?.. Я не парубец. Отяжелели года мои большие. Хвораю, давно уже хвораю. Притерпелся к болячкам, притёрся. Собака всю жизнь привыкала к палке, здохла, а не привыкла. А я привык. Палка та же хворь, знай колотит изо дня в день. Такое дело моё стариковское, хворай да живи. Я хвораю да живу, разом всё у меня катится. И на том спасибошко. Ведь до тех пор хорошо, покудушки болит, а как перестанет, уже и нас не станет.
А заверни с другого боку, смерть знай не идёт – скачет уже ко мне на вороных. Приезжайте, закроете несчастному глаза, божеское дело сделаете. А может… А может, ещё обгоните её, отпихнёте, продлите мне век на денёк какой ясный…».
Какое-то время мать и сын шли молча.
«Берегите, почитайте мамку… – колокольчиками звенели далекие слова в материнском сердце. – Не забыл… А будь я, как Клавдюха, разве б помнил?»
И поворачивалось тихонько всё у старухи к тому, что и сплыли какие большие годы, и смыло какие в мире беды, а не забыл её вовсе Иванко. Сыздали, с чужого боку земли, вспомянул добром.
Вскипела душа, налилась маятная жалостью.
«Иване, я не сержусь на тебя. Я сержусь на одну свою судьбу… Дошло б это слово до твоего уха…»
Минутой потом, слушая письмо дальше, смятенно вздыхала…
Сам Бог ведает где, а ещё и детей к себе манит, манит жалобно, сиротливо, как кулик в болото. Зазовёт да и оставит. Что тогда?
Ох, без ран болит сердце.
– Петрик… – мать накрыла письмо широкой твёрдой ладонью, закалянело смолкла.
В притишенных глазах качнулась тревога.
«Не пускать бы мне вас к нему… А ну как… Заагитирует да оставит при себе?»
Угадал Петро материнские мысли.
– Мамко! – раскинул Петро сильные руки. – Плохо ж Вы знаете своих хлопцев. Ну разве тот же я похож, чтоб на какую там красивую трепотню клюнул? Лично у меня нигде не пропадёт. Да только запой он что непотребное, ей-бо, вот этими ручищами запихаю в авоську и в полной невредимости доставлю Вам на расправу!
– Вот этого-то, хлопче, как раз и не вытворяй. Силу свою, молодость потерял идол его знай где… Выпал из годных… Выстарился… Не работник уже…
– У меня б работал. Из миски ложкой.
– Не в лад поёшь, не в лад… А можь, ты оплановал уже всё? Замыслил везти его сюда? – Подумала. В надломе уступила: – А кобель с ним, вези. Только мне он не нужен. От живой жены женился… И ни звука даже, кто она такая.
– Словачка. Взял уже с пацанкой… Я тут, – тряхнул письмом, – всё уже наизусть знаю… Ребятья у них не завязалось. Про всё про это он и пишет дале. До мелочей всё про себя вываливает как на духу… Ответно просит: пока будете оформлять поездку ко мне, в подробностях опишите свою жизнь… Гляньте, какие они будут из себя.
Из хинной желтизны конверта Петро вытряхнул цветную карточку. Подал.
– Бож-ж-ж-жечко ж мо-ой… – надсаженно простонала старуха. Нервно сглатывая, впилась глазами в коржавого старичка с ядристо порубленным морщинами лицом, виновато и задавленно выглядывавшего из-под массивного козырька парусиновой кепки, что грузно давил на самые на брови. Старичок силился улыбнуться. Погибельное подобие улыбки он выдавил-таки из себя, а на большее его не стало. – Иваночко!.. Невжель это и всё, что оставила от тебя распроклятая чужина?!
Старуха вопрошающе подняла потерянный взгляд на тугощёкого Петра, как бы сравнивая великанистого сына с гномиком на карточке. Тяжело замотала головой:
– Не-е… Не наш тут нянько… Какой-то…горе… носец…
И женщина рядом была под стать такая же мелконькая, доход доходяга, с тяжело вытаращенными глазами, словно что невозможно большевесое, невидимое было у неё на голове.
Старики держались друг за друга.
Иначе, казалось, они б не устояли.
– Бедные, бедные… – обмякло шатала головой старуха. – Какая ж повенчала вас беда?
7
Человек по свету, как пчела по цвету.
Несподручно бабе с медведем бороться:
того гляди юбка раздерётся.
Верховину май обряжал, в гости июнь-друга звал. Белыми копнами кучились у домов вишни, яблони.
Самую силу цвета набирали и сады московские.
До самолёта ещё прорва пустого времени, и Иван с Петром прямо с Красной площади да по старой памяти качнулись на Выставку.
Выставкой братьям уже трижды кланялись: трактористы они первой руки, хлеба растят богатые, и в те встречи так полюбилось им на Выставке, что теперь, оказавшись в столице мимоездом, не удержали себя не пойти на Выставку. Ноги сами понесли.
Ходили из павильона в павильон…
Бродили по аллеям в цвету…
Дорога уморила шаг.
Однако жаль было покидать и сады белые, и солнце ясное…
А в закуренном туманом Лондоне братья уже не увидали по сути солнца, хоть и одно оно на всех.
Туман не туман, смог не смог, только завесило, задёрнуло небо какой-то мутной, зловеще-серой пеленой и сквозь неё не видать солнца в той ясности, что в Москве, что в Белках.
Вечерело.
За крышу уходило солнце.
Оплывший ржавый пятак света, будто напоровшись на шпили, вытек, из пепельно-жёлтого превратился в льдисто-алый, распух и вот такой, словно краснея за дневные дела людей, обиженно, смуро сплывал в темницу ночи.
Хитёр и громаден лондонский аэропорт Хитроу.
А дальше?
Где посадка? Когда? На какой?
Народу пушкой не свалить.
Спросить же без языка не спросишь.
На правах старшого Иван командирничает:
– Все идут, мы за ними.
Пристегнулись к одной толпе – вынесла к посадке в Австралию.
Пристегнулись к другой – притаранила, притёрла к посадке не понять куда.
– Не-е, чёрт-мать, – бормочет распаренный Иван, хмелея от усталости. – Не дело налётом лететь, куда толпа несёт. Надо драться навспроть.
– Полезли навстречу, – соглашается Петро. – Мне без разницы. Что вперёд, что назад – абы вперёд!
Петру-то что!
Петро в толпе столб.
Поглядывает сверху, посмеивается, как там в низах кипит-бубнит человечество.
Ивана же толпа мнёт, кидает на поручни, тащит, крутит и не найти ему правежа в этой коловерти.
Видит Петро, вовсе лихо Ивану. Вскинул над ним трембиту, ка-ак гуданёт! Народище так и отсыпался, мёртво отпал от Ивана.
Вольно дохнул Иван.
– С теперь ты у меня на контроле, – мягко забасил Петро, не снимая с брата безотрывного взгляда, и как только примечал, что того сжимала, заливала толпа, тотчас пускал над ней из иерихонской дуды своей громы – и сражённо валились в стороны чужестранники.
От пустой беготни упрели Иван с Петром, ноги по щиколотку утоптали.
Посбили скорость. Присматриваются…
Эгэ-э!.. Да вкруг них табунится одна и та же кучка ветродуев!
«Может быть, легла им к душе трембита? А почему и нет? Только…»
Боковым зрением Петро видел, как по короткому кивку одного из них наживлялись они давить на бедолагу Ивана, вприщурку вопросительно косясь на Петра: что же ты молчишь?
Похоже было, чтоб слышать трембиту, кучка, вызнав Петровы замашки, через минуту да во всякую минуту накатывалась на Ивана, и Петро, неосознанно чувствуя преднамеренность этой давки, с набавляющимся раз от разу озлоблением разгонял диким дуденьем толпу, и та, с радостным изумлением на время отступаясь, – понравилось лбом орехи щёлкать! – что-то веселое по-свойски лопотала.
– Как думаешь, – спросил Ивана Петро, – что они такое про нас чешут?
– А что-нибудь на «грани двух тенденций»: або эти, то есть мы с тобой, хлопцы с Верховины, або не из Лондона.
– Им же и хуже! Айда, братишок, в вокзал. С устали хоть глянем на ихний расхваленный под корень сервисок. Сядем культурненько где в уголочке. Вам надо, сами и ищите, ищите да ведите нас под белы ручки к торонтскому чертову трапу.
Плюхнулись. Сидят отпыхиваются.
Ан тебе на!
Вжимается в свет открытой двери и всё ветродуйское стадо.
Будто споткнулось о взгляды Голованей, сгрудилось у двери на самом ходу, смотрит казанской сиротой.
Отлепился один от табунка. С затравленно-заискивающей улыбчонкой подтирается ближе. Несмело тычет в Петра.
Петро готов с вопросом:
– Мистер-твистер! Что имеешь мне сказать?
– Рус… Мишья-а!.. – «Мистер» ревнул на медвежий лад.
– Понято, сэр! Русский Миша. А потом?
Обрадовался «мистер», что его поняли, летуче дёрнул Петра за рукав. Мол, внимай и обвёл в воздухе мертвенно-бледным пальцем кружок, пнул указательным пальцем в маковку кружка:
– Норд…
Петро догадался. Северный полюс!
Долбит прилипала в точку, где у него этот самый полюс:
– Рус Мишья!.. Рус Мишья!..
Жестами выпросил трехметровую трембиту и, приставив к глазам как подзорную трубу, ошалело, с рыком повёл ею из стороны в сторону: эдако вот русский медведь с вершины мира высматривает, а куда б это ему напустить свои шаги!
«Мистер» обмер. В трембиту увидал олимпийского Мишку у прохожего! В самом Лондоне!
– Рус Мишья – Лондон!.. Рус Мишья – Лондон!.. – заполошно кидал рукой в спину удалявшегося мужчины с нашим значком.
– И Лондон, и Париж, и Мехико, и Мельбурн – везде, мистер-твистер! Везде наш Миша нагуливает себе почёт. А как же? Два месяца до Олимпиады‑80 в Москве. Наш Миша сейчас везде свой. И на севере. И на юге. Да только – су-ве-нир-ный. Понимаешь? – Петро снова повторил по слогам: – Су-ве-нир-ный! А не… – с холодным спокойствием забрал у поникшего «мистера» трембиту и, передразнивая его, прислонил к глазам, зашёлся рыком, поводя по сторонам трембитой. – Пошло что-нибудь на ум? Ты мне не надувай ушки ветром… Разве русский Михайло ломится к чужому? И лучше ответь, чего это ваш старэник Лёва сипит? Пыжится задуть солнечный огонь с Олимпии?
Тут к Ивану с Петром шатнулся пролетавший мимо на последнем дыхании взмыленный служивый.
– Торонто?! – потерянно ткнул поверх голов в Петра. Петро был горушка. Виден отовсюду.
– Нашёл пёс! – с изумлённым восторгом Петро шлёпнул Ивана по колену, подхватываясь. – А что я, брате, говорил? Надо – и в твоём Херроу найдут! – и закивал служивому: – Торонто! Торонто!!
Служивый выкатил глядела. И самому не верилось, что наконец-то отыскал! Однако в следующий миг он уже тряс руками, требуя поживей подыматься, вещи в охапку да бегом:
– Эй-эй! – нахлёстывал. – Скоро! Скоро! Паньмаш, Торонто ужэ р-р-ры-ы-ы! – что означало: двигатели запущены. – Ужэ! – аврально выбросил растопыркой указательный и большой пальцы. – А ми ви искай! Искай!
Изобразил, как искали.
Прилепил отвислую жирную ладонь козырьком к бровям, вытаращился. Дёрнулся в одну сторону, в другую…
Краем глаза увидав, что братья стоят ждут его с вещами, короткий, раскормленный – такого легче перепрыгнуть, чем обойти, – катком покатился к выходу.
8
Не смотри высоко, очи запорошишь.
Салон самолёта походил на растравленный улей.
Народ, лощёный, чужой, из-за каких-то там двух мумиков в диковинно расшитых русинских сорочках прел в салоне да при работающих двигателях – подарочек, ей-право, не из рождественских.
Рёв стронувшегося самолёта разом захлопнул все недовольные рты.
Он уже тяжело пилил над океаном, когда к Ивану, сидел первым от прохода, наклонился чопорный стюард.
– Почтенные, – тщательно выговаривал каждый заученный слог, – я скромно считаю, что с вас довольно и одного лондонского концерто гроссо. В Торонто, пожалуйста, не выходите из салона без меня. Я куда надо поведу на пересадку.
Обломилась внизу вода.
Встречно рванулись леса, горы, неохватные степи под молодой, тугой щёткой хлебов.
До стона в висках всматривался Петро в эту чужую и в чём-то уже не чужую землю.
Эта земля смертно обидела отца, забрала самое дорогое: молодость, здоровье, семью. В ответ же на этой неуютной земле нянько оставил так много добра.
За кусок тянул под самым Ледовитым морем дорогу; копал руду, валил леса, строил города, газопроводы, растил хлеб, ходил за скотом… Эта земля взяла его всего, взяла до малости, выстарила, и разве может эта отцова земля быть теперь ему, Петру, чужой?
Не терпелось с выси обежать глазами эту землю. Ни на миг он не отлеплялся от окна и жадно, ненасытно ловил в себя всё видимое, да шло всё как назло: самолет то нырял из облака в облако, то надолго и вовсе входил в сплошные облака, то бесконечным зимним полем подстилались облака снизу и тогда, теряя всякое терпение, ёрзал в кресле, будто кто поддевал его на шило, и он всё ловчил соскочить с шила, садил кулачиной-оковалком в ладонищу, торопя медленный самолёт поскорей выпнуться на чистое.
Вскакивал, умоляюще обводил взглядом пассажиров:
«Что же нас везут, как горшки на ярмарку?»
Немного остывал о холодные равнодушные лица. Всем было неважно, как везут, лишь бы везли. И уже в новую минуту, оставшись без капли самообладания, падал до детского выбрыка – будил, поталкивал огрузлым плечом Ивана, прикрывшего запрокинутое лицо кепчонкой и добросовестно задававшего храпунца.
– Тебе чего? – лениво пролупил один глаз Иван.
– Земли не видать, – жаловался Петро.
– Смотри лучше.
Петро всерьёзную пялился в овал. Действительно, облака помалу истончались, рвались, в тесные разрывы напроломки таки пласталась земля; однако облака не пропадали-таки вовсе, напротив, разрывы снова стягивало, свинцово забеливало, так что во весь оставшийся путь, покуда при посадке не обозначился внатык Калгари, «коровий город»[10], давший отцу последний приют, окна с воли были тяжело запахнуты серым.
«От тех ли закрываешься, няньков краю? – тихо улыбался окну. – Ох, не от тех… Совсем не от тех…»
Петру, великовозрастному ребятёнку, кто нажил уже давление и не разучился восторженно смотреть в мир чистыми глазами Ивановой внучки Снежаны, эта поездка была полна ожиданием счастья от встречи с отцом.
Иван, в противоположность, не мог представить ничего несуразней, ничего нелепей этого пустого визита вежливости. Ну к чему, досадовал Иван, тащиться в тот Калгари? Ведь за те полгода, покуда оформлялись визы, из Калгари набежало девять толстых писем.
Десятое ушло из Белок.
Старик уже всё знал о житье-бытье своих сынов, Анны, равно как и они всё знали о нём, что только и можно было вызнать.
На кой, недоумевал Иван, ещё эта свиданка? Он так и не мог понять, какой же бес впихнул его в самолёт? Какого рожна попёрло его аж за океан?
В то короткое время, когда не спал, Иван был далеко, на подмосковной станции, где испытывали его «заразу», как называл он свою сеялку.
Как кормить землюшку сыпкими удобрениями – беда. Хоть матушку репку пой. Оно, конечно, не скажи, что нет на то машин. Машин посверх достатка. А вот проку…
Как-то поспорили Иван с Петром.
Отмерили каждый себе рядком по равному клину. Ну, кто быстрей удобрит?
Петро рассевал извёстку прямо из бумажного мешка. Легко – сила не меряна! – как кулёк с конфетами сажал полный мешок на сгиб левой руки, правой раскидывал.
Иван разбрасывал, пшикал сеялкой. Сеялка барахлила, то и дело останавливалась.
Скандал!
Иван и окажись в битых.
Разозлился. Совсем задавило мужика зло, брови набухли. Забурчал, что ж это за техника? Кто её варганил? И только за что платят?
Подмануло узнать за что же. Вороха книжек, журналов пробежал. Бумаги одной что извёл на чертежи!
Битый век тайно мараковал.
А дотумкал-таки до своей сеялки.
Из чего Бог подал слепили с Петром в совхозной мастерской. Пустили в дело. Сама загружается, споро рассеивает. В двадцать раз способней той «туковой новинки», что днями получил совхоз. (Раньше в Белках был колхоз.)
Один минус – пылюга хоть ножом режь.
Сладил Иван кабину – стеклянный колпак с трехметровой трубой. Эдак занебесно пыль не взмахнёт, дыши, тракторист, свежаком!
Не грех такую пустить кабину и на комбайн, и на трактор.
Глянулась сеялка Москве. Взяли на Выставку.
Вот забегали на Выставке. Заглянули в свой павильон. Грустно… Пусто… Сеялки там уже нет, на государственных испытаньях, а Вы, Ван Ваныч, – Иван гордовито скосил глаза на светившуюся на груди медаль, – получите малое золотко. Как кстати я нагрянул. Налаживались переправить медаль в Белки – вот я сам. Честь честью вручили…
«Нехай, – уступчиво думает Иван, – нехай батька полюбуется, каким это золотишком пробавляется его старшой…»
Кость ныла, ка-ак самому мечталось покрутиться на государственных испытаниям, ка-ак зуделось…
Под эти-то испытания Иван и выторгуй у совхозного генералитета месяц воли. А тут на тебе, в досаде ворчит про себя Иван, не к часу вывернулся пропащой батечка. Не к часу…
Можно ж навалиться к батеньке с гостеваньем и потом, в зиму, когда страда снята, когда в поле делать нечего. Ан нет. Вся родня на дыбки. Сеялка из железов! Ежель что, и подождёт! А нянько ждать не может. Сегодня нянько есть, а завтра может и кончиться.
Скачет Иван из облака в облако на сонном самолёте над чужой землёй, все мысли его в одном: как ты там, мýка и свет мой? Как ты там, любушка и бориветер мой? Держишься?
Не турнули ли там ещё в металлолом?
На металлолом не соглашайся.
Просись, миленькая, в серию.
Крепись, роднулечка, за двоих.
Помни, конец дело хвалит.
9
Что в сердце варится, то на лице не утаится.
Не всё так делается, как в параграфе написано.
Вышли братья в Калгари из таможни, пустили в разгулку глаза по сторонам – будто волной и того, и того скачнуло назад.
Старики, меленькие, бездольные, стояли, держась за руки, точь-в-точь, как на карточке: те же позы, те же испуганно-повинные выражения на лицах, в тех же блёклых одежонках, дешёвеньких, старомодных; и причудилось братьям, стоят старики здесь с той самой давней поры, как снялись на карточку здесь же, на этом вот месте, снялись да так и остались ждать; все глаза проглядели, устали, потеряли всякую надежду встретить, но не ушли – не могли уже, слабые, разбитые, уйти, оттого и стояли из последнего, поддерживая друг дружку.
Бросились братья к старикам.
Не шелохнулись старики, только потерянно, обречённо вперились в роняющих на бегу вещи братьев и ещё тесней сшатнулись друг к другу, словно собирались в открытом поле выстоять смертный ураган, от которого уже не было сил укрыться.
– Нянько-о! – трубно ревнул великанистый Петро, подгребая и беря отца на руки, как младенца.
В горевых слезах, готовно хлынувших, старик доверчиво припал к просторной сыновой груди. Уж на что кремень Иван, а и тоже не удержал себя, привалился лбом к отцову плечу, затрясся. Не отваживалась подходить к Голованям старушка. Возле подперлась кулачком с белым платочком, смаргивает неосушимые.
«Коровий город» обомлел.
Недостижимая глупость! Плакать и не скрывать слёз – всё равно, что носить свое сердце на рукаве. Брезгливость морщила лица прохожих; осуждение, насмешка коротко вспыхивали в летучих взглядах.
Крестом кинув хворостинки рук на руль «Мустанга» и опираясь одним локтем на дверь со спущенным стеклом, ястребино уставилась на приезжих тощая, как сосулька, увядающая дама, пожалуй, средней поры. И руки, и уши, и шея холодно горели у неё золотом. Красное платье с блёстками тесно охватывало тонкую фигуру.
Через минуту её любопытство перешло в удивление.
Уже сколько она сидит и её не видят!
– Всё! – ласково приказала она себе по-английски. – Чересчур много хорошего никуда не годится. Эти милашки Иваны везде Иваны. Наплывёт – облапятся и будут век лосями реветь. Нечего ходить вокруг куста!
Качнувшись назад, присев, машина с места взяла рывком; казалось, молнией перехлестнула то малое пространство, что было до Голованей, и стала так ловко, что едва не уткнулась передком присадистому Ивану в икры.
Никто из Голованей машину не заметил.
Даже притихлая старушка, в равнодушии покосившись на подлетевшую машину, безразлично отступила от неё, снова подняла лицо на Голованей.
Несколько мгновений женщина в упор, с пристальным изумлением смотрела на старушку, ясно видела, как виноватость старушечьего взора наливалась благостью.
Женщину за рулём по-прежнему не замечали!
– А-а! – с глухим простоном тыкнула пальцем в кнопку у ветрового стекла. Разом плавно распахнулись все дверки кроме той, что была под локтем.
С расхабаренными наотмашку дверьми походила эта машина на сытого майского жука, что глянцевито, торжественно блестел, но невесть где и при каких обстоятельствах потерял одно клешнятое крыло и теперь как ни старайся не мог больше взлететь.
Женщина ждала. Не помогают и зовуще размётанные двери? Всё равно не видите?
И тогда она, озоровато оглядевшись, упёрлась спичечно острым локотком в оранжевый диск на руле и тут же отняла. При коротком истошном звуке, неожиданно лопнувшем совсем под боком, отпрянул в сторону Иван, дрогнуло у Петра на руках коротенькое твёрдое тельце, угрюмо поднял тяжёлые глаза Петро.
Женщина, выпрямляя, насколько это было позволительно, свою подбористую, змеино-гибкую стать, с невинным выражением на лице занялась туалетом. Беспечно поглядывая в зеркальце над собой, набавила краски губам, поправила, вычернила брови, одни лишь карандашные дужки, голые, со слабым намеком на растительность; приглаживая, повела узкой дощечкой ладони с жёстким кружевом морщин по перекаленным химией синим волосам, обкорнанным коротко, под мальчишку.
В деланную беззаботность улыбки втекло еле уловимое мстительное кокетство. Женщина себе нравилась. Её слегка рекламно-жизнерадостная улыбка твердила: как видите, настоящий коралл в кисти художника не нуждается!
– Иль тебя, Маримонда Павиановна Шимпанзенко, мокрым рядном накрыло?! – громыхнул Петро, осторожно ставя отца на землю.
Не пуская с лица нарядную улыбку безмятежности, она выставила голову в окошко:
– Извините, я нечаянно нажала…
И тут же учтиво поинтересовалась:
– Извините, а зачем Вы мне всех обезьян перечислили?
– Зачем же всех… Я назвал, автоледя, всего-то одну.
Уловить выражение её лица было невозможно. В первое мгновение она готова была оскорбиться и, кажется, даже оскорбилась, но за первым мгновением шло второе, и в это новое мгновение, явно затеяв уже что-то недоброе, залепетала – перед прыжком львица приседает:
– Извините… извините… – Трудно выталкивала она из себя словесную мешанину, в которой было что-то и от русского, что-то и от словацкого. – Я так, извините, толком не поняла, что Вы сказали.
– Куда уж нам уж, – недовольно раскинул руки Петро, выстужаясь о женскую кротость. – А то и сказал… Что за мода дудеть под носом у незнакомых?
– Не знакомы – познакомимся, – чуть подалась она вперёд.
– Да хватит конопатить мозги! – Петро смотрел вызывающе. – Вам что, делать больше нечего?
– Представьте! – Дама коротко повела плечом, внутренне ликуя, что затеянная игра даётся. – Сбавляйте, пан, обороты да, – кивнула на заднее сиденье, – садитесь. Таксо подано.
Петро и распахни рот.
А наживлялся он было уже подпустить слегка покруче, с солёным кипяточком – ан затрясла за рукав старушка, затрясла чувствительно. Старушка и до этого всё какие-то знаки подавала, просительно прикладывала палец к дряблым губёнкам, намазанным с молодой щедростью, да Петро всё отмахивался: нет, Вы погодьте, я рубну по-нашенски, по-русински! Он бы и рубанул, если б старушка, что подавала знаки и говорила растерянно, невнятно, так что Петро ничего не мог понять, наконец не нахлестнула своему голосу сил.
– Это ж наша Мария! – почти выкрикнула старушка, полохливым движением бровей указывая на женщину за рулём. – Марушка! Мы приехали с нею за Вами.
Крякнул Петро.
– Весё-оленький перфект…
Он не знал, как теперь и быть, как вести себя. Стоял, с конфузливой беспомощностью озирался – как себя потерял. «Хоть японцы и говорят, что знакомство может начаться и с пинка, так кто ж тому пинку рад?»
Старушка душевно поманила Петра наклониться и ласково вшепнула в самое ухо:
– Ты, сынок, особо не обмирай. – Ободряюще дёрнула книзу за рукав. Позвала в полный голос: – Садитесь, сынки, садитесь…
Сама села к Марии, а Головани, все трое, сзади.
10
Тело в тесноту – душу на простор.
Не конь солому поел, а солома коня.
Тесновато получалось у мужиков.
Попав меж Иваном и Петром, уподобился отец комару, что завалился меж трущимися слонами. Выдавленный кверху с места, когда Петро последним захлопывал дверку и впихивался, завис нянько на сыновьих плечах.
Не мешкая развернул его Петро, усадил – иначе никак нельзя было – к себе на колено, пришатнул к груди.
С восторгом покосился старик на узкий затылок Марии, и Петру то ли помстилось, то ли въявь увиделось: сгримасничал, выставил старик затылку кончик языка.
Выждав, когда всё в машине угомонилось, всё с той же жизнерадостной, не тающей и вроде как будто с приклеенной улыбкой повернулась Мария назад, назвала себя, просто дала руку одному, второму.
Чуть приподымаясь поочерёдке и называясь, и Иван и Петро с мелким поклоном жали протянутую руку.
На первые глаза рука казалась жёсткой, точно узкая досточка. Но на самом деле – совсем напротив! Жила эта рука в тревожно белой холе, в мягком, кротком тепле, однако Петро, ответно давнув её с невольно толкнувшейся в душу короткой жаркой опаской, смутно почувствовал, что в этих бархатных, уютных лапках скрывались острые коготки.
Сидя вполоборота, Мария начала уже выкруживать к рулю и тут каким-то цепким боковым зрением ухватила, что старик почти вжался головой в крышу.
– Послу-ушай, Беда Иваныч! Да когда это ты успел так вырасти?
Перевалившись подбородком за верх спинки своего кресла, с протяжным свистом отпала: старик, весь подбираясь, пружинясь, в чинной скованности восседал на Петровом колене!
Пусто хохотнула, потрепала старика по щеке.
– Малыш! Ты отлично устроился!
Счастье брызнуло из стариковских глаз.
И какие там сплетни ни сплетай в этом «коровьем городе», счастливей этой минуты он никогда не был во все свои семь десятков. Он ознобно улыбался сквозь снова закипавшие в нём слёзы, ничего не говорил: не горазд был говорить, не мог.
Сыновья так и не слышали ещё его голоса.
– Вы уж, Мария, извинить за Шимпанзенко, – жалуясь лицом, с усилием забормотал Петро. – Свернулось глупо так…
– О! Трагедия олимпийского года! – накоротке вскинула над рулём руку Мария, отъезжая. – Забудьте… И потом, вся вина на мне. Уже в ответ Вы выдали свое бэ, а а сказала-то я!
– Как-то шелапутно вышло…
– Глубоко наплюньте на всё и успокойтесь. Пускай Вас утешает мысль, что всех людей роднит то, что все они умны после того как дело уже сделано. – Помолчала, кивнула головой, будто утвердила сказанное. – А вообще такой оборот развеял меня. Дамесса я шалая, моё а – моя маленькая хитрость. Тут уж ничего не попишешь, я вся из этих хитростей. Без хитростей мир был бы невозможен, бесполезен…
В своём городе Мария знала все ямки, оттого налётом летела уверенно; разбросанные всюду газетные клочья, будто опомнившись под колёсами, подхватывались с размолоченного асфальта, кидались вслед, но налиплая жёлтая грязь пригнетала, давила книзу своей тяжестью, и обрывки, омертвело взмахнув на настуженном ветру раз-два, опадали, заваливались, застревали в глубокой обочинной пыли.
Может, на этой улице ленивый дворник?
С надеждой братья вламывались в новую улицу – за каждым новым поворотом была всё грязь и грязь…
«Да-а, это не Москва,» – в замешательстве покашивались в окна.
Старые по бокам в два этажа домишки рядились в рекламу. Вовсе не вязалась она с тем, что было ниже, под нею, на земле: вся эта наповал хлёстко бьющая с фасадов роскошно-неоновая жизнь стояла на грязи.
Далеко за безлесную гору, пустую, голую, как столб, нырнула верхняя закрайка солнца, и оттуда, из-за горы, оно слабо било в небо последними лучами, тревожно, пожарно окрашивая шапку полукруга на горизонте.
Солнце казалось братьям каким-то несчастным, обиженным, осуждённым, что ли: из-за облаков, где толстых, где тонких, ни в Лондоне, ни в Торонто, ни здесь им так и не удалось увидеть его в полной силе.
В воздухе растекались лиловые сумерки.
Быстро темнело.
Мария затаенно наблюдала за растерянными и всё реже поглядывавшими по сторонам братами. Она видела, что их удручали, печалили давно неметёные, давно немытые улицы, но поскольку братья из деликатности ничего не спрашивали, помалкивала и она.
Однако когда вкатила свою чёрную жестянку в особенно грязный, затёрханный проулок, не удержала себя.
– Плоды забастовки налицо, – повела рукой. – Пятый день дуракуют мусорщики. Стопроцентные ленькари![11] За что только им, убей не пойму, набавлять зарплату?.. О-ляля! – неопределенно покрутила рукой над головой. Того ли ещё жди!
Братья натянуто молчали, диковато ошаривали, из каких это щелей несло.
Кажется, все вплотняжь закрыто. А откуда-то студливо несло, постёгивало; было основательно холодно. Откуда сейчас взяться холоду? Конец мая, везде конец мая, выбирались из дому – тёплушко, в костюмчиках в одних подались (так, на всякий случай кинули в чемоданы по плащу), а тут тебе дай-подай – холодина собачий.
– О мама миа! Забыла совсем!
Резко затормозила Мария, осадила несколько назад.
На пустом, безлюдном тротуаре из-за горки ящиков с пивом, всаженных один в другой, вывернулся выморенный мужичонка, ловко смахнул, сорвал себе на живот верхний ящик, с бутыльным перезвоном закачался к багажнику.
Эти три ящика пива, что жаловала Мария на «русский распой», она могла б, разумеется, забрать к старикам ещё вчера, когда закупала, всё равно ж приезжала на машине. Но сделай так, она не была б уже Мария Капутто: этакие штуки не в её правилах выкидывать втихомолку. Её великодушию нужна непременно восторженная оценка на месте планируемого подвига. А потому и распорядилась, чтоб с пивом ждали её уже на тротуаре в тот самый час, как будет возвращаться с гостями из порта.
Всё было, как и хотелось: публика, восторги.
И только старик с немым подозрением ширил, таращил зенки то на довольную Марию, то на проносимые в багажник ящики.
Наконец двинулись, повеяли дальше.
– Зач-че-ем? – простонал старик, воздевая в отчаянье над острыми плечьми Марии пергаментно-высушенные кулачишки.
Братья и испугались сдавленного вопля, и обрадовались. Слава Богу, нянько заговорил!
– За-ач-че-ем?! – набирал злости стариковский голос. – У меня ж целый ящик полугодовой выдержки!
– То Ваш, а это, – скачнулась Мария назад, – а это ракетное горючее – лично мой скромный вклад.
Затевала она такое, что никому из едущих не могло и на ум зайти.
11
Лошадь быстра, да не уйдет от хвоста.
Пировать так пировать – бей,
жинка, целое яйцо в борщ!
Это уже так.
Если человек помнил Родину, помнил он и свычаи-обычаи Родины.
Уж с чем пустила своя сторонка на чужбину, то и живёт в нём, мается до последней его черты – душу не выплюнешь.
В стародавние времена за что только не пластал пан подати с русинского бедака! За плетень плати, за дерево плати, за окно плати, за дверь плати, за трубу плати… И чем просторней та же, к слову, дверь, то же окно, круче и подать.
И лепил горемыка хатуню без сеней, «без штанов», обшивал соломой, ладил поменьше окон да помельче. Со стоном счищал сады.
Страх перед гибельной податью привёз Головань в себе и в этот, как он с посмешками называл Калгари, в этот рай на самый край, где Боги горшки обжигают.
«Сегодня нет податей. А за завтра кто поручится?» – думал, сводя во дворе последние деревья; опустел, помертвел двор.
Перетряхнул и дом. Убрал три окна, а те, что оставил, порядочно сменьшил.
Дом и старики годами были без мала ровня, у всех в боку кисло не по одной болячке; по ночам, в ветер, в морозину, стонало всё в изношенном доме, будто жаловалось; старики молча жаловались на свои болячки; чудилось, дом слышал их жалобы, утешал: то сронится где щепка со стены, и старики примут её за сочувственный вздох стен, то надсадно охнет с мороза лестница, ей холодно в дряхлой, обречённой халупинке, и старики каждый про себя пожалеют её.
Чуть врытый в землю деревянный дом был на два этажа. С виду ненадёжный, крохотный. Однако сыновья не могли надивоваться, как это старикам удалось поделить, порвать его на десять комнаток, узеньких, тесных, на пару хороших шагов каждая.
Частое мелькание карликовых дверей и комнатёшек скоро утомило Ивана с Петром. Им казалось, сам нянько, знакомящий с домом и в подробностях жадно расспрашивающий их об их житье в Белках, будто и не было никогда толстых писем, держался нетвёрдо, мог сам заблудиться в этих призрачных лабиринтах. Обитель эта пахла своей ветхостью и ветхостью своих хозяев, была им под стать: древняя, полугнилая, невозможно запутанная, как и сами их жизни.
– Вы, нянько, не бросьте нас только в этом лесу, – со смешком сронил Петро.
– Не-е, сынку, бросить придётся, – рассудливо подумал вслух отец. – Мы с бабой Любицей долго ещё на белом свете не прокапризничаем. Переберёмся в вечные каменные покои. А эти уж Ваши…
– На месяц, – уточнил Иван, расплываясь.
– А-а, сынку… Где месяц, там и вся жизнь, – почти вшёпот проговорил старик, проговорил неуверенно, надвое, наклоняясь к Ивану. – Прошёл месяц, идут к властям. Власти ещё на полмесяца бьют штамп. А тамочки…
– … а тамочки, – холодея лицом, сдержанно перебил Петро, – наверно, Мария с бабой Любицей приготовили уже всё. Айдате ближе к ним.
– Да, да… – потерянно, будто его с кола сняли, закивал старик, направляя шаг к кухне и пряча смертельную досаду в глуби цветущих, гноящихся, глаз.
«Вот, ядрён марш! – расхаивал себя. – Наскочил чёрт на беса…»
Разворотливый старик загодя так и порешил, утолкал себе в голову, что с первого же дня навалится клонить сынов к тому, чтоб остались.
Вроде всё покатилось краше не придумать. Ни с чего путящой разговор поднял, вроде ответность какая проблеснула…
Ан на! Обвалилось всё, как в пропасть…
Ватно, сникло брёл по теснине коридора, не замечал, что его заносило, тыкался плечом то в одну стенку, то в другую, не слышал стлавшихся сыновьих шагов за собой.
«Я отступлюсь на пока. Осматривайтесь… Не маленькие… Сами поймёте, где и с кем Вам способней быть… Перервусь, а не подкорюсь. Всё одно на свою руку выведу. Будет верх за мной. Бу-удет!»
Стекла в душу уверенность, уверенность дала силу. Взял себя в руки, вернулся старик к хлопотам минуты.
Заботливо спросил:
– А что, сынки, наиглавно с дороги? – Сам и ответил: – Конечно, поесть, поспать…
Не знал, что ещё сказать.
Пауза затягивалась. Становилось неловко, и он, входя в кухню, обрадованно вспомнил, про что тянуло спросить давно, утишил шаг. Заглядывая Петру в самые зрачки, заговорил не без боли, одетой в притворство:
– Петрик, а правда… И по радио, и по газетёшкам по нашим, и по телевизору… Скрозь такая пропаганда… А правда… А правду брешут, что у вас голод?
Уловил Петро язвинку в голосе. Но виду не подал.
– Смертельный! – весело кинул.
– Выходит, есть вам от нас подмога. Как-никак даём пшеничку…
– За золото. Государство платит вам золотом. А нам за копейки отдаёт. Абы накормить досхочу всякого.
– С привозу накормишь такое множество. Сорочат, с голоду пухнут…
– Пухнут! Ох как пухнут, нянько! Вот один перед Вами пухлый. – Упёрся Петро в раскисшие бока, демонстративно шагнул в белый кружок весов, стояли в кухне, ближе к углу, но не далее как на вытянутую руку от двери. – Вот!.. С голодухи под триста фунтов наскрёб! Перепух!
В бережи оглаживал он здоровыми горстями тугое бочковитое брюшишко, как бы с ехидцей твердя, эко-де разнесло, расперло пухляка с беды.
Старик с тающим недоверием сторонне косился на его живот, часто смаргивал, будто что попало в глаза, помалу губы сами собой сложились в улыбку. Не похож на голодовщика. Оюшки, не похож!
С весов Петро трогал глазами Марию, кроившую паутинно тонкими кружалками колбасу. С ножа, с колбасы взор то и дело заманывало, сошвыривало книзу, и сам собой взгляд тяжелел, соскальзывал на разрез сбоку в блескучем красном платье.
Всякий раз, как Мария переступала, прорешка коротко распахивалась, на миг из неё узко выказывалась творожной белизны нога до самого верха.
Припомнилась афиша про театр одного актера, и тут, глядя на ногу, которая то выглянет, то спрячется, то выглянет, то спрячется, пришла ему мысль, что это – театр одной ноги. Мысль эта ему понравилась, он улыбнулся ей и с трубным вздохом поднял-таки любопытные глаза выше распаха прорехи. За Марией был настежь раскрытый холодильный шкаф, сверху донизу навально забитый свиными, куриными, говяжьими оковалками.
– Да Вы что? И в сам деле возрешили, что мы из голодного края?
– Тут, сыне, полтора центнера, – с теплотой во взгляде отозвалась от плиты баба Любица, поведя ложкой в сторону холодильника-стенки.
– И всё это намечтали затолкать в нас?
– Кое-что и в себя, – уклончиво улыбнулся нянько. – Бралось оно не вчера и не сегодня. Ноне мясо с зубами. Кусается. А ну девять доллариков отдай за кило! С бабкой мы тёртые-перетёртые, набрали в сезон. По полтора твердыша.[12] Этот запасец надобно нам растянуть на три года.
– Ну-у! – вбыструю подсчитал Петро. – По семьдесят граммулечек в день? Это ж что? Только понюхать? Извинить… И Иван, и я в каждую осень валим под нож по два тушистых кабаняки. Лично я привык есть так есть. А не нюхать!
А про себя подумал:
«Да при такой нормочке, извиняюсь, меня ни в какой театр не позовёт!»
– Ограничение в пище гарантирует долголетие и красоту тела! – с вызовом почти выкрикнула Мария и в подтверждение своих слов тяжело пристукнула тарелкой, ставя её посреди стола. Тарелка была выложена в один слой невообразимо тонкими ломтиками колбасы.
«Это-то на всех?! Да я на одну вилку всё это насажу, за раз проглочу. Вот и вся твоя красота!»
Чувствовалось, напала Мария на свою жилку.
Распаляясь, горячо раскатывала свою мысль:
– В каждом толстяке, Петруччио, живут двое. Собственно, сам толстун – пардон, о присутствующих не говорим! – и второй… тонкий, изящный, праздник для каждого сердца. Если с пузанчика стесать диетой всё лишнее, все те смертельно опасные валы жира, согнать всё его уродующее, в итоге получим само совершенство природы, – просительно улыбаясь, не без кокетства коротко показала на себя, жердинно выпрямляясь и подавая себя публике. – Это я Вам говорю как член общества, которое так и называется «Сбрось фунт веса с умом».
– В самую точку! – подавшись навстречу, выставил Петро палец, будто собирался проткнуть это само совершенство. – Вот эта проблема сушит и нас, голодных! – многозначительно, с сарказмом глянул на отца. – Ваша пропагандёшка поёт, что у нас проблема как поесть. А Вы наплюйте той худой пропагандёшке помеж очи за такую брехню. У нас же совсем другая серьёзная проблема. Как похуде-е-еть!
– Океюшки, дон Педро! – торжественно пришлёпнула Мария длинными вытянутыми пальцами по мягкому плечу Петра. – Своим богатым опытом я готова, братко, делиться с Вами хоть когда!
– Э-э… Какой из меня ученик?
– Не клевещи на себя. Все мы ученики, покуда живём. К практическим урокам похудения привлеку маму.
– Марушка, – с тихой усмешенькой отозвалась от печи мать, – я уже готовлю к подаче, позволь так сказать, твой первый урок.
Она дожаривала обваренное постное мясо, кутала в бумагу, забирая с мяса остатки жира.
– То ж не мясо будет. Резина! – Петро сложил ладони лодочкой, с мольбой поднёс к груди.
– Для кого резина, а для кого и диета. – В старушечьих глазах затлелась обида. – Тебе, сынок, надо есть половину того, что ешь. И никаких жиров! Никакого сала!
– Доскакался мячик – на гвоздь напоролся, – упало покивал Петро. – Да при такой диетке недолго ковырнуться даже и в гостях в могилевскую. Мне ж в обед дай-подай мисяку борща, шмат сала с пол-локтя да пол-литровую банку сметаны. Тогда я и работник. Готов ворочать горы.
– Допустим, ворочает горами трактор, а не твоё сало, – тускло возразила старуха.
Всё то время, решила она, что пробудут здесь браты, будет она снимать с Петра лишнюю тяжесть. И первым пунктом в её науке похудеть было: откажись от хлеба. Ну, за обед можно один ломтик, тонюсенький, как листочек. Больше ни-ни. С хлеба человек жиреет.
Смотрите вот на нас.
Люди у нас мелкие, лёгкие, диетичные. Вон даже наша Марушка. Призёрка лестничных бегов на самой высокой в мире торонтской телевышке…
«Призёрка! – хмыкнул Петро, покосившись на длинноногую Марушка. – Мда… Так какое сходство между телевышкой и женской ножкой? Чем выше, тем больше дух захватывает».
– Да! Призёрка! – подкрикнула гордовато старушка. – И здесько ничегошеньки стыдного! Почётное звание никому не навредит. А здоровью ого-го какой приварок это скаканье! Ведь одна ступенька при подъёме по лестнице продлевает жизнь на четыре секунды!
– Надо ли так убиваться из-за каких-то четырёх секундёшек? – ехидно бросил Петро.
– Надо, сыне! – торжественно пристукнула по столу ручкой ножа старуха. – Вся наша жизнь складывается разве не из секунд?
Петро приподзакрыл глаза. Промолчал.
Лишь пожал плечами.
– А таких грубых, – ласково продолжала старуха, – то есть полных, здоровых, как ты, Петрик, волов не встретишь в Канадочке. А всё потому – мало едим хлеба. И вообще сыты с пальчика… Знаю, любишь селёдку – тебе нельзя. Налегай, сынаш, на обезжиренное мясо, на фасоль с капусткой, на диетичные яйца, на овсяную кашку со снятым молочком…
Понуро слушал Петро приговор, редко взглядывал без разницы на плоскую, усохлую старуху, на такую же худую-расхудую её дочку, – ну прям гремит арматурой! – и обмякло думал, что же с ним станется, как усадят на диету. Вот гостеванье так гостеванье! Неуж страшатся, что не прокормят месячных гостей, а того и мостят под голодовку научную базу?
Старуха приметила надломленность в Петре, услужливо поставила перед ним капусту на постном масле.
В милости пропела:
– Не переживай, сынок. У нас, в Словакии, знаешь, как говаривали? То, что должен сделать, сделай сегодня, а то, что должен съесть, оставь на завтра. Оставим всё тяжёлое на завтра.
Петро опало поддакнул.
– А у нас, – ладясь старухе в тон, вкрадчиво встегнулся в разговор старик, – а у нас, в Белках, не хуже говорили… Хочешь, чтоб учеба на ум пошла, промой сперва извилины спиртом, – и, стукая бутылками, выставил пиво.
– Правильно! И сейчас так говорят, – ожил Иван, заждался в скуке ужина. – Народная мудрость не ржавеет. – Да на стол бутылку пшеничной, бутылку русской. У ног держал.
– Ух ты-ы!.. Русская паленка[13] собственной персоной!
Прищёлкнул старик по этикетке ногтем, погладил, виновато, потерянно косясь по бокам; будто для согрева с большого мороза неплотно охватил дрожащими скобками наливавшихся белью ладоней:
– Россиюшка…
Показалось старику, смотрят сыновья на него как-то нехорошо, с укором. Мол, водочка – кума, хоть кого сведёт с ума. А может, ты пьяным и родился?
Отдёрнул руки от русской, смято заоправдывался:
– Может, так с годок назад пивком ещё баловался… Нанёс мамай не знай эсколько! А тут врачи: больше нельзя тебе, дядько, пересахарился… Откопали чингисханята сахарный диабет! С той поры ни граммушка… Так с той дави пивко и стоит… Нетронутое…
– И всё годное? – Не стерпел Петро, соснул прямо из горлышка старого пива. – Как вчера с разлива! – Весёленький перфект! Мо-ожете делать…
В крохотные, с напёрсток, простые стаканчики наплескал старик русской.
Сморгнул слезу. Встал. И все встали за ним.
– Пиво – дело полюбовное. Пиво оставим на пока. А почнём с русской. С праведной. Первую пьют все, кому и нельзя. Из этой бригады я не отсаживаю и себя. Один раз помучусь и больше не буду… Сегодня всё всем можно… Ты, бабо Любша, не хвались давлением. Его уже и Петро, меньшак, нажил… Помру от своего сладкого обеда-диабета, а выпью с сынами… Ну… Чокнемся… За встречку, сынки!
12
Где верховинец, там и пенье.
Нашему Ивану нигде нет талану.
Пили и по второй, пили и по третьей; пили русскую, пили пшеничную, пили пиво; пили и в обратном порядке; выпитое сообщило этим собравшимся вместе людям свою волю, свою власть, и это заданное вином поведение, пожалуй, и было самое откровенное, самое естественное, что так горячо, может, в течение всей жизни каждый из них нёс в себе этой встрече.
Вскинутый тесный стариковский кулачок, откуда забрал всю силу опой, развалился потным комочком и вальнулся на стол:
– Пе-еть…
Чего ж такое и петь?
Стали Иван с Петром перебирать давношние песни. Кривясь, крутил старик охмелелой головой: не та! не та! да не та! Не-ет, не знают, не ведают сынаши, чем жива отцова душа.
В обиде ворухнул медвежьими бровями, хватил в бессильной досаде рассыпающимся кулачком по столу и, просторно кинув руками, закрывши глаза, загудел сипло. Поднял, повёл свою:
– У-у-у трем-би-точ-ку-у заг-ра-а-аю…
Ну как же!
Как же это Петро с Иваном сплоховали, как же вылезло из ума простое такое дело? Ведь по Верховине всякое застолье, большое ли, малёхонькое ли, без «Верховины» и не застолье. Уж так велось-правилось всюду, и как же они такое упамятовали? Ка-ак?
Разогорчившись и жарко обрадовавшись, что и за морем широким тот же обычай ходит меж русинов, в яростной согласности поддержали, грянули:
– Загра-аю, загуду-у-у, 3 своим милим рiдним краем Розмову пов-ве-ед-у-у…Пойманной, загнанной ласточкой билась счастливая песня в низкие стены, в тесное оконишко, напрочь закрытое, тяжело зашторенное, – радости не вымахнуть, и малой
каплей не пробрызнуть на улицу, на народ. Так уж велось, и в будни, и в праздники всяк знай лишь свою кучку, свою семью, всяк живи в себе, всяк нянчь свою мозоль и не лезь ни к кому с чем бы то ни было, с бедой ли, с отрадой ли – спишут в дремучих глупцов.
– Верховино, мати моя, Вся краса чудова твоя У мене на виду-у…Верхом руки отирая слёзы, старик крепился, напрягался весь до пружинности в жесте, в лице, во всем теле. Слабый, скоро захмелелый с малой выпивки, мучимый ещё диабетом, он перебарывал, переламывал себя, а таки не отпускал, не терял песню, такую родную…
Пел он её чаще молча, не каждый ли вечер пел.
Здесь, на чужбине, было усыхающее, умирающее его тело, но ни дня не жила с ним его душа: осталась она там, в родовом селе, осталась с Анной, с малыми хлопцами, и вот они привезли ему с Родины, вернули душу, чистую, молодую; мог он теперь одолеть и одолевал помалу в себе того, тутошнего, задавленного, кругом и во всём виноватого, во всём и всякому уступающего: здесь ты не у себя дома. С приездом сынов вошла в орёлика сила, вернулся он в ту пору, когда покидал свою хату заради надёжного хлеба своим детям, да не он им – они ему привезли радость, про которую думал, ложась и вставая; и тутошний, затёрханный, уходил, выдавливался из него, пятясь от другого, уверенного, решительного, как сам Петро.
Слились большие годы, а старик с твёрдой ясностью видел всё, про что пелось в матушке песне: и туман над ущельями, и синеющие за горами горы вдалине, и облака над ними, будто овцы на полонине, и сам он с палкой, бредущий за овцами, молодой, сильный, бездольный…
Покуда он пел, он был дома – всё там оставленное приходило к нему в этой песне. И был ли хоть день без этой песни? И был ли хоть миг, чтоб гнетуще не звало, не тянуло к покинутой земле?
Не будь океана, ушёл бы пешком, потому что, состарившись тут, он уже боялся не выдержать обратной дороги домой на пароходе или на самолёте, а потому одинаково боялся и парохода и самолёта – на самолёте он ни разу не летал, даже не смел подходить к нему – и только надеялся он ещё на свои ноги, как надеялся на них в то далёкое лихочасье, когда пешим порядком допластался, дотащился-таки от Белок до океанской воды.
Шли они тогда артелью, подрабатывали по пути на харчи и шли. Дорога не ввела его в трату. Расходов то и набежало, что на пароход ушло, да и те, пароходные деньжата, он вытрудил, так что всё вырученное за Аннушкин полгектарник земли, за коров, взятое в долг под проценты отправил он назад сразу, ещё с краю Европы, едва подскреблась побитая долгой ходьбой усталая нога к пароходине…
Иван и Петро, сидевшие от отца по бокам, уткнувшись лбами ему в плечи, сосредоточенно гудели своими басами; кручинно подбивалась к ним тоненьким усталым голоском баба Любица, время от времени промокая глаза белым платочком.
Одна Мария не пела и не плакала. Не знала она ни слов, ни мотива песни, ей было в удивление, ну чего это разливаться про какую-то там Верховину? Про ту Верховину и не слышала она ни от кого кроме как от отчима, к кому приворачивала лишь по Рождествам на минуту-другую.
Остонадоело ей это гуденье.
Храня внешнюю весёлость, выдернулась из-за стола, закурила. Припала птичьим плечишком к стенке, занесла ногу за ногу и из дыма с отстранённой, чужеватой насмешкой следила за застольем. В смеющихся её глазах навылупке не было полной радости, напротив, в них толклись недоумение, тоска, сиротство, что вероятней всего и выражало её состояние; она недоумевала, зачем она здесь так поздно, но она и знала зачем; она б давно унеслась из этого чужого ей гнезда с чужими болями, слезами, памятью, если б не пикантного свойства одно хотение, что прилипло к ней на вокзале при виде братьев и укрепилось в ней уже тут под придушенное пение.
– С-с-сынки-и… – доведя песню до конца, старик с жалобной кротостью заглядывал сыновьям в лица, – мои сынки-и… Как дома побыл… Эхма-а… Да разве, – ладонями судорожно стиснул Ивану щёки, верхом приблизился к Ивану, с горячечностью заспешил словами, – да разве, Иванушко, мы Иваны, не помнящие родства? Разве мы какие без Родины? Без роду? Без племени? Разве мы какие-нибудь там бжезинскасы[14] поганые? А-а!.. – сронил без жизни руки. – Сколь тут дней жмусь, сынки, столько разов и отчаливал домой. А всё тутоньки да тутоньки…
– Это, дед, – Мария вяло качнулась от стены, из дыма, – называется бег на месте. Бег в завязанном мешке. А между тем, – дробно потукала острым кроваво полированным коготком по часам на Ивановом запястье, – уже настучало за полночь и счётчик, – подняла мертвенно-скучный взор на лампёшку, слабо желтела под бумажным абажуром, – не стоит в этом серале на месте. Не в пример тебе…
Знала, куда шильнуть!
Старик смешался. Обмяк.
Месяцами дед с бабкой сидели по вечерам без света. Экономили. А тут тебе на! Полночь. Лампёха полыхает!
Морозина скатился по спинному овражку. Старик окаменело уставился в одну точку.
«Конечно, – трудно соображал, – какие ни раздорогие гостюшки, а час не вечерний… При полном огне… Край это нужно, как собаке чёботы летом… Набеседуемся ещё у день… Да и хлопцы с дороги подморились…»
Наказал старик старухе вести Ивана в комнату со шторами, расшитыми верховинскими хатками, это лучшая комнатка на первом этаже. А сам наладился с Петром в комнату с часами – во всём доме лучшая, самая дальняя комната на втором этаже.
– Де-едо, – отгоняя от себя дым, каким-то искательным, повинным голосом окликнула Мария. Старик оглянулся. – Дедо, отправлялся бы ты сам в своё Сонино, – срезанно уронила хмельную голову набок, на подставленные вместе плоские ладошки, шатнулась в сторону дедовой комнатёнки. – Тебе ль скакать по этим лестницам? Дай я провожу Петруччио да и помчу к себе…
– Раз желательно душе, проводи, дочурчинка, – не то обрадовался, не то огорчился старик – по смятому, пустому голосу невозможно было понять – и нетвёрдо, с усилием одиноко поскрёбся к своей боковушке.
13
Что бабе хотелось, то и приснилось.
Не моргать брови и усу, коли девка не по вкусу.
Сразу за крутой, почти в отвес падающей шаткой лестницей, верхняя ступенька которой служила и площадкой, начинались комнатки.
Пётр и Мария шли из комнатки в комнатку, и впечатление было такое, будто комнатки нанизаны бусинами на невидимую одну нитку.
Под первую же дверь, что открывалась, как и все остальные вовнутрь, Мария – шла она сзади – зачем-то сунула подвернувшийся под руку стул с вытертым сиденьем, откуда сквозь свалявшиеся грязноватые комья ваты выглядывали окроплённые ржавчиной пружины.
– Ты или в лесу? – коротко хохотнул Петро. – Боишься заблудишься и не выйдешь? Тогда уж лучше руби на косяках зарубки.
Мария просительно подняла палец к губам.
– Без комментариев.
И припнула стул и под вторую, и под третью дверь, и под четвёртую.
Не успел Петро и глазом обежать свою комнатёнку, как Мария, выстегнув сверху свет, зажгла слеповатый настенный ночник, что мутно зазеленил едва один уголок и дальше никак не теснил чёрную волю ночи. Тут же Мария охмелело вскинула над собой изнаночный низ платья и, приседая, стала туго вышатываться, выдавливаться из него, как змея из красной кожи.
– Весё-о-оленький перфект! – присвистнул Петро, дивясь видимому, а присвистнув, – познакомился мешок с латкой! – с отстранённым чувством опустил на ней платье, придёр-нул книзу. – Между прочим, здесь ты не одна. Улавливаешь?
– Улавливал бы это ещё и ты, дон Педрио… Психодиночка… Дурёнок… Мне кажется, у тебя одна извилина и та ниже пояса…
Устало, побито раскачиваясь с носка на пятку и с пятки на носок, Мария с капризной наигранной ласковостью, что скрывала досаду, щёлкнула Петра по сочно налитой розовостью мочке уха.
– Учти, от твоего юморочка, увы и ах, я начинаю без меры катастрофически трезветь, братка. А это крайне чревато для окружающей среды.
– Знаешь что, сеструня, – с ленивой обидой в голосе отвечал Петро, – за проводины спасибствую. А теперь отчаливала б ты к себе до хаты. Без юмора.
– Отвянь, – уныло отмахнулась она. – Я без юмора остаюсь, – и так же с унылым потягом развела в стороны согнутые в локтях руки, будто то, что она делала, делала без малейшего своего желания – принудительно выполняла всего лишь чужой, сторонний указ.
– Ах, во-он оно как! Не хочу в ворота, разбирай плетень!.. Позволь узнать, а кто здесь гость?
– Под этой крышей мы оба гости. И ты не забыл, что женщине, между прочим, не возбраняется уступать?
– В чём? Эта комната отведена мне.
– А разве я прогоняю? Оставайся и не забывай, что ты мужчина. Я боюсь темноты, – повернула голову к чёрному омуту окна. – Одна я никуда не поеду. И неужели выставить хрупкую, беззащитную женщину в глухую ночь – только на это и хватает доблести у современных рыцарей?
– Разве кто-то кого-то выставляет? В доме ше-есть ещё свободных комнат. Выбирай любую!
– Я выбрала. Эту! С часиками!
– Часы, подружака[15], мои, – с неколебимой холодностью заключил Петро; безразлично, по какой-то внутренней обязанности, словно перед ним была кукла-растрёпа, выпавшая из рук засыпающей малышки, застегнул молнии у Марии на платье по бокам, как бы подводя последнюю черту под пустыми словами, и тут она, похоже, опомнившись, что это уже и всё, почувствовав, что это уже и весь конец, запоздало вскипела, сорвалась – со всего маху огрела его кулаком по плечу.
Комариной силы удар опрокинул то пьяно-дремотное состояние, в котором находился Петро, разбудил, дал живости, и он с каким-то ранее не ведомым ему самому интересом стал вглядываться в Марию.
– Лось сохатый… – задавленно, оскорблённо цедила она сквозь зубы, мечась из угла в угол. – Липнуть к несчастной к одиночке… Думаешь, как одиночка, так и обжимай до угару? Ка-ак же!.. Или думаешь…
С вызовом, демонстративно распустила она снова молнии по бокам. Свела руки на груди.
– Ух ты! Какие мы смелые! Как лягушата. Прыгаем в омут и не крестимся!
Петровы глаза, восхищённые, по-доброму улыбались.
– Пускай лягушата! Пускай! Да зато ни лягушонок воды, ни мышонок копны, – в ласке она скользнула ладошкой по его утёсному плечу, – не боятся!
– И на здоровье, – согласился Петро. – Только на что ж… Забралась мышь в чужую солому, ещё и шелестит?
Не убирая с неё весёлых глаз, попятился, присел на край скрипнувшей кровати, выжидательно подпёр ладонищами голову. Ну-ну, полетай, вилюшечка вертячая. Посмотрим, на сколь хватит парку…
Он смотрел ей в лицо, смотрел сосредоточенно, оценочно.
Однако через минуту подловил себя на том, что не удержал высоко очугунелого хмельного взора, спихнуло, придавило взор книзу, и как он трудно ни подымай глаза, не мог поднять эту невозможную тяжесть выше красного её хулиганистого распаха, откуда то и дело кокетливо-дразняще выглядывала при ходьбе ножка не так чтоб уж и очень худобная, но не без точёности, не без сытости, не без лоска.
– Театр одной ножки…
Марию эти слова царапнули. Стала подле Петра, в кураже тыкнула его в лоб пальцем.
– Нормальный наберётся – в глазах двоится. У этого ж половинится! Разожми глядела! – и коротко отпахнула край платья.
Ног было, действительно, две, на что Петро, про себя посчитав, одобрительно кивнул, слегка тряхнул её кулачок, с достоинством державший в сторону край платья так, что обе ноги были слишком смело видимы.
– Опусти занавес, спектакль кончился.
– Начался, – в ломливом поклоне поправила она, снова собрав руки на груди, стоя к Петру именно тем боком, откуда из огневого провала, казалось, с усмешкой смотрела нога, белая, чуть взрозовевшая от русской водки, смотрела маятно, ждуще.
– Уходи, – ласково попросил он, – уходи-и. Христа ради. От греха надальше…
– А я шла, может, к греху поближе, – ещё ласковей возразила она, летуче погладив его плечо сторожкими жадными пальцами. – «Я не та, про которую говорят: не одни лапти чёртушка порвал, покуда её спаровал. Ойко, не та! Я не отпаду так от медведя от русского».
– Не могу я вот так, – с проста сердца сознался он. – В первый же вечер…
– А ты представь, дон Педрио, что уже второй, – просияла она.
– Представлял… Всё равно не могу…
– Ты представлял себе всё, – надсадно стреляя осоловелыми в глуби омутков глазами, вкрадчиво, нарочито хохотнула, одевая свои слова в шутку, единственно возможную в таком зыбком, валком случае, когда на полной серьёзности и не повернёшь язык на то, что надобно выворотить, – ты представлял без одной существенной пустяковины. Без моего ювелирного магазина… Хоть сейчас поехали! Бери! Что на тебя посмотрит!
– А если всё на меня уставится? – в тон ей с дурашливой игривостью вывернул он.
– Бери – всё! Всё-ё-о! – сорванным, пониклым голосом шептала дрожаще она. – Даже меня можно в придачу…
– И тут нагрузка! – саданул себя Петро в коленку. – Не-е! Оставайся, лавонька, с товаром! Побрехали, намололи на муку да на крупу, лясалки поточили и – доволе. Иванова жинка как учила дочку? Не знакомься близко с незнакомыми. А и я те уроки не пустил мимо уха.
Затянувшаяся эта болтовня вывела Петра из себя. Потемнел лицом, набряк, надулся, как тесто в корыте.
Он решительно подхватился, крепко сжал Марию за руку вывести, и это, поняла она своим женским чутьём, было бы худшее, что можно придумать в её положении. Это бы отрезало, заказало ей путь к нему и завтра, и послезавтра, и потом ещё Бог знает на сколько – да на всё то время, пока будет он здесь. Страх навсегда спалить к нему мосты самой себе напугал её, она быстро протрезвела, как кошка, которая скоро поняла, что сверх всякой меры нашкодила. Конечно, навалилась на себя с запоздалыми попрёками. Человече с дороги с такой долгой. До меня ли ему сегодня? Ладно, пускай я оставлю его в эту ночь. Зато во все остальные ноченьки – он мой, мо-ой! Никому не отдам!
Она улыбалась своим мыслям, богатела от этих мыслей, от всего того, что сулила эта перспектива; ей было уже достаточно одного лишь того, что этот медведь, как она говорила, ростом в два метра без кепки, вёл её под руку, он вёл её, не кто-нибудь, а он сам, и больше ей ничего не надо ни сегодня, ни завтра, ни потом когда – всё её существо заполнили, залили гордость, торжество. И что до того, что вёл он её всего-то только до двери, главное, он вёл!
Когда он опустил руку с её локтя и мягко, как-то особенно обещающе тихонько подтолкнул – и в том, что он вёл её до двери под руку, и в том, что нежно пришлёпнул по жидкой заднюшке – всё это виделось ей добрым знаком, добрым залогом, идущим в будущее; уходя, она уходила с лёгким сердцем; ей было просто хорошо, славно; никогда так она себя не чувствовала; в обновленной её улыбке, в прощанье с порога вскинутой руке были и счастье, и зов, и ожидание, и надежда – в лице, в жесте горячо билось, дышало всё живое, непритворное; этот проблеск искренности, чистоты горел и в глазах, твердивших: я верю тебе, я жду тебя, я надеюсь. Помни, у моей надежды глубокое дно…
14
Не остри зубы на чужое.
Дырявый мешок не наполнишь.
С невозможной обидой на Марию брёл старик в свою боковушку. Уму непостижимо… Ну как эта крутижопка словчила отбить Петра?
Как отправил визы, замечтал…
К первому сну разнепременно сам поведёт сынов. А вертанулось…
По жалости дал бабке проводить Ивана. Иначе вроде и нельзя. Даром что в обиде на бабку – за долгий канадский век так и не нажили ребятья, – а не отказал в последнем. Все ж кануны блажно просила дозволить быть ближе к его сынам, старик и размахнись: не родила ни одного нашего, радуйся хоть на моих! Сам и скомандирничай, чтоб вела ко сну Ивана, затаённо ладясь сам проговорить до утра с Петром, с младшеньким. Вот сведу к постельке, уложу, подсяду, пристегнусь где на прилепушке у изголовья, сынову голову к себе на колени и такая завяжется у нас открытая, вся наружу, беседа… Развязалась, кактус тебе в карман! Будто всё внасмех крутнулось. Откуда только и выпнулась эта… Эта метёлка с пустом не кинется. Уж умысел какой да припасла…
Не раздеваясь, Головань долго сидел у себя, сторожко вслушивался в лестницу. Уж кто-кто, а лестница первая скажет, как станет Мария спускаться от Петра. Но лестница, шаткая, с подскрипом, молчала, не подавала своего голоса, старого, скорбного.
И за стенкой тихо.
Ни шагов, ни даже вздохов, таких привычных перед сном.
Конечно, бабка уже спит. Эта и сегодняшнюю ночь подпихнула под одну гребёнку со всеми минулыми, короткими, длинными, всё больше длинными, их такая гибель была – четверть века заспала.
Дальше, за бабкиной комнатой, Иванкина; тихо и там.
Тихо во всём доме.
А что же Мария? Что же всё околачивает баклуши? Не уходит? Что же, идол её бей, веяться до такой поры?
До звона в висках цепко вслушивался в ночь, наливался беспокойством, щемливой тревогой…
Наконец-то и он, тяжёлый на ухо, уловил придушенный, тугой стон ветра.
Что-то неясное подхватило его, с потерянным удивлением закосолапил он во двор, тесный, похожий на заполошно гудевший чёрный котёл.
На месте не оказалось Марииной машины. Это успокоило, угомонило старика: уняло, отломало разом сердечушко.
Слава те, Вышний, убралась, по порожкам по лестничным, гляди, на босых пальчиках скралась без слышимости, без шороху. И ветрина тебе в спину! У Голованей полижешь мёду только через стёклушко!
Вернулся назад уже другой. Не тоска, не оцепенелая растерянность – ликование билось, выплясывало в посмелелых глазах, торжествующе обходивших комнату.
Взгляд зацепился за горку привезённых карточек, что стекли на тумбочку из белого плотного конверта.
Белки… Мои Белки…
Мог ли он и подумать, что сведёт-таки судьба с сынами в этом далёком от тебя доме? А свела, све-ла-а сударушка…
В бережи выплеснул карточки поверх лёгкого простого одеяла на постель, разместил что за чем в порядок.
Вот само село. Дома… Сады… Улицы…
Вот люди…
Выказывался, получался портрет Белок…
Портрет Родины…
И если…
Отстранённо сорвал со стены свою крупную карточку над оголовьем. Фотография была не столь старая, сколь давняя, как с иронией думал про неё, снята она была уже здесь, и был он на ней один, это была вообще первая с него карточка в жизни, после он отдал её увеличить.
Первым его желанием было выдрать снимок из-под замутнённого временем стекла, но в следующую минуту он воспретил себе это делать. Нет, нет! Ни за что!
Весь век свой он видел мир сквозь родные Белки. Что он видел? И мог ли толком видеть? Если видел что, так не больше того, что увидишь вот так вот…
На свою фотографию он вплоть, срез в срез, наложил привезённые Петром оттуда карточки, прижал стеклом. Вот уже и в рамке его Белки, под Белками он сам, растворился в Белках; карточки так плотно пришлись друг к дружке – ни паутинной щёлки, ни лезвенного просвета не осталось ему, как никогда и не было в самой в жизни, не глянуть в воле с-под мёртвого стекла в мир.
Вышло что-то вроде простенькой наглядной картинки про себя, такой ясной – свет разлился в душе. Ощутил осязаемо, что за шоры носил в себе, как-то разом сошлись несводимые концы, как-то разом объяснилось смутно угадываемое раньше, но совсем так и не понятое.
Намахнул старик на рамку расшитый внучкой Маричкой рушник. Получилось красиво. И потянуло его показать эту красоту Петру. Почему именно Петру? Оба сына родные, за какой пальчик ни дёрни больно… И всё же непременно сперва Петрику, младшенькому…
Плечом отпнул дверку; пристукнул, закрывая ногой, и что было в нём огня в нарастающей радости изгоном погнал себя в полной теми коридора к лесенке, подгнетая обряженную рамку к маятно настукивавшему сердчишку.
Не успел сделать и пяти пробежистых шагов – упал, распластался, в кровь рассадил нос, лоб, однако не выронил портретницу, со страшной жутью хрустнувшую под ним.
Что за язва?!
Во все тёмные поры без света шастал по коридору, ни разу ни на чем не споткнулся, не на чем было спотыкаться, потому как у аккуратиста хозяина всякое-разное хламьё не копилось, не жило в коридоре, хватало на то места и в чулане, и в сарайке. За что же он тогда задел?
Старик, опустив на пол святую свою ношу, не подымаясь, отскрёбся назад, ощупкой пошарил, поискал ногой. Ага, какая-то гангрена да и попалась под ботиночный носок. Полохливо дрогнула, удёрнулась.
Кинулся прыжком, точно кот за мышью. Сцапал кого-то за щиколотку, оторопело давнул.
– Ты уж, дидыко, дай мне прощенья, – размывчиво, без уверенности глухо запросилась старуха.
– Ты!? – нарывисто, запальчиво зашептал старик, обегая руками стоявшую на коленях бабку. – Вот окаянство! – К душе старику пришлось, что стояла-то бабка перед Ивановой дверью, свернул пыл, отмякло спросил: – Ты чего на коленьях? Или молишься?
Бабка молчала.
– Ночь на то, чтобушки спать, – пальнул с незлым назиданием.
– А… Какие в наши года сны, – припечалилась раздумчиво. И зашептала горячо, светло: – А ну Иваночко… красивый, как шёлком шитый… попросит воды… А ну наснится тяжёлое что с дороги… вскрикнет, позовёт сынок… Я и тут…
– Ты у меня ско-орая, – не то похвалил, не то попрекнул. Подумал недобро: «Хорошо возле чужого стога колоски собирать». – А вслух передразнил, выпустил колючки: – Я и тут, я и тут… Надо было…
Недосказал, что же такое надо было. Осёкся.
Вздохнул с протяжной надсадой.
«Выхвалялся гриб красивой шапкой, да что из того, если под нею головы нету? Неча караулить ночи под дверью у чужих сыновцов. Своих надо было нащёлкать.»
Меньше всего можно было винить старуху в том, что не прижили они детей. Как только она беременела, он сам выискивал ей подешевше повитуху, бабушку-знатушку, и та убивала в ней начало новой жизни; убить того безымянного человечка было дешевле, считал старик, чем выходить, когда уже сами на последнем возрасте, на том возрасте, когда ещё могли завести детей, но боялись, что не хватит силёнок в чужой стороне поставить детьё на ноги; три новые жизни забрала из старухи повивальная бабка, а потом уже и повивальная бабка не занадобилась, когда таки отважились, что больше не позовут её.
Мёртво всё в пустом доме без детского голоса. И всякий раз, как разговорятся по душам, старуха неминуче свернёт к слезам: ах, кабы маленький, было б дляради кого и жить, а так… Что ж так?.. Остались, как в море без весла…
Всего бывает на веку – и по спине, и по боку. Но чтоб не дать жить дальше своему корню, остаться чтоб без детей?..
Старик, виновативший в том одного себя, из последнего жалел старуху, по жалости спускал ей всё, что там ни случись, что там ни вывороти она; вот и сейчас, потерянно возвращаясь с рассаженной рамкой в свою комнату, с порожка простительно кинул старухе в темноту:
– Чего ж, ядрён марш, путаться под ногами?.. Наравится – войди к Ивану. Посиди…
К радости старика, всё повернулось не так уж гибельно, как думалось ему сперва. Рамка вовсе целёхонька. При месте и всё стекло, только множество белопаутинных трещинок рассыпалось, разбежалось по нему корявыми лучиками от середки, куда, похоже, ахнул старик лбом или подбородком, когда упал со всего маху.
Но стеклина не выпала из рамки. Не высыпалась. Что её держало? Гвоздки по краям? Ой ли… Будь стеклина без целости, разве два гвоздка, каждый мельче ногтя, удержали б её?
У него мелькнула зыбкая догадка:
«А что, если стекло держит не ведомая ни мне, ни кому другому сила – неколебимая сила притяжения, что жила в карточках? Сила эта магнитно пригнетает к себе полоски стекла, не даёт им выломиться?»
Подивился старик курьёзности мысли, но склонился к тому, что не будет в том особого греха, если помирится с этой мыслью.
Однако снова понести рамку с карточками к Петру убоялся – а не дай Бог развалится! – и приладил её в красном углу вместо иконы, аккуратненько поправил поверху рушник, так что его концы, богато расшитые орлами, сходили по бокам рамки до одной черты.
Глаза уже никудышне служили ему. Он в упор смотрел на рамку, смотрел как-то растерянно-восхищённо, пропаще и не видел, что на стеклине свеже темнело несколько сухих расплюснутых кровяных капель, выскочивших у него из носа – всякое падение чего-нибудь да стоит. Самая крупная закрывала собой, зачерняла крышу и переднее окно в картинном Аннином домке.
«Всё же лишний удар головой об пол ума не набавляет», – на вздохе подумал старик и осторожно, почти крадучись по неосвещённому коридору, перебирая дряблыми подушечками пальцев стены, перильца прогнутой, с продавлинкой, лестницы, потянулся наверх.
15
И в пепле искра бывает.
Не дай Бог голодному обед варить.
Начинало тяжело светать, когда бесшумной тенью старик втёк к спавшему у окна Петру; по углам всё ещё жалась ночь. Было тихо.
Свет шёл от окна, самого большого, разгонистого на всём втором этаже (остальные комнаты всё проходные были, с махонькими, с носовой платок, оконцами-слепышами, там постоянно жила, будто на привязи росла ночь), только эта комната, гостевая, знала живой свет дня. День шёл в окно. Старику же казалось, что свет шёл от Петра.
Похоже, Петру было жарко.
Лежал Петро поверх жёлтого одеяла.
Поднеся к низу щеки сложенные руки, остановился старик посреди комнаты, опустился перед сыном на колени, с замиранием дивясь тому, что этот человечище его сын.
«Лысый… Совсем, как я… С сивыми висками… Да будет!..»
Не верилось, что это его сын. Да что из того, верилось, не верилось?
Рос, поднимался Петро на тех же дрожжах, что и Иван, на голоде да на холоде – судьба вертела обоими, как чёрт дорогой. Однако был у Петра козырь, с первого же взора намертво пристегнувший старика к Петру: нажил Петро белого волоса, а даже и разу не держал старик Петра на руках. Когда уходил на заработки, жил Петро ещё в матери.
Мечталось взять при встрече сына на руки. Да куда ж эна неохватну, невподъём велику скалушку возьмёшь, сам попал к нему на руки; и не было у старика минуты выше той, когда плакал на руках у сына.
Видел старик ту площадь у аэропорта, видел себя на руках и, медленно опав на колени, уронил лицо в ковшик раскрытой на краю постели сыновьей ладони со льдисто блестевшими мозолями.
Со счастливым усилием разлепил Петро веки:
– Нянько? Вы? – дрёмно прогудел. – Плачете?
– Плачу, сынку, плачу… Прости… Рос без меня… И разу не посидел у нянька на руках…
– Да что Вы… На коленьях?.. Не на молитве!
Подхватив отца под мышки, Петро усадил его на кровать, привальнул к себе и только тут, заметив, что сверкает перед отцом в одних трусах, конфузливо намахнул на себя одеяло.
– Я, сынку, не засну нипочем… Сыны в дому! Какой там сон… До сна ли? Всё думал, каких Вас встрену… Всё думал, меленькие Вы у меня, не выше, думал, по сердце мне, а Вы, – нерешительно повёл рукой по крутому Петрову плечу, – переросли меня. Больши-ие…
– На печи дошли, – задумчиво улыбнулся Петро.
– На печи… Не на печи… А и без нянька дети растут в люди. Из беды, из горя сами поднялись…
– А-а… Что вспоминать ту пору?.. У других по нашей стороне, думаете, легче? То не люди бедовали – весь свет бедовал! Были мы под панами мадьярскими, были под чешскими… Иначе и не звали: вонючий русин, вонючий руснак. А стали сами по себе – распечатали спрятанную от русина за семью замками радость, каждый себе великий пан. Вон мы уж на что с Иваном работяги, простого калибра, а дочки наши где?
– Постой. Откуда у тебя дочки? Про своих ребяток ты и не заикался.
– А что ж заикаться? Нету… – Петро сел на кровати, обхватил колени поверх одеяла. – Нету, – глухо повторил. Угрюмо опустил голову. – Голый я, нянько, как оглобля.
Старик уставил на сына напуганный взгляд. Почему?
– Пустая мне хозяйка досталась… Неродица. Уж по каким профессорам ни возил, всё надеялся, всё ждал: а может быть, а может быть… А-а… Коли нет счастья с утра, не жди и под вечер. Годы её, годные для детей, сошли. Потеряны. Всё. Надёжи никакой. И разу самодруга[16] не была… Как же оставаться без дитяти? Только для своего зернятка и стоило б даль жить…
– Старая как свет история… Под каждой крышей свои мыши…Я б на твоём месте, гляди, горшок об горшок и разлетелись бы звонкими черепками, – осторожничая, подсказал отец.
– Да я ль про то не думал!? Сколько раз собирался… Не могу! Говорят, может мужчина уйти от любимой и любящей жены, но от стервы – никогда! В том-то и тормозок, что она у меня не стервь какая… Бывало, лежу ночь без сна, ворочаю, перекатываю в голове свои неподъёмные гири: вот придёт утро, скажу про развод, обязательно скажу.
А гляну на неё – така-ая жаль полоснёт по сердцу! Куда ж она без меня? Союзом изжили лучшую пору жизни! А под старость выпихни из души на улицу? Ах, роди хоть одного крошутку, из цены из красной не выпала б у меня… Хата с детьми – базар. А без базара – тюрьма. Без своего базара я устал. А через то, верно, и не люблю её уже. Так зато жалею больше любви. Как не жалеть? Она у меня и ласковая, и добрая… Всем взяла. Мода у неё какая спать… Сколь живём, хоть бы раз отвернулась к стенке иль легла отдельно. Всегда голову мне на плечо, а ручонками – она у меня малё-ёхонька, ладненька… с виду девочка, – обовьёт меня за верх руки, держится, как тонущий муравей за щепку, что крутил однажды в водовороте шалый вешний ручей у меня на глазах. Выловил я того муравья из дурной воды, из «бочки». Да кто ж выпнет меня самого из моей погибели?
Доброта, доверчивость, открытость, простодушность, с какими Петро говорил о вещах, о которых вроде и не положено говорить сыну с отцом, поразили старика. Этих простых качеств, составляющих суть души русина, старик давно лишился, лишился не в первые ли поры, когда оказался по эту сторону воды, и этот разговор подвинул, подвёл его к странной для него мысли, что ещё не всё в мире находит цену единственно в денежном выражении.
Старик даже огорчился, пожалуй, несколько искренне, что Петра придавила житейская нескладица. Однако его сострадание длилось не долее мёртвой вспышки падающей звезды. Его хваткий, подвижный ум, натренированный на канадской практике, уже в следующее мгновение оценил эту нескладность как манну небесную, ниспосланную ему, старику, самим Богом.
«Какой гость, такой и калач… Мне, дурило, несваруха твоя в руку. Да, в руку! Кину-ка я на тебя коренную ставку. Сбанкетует старый Головань, пойдёт ва-банк. И проиграет? Старый Головань работает без проигрыша!..»
В одно время в старике жили двое. И он масло с водой не смешивал. Один, обмирая от явственно накатывающейся удачи в затеваемом предприятии, ликовал впотаях, воровски, не выказывал, не пускал своего восторга наружу; другой же, безвольный, коварный, сориентировавшись, навёл на себя маску сострадальца и убито, стеклянно смотрел на сына.
Петро верил этим глазам, он поверил им с первого взгляда ещё там, в Белках, когда увидел отца с карточки; эти глаза ещё круче привораживали сейчас, приманивали, перед ними невозможно было удержать в тайне накипелое; и если дома, с женой, он год к году становился всё молчаливей, замкнутей, подолгу запирался в себе, то тут, увидав эти родные глаза, отмякнув, выплеснул свою душу: в отце Петро увидал человека, кто был больше чем отец, увидал человека, кому потянуло открыться во всём, выговориться до дна ровно так, как мы о чём-то глубоко личном молчим с близкими и с необъяснимым откровением вываливаем его на суд случайному прохожему; и чем дальше искренничал Петро, ему легчало, всё тесней света втекало в него.
Слушая исповедь, старик смотрел сыну прямо в глаза, смотрел настолько жертвенно, что Петро почувствовал себя невольно крайне виноватым в том, как ему показалось, что расстроил отца своими страхами, а оттого, готовый затянуть, загладить свою вину, поспешил подпустить весёленького и себе в голос, и в сам рассказ.
– Вы, нянько, – каким-то новым, насильно бодрым тоном взял Петро, сквозь погибельную угрюмость выдавливая на лицо ущербную, мученическую улыбку, – Вы уж так и не убивайтесь. Не всё уж так и окаянно у меня. Ну, нет детей… Кому-то жить и без детей. И потом, как оно повернётся дальше, а покуда я и не скажу, что у меня вовсе нет детей. Вон у Ивана… – при упоминании брата Петро хорошо улыбнулся, наконец-то невольная фальшь ушла и с лица, и из голоса, – Иван у нас ювелир, дамских дел мастер… – Вон у Ивана четыре дочки, четыре Ивановны… Эх, Боже наш, неодинаково даёшь: одному мечешь, а другому сучишь дулю. Ну да что… Они Ивану дочки, они и мне дочки… У нас дележа нету, всё как одна семья. Что на столе у меня, что в саду в моём выспело, на огороде – заходи, дочушка, бери! Много там надо нам с бабкой? Не голодные, не раздетые… Наличными совать не рука. Так мы подбились как… Вызнаешь стороной, кому из девчатишек что наперёд надобней, то уже и ищешь. В одну получку забежишь с пальтишком, в другую с туфельками, в третью наявишься с платьишком. Всё это несёшь под маркой подарка по случаю хорошей ли, дурной ли погоды. Радости у девчатишек что!
– Да, да. Иван говорил, если б не Петрище, как бы и подымал детворню.
– А, слушайте больше. Наскажет! – энергично возразил Петро и безо всяких мостков-переходов увёл, подпихнул разговор на другое: – Наши дочки по самим университетам уже учат! Одна в Ужгороде, вторая во Львове. А меньшеньки по институтам ещё сами учатся, пасутся… Умка копят…
– Высоко-онько учат и учатся! – неверяще проговорил старик. – Это ж какие толстые надо мильоны гонять! Вон Мария. Магазин целый ювелирный держит на паях с одним с нью-йоркским. Самую ходовую безделицу правит ей сюда на продажь. Какие капиталы льются через её руки, а проучила близнюков своих четыре… точно и не сбрешу, сколько-то там классов… что-сь по мелочи ещё и амба. Не на что даль учить… – Старик задумался, в досаде махнул рукой. – Не позавидуешь хлопчакам… Пошли служить к одному. Джин, этот паразит непотопляшка. Разворотистый. Где надо подсуетится, где сплутует, где подмазочкой мазнёт начальству по губёшкам, оно и не скрипит… Тем лукавец и держится. А второй – я его всё Светлячок да Светлячок, а по бумажкам он Гэс, – а второй по части подлости совсем не удался. Русин русином. Обделил его Господь. Забыл бросить в него хоть щепотку подлости, пустил в жизнь честнягой дуралеем. Тяжелей обидеть по нашей стороне нельзя! Такого неотмываемого, смертного греха хлопчаку не простят. Уже не прощают… Полгода вон без работы… А умница, хват, трудяшка. Поучить бы ещё. Да на какие богатства? Год в университете – пятнадцать отдай тысячек зелёных!
– А у нас наоборот. Студенту отваливают по сороковке рубляшей в месяц. Учись только!
– Хвала Богу, что у нас там всё вроде к ладу мажется. Я не стал при всех… Как наша мамка? Читать не научилась?
– Это почему же? Да она четыре раза кончала школу, два заочных университета. Кончает сейчас ещё два заочных института и в одно время – вспомнила детство! – в эту весну подалась в детсад. Там-то она в свой час не была.
Старик улыбнулся простительно:
– Не отдохнул ты ещё с дороги… То не ты, Пётрушка, говоришь. То паленка за тебя говорит.
– Не, нянько, паленку сюда не вяжите… Наши с Иваном домяки рядом. На меже – она у нас так, для блезиру – сладили в саду мамке особнячок. Так она живёт со мной. А это… Ну, полежать после обеда, отдохнуть, побыть одной.
В той хатке стали дочки людьми. Как уроки – туда, в куренёк. Там тихо. Бабка не мешает, только слушает. Там дочки и выучились. А теперько на мамке и внучка Снежана. Невжель неясно что?
– Ясно-то ясно, да… – Старик хитровато прижмурил один глаз. – Так ты, Петруня, говоришь, мамка воспомнила детство? А почему только ей можно такое? Я тоже имею право на воспоминание! Ты, Петрик, добирай, добирай райски сны. А я пойду… А я пойду…
Жива, довольна всем Анна его. Настроена хорошо. И коль ей хорошо – и ему хорошо!
И нарешил старик…
Через малые минуты стучался он в дом напротив, стучался к одному из тех своих древних товарищей, с кем отправлялся в одной артели в заокеанщину.
Ему не открывали, долго не открывали; наконец-то открыли; горел открывший старец солёно обложить, послать Голованя не меньше матери – надо ж середь сна разгрохотаться, надо ж обязательно сдёрнуть с тёпла гнезда в самую силу сна! – но, увидав, что за одеянье было на пришельце, подрезанно отшатнулся к стенке.
«Чего ж тут-но диковинного? – подумал Головань, с чинной весёлостью оглядывая себя. – Стоило вырядиться, в чём ходили когда-то и я, и ты, Юраш, там, дома, в Белках, стоило показать тебе со стороны тебя ж самого, как ты уже и вроде недоволен. Тебе уже даже вроде того и не нравится, как псу мыло…»
Открывший был ещё во сне, в тёплышке постели, далече был; не ума было ему вскорую сообразить, настроиться на то, чтоб хоть отдалённо понять, поймать видимое.
На Головане ничего не было своего. Всё – с Петра.
По самый подбородок закрывала лицо ведёрная жёлтая клебаня[17] с роскошным пучком колдовских цветов на узких полях; для надёжности дважды схваченная расшитым поясом, стекала до пят сорочка-вышиванка, просторная, до жути размахнувшаяся, будто атлантическая вода; из-под низа вышиванки широченно выставились носы лаковых туфель сорок пятого, раздвижного, размера, державшихся на ногах исключительно потому, что дотумкал-таки Головань натолкать в носы газет и завязать в узел шнурки не на самих туфлях, а уже на ногах выше щиколотки; были на нём и закатанные до самого некуда штаны; можно б было, думалось ему, по причине мелкой фигурности воткнуться в одну штанину; одной, пожалуй, с избытком бы хватило. Но что тогда делать со второй? Не отпарывать же!
Головань сиял. Он был во всем сыновьем! Зуделось ему, чтоб молодая, очумело-больная его радость перетекала в близких ему людей из верховинской кучки. Однако этим близким людям не радость несла это зоревая встреча, вовсе не радость. Недоумение, отчуждение и, что заметней всего проступало, было у них большое желание поскорей избавиться от блаженненького полуночника.
– Вам чого треба? Пить чи воды? – угрозливо наконец-то прошамкал Юраш, не отворачиваясь от Голованя и пятясь, утягиваясь в глубь коридорной ночи. – Совсем выпал из разума… Как дурень с печи… С каламанки[18] разыгрывать!
В ответ Головань поясно кланялся, без обиды говорил, что принёс поклон с родного краю и в доказательство протягивал в сумрак пластинку про Верховину.
– Сыны навезли полных два десятка таких пластинок. Берите! Слухайте с утра!
Обеими руками решительно заотмахивался Юраш от подаваемой пластинки, будто от беды какой невозможной.
– Бачу! Гарно туй[19] бачу, што за сынки нагрянули! – ядовито брунчал из темноты, с опаской взглядывая на свежую ссадину на лбу у Голованя, на запёкшуюся кровяную точку под носом.
– Аха… Нагрянули! Оба-два! – сановито светился лицом Головань. – Присоглашаю… Приходьте вечером на забаву…[20] На верховинскую приходьте колбаску… А Вам и подарок… Через сынков Лиза, дочка Ваша, прислала своей брынзы да сала…
Мрачный Юраш выступил с засовом на мерклый свет.
Стал медленно, вызывающе закрывать дверь.
– Но Вы ж просили ей прислать под удачу, – сдавленно прошептал Головань в полумрак закрываемой двери.
Ни в первом доме, у Юраша, ни в десятом никто не взял у Голованя песню про Верховину, никто не поверил его словам про приезд сынов – люди шарахались от него, закрывали перед ним двери, закрывали, захлопывали так, что вздрагивали дома; старик не обижался, ему было хорошо, он был во всем сыновьем, он говорил всем правду, хотел рассказать свою правду всему городу, рассказать сейчас, на первом свету дня, не в силах дождаться, когда день войдёт во всю свою власть; покончив с приглашениями, старик присел передохнуть на скамейку в скверике и в счастливой усталости уснул сидя с улыбкой на лице.
А над ним тянулось, клубилось тёмно-серое, сизое сукно низких комковатых туч.
16
И на молодых еетеях колючки растут.
На своём пепелище и курица бьёт,
а петух никому спуску не даёт.
А вечером в названный час никто из гостей не пришёл.
– Ну и не надо. Нам больше достанется, – с весёлой грустью сказал старик Головань. – Баба с воза, спицам легче. Люди мы маленькие, холодильные шкафы у нас здоровые. Перебедуем!
А ведь не бегает худо без добра. Нет большой потери без хотя бы малой выгоды.
Все, кого созывал старик ранним утром, не заменят и срезанного ногтя того, кто сам, не зван пришёл, но кто желанный тут во всякую минуту, покуда жив старик, покуда жива баба Любица. Пришёл Гэс!
– Э-э-э… Светлячок! Светлячо-ок!.. – дрожа вскинутыми для объятий руками и семеня навстречу Гэсу, застонал старик, и всё в доме пришло в движение.
Выбежала старуха. Выбежала Мария. Вывело любопытство Петра с Иваном.
Петру с Иваном было неясно, чего ж это оповещать всему миру, что наявился какой-то русявый сампатяга парень, и они скучно принялись просто наблюдать, что же будет дальше, поскольку повернуться и вот так просто уйти им показалось неудобным.
Замерев в углу гостиной, старуха сложила руки на груди и сострадательно, сквозь печальные слёзы смотрела на парня.
Мария, отжав плечом старика от парня, повалилась парню на грудь и заплакала настояще, как про себя почему-то отметил Петро.
Парень тихонько гладил её по спине, в конфузе краснел и молчал.
Восторженно допытывался дед:
– Какими судьбами, роднушка?
– Узнал, что к Вам, к русинам…
– Мы, Светлячок, – перебил старик, – не дуже гордые… Мы и на руснаков откликаемся…
– Вот узнал, что к Вам в гости нагрянули русины с Карпат. Зашёл посмотреть…
– Ка-ак узнал?
– Проблема! Да в нашем Калгари удержи новость на запорках! На одном конце чихнёт бычок, на другом ему желают крепкого здоровья.
Вылив первые изобильные слёзы, Мария, не переставая плакать, не выпуская парня из рук, словно боясь, что он может снова незаметно пропасть, присела на краёк старого дивана, стоял позади, судорожно давнула книзу сынов локоть. Садись!
– Как ты так можешь?! – горестно, неутешно заглядывая парню в самые зрачки, кинула отрывисто. – Ушёл – и нет целую неделю. Вот так сынок!.. К сердцу камень пудовый… Что ж тебе немило в родном доме?
– Хотя бы то, – с холодным вызовом отвечал Гэс, – что там слишком мило твоему Джимми. Какую гнусность ни сотвори, одни умиления, одни ахи. Ах Джимми!.. Ах Джи!.. Молись на него!.. Да моей ноги не будет в доме, пока он там!
– О Господи, – скорбно всхлипнула Мария и гнетуще повела вокруг глазами, точно призывая всё живое и мёртвое в свидетели. – Как и подымается язык на такое… Почему же это вы, одной крови братья, близнюки, не можете вместе и минуту быть под одной крышей? Неужели вы только и могли ладить, пока жили вот тут у меня? – опустила вялые плети рук к себе на живот. – Неужели от вас, – искательно, просяще смотрела Мария сыну в лицо, – неужели от вас и вся радость, пока носила вас под сердцем? Ну почему, ну почему я сейчас должна ложиться и вставать со слезами? Я мать… – Мария снизила голос до обиженного шёпота. – Понимаешь? Я мать… Я обязана знать, чем занимается мой сын. Я обязана знать, что ест мой сын. Наконец, я обязана знать, где же обитает целую вечность мой сын… Я ж тебя не на улице нашла…
Гэс повинно, уступчиво погладил мать по плечу, ободряюще стиснул ей погибельно тонкий локоток.
– Пожалуйста, засыпай спокойно. Я не хроник[21] какой-нибудь… Не наркоман. Скорая «белая радость» не прельщает меня… Городишко наш не такой уж конченный, как думалось раньше. Я открыл для себя квартал, где «Кому на Руси жить хорошо» читают без перевода.
– На какой? – машинально спросила Мария.
В глазах сына блеснуло недоумение.
Действительно, на какой надо переводить, чтоб можно было сказать, что это наш язык? Ведь в городе что ни квартал – новое землячество. Со своим рисунком дома, свои свычаи да обычаи, свой язык. Но одного, общего языка, роднящего всех, – такого единого языка нет в городе, не говоря уже в целом о стране.
Да что цепляться за всю страну? Возьми ту же голованьскую веточку. Крохотка семья. Но даже у неё не один язык. Дидыко говорит по-русски, бабушка – по-словацки. Языки схожие. Старики порядочно друг дружку понимают.
Мария, конечно, знала и русский, и словацкий, – отец у неё был русский, – да тянется Мария из последнего к английскому. Видимо, это у неё на роду. С Богом контракт не подпишешь. Уже с детьми Мария не проронила ни слова русского, ни слова словацкого, только по-английски, всё только по-английски, потому, упрямая, и упекла и Гэса, и Джи в английскую школу.
Слава Богу, школа школой, но когда Гэс услыхал русскую речь, его пронзило всего доступностью, ясностью, близостью этого языка ему, он заговорил на нём скоро, легко, и было у него такое ощущение, что он слишком долго молчал, оттого молчал, что просто не с кем было говорить (говорить-то было с кем, но не его то был язык лающий, в надсаду ему было ворочать мельничные жернова чужих слов), а тут проломился, заговорил лучисто, раскованно, вольно!
Тяжело смотрел Гэс на Марию.
– Отчего ты так смотришь на меня? – пропаще спросила Мария.
– Всё пытаюсь понять, – надломленно отвечал льдистым голосом Гэс, – зачем тебе понадобилось отдавать меня в английскую школу? Зачем тебе надо было вырывать меня из одной почвы и пересаживать в другую вверх корнями?
– Мой мальчик, – глухо защищалась Мария, – когда я тебя слушаю, у меня распрямляются крепко закрученные извилины. Я глупею твоей глупостью.
– Извини, дорогая, – Гэс выставил ладонь щитком. – Тут полное самообслуживание. Твоя выходка со школой доказывает, что ты прекрасно обходишься собственной глупостью. И не тверди мне, что английский – государственный язык. Я не понимаю государство, которым из-за тридевяти вод правит чужая королева. Я не понимаю государство, которое в официальные языки взяло языки своих же завоевателей и отмело языки своих коренных жителей, индейцев и эскимосов. В таком государстве каждый сам себе государство. Дидыко как что – поёт своё: у нас вот, в Белках… Бабушка: у нас, в Словакии… Ты: у нас, на Бродвее… Спишь и видишь себя на Бродвее, в штаб-квартире твоего компаньона. Что же здесь Вас держит? Доллар? Вам же всё здесь чуже. Все Вы родились в разных странах, там выросли и только беда собрала Вас под одну канадскую крышу. Если помнишь, канадой называлась хижина местных индейцев. И кто мне скажет, что же такое нарисовано на канадском флаге, что это пришлось прикрыть кленовым листочком? Молчите?.. Эта земля дала Вам в лихочасье крышу, дала пищу, только за эту землю Вы не пойдёте умирать, потому что есть вещи намного важней надёжной крыши, намного важней сытного куска. Есть Ро-ди-на… Вот почему, вставая из-за канадского стола, Вы думаете, вы грезите о давно покинутых краях, – Гэс значаще глянул на бездольно жавшихся в углу стариков, – а кому, – он мягко поднял за концы пальцев руку матери, подержал мгновение на весу как бы взвешивая, с медленным тщанием, с печальным укором повёл свободной рукой по холодному золоту на её сине-мёртвых пальцах, заговорил колюче, осудительно, – а у кого Бог взял память и кому не вспоминаются свои места, которые ведут чистые сердца и на бой, и на верную смерть, если надо, тот день-ночь лишь гадает, как бы пожирней выловить кусок из мутной водицы и лакейски лупится в бродвейскую даль…
– Не кощунствуй! – Мария отдёрнула руку. – Бродвей кормил тебя двадцать лет! И без Бродвея нам не прожить!
– Кому это нам? Если ты имеешь в виду и меня, отныне знай: я сам тащу свой мешок, неудобный, смертельно тяжёлый, но – свой!.. Я думаю вот что… А не слишком ли глубоко сидит в каждом из нас эта проклятая лакейщина перед бродвейщиной? Этот южный соседушка, белый шайтан, чихнул – у нас уже лихорадка. Не успел шайтан наварить бойкотной чепухи на постном масле – мы уже против Олимпиады в Москве. Мы сами это решили? Кто из сидящих здесь решал это? Молчите? Думаете, нет ничего умней молчания? Бурю вы переждали в этой земле. Почему же вы по-прежнему не расходитесь? Некуда идти? Пожалуй… Тогда, может, стоит все-таки поднять выше свою голову, бедные вы мои непрошеные вечные гости, и, не страшась, не пугаясь, что ты русин или что ты словак, затеять здесь своё, доброе? А получится? Должно… Хотя, конечно, выдернутое деревце не всегда приживчиво на новом месте. Кто мы на этом новом месте? Канадцы? Просто канадцы? Кто такие эти канадцы? Один чудак за ответ на этот вопрос получил газетную премию. Он ответил: «Канадец – это я, так как я не англичанин, не француз и не американец; я живу в Канаде, поэтому я канадец». Я родился здесь. Я бы мог ответить его словами. Но я не могу ответить его словами, потому что я не знаю, что такое Канада. По-моему, Канада – это… это белый лист, на котором самой Канадой что-то написано. Только что? Я пока разобрать не могу. Напишем ли мы, молодые? Что напишем? Когда напишем? Ка-ак напишем? – Гэс задумчиво помолчал. – Я напишу про то, кому в Канаде жить хорошо.
– И кому же? – с ехидством поморщилась Мария.
– Немногим. Таким, как, извини, ты… бродвейская пристяжка. Как твой Джи. Я вам ещё докажу, что честность не такой уж страшный грех.
– Доказывал твой отец. Где он сейчас?
– Погибнуть, зная, что ты прав, разве этого не стоит жизнь?
– Не стоит, малыш… Жизнь не ложе из роз и по ней надо идти где бочком, где ползком…
– О! Попала матуля в свою колею! Не забудь выдать коронный свой совет: хочешь ходить по вершинам – научись сперва ползать!
Сухой дощечкой руки Мария глухо пришлёпнула по дивану:
– Да! Ползать!
– Увы, я не змея. Ползать не научен и не собираюсь учиться!
17
Всякая ссора красна мировою.
Если бы в сердце дверцы – весь свет знал бы.
Спор матери с сыном, пропавшим и вдруг через неделю объявившимся и то к случаю приезда гостей, принимал нелепые, больные формы.
Нелепость, неуместность спора, кстати, сказавшего Петру с Иваном больше кип прочитанного об этой стране накануне, были всем очевидны. Полон стол яств, – готовили-то на всю Маланьину свадьбищу! – но ни одна холера из званых гостей не пришла, так зато, будто в отместку, собрались наконец-то нежданно все свои. Самый раз надо бы поближе к столу, к вину – подняли эту чёртову свару!
И странное дело. Чем всё заметней брал верх Гэс, Петру всё больше становилось жалко Марию. Почему? Этого он не мог себе сказать. Дважды порывался он раскидать спорщиков и всё осаживал себя: гость не указ хозяевам.
Как-то по-детски хорошо, светло обрадовался Петро, когда сомлелые старики союзом навалились на крикунов.
– Светлячок! Марушка! Да вы что дуроломите?! Показились! Хрипите уже, попадаете с руготни… А ну кончай сплетни сплетать! Ей-бо, ог-г-гре-ею – перег-гре-ею-ю-у!
Со всего плеча замахнулся старик трёхметровой трембитой, так что и Мария, и Гэс, увидав её, опускающуюся, обомлело брызнули врассып по дивану; в широкий прогал между ними старик опустил-таки трембиту, весело пропел:
– Отбо-ой!..
Вся гостиная рассмеялась.
Похоже, и Мария, и Гэс были сами рады тому, что спор так внезапно обломился.
Мария выплакалась, выговорилась.
Теперь ей смеялось легко, ясно.
Посветлел лицом и Гэс; доверчивая, одобрительная улыбка дрогнула в уголках его тонких ласковых губ.
– Какая огро-омная дубина! – ликующе воскликнул он, подсаживаясь к трембите и пробно стуча по голоснице[22] пальцем. – Это что… Дубасить кого?
– У всякой вещи своё назначение, – уклончиво, надвое проронил старик и с внутренним озарением поднёс трембиту к губам.
Гортанный, тревожный звук могуче толкнулся в стены, и стены одна труха, отшатнулись, заходили на месте в извиве, готовые вот-вот рухнуть – всё это привиделось Гэсу всего на какой-то миг. Привиделось и пропало.
А голос, какой голос…
Голос не пропадал, стоял в ушах; стонало в этом голосе гнетуще-безмерное горе, гремел тугой, мятежный зов к чему-то высокому, чистому, названия чему Гэс не знал.
– Дидыко! Я слышу голос большой беды, – запальчиво вышепнул Гэс. – Голос беды… Зовёт на помощь… Голос беды… Это и яростный, повелительный голос… тревоги…
Мария перебила Гэса.
– Это, малыш, – прикрывая рукой зевающий рот, проговорила она тоскующе, – рёв оленя, переполненного в гон похотью.
– Не надо о себе говорить в третьем лице! – озлённо отхлестнул Гэс, и Мария оскорбилась, с вызовом, вихлясто вышла из гостиной.
Вкоренилась тишина.
– Дидыко, – обнимая старика за плечи, доверительно говорил Гэс, – я вижу, тебе очень дорога трембита. Расскажи, пожалуйста, про трембиту.
Старик благодарно кивнул. Задумался.
Сидя с Гэсом на диване, напротив праздничного стола, тесно уставленного едой и питьём, – варилось-жарилось на Бог весть сколько народу, а собралось всего с ничего, одни свои, – и видел старик себя там, на полонине, видел молодого, неизжитого, крепкого овчара с трембитой…
Трембита – дитя любви, говорит легенда.
Любила дивчина овчара. Настал май и пришлось провожать овчара со стадом на половину.
– Я не проживу без твоего голоса, – сказала дивчина.
– Ты его услышишь, – пообещал парубок.
Отыскал парубец разбитую громом ель, певшую на ветру, сделал из той ели трембиту.
И каждый вечер слышала дивчина песнь громового дерева, слышала голос милого. Пел ей милый о своей любви.
Дивчина была красивая, ласковая, быстрая. Звали её Белка. Была она из бедной семьи.
Нравилась Белка и пану. Подобрал пан момент, завлёк к себе, решил невинности.
Не снесла такого сраму Белка, утопилась в речке, что лилась по сельцу.
Не спустили пану дикого лиходейства крестьяне-бедаки: самого живьяком закопали, а имение спалили. А той речке дали имя девушки – Белка. И своё сельцо стали звать Белками.
И заплакала трембита о беде.
С той поры пошли по округе трембиты.
Минули долгие века, но трембиты делали по-старому, так, как тот влюбленный овчар. Выбирали обязательно старую, вековую, поражённую молнией ель, про которую говорили: живу – молчу, умру – пою.
Трембиту родила любовь.
Да не только про любовь пела трембита.
Наваливалась беда – с горы на гору трубила трембита, оповещала о беде, звала мир в помощь.
В молодую пору исходил старик со своей трембитой всю Верховину, пас овец панских и никогда не разлучался с трембитой.
Все голоса, все звуки Верховины забрала трембита в себя; и не было старику дороже посланницы оттуда, из молодой, чёрной и всё ж по-своему радостной жизни.
Годы, годы…
Вы прокатились вешним потоком с кручи…
– Тогда, там, у нас в Белках, были мы нищие, – тоскующе, с придыханием выталкивал из себя старик слова, тяжёлые, обвинительные. – Но мы были людьми, на чужу беду откликался всяк бедак. Подсоблял как мог. Тута же мы заросли сытостью, безразличием. Люди давнушко померли в нас и случись что с кем, кликни кто в помочь – ша, на дурничку не проедешь! Поплотней замахиваем шёлковые шторы на своих норах, выключаем свет. Нас нет дома и век не будет!
– Дидыко! – с нарочито солидным укором всплыл Гэс. – Да не клевещешь ли ты на наш шайтанский филиал рая?! За таковские речи могут и против чёлки угладить.
Старик молча взял Гэса за локоть, потащил по лестнице наверх.
– Куда? Зачем?
– Вопросы на потом.
С бегу настежь распахнул старик единственное окно в Петровой комнатёшке, выставил на простор трембиту и изо всей силы, что ещё сберёг в нём Бог, стал играть, багровея от натуги.
Играя, остановившимися глазами, немигаюче пялился старик на дом напротив и движением головы неотложно требовал, чтоб и Гэс последил за тем домом.
Гэс добросовестно вытаращился на окно, совсем близкое, всего-то через пыльную узкую уличку и увидал, как из-за сбитой к краю бледно-розовой, без цветов, шторы воровски вывалилась половина старого лица и тут же удёрнулась. Спустя мгновение шторы глухо, закатно затянули окно.
– Ку-у-у-ум, – упавше потянул старик в ещё качавшиеся шторы на окне. – Какого ж ты лешего таишься? Я ж утром в гости кликал. Сыны у меня!.. Приди забери брынзу. Лизка передала. А то выкину псам!
Тяжесть успокоила своим весом шторы.
Перестали шторы ходить. Затихли.
– Видал! – тыча в кумово окно, расшибленно пальнул старик. – Идолова заокеанщина! Кум куму боится показать нос. А ну кум в беде! Как же к куму пойти?.. А я с ним у одного пана в Белках овец стерёг. В соседях жили… Вертелись, как береста на огне. Вместе парубкували, с одной на двоих тайстрой[23] качнулись на заработки. Вместе уже тут, в канадской стороне, бедовали… Хва-а-атили ж мы горчанки… Как вспомнишь, сколько сидели на снегу[24]… Поначалу всяку беду ломали пополам. А потом уже, как залучшело, как стали подыматься на боеву ногу – дальшь, всё дальшь друг от дружки… Дома рядом, через уличку. Да мы как далеко один от одного! И эта уличка уже и не уличка, а государственная граница. И живём мы в разных с ним в государствах, говорим совсем на разных языках. На разных! – в осудительной тоске подтвердил, почти выкрикнул старик. – На свой манер переплела нас чужина. Растеряли, раструсили мы здесь всё людское…
Старость многоговорчива.
Головань не выпал бы в исключение, пригнетённо не зазвони где-то внизу, у входа, телефон.
К телефону подходил только старик, так уже велось в этом доме, и старик, панически всплеснув руками, дёрнулся на звон.
Звонил знакомый доктор, брал недорого, оттого и самый дорогой Голованям. Во всякий крайний случай именно этому доктору Головани несли свои болячки.
Выяснив, что старик совершенно здоров, доктор, по совместительству и мастер солёного слова, цветасто выругался. Оказывается, весь день гнали ему звонки, всё допытывались, в каком состоянии доставлен в больницу сам Головань. Очень удивлялись, когда им отвечали, что никакой Головань в больницу во весь день не поступал.
– А вы им скажить, ежли ещё названивать кто увяжется, Головань не помирать – жити, жити Головань собрался! То тогда он помирал, как сыны были Бог знай где. Но теперь-ше! Приехали сынки! По-людски, от души звал тех чёрных звонкарёв на забаву. А они прими за больного. Носа даже не кажут, жмутся. А ну и в сам деле снова тяжко захворал, подмогай ещё чем… Первый раз за всю тутошнюю жизню-ку я такой добрун, зову к себе за стол всякого русина. Приходьте ж и вы…
Доктор сказался занятым. Не пришёл.
Однако без гостей со стороны не обошлось.
18
Что ты имеешь, то ты и есть.
Где нет хороших стариков,
там нет хорошей молодежи.
Спустя с час после докторова звонка – застолье набрало уже самую силу, – наявились три ветхих старца; тихие, ненадёжные в этой жизни, оттого подпирался каждый долгой палкой, похожей на ту, с какой ходят овчары по карпатским полонинам.
Неуверенность, вечная виноватость толклись в вытянутых апостольских лицах.
Кривой старик, тащившийся первым, завидев в красном углу икону, тут же повалился на колени, летуче кинув на улыбавшегося из-за стола Голованя-старшего благодарный, торжествующий взгляд, стал молиться; шедшие вслед тоже помолились с колен.
– Привезли, привезли-и сынки иконку, – благостно, воровато-восторженно запел кривой старик, подходя ближе к столу и кивая на угол, – при-и-везли-и…
– Привезти-то привезли, – рисуясь внутренне, отвечал Головань, наливая в напёрсточные стакашики. – Только, кум, ежли б бык не выдавил тебе глаз, ты б разглядел, что то за иконка. То ж все наши Белки!
Кум качнулся было из-за стола уже, желая удостовериться, что ж то такое на самом деле, но Головань поймал его за локоть, вставил в сухую дроглую руку напёрсточек.
– Спервухи причастись. А то на тверёзый глаз всё одно не разберёшь.
Опрокидывались стаканчики, стучали вилки, пустело в тарелках…
Все вроде работали.
Однако работали как-то чересчур чинно, потерянно, пожалуй, даже несколько насторожённо. Не было той широкой славянской удали, когда под добрую вьпивку работается за праздничным столом в охотку, на верный износ.
Это вдруг обидело прижимистого Голованя.
Навалился он усердно подгонять гостей.
– Ну что ж ты, кум, так плохо ешь? – накатывался на Юраша, кривого старика. – Ешь, ешь, не жалей, как дома! Ешь, кум, на здоровье. Бери, бери вареники!
– Спасибы. Я уже и так десятый ем.
– Да не десятый, а пятнадцатый!
Кум коротко улыбнулся и всё равно рвения в еде не прибавил; всё так же печально-бережно взглядывал по временам на угол.
«Кривой, кривой, а своё нутром видит!» – перехватив щемливый кумов взгляд, подумал Головань.
Потихоньку снял рамку, как дорогой дар поставил перед стариками на стол, прислонив верхом к выпорожненной бутыли.
Пустил на проигрывателе «Верховину».
Притихло всё застолье, смято молчит, и неловко сделалось всем отчего-то смотреть друг на друга, будто все они, собравшиеся тут, виноваты перед этой заветной песней: никто не подымал глаза, всяк был с самим собой наедине, наедине со своими отважными мыслями, наедине со своими просторными мечтами, чьи крылья развязала эта песня, и были они далеко-далеко, были в том лазоревом краю, про который пелось – сами в неволе, хоть мечты на воле…
– Это ж каким надо быть человечищем, чтоб так…
У кума ещё красен, тяжёл единственный глаз. Кум просительно уставился на Петра, мол, подтверди, что вот только такие великанцы, как ты, и могут писать экое диво.
Петро, сидевший напротив, встал, обогнул застолье, навис над кумом горой, тесно продёрнул поленную ручищу меж тощенькими стариковскими плечиками, щёлкнул по карточке в центре рамки:
– Не обязательно быть как я… Довольно и такого. Это ж сам Михайло Машкин!
Неверяще, разочарованно косится кум на худого, подбористого дирижёра перед хором на берегу Боржавы (за цветастой, нарядной подковой хора колышатся хлеба, синеют горы), совсем упало вздыхает: не-е, этот мослак – щека щёку ест! – про Верховину так не напишет.
В судьи тянется к карточке второй дед, близорукий кряхтун, что пришёл с кумом.
В час по слову отстёгивает:
– Какой-то, ей-пра… несвалимый ваш этот Машкин. С добрыми капиталами подсыпались к нему, продай только «Верховину» свою сюда – наши гимном своим горели тут сделать! – ан ни в какую. Упёрся столбом. «Песню, – говорит, – у нас поют. Стало быть, песня уже наша. Не моя. А я чужим не торгую». Видал… Он что, богаче Рокфеллера?
– Богаче! У нас любой богаче Рокфеллера, потому как у всякого верховинского русина есть Родина. А Родину никакому залётному рокфеллеру не купить.
Головань-старшой торжествующе выставил указательный палец. Каково полоснул Пётрушка мой!
– Что ему ваши мильоны? – раздумчиво продолжал Петро. – К своей песне Михайло шёл через Дахау, Маутхаузен, Бухенвальд. Его лагерный номер знаете какой? 119367565! Был тогда Михайло ещё подросток. И всё то, какие он там мýки выстоял, и всё то, что с ним делали в тех концлагерях, ни за какие мильоны не выкупишь у сердца… Через много лет после войны пригласили Михайла на встречу узников Бухенвальда. Вспомнил Михайло про лагерь – тут же придавило горе: отнялась речь, три месяца не говорил… Кто знает, может, вином бил Михайло в себе прошлую военную беду, паленкой сковыривал с души свою концлагерщину… А то… Живая душа требовала выхода, и Михайло давал выход; случалось, отплясывал с братаном на столах в ресторанах ужгородских. А то – это уже в Белках, у меня на глазах – взял в буфете две бутылки русской, перекинул разом в два бокала. Бокалом в бокал стук: «Будь здоров, Машкин!» Без передыху высушил целый литр! Закусил рукавом и бегом во дворец: его ансамбль давал концерт самому Кенту[25], кончался перерыв… Добре выпивал… Только разгерметизирует одну бутылочку, смотришь, уже хлопочет над второй… Понесла малого водка, крепко понесла… Вот такой он, Михайло Машкин, разный, нескладный… Зато весь до донца наш… Не разменялся на золотые посулы…
И старые слезливые глаза горделивей, сердечней глянули на серьёзного на карточке Михаила, хрупкого, тоненького, как та хворостинка, что взлетела у него в руке вместо дирижёрской палочки.
– Деды! – отрывисто ухнул Петро и смолк, не зная, как подступиться к тому, к чему подступался, и, махнув рукой, – а-а, как скажу, так и скажется! – Деды! Я что-то нипочём не вбегу в толк… Тут, – ткнул круглым, как репка, пальцем в пластинку на диске открытого проигрывателя, – про счастливую долю Верховины. Это, если хотите, наш гимн. Позывными из этой песни начинает свои передачи верховинское радио, радио нашей Русинии. А вы заходились, чтоб это был ваш гимн. Не-е… – Петро повёл перед собой из стороны в сторону одубелой, наливной ладонью. – Гимны нам петь разные…
– Нет, сынку! – занозисто возразил отец. – Ты подчистую не прав! Что ж ты по живому отрезаешь нас от своей земелюшки? Сюда согнала нас вековая беда. Тутошние песни чужие нам. У нас с вами, сыну, песни однаковые… Верховинские…
Кум степенно поднёс к самому глазу рамку.
Рядом с Михаилом дыбились, сверкали с карточек знатные, на четыре стеклянных этажа, школа, универмаг; радостно, сочно смотрели из весёлых садов дома, молодые, царственно-роскошные, в рассыпанных по лицу, по фасаду, зеркалах-блёстках с кулак тщательно вмазанных в штукатурку средь радужного многоцветья мелких поделочных камней, красных, изумрудных, зелёных, голубых, коричневых, белых; размахнулись, широко проплёскивались меж кудрявых садов улицы, прямые, в глянце асфальта.
– Невжель в Белках такая правда? – вшёпот спрашивал себя кум, напряжённо, тягуче сбоку всматриваясь в карточки единственным глазом. – Может, тут столько правды, как в решете воды? Я ж помню… В грязюку на самодельных ходулях разве что и пройдёшь… А это… А это наснимали где в другом месте. Пропаганда…
– Попал, как слепой на стёжку! – победно вскричал Головань-старший, будто это он вчера из Белок. – Эк куда полез! Диковина, ядрён марш, ему асфальт! А вот это тоже пропаганда?
Кум долго, водянисто пялился, куда ему показали.
На бронзовый бюст.
Недоумевающе отстранился.
Снова подался к рамке.
– Невжель Юрко?
– Юрко, Юрко, – с ласковым, скользким смешком подсказал Иван. – Юрко Юрьевич Питра.
– Кум! Да он не со мной ли за свиньми ходил! – сражённый догадкой, пролепетал кривой старик.
– То ты, хлопче, ходил с ним за свиньми. А я был повыше вас в должности, – не без грустной иронии отмежевался от такой компании Головань-старший. – Я за овечушками надзор держал.
– Да Юрко был всех нас молодьше, в моём подчинении даже состоял, в подпасках бедовал батрачок, – торопливо, озарённо сыпал слова кривой старик, разгораясь, расцветая. – В Белках что, всем свинопасам памятники ставят?
– А раз заслужил человек… – На полгостиной раскинул Петро руки. – В самой Москве по съездам да по сессиям казакует. Как же! Верховный депутатища!.. Пять раз встречался с чумовым кукурузником Хрущёвым! С самим Брежневым пил собственную сливянку[26]!.. Сам гнал…
– Погоди. Не пылуй[27]! – отшатнулся сиротливо кум. – Везде Питра да Питра… Да-а… Лежачий камень мохнатеет. Он что у вас, Питра-то, Богом сейчас работает?
– Пока кукурузоводом. Звеньевой… По сто центнеров зерна ломит на круг! Лауреат государственной премии… 416 рублей 67 копеек отхватил! Три ордена Ленина… Дважды уже Герой Труда. За такое у нас при жизни полагается памятник. В Белках работает музей Питры. В цене хозяин земли.
– Хо-зя-ин! – с сарказмом, надрывчато процедил по слогам кум, пустив в свой голос всю стариковскую жёлчь. – Да он такой же хозяин земли, как я хозяин солнца!
Неожиданно выворотившееся сравнение глянулось самому куму.
На волос смягчился кум. Задумался.
Развела судьба двух свинопасов.
Один остался голодом кормиться.
Другой качнулся за океан принимать у умирающего деда ферму.
Тому памятник при жизни.
Этому…
Всю жизнь бился как рыба об лёд. Вёл концы к концам. Спустил с молотка всё под метёлочку Не выдержал, продал ферму. В бесславье добирает деньки свои живые.
Как же можно так разориться?
Деду, получившему надел в «эмиграционную горячку» в начале века, несахарно было. Надел лесистый. Чем обрабатывать? Скота нет. Инвентаря нет…
С таким же горемычным соседом-переселенцем дед сам поначалу впрягался в плуг, распахивали свои наделы…
Умирал дед, просил не продавать ферму.
«Не продай, сам бы уже давно ушёл спать до земли… Ехал, думал поймать Бога за бороду. А поймал чёрта за хвост…»
– Хо-зя-ин… – всё так же по складам мстительно тянул кривой старик, и эта издёвка, этот сарказм направлялись не далёкому Юркý из детства – слались самому себе. – За дело он меня тогда поддел… За дело… Соображай головой, а не черевиком. Не отдавай за пусто…
Кто был этот затаённый о н?
На старика обратились все с недоумением и никто, исключая Голованя-старшего и бабу Любицу, ничего не понимал.
А старику, считавшему, что с фермой он продешевил, лезло в голову, вспоминалось своё, как уезжал с надела на городское последнее житие.
Собрал в машину остатки своей кислой роскоши.
Тронулись.
Тут уже бывшее его стадо возвращается домой. Забило тесно дорогу. Ревёт. Чёрный бык с белым пятном на лбу, с фонариком, осмелел, вплотную подступился к машине.
Шофер дудит. А бык ни с места.
Упёрся рогами в радиатор. Не пущу!
Это стадо старик из своих рук пятьдесят лет кормил. Сам обихаживал. Сам доил этих коров. И вот они больше не его…
Мутный страх сжал старика. Заплакал старик.
А вечер уже. Темнеет.
Шофёр шатнул за плечо. Что ж хлюпать? У нас дорога дальняя. Дурная.
Смахнул старик накатившиеся слёзы, спустился к быку, погладил по лбу и деревянненько заколыхался за бровку дороги – с напрыгом всё стадо за ним. Довольное, доверчивое, мирное.
Вычистилась дорога; драпанул старик в обрат к машине.
То-олько на подножку – сшиб его чёрный бык, крепенько понянчил на рогах; и рад старик, что всего-то одним глазом откупился.
Тогда старик и окривел. И до сих пор считает, что за продажу фермы ему б и не так стоило влить.
– Хо-зя-ин, – судорожно цедил старик, наливаясь тугой злостью. – Хвалитесь… А где ж, хозяйко, твоя земля собственная?
– Земля там, где и была. На месте. Вся твоя. Только работай, как Питра, – ответил Петро.
– Земля твоя на месте, – ладил в тон Петру Иван. – Никто её на плечах не носит…
19
Голь бедна, голь хитра, голь на выдумку добра.
В разговор впихнулся Головань-старший.
– Не расстраивайся, кум, – говорит Головань. – Не твои то сани подламываются… Не твоя земля, не твоя и пашенка. Что об чужом язык бить?
Кривой старик оторопело расстегнул рот.
– Ка-ак – чужая?! Родился, возростал в Белках и – чужая? За тобой, пустячий фармалей[28], только и геройств, что родился да возрос. А потомочки куда ты запропастился? На годок отлучился? И вот до этой минуты вьётся годок?.. До-о-олгий, тюха-матюха, свился годочек. Выдали Белки тебе окончательный расчётушко, распишись в получении. – Не вставая, Головань дотянулся до холодильника и бухнул перед кумом на стол две большевесые кружалки брынзы в целлофановом пакете. – Вот и расчётец весь!
– Спасибы, Лизушка, – глухо прошептал старик, в сокровенной бережи притрагиваясь к верхней кружалке. – Спасибко, дочушка…
– Ты как Лизе докладувал? Напоследок своей брынзы пожевать – можно б и в отход идти?
– Говорил… говорил… Отлепись тольке… Репьях…
Было такое, просил старик Лизу, чтоб случаем пригнала домашней брынзы; говорил про брынзу, говорил, абы что говорить к моменту, а на самом деле выкруживало сказать другое, однако старик не настолько высмелел, чтоб и заикнуться про то, про другое; боялся, не станет делать того дочка, на смех не подняла б, а сам таки ж ехал провожать к самолету, взял с собой и побитые в носке топанки[29]; ещё в Белках сам себе сшил на молодую ногу, всё берёг; хотелось ему, чтоб походили в его топанках в родной хате, вокруг хаты, в саду, на огороде, в поле («Это всё едино, что я сам побывал бы вдома») и вернули; тогда б он в них уже спокойно мог отойти; в порту распустил молнию на сумке, нагнулся было достать топанки и передать Лизе – не насмелился. «А зря… Оха как и здря! Надо было отдать. Сейчас и мои топанки возвернулись бы из дома…»
– Э-э, куме! – перевалившись через стол, Головань тряхнул кума за слабые плечишки. – Ты что это как в воду опущенный!? Никак манит росу пустить? Не-е, куме… Поплакать мы тебе не разогрешим! Мы тебе домашней сливовицы! Сли-во-ви-цы! – тянул захмелелый Головань, ухая щедро, полно – с пупком! – в стаканы.
Блаженненько раскинув руки, кум отрешённо кивнул:
– Выпьем… – Насильно, мелко улыбнулся. – Выпьем за то, что… – и с близкой тоской во взоре глухо проговорил коломыйку:
– Заяц косив, заяц косив, лисиця згрибала, Павук метав у копицю[30], а муха топтала…
– Дойдёт черёд, выпьем и за твою муху, чтобушко лучше топтала. А зараз, куме, – Головань скользом толкался своим стаканом в поднятые навстречь стаканы, – выпьем за то, чтоб моим хлопцам понравилось у нас.
– А чего ж и не понаравиться? Не у тебя ли воз кленовых денег[31] да месяц праздников?
Майской розой легла лесть Голованю на душу.
– Месяцок не месяцок, – засветился молодецкой, томкой радостью Головань, – а не сегодня в обратный путь. Петруся! Иванко! В Вашей воле легковик, шофёрка, – коротко скосил торжественные глаза на Марию. – Поколесите по нашей стороне. Посмотрите, как оно тутоньки живётся-можется. А чтоб… – Головань остановился, давая своим молчанием понять, что скажет нечто важное, – а чтоб не чувствовали Вы себя тут бездомными сиротами, заране я объявляю перед живыми свидетелями… Люди мы простые, открытые. Всё-то у нас наружу… Я не вечный… Туда только и возьмёшь, что на тебе… Дам я Вам поровну на безбедные карманные расходы, дам почувствовать вкус буржуйской житухи. А там… Я не вечный. Объявляю перед живыми свидетелями, – обвёл рукой со стаканом усталое застолье, – всё своё… недвижь… отписую я, Петрик, тебе. Не в обиде будешь и ты, Иванюшко. Отдарю подарков дорогих… Возле пчёлки в медок… Вот так уж… Вот так уж…
Залпом выпил Головань.
Даже не поморщился.
Сел.
Выпили все.
Наступило неловкое молчание.
Никто не знал, о чём и говорить.
Тягучим взором Иван лениво обошёл гостиную, унылую, обставленную старой, поблёкшей мебелью.
«Нянько, нянько! Да у меня кабаны живут в сарайке по-роскошней! Откуда взяться твоим дорогим подаркам? Что у тебя за наследство? Вошь на аркане да блоха на цепи?» – и прыснул в кулачок своим пьяным мыслям.
– Вы уж, нянько, – заговорил Иван сквозь неудержимые смешки, что выскакивали из него звонкими камешками из опрокинутого кувшина, – Вы уж извинить мне мой вопрос… Люди мы простые, как Вы говорите… Извинить, завещание у Вас, случаем, не поэтическое?
– То есть?
– То и есть, что одни поэтишки дарят-завещают всем взаподряд небо, звёзды, солнце, луну, дожди, росы, туманы, закаты… Всё раздарили. Всё разбазарили эти винторогие козлы. Профукали даже Крайний Север. Как это, Петёша, у нас поют? – И, напрягшись, дурашливо загудел песню, с последней энергией в такт насаживая по столу кулачишком:
– Мы поедем, мы помчимся На оленях утром ранним, Ты увидишь, он бескрайний, Я тебе его дар-р-р-рю-ю-у… Э-эге-е-ей!..Отец остуженно выпрямился на стуле, сжал зубы – напухли желваки.
– Никакой я не стихошлёпец, Ванко, – смято возразил. – Я… И коли пожелает Петро, я скажу, что ж именно такое оставлю я ему…
– Нет! – примиряюще вскинул Петро громоздкую ладонь. – Отчитываться Вам, нянько, не перед кем. Как порешили Вы, так пускай и бежит.
«Расчётко мой верный, – с тайным блаженством подумал отец. – Попал в самую в точку! Наследство… Да вы ещё у меня подерётесь из-за этой кости! И большина окажется за Петром. Эна Говерлой[32] вознёссе! На тебя, Петрик, я и ставил карту. К тебе и подтирался, подлабунивался. И не промахнулся… Нашё-ёл старый, чем привязать вас к себе…»
– А тебе, – Петро повернулся к Ивану, – не вредно знать, что дарёному – тем более не тебе! – коню в зубы не заглядывай.
– Особенно, если зубы вставные.
– Юмори не юмори, а суетиться тебе нечего. Не твой воз, не тебе и везть. Он у нас, нянько, – Петро качнул головой в сторону Ивана, – смирняга, молчун. Из него и за мани-мани слова не выманишь. А что брякнул сейчас про наследство, так это не он. Сливовица!
Иван конфузливо уставился на отца.
«Верю, пусто у тебя, нянько, за душой. И всё одно, что ж ты ломишь поперёк обычая? Почему не мне, старшему сыну, завещаешь наследство?» – взглядом допытывался Иван.
Угадал отец вслух не произнесённый вопрос. Ответил медленно, твёрдо:
– Я, сынаш, своих решений не меняю.
– А разве кто-то заставляет что-то менять? – рассудливо отступился Иван, подумав, раз не идёт на откровенность батечка, не надо попусту сорить словами. Не последний же день, выжду я ещё свой час. Напустил безразличия в голос: – Не меняете, ну и не меняйте. Мне-то что до всех Ваших решений? – Стишил клейкий голос до мечтательного шёпота: – Мне б только… Позвонить бы скорей… А то телефон подорожает.
– Это почему же? – насторожился отец.
– А потому, что каждый год ваша Америка отдаляется от нашей Европы на двадцать пять миллиметров. Дальше расстояние – дороже разговор!
– А-а!.. – заулыбались все.
– Мне б только… – не отступался Иван. – Полнедели как из дому. А не могу. Соскучился… Как там хозяйка? Как Надийка?..
– Вторая его дочка, – пояснил отцу Петро.
– Поехали – была в родилке. Как там, не родила ль уже? А кого? Внучку? Внука? Невезучий я мастер дамских дел. Одни дочки. Внучка уже одна… Неужели и зятьёв замоет на мою стёжку? Интересно, кто там объявится теперь у Надийки? Мы с хозяйкой загадали… Найдётся внук – Надийке оставим дом в Белках, съедем с хозяйкой в Иршаву. В район. Там при заводе мне и квартирку сулят, и работёнку по сердцу. На грани я сейчас… Позвонить бы домой да на станцию, под Москву, где испытывается малое моё это золотце. – Иван вкрадчиво погладил вэдээнховскую свою медалишку на лацкане.
– Ты смотри! За чужой счёт он готов с самим Богом разговаривать! – громыхнул широким генерал-басом Петро. – Да ты что, хлопче?! Ты хоть знаешь, во что обойдутся эти твои звоночки через океан? Ты нянька по миру пустишь!
«Шанец мой растёт. Правильно я сделал выбор, – думал отец, любуясь, с каким больным рвением Петро отсаживал Ивана от дорогой телефонной побрехеньки. – Крепкий ты, сынашу, на крестьянскую руку сделан… Схватчивый… Трезво подступаешься к делу, считаешь чужи деньжанята… Ра-ад… Стереги, Петюша, стереги каждую мою мелочинку. Сёни она тебе чужая. А завтра уже твоя, под власть тебе завещанная… Крепкому хозяйству нужен и крепкой хозяин. Как ты».
А вслух отец мягкосердно сказал:
– Петрик, не пылуй. Да нехай и с Господом поговорит, абы соединили. За всё плачу! Нащупал Иванко тайность мою… Летучая мысль позвонить отсюда, из заморья, была. А вот так, чтоб снять трубку да заказать… До этого не добежал я, горелый пень. Услышать из дому словечушко… Какие тут деньги!? Плачу сколько вознадобно!
Придерживая под собой стул, старик перешёл в тёмный угол, наклонился к телефону на тумбочке. Заказал Белки, станцию.
Всё застолье слилось в угол, поближе к старику.
Ну как же. Сами Белки будет говорить!
И только Петро, вздохнув, тяжело пошёл к двери.
– Да ты куда? – опешил Иван. – С домом поалёкаем! А ну возьмёт твоя? Хоть одно словечко ласковое кинешь через весь Атлантический океан!
– Не одно… Все мои ласковые слова она уже слышала, – потускнел Петро. – Так что, увы и ах, сказал товарищ монах, ничегошеньки нового. Дай месяц от неё отдохну как душеньке угодно… Переговори сам. А я… Передай общий пролетарский привет. То… сё… Пойду я… Дела… «Мустанга», – глянул на Марию, – надо посмотреть. Глохнет на ходу что-то…
И Марии:
– Как посигналю – всё готово. На выход, автоледи! Я жду…
20
Не всякие следы ветер песком заносит.
Мила та сторона, где пупок резан.
В томительном ожидании звонка тягуче толклись на одном месте минутные стрелки стенных часов. Всем казалось, часы стоят, всю вечность стоят, и только равнодушный стук часов удерживал всех на своих местах. Всё притихло.
Всё виновато присмирело перед далёкими Белками. Всё ждало, ждало в нарастающем напряжении. В собранном, в цепком молчании уставилось всё на глянцевито черневший с тумбочки, покрытой расшитой накидкой, телефон.
«Боже правый, – судорожно думал старик Головань, – что ж за диковинка эта красная коробочка с кнопками? Без языка говорит с кем хочешь, слышит без ушей… Вот зазеленчит – слухай, Иване, сами Белки! Молодчага Иванко, намечтал позвонить. Просто так всё. А сам я до того во всю жизнёнку не доехал… А!.. Какую силищу дал человек телефону! Тут спроси – с того боку грешного шара быстрей молнии несут ответ. Диковинно… По горам, по болотам, по океанскому дну ходят слова, встречаются, расходятся… Как они расходятся там, на дне?»
Зазвонил телефон.
Пронзительно потребовал к себе внимания.
Будто подброшенный вскочил Иван. Схватил трубку.
Со станции сказали, что испытания его сеялки начались. Первые результаты обнадёживающие.
– О! – вскинул Иван палец. – Обнадёживающие!
Старики уважительно закивали головами.
Иван гордовато положил трубку.
И едва коснулась она рычажков, полоснул звонок.
Иван снова взял трубку.
Разом, точно пыль под веником, поднялись старики, застывше, уважительно сгрудились вокруг Ивана. Негоже сидеть да ещё врозваль, когда сами Белки говорят!
– Алё! Алё! – кричал в трубку Иван. – Алё!.. Иршава? Иршава! Иршава!!..
– Добры дзень, дорогый пан. Вас слухае Варшава, – сквозь шумы, трески продрался далекий медоточивый голос.
– О чёрт-мать! Что они! – Иван замолотил по кнопке. – Эй! Кто да ни будь! Станция!.. – И, услыхав заспанный сухой голосок, взмолился: – Дивчинка! Да что ж вы мне заместо Иршавы суёте Варшаву?!
– Чюточку-минюточку, – старательно ломая наши слова, попросила девушка с междугородки. – Сэчас исправим Варшаву на Иршаву…
Чужие придавленные слова, взвои, стоны, щелчки тесно толклись в трубке. Не было никакой надежды пробиться к дому сквозь эти тяжёлые помехи.
Иван обречённо поднёс трубку к старикам.
– Послушайте, что деется в мире… И грозятся, и лаются, и плачут, и мирятся… Чокнутый мир!
Старики, в мёртвом молчании кивавшие головами, дрогнули в испуге: вовсе неожиданно вывернулся из откатывавшейся, затухавшей трескотни Маричкин голос. Уверенный, ясный.
– Алло.
– Маричка! – крикнул Иван. – Дочушка! Здорово!
Молотил он торопливо, боялся, что чужие шумы снова накатятся, толсто накроют, забьют её голос.
– Привет тебе, дочушка, из потустороннего мира! – ляпнул он не думая и покосился на стариков.
В окаменелых лицах растеклась обида, и увёртистый Иван, больше адресуясь к старикам, нежели к Маричке, пустился в пояснения:
– Это ж натурально так! А ну глянь на глобусе, у тебя за спиной на телевизоре стоит. Глянь, где будет Калгари от наших Белок? Ей-же-ей, по ту сторону от воды. Так что не ошибаюсь я… Как ты там? Не разругалась ещё со своим Васильком?
– А чего нам ругаться? У нас с ним всё очень даже прехорошо!
У Ивана всё так и оборвалось.
– Невжель, – обмякло спал голосом, – невжель настолько хорошо, что может статься плохо?! Дочушка, – заговорил просительно, – ты у меня умница. Голова у тебя на плечах не только для платка. Поосторожней ты с этим соколиком. Поосторожней!
Маричка бросила с вызовом:
– Осторожничай не осторожничай – всё. С лаптями проехали! При Вас же отнесли заявку.
«Отнесли, ну и отнесли. А ты подберегись, – думал Иван, злобясь, что вслух не всё пальнёшь. – Я верю только убитому медведю. Уберегись до Петровок. До дня свадьбы…»
И в трубку:
– Дочуша! Всё твоё не уйдёт от тебя… Будь умничка! Побере…
– Нянько, какой же Вы вредина! Вы б говорили да оглядывались… Не устали нести шелуху? Даже из-за океана дохлёстываете своими цэушками[33]! Да если не прекратите – я брошу трубку!
– Сдаюсь, сдаюсь, – примирительно хохотнул Иван, покашливая в кулак и клейко косясь на цепко ловивших каждое оттуда слово стариков. – Сдаюсь…
– Это Вам больше идёт, – повеселела Маричка. – А теперь порадуйтесь… Надийка у нас ударница. Хлопчика вчера родила. Пять триста! А рост – шестьдесят! Поёт гвардеец!
– Божечко мой! У меня внук! – крутнувшись, вскинул к старикам Иван руки, так что телефон сорвался с тумбочки, хрястнулся об пол. Иван быстро его подхватил и, размахивая руками – в одной была трубка, в другой сам телефон, – блажил, прыгал, как кот на раскаленной крыше: – У меня хлопчик!.. У меня ж хлопчик!.. Пять триста! И шестьдесят!.. У меня хлопчик! Пять триста! И шестьдесят!..
Казалось, его заело на этих словах и он уже с пузырьками пены в уголках тонких губ всё вопил, вопил, ничегошеньки не видя и не слыша.
Наконец пришла минута, Иван вернулся в себя и поражённо вылупился на телефон в руках, трудно соображая, а чего это у него телефон.
Однако через короткие мгновения догадался, что говорил с домом и что время ещё не вышло, догадался по дочкиному голосу, звавшему из трубки:
– Нянько! Нянько! Ну куда же Вы стёрлись?
– А никуда я, донечка, не пропадал, – искательно, как-то виновато буркнул Иван: – Тут я, туте…
Говорить стало не о чем. Иван замялся.
– Главное спроси. Про погоду, – с шёпотом потукал кум Ивана по локтю.
– Да! Какая там у нас погода? – пальнул Иван.
– А какая повсегда. Солнушко… Тёплышко… Погодистый денёшек. Я б хотела, а пусть всё лето будет такое… Я вот с поля прибегла… Дело к обеду…
– А тут в самом распале ночь. В самом распале…
Ивану пришла в голову превосходная мысль, и он, обругав себя дурнем, неизвестно на что попусту тратящим деньги и время, досадно щёлкнул себя по лбу. Во весь рот гаркнул в трубку:
– Донечка!
– Нянько! Вы что кричите? Я не глухая. Расхорошо слышу Вас и так…
– Донечка, мамко там далеко?
– А рядом стоят.
– Дай трубку. Нехай с няньком поговорят.
Вложил Иван в тряские отцовы руки трубку.
Скомандирничал:
– А ну говорите. Говорите с мамкой! Не смотрите на меня пугано. В трубку говорите!
Отец не удержал трубку. Трубка вывалилась у него из окаменелых рук и маятно закачалась над самым полом между отцом и сыном.
Из трубки доносился усталый, печальный голос матери.
– И-ва-ноч-ко-о… И-ва-ноч-ко-о-о… – ясно звала из-за океана старуха.
Сын с укором поднял трубку. Тесно прислонил к отцову уху.
Неуверенно отец взял трубку, прижался к ней дряблой, изжитой щекой и горько, навзрыд заплакал.
– Нянько! Нянько! – торопил Иван. – «Что ж литься рекой? Заказанное время выходит. Покупалки[34] идут. Плачено ж!» Скажите хоть слово!
Слёзы градом катились по старым щекам.
Старик покаянно прижимался к трубке. Ни слова не мог сказать.
– Говорите! Говорите же!
Иван сторожко потянулся ухом к трубке.
Прислушался.
Плач шёл и из трубки.
21
Где плетень пониже, там и перелезают.
Спящую собаку не буди.
Старики гости в печальном озарении уходили от Голованей, прижимая к груди по пластинке про Верховину.
Милый подарок с родного краю…
Тот-то что подымется в этот глухой час, когда услышат домашние, как «Верховину» поют сами верховинцы!
Слабая лампёшка перед входной дверью вовсе не кидала свету за порог. В жёлто-мрачной зыбке едва угадывалось ветхое крыльцо.
Кривой кум боком спускался в плотную ночь по печально-певучим ступенькам-клавишам, остановился не на третьей ли ступеньке от верха, поднял защитительно руку к идущим следом двум старикам.
– Хлопцы! Вы как знай себе. А я перепрячу надальшь, – и пустил пластинку за пазуху. Обстоятельно перекрестил обозначившийся кружок.
Два других старика не решались трогаться за ним с площадки крыльца, с ленивым попрёком сказали на то:
– Как ты, тюха-пантюха, был единособственник да так и закаржавел. Взял бы на сохранность и наши!
– Я что… – с близкой обидой в голосе пробормотал кум. – Я возьму. Тольке я считаю, всяк своё неси сам…
– А ежли мы себе по такой темени не доверяем?
Мария, провожая гостей, с щемливой улыбкой наблюдала с порога, как пьяненькие стареники чинно передавали свои пластинки. Видела, с какой гордостью кривой кум прятал к себе за пазуху пластинки своих товарищей. Видела, как те, двое, в один голос потребовали, чтобы он, с пластинками, непременно шёл только за ними, поскольку это будет надёжней, безопасней.
И кум, не двигаясь с места, переждал, когда те двое, взявшись за руки с детской верой в твёрдую силу протянутой руки, обминули его и бочком поскреблись к калитке в глухом дощатом заборе.
Так же, держась за руки, прошли на волю, на улицу, чёрную, затаенную.
Остановились, поджидают кума.
Едва подтащился кум к калитке, откуда ни возьмись накатился из тьмы чёрный ком, сшиб в калитке старика с пластинками и пожёг к крыльцу.
Закрывая входную дверь, Мария увидала на косяке цепкую молодую руку, с коротким обомлелым криком шатнулась назад.
– С каких это пор ты стала бояться своего сыночка? – с плутоватой ужимкой хохотнул Джимми и принялся небрежно сковыривать мизинцем её синюшные пальцы с её бледно-воскового лица.
– Джи! Чёртушка ты на примусе! Ну насмерть перепугал. Как налётчик какой!
Во дворе заслышались придушенные старые голоса:
– Что такое?
– Кто?
– Ох! По-овна пазуха осколков! Ох-ох-ох!.. – причитал кум.
Мария сразу узнала кума.
– Это ж гости! – уставилась на Джимми.
– Мне глубоко наплевать!
– Что ты, дублёный загривок, натворил?
– Ровным счётом ничего, если не считать, что в силу служебной необходимости сбил кого-то в калитке. Вижу, закрывается дверь. Я рванул со всех ног…
В дверь робко поскреблись.
Джимми вяло вывалился из-за двери по пояс.
Увидав человека в полицейском, кривой старик дёрнулся назад, резко взмахнув руками, – рубаха вырвалась из штанов и чёрным ручьём брызнули на пол осколки.
– Вот и всё… что вы нам оставили… – убито пролепетал старик, пятясь по сходкам вниз.
– Убирайся, покуда я добрый!
Мария прикрыла дверь.
– Как можно!.. – зашептала она с упрёком.
– Не врублюсь что-то… С каких-то пор что-то уже нельзя и дублёному загривку?
– Но это ж гости!
– Хороши гости! Проводили раз. Ждут вторых проводин? У меня это быстро!
– Оно и видно. Тебя что, звали к полуночи?
– Ну-у, – замялся Джимми, – дела… Совсем… совсем заколебали… Понимаешь, у шефа заболела прислуга. Пришлось дать марафон по магазинам. Прошу одного взвесить фунта полтора картошки, мне на раз. А ему смешно. Вы, говорит, первый, кто просит разрезать картофелину. Это у нас не принято… Кретин! Я в другую лавку. Там пакет на три фунта потянули четыре картохи. Каждая с локоть! Я никогда не видал такой крупной картошки!
– Конечно, в тарелке она всегда мельче.
– Потом, пока мыл полы, пока прогуливал мопса…
– Да-а… Чем выше взбирается обезьяна по дереву, тем лучше виден её зад…
– Ты это к чему?
– К недавнему повышению твоего шефа. Раньше он не заставлял тебя мыть ему дома полы.
– А ладно… Без убытка нет и выгоды.
– И что ты выгадал?
– Гарантию, что и завтра я ему буду нужен.
– Да не с пустыми руками! – Мария припала к сыну, зашептала устало: – Была у меня на днях под вечер эта драная кошка Капитолина. Хвалила бриллиантовые серьги!
Джимми вытянул лицо.
Кто-кто, а уж он-то знал, что это такое, когда жена его шефа нахваливает какую-нибудь вещичку в магазине матери ровно за месяц до дня своего рождения. Именно ровно за месяц. Минута в минуту! (Родилась она, по её рассказам, в закатный час.) Пунктуальная, всё предусматривающая… Дескать, понимаю, у тебя нет денег, но ты, проказник, по-прежнему хочешь служить под крылышком у моего благоверика. Вижу, не тянет быть лишним[35]. Так в чём же дело!? Вот тебе месяц сроку. Знай добывай капиталишко. Покупай да не забудь поднести мне желанный подарок в мой день!
Джимми срезанно привалился плечом к углу в прихожей.
Молчал.
– Ты даже не хочешь поинтересоваться ценой? Спешу обрадовать. Две двести, дорогуша!
– Да-а, начальству не воспретишь жизнь-красотень, – блёклым, чужим голосом буркнул Джимми, как бы на пробу постучав костями пальцев одной руки по костям пальцев другой.
– И что ты намерен делать?
– Я думаю, ты не бросишь меня на произвол беды… Отдашь мне серьги под честное моё слово.
– Не говори пошлостей. Где она у тебя та честность? В прошлом году той же Капи ты брал гранатовые серьги. Полтыщи твоего долга по сегодня висит на мне! Ты боишься не угодить своему начальству. Но без стеснений затягиваешь петлю у меня на шее.
– Клевета! Никакой петли у тебя на шее я не вижу.
Полуобняв Марию, Джимми в подтверждение своих слов повернул её к овальному тёмному зеркалу на стене.
– Смотри. Не петля – колье у тебя!
– А разве это колье не петля? Ты же знаешь, я взяла его лишь до утра. Утром оно снова будет под стеклом. В продаже. И так всегда. Куда пойти, кому показаться – иду в ночном золоте. Золото это только до утра моё, вроде как напрокат самовольно взятое. Носи и дрожи… Во всякую минуту может нагрянуть патрон. Откроются того и жди твои вечные долги – не лишняя ли я сама тогда?
– Бродвейский твой босс далеко, а мой через улицу. Отдай серьги. В рассрочку года за два как-нибудь выплачу.
– Уволь! Как-нибудь подожду отдавать. Хватит с меня бесконечных твоих подарочных долгов. Отныне я верю доллару только вот тут, – яростно потыкала себе пальцем в расправленную ладонь, узкую, длинную, как гроб. – Крайняя уступка: при получении вещи хоть тыщу наличными.
– Бедный я, несчастный я, – холодея, вслух подумал Джимми словами из прилипшей к нему песенки «Цель – грех». – Где я достану тебе целую тыщу?
– А где я достану тебе целых две? Отныне я верю джорджику только вот тут, – повторила она и ткнула пальцем в ладонь.
– У нас с тобой одна вера, – осклабился Джимми. – Я тоже верю только доллару. Только вот этому баксу…[36]
Он достал из кармана брюк долларовую бумажку и, небрежно держа её указательным и средним пальцами, повёл ею перед матерью, поднёс к самому лицу, будто давал понюхать ищейке кусочек вещи, которую предстояло найти.
Первым желанием было стукнуть по этой руке с одним долларом. Но Мария, трудно удерживая себя, лишь укорливо спросила:
– Это и все твои капиталищи?
– Больше того, что было в кармане, из него не достанешь.
22
Можно отвести лошадь на водопой,
но нельзя заставить её пить.
Чёрт побери такую мами! Жалко ей чужих побрякушек…»
Джимми выжидательно не убирал долларовую бумажку от лица матери. Чего он хотел? Чего добивался? Чтоб мать с извинениями за так отдала серьги?
Извинения вовсе не обязательны. А вот серьги… Серьги не помешали б ему. Серьги кинули б ему год спокойной жизни.
Неизвестно что толкнуло его в грудь, только кинул он липкий взор вбок и остолбенел. Оттуда, с тёмной лестничной площадки, в него целился из пистолета Гэс.
– Не тупи, – устало сказала мать Гэсу.
– Э-э! Полевой дворянин![37] Ты что, совсем плохой? – инстинктивно закрываясь руками, закричал Джимми. – Убери свою мухобойку!
– Было бы у моей пушечки два ствола, – продолжал целиться Гэс, – я б успокоил разом и тебя, и доллар в твоей руке.
– А доллар за что?
– За то, что он потрошитель. Думаешь, ты его держишь? Как же… На своём крючке он держит тебя. Он! Выпотрошил из тебя человека, вставил сволочь. За цент погубишь кого угодно. Даже мать! Не говоря о брате. Несчастный трус! Так испугаться игрушечного пистолета! – засмеялся Гэс и поднёс трембиту к губам.
От тяжёлого гортанного звука всё дрогнуло вокруг. Неустрашимый Джи невольно попятился назад, и Гэс, подыгрывая себе победным стуком по трубе, дуря завёл:
– Капитолина элегантна, Она пи… пи… она ка… ка… Она пикантна. Капитолина молодая, Она ху… ху… она ху… ху… Она худая…Джимми бросил руку с зажатым меж пальцами долларом в сторону Гэса.
– Полюбуйся, ма! И этот свистнутый типус был в блюстителях! Чёрт знай что горланить про жену шефа!.. Разве не закономерно, что его нет больше среди нас на работе?!
– Джи, ты слишком откровенен, – с мягкой осудительностью сказала Мария. – Что ты ни думай, а говорить так в лицо не имел права. Как-никак вы братья.
– Но этого так мало даже на то, чтоб хоть сколько-нибудь лицемерить! – вскричал Джи – Ты, ма, просто многого не знаешь и думаешь о нём лучше, чем есть он на самом деле. А между тем мы слишком многое ему позволяем, много позволяем лишнего. То хотя бы уже лишнее, что этот полевой дворянин ещё ходит по одним с нами улицам.
Гэс уставился на Джи. Медленно проговорил:
– Лакейский рыцарь, если я преступник, почему мне не наденут на руки браслеты?[38]
– Дать прикорот? – Джи коротко подумал, звонко прищёлкнул пальцами. – А дело!.. Пора тебя к чертям на переплавку! За мной не заржавеет.
Мария мятежно смотрела то на одного, то на второго. Ничего не понимала. Что происходит между ними? Что?
Дети, дети…
Когда только и успели вырасти? Выросли уже из той поры, когда, застав в потасовке, достаточно было раскидать по углам, сунуть каждому по яблоку, и меж братьями воцарялся мир.
Ушла та пора…
И теперь не растащишь по углам, не позатыкаешь яблоками рты.
– Гэс! Джи! Да что происходит? – допытывалась она с мольбой в голосе. – Имею я право знать или не имею?
– Имеешь, – полуласково, лениво заглядывая Марии в глаза, ответил Джи. Показывая всем своим видом, что он крайне безразличен к происходящему, скучно перекатился с пятки на носок. Качнулся назад, с носка на пятку. – Имеешь, но! – твёрдо поднял палец. – Если хочешь, чтоб он, – указал на Гэса, – уцелел, заставь его помнить: не дразни собак, пока не вышел из села!
– Я вынужден тебя огорчить, братуня, – с насмешкой в голосе возразил Гэс. – Я никуда не ухожу из нашего села. Я в нём живу. И я буду в нём жить, несчастный ты шефов подпёрдыш!
– Будешь, если заберёшь, дубак, с повинной – в просьбе поклон не в потерю, – если заберёшь свой поклёп на шефа и на меня и причешешь язычок! – выпалил Джимми.
С ужасом Мария стала выпытывать про писанину; то, что не хотел Джимми говорить матери, сказано, само выболтнулось с языком, выпало наружу, скрыть уже ничего не скроешь. Деваться некуда, заоправдывался Джимми:
– Видишь, ма, он у нас очень умный, только худенький. Этому лбу в два шнурка не нравятся ни шеф, ни я… Один он у нас в округе на тыщу миль кругом хороший, кругом прав. Святошик! Забомбись!.. Оказывается, шеф ни за что его уволил и если уж кого и гнать взашей, так это меня, поскольку, как настрогал в своём писании этот праведник, я и вымогатель-ракетчик, я и состою в связи со всякой преступной нечистью…
– Что ты?! – сжалась Мария. – И всё это валит брат на брата?
– На родного! – подсказал Джимми. Повернулся к Гэсу. – Никто б тебя не выпер, ты б уже, как и я, имел свои шикарные колёса, не таскай на плечах вместо головы кошёлку. Темно-растемно в твоей кошёлке… Стал всем солью в глазах. Столько проработать и ни разу не поблагодарить шефа!!! А сколько поводов! И Рождество, и день рождения, и день повышения, и день первого выговора, и день снятия выговора, и день второго выговора, и… С шутками, с прибаутками всё б слилось гладко. Наконец, у шефа есть жена, есть дочка, есть, к твоему сведению, мопс. У всех у них куча своих праздников…
– Наплевать мне на их праздники!
– А почему тогда шефу не наплевать на тебя на одного? Хочешь брать – научись сперва сам давать. Да не из своего кармана. В этом вся мудрость. И тогда ты будешь свой. Ничто так не роднит людей, как общие грехи.
Гэс потерянно повёл вокруг, задержался глазами на матери, и Мария, покорная, тревожная («Горе ты моё, горе, как же ты в этой жизни выстоишь?») не выдержала воспаленно-вопрошающего, беспомощного взгляда, медленно, придавленно кивнула:
– Да, да… Мерзость и деньги всегда вместе… Ты глубоко ошибаешься, если считаешь, что в хозяйстве у полицейского ничего не должно быть кроме одной дубинки. А разве иначе устроен его желудок? И разве его дети меньше требуют сладкого? А разве его жена не любит наряды? Жизнь ставит так много вопросов! Приходит время, когда не отвечать на них просто невозможно. Отвечать делом, отвечать смирением… Не лезть в глаза, как муха, а поступать как все. Со временем и при терпении и тутовый лист становится атласом…
– … а человек атласным… с отливом, – добавил Джимми. – И тебе для этого так мало надо. Забери проклятуху свою бумагу, а там доверься мне. Не прогадаешь! Ну что? Ладно?
– И без ладно прохладно! – негнущимся калёным голосом полоснул Гэс и попятился в глубь тёмного коридора.
– Ну что, – сухо, сторонне сказала Мария, – если ты, Джи, опоздал к столу, может, войдёшь хоть поздороваешься с гостями?
– К гостям не обязательно. А к столу я никогда не опоздаю.
Джимми принялся шумно нюхать воздух и, безгрешно потирая руки, на цыпочках покрался к гостиной.
– Ты чего крадёшься, как вор?
– Профессиональная привычка, – извинительно улыбнулся, замер, держа левую ногу перед собой на весу, где застал непрерывный, густой голос машины. – Чего это так настырно ревёт твой «Мустанг»?
– Меня! Меня на вызов!! – В слепой радости Мария метнулась к двери. – Бывай!
– Чао, какао! – прощально поднял руку Джимми, лениво подумал: – «Хуже спаной девки. В ночь маточка полетела на свидание!»
Кругом стало тихо.
Джимми не доверял этой тишине. Всё так же, на одних пальчиках, подкрался к гостиной, бочком протиснулся в узкий размах двери.
«Колорадский жук кушать тоже хочет…»
Верхнего света зажигать не стал, не дай Бог увидит ещё кто.
Посветил карманным фонариком.
На развороченном столе не на чем было задержать глаз. Не то с трёх, не то с четырёх плоских тарелочек набралось картошки с мясом пускай не густо, а всё ж червячка уморить можно. Зато с питьём совсем беда.
Изо всех стаканов, изо всех бутылок рваной ниточкой слил опивки. На хороший глоток не хватило.
Он уже собрался уходить, когда ненароком сунул нос под стол. За ножкой бутылка! Початая. Там взяли сливовицы, гляди, пальца на два. Не больше.
От широты нахлынувших чувств он сел на пол, опрокинул бутылку в рот.
Джимми не из сорта тех, кто оставляет после себя хоть что-нибудь.
Пустую бутылку он добросовестно поставил на прежнее место. За ножку стола. Разомлело и цветасто улыбаясь, смахнул последние объедки в руку и дожевал по пути, пока тяжело нёс себя к своей машине.
А между тем только в стариковой комнате желтовато ещё тлелся низ тесного оконца.
Под лёгким одеялом старик жался к стене, молотил кулачком по незанятому простору кровати.
– Да разве мы не впоместимся? Не хочешь со мноюшкой, ложись в любой свободной комнате. Ну куда ты, смельчуган, на ночь глядючи?
– Нет, дидыко, не останусь. Ты лучше подари мне трембиту. А не подаришь, – Гэс просительно улыбнулся, – смаячу. Извини за откровенность.
– Роднушка ты мой! Трембитоньку мне самому воздарили… Сынки… С самой Родины везли. Как же такой подарок передаривать?
– Я понимаю, понимаю. Но и ты… – парень понизил голос. – Слушать молнию… Как бы я хотел всем им играть на молнии. – Гэс зачарованно, восторженно-отсутствующе гладил взором трембиту, стояла у стариковского изголовья.
– Это голос оттуда, роднуля ты мой. Я смотрю на трембиту и вижу, и слышу свой край, свою Русинию.
Не хотелось старику вот так сразу расставаться с трембитой. Не хотелось огорчать и внука.
Растерянность на лице проросла сомнением. Из сомнения выщелкнулась решительность.
– Дарю, роднуха! – радостью плеснул старик. – Дарю при одном условии. Каждый вечер играть ровно в десять! Я буду знать, что ты жив, что ты здоров. Буду знать, в какой ты стороне.
Завернувшись в одеяло, старик проводил парня до крыльца.
Хлопнула невидимая в темноте калитка.
Старик всматривается в ночь. Слушает уходящие шаги.
Шаги покрыла тихая, задумчивая песня.
– Над Канадой небо синее, Меж берёз дожди косые. Так похоже на Россию! Только это не Россия…Песня уходила от старика…
23
Хочь и погано баба танцюе, зато довго.
Соловей поёт до Петрова дня.
Плотные, тяжёлые облака стояли над самым домом. Стояли неизгонимо.
Срывался снег.
Петро, вернувшийся под утро уже, угрюмо пялился на узкое, в частых переплётах, будто решётка, окно, ёжился под одеялом.
Вот тебе и май!
С жарой. С дождём. Со снегом. Всего подмешано.
На дню всего насмотришься…
Ай-ай, месяц май! Коню овса дай да на печь полезай!
Вчера вон.
Тридцать пять! Продохнуть нечем.
Хлоп! Навалило, накидало туч – мокрый снег готов. Идёшь – снег под ногами жалобно всхлипывает.
Через час опять солнышко. Опять пекло…
В дверь просунулась плечом вперёд баба Любица.
Позвала слабо. Словно выдохнула:
– Петяша, сынку…
Петро поднялся на локте.
– Сынок… – старуха суетливо прошила мелкими шажками к кровати.
Конфузясь, положила в Петрову руку, что свободно лежала по краю кровати, стопку однодолларовых бумажек. Деньги держали её тепло.
– Сынок… – она запнулась, отвела глаза, – сколько могла… Купи мамке что к душе… Только отцу не говори…
Петро машинально кивнул и смешался.
Вчера нянько давал деньжонки на подарок матери, просил не говорить бабе Любице.
«Он себе сбанкетовал, она себе, а я собирай до кучи их секреты. Можь, отдать назад? Обидится…»
В нарастающей тревоге старуха с минуту вглядывалась в красное Петрово лицо.
Беззвучно, как бабочка крыльями, шлёпнула руками.
– Сынок! Тебе неможется? Да ты не прихворнул?
– Есть, наверно, немножко… Что-то буксы клинит…[39] Давит давление без выходных.
Старуха переполошилась насмерть:
– Что ж теперь? К доктору? Да он два слова скажет – пятьдесят долларей сломит. Это кармановыворачиватели таки-ие! У нас, сынок, болеть нельзя. Нипочём нельзя. Совсема нельзя!
Говорила старуха взахлёб, невыразимо пугаясь всего того страха, что вела с собой болезнь.
Петро пожалел, что сболтнул про давление, и, дав себе слово больше никогда тут не расслабляться, не хвалиться своими болячками, с усилием засмеялся.
– Ни идола-то у меня и не болит! А наших, а наших симулянтов да ленькарей сюда – разом отучились бы шастать по докторам!
Добрых, немалых сил стоило Петру смять в себе боль, но он сминал, давал вид цветущий, довольный, хотя втихомолку и ойкал, и матерком себя продувал, крепясь.
И старуха, в удивлённом восторге глядя на крупное, в пленительном смехе трясущееся тело, утешно, доверчиво отходила, отлеплялась акварельной душой от беды.
– А меня уже всю страх скрутил. Вот дурушка, вот дуурушка…
За завтраком ото всех досталось вздорной погоде.
Конечно, нрав погоды не исправишь. Так почему же хоть не поругать? Почему не отвести душу, тем более что разговорами погоде даже и не навредишь?
Однако пока семейство завтракало, в заоконье всё поменялось. Рассосало тучи. Кончился снег. Огнисто ударило нерастраченно жаркое солнце. По улицам бедово запрыгали весёлые ручьи.
Старик не верил этому скорому теплу. Он знал, что и в лето канальские холода будут исправно наведываться, будут приворачивать. А оттого, покуда на час какой вроде помягчело на дворе, надо обязательно взять и Петру, и Ивану по пальто. Подарки будут к самой поре, как яичко к Пасхе. И брать надобно не завтра-послезавтра, не потом когда придётся. Брать надобно сегодня. Зараз!
К чему такая спешка?
Выкатываться в город просто вот так туристами – посмотрите налево, посмотрите направо! – старику не с руки. Неловко. Втянулся в привычку: без дела не то что не высунется в город – без дела, кажется, он и не проснётся. Нужно видимое дело. И видимое это дело, важное подсунула непогодина – покупка сынам пальто.
Старику не терпелось вывести своих сынов в город. Не терпелось показать своих сынов всему миру, всей этой неласковой земле. Отобрала у меня Анну, отобрала малых хлопят, да не навек! Смотри, какие зараз у меня хлопцы! Смотри ж ты!
С певучей, с бестолковой радостью на лице вышагивал старый Головань и каждой капельке с крыш, и каждой птахе, и каждой щепочке в ручье позывало рассказать, какой же он богатый своими сыновьями.
Сжался, высох охряной жёлудь.
Зато каких два дубка пустил в жизнь!
Дивился им гортанный, взбалмошный город, выстроенный отцовыми руками…
Когда Головань приехал сюда, город был не город, а так, Бог весть что. Заштатная глухая деревушка.
В лесу.
Расчищал леса. Подымал заводы. Вёл железную дорогу. Мостил улицы…
Ходили сыновья из магазина в магазин, смотрели на отцов город.
Город смотрел на сыновей. Щупал руками Петра. Всамправдошной ли?
Не было старику большего счастья, когда навстречь наскакивал из знакомцев кто, особенно если этот знакомец был с русской стороны.
Старик цвёл от похвал за сыновей, и молодые краски пробивались на сухих его щёчках.
Ивану взяли кожаное пальто в первом же магазине.
А Петру…
Что ни померяет – трещит по швам.
Обскакали все магазины, где можно было взять – возвращаются с пустом.
– Нянько, – вздыхает Петро, – что ж это у Вас за люди такие мелкие? Бабы, на какую ни глянь, плоские щепки. Доска, два соска и больше ничего в конкретной наличности. Мужики тоже всё лёгкие, диетические какие-то. Не оттого ль в магазине что ни надень всё малое?
– Малое и шьёт на себя малое. Нету у нас великанцев. Нету в жизни, нету на них и в магазине. Ты такой один, не находится на тебя.
– А если хорошенечко посмотреть и за городом, где по округе? – разведывательно пустил Иван внатравку наводящий вопросец.
– Иване! – изумился старый. – Да ты читаешь мои мысли! Об чём речи терять? Раз надо, значит надо, ядрён марш!
А утром Мария везла Голованей из Калгари.
Везла из города в город.
Из местечка в местечко.
Старик не мог нарадоваться, не мог нагордиться на миру своими сынами; старику мало было того, что уже видели его с сынами в своём городе, в своей провинции; он вёз в соседние города, спешил в соседние провинции. Пускай вся эта земля, где пролегла его скомканная жизнь, где в дороги, в шахты, в дома твёрдым камнем легла его сила, его здоровье, пускай всё вокруг видит, что за богатыри его сыны!
Упругая маятная тревога закипала в стариковских глазах, когда навстречу неслись нарядные домки русских ли, украинских ли переселенцев.
Сколько их было на пути…
И ни одно славянское местечко Головани не промигнули с лёта.
Как же… Не вороги ж… Что ж хоть не поздоровкаться без переводчика?
А поздоровался – пропал.
Слёзы навпополам со смехом, расспросы, как там:
– Чи так в вас, як у нас, – беда беду водит?
Пока идут расспросы, во дворе, на воздухе, накрываются столы. Что было в дому – всё на столы!
– Угощайся, гостюшка милый! Угощайся, товаришок хороший!
– Угощайся, чем Божечко послал. Угощайся да не гневайся.
Через короткие минуты во дворе тесно, негде пятку поставить. Но народ всё течёт, течёт – всё селение пока не сольётся.
Находится смельчак, после первой угрюмо жалуется припевкой, показывая за плетень, в поле:
– Там на горi, за двором, Ходить бiда за плугом, Без iстика[40], без ярма Ходить бiда, гi дурна.Поперёд жалобщика выскакивает другой мужичонка, тонкий, неробкий, и, как бы нехотя покручивая в разминке плечами, наступает на слезокапа, загоняет того в толпу. Лениво остукивая себя по бокам, посмешливо глядит на теряющегося в народе жалобщика. Ты б ещё это отнюнил:
– Добривечiр або що! Вечеряти нема що, Засвiтити нема чим, Говорити нема з ким.Толпа протестующе гудит:
– Ну-у!.. Завёл молитву этот Не Минай Корчма![41] А шоб тебе мухи объели чуб… Давай-но кидай шо почудней!
И мужичонка, согласно кивнув, живей покатил себе шлепки на грудь:
– В головонькi не шумить, В животику не болить, Аж у нiжки пiде – На здоровья буде. – Ой ходив я до Параски лиш чотири разки, Вона менi показала усi перелазки: – Оцим будешь заходити, оцим виходити, А тим будешь утiкати, як тя будуть бити. Утiкав я од Параски через перелазки, Якась бiда ударила по штанах три разки. А я кричу: – Гвалту, люди, чого бiда хоче? А по менi четвертий раз: – Не ходи поночi!! – Де ти був, де ти був, та як роздавали? А всiм дали по дiвчинi, тобi бабу впхали. – А я був на печi, у самiм куточку, – Лiпшу менi бабу дали, як тобi дiвочку. – З лисим добре любитися, з лисим добре жити, Бо як сяде до вечерi – не треба свiтити. – Та й я хтiв би женитися, хтiв би жiнку мати, Прийде зима – сiна нема, нiчим годувати. – Як не пiдешь ти, Марусю, то пiде Ганнуся. Як не пiде i Ганнуся, то я обiйдуся. – Та я свою любу жону нiколи не лаю, Як вона спить до полудня, я iй помогаю.Влетела в круг озорная молодица со своей жалобой:
– Ой мала я миленького, ой мала я, мала, Поставила на ворота, тай ворона вкрала…Грянули скрипки, сопилки.
Танцуй, Ликерия, шелести, материя!
Закачался в хмельном топоте двор. Всяк толокся, плясал как мог. Плясал на измор, угарно охлёстывая себя по груди, по бедрам, по ногам, сыпал, вжаривал картинные санжарки[42].
– Ой мати моя, Та зарiжь мотиля, Щоб моему жениховi Та вечеря була! – Казав менi батько Кучеряву брати. Вона буде кучерями Хату замiтати. – Нема мого стареника, Дала б йому вареника. Ой, чи з сиром, чи з гурдою[43], Не колов щоб бородою. – Де будемо спати, Моя люба Зуско? На пецi горяцо, А за пецкой вузко. – Стояла я под грушкою, Держалася з подушкою – I подушка, i рядно, I самiй спати холодно. – Запряжу я курку в дрожки Та й поiду до Явдошки; Запряжу я курку в сани Та й поiду до Оксани. – Продай, мамо, двi корови, Купи менi чорнi брови – На колодi стояти Та на хлопцiв моргати. – Iшли дiвки з Санжарiвки, А за ними два парубки; А собака з Макiвок Гав, гав на дiвок! – Кажуть менi гарбуз iсти – гарбуз не солений, Кажуть менi за дiда йти, а дiд не голений![44] Як схочу гарбуз icти, я гарбуз посолю, Як схочу за дiда йти, я дiда пiдголю! – Танцювала, танцювала, Побачила гусака. Перестаньте грать страдання, Начинайте гопака. – Танцювати не могу, Бо сiв комар на ногу. А геть, комар, iз ноги, Най танцюю помали! – Ой як дiвка умирала, Та ще ся питала: «Чи не грае музиченька, Бо би танцювала». – I ти Грицько, i я Грицько, Дай нам, Боже, здоров'ячко, Дай нам, Боже, шо нам треба: Як умремо – шмиг до неба. – I пить будем, i гулять будем, Як прийде смерть, прогонять будем. Як смерть прийшла, мене дома не знайшла: Iди, смерть, iди прочь, голiвоньку не морочь! – Як я буду вмирати, Не забудьте гроши дати. Т а м така жiнка е, Що горiлку продае.Вечерело.
– Санжарiвки на скрiпцi грали, Кругом дiвчата танцювали…Подстреленной птицей солнце падало за чёрные горы.
Обречённо затухали цветастые санжарки.
Слезами наливались голоса.
24
Чужая сторона и вымучит и выучит горюна.
На чужой стороне и сокола зовут вороною.
Отгоревшие дни сплелись в три недели, а пальто всё не находилось.
И то, что пальто по Петрову плечу так и не находилось, нежданно поворотилось всем Голованям в руку.
Ну, в самом деле…
Возьми пальто сразу, чем же тогда было занять весь гостевальный месяц? Застольничать да диванничать?
Всё, гляди, не свелось бы к еде-отдыху, может, раз-другой и свозил бы старик сыновей за город, на природу, но всего-то только раз-другой. Не больше. Пустые разъезды старик не любил.
Уж на что томило его проскочить по местам, куда затирала его судьбина. Хотелось прощально поклониться не давшей умереть земле, хотелось проститься с молодостью. Хотеться-то хотелось, да всё откладывал, всё отпихивал своё прощание на потом да на потом: стыдно было перед самим собой из такого пустяка пластаться от воды до воды.
А тут Божечко подпихнул момент какой!
Не то что два – три зайца хлопай разом! Ищи в подарок пальто, прощайся на здоровье со своей молодостью да показывай сынашам землю-спасительку свою.
Как не ехать!?
Запоздало цвела подле Петра Мария.
Старик смотрел на немолодых уже, кажется, счастливых Петра и Марию и молодел сам, молодел от их радости раскрытой; было у старика такое странное чувство, будто терял он по дороге вечерние года свои и с каждым днём всё веселей, всё проворней, всё надёжней взглядывал.
И только Ивана тяготили эти путешествия.
Конечно, Иван мог бы не ездить, преспокойненько мог оставаться дома с бабой Любицей. Но он уже не выносил бабу Любицу, не выносил её добродушную прилипчивость и предпочитал встречаться со старухой лишь за обеденным столом, когда язык у той всё-таки бывает занят другим.
«Преподобная эта баба Любица и упокойника разговорит. Так уж лучше отмалчиваться здесь да видеть кой-что» – оправдательно думал Иван, расплющив, разлив кружочком воск щеки по стеклу и пусто уставившись за окно.
Одновременно беглым боковым зрением видел, как громоздкий, будто печь Петро, сидевший с ним рядом, крадучись, тесно пропихивал вперёд полено руки меж спинкой сиденья и стенкой, видел, как в заботе подтискивал ладонь под чуть приподнявшуюся на миг тощую Мариину валторну – так тебе повыше, ловчей, лучше будешь видеть дорогу; мягко, влито сидела Мария в горячем его ковше, светло улыбалась.
«Ну, бабы!.. Ну-у, нар-родец! – карающее косился Иван на Марию. – Нет бы послать с верхней полки – лыбится майской ромашкой!»
Иван не мог понять природу их отношений. Когда молодые дурачатся, куда ни шло. Молодым вроде по штату положено. А Петро! А Мария! В их ли лета?!
«Этот всё с женой наперекоску пустил. Отрастил мордень… Решетом не накроешь… Доблудит последние деньки, отряхнётся да и дальше. Разнепременно дальше! А ты-то что?»
Мария занимала Ивана как предмет пристального наблюдения. Со скуки не тем ещё займёшься! И из своих почти месячных наблюдений вывел: «Бабы везде одинаковы. Что наши… что здесь… Вот ты… Какая-то контуженная… Залучила перекормленного импортного дергача[45] – всю себя забыла! Дни-ночи, дни-ночи с ним! А наварец, позвольте узнать, какой? Отвечаю: ноль целых пшик десятых. Стариковские шашни с минусом. В убыток. Лавка уже четвёртую неделю закрыта. Таскаешься, походная дамочка, где чёрт приведёт с этим завозным боровом. Откуда взяться прибытку? А можь… А можь, то и будет прибытку, что подолом поймаешь?»
Иван тоскливо морщится.
Уныло переносит взор на дорогу.
Ровная, бархатная дорога быстро утомляет. Чугунеет голова, валится в сон. Иван послушно опускает лицо в уют скрещённых по верху переднего сиденья рук.
Душно…
Сразу не засыпается…
Ему хочется посмотреть, что ж там такое впереди на дороге может быть диковинного. Он тяжело подымает голову – никак не может подняться выше стариковских кофейных морщин на изогнутой цыплячьей шее.
Иван всматривается в эти близкие морщины, неуверенно привстаёт и с тугим изумлением впивается в спящего с открытым ртом на переднем сиденье отца. Отец спит, вдавившись в спинку; уронил набок крохотную, лысую, как гирька, голову.
«Так из-за этого стареника мне ни лешего не видать впереди?» – полусонно, мякло ворочает мыслями Иван и под их погибельной тяжестью помалу опускается.
Душно…
Воняет машиной…
Воняет старым потом…
Натужно надвигается Иван на старика, по-собачьи шумно нюхает шею. Запах шёл от отца.
«Да-а, всё старичьё не французскими вонятками[46] срезает…»
Раскинув вялые руки, Иван откидывается на спинку сиденья, не пускает из виду отца.
«Нянько… нянько… Ласково как…»
Боялся сознаться самому себе…
Чётвертая неделя на отходе. А в его душе ничего сыновьего не шевельнулось к отцу.
«Ешь, пьёшь, разговариваешь… Ничего родственного, ничего сыновьего. Будто с дядей говоришь… Лишь тебя не дядей – няньком зовёшь…
И только потому, что так надо.
Ну зачем было вытягивать нас сюда на месяц? Перед поездкой думалось, и в самом деле не хватит месяца наговориться-наглядеться. А поздоровались – путём и говорить-то не о чем. Так бы по-хорошему в три дня можно было впихнуть всю эту катавасию… Три дня вплотно посвиданничали и заказывай, отче, отвальную! А то жди в маятке полный месячище. Выше визы не прыгнешь!
Конечно, кто ж станет спорить, не тот родитель, кто родил, а тот, кто воспитал, кто поставил на ноги. Ты, старче, нас не растил… Да и что нас растить? Не помидоры, не картошка… Сами росли! Ты ничего своего не положил ни в меня, ни в Петра. Но мы хлопцы непромах, своего не просидим. И без батька вымахали эвона какие! Когда ты при встрече спросил Петра, где это он вымахал такой, он с усмешкой ответил: на печи дошёл.
Так что, нянечко, мы оба дошли на печи. Ты тут вовсе ни при чём. А раз так… Сердцу не укажешь. Сыновье чувство не воротничок, не пристегнёшь…»
Долго, невидяще всматривался Иван в пристежной накрахмаленный воротничок, тесно, до пота, обжимавший отцу шею; с сырым, потерянным вздохом перекинул похоронный свой взгляд за окно.
Как-то разом, стеной, кончился, будто обрубился, лесок, и по бокам холёной дороги богато размахнулись картофельные поля.
Поля лились белые. В цвету.
Мягчел, отходил на них душой Иван…
«Долгохонько жмут холода. Поджимают… Край по всем меркам сибирский; лето, летнее тепло вбирается всего в два неполных месяца. Из фруктов ничего своего, всё с привоза. Зато… Как же быструшко картошка растёт. При нас уже сажали… Мы с Петром помогали отцу сажать за двором. Уже наросла до колена!»
Не верил Иван глазам своим, когда увидал картошку у отца в кладовке. Длиной с пол-локтя! Не поверил, думал, нутро дуплястое. Развалил лопатой – плотная, как репка!
«С виду на поле такая же, как и у нас. А там, в земле…»
Картофельные поля сменились пшеничными.
Такими же ухоженными, нарядными.
Вдалине выступали, подымались птицами один за одним элеваторы.
– Рай идёт! – разбуженный Ивановым вздохом, восхищённо-ласково проронил отец, щурясь на катящиеся навстречу под сухим солнечным ветром тугие, гривастые державные волны молодой пшеницы. – Землица у нас, ядрён марш, сильная, родючая… Не поле – кошёлка с хлебом!
Иван не убирал твёрдых глаз с буйства сытой нивы.
Думал своё:
«Поля у вас в чистоте. Богатые. Ничего не скажешь. Да под ветром ходит в них пшеничка наша. Родом с Украины. И подсолнушко смеётся наш, пустовойтовский[47]…
Нищета выпирала мужика из родового гнезда.
Не в последней ли овчине вёз он в чужестранье надежду, что спустя лето-другое, вернётся при капитале, искал работы любой, абы денежно было; другой же тулупный мужик, основательный, прочный, держался за землю мёртво, как вошь за кожух, уверенный, что земля мать, подаёт клад, и, не представляя выхода из нужды без земли, и таких была большина, уходил из дома со своими семенами пшеницы.
За пустяк, всего-то за десять долларов, – в когдашние времена это, может, были и деньги, а по сегодняшней цене на эти на десять долларов разве что и купишь два входных билета в славянский рабочий дом, что-то вроде клуба, где за борщом да за варениками досталь наберёшься политики от погорячливых ораториков, встретишься с дорогим гостюшкой, с закарпатцем ли, с полтавчанином ли (Петро с Иваном были там на встрече), погорюешь на проводинах кого-нибудь на пенсию, начитаешься газет, книжек с Родины, до слёз наслушаешься да напоёшься русских и украинских песен, – за десять те долларов в эмиграционную горячку, в начале двадцатого века, отламывали приезжанину гомстед, шестьдесят четыре гектара дикой чащобы, болот.
Осваивай! Подымай целину, тулупный мужик! Разбивай поле!
А чем?
А как?
Власти на глупые вопросы перекатной голи не отвечали.
Ты мечтал иметь свою землю, много земли, ты получил землю – так разворачивайся ж живей. Дважды лето в году не бывает. Умри, а спеши вспахать в первые три года пятую долю надела. Выстрой, выведи в эти три года дом, хлев. Иначе, если не будет всего этого, ты лишаешься права на гомстед.
Закон есть закон.
И приезжанин, не имея ни скота, ни инвентаря, ни крыши, просился в работники к соседу.
Благо, сосед приехал раньше, немного обжился, завёл уже кой-какой инвентаришко, свой у него домичек. Находился уголок у соседа и приезжанину, покуда тот не подымал свою хатку наспех.
А не пускал к себе внаймы сосед – без продыху день и ночь лепил соломенку, жалкую, какую-то виноватую, принизистую и всё-то в ней: дверь, печь, окна – мало, тесно всё, потому что не забыл ещё, как у себя дома платил подать и за высокие двери, и за просторные окна; хотя и знал, что того порядка здесь нету, да сомневался; есть ли, нету ли, а выстроишь – они с порядком и подладят; так спокойней уж сразу делать, чтоб под подать не подпадало, и он делал, сам того ещё не подозревая, инстинктивно готовя себя к унизительной, просительной жизни, к нелёгкой доле чужака – в маленьком доме жить маленьким людям; эти маленькие люди тут же наваливались сводить леса, чистили место, впрягались мужик с бабой в плуг…
И ложилась в новую чужую землю наша пшеничка.
С годами поднялась пшеница в гору качеством, вышла, сильная, твёрдая, на широкий мир, а человек при ней, напротив, помельчал, в долларовой суетне помельчал.
Иван даже не мог и представить, что бы делали люди, населяющие этот край сейчас, приедь они сюда первыми переселенцами.
Впряглись бы в плуги?
Может быть…
Но кто бы тянул? Народушко кругом всё меленький, хиловатый, мяклый.
Отчего?
Отчего он сделался такой? Он что, нёс Антеев[48] крест?
И не давала ли этим людям силу родовая земля, а уйдя с неё, стали они мелеть? Чужой хлеб в горле петухом поёт… Чужая сторона и вороне не мила…
Может быть, ошибался в своих мыслях Иван?
Может быть…
Добре поколесили Головани по Канадочке.
Однако не купили-таки Петру пальто.
Пришлось шить на заказ.
Шатнулся старик к знакомому закройщику из Белок.
Глянул закройщик сверху вниз на великанца Петра и, и в почтении сложив руки на груди, обомлело ахнул:
– Вылитый Иван Сила![49]
Петро в смущении потупился:
– Наскажете… Однако весёленький перфект…
– Вот именно. Веселенький! До сблёва наостобрыдло мне шить на тутошних гномиков. Наконец-то я увидел настоящего мужика-гигантца! Праздник глазу! Отлитый Иван Сила! И откуда такие просторные в теле берутся? Только из Белок, дорогый земляче! Другие в наших Белках не водятся!
Подорожником легли на душу старому Голованю эти милости, и он лишь для видимости возразил:
– Ну-ну-ну! Не хватаешь ли лишку?
– Ничуть! Это ж в самой сути лежит, дедо! Вспомните, что в гербе наших Белок? Виноградная лоза да ветка дуба. Ду-ба! Вот и получите! Иван Сила!.. Ваш Петро!.. Дубы! Тем и славна наша Русиния…
25
В какой народ придёшь, такую и шапку наденешь.
Доброго вола в ярме узнают.
С того самого дня, как подарил старик трембиту Гэсу на том условии, что каждый вечер Гэс будет на ней играть, чтоб старик мог знать, в какой стороне города находится сейчас внук и что с ним всё хорошо, Гэс играл каждый день исправно.
И каждый день, после телевизора, вечером, старик выходил во двор, садился в полотняное кресло.
Полулежал с закрытыми глазами. Ждал.
– Сыграй! Ну сыграй отходную. Иначе я не засну, – шептал в темноту, будто Гэс стоял рядом и мог его слышать.
Не случалось ещё вечера, чтоб старик не слышал трембиту.
Старик слушал трембиту…
Видел Белки, видел себя молодым, видел малых своих парубков, видел Анну, файну (красивую), гордую собой, своими детьми; слышал, как спрашивала она Иванка, начинавшего лепетать восторженно что-то своё, великое, детское, не постижимое ещё взрослыми:
«Ну что, что такое хочет рассказать куря квочке? Что?»
– Что? – вслед за молодой Анной повторил старик, настороже открыл глаза.
В один миг с прозвучавшим в ночь вопросом замолчала трембита, словно убоялась, что старик не расслышит далёкого ответа.
Тягуче прошла минута, вторая…
Старик оторопело вслушивался в себя, вслушивался в ночь, но и дитя, и трембита гнетуще молчали.
Почему? Почему они молчат?
Поёжился старик от этого недоброго тёмного молчания, несмело свободней лёг в качалке на спину, отрешённо уставился на небо.
Частое сеево звезд дрожаще прорастало, катилось белыми огнями с чёрной вышины. Ночь холодила щёки, удивление раздвигало, округляло глаза.
«Постой, деду, а когда ты в последний раз видел звёзды?»
Вопрос прозвучал в нём нежданно. В самом деле, когда?
Старик стал припоминать, когда ж это событие было у него в жизни, и чем долее он думал, всё дальше, туда, в молодость, бежал клубочек. Было всё то, когда ещё гулял с Анной, когда целовал свою Анну при месяце, что золотым парусом летел по голубому льду.
«Как давно… как давно… Здесь уже сколько… А так и разу не видал тутошних звёзд… И как вас, белянки, считать? Свои? Чужие?»
Он даже привстал на локтях, пригнетённо, утраченно всматриваясь в небо, уже завёрнутое тучами, и ни божьей зги не видел; тьма была настолько крутая, тяжёлая, что почти чувствовал невозможный её груз на плечах своих, сухих, слабых.
«Прожить жизнь и не видеть звёзд… Разве такое может быть?»
Утром к Голованям нагрянула Мария.
– Сёгодни ты у меня, як лялечка! – воскликнула баба Любица, целуя дочку. – Хороша-а!
– Не скажите, мамко, – добродушно-лениво засомневался Петро. – Перебор полный! Какой, – повернулся он к Марии, – ну какой чёртушка тебя только и разряжал?! – Подумал: «Расфуфырилась, циркашка!»
Однако Петро безотрывно смотрел на Марию и не мог отлепить от неё глаз, до такой притягательности была она и впрямь хороша в этой цвета снега при солнце шляпе, в этой плотной коричневой рубашке с крупными карманами на груди, в этих кипенно-белых брюках в обтяжку, заправленных в вишнево-красные и на аршинных каблуках сапожки с рисунками по бокам.
На голоса вошёл старик, веселый, радостный.
Одной рукой поправлял на себе нежно-молочную шляпу с широкими полями, в другой руке нёс ещё две такие же шляпы, всаженные одна в одну.
– Петрик, хлопчик, – с игривой смиренностью склонил старик голову набок, – сегодня у чертей отгул. И у чертей, и у людей – у всех, кто оказался сегодня в нашем коровьем городе. Сегодня у нас праздник. Стампид! Все перед стампидом равны!
Набавилось старику радости, когда узнал, что ни Петро, ни Иван слыхом не слыхивали о стампиде.
Не слыхали, так услышите!
Старик всегда искал случай рассказать сынам что-нибудь ещё про свою сторону, про местные обычаи, принятые им такими, какими поднесли ему давние годы, ничего в тех обычаях не отвергая и не меняя, – принял, как принимают восход солнца.
Взошло, значит, так и надо. Твоих согласий на то не спросило и не спросит. Принялся Головань в новой жизни, как принимается ива, в какую землю нужда её ни ткни.
– Стампид в Калгари то же самое, что в Мадриде коррида.
– Ничего себе праздничек, – посуровел лицом Иван. – Пырять скотине в бока копья!
– И вовсе нет! И вовсе нет, Иванко! Ковбой любит животных не только на ферме, любит и на ипподроме. Да что говорить? Это надо видеть!
– Вот именно! – царственно пристукнула ладошкой по столу Мария.
– Сегодня каждый из нас – и мал и стар! – ковбой и должен быть одет как ковбой, – широким жестом старик указал на Марию, такую приманчивую, такую пригожую. – Порядки у нас добрые, уступчивые. Приходи в чём душа приведёт. Но явись ты без шляпы – на ипподром могут и не пустить. Поэтому берите, – в поклоне подал сыновьям по шляпе, – да с Богом к машине.
В ипподромную сумятицу с её ревом, свистом, вскакиваньем с трибун братья ввалились, как мышата в кипящий котёл.
Ввалились и – рты нараспашку, глаза на лоб.
С каких давен топчут землю, а не видывали такого содомища.
(Жаловались в Белках на собрания. Мол, до чего уж шумны те собрания. Так разве то шум? Разве то базар?)
Отстали братья от отца с Марией, потерялись. Луп сюда, луп туда – нету отца с Марией. Совсем пропали с виду.
Стоят, шагу пустить вперёд не могут.
Оглохли, оцепенели…
– Э-эй, стекольщики! – захрипели на них из ближних рядов. – Ну-к в сторонку сдай!
Не сговариваясь, качнулись братья назад, к выходу, – к лешему этот адов котёл! – но и служивый у выхода насыпался, наорал себе: пришли, так притыкайся где по-тихому и ша! Не путайся перед глазами!
В давке отлепились от выхода.
Иван и говорит:
– Петронций, у тебя глаз помоложе, верней… А ну кинь со своей вышки, где там наши? Да давай-но к ним правиться.
На добрый аршин подымавшийся над толкотнёй Петро в два огляда отыскал своих.
Отец с Марией, пригнувшись, боком продирались меж рядов к своим местам.
Мария шла за отцом.
Уверенная, что братья тащатся вплоть следом – задним колёсам как не идти за передними? – она, не поворачиваясь, жестом звала: за мной, за мнойкой! Ладошка, раскрытая совочком, лежала у неё на пояснице, и Мария невспех пошевеливала бледными пальчиками. За мной, за мной, братушки!
Шла она, опустив голову и глядя под ноги.
Да те, мимо кого шла, разом видели и происходившее на поле, и её. Красивых видят всегда.
Вот Мария поровнялась с отцветающим долговолосиком.
Стареющий малец, не стоящий и беглого взгляда, пялясь вослед, со словами «Заговори о чёрте и он появится» шумно, кобелино потянул тупыми ноздрями воздух; и сосед, его ж поздних лет, такой же жердистый, моляще послал вдогон воздушный поцелуй:
– Несчастья говорят нам о том, что такое счастье.
И третий, плутовски перекрестив вослед её муравьиную талию, потерянно приложил руку к груди. Поклонился…
И четвёртый…
Домолотив второпях яблоко, кинув конфету в рот, завернул в обёртку огрызок и с театральным великодушием – удовольствия украдкой самые сладостные! – эффектно сронил «конфетку» Марии в зовущую братьев руку, помахал прощально шляпой.
– Ax ты, моржовый Хрен Долдоныч! – цепенея, взревел мощным басом Петро. – Ну западло!.. Да я ж твою душу выну и задвину!
Тяжёлой громадиной сорвался с места Петро, налётом полетел к последнему в четвёрке.
Сидевшие на лавке в панике подбирали под себя ноги, ужимались, давая дорогу. С недоумением поджаривал за братом Иван, ничего не видевший впереди за Петровой спиной.
Мария не сразу заметила, что что-то бросили ей в раскрытую ладошку. А когда заметила, тут же развернула цветастую бумажку – земля пошла перед ней кругом. И бумажка, и огрызок выпали из рук.
– Кто? – надломленно повернула лицо назад. – Кто-о?
Мария уставилась на того парня, который и бросил. Чутьё говорило, именно его это работа. Парень сочувственно-вежливо улыбнулся, для большей убедительности покосился себе за плечо, переломившись, заглянул себе под лавку и изысканно-любезно, коротко развел руками: пардон, мадам, кого Вы ищете – здесь нет! Сожалею!
Петро не стал выпытывать, кто да что, он видел всё своими глазами, а потому, с разбегу выдернув из тесной людской цепи именно того шалопая-доходягу и взметнув его над собой, захрипел растравленным медведем:
– Целуй, га-ад, оскорблённой женщине сапог! Не то!..
Распалённо глянул на поле, где за разъярённым быком с ленточкой гонялись на лошадях двое:
– Не то посажу быку на рога!
Всё вокруг притихло, окаменело. Отвлеклось от поля, от ковбоев. Что пялиться на поле, когда рядом почище корриды!
Малый залепетал что-то покаянное по-английски, затравленно озираясь по сторонам. Петро не знал английского, ничего не понимал и лихорадочно думал, как же поступить.
Мужчина – сидел ряда на два выше, – зевая, попенял малому:
– Живущим в стеклянном доме камнями бросаться не следует…
– Кто силён, тот и прав, – мрачно возразил сиплый бас справа. – Сила всегда опережает правду.
– Не-ет! – выкрикнула тоже по-английски Мария, указывая на вскинутого Петром малого. – Мера за меру! Не больше!
– Несчастья, которые мы сами на себя навлекаем, тяжелее всех, – ни к кому в особенности не обращаясь, по-прокурорски назидательно проговорил мужчина с нижнего соседнего ряда.
Парень, что до этих перекоров сидел рядом с тем, который сейчас с выси воздетых могучих Петровых рук безучастно шептал: «Под собой разжигать костер…» – вжался комком в лавку, отстраняясь от Петра, зыркал себе за плечо. Видимо, он был в этой четвёрке не последняя спица, потому что сидевшие с ним по соседству двое не спускали с него выжидательных глаз.
Закопёрщик еле приметно кивнул; те снялись.
Сорвался и сам заводила. Не сделал он и одного прыжка, как Петро, замахнувшийся малым единственно затем чтобы сошвырнуть рядов через двадцать вниз, в яму поля, увидел беглецов и, крутнувшись, с криком: «Мистеры зелёные, вы забыли вот этого маминого сосунчика!» – швырнул в них малым.
В мгновение будто ветром вдуло всю четвёрку в давку у входа.
– Конец венчает дело, – спокойно произнёс всё тот же мужчина из второго верхнего ряда, подвёл черту.
В голосе у него не было ни осуждения, ни восторга.
Дело кончено, надо забыть.
26
Что можно пану, то нельзя Ивану.
Без росы и трава не растёт.
А кимоно-то херовато, – забеспокоился Иван. – Не мешало бы нам сплыть отсюда.
– Да, да, – покивала Мария. – К чему нам свидания в полиции?
– А! Вон оно где тебе жмёт сапог! – присвистнул Петро. – Её смертно оскорбили и она ж ещё боится! Вот когда нас заметут, тогда и скажешь. Думаешь, побегут в полицию? Да ни за мильон! Сами ж напросились на гостинчик. А чтоб ты убедилась, что никто нас не тронет, мы никуда с этого места не уйдём. Да и потом, окажись я неправ, не надо усложнять работу полиции. В ней же твой Джи!.. Здесь как раз освободилось четыре места. Нам больше не надо. Садись, Иван, садитесь, нянько. Нехай полы не висят. Нехай отдыхают.
Старик колебался.
Он не знал, то ли радоваться, то ли огорчаться Петрову выбрыку. И всё же, простительно махнув рукой, словно что решив про себя, возразил с робостью в голосе:
– Петрик, чего ж садись на чужи места?
– Ня-я-яа-а-анько! – ублажающе загудел Петро. – Были чужие, теперь… – садясь, потянул отца за бёдра книзу, усаживая подле себя, – теперь наши.
– Надо б на свои… У нас же и билеты на руках. Всё честь по чести…
– Э-э, нянько… Про честь где заговорили! Вот про честь в этом чёртовом котле и след помолчать. Не то обязательно заберут!
И, давая понять, что дело кончено, Петро, усадив-таки отца рядом и успокоительно положив ему руку на плечо, нарочито громыхнул:
– Нянько, и долго будут нам они, – взглянул коротко на поле, – голову кружить? Два таких бугая в шляпах гоняются за одним-единым телком. Чего им от него нужно? Чего-но пристают?
– Смотри. Сам увидишь, – суховато прошептал старик сбавленным голосом, стараясь никому не мешать разговорами.
Минуты три старик молчал, тихонько оглядывая ближних зрителей; убедившись, что и в самом деле никому не мешает, мирно, как-то просительно опустил руку Петру на колено, подбираясь лицом поближе к высокому Петрову уху. Петро наклонился.
– То, сынок, – мягко зашелестел словами старик, тихим движением головы указывая на поле, – номер ну вот такой. Укрощение бычка называется. Значит, ковбою дана таковецкая задачка… Лошадь летит себе. А ты на скаку с неё сигай и на рог намахни ленту.
– Да-а… Это не то, что попасть пальцем в небо и не промахнуться. Только что-то они долго… Сколько же можно раскатываться?
– Ловчат. Ловят момент. В жизни подо всё подгони этот самый дорогой моментушко… Во! Во!!
Старик тыкал в саму серёдку поля, где в рваных облаках пыли деялось невозможное, сыпал словами горячо, неистово.
Хотя Петро и сидел рядом, понять ничегошеньки не мог: оглушительный рёв наполнил вмиг чашу ипподрома.
Всё повскакивало с трибун; всё кричало, всё свистело, всё дубасило в топоте ногами, всё держало окаменелыми, цепенящими взорами отпетого смельчака – на полном скаку, не выпуская ног из стремян, с упоительной отвагой, расчётливо-точно пластанулся на рога рядом бегущего молодого быка; и всё то короткое время, которое понадобилось, покуда надевал ленту на рог, парень был мостом между лошадью и быком; и всё то бедовое время, будто почуяв, что между ними живой человек, именно тот человек, который всю-то жизнь, и в дождь, и в снег, и в будни, и в праздники всегда с ними, всегда и накормит, и напоит, – почувствовав, что тот единственный их вечный кормилец в беде, они стремительно бегут в одной, равной силе, на одном расстоянии, не решаясь ни на палец разойтисъ; и конь и бык, думалось в этот миг Петру, понимали, что жизнь этого человека на волоске, всецело зависела от них, и они, не сбавляя крутой скорости, боялись уронить его ненароком и растоптать.
Длилось это триединство, покуда были все трое вместе. Но как только человек, накинув ленту, выпростав ноги из стремян, оттолкнулся от коня, конь враз рванул резко вбок, словно обидясь и ревнуя, что ловкий ездок оставил его и перескочил на быка.
Впрочем, эта пересадка была уже сверх номера.
Это в номер не входило.
Всё должно кончаться тем, что ковбой надевает быку ленту. Ковбой же, разойдясь под рёв трибун, уже сам не в своей власти, этим рёвом, кажется, перемахнуло его с лошади на быка, перекинуло, усадило и теперь он, отчаюга, вовсе не держась даже за упругую бычью холку, царственно-победительно машет обеими руками на все стороны: я герой, я венец делу, весь этот трибунный рёв – мне одному!
Как знать, думает Петро, может, всю эту нелепость понимал и бык. Поди, быку не понравилось, что почести достались лишь тому, чью жизнь он, бык, напару с конём выносил из беды, иначе чего б он стал горбатиться, скакать, норовя сбросить задористого седока?
Похоже, седок не очень-то и держался за катанье на неуютной бычьей спине. Картинно проехав под рёв несколько метров, парень пружинисто упирается руками в жёсткий лоск спины, приподымается в стойку, не спеша, как бы нехотя вытягивая ноги вверх, подбрасывает себя – яровитый бык вихрем вылетает из-под ухаря, и орёлик уже эффектно, как гимнаст со снаряда, приземляется чисто, без помарок.
Едва убрались под затухавшие восторги ленточники, как из державно растворившихся ворот загона ударила гулко и покатилась по глади полюшка взбаламученная рыжая волна коровьего стада; навстречу полетели к коровам верхами.
– А это для смеха фокус. Для отдыха души. – Уверенный, что номер обязательно понравится сыновьям, старик свойски поталкивает плечами и Ивана, и Петра, заранее улыбаясь. – Недоенных коров завернули сюда с пастьбы. Вот прытче кто надоит два дюйма – это так пальца на три в бутылке, тот и генерал. Эна!
Парни с лошадей накидывают на рога арканы, камнем спешиваются, держат коров – напарники знай вперегонку дои; попасть струйкой в бутылку не сразу приноровишься; наплескав на глазок злосчастные два дюйма, шьют к судье: ну-ка скажи, кто проворней!
Трибуны посмеиваются снисходительно, чинно.
Сквозь этот вежливый смешок старик слышит накатами, рваными обрывками трембиту.
Голос у трембиты сдавленный, какой-то придушенный; в тревоге темнея, старик вытягивает тонкую шею, тоскливо всматривается в ту сторону, откуда слыхать трембиту. Но ни у кого на ипподроме не видать трембиты.
Может, кто из-под полы играет? Дразнит?
Тут же прогоняет пустую мысль. Трембита не флейта. В потайной карман не сунешь.
Может, всё это погрезилось?
Бывает такое. Бывает, убеждает себя старик, и начинает помалу верить: показалось, что слышал свою трембиту. Показалось, конечно, показалось. Показалось и всё! Разве не может показаться? Может… Показалось и всё!
«Показалось и всё!» – твердит себе успокоительно старик. Думать ему было так почему-то удобно, хорошо. Минуту-другую он только так и думает, медленно, чугунно подымаясь, возвращаясь душой к радости стампида…
Как гром среди ясного неба трембита снова накоротке дала свой надсадный, полинялый голос и – пропала.
Слилось немного времени.
Старик надставляет ухо, слышит подземельно далёкую трембиту. Только такое чувство, что трембита уже ближе, звуки различимей, чётче, твёрже.
Старик искоса посмотрел на сидевших слева Петра и Марию.
Тоненькая, в синих жилках, усталая её рука вкрадчиво покоилась, отдыхала в сановитой, надёжной Петровой руке. Негаданное, горделивое счастье цвело на лицах.
«Кроме себя никого и ничего не слышат…»
Не поворачивая головы, старик глянул на Ивана.
Иван сидел справа, с той стороны, откуда именно только что было слышно трембиту. Раз Иван ближе к трембите, значит, решил старик, Иван и мог слышать её; оттого, уже не таясь, маятно вперился в Ивана.
Заметил Иван отца. Повернулся.
В мученических глазах льдисто холодели растерянность, испуг.
– Что?.. Что Вы так смотрите на меня? – нервно прошептал Иван.
Старик молча пустил глаза мимо Ивана, дальше туда, в сторону выхода. Откуда-то вот из тех краёв подавала голос трембита.
Иван перехватил отцов взгляд, загнанно уставился в толчею у выхода, суматошливо перебирая лица. Славушка тебе, Господи, ни той проклятой четвёрки, ни полиции!
Отломало сердце, отлегло, откатилось немного от души.
Несколько ровней спросил:
– Нянько, кого Вы там, у выхода, выискиваете?
– Иваночко, – забормотал себе под нос старик, – сыноче, ты ничего не чуешь?
– Я да не чую! – в смертельной досаде хлопнул себя Иван бледным кулачком по коленке. – Я да не чую! Влетели в кашу! Эва как ещё влетели… Да с минуты на минуту!.. А ну заявятся те в компании с полицейскими? Загремим! Ну неуж сиди да жди? От греха надальше чего б не перебечь на свои законные места? Есть же билеты! Есть же у нас самые раззаконные места!
– Или ты, паникёр-одиночка, выпал из ума? – вяло усмехнулся Петро. – Как погляжу, вбили эти четверо твою зайкину душеньку в пятки. Не мети пургу. Не су-е-тись! Никакого законного местечка здесь у тебя нету… Нянько, – потянул Петро к отцу руку, – дайте-ка билеты.
Всё с той же вялостью и безразличием Петро принял билеты и изодрал. Клочки пихнул себе в карман:
– Успокойся, голубе. Без билетов всё равно где сидеть… Сиди до морковкина заговенья. Ни одна холера тебя не тронет. Кому ты нужен?
– Не-ет, – безучастно поднялся Иван. – Без билетов! Как вообще? Извините, господин Центнеров, – в детстве Иван дразнил Петра господином Центнеровым и при этом всегда говорил на Вы, – извините, но из-за Ваших вытребенек… В последний гостевальный день я как-то не горю особенным желанием залететь в каталажку. Домой, к себе в Белки, – название села он произнёс с подчёркнутым нажимом, – как ни странно я хочу вернуться в срок. По визе…
Искательно кланяясь каждому сидящему в ряду, старательно обминая каждого, поскрёбся Иван, качаясь, к выходу.
– Держись за солнышком, в тени. Не так жарко будет, – насмешливо кинул вдогонку Петро. – Да смотри, как бы те четверо невзначай не обтолкли тебе бока.
– Что за грех, – подумал вслух старик, обеими руками осудительно указывая на уходящего боком меж тесных рядов Ивана. – Петрик, может, и в сам деле убраться всем нам?
– Вот сейчас, нянько, как раз и сидите! – шумнул генерал-басом Петро. – Поглядим, посмеет ли какая худая тля сунуться.
– Ну на что это надо испытывать судьбу? – с плаксивым выражением на лице тянул старик. – Ну обязательно ли?
– Это тот самый случай, когда обязательно. – Петро мягко тронул отца за острый, лёгкий локоток. – Я никогда и нигде, ни-где, – неторопливо, властно повторил Петро, – не уходил с середины спектакля.
– А ну спектакль с мордобитием? – угарно подловил старик.
– А на что тогда, нянько, давали Вы мне эти кувалды?
Сложенными вместе кулаками Петро тихонько тукнул себя по колену.
Короткая дрожь брызнула по лавке в обе стороны.
Умильное и вместе с тем смятое изумление качнулось в тоскливых, беззащитных глазах, что наливались гордоватой решимостью, и старик, медленно, согласно кивнув, перевёл твердеющий взор на поле.
Иван ушёл и не возвращался.
Укоряющей, тревожной пустотой, точно пролом в стене жилого дома, зияло оставленное Иваном место.
«Где он? Что с ним? – начал изводиться Петро. – Ну, ёперный театр… А ну на него напали? А ну?..»
Петро был готов кинуться на поиски брата и не мог встать, связанный словом.
«Весёленький перфект… – подумал он – Прогнал ко всем дьяволам Ивана, осиротил батька. Нехай хоть…» – и, под мышки подхватив отца, пересев сам, усадил его между собой и Марией.
На безмолвный отцов вопрос ответил:
– Так вроде всё верней. А то сидите, как сирота на той прилепушке.
Сели повольней, скрали Иванову пустоту.
Не отнимая горячих глаз от происходящего на поле, Мария ощупкой нашла и взяла старика за руку, погладила и, накрыв его руку своей свободной рукой, чуть подалась верхом вперёд.
Конечно же – чего пустыми словами сорить? – сейчас она видела одно поле, на поле ковбоя – в левой руке поводья, правая вытянута в сторону, ноги – над золотистой гривой брыкающегося коня. Усиди так целых десять секунд на дикаре на этом!
Взрывались под ярыми копытами упругие кидки пыли.
Пыль не расходилась, не рассеивалась. А копыта всё подбавляли, всё подбавляли. Сытая, плотная, она тяжело поднялась по всему полю метра каких на три. Но дальше нет сил подняться, оттого не увидать в ясности лица ковбоя, не увидать, что именно на нём, на лице, в эту секунду. Боль? Отчаянность? Радость? Будто кисеей завесила всё пыль, скрала.
Ветру, ветру бы сюда, сквознячку бы бодрого! Да где ж ему взяться в этом душном котле?
И постоит-постоит пыль над землей, покуда стучат беспокойные копыта, а там снова толсто уляжется до нового стампида.
– Марийка, – нерешительно напоминает о себе старик.
– Ну, чего ещё марийкать? – без зла сердится Мария, не выпуская стариковой руки и не удостаивая его взглядом. – Вам попить, – в голосе тихая улыбка, – иль просто воды?
– Марийка, а я таки, – стоял на своём, не пускал свою мысль в сторону, – а я таки чую трембиту. И ближе уже… Наближается… – доверительно шепчет старик.
– А Вы не спутали? – доверительно шепчет и она в ответ. – Может, извините, то архангелы кого под свои знамёна призывают?
Мимо пропустил старик недумные слова.
Крякнул только с досады.
На тот момент сквозь несколько притихшую ипподромную сумятицу ударил ясный, тревожный зов трембиты.
Дрогнула Мария, напряглась вся.
Кто это? Гэс?
Тогда почему днём?
Насколько помнится, уговор был дудеть по вечерам, лишь по вечерам…
Правда, она ни разу его так и не слышала, уж лучше было бы не слышать вовсе, чем слышать сейчас оттуда, из этого дерзкого квартала.
– Отец, есть ли помимо Гэса ещё у кого-нибудь в городе эта ревущая дубина? – побелелыми губами прошептала Мария.
– По крайности, мне такое не известно.
– Не хотите ли Вы сказать, что это Гэс? – Она качнула головой в сторону, откуда была слышна трембита.
Старик пожал плечами.
– А чего гадать? Не пойти ли навстречу трембите? Там всё разъяснится!
Недоброе предчувствие кольнуло её.
Конечно, это ни в коем случае не может быть Гэс… Ещё из этого дурацкого квартала! Что он мог там забыть? Что, у него нет куска? Нет крыши над головой? Не-ет, не мог, не может он там быть!
И чем больше приводила Мария самой себе доводов в защиту той мысли, что её Гэс никак не мог оказаться в квартале, известном своими бестолковыми выходками, тем больше она боялась, что именно он дудит именно там.
Чего бы проще, выйди и узнай, всё станет на свои места, всё придёт в ясность. Как раз вот этой-то ясности Мария безотчетно и страшилась, понудительно выискивая себе в тоске оправдание не пойти.
«И так опоздали к началу. Не видали открытия, парада… Сколькое пропустили! И теперь уйти и не увидать езду на горбатых быках? Не увидать фургонные гонки? А что… Гонки гонками… А ну Гэс уже в беде?!»
Марию будто подбросило. Вскочив, неумолимыми жестами велела подыматься и отцу и Петру.
– Идёмте! Навстречу трембите! Скорее! Скорее же! Вы!.. Петро готовно встал, довольный, что желанию женщины нельзя противиться. Да чего ж противиться, когда сидишь сам как на иголках, казнишься, где там Иван, что с ним. Наконец-то можно с чистой совестью выйти поискать!
– Лично мне, блин горелый, всё это, – мягко придерживая впереди идущего отца за плечи, остыло глянул Петро на скачущих на молоденьких бычках парней, – всё это край грустная юмористика. Мы никогда не играли в ваши бирюльки и не понимаем ваших игр… Ну и пекло… Духотища… Клапана горят! Просит душа хоть глоточек свежего, правильного пивка…
27
Спящий никого не может разбудить.
Чем больше куёшь железо, тем оно горячей.
Они вышли.
Но и здесь, у ипподрома, была та же парилка.
Небо в облаках, духота, духота…
– Нянько! Невжель Ваш максимум[50] даже и в лето не берёт отпуска? – обмякло усмехнулся Петро.
– Похоже, не берёт, – ответил за отца Иван, чёртом вывернулся из весёлой ярмарочной толпы.
– Ого-го-го! Нашлась-таки бабушкина пропажка! – ясно обрадовался Петро. – Целый, вижу, неповредимый… Хоть-ко подхвались, где путешествовал?
– Никаких путешествий! На стрёме стоял. Думаю, асмодеи эти… Ну, четверо… Не дадут же тебе досмотреть, как пить дать подкатят с полицией. Я и стерёгши их у входа. Пойди они за тобой, я б и вывалился им навстречу, сказал бы, что ты ушёл, а коль нужна замена, берите, маэстры, меня. Не воспонадобился…
– Не востребовался! – в простодушности хлопнул Петро брата по спине. – Так что, Иванечко, в срок вернёшься к внуку. Честь честью прощайся спокойно со всем этим…
Петро грустно повёл вокруг очами.
День валило к вечеру.
Во все стороны, куда ни пусти глаз – горы, горы, горы. Пустые, голые, как стекло, в одних местах, в других местах закрыты кое-где лесом. Город был огорожен горами.
Горы берегли его покой, благоденствие. Высокие, державные, они исправно несли свою важную службу, предначертанную самой природой: держали город в дрёмном затишке, не пускали сюда ни ветров, ни бурь; и удивительно было лишь то, как это они впустили в город маленькую безгласную речушку. Вода в речушке была вроде чистая, да рыба в ней не жила.
И виноваты ли теперь горы, что всё же от нагнанной с юга антициклоном тупой стоячей жары город задыхался в своём каменном котле, судорожно жаждал хоть глотка живого воздуха?..
«Эгэ, – думал Петро, – да не много ль котлов? Ипподром – котёл, город – котёл. Вся страна, обнятая горами, тоже котёл. Котлы в котлах… Котлы-матрёшки… Жарко же в тебе, канадский котелочек. И весело…»
Подле ипподрома кипела ярмарка; в отдальке жались друг к дружке походные индейские хижины.
В этой сумасбродной, рокочущей людской коловерти ничего не было для глаза притягательней индейцев с перьями, в броско размалёванных одеждах.
Годовой праздник! Счастье! Единое на всех!
Сегодня индейцы веселятся вместе с белыми! Уже одно присутствие индейцев прибавляет празднику особенного колорита, особенной живописности. Забыты распри, обиды забыты. Белые прямо лезут в кость: сама обходительность, сама ласка, обнимают индейцев перед фотокамерами.
И турист не турист, не снимись в обнимку с индейцем. Как же уедешь со стампида без такого звёздного сувенира?
Праздник сегодня.
Праздник перевалится и в завтра…
Завтра за самолучшие наряды индейцев будут одаривать премиальной денежкой…
А сегодня…
Всё вокруг балаганно озоровало, дурило, выманивало ни за что у простофиль деньжонки. Недовольных не было.
Всё вокруг пело, плясало – веселилось наотмашку.
– Йа-х-х-хо-о-о! – дурашливо надсаживалась энергичная молодая кучка в одном месте.
– Йа-х-х-хо-о-о-у-у! – слышалось зазвонистое в другом месте.
Гремели эти счастливые голоса там, там, там – во всём городе.
Отмякла, успокоилась Мария, нигде не найдя трембиту; уверовала, что среди этого всеобщего пламенного веселья не может быть какой-то там гибельно ревущей дурацкой трембиты; то всё ей, Марии, примерещилось, всё то и отцу намерещилось, и она уже любовно взглядывала и на отца, и на братьев, по-прежнему вслушиваясь в голоса города. Не натыкаясь зорким слухом на трембиту, всё заметней Мария оживлялась. Наконец в ней вызрела радость, какая-то удалая, бесшабашная, и она, подгадав момент, коротко подпрыгнула над рулём, пронзительно взвизгнув во весь рот: «Йа-ахо-о-о-у-у!» – эхом вторя этому радостному крику, что раздавался из толпы совсем рядом.
– Е-е-есть! Есть ещё у козы рога. Не стёрлися! – светясь улыбкой, похвалил старик Марию братьям.
– А что такое йахоу? – спросил Петро. – Сколько едем по городу, его только и чуешь.
– Ну-у, в одно слово не вберёшь, – пустился в пояснения старик. – Вот кто из нас сделай большое, ломовое дело, только в поту и вздохнёшь: фу-у… гора с плеч… А ковбой легонько вскрикнет: йахоу! Вроде, дело сделано, отдыхай!
Машина медленно текла по улице.
Марии не хотелось вбыструю вылетать из этого годового веселья. Её воля, никуда б не поехала сейчас. Но раз надо, раз хотят того гости, она и едет, однако продлевая и себе удовольствие уже тем, что едет медленно по разлитому во всём торжеству.
Благостно посматривал старик на гуляющих и молча, ободрительно показывал сыновьям особенно живописные наряды отчаянных плясунов и плясалок.
Улицы помалу пустели.
Вздохнув, Мария живей пустила своего «Мустанга».
В окошко меж туч глянуло солнце, усталое совсем, предзакатное.
Стеснительно улыбнулись ему разом и старик, и Петро, и Иван. Надо же! Уже сколько здесь Иван с Петром, а солнца толком и не видали. Всё тучи да тучи. И вот те на беги! Прямо в глаза!
Встрепенулись Головани, зашевелились, потирая словно с мороза руки, хотя всё по-прежнему было душно, пусто, непонятно-тоскливо на душе. И вот солнце…
Солнце било в глаза.
Мария ужимисто бросила взор на верх ветрового стекла, где должен был быть солнцезащитный козырёк. Мария не помнила, когда козырёк и отвалился. Сколько собиралась снова повесить, да всё откладывала на потом да на потом. За сплошными дождями совсем забыла про козырёк.
Щурясь, Мария видела плохо. Ей бы, может, усмирить немного скорость. Но делать ей этого не хотелось, тем более в последнюю, прощальную прогулку братьев по городу. Неслась она озорно, воспалённо поглядывая в зеркальце на насторожённых Голованей.
Улица торопливо убегала в крутой поворот.
Марии и самой зашло на ум чуть обломить быстроту. Но, увидав в кружке зеркальца недоуменные лица, непутёво хмыкнула и пустила на все пары. Надсадно охнув, машина со стоном взяла, загребла новой резвости. Всё в машине, выскочившей за разделительную полосу, вальнулось к одной стороне.
Последние жаркие лучи кололи прямо в глаза.
Мария инстинктивно вскинула щитком узкую, длинную, как гробик, ладошку и оцепенела.
Навстречу во всю ширь крутой улицы железной рекой державно лилась демонстрация.
Мария вжалась в спинку сиденья, вытянулась. Торможение было такой силы, что её подняло, но и так, полустоя, она не выронила руля, словчила стать поперёк улицы, подставив машинный бок переднему ряду метрах в трёх от него.
– Да погорели б вы все! – грозя сбелевшими кулачками окаменевшей толпе, выдохнула Мария. – Делать вам, что ли, не черта!? Побрали плакатики и шлёндают! Бесовы ленькари!
– Какие ж они лодыри? – приходя в себя, смято возразил старик. – Люди требуют своего.
– Своего требуй прежде всего у самого себя! – почти выкрикнула Мария. – А у них… Глубоко покурили, мелко поработали… На работе надо работать! Тогда и получишь!
– Э-э, Марийка, не с больша ума… Да не пригрейся ты к бродвейскому боку, не знаю, как бы тогда ты сама и пела?
– Работать по совести везде не запрещено! И на Бродвее ленькарям не кланяются!
– И правильно делают, мадам, – приподняв шляпу, в мягкой грусти проговорил подошедший мужчина.
Похоже, он был близко в толпе и слышал разговор.
По его знаку в машину вкогтились со всех сторон и понесли.
– За-а-че-ем? – задыхаясь, застонала Мария. – Зачем бросать с обрыва?
– Этого удовольствия, увы, мы вам не предоставим. Уж как-нибудь сами… На досуге… – Тот же мужчина, помогавший своим товарищам нести машину, холодно смотрел на Марию. – А мы сегодня добрые. Благодарите стампид.
Машину поставили у обочины.
– Больше вы нам не мешаете, – в прощанье мужчина вскинул два пальца. – Все претензии – ему!
Мария вмельк глянула, куда тот показывал, и меж прохожих на тротуаре увидела покачивающуюся из стороны в сторону полицейскую каску. Из-под каски выкруживались тугие белокурые колечки.
«Только и не хватало этого блондина неудачного цвета», – упало подумала Мария, ложась помертвелым лицом на руль. Будто холодом её одело от внезапного страха. Она испугалась бегущего именно к ней полицейского и приняла летучую мысль: разыграю из себя погибшую, а там будь что будет.
Полицейский тыкнул дубинкой в плечо.
Мария не шевельнулась.
– Нет ничего умнее и надёжнее молчания, – устало пробормотал и, облокотившись на верх «Мустанга», скучно воззрился на демонстрантов. Потом наклонился к окошку, вовсе не глядя на сидящих в машине:
– Эй!.. На заднем! – стукнул по крыше дубинкой. – Она у вас что, уже готовая?
– Наполовину! – взрывчато-блаженно прошептала Мария, узнав голос Джимми.
– Мама миа! – отшатнулся поражённый Джи. – Да благодари Бога, что именно мне поручено прогулять эти… дорогие сливки ёбчества. – Дубинка коротко качнулась в сторону текучей людской лавины.
Мария воспрянула духом. Заулыбалась.
С Джи ей всегда было просто, легко, понятно.
Послал же Господь такого сыночка!
– Джи! Сынок! Они не перекинут мою тачку?
– А на что здесь я? Для модели?
Прикрывая собой машину, Джимми широко, прочно расставил ноги, энергичными жестами требовал: ну живей, живей шевелите копытами!
За сыном-полицейским Мария чувствовала себя надёжно. Ещё минуту назад она ни за какие блага не желала видеть полицейского. Но теперь, когда этот полицейский оказался родным сыном, она заново родилась на свет, осмелела, засияла, показывая всем сидящим сзади Голованям, что она и гордится сыном, и ничего с ним не боится.
Избочившись, наползая боком на руль, Мария зудяще таращилась из-за Джи на плотно идущих людей. Сомкнуты губы, в гневе глаза, слегка наклонены вперёд головы, вроде брухаться собрались.
Она видела хорошо, в подробностях видела эти лица, впервые видела так близко бастующих, и ни одно лицо не нравилось.
«Гм… Разойдись, болячки, чиряки идут! Не в час… У нас не побрухаешься, – благодарно смотрела в спину сына в полицейском. – Скоро посбивают рожки. Идите… От бублика выбастуете шнурочек…»
Ей вспомнилось, как хотелось Петру пива.
– Кстати, – мальчишески крутнулась к Петру, – ты вот на ипподроме горел выпить пива. Да где ж ему взяться, если окаянные пивовары видишь, чем заняты? Бастуют наши толстодумы! Видите, у них плохие условия труда, низкая зарплата. А у вас, на Родине, что, все под полный корешок довольны и условиями, и заработком? В такой довольке, что аж шуба заворачивается? Совсем не бывают демонстрации?
– Почему же? На Май… На…
– Я не про праздничные. Я про эти!
Мария ударила в стекло, указывая на демонстрантов, и заполошно вскрикнула: впереди всех по самой серёдке улицы, куда только что выносило её и она едва успела осадить машину, выступал Гэс! Ещё мгновение – она на свирепой фатальной скорости врезалась бы в живой поток и первой её жертвой стал бы её Гэс.
К счастью, этого не произошло.
Однако каково видеть, когда твой бездомный заблудший сыночек вышагивает впереди бастующих да ещё с этой проклятой, словно со знаменем, с чёртовой дудкой!? Вон, оказывается, откуда шли на ипподром глухие раскаты грома…
Мария отстранила рукой немного Джи.
Из-за его спины сорванно позвала:
– Трубач! – Ей не хотелось выказывать, что этот трубач её сын. Она не называла потому его ни сыном, ни по имени. – Трубач! Ты что, заблудился?
– Нашёлся, мама!
Ответ был убеждённый, ядрёный.
Это-то вконец расстроило Марию. Немыслимый гнев так и прихватило морозцем на её лице.
– Кому ты подыгрываешь? – поджигательно допытывалась она.
– Справедливости, мама.
– Ты что, заделался пивоваром?
– Нет, мама. Но я пью пиво и хочу, чтоб в нём было меньше горечи. Хочу, чтоб делали его спокойные люди. Счастливые.
Не останавливаясь, Гэс поднёс к губам трембиту.
Тревога, беда, надежда, призыв – всё смешалось в мятежную гордую музыку, вольно вознеслось над вечереющим праздником.
Суровее, собранней стали выражения на лицах идущих.
Вытвердел шаг.
Гэс держал трембиту почти вертикально, оттого он шёл тяжело, то и дело подаваясь верхом то в сторону, то назад. Его заваливало; за те короткие мгновения, что наблюдали за ним из машины, он несколько раз оступался, в качке отшагивал вбок или назад, но тут же, натужась, твёрдо заносил ногу вперёд.
– Да разве ж так!.. – в крайней досаде бросил Петро и выскочил из машины.
На ходу взял у мученика обвитую берестой трембиту и легко, свободно держа, не задирая высоко утолщающегося конца её, проиграл начало «Верховины».
Замолчал.
Огляделся.
Поталкиваемый ободрительными возгласами, разворотистый Петро, выдабриваясь, степенно, мощно играл ещё и ещё.
Энергичными жестами Гэс показал: это то, что нам как раз и надо! Попросил:
– Поиграйте ещё. Я поучусь.
Громадина Петро, видимый всему идущему за ним миру, играл и играл, и уже когда Гэс, сияя, запросил назад трембиту, уверяя, что он уже кое-что усвоил, Петро отдал и маячно заколыхался к машине, ведя за собой восхищённые взоры. Вслед неслась пока нерешительная, но уже правильно взятая мелодия.
– Ты чему его учил? – пасмурно накатилась в машине на Петра Мария.
Петро коротко хохотнул:
– По просьбе трудящихся…
– Ты шуточками не отбивайся! – настаивала Мария. – Так чему учил?
– Да ну какая ж тут учёба? – в стороны разнёс Петро руки. – Разве… Перед отходом на полонину пастух трембитой скликал и стадо, и подпасков. Разве он этим кого учил чему-нибудь? Он просто собирал их.
– И при этом играл «Интернационал»?
– Господь тебе навстречку! Каждый играет, что знает… Лично я играл свою «Верховину»!
– На тему «Интернационала»?
– Да сдался мне твой «Интер»! Он никогда меня не грел и не греет. Совсем другие «Интеры» я люблю. Миланский и братиславский. Это футбольные команды.
Мария в конфузе опустила голову.
– О! – притопнул старик. – Дуже не переживай, Марийка. Мой Петрик чему попало не научит. Поняй, Марийка, как я говорил… Поняй…
28
И конь на свою сторону рвётся,
а собака отгрызётся да уйдет.
В чужой черевик ноги не сажай.
Домой они ехали почему-то кружным путем.
И приехали на кладбище.
Кладбище было гладкое, пустое.
Без единого цветка.
Без единого кустика.
Без единого деревца.
Без единого креста.
Без единого памятника.
Без единой оградки.
На плоской красной глине вокруг лишь плиты, плиты, плиты, Бетонные. Одинаковые.
– Раз нас сюда прибило, – старик сиротливо тронул Марию за руку, – давай-но проведаем на минутку хатку мою.
– Ка-аку-у-ую? – в один голос ошеломительно потянули братья.
– Вечную, хлопцы, вечную…
Выйдя из машины, старик потерянно побрёл меж дышащих огнём серых плит.
Петро, Иван и Мария в гнетущем молчанье плелись следом.
День был на отходе. Начинало темнеть.
Как-то враз в фиолетовых сумерках потонула земля, островками белели кругом одни нагретые дневным жаром плиты с приподнятыми чуток с одной стороны краями над могильными ямами. Привстали плиты, словно бы ждут, выглядают вечных своих жильцов.
Из-под плит уже смотрела ночь и братьям чудилось не приведи что!
То угрюмая смерть выбрасывала из-под плиты костлявые руки, норовя разом поймать обоих за ноги, то замахивалась на них косой, то пускала из-под плиты змею, и змея жалила и одного, и другого…
Петро и Иван, с детства боявшиеся кладбищ, холодея, мелко обегали плиты. От плит ещё шло какое-то страшное, адово тепло.
Полвечности Мария с отчимом возила братьев по городу.
Сегодня последний день.
Напоследок надо показать город ещё раз.
Кто ж тут против?
Да к чему было заворачивать на это кладбище?
Старик остановился перед одной из плит, выждал, покуда все не подошли вплоть.
– Вот… – судорожно потянул воздух ртом, тыча в плиту. – Вот… Вот тут будем мы лежать… Я обещался показать новую хатку свою… Во-от она…
– Ваша могила?! – вскричали братья. – При живом?!
– При живом, сынки… при живом… – на близкой слезе совсем похоронно зажаловался старик. – Это ж не Русиния… Это, ядрён марш, лешак его маму знает что! Человек ну не вышел ещё из крепких годов, самая сила жизни… А его уже стращают гробом… А с него уже выдирают на могилу… Покинул Вас в соломенке, колотился в деревянной, дожился и до хаты каменной, – кротко погладил угол горячей плиты. – За эту каменную хату сломили три тысячки. И выстроили ещё когда! Загорюешь, приползёшь сюда… Наглотаешься слёз…
Петро заприметил, что на плите что-то написано, но прочитать не мог. Сел на прицыпки, на корточки. Вгляделся.
По-латынике выбиты имена отца, бабы Любицы.
Даты рождения.
Даже терёшки уже нашлёпнуты.
Осталось подписать, когда померли.
– Мда-а, – поднимаясь, прогудел Петро. – Не любят у вас стариков.
– А ховають, а ховають, идоляки, как! – со слезами в голосе зажаловался старик. – Тольке выдохнул человек последнее… Звонок в погребальную контору… Через час уже под этой крышкой… Не остывши ещё… Усы не успеют охолонуть… Да как же это так?.. Не обрядить чтобушки дома… Не постоять дома… Не проститься… Не нести чтобушки на руках… Безо цветов, безо музыки… Не бросать под ноги еловых веток… Не спускать на рушниках… Не услышать, как тебе на лицо упало по горсти земли из сыновьих рук… Да я и из-под этой бетонки буду кричать по своей по сторонушке… У свою бы землюшку…
Петро обнял отца за плечи.
– Няне, земля ни от кого не уйдёт… А Вы у нас ещё герой хоть куда. Воробья переживёте! Что бы да Вам не пожить сперва у родных сынов?! Собирайте бумаги. Проситесь домой. Без звучика ж отпустят!
– Оно, конечно… Только… Самолёта я боюсь. А водой не выдержу. Може статься, холодные одни костоньки привезут… А костонькам не всё ль едино…
– Скажете, нянько… В родной земле и корням теплей!
– И то правда, – после тягостного молчания согласился отец.
Похоже было, готовился он сказать сынам что-то очень важное, и всё молчал, не решался, считая, что негоже вот так с тарараху лепить своё главное. Надо подходец положить к этому к главному.
– А поглядишь, – усталыми глазами повёл отец вокруг по призрачно струившемуся в уже плотневших сумерках горному кольцу, – в затишке мы обретаемся… Сколь скитался по Канадочке… Прикипел на вечное житие в Калгари. Как-то тихо, надёжно, спокойно здесь. Ни одна чужая пуля не упала у нас. А разве это мало по нонешней поре? Мы живём в больное время! Пропасть бед приняла горевая Россиюшка в войну. И ох крепенько уроненный в детстве… Уже соседушка наш, Картер[51] этот, нарывается к Вам с ядерной ограниченной войной. Дуренький! Да пыхни ограниченная эта, уцелеет сам-то он? А? Как же! От хрена одни ушки и уцелеют!
– Парадокс века, – задумчиво выдохнул Иван, – парадокс. А если напрямки – анекдот века. Такой великий народ, а в президентах забияка. Только и здоров, что задираться. А зачем и ума не даст. Что ни затевал – всё пропукал. С бойкотом Московской Олимпиады кто по-грандиозному оскандалился? Кто перестарался и свернул «американский век» в Иране? Обжёгся на Афганистане кто? Теперь вот распетушился с нейтронной… Грозит, выхваляется… Эха… Хвалилась овца, что у неё хвост, как у жеребца… Да кто этому забияке даст взорвать мир? Кто его боится? И никакой Картеришка не пихнёт Россию ни в какую войну.
– Промежду прочим, про Гитлера тоже так говорили. А как всё крутнулось? Больное, больное время наше… Боюсь, – жарко, с надсадцей зашептал старик сухими губами, – боюсь, боюсь я за Вас, сынки…
– Нечего за нас бояться, – отозвался Петро. – Это пускай и соседушка Ваш не забывает… Неужели война буржуйцам не пояснила, что за сила Россия?
– Неповалимая, грозовая… А только боюсь я за Вас, сынки мои. Боюсь… Сюда ракеты не целятся – всё в Вас! Всё в Вас! – Глаза его загорелись, налились мучительно-горькой отвагой. – К спокою надо прибиваться, – ни к кому не обращаясь, в раздумье проговорил; смято, неуверенно позвал: – Что бы да Вам да в наш затишок?.. Что бы да Вам не пристыть, прикопаться тут самим?
Петру показалось, что отец шутил, брал на пробу:
– Няне, это уже и зря такими вещами шутковать.
– А я и не думал шутить. Оставайтесь сами, шлите всем своим визы. Я любил бы видеть всех Вас… Нам с бабунюшкой Любицей – она у меня хорошая, добродушная, во всём чистоту держит – сколь ещё осталось землюшку топтать? Так, и дунуть нечего… От силы год какой… Ну два… Ну три… Крепости во мне нет. Это я мало-малешки в здоровье вошёл, как Вы написали, что едете. А так я сильно лежал, в улёжку лежал… Болячки свои нянчил, на кладбище всё вспоглядывал… С Вами за компанию я ещё подержался б… На пользу Вам… Поди, в чём Вам и пособили с бабунюшкой… Пособили б оклематься, подняться на ноги… Мы с ней, обкашляли, обшушукали всё. У дочек у твоих, Иванко, мелкая детвора – кидай нам на счёты! Подпасём… Выпасем… Будет нам последняя радость… Всё, что у меня с нею, – Ваше! Что нам с нею надо? Вот эту вотчину в косую сажень? – Старик пнул плиту. – Так готовая уже, пятнадцать лет стоит дожидается… Как и оплановано, ферму одному Петру, а всё остальное имущество, весь дом отпишем на Вас на обоих…
– А зачем? – возразил Иван. – Нам всего этого не надо. У нас с Петром по домяке. Как школы там стоят! В садах, в винограде, в цветах…
– Мой дом – это всё, что у меня есть… Как он мне достался… Сперва купил тоскливый, дешёвенький вигвамишко[52], отладил, отдрапировал – с выгодкой загнал. Взял потомушки домичек уже покрупней… Там третий, четвёртый… И так доехал до последнего… Всю жизнь, всё здоровье втолок в домищу… А оставить… некому…
– Милый няне, – ласково забасил Петро, приобняв отца, – мы двумя ложками не едим… Да я свои Белки за Канаду в придачу с Америкой не отдам!
– А на что отдавать? Тебе – дають! Бери да помни: где отцов дом, там и Родина.
– Не-е, няне, – Петро покачал рукой перед отцом. – Родина там, где пупок резан. Родина от слова род. А род там, где мамко. Белки – и Ваша, и моя Родина. Другой у нас Родины нет.
Легла тишина.
Стиснула руки Мария; опустили головы Петро с Иваном.
И виделись им дома свои.
На столах, на окнах – вазы, вазы, вазы.
В вазах не цветы, цветы буйствуют под окнами в палисадах, во дворах. Однако в комнатах от цветов стоит красная духовитая прохлада: вьющиеся розы тесно затянули окна.
Рвать дивные георгины, тюльпаны, хризантемы, лилии просто боязко, вроде как откручиваешь живому голову.
Уж лучше пускай небесно улыбаются цветам Белки, всяк проезжий.
Головани никогда не рвали цветы. Оттого у них, у хлебодаров, по привычке и в лето, и в зиму одно в вазах: пшеничные колоски, пухнатые, пушистые кукурузные метёлки.
Старик, разбито хмурясь, присел на угол плиты.
Угрюмо молчал и лишь время от времени бросал сквозь злость на сыновей льдистые косые взгляды.
– И что? Вы так, хлопцы, и не останетесь? – после долгого плотного молчания спросил сырым размолоченным голосом.
Петро доверчиво тронул отца за плечо.
Заговорил уступчиво, рассудительно:
– Ну, пускай, остались мы. Повызывали своих… И что далей? Что мы тут будем делать? У Вас же, няне, своих безработных, как травы и листу! Полтора мильона! Мало? Подавай свеженьких-горяченьких со стороны? Русинцев не хватает? За месяц, что мы тут, – три забастовки! Целых же три-и-и! – вскинул Петро руку с тремя оттопыренными пальцами. – Мусорщики, – загнул мизинец, – р-раз! Пивовары сегодня, – прижал к ладони безымянный, – два. Послезавтра начинают лётчики – три. Повырывай дочек из институтов и просись они у вас в уборщицы? Не-е, милый нянько… Вы меня, конечно, глубоко извинить, но свой мусор Вы уж убирайте как да ни будь сами.
– И нянечко мой, царство ему небесное, и я ехали… Никакого мусора не страшились.
– Так то когда было? И дидыко, и Вы ехали за куском. А мы, несмотря на картеровское эмбарго на зерно[53], слава Богу, не пухнем с голоду. Наоборот, это у вас скорей опухнешь. Я, нянько, не в упрёк, я так, просто к слову легло, – за месяц я похудел у Вас на двенадцать кило! Утром на весах топтался. Иван вот не даст сбрехать. – Иван согласно кивнул. – Это что, порядок? – Петро с упрёком раскинул просторные полы пиджака, что висел на нём как на палке. – Порядок?
– А чем непорядок? Лишний вес большие годы срубает.
– А кто знает, лишний, нелишний? Кому, может, и лишний. А нам по нашей кости самый раз.
Внутренне старик соглашался с доводами Петра.
Уж кто-кто, а старик-то знал, что такое безработица. Он-то хлебнул этого счастья. И как это он, старая варежка, не подумал про эту самую безработицу? Как мог забыть про неё?
Ладно, сам на пенсии. Но сыновья, но их жёны – им-то сколько ещё ехать до пенсии? Молодые, наверняка достанется зачерпнуть этого счастья.
Лучше уж без него.
К самому моменту бухнул Петро про безработицу.
Может, думал старик, боязнь остаться завтра без работы, без ломаного гроша и хомутит нас, приневоливает самих себя брать за жабры: копи, экономь на всём, даже на еде? И мы… Не с этой ли пагубной экономности тут, может, и повывелись молодцы на Петровы образцы? Всё отощалые плюгавики, кощеи кощеями. В чём только и дух держат?
Всё это не от экономности ли на всём? И чтобы себе не сознаваться в гибельности этой экономии, не придумали ли мы в утешение, что полноплотный человек – больной человек? И всегда ль верно, «тоньше талия – дольше жизнь»?
Мы, думал старик, подтруниваем над плотняком (зависть же прежде нас родилась!), задираем его, гнём под свои мерки. Хочешь долго жить – меньше ешь! Человек начинает мало есть, высыхает в удобную нам стандартную мелочёвку…
Сущие мужики, породистые, несокрушимые, вовсе вывелись, как мамонты. Дюжего человечину у нас и не жаждут увидеть, даже не шьют ничего на порядочное плечо.
Вспомнилось старику, как всем семейством носились по сеседним провинциям в поисках пальтища для Петра. В какие города ни толкались – в смерть утолкались! – а так ни с чем и вернулись.
Было досадно, что не купил готового подарка сыну. Было и красно на душе – ни у кого больше нет такого гренадера-гигантца!
Так чего же было попрекать его тем, что помногу ест?
Воробей вон по зёрнышку клюет и сыт живёт. Так на то он и воробей. На соломинке унесёшь. Ему больше трех зёрнышек и не надо. А медведь за раз по полной корове прибирает и бывает голоден.
Так на что же требовать, чтоб медведь ел с воробья? Чтоб превратить медведя в воробья? Кому это надо?
Копейка всегда завидовала рублю.
Мелкоростки, что с бесшабашной кроличьей безответственностью заполонили большие края, чувствуют себя прескверно, однажды увидев вдруг, что, оказывается, есть люди и поприметней. Ну как не возмутиться, когда другие тебя заслоняют? Когда ты киснешь и чахнешь в чужой тени?
29
Мёрзлые семена поздно всходят.
Колос колоса не может обнять.
С медленным восторгом старик обрадовался этим своим мыслям, что оправдывали плотную полноту Петра.
– Ай да Петрик! – звонко хлопнув в ладошки, чисто, раскованно засмеялся. – И как только могло такое-подобное приключиться, что от клопика, – тукнул себя сухоньким кулачком в стиснутую щуплую грудёнку, – да пошёл экой слонища!
Старик теребил Петров локоть, смеялся, смеялся ясно, подмывающе заразительно, так что даже Мария заулыбалась сквозь проступившие слёзы; хохотнул, будто на пробу, Петро, а там, раскатившись, загрохотал гулко, одобрительно. За компанию прыснул в кулак Иван.
И дико было слышать со стороны этот срывистый, тяжёлый смех на вечереющем кладбище.
Отсмеявшись, с суровой грустью заговорил старик:
– Твоя, Петрик, правда… Снёс нянько безработицу – Вам-то на што её знать? На кой Вам чужина? К чему это не есть досхочу? Не стану я большь канючить, штоб оставались. Не к душе, не желаете раз нашего раю – не надобно. Только об одном, хлопцы, прошу. Вы уж уважьте… Погостюйте до Петровок. Я снесу ваши бумажки куда надо. Без звучика нашлёпнут штампик ещё. Как раз до милых Петровок.
Петро и Иван перебросились взглядами.
– В Петровки я родился. Посвальбовали[54] мы с Вашой мамкой тоже в Петровки. Пшеничным зерном обсыпала нас её мамко… Милые наши Петровки… В честь всего этого мы и тебя, хлопче, – тронул Петра, – назвали Петром. Но за всю пору, что я на чужине, я и разу не отмечал этот день. Моё, оно, конечно, только мне и в цене. Свиделись раз в веку… А доведётся ль ещё свидеться? Давай-но посидим на Петровки за столом. А там уже можно и прощаться…
– А вообще, – тихо, как-то уклончиво, бочком вжался в разговор Иван, – день этот мы знаем. Мамко каждый год в этот день накрывают праздничный стол. Воспоминают Вас…
– Вот и въехали в хорошо! Вот же и хорошо! – засветились глаза у отца. – А в эти Петровки ответно давайте мы вспомянем ейко[55] тут!
– В том-то и дело… – замялся Иван. – В эти Петровки я свою Маричку отдаю. Какая ж свадьба без отца? Без Петра?
– Большая будет свадьба! – державно вскинул руку Петро. – И курочки, и гусики все будут пьяные… Я как чуял, предлагал сыграть позже. Так куда! Мамко настояли, чтоб свадьбу справили именно на Петровки. «На батьков день»!
Потеплело у старика в груди.
Какие годы, какие земли пролегли между ним и родным домом, а помнят, помнят старого, из цены не выкинули. Батьков даже день завели!
Возликовал старик; минутой потом плотно взыграло в нём ретивое, дёрнуло в каприз.
– Ну и что ж, что свадьба? – наваливается. – А разве телеграммой нельзя передвинуть? Заради ж самого меня?
– Отложить свадьбу – плохая примета, – резнул Иван, сверкая холодеющими глазами. – Путёвой жизни не будет у молодых. Да и как отложишь? Это всё едино, что с родами заставить погодить. Не-е… Что разугодно! А я поперёк дочкиному счастью не стану!
Старик панически всплеснул руками:
– Да что ты носишься со свадьбой, как кот с селёдкой? Значит, дочку разгневить не рука. А батька… Что батька? Батька такая чужбинная погань! Чего ж не отыграться на батьке? А батька, замежду прочим, ровным счётиком для Вас ничегошки не пожалкувал! На одну-едину поездку загнал… Восемь угробил тыщ!
Взрывчатый Петро тяжко засопел раздувающимися ноздрями:
– И что ж теперь? Оставайся тут навеки-вековущие? – После короткого молчания вздохнул: – Спасибо, оценили… Теперь мы хоть знаем себе цену. Восемь тыщ и ни цента сверху!
– И думаете, – взял Петрову сторону Иван, – со всеми кишочками выкупили на корню?
– Да подите Вы к Богу в рай! Ничегошеньки я и не думал… А!
Старик махнул перед собой утомлённой рукой, будто прогнал с лица надоевшую пакостливую муху.
Весь месяц тиранствовала над ним беспощадная тайная мысль, как бы оставить здесь сыновей. Об этом он прямо им не пел, уверенный, что ну не может не приглянуться сынам новая сторона. Глянулась же когда-то ему! Надобно только хорошенечко её показать им, показать богатецкий товарушко лицом.
В роду Голованей остолопов вроде не водилось.
Увидят.
Ахнут.
Запросятся.
Сколько возил…
Как утратился…
Увидели – не запросились.
Неужели всё коту под хвост пушистый?
Подавленно, гнетуще думал старик, сронив голову к груди.
И долго бы он так, в недвижении, ещё простоял, как в повозке задремавший стоя дряхлый ослик, заезженный бедами и жизнью, не пожми его Петро ободрительно за верх руки.
– А! – скорбно повторил старик. – Как пошла судьба, так нехай и идёт… – Говорил он так, словно продолжал вслух думать. – Делайте, хлопцы, как знаете. Лише одно скажу вдогон Вам: красные повытряхнули из Вас всё людское. Закаменели, оглохли Ваши души. Не чуете… Совсема не чуете Вы, што тлумачит Вам нянько… Ника-ак не достучусь я до Ваших, чёртовы Вы сынки, сердец!
Рывком подхватился с плиты, замолотил в груди одновременно и одному, и второму.
– Бежите! Бежите! Это сейчас мода таковская ходит – кидать родителев на произвол…
Молотильного пару в нём не на век хватило.
Сронил руки мёртвыми плетьми, откачнулся на шаг в сторону.
– Я хотел… Чтобушки поселились, пустили корни в моём доме… Чтобушки сховали по чести… Приходили чтобушки ко мне по праздникам, – летуче скосил глаза на плиту. – А Вы – бежака! Одного спокидать на чужине… За это, – бросил кверху руку с выставленным пальцем, – за это с Вас тамочки спросится!
Не утерпел молчун Иван.
Пожалуй, впервые за всю-то поездку пыхнул:
– Там, – сдержанно повёл головой к тёмному верху, – и тут, – кивнул на могилу, – могут и не спросить. Не хотели и мы допытываться. Но раз Вы, нянько, всё перекувыркнули с больной головки на здоровую, раз тако выворачиваете всё, так ответьте, что же Вы не торопились к нам тогда? Полвека назад? Вы ушли заработать на хату, привезти из Штатской земли своего батька. Вы отлучались на год-два. А сколь сминулось?
– И виноваты в том Вы! Толечко Вы! – отхлестнул старик. – Вы! Вы!..
– Не кипите зря, – с растерянной улыбкой вмешался Петро. – И не пихайте вину с себя на нас. Ну как бы вот я Вас искал? Когда Вы покинули нас, я жил ещё в мамке! Под серденьком… Ивану и года не настукало… Мамко грамоте не умели… Как мы могли Вас искать? И где? Вы ж кочевали из края в край, с топором гонялись за доллариком. И не проще ли было написать? Вы же знали, где нас оставляли. Белкам уже семьсот пятьдесят лет и всё на одном месте живут. Не сдвинулись…
– Война… – обмякло промямлил старик. – Я думал, Вас всех побило… Никого не осталось…
– Не думать… Писать надо было в те же Белки… Нашей сельской власти. Вам бы и ответили всё про нас.
Не знал старик, чем бы ещё подбелить себя, что ещё сказать в оправдание. Молчал.
Но растравленные полуответами сыновья искали всей правды! Почему же это отец не вернулся-таки через год-другой, как обещался?
И старик вывалил всё, как было…
30
Какой день прошёл, тот и до нас дошёл.
Россия и Украина – одного корня калина.
Действительно, он скоро сбил порядочную кучу долларей.
– Засобирался сразу же домой, – медленно вспоминал старик. – И первое, что я сделал, сбегал взял вот эту бомагу. – Он чуть наклонился, отстегнул пуговицу на потайном кармане пиджака, кряхтя достал в пластмассовом футлярчике и протянул Петру вчетверо сложенный тяжёлый лист, на сгибах местами проеденный временем и беспрестанным ношением. – Тут усё про меня…
С недоверием вынул Петро из футлярчика и развернул мелованный лист, протёртый крест-накрест и дивом державшийся кое-где.
Было уже темно.
При спичках Петро без потуг проскочил самые верхние строчки. Типографно печатаны. Глазастые.
ОБЩЕСТВО КАРПАТОРУССКИХ КАНАДЦЕВ ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОМИТЕТ
Ниже всё шло уже от машинки. Мелкие буквы были полувытертые, слеповатые.
Априль, 13. 1931.
Дорогы товариши!
Повидомляем Вас што Иван Головань был член нашого Общества Карпаторусских Канадцев с 1929 року – с початку Нашого сушествуваня в Канади. Товариш Головань допомогал в нашой работи як с практичного боку, так и с финанцового боку.
Товариш Ивань Головань брал участь в боротьби за краще житя обше прогрессивного руху, и всяди давал допомогу посля його возможности.
Для нашого Общества Карпаторусских Канадцев буде втрата, бо он был добрым и щирым товаришом.
Желаэмо йому всього найлутшого.
Цетральный Комитет Общества Карпатоусских КанадцевМихаил Лукач, секретарь.Михаил Тиханич, председатель.И Петро, и Иван с немым восторгом уставились на отца.
– Нянько! – зарокотал Петро. – Да Вы у нас молодцом!
Зарделся старик. Отозвался:
– А разве то в грех?
Зевнув и манерно откланявшись, Мария, пятясь, не поворачиваясь, на цыпочках пружинисто пошла к машине.
Застывшими, чужими глазами провожали её братья.
Мгла тут же поглотила её.
Смутно, трудно улыбался старик, благоговейно складывая и осторожно пряча листок в карман.
Кто бы только знал…
Взять бумажку взял, а так уж повернулось всё, не уехал и ни на один миг не выложил её из кармана: с нею было как-то спокойнее, твёрже на душе. Действительно, каждое утро, уходя с нею на работу, ему казалось, будто навсегда уезжает к себе в Белки; ему было легко, ясно; он верил, что в последний раз вот закрывает дверь в своём калгарском дупле. Вот закрываю и больше не вернусь сюда, я еду домой!
Эта старая бумажка живила, согревала его. Давала силу, давала веру, удостоверяя, что он стоящий человек, поднимала дух, звала.
Характеристику Общество выдаёт отъезжающим. Ты получил характеристику. Что же ты медлишь? Когда же ты поедешь? Сегодня?
«Сегодня… Сейчас!..»
С этой бумажкой, выйдя на улицу, он чувствовал себя человеком, навсегда покидающим этот город, чувствовал себя отчего-то ни к чему уже не причастным; уже ничто вокруг не касалось его, он был выше всех этих дел, он был уже одной ногой дома; уже ничто вокруг не заботило его, поскольку всё это чужое, не его, не его, не его.
Он и на работе каждое утро чувствовал, что дожимает свой последний денёшек.
Но дни вязались за днями. Полвека эта бумажка проходила с ним в кармане по чужой земле.
Полвека он неизменно каждое утро уезжал домой – полвека неизменно каждый вечер возвращался в свою ветхую холодную курюшку с крохотными оконцами, с крохотными дверьми, без деревьев во дворе, возвращался тяжело, горько, словно к месту своего вечного заточения.
И кому пойдёшь расскажешь про это? Кто тебя станет слушать? Кому это нужно?
Не только кому постороннему, он себе не может прямодушно ответить, почему ж всё так скомкалось в его жизни.
– Так уж пало, – однословно твердил сыновьям. – Сразу не уехал. А там и навались гуртом кризис, безработица. С тридцать второго по тридцать восьмой в прохожем ряду ветром торговали, бегали, без работы как голодные собаки бегали из провинции в провинцию, и двадцати центов не добыть за день, не то что целый долларь. Всё, что согнал на хату, на обратную дорогу, – всё подчистую растряс, распустил. Избéгал Канаду от воды до воды! За что только ни хватался, абы зубам была хоть малая работка. Голод загнал аж под Ледовое море. И студёно там… Плюнешь, на лету плевок в камушко смерзается… Оденься хоть в пять этажей и все тёплые – всё равно алчная стужа смертно допекала.
До того старик там прохолодился, что мочевой пузырь навсегда перестал держать.
Скатился пониже, к югам. Ходил нанимался к фермерам за одну кормёжку.
А как заварил немец войну, явилась сударыня Работа.
Крутой стриганул заработок.
Выходит, он, чью Родину жёг немецкий сапог, наживался на войне?
Нет. Он не воевал.
Он просто делал ту чёрную работу, что давали ему.
Отойдя от голода, не жался отламывать от своего заработка порядочный кусок, и шёл тот кусок на медикаменты, на подарки русским воинам, на больницы во Львове, в Полтаве, в Харькове.
Его долларики не были лишними и в тех сборах, на что славянские канадцы закупили целую санитарную колонну, двенадцать машин, для Красной Армии.
Не убрал он своего плеча от Комитета помощи Родине и когда гитлеровщина уже получила окончательный расчётец в мае. Агитировал, собирал, вносил сбережения свои – сирота сам, как мог, так и помогал русским, украинским сиротам, чьи родители погибли.
Как мог, так и помогал…
Он уже скопил ещё на обратную дорогу, когда узнал, что по Белкам прожёг немец.
Сперва он подумал, а подумавши, безо всяких на то выверенных подтверждений – у всякого свой царь в голове – чистосердечно уверовал в свою догадку, что никого из своих больше нет у него.
«Один, совсем один, как сломанный палец. Ежли у меня никого, то зачем я? Зачем мне деньги? Зачем мне хата?»
Ему не для кого стало жить.
Пятнадцать лет он жил ожиданием встречи с семьёй, жил этой надеждой. Теперь из жизни выдернули стержень, пустым мешком опала жизнь, всякого решилась смысла.
Головань бросил работу; запил; перестал платить за угол.
То был его вызов.
Дотаивали последние сбережения. Хозяин не пускал на ночь. Он спал в парке на скамейке.
А уже заворачивала осень.
Распечатались дожди.
Однажды – пьяному на каждом шагу поворот – трудно вышатнувшись из корчмы, он со сходцев скатился под забор.
Вечерело.
Густо сыпал мелкий дождь.
Кругом было пусто.
Он поднялся на руки и на все стороны бессмысленно похлопал глазами, как жаба на морозе, передохнул, дёрнулся встать – его завалило на бок.
Низко жалась к самому забору молодая нарождающаяся ночь. В ней, в уютной ночи, не слышно было дождя: внавес покосившийся забор собирал слетающие капли.
Головань обрадовался нежданному прибежищу, не пропел, по слогам проговорил санжарку, тупо пялясь на горько склонившийся над ним забор:
– Ой, так я роблю: Не доем, не досплю, Только боюсь той я cмерти, Штоб без чарочки не вмерти…– Казаче!.. – позвал кто-то.
В ответ он только вызывающе набавил крику:
– С-сам да пью… С-сам да г-гуляю… Сам стел-люся-аа… С-сам да л-лягаю!..И уточнил:
– Усё с-сам!..
– Какой погорячливый… Казаче! – снова позвал мягкий жалостливый голос. – Казаче!
– Всем казак. Только чуб не так…
Он провёл по лысой голове, поднял сырой взгляд. Его звала печальная женщина ещё свежих, цветастых лет. За руку она держала маленькую девочку.
– Подай Вам Божечко добрый день! А из якого Вы села?
– А на что Вам моё село? – хмыкнул он в ответ.
– Да не отбираю я Ваше село… На ночь где угнездились… – робко попеняла она. – Так наловиться градусов… До встречки с землёй! У Вас что, нету дома?
– Далеко… мне… домой…
– А нам близко домой! – выдабриваясь, похвалилась девочка.
– Умничка моя Марушка, – женщина погладила девочку по головке. – Пособляй подымати дядю… Вставайте, вставайте! Ночку перебедуете у нас. Поедите. А там…
– А там… Никуда я не пойду отсюда.
– Никуда и мы от Вас не пойдём. Не оставим тут. – Женщина заплакала. – Или мы не свои люди?
А утром он никуда не ушёл. Да и куда было идти? Прибился, притёрся, прибрехался Головань к полубольной вдове с малышкой на руках, именно прибрехался. Так говорят о втёршихся в доверие неправдой.
Прямой лжи не было от Голованя. Любица не верила, что у него нигде нет семьи, он тянул одну и ту же песню: была, погибла под немцем. Твердил он это с чистой верой в свои слова.
Поверила Любица.
Наконец они сошлись.
Любица была словачка. Первый её муж, русский (родился уже в Канаде; в поисках вольного куска его родители переселились туда в крайние годы ещё девятнадцатого века), добровольцем ушёл на фронт.
Погиб.
В голод сорвало людей с отцовой земли. Но теперь, когда беда шумела над их Родиной, они без колебаний бросали безбедную жизнь на чужбине, по горячей доброй воле шли умирать за свою землю, которая не дала им когда-то сытого куска.
Многие славяне уходили добровольцами на фронт.
Воевали по ту сторону океана.
А он жил, жил как укор самому себе.
Добровольцем не брали.
Года два назад шахтным обвалом его изрядно помяло, покорёжило. В больнице вставили в кость на ноге пластмассовый клинышек, и не пускал его тот клинышек на войну. Заклинило.
«Выше врачебной комиссии не прыгнешь. Зато тут, где всё-то зависит от тебя самого, тут-то чего не помочь Любице? Её муж полёг ведь за свою и за мою – за нашу Родину?»
И не поймёт теперь старик, любил ли он тогда свою Любицу, любил ли он, выпавший из жизни и подобранный ею, больше своё благодарное ответное стремление быть хоть чем-то ей полезным?
Бесспорно одно: он тогда понял, что необходимо жить дальше. Жить ради Любицы, жить ради Марушки – жить ради своих спасителей.
От Петра с Иваном старик узнал, что его отец, американский безработный, так и не принявший американского подданства, погиб в бою.
Так бы отец никогда и не согнал в кучку денег на обратную дорогу. А военным добровольцем случай разом докинул под бок родовым Белкам. Где-то на подходах к Белкам и упал, взятый пулей.
Щемяще позавидовал старик отцовой смерти, высокой, праведной, и расплакался ребёнком, когда сыновья к случаю поведали про гибель двадцатиоднолетней Маргариты, дочки Бабинца. С ним отец старика уходил в Штаты на заработки.
31
ГДЕ ЖЕ НАШ ДОМ, МАМА?
(Воспоминания у могильной ограды)
Соловьи в Америке не живут.Факт.
Разве ревут волы, коли ясли полны?
Лучше упасть, как скала,
чем осыпаться, как песчаный берег.
Сам Бабинец уже подносился, выпал из годных годов.
Плохой здоровьем, он кручинно убивался, что не может вот так, как дед Головань, взять оружие и уйти воевать за свою Русинию, за свое Доробратово на ней, не такое уж и далёкое от Белок село; и то, что хотел, но не мог уже совершить отец, совершила Маргарита, дочка. Первая военная американская летчица, она сорганизовала в женский авиаполк всё больше выходцев из Европы, славянок молодых: не у каждой ли в роду кто-нибудь да и томился под немцем…
Славная девочка, ты взошла на самолёт, как на пьедестал.
В пилотке, в ремнях. За плечами парашют. Прощально вскинула ладную обнаженную по локоть руку – рукав гимнастёрки закатан.
Последний взгляд.
Последняя в грусти улыбка.
Прощай, вскормившая меня земля! Прощай я говорю. Не до свиданья…
Славная девочка, что же подняло тебя на чужом крыле в чужое небо?
Отправляясь на задание, ты с чужого неба судорожно впивалась взглядом в пристёгнутые к земле чужие деревнюшки, мысленно спрашивала: «Где же наш дом, мама?» Ловила себя на том, что слышала свой голос задавленный, звавший маму, братишку:
– Ма-а-мо-о… Иваночко… Совсем скоро свидимся у Вас… Дуже скоро… Иначе на что я здесь? Иначе к чему всё это?
Небегло, тревожно оглядывалась.
Взор спотыкался о тела бомб, рвался; зажмурившись, осторожно, будто боясь потревожить их взглядом, отворачивалась от них.
Ты везла бомбы, летела бить врага и до слёз боялась этих бомб.
Ты старалась не смотреть на них и с больным жаром, исступлённо уцеливалась глазами в ту сторону, где было Доробратово.
Ты не выговаривала это село. У тебя выкручивалось своё. Дорогобратово, Добробратово. Дорогие Братья. Дорогое Братство. Добрые Братья, Доброе Братство.
Там, в Добробратове, – до него какие сотни километров!
– были мама, Анна Петровна, Иваночко, самая старшая из сестёр Мария, которую ты так ни разу и не видела, а по тот бок воды остались ты, отец, сестры Анна, София.
Полсемьи там, в Штатах, полсемьи здесь, в карпатском Добробратове.
Нужда, нужда крутила людьми, как бес дорогою…
Ты не знала, какое оно, Добробратово. Не знала, какая она, земля отцов…
Ты родилась в Штатах. А Родиной своей считала Добробратово, откуда выбежали все ваши корни.
Все ваши жили возле школы, где живут и сейчас. Однако отец твой не ходил в школу. Бедность не пускала.
Твоя бабушка имела на квартире учителя, кормила, а плату не брала. Одного хотела, чтоб учил он отца грамоте.
Реденькими вечерами учился уставший от дневных забот отец у засыпающего учителя. Учился разным грамотам. А толком не кончил ни одной. Однако его грамоты хватило – пел потом в православной церкви, саморучко написал две церковные книги, так и не изданные, правда.
Женившись, отец поехал заработать на землю. Было это перед первой мировой войной. Что-то раза два приезжал, прикупил землицы.
– Теперь бы ещё заработать на добрый дом…
Дом был тогда у ваших не то что сейчас – низенький, навалился на один бок, и твоя мама пожаловалась мне:
– Такой низенький, что я не могла вытянуться на полный рост. Оттого я теперечки кривая…
На мой вопрос о возрасте она резво вымахнула мне навстречу руку с просторно растопыренными четырьмя пальцами:
– О, я богачка! Ещё четыре – и все сто будут мои!
Видишь, почти в пять раз мама пережила тебя…
…Вот уже выдали в жёны Марию. Старшую.
А на дом отец так и не сбился деньгами за полный десяток лет.
Только на дорогу наберёг.
Позвал к себе маму, сестрёнок Анну, Софию.
И стронулись они. Приехали.
Отец, твердивший, что одной рукой не ухватишь две сороки, рассчитал…
Живи все вместе, быстрей, проворней скопим, быстрей вернёмся; выведем, выладим свой домок да заживём по-людски.
А судьба кинула карты по-своему.
Век прожить не дождливый час перестоять.
Родилась ты.
Через три зимы прибавка в семействе. Иван.
Какой там дом!
Не до жиру, быть бы живу.
Если дед Головань, вечно без работы или так, сидящий на пустяках, перебивавшийся крохами, зарабатывая на соль к селедке, погибнув на войне, так и не принял заокеанского подданства, то отец твой не мог позволить себе этакой счастливой воли. А ну одному кормить шестерых!?
Не тебе говорить…
Не имеешь их «веры» – нет тебе никакого ходу. А принял – свободней подобраться к делу поденьжистей.
И всё равно худо было.
Но как ни худо, а маме отец так и не разрешил взять американское гражданство. Не навек нанимались. Нам абы наскрести на домок да на обратный билетко.
А между тем большали, подрастали дети.
Вместе с детьми подрастала и тревога за них.
В ближних школах всё на английском.
С русским не подходи.
Почему?
Вместе с другими членами Русского общества пихнулся отец к правительству своего штата за разрешением.
– Высоки те пороги на наши ноги, а таки переступи-или, – возвратясь, говорил он тебе, втайне надеясь на милость верхов.
Ан нетушки. Всё оставили по-прежнему.
Что же будет с детьми? Кем они вырастут? Что вырастет в детях русского, если даже языка своего родного в школе не изучить?
Выход один – ехать домой.
А на что? На каковские шиши?
Помирился отец с нуждой. Повёл дочек в школу.
– Господь с вами, идите… Там толкач муку покажет. Идите, только английского чтоб я не слыхал в доме!
И английского никогда не слышали в доме, говорили по-русски.
Готовили уроки шёпотом, потихоньку; отстрелявши учителевы уроки, делали короткий перерыв, после чего уже сам отец принимался школить. Малограмотный сам, учил писать, читать по-русски…
Надоставал где-то кучу русских учебников, множество разных других книжек, учил, гнул детвору к родному слову.
– Не забывайте, – говорил, – вы здесько в гостях. А гость невольник, что подадут, то и жуй. Не забывайте и то, что вы тут только чёрная кость, рабочая сила. Чужая земля не греет. Что там… Родина ваша, дом ваш – пуд Карпатами… Пудкарпатская Русь… В самом центре Европы!.. Русиния… Русиния… На карте не найдёшь такой страны. Но она живёт в каждом русине. Верю, придёт святое времечко, и на карте воспроявится такая держава… Русиния! Вы должны жить у себя Дома. Вы будете, обязательно будете жить у себя Дома! Русин – сын Руси!
И помногу рассказывал про Карпаты, про русинов.
Ты была строгая, добрая.
Твою строгую доброту досегодня держит в высокой цене Иванко, младший брат, уже втрое перегнавший тебя годами.
Ты любила велосипед. Научила ездить на нём и Иванка.
Помогала братке готовить уроки.
Водила в класс за руку.
И если уж что непотребное открывала за ним, не могла, повязанная словом, не сказать отцу. Однако прежде всегда говорила самому Иванку, за что он никогда на тебя не серчал, а вовсе напротив. Спешил поправить свои дела, насколько это было возможно, так что «воспитательный разговор» с отцом не заставал брата врасплошку.
Однажды в школе был вечер.
Ребятьё пело, танцевало, рассказывало стишки.
Ты тоже рассказала английский стишок.
А потом и попроси разрешения рассказать свой.
Учитель разрешил.
И ты рассказала стих Александра Духновича[56]. Этот стих ты слышала от отца.
Песнь народна русска
Я Русин был, есмь и буду, Я родился Русином. Честный род мой не забуду, Останусь его сыном. Русин, был мой Отец, Мати, Русская вся родина[57], Русины сестры и браты, И широка дружина[58]. Великiй мой род и главный, Мiру есть современный, Духом и силою славный, Всем народам прiемный…Аплодисменты были ото всех, хотя никто из слушавших не знал русского.
Тебя попросили рассказать ещё стих. Но разве ты могла отказаться? И ты рассказала второй стих Духновича.
Жизнь русина
Под горами, под лесами Зимнiй вiтер вiе, Там покойный, богобойный Русин бедно жiе. Подобно роду своему Жiе во Карпатах, Не завидит он никому В высоких палатах. Он маетности[59] не мае, Ни сребра, ни злата, Едное сердце благое Суть его богатства. Не в богатой он палате Пребывает гойно[60], В низкой, малой халупине Бывает покойно. Пшеничнаго и житнаго Хлеба он не просит. Овес, ячмин кормит его, Но и той не досить, Не пiет он каву[61], вино, Он сiя не знает, Но водичка из поточка[62] Жажду му вгасает. Не плавает он по морях, Корабля не мает, Лишь по скалах, леcax, горах Бедно ся блукает, Не убрано, цефровано Он ся приберае. Одежду красно, порядно Сам coбе прикрае. Два волики и коровка, Кляча не кована, Сколько овець, ягнятенька Богатства му данна. Он ремесло не кохает, Лишь землю делает, Он не купчит, не кламает, На то не внимает, Лем покойно, богобойно Бога почитает. Все невинно и острожно, Сам себе питает. Земля ему xлебa дае, Поточок напоит, Он уж больше не жадае, Cie 'го спокоит, Бо землю щиро делае И бедно трудится, По горах быстро бегae, Тяжко мозолится[63]. Не потребно 'му перину, Когда утрудится, Ляже на зелену траву, Покойно проспится. Но прото[64] он все покойный И беды не мае, Он есть все coбе притомный, Бо гpеxa не знае, Он не злодей, не разбойник, Сумлиня[65] чистаго, Он благiй, добрый человек I сердца щираго, Бога любит, почитает Царя и верхняго, Все претерпит i зделает Для свого ближняго. Он на честь много внимае, Жiе богобойно И весело работае, Трудится покойно. Вдячно дасть Богу божое, Нич не противится, Не жадает нич чужое, Своим заходится. Он на розказ все готовый, Повинен верхности, Дань отдати усиловный, Кончит повинности. Здраваго разума он есть, Хоть не учил школу, Он правду добре познает, Похопит[66] посполу[67]. I так жiе, так працуе В ласце Бога свого, Покой, любовь все чувствуе, Не рушит никого. О призри, Боже и Отче, Потешь невиннаго, Помилуй, ласкавый Творче, Русина беднаго, Чтобы он Тебе cлужити Мог, сердцем невинный, И побожно, честно жити, Здоровый и сильный.И тебя снова не отпускали. Просили читать ещё. И ты рассказала стих Михаила Града «Русиния».
Русинія – мати моя, Краю полонинськый. Вічно буде тя любити Потомок русинськый. Горы мої, руські горы Як вас не любити Ци у журі, ци в радости, Шуга не забыти. Многом ходив по світови, Тай навандрувався: По Чехії, Мадярії, Я думум вертався. Не забуду співаночкы До любкы ходити, Бо нітко так гі русинка Не знае любити. Не забуду руське імня І язык русинськый – На котрум співала мамка, Коли м быв малинькый.И опять все жарко тебе хлопали.
Рассказала стих Анастасии Далады
Русинкы – наші мамы
Вышивали наші мамы скатирті білинькі, Кросна ткали, жито жали до сонця раненько. И до зорькы з косарями ішли на покосы З діточками, бикачами по студеных росах. В диривляні колысочцi дiтий колысали И не кляли свою судьбу, молитву шептали. Благородні наші мамкы тяжко все робили, У прорубах в снігах прали, на полях орали Долинянкы наші добрі и милі горянкы. Трудiвниці роботящі, руські, родні мамкы, Гордилася наша земля усе трударями, Поетами, косарями, в горах вівчарями. Богобойні, выробленi, у храмиць ходили, Перед образом стояли и Бога молили. В тяжкых муках каждодневных, хлібиць заробляли, В полонинах сіно гребли, мало добра мали.Тебя по-прежнему не отпускали.
И тебе пришлось рассказывать новый стих Ивана Петровция.
Духновичем дарованное слово[68]1
О, речь русинская, тебя одну Я чувствую, как гусляры струну, Как астрономы даже днём звезду, Всю сладкую, как солнышко в меду. Как молоко дитя, тебя я пью. Никто отнять не сможет речь мою! О речь русинская, лишь ты одна Стоишь, как нерушимая стена Русинских прав и жизненных основ, Щитом от украинских болтунов, Что рвут нам сердце злых зверей лютей, Поскольку не считают за людей. О, речь русинская, в тебя одну Я верю и тобою присягну. В дни страшные, как сердце, он кровит – Духновичем нам данный алфавит. К своей свободе по его пути С русинским словом вместе нам идти!Снова и снова тебя просили читать русинские стихи.
И ты не могла отказать.
Ты прочла стих-песню Духновича «Подкарпатские русины». В начале XX века эта песня была гимном Карпатской Руси – региона, входившего в состав сначала Австро-Венгрии, а затем – Чехословакии. И через пропасть лет, уже в третьем тысячелетии, эта песня станет гимном Подкарпатской Руси.
Подкарпатские русины
Подкарпатские русины, Оставьте глубокий сон. Народный голос зовет вас: Не забудьте о своем! Наш народ любимый да будет свободный. От него да отдалится неприятелей буря. Да посетит справедливость уж и русское племя! Желание русских вождь: Русский да живет народ! Просим Бога Вышняго да поддержит русскаго и даст века лучшаго!Дома Иванко – ты брала его с собой на вечер – расписал этот случай.
Отец взял тебя на руки. Целовал и плакал.
– Отак, дочушка, и учись… С детей люди растут… Ты у меня ещё прогремишь на всю Землю! Как великий русин Никитин[69].
Ты не понимала, зачем это тебе надо греметь, когда тебе до смерточки хочется летать, и сокрушалась, что ты не мальчишка и не можешь, никогда не сможешь поступить учиться на лётчицу.
Как-то после окончания школы ты пришла к Софии.
На ту пору София уже перебралась жить к одному поляку миллионеру.
София была акушерка. В городской больнице, где она служила, не первый год мучилась одна неродица.
Беда в сто коней ездила к ней.
Только завяжется человечек – выкидыш. В другой раз доберегли акушерки, без малого приспел час рожать – опять выкидыш.
После пятого выкидыша, после пятой такой беды муж той несчастной созвал акушерок.
Угнетённый – не рад хрен тёрке, да что же делать, на всякой пляши! – с мольбой заглядывал больничницам в глаза.
– Семья без детей, что сети без рыбы, – жаловался на ущербе. – Золотые панночки, кто охранит жизнь моему ребёнку – королевская премия за мной. Плачý, когда ребёнок наживёт шесть месяцев!
Негаданные шальные доллары – это уже кое-что. Интересно, любопытно по крайней мере. Никто ничего не имел против премии.
Все акушерки хороводом загорелись ухаживать за горевой миллионкой.
Вмешалось, встрело в эту неладуху больничное начальство.
Указало на лучшую акушерку.
На Софию.
День-ночь колом торчала София при роженице и на час не отлеплялась.
Наконец-то благополучно явился мальчик.
На Софьину премию мама и Иваночко выехали в Доробратово.
– А через год-другой, – приобняв мосластыми руками за плечишки плачущих дочерей, утешал их и самого себя отец, – вернёмся домой и мы. Авось грош круглый. Раскатится. Выпряжемся, даст Господь, и мы из нужды.
Но вскоре пыхнула война.
Не то что выехать, хоть и не на что, – письма перестали бегать.
А София всё вольно жила да ела у миллионщика в доме.
Там ждали второго наследника.
Ты часто приворачивала к Софии.
И в тот день, когда кончила школу, тоже пришла.
– Сегодня все наши снимались на память, а я не стала, – подумала ты вслух в грусти.
– Что ж так? Или ты у нас – ни людям показать, ни самой посмотреть? – с гордовитой осанкой долго посмотрела на тебя София, невольно любуясь твоей молодой красотой. Из десятку тебя не выкинешь.
– Платить, платить-то за карточку чем? Камешками?
– А-а, – опало вздохнула София.
Вкоренилась тишина.
Сам собой поднялся разговор о твоём будущем.
– Неужели на то, чтобы мыть посуду, прежде надо кончить школу непременно с отличием? – как бы самоё себя тихо спросила ты и заплакала в голос: никогда, никогда не быть тебе в университете, где спала и видела себя. Дорога вылилась совсем иная. На ресторанную кухню.
За стеной надставил ухо хозяин.
В ясности расслышал твой плач, вкатился катком.
Был он лысый, как тыква, короткотелый, круглявый. Всемером не обхватить.
– Софи! Почему плачет Маргарет? – Хозяин немного говорил по-русски.
Вы долго молчали. Всё стеснялись. Потом таки и выложи, что ты хотела дальше учиться, да не можешь. Отцу, ломившему на шахте по две смены, нечем было платить за учебу.
– О! – воскликнул хозяин. – Нога ногу, а человек человека подпирает. Я помогу тебе добиться до высокого образования. Ты будешь учиться. Я одочерю тебя!
Ты не согласилась на удочерение.
– Хорошо. Тогда я нотариально делаю так, что все расходы на учёбу оплачиваю я. Твоя прекрасная Софи – она у меня на почёте! – спасла мне наследника и разве после этого я имею право не помочь тебе? Прости, пани, тут, – подолбил себя пальцем в грудь, – я вовсе не такой, как с лица.
Что правда, то правда. Какой уж родился, такой и есть. Сверху не подрисуешь.
Лицо, как гречаник порепанный, громоздкое – решетом не накроешь.
Обидел Господь лицом.
Так сердце вставил славянское, отзывчивое.
Ты любила велосипед, бег, плавание, теннис… Была большая умница. Круглая отличница. С одного прочтения запоминала наизусть любой стих. В совершенстве знала четыре языка. В год проходила по два университетских курса. Была весёлого духа.
В университете не могли не заметить твоей редкостной одарённости. Под конец учёбы пригласили со всеми почестями, раскланиваниями в достопочтенные правительственные хоромы штата.
Мог ли твой отец, сманутый сюда блудильниками-вербовщиками, хоть подумать, что его дочка высоконище так залетит?
Никогда…
Не верил старый, припадавший здоровьем шахтер тому, как всё поворотилось. Не верила и ты сама. Нереально всё было. Как в сказке.
Но и из своей сказки ты видела быль.
А быль была та, что по ту сторону океана тиранствовала война. Под войной, в оккупации, изводились мама, Мария, Иваночко.
– Там – смертная беда…
Нанедолго хватило тебе твоей сказки; пришла ты к значительному лицу.
– Почему до сих пор не открыт Второй фронт? – сдавленно выплеснула свою боль.
– Чем больше спешка, тем меньше скорость, – чуже, туманно ответило значительное лицо.
– То есть, тише едешь – дальше будешь?
– Наверняка.
– Но – куда не едешь, там вообще не будешь! Может, кому-то и без разницы, откроют Второй фронт, не откроют. Зато лично мне не всё равно. Там у меня полсемьи. Моё место сейчас там. И только там!
– Позвольте, – оживилось значительное лицо. – А кроме умения произносить зажигательные речи, что вы можете ещё? Не смущайтесь… Вопрос поставим так. В качестве кого вы хотели бы отправиться туда?
– Бомбардировщицы. Да чтоб не одна! Один кол плетня не удержит.
– Похвально! Огонь огнём тушится. Запомните время это, – значительное лицо значительно указало на старчески хрипевшие, сухо потрескивавшие стенные часы. – Пятнадцать двадцать. С этой минуты вы… Хваткий, широкий ум, природный организаторский дар, знание уймы языков… Полсемьи там… Да кому ж как не вам взяться за создание женского воздушного флота?! Видит Бог и вы тоже, за вами пойдут. Особенно те пойдут, чья родословная бежит о т т у д а… Вы согласны?
Давножданная детская мечта твоя наливалась явью, единственным смыслом, ради чего и стоило жить. Военная летчица не так уж и мало может помочь своим в далёком Добробратове. Да если не одна… Целый полк если!?
Замлевшая от радости, золотясь, ты обновлённо ответила:
– Могли бы и не спрашивать. Лишние вопросы ещё никого не украшали.
– Девушки! Идите к нам в авиацию! – звала ты с газет, с листовок, по радио. Каждый день ровно в пятнадцать двадцать начиналось твоё, лично тебе отведённое эфирное время. – Девушки, жёны! Вы можете ускорить победу над фашизмом. Вы можете добиться того, чтобы солдаты вернулись живыми. И, может быть, один из них окажется тем самым, за кого Вы молились, кого Вы ждали… Наконец-то открыт Второй фронт! В этот решающий час встаньте, женщины Америки, рядом со своими мужьями, рядом со своими любимыми. Война не может ждать…
Твой зов первыми услыхали русские и украинки, полячки и чешки, словачки и сербиянки.
Ты поднимала других, вместе с ними училась летать, училась бить распроклятого чёрного врага.
– Ма-а-мо-о… Иваночко… Скоро уже…
Открывался люк.
Бомбы, как гвозди, сыпались стоймя.
Бомбы казались тебе гвоздями, которые внизу, на земле, со стоном надёжно вколачивались в ясно наметившийся уже гроб войны.
С задания ты возвращалась выморенная, выжатая усталостью, иной раз – с блёсткими тропками слёз на лице.
В небе никто не видел твоих слёз, и ты не стеснялась дать им волю.
Девушка и на войне девушка.
И, конечно, не всегда со слезами на глазах. Слёзы – минутная слабость. Кто от неё спрячется?
Тебя знали всегда сильной, как и подобает командиру…
Я не знаю, где сейчас тот парень русин, я не знаю, что с ним.
У вас в эскадрилье он был один. Помнишь, самовольно выкружил он из боя и вернулся на базу, ругая вдруг забарахливший двигатель?
Ты проверила – никаких повреждений!
Можно было судить парня по всем строгостям войны.
Но ты не спешила с судом.
Мягко, как это могут ласковые девушки, вызнала, почему же это он, доброволец, смалодушничал, почему вышел из боя.
Ты поняла, что перед тобой не трус, а просто лётчик скороспелый. Он многое не знал, многое не умел, оттого и испугался первого боя.
Ты тут же села с ним в его самолёт и поднялась в бой, что ещё продолжался.
Наглядно, в бою, показала и как уходить от зенитного огня, и как уходить невредимым от прожекторов…
Но не могла научить его уйти от любви к тебе. Тем более, ты и не хотела, чтобы он ушёл. Если прежде, до этого совместного боевого вылета, вы просто играли в переглядушки, то теперь, провожая восторженными глазами сбитый тобой падающий чадящей головёшкой самолёт, он поцеловал тебя, поцеловал впервые там, в небе, со стыдливой осторожностью поцеловал то ли в благодарность за преподанный урок мужества, то ли то был поцелуй его души, его любви, то ли то было всё разом.
Ты не противилась. Напротив, потянулась навстречу своему первому поцелую. И… последнему.
И каким орёликом бился потом тот парень, твоя первая любовь, твоя последняя любовь…
Девушка одного поцелуя…
В другой раз горевший самолёт сел с зависшими бомбами.
Самолет мог взорваться в любую секунду, а экипаж не появлялся. Похоже, случилось что-то страшное.
Но к самолёту никто не смел идти. Ты побежала одна, вытащила раненого пилота за несколько мгновений до взрыва…
Тебя так и подмывало махнуть на все строгости войны и хоть на минутку да закатиться в Добробратово.
Это ж такая близь!
Но война была война, ни на ноготь не отходила ты от курса.
И только однажды…
В бою загорелся твой «Бостон». Соколиком ты называла его. И уже горящим соколиком старанила-таки подбивший тебя самолет.
«Всё… Теперь можно уходить», – и выкружила против ветра.
Думала, ветер собьёт пламя? Поможет тебе?
Ведь ветер шёл с добробратовской стороны…
Ветер в лицо шёл с родной стороны…
С маминой стороны…
А пламя не унималось.
Чёрный след клубился, гнался за тобой.
А земля отцов наплывала всё ближе. Всё шире…
Русиния…
Торопилась ты к ней до самого последнего мига, покуда взрыв в воздухе не обрубил чёрную верёвку.
Славная девочка, сгоревшая в родном военном небе, назад, за океан, вернули тебя героиней.
Наградили особой именной медалью:
Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери США.
Не обошёл тебя вниманием президент Франклин Рузвельт:
В память о рядовой Маргарите Бабинец, армейский серийный номер А – 312631, которая погибла во время несения службы в Американской зоне 27 июля 1944 года.
Она стоит в нерушимом ряду несгибаемых патриотов, которые дерзновенно погибли ради того, чтобы Свобода жила, крепла и приумножала свои щедроты.
Свобода жива и потому жива Она, поскольку продолжают жить дела и достижения большинства людей.
PRESIDENT OF THE UNITED STATES OF AMERICA
Высокие чины приезжали к твоему отцу. Расшибленный твоей гибелью, не оставившей ничего от тебя, он лежал лежмя.
Благодарили чины за тебя.
Уверяли, что в знак особых твоих заслуг ты будешь похоронена на военном кладбище. Говорили, что будет на твоей могиле памятник. И будут на нём такие слова:
«Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери США».
Говорят, отец попросил добавить в текст одно лишь слово и вышло так:
«Светлой памяти Маргариты Бабинец, верной дочери Русинии и США».
Но…
Глухое пенсильванское местечко Юнион-Сити.
Обычное кладбище.
Прощание…
Перед гладко обтянутым тканью с просторными белыми и красными полосами гробом, на тёмно-льдистой, зеркальной подставке, тускло холодили глаза перевитые лентами цветы.
Астры, гладиолусы, колокольчики, розы, много роз…
И посреди цветов, будто вырастая из них, поднималась ты на увеличенной карточке.
Справа от карточки, из букета, стояли внаклонку два пониклых звёздно-полосатых флажка.
На карточке ты стоишь в самолёте: тот самый момент, когда улетала на войну. Вскинута рука… То ли здороваешься с кем, то ли прощаешься…
На твоей мемориальной плите выбиты твои даты:
26 февраля 1923 – 27 июля 1944
И в трауре склонился над тобой американский флаг.
Рядом с твоей могилой холмится могила отца.
Отец на тринадцать лет пережил тебя, младшую из дочерей, навсегда оставшуюся двадцатиоднолетней.
Каждый день приходил отец к тебе…
Молча беседовал с тобой…
Не хотел покидать тебя одну в чужой земле, не смог от тебя уйти. По временам почему-то корил себя:
– Мало положил в меня Бог воли.
И завещал похоронить его рядом с тобой.
Полсемьи в Америке, полсемьи в Доробратове…
А знаешь, хвалёные Штаты не дали маме за тебя пенсию. И знаешь почему?
В тамошних твоих бумагах вроде не нашли подтверждения, что ты дочь своей матери. До войны мама семнадцать лет жила с тобой в Штатах. Никто не спорит. Да вот где подтверждение, что тебя родила именно твоя мама? Куда оно, негодное, запропастилось? То ли того подтверждения и не было в бумагах, что менее всего вероятно, или не угодное кому то подтверждение пропало из бумаг, что, напротив, ближе к вероятию уже хотя бы потому, что на свет человек покуда может выйти лишь из лона матери, насколько доподлинно известно это не только гордой науке. Иного, обходного пути пока не открыто. Все прочие-иные варианты, когда детей наискивают в капусте или покупают в уценёнках, суд под внимание не берёт.
А может…
Да что ж гадать в пустой след?
В Америке тебя помнят.
Про тебя даже сделали кино. Только с тем кино получилось грустное «кино».
На первые глаза так смотришь – всё вроде правда.
Ты любила велосипед, бег, плавание, теннис – правда.
Была весёлого духа – правда.
Была круглая отличница – правда.
С одного прочтения наизусть запоминала любой стих – правда.
В совершенстве знала четыре языка – правда.
В год проходила по два университетских курса – правда.
A как ты попала в питтсбургский университет, как добилась высшего образования?
Про это молчок. И не только про это.
Тогда черёд говорить тебе.
Славная девочка, скажи, ну а правда, что ты – индианка? Не русинка, не русская – именно вот индианка?
Это киношники повернули тебя, писаную смуглянку русинку, в индианку.
Раскатали всю про тебя правдушку с пустячным добавленьицем – стала ты индианкой, поскольку им срочно приспичило сляпать фильмишко, который должен был сладко-певно пропеть осанну, ах как гармонично развиты индейцы, корневые американцы.
Мол, напрасно мир гудит, что индейцы в резервациях нужду трясут, ходят с рукой. А на поверочку, они эка какие вундеркинды, эка какие интеллектуалы, прохлаждаются по университетам, катаются, как вареники в сметане, – вот-де как широко живут-цветут индейцы у нас! Любуйтесь ими да не верьте миру. Мир-де врёт!
Сёстрам Анне и Софии – они повыскочили в Штатах замуж, выстарились уже, обсыпанные внуками, – посулили по двадцать пять тысяч долларов. Каждой свашке по милой колбаске. Только подтвердите, что ты, славная девочка, что они сами, что ваши родители – индейского корня.
Сестры не подтвердили.
Кина не вышло: держалась кобыла за оглобли, да упала.
Славная девочка…
За долгими годами не потерялся, не пропал твой подвиг в небе, взявший всю тебя без остатка.
Не затерялась широкая жизнь твоя земная.
Вас с отцом не забыли Ваши.
В позату осень приезжала к Вам мама, Анна Петровна.
Проведала…
Посадила на Ваших кургашках по калине…
32
Как идёшь занимать, знай, что надо и отдавать.
Совсем разбили старого Голованя истории родного отца и Маргариты.
Будто тяжёлыми камнями привалило его; еле держась на ногах, в печали стоял перед своей могилой.
Усталые слезы катились по щекам. Была уже плотная ночь. Слёз его не видели сыновья. Где-то вдали мерцали тусклые точечные огоньки, мерцали зовуще.
Из этой вечной ночи он всю жизнь уходил, так и не ушёл. Уходил к отцу в Штаты, уходил забрать его в Белки, уходил в мыслях ещё прошлой весной, а отца, а отца-то, как узнал от сынов, давным-давно нет, пал в бою где-то уже у самого родного дома…
И Маргарита упокоилась там…
С высоты их смертей низким, подлецким увиделось ему вдруг его невозвращенье тогда, в тридцать первом.
– Хлопцы!.. – покинуто, с донной тоской всхлипнул старик, припадая к Петрову плечу. – Сынки!.. Какой же и подлюга Ваш нянько! Живьяком запхнуть, – качнулся верхом к приподнятой плите над своей могилой, – мало… Взял билет – ан письмо из Белок: твоя Аннуся перед всем селом крутит подолом, забыла и думать про тебя, не нужон ты ей и на понюх. Зараз к ней прибрехался сам пан прынц! Невжель сменяет она прынца Рудольфио на тебя?.. Вот такое писание прибежало тогда ко мне от Клавди…
Промолвил это старик, шатнулся как бы от себя, от своего голоса, от того, что произнёс – от этого проклятого имени Клавдя.
«И как можно было верить ей?.. Но… Это ты сейчас такой одномысленный, одного решения. А тогда… Как не поверить было?»
Перед стариком – память заходила уже за разум – в зыбке выступили блёклые картины, как уходил в Канаду.
Завтра ехать, а сегодня в вечер выследила его Клавдя на овчарне.
«Хучь оно и поють, што в чужой кошаре не разведёшь овец, да… Иваночко, любчик ты мой… Хучь и гуляли мы с тобой, а взял ты таки Анну… Хучь и выскокла посля я за свого Торбу, а кохаю всё тебе одного. Завтра ты вместях с ним уедешь… Було время, не любились мы. Так сёдни, в твой последний вечир, ты – мой! Хучь под кусточком! Да мой! Ты уедешь… На кого мне смотреть? Кем жити? Кого любити? Дай мне дитё… В дите я буду век любити тебя…»
Была она в тот месячный вечер такая чистая, такая вся пронзительная… Такой он её и запомнил. Не мог он ей не поверить…
Время научило его сомневаться.
«А ежли накарябала по ревности?»
При встрече с Лизой Торбихиной старик воспалённо всматривался в неё, силясь найти в ней, в кумовой дочке, свои черты и лишь одни глаза признал схожими со своими.
«Да и тут, может, совпадение… Можь, ничего моего и не пошло в Лизку… Не оставил по себе никакой памяти, Ревнушка Клавдя и настрочи. А я и прими за чистую доброту ко мне. А тут, выходит, не доброта – ненависть водила рукой… Не мне, так и не Анне!»
– Клавуне дать веру? – после оторопелого молчания громыхнул Петро, вернув старика из его далека. – Этой брехучке?
– Я, сынки, как на духу… Таскал меня враг с этой Клавдей…
– Конечно, со злости она и накарябай непотребствие такое, – выразил предположение Иван.
– Со злости… не со злости… Только порвал я тогда билет домой… Поверил… Да приведи Господь в Белки, я от живой Клавдёхи не отойду!.. Вот этими… – дрожаще потянулся дряблыми, без силы руками, вышепнул: – За… ду… шу…
– Если ехать только за этим, так поздно, – с тощим смешком хахакнул Иван. – Рак языка всё сделал уже за Вас ещё на Зимнего Николу.
– Виноват… виноват… Кругом виноват!.. Перед Вами… Перед мамкой… И што теперь? Што можно теперь? Што?!
Старика начинал колотить озноб. Будто остатком сознания вспомнив что своё, спасительное, выкрикнул стонуще:
– А можно!.. Мо-ожно!.. Нужно!..
Запальчиво посыпал точно в бреду сухими словами:
– Какой трудный ни будь день, а к ночи, сыны, надобно всем собираться вместе… Вместе!.. До кучи!..
И стремительно пожёг прочь.
Через мгновение он уже бежал, от этой кладбищенской ночи бежал, бежал туда, где далеко впереди маячили, едва просекались сквозь плотную тьму квёлые, еле заметные, еле угадываемые точки огней.
– Вместе!.. Вместе!..
Силу его хрипа забирало расстояние; старик удалялся.
– Иван, – тихо бросил Петро, – вот тебе горячее спецзадание Родины. Давай вбéжки, – качнул головой в сторону ещё кругло белевшей отцовой шляпы.
– А с руки? А ну он до ветру!
– Он до ветру, так и ты до урагану! Станешь где в отдальке. Побрызгаешь своим сахарком… В таком состоянии… Мало ль чего под горячку может… Знай дуй не стой!
33
Не спеши поперёд батька в пекло,
а то вскочишь и не найдёшь, где и сесть.
Поневоле заяц бежит, раз лететь не на чем.
Неизвестно, сколько – и минуту, и пять, может, и все десять – Иван, прижимая к груди сиротливо позвякивавшую вэдээнховскую медальку, мелкой пантерой крался в ночи за отцом, плакавшим по-детски тяжело, навзрыд.
Хладнокровно убедившись, что никаким ветром и не пахнет, подживился, воспрянул Иван.
Ступая с торжественной осторожностью, не пуская из вида отца, тянулся тенью, выжидал, давая дальше отойти отцу от Петра, от Марии.
На краю кладбища, откуда уже вовсе не было видать ни освещённой изнутри машины, ни самого Петра, Иван, подобравшись, – сейчас или никогда! – неслышными барсучьими прыжками настиг отца и, задержав дыхание, полуобнял за плечи, мягко качнул к себе.
Старик обомлело ахнул, подрубленно повалился на спину.
Поддержал Иван, не дал упасть.
Попенял сквозь мелкие вязкие смешки:
– Нянько, нянько… Что ж это так Вы своих пугаетесь?
Как-то разом, устыженно перестав плакать, отец сухо, без охоты заоправдывался:
– А разбери, Иваша, в этой могильной теми… Где свои, где там чужие…
– А разве ещё не разобрались? – с вкрадчивым восторгом накатывался Иван. – Свои – здесь, чужие, – потыкал себе за плечо, – пристыли там!
С горьким отчуждением хмыкнул старик. Откликнулся:
– Ты у меня нигде не просидишь… Схватчивый… Всем суд скорый дал… Родного брата в чужаки списал… А я кто у тебя? Свой? Чужой?
– Ня-янько! – укоризненно развёл руками Иван. – Про что Вы? Петро, этот поджанишник, как себе знай. Но мы-то с Вами всё понимаем. Свои!
Внезапно старик остановился, будто прикипел; стал и Иван.
– Это ты, – медленно, в холодном раздумье ткнул в Ивана, – да я, – поднёс щепотку себе к груди, – свои?
– А невжель чужие? Разь во мне не Ваша кружит кровушка? Не Ваши гены? Не Вы назвали меня Иваном в свою честь? Да мы с Вами и лицом и статью как два глазочка!
Старик судорожно вздохнул:
– Кабы сверху и кончалась наша похожесть… Кабы только сверху были под одну масть…
– Совсем не пон-нимаю, – без пережима играл Иван голосом. – Нянько не рад, что его родной сын с ним на одну покройку… Другие, между прочим, этим гордятся. А Вам, вишь, проть нрава. Не в честь попал, что я – вылитый Вы!
– Одного поля ягодка… До этого я дошёл в первый же день, как только Вы нагрянули… Побачил я в тебе, сыну, свою плохую копию, навовсе плохую… поганую… Ты можешь всё, что мог и что могу я, а это мне страшно, сыну, стра-ашно… Я не люблю себя, не люблю в тебе себя, а потому…
– … а потому в первый же вечер принародно объявляете, что завещание оставляете Петру?
– Да! – взрывчато подтвердил старик.
– Ло-овко Вы намахнули сети на Петра… На этого… Прикинули: если Петро не дубарь, дотумкает, что, огребя наследство, ему прямая корысть будет прикопаться здесь, потому как не останься, он получить получит через инюрколлегию, а это невредно б знать, что от наследства, пропущенного через инюрколлежское сито, перепадёт ему один пшик иль в лучшем случае нарядная дырушка от бублика… Или дуля с маком… Мдa-a… Хочешь крутыми капиталами ворочать, – загадочно рассуждал Иван, – оставайся, голова, загребай в натуре всё! Но, – он скользко, с нажимом усмехнулся, – этот пень в два обхвата не оценил Вашего гениального ума, не оценил Вашего шедеврального хода. Пристегнулся к этой Манечке и ни черта ему не надо. Ни черта! Может, сейчас он с ней на Вашей плите разговляется. А Вы к нему с наследством… Будто поприличней нету преемника…
– Какой же ты поганец! – взвизгнул старик и уже в следующий миг со всей мочи хряпнул сына по лицу в ладонь широким ковбойским ремнём.
Удар вышел смачный, звучный.
– Да Вы что, ох-херели?! – заорал Иван, метнувшись тенью в сторону.
Переломившись в поясе, угнувшись, ударился Ванюк в бега.
Придерживая одной рукой штаны, другой старик сыпал убегавшему жидковатыми скачками сыну ремня.
– Да я Вам что, малец? – задушенно мычал Иван. – Да у меня внуков больше, чем у Вас волосёнок на понималке[70]!
Старику удары казались мяклыми, ватными; разозлившись на самого себя, что не может срезать с ног сына, бросил придерживать штаны, из обеих рук так хлобыстнул Ивана по ребрам, что в том что-то не то сухо хрустнуло, не то охнуло, и Иван, вытянувшись, со всего роста съехал на землю.
Однако сам старик, запутавшись в штанах, как муха в паутине, ковырнулся в одно время с сыном; долбя в землю увесистой, большевесой пряжкой с изображением жеребца, захлёбисто грозился:
– Прибью, поганец!.. Не посмотрю на твоих внуков! Не посмотрю, что на голове осталось у тебя две волосёшки в семь рядов!
– Оно и у Вас не мохнатее…
Они лежали друг от друга метрах в трёх. Разбитые, не способные подняться. Устало переругивались.
– Надо было бить, когда укладывался поперёк лавки! – принципиально требовал своего Иван.
– А я отложил на зараз… За мнойкой не закаржавеет. – Старик пробно взмахнул ремнём. – Вот отпыхкаюсь… Вот подымусь… Я ещё примну тебе, поджигалец, зелёный мох на заду… Ой и примну ж!
– Что ж Вы такой, извиняюсь, петух? А мамко говорили, что Вы у нас смирней травы…
– Правду казала… – Голос у старика наливался гневом. – А что ж ты у меня такой падучий до… Я так и знал, я так и чуял, станешь ты добиваться одного, ох, одного-о… Ох, Господи, паскудство и деньжура – всегда одним гуртом живут. Всегда! Кто же их разлучит? И когда?
– Увы, нянько, – вежливо отозвался Иван, – в наш с Вами век это не произойдёт. А потому чего скакать высоко? Давайте делать то, что надо делать.
На слове надо Иван сделал ударение.
– А что надо? – отрешённо буркнул старик.
– Для начала хотя бы уважать обычаи. Например, по обычаю, отец должен оставлять завещание старшему сыну. А он берёт и оставляет младшему. Может, возрасты сынов отец спутал?
– Не спутал, ой да не спутал… И обычай распрекрасно помнит… Тольке где, в каком человеческом законе записано, чтоб возради наследства сын бросал свою землю?
Внезапно старик твёрдо встал на ноги, карающе поднял ремень.
– Это кто же я, по-Вашему? – Охнув и держась за бок, прытко вскочил и Иван, не убирая остановившихся глаз с ремня и готовый во всякую секунду кинуться прочь, шелохнись только ремень. – Кто?
– Перемётная сума… Вероломец…
Иван отшатнулся, защитительно воздел руки:
– Я? Извиняюсь. Тогда Ваш дед, Ваш батько, Вы сами – кто? Да Вам ли резоны выставлять?
– Ядрён марш! – захрипел старик, звонко щёлкнув себя ремнём по неловко подставленной у живота ладони, поскольку мизинцем, вдетым в петельку брюк, придерживал их. – А невжель тебе, ползун, учить батьку?
Иван осмотрительно отшагнул.
Нежданным прыжком подобрался старик к зазевавшемуся Ивану, со всего маху ляснул ремнём по плечу.
Прянул ужаленный злой болью Иван в ночь, оглянулся лишь шагов через двадцать.
Старик шёл медленно, без аппетита. Не останавливаясь, уходя боком, зажаловался Иван нудким, восковым голосом:
– Что ж так биться? Живьём же в могилу уроете…
– А мне, сыну, – глухо, понуро подавал старик слова, – краще бачить тебя в могиле, чем живого такого… Непотребное, ох, непотребное, сыну, вертишь языком, как вода мельничным колесом… Мельница мелет – мука будет, язык мелет – беда будет… Ну надо такое выворотить – батько-изменщик?.. Да, мы уходили со своей земли… Не с жиру уходили… Бились с горькой нуждонькой… Беда пихала нищую голь за море, к сытому куску… Деду с батьком доля обратной не дала дороги… У меня забрала её проклятущая Клавдюха… Устал… не годен говорить… нервы едят… слезы давят… Кусок хлеба был нашим поводырём, один он выволок нас из Белок… Что же тебя, сыну, гонит? – с укоризной помотал старик головой, поверх брючных петель застёгивая на ходу пояс.
Завидев это, обмяк Иван.
С опущенной головой, повинно поскрёбся назад, к отцу навстречу.
– У тебя что, – ещё глуше, доверчивей, со слезами в голосе продолжал старик, в полной растерянности вглядываясь в Иваново лицо, родное и получужое, – у тебя что, негде жить? Так не соломенка, не шевченковская хатка – дворец у самого! Нечего кусать? По два кабаняки на год колешь. Свои коровы, прорва курей-утей… Сам жа давно похвалялси, за стол не садишься без мяса! У тебя не на чем в гости скатать? А «Жигули» на что? Заездили тебя на работе? Так это вот золото, – царапнул ногтем медальку у Ивана на груди, медаль жалобно тенькнула, – за что тебе? А на что ты в отпуск исколесил все юга? Эх, хлопче, хлопче… А четыре дочки? А внуки? Разве тебе там, дома, нет заради кого жити?! Я всё это, сыну, взвесил ещё когда получил от Вас первое письмо. Покуда ждал, как я хотел, чтоба Вы оба остались здесь. А прилетели мои соколятки – край возробел. Не-е, думаю, такого чуда не может быти… Доволе с меня, пристынь хоть один… Но ежли останутся оба-два – я готов! Готов-то готов… Да разве это не разбоище – отнять у Русинии два таких сокола!? И выреши я тайком про себя, что попробую отщипнуть у неё самую малость. Дай, думаю, возьму для своей последней старости, возьму-ка из двух зол для Русинии большее… Пускай поделится со мной… Прибился я к мысли взять Петра. Он там меньше нужный. Не задалась жинка, нема ребятёжи – у тебя четверо их! Может, думку грею, тут подберёт свою судьбу с Марией?..
– Как же! – ядовито подвернул Иван. – Ух и ищет в поту, стахановец весь старается! – ткнул назад. – Поди, на Вашей плите! Конечно, извиняюсь, глубоко извиняюсь за прямоту…
– Ох, хлопче, твоя прямота поганей воровства…
– За жизнь, за всю жизнь я ни у кого ничего не спионерил… Я просто, открыто… Долгохонько таки, нянько, топчете Вы земельку… А не то что в чужих людях – в своих сынах заблудились. Не к тому, ой не к тому подъезжали Вы насчёт остаться при наследстве… Давайте напрямки. Не очень я поважаю людей, что хо-одят, хо-одят вокруг гвоздя… А надо гахнуть по шляпке и дело в шляпе. Быстро и точно по адресу.
– Ну-ну, скажи… Гахни без митинга.
– Зачем же Вы ферму?.. Раздорогуше Петрику почитай всё пристёгиваете?
Старик ждал этого вопроса, ждал весь месяц.
Знал, видел, что Петро не останется, почувствовал это старик в первый же день, как приехали сыновья, и только потому объявил написать завещание именно на Петра.
– Чего Вам унижаться перед ним, навязывать своё же добро? Не хочет, ну и не хочет. И не надо! А Вы посмотрить кругом внимательней. Может, сыщется душа, что с вечным благодарением приняла бы Ваше наследство?
– Не бельмастый… Вижу, вижу эту… А отписувать ей не стану. Чересчуру она этого хочет!
– А на что ж подсовывать тому, кому это не надо?
– Надо. Это надо мне. Это надо тебе.
– Предложение наоборот?
– Как угодно называй…
– Оставляя обоих, Вы ловчили, чтоб не остался ни один? Зачем же предлагать не предлагая?
– Чтобушко отвадить самого себя от мысли, что кто-то из Вас останется. Довольно, что я загиб здесь… Вы же, вы же нужны дома. Ваш дом там! Ваш дом – дома. А не в гостях.
34
Не твоё мелется, не лезь и отгребать.
Пёс псу брат, да кто тому рад?
Иван молчал.
Прикидывал, с чего бы это начать до предела прямой разговор.
Чего уж таиться… Последняя ночь, а там…
А что там?
Во весь месяц ходил Иван бирюк бирюком, всё молчком да молчком. Петро уже с улыбушкой и попроси: ты хоть домашним улыбайся через раз, перекинься когда словечком. Свой же! А то нянько в шутке проговорился, что побаивается-таки молчащих собак.
Иван всего-то и сделал тогда, что в ответ только натянуто улыбнулся и тут же выпустил из головы Петрову побрехушку.
Но потом, потом повалилось что!
Одному – целая ферма, деньги, вагон денег – лопатой не прогрести. Другому – подачки какие-то, так, мелочинка, полторы тарары. Мол, ну на что собаке толстый карман?
Ивана даже затрясло: молчащая собака – это он, Иван?
«Значит, я у Вас в цене бегу не выше молчащей собаки? Раз собака – мне по штату положено рвать! Рвать! Ныне молчанье себе в убыток!»
– Нянько, нянько! – как в лихорадке завскрикивал Иван. – Вы уж выслухайте!.. Мы говорили, знаем, кто чего хочет… Но это ещё не всё. Не всё!.. Посмотрите попристальней вот на меня…
Остановился Иван, остановил и отца.
Унимая дрожь, обнял мягко за плечи отца.
– Вы меня видите в этой темнотище?
– Смутно… А таки ж вижу.
– У нас у обоих одно имя, одного корня в нас бегает-мечется кровь, одного мы обличья… Две капли… Порознь мы скоро высохнем, нельзя нам порознь, – ноюще, вязко наваливался Иван. – Поразворотистей я Петра. Больше гожусь к Вашей жизни… Почему же Вы не видите меня за Петром?
– Потому, зла ты мельница, что в Петруше есть то, чего нет ни во мне, ни в тебе, – отчуждённо осадил Ивана старик.
– Ну да! Петро – центнеровый ком золота! – хохотнул сухо Иван.
Молчание.
– Что же тогда? – насторожился Иван.
– Прожил жизнь вместе с братом, а брата и не разглядел… Ты себя-то хоть знаешь?
– Ну!..
– Нукнул, а сказать и нечего… Вот поскобли всякого из нас, тот-то ещё скажется. Что я, что ты, – старик безнадёжно махнул рукой, – ни пёс ни баран. А вот… – голос у старика потеплел, посвежел, – а вот Петро у нас – милая косточка…[71]
– И только за то ему целую ферму?
– А что, прикажешь дробить на половинки? По половинке на нос?
– По крайности, так было бы справедливей.
– Тебе только и петь про справедливость!
– К тому ж я старший, – умученно напомнил Иван. – Порядок приневоливает отдавать первое внимание всё же старшаку!
– Не-е, сынку. Порядок такой, какой его отсюда пустят, – старик подолбил себя пальцем в грудь. – А твой порядок на то и живёт, чтобушки ломать его через коленку.
– Дедов обычай через коленку?
– Ежле его с мыслью рушат, стал быть, есть на то веские резоны. Я не хочу половинками стравливать Вас… Не стану переписывать завещание, не стану делить-дробить эту ферму…
– О! – искренне просиял Иван. – Нечего дробить! Лично я не возражаю, если… если не дробя… Чего мелочиться? Не в пример неблагодарной милой косточке я в ответ готов согреть Вашу последнюю старость…
Старик тоскливо пожалел, что не мог увидеть в эту минуту Иванова лица. Что на нём? Мольба? Смех? Досада?
Вплотную старик приблизился к сынову лицу. И рассмотреть его выражения не мог. Сплошной темно-серый ком под шляпой, больше ничего…
Показалось старику, что Иван задавил в себе, сглотнул тонкий смешок.
– Иванко, Иванко, змей ты вострокопытный… Чего ты пырскаешь?
– Ня-янько, ей-бо, обижаете, – отвечал Иван, отвечал тем вкрадчивым, скользким голосом, когда то, что и как говорится, можно повернуть и на серьёзное и на шутку. – Как можно? Какие ещё хаханьки? Говорил и в повтор скажу: от души хочу согреть своим сыновьим теплом Вашу последнюю одинокую старость.
– Так и одинокая! – перехватил старик. – При мне баба Любица, Мария… Они меня подобрали. Уберегли… Я не один… А на твоих руках такая семья. Так где ты нужней? Ты про это подумал?
– Вот именно! Подумал! – сорванно, почти зло выкрикнул Иван, чувствуя, как у него под ногами шатнулась земля. – Я весь в Вас. Прежде чем за что взяться крепенько подумаю. А подумав, твёрдо гребу под себя. Ну где видели Вы, чтоб грабли от себя гребли? Хотите начистоту? Дело не в одной ферме. Ферма – так, боковой припёк, есть вроде к чему пристегнуться на первых порах. А там бы я в обиду себя больше не дал.
– А тебя уже обидели?
– Обидели. Белки обидели. Под корень обидели. В Белках я на грани…
– На своей земле на грани? Чудно у тебя пляшется…
– А по-другому пока не выгорает. Собираюсь податься в район. В Иршаву. На завод.
– Пустое! Уйти со своей земли… Да ты что? Бачь, сыну, кто может сойти, сшатнуться со своей земли хоть на малый шажок, уйти поблиз, всего-то лишь в район, тот может и вовсе утащиться даже в чужую землю, в чужой язык, в чужую веру… Небогацкое это счастье… На что родные тебе рвать корни? Иванко, Иванко… Был ты неприметный, тише тихого. Всё молчал, всё в тенёчек жался…
– Это по Вас. Вам это в масть. Да беда! Вся надежда была на дурака, а дурак-то и поумнел! Вижу, не понраавилось… А кому понравится прозревший дурак? – заблажил лихоматом Иван, свирепо жестикулируя.
– Воистину, тихая собачка больно кусает, – подумал вслух старик.
– А хватит! Сколько можно, чтоб кусали меня! Самому пора кусать! Качнусь на завод. Полную сулят возможность. Я выполнительный. Не пропаду. Вламывай, изобретай!..
– А разве в Белках, – старик уважительно тронул медаль, – тебе худо изобретается?
– В том-то и соль! Года на отходе. А что я такое сделал? Неужели радь вот этой единственной золотушной бляшки, – щёлкнул ногтем по медальке, – стоило изжить даденную мне жизнь? А если поплотней подумать?.. Лучше меня ну кто меня знает? Не соломой набита голова, не глупые руки… За четверть века эсколь наизобретал! А где оно? Всё моё охочие до чужого добра разворовали. Одна труба дошла до госиспытаний. Да и та… Вылечу я и с этой трубою в трубу. То я звонил туда от Вас, при гостях. Сказали, что всё пучком катится. Первые результаты обнадёживают! А позавчера уже сами позвонили мне сюда с той испыталки, з-под самой Москвы… Нахваливали, нахваливали… Под конец и накрой мокрым рядном: вещь стоящая, но выскочили недостатки, одному не осилить. Срочно кидаем на прорыв тяжелую артиллерию… Не испытательная станция, а обдираловтрест. Присосётся кучка матёрых хабальных жульманов со связями. Ещё ж самого и вымахнут из авторов! Такое счастье приключалось со мной… Довольно мелочиться, – бухнул кулаком по медали-пятаку. – Наступает сезон большого золота! Они ещё узнают меня там! Я еще посчитаюсь с ними… Вы, нянько, на голом месте обросли фермой. А я… А я только получи её – как бы я размахнулся! Ежле подсобите, подтолкнёте, крепостно ухвачусь за золотую жилу, надёжно ухвачусь. Ведь этот месяц я не только пил-гулял, не только по Вашим раскатывал горам-прериям. Я врос в них!
– Боже! Боже! Вызнал я своих сынов… Лучше б я всего не знал… Мой сын…
– Нянько! – хватко перебил Иван, ему уже начинало надоедать это переливание из пустого в порожнее. – Нянько, Вы деловой человек. Стыдитесь громких слов. От них я и так на пол-уха глух, как лыко. Подобьём спокойно бабки. В Белках я всё равно не жилок. Считайте, подаюсь в Иршаву. Не дальше. Вам… У Вас один зачёт, что в Иршаву уедь, что…
– В Иршаве под ногами всё ж не чужие кочки… На своём подворье и петух губернатор!
– А в первый вечер Вы что пели? Оставайтесь, жинок, детвору вытребуете потом. Сами ж говорили! А теперько назад пятками? То Вы поёте так, то этако… Когда ж по-настоящему?
– Всегда, сыну…
Не туманил старик глаза. Не привирал.
Был он из противоречивых желаний.
Жили в нём разом двое. Жили неладно.
Один, мятый жизнью, ветхий, усталый, нашёптывал: уламывай хлопцев, нехай держатся при тебе, затишней будет за ними добирать остатние денёчки…
Второй, помнящий родство Иван, противился: не мути хлопцев, у самого житёха наперекрёс рванула, так хлопцам хоть не ломай.
И чем ближе к концу отлетали гостевые дни, старик всё больше слушался, подчинялся второму.
При сыновьях у старика цвёл рай на душе.
По временам старик забывался. Ему казалось, что он живёт в своих Белках, из города к нему нагрянули в отпуск сыновья. Не мамона, не изверг какой; знает, не пристынут подле него навек сыны, а не позвать жить вместе дома совестно от самого себя, от Анны; старик говорил ставшие обязательными в таких случаях родительские слова, звал остаться.
Но стаивала забывчивость, и старик, казнясь, про себя жалел, что непотребное сорочил…
Долго и молча брели отец с сыном.
Не вынес Иван ночного молчания.
Кажется, участливо спросил:
– Как же Вы будете один со своей старостью?
– А куда я денусь? Управлюсь как-нить сам. Своя стреха – своя утеха…
– Нянько! – жалостливо запросился Иван. – Я думаю, мы те два кота, которые всё ж помирятся на одном сале.
– Нет, сынку. Я своих решеньев не меняю. И довольно про это. К вечному дому, – старик поворотил тяжёлые глаза к кладбищу, – нас с тобой поведут разные стёжки…
Тяжело брёл старик к огням. Никлым, холодным.
Там был город, там была своя жизнь, и старик брел ей навстречу.
Растерянный, смятенный Иван с минуту колом стоял на месте, совершенно не зная, как быть, то ли удариться за отцом, то ли повернуть назад. Но, вспомнив Петров наказ не пускать из виду отца, помолотил вслед за ним.
– Ты чего увязался за мной?! – озлясь, закричал старик, расстёгивая снова ремень. – Возвращайся! – ткнул тяжёлой пряжкой в сторону Петра. – Возвертайся зараз к Петру! К машине… Блудила ты окаянный… Чуешь?.. К Петру!
Иван вкопанно остановился.
«Куда ж идти, лихоманка тебя возьми!? – Злорадно хмыкнул: – Вот куча смеха! За няньком пойди – ещё ремняка подсыпет. Вернись к Петру – всё одно биту быть. На что бросил нянька одного?»
Так и не решив, куда идти, затравленно топтался Иван на месте. Наконец неведомая сила подтолкнула его вперёд, и он, не думая, поплёлся вперёд, за отцом; через несколько мгновений Иван уже шёл крадучись, шёл на таком чёрном отстоянии, что совсем не видел фигуры отца, и только белая отцова шляпа была Ивану еле угадываемым, призрачным ориентиром.
35
Трудно выйти из беды, как камню из воды.
Пропали звуки шагов.
Всё вокруг налилось плотной тишиной. Затаилось.
Было так черно, будто ночь никогда отсюда не уходила, будто никогда сюда не завёртывал день.
До рези в глазах пялился Петро в темноту – дальше руки ничего не видел.
Похолодело, застыло у него всё в животе.
В детстве Петро боялся кладбищ, так и потом, в спелые года, кладбищенской отваги в нём не набавилось. Всякий раз, очутившись в Белках рядом с кладбищем, отворачивался от него и старался как можно прытче прошить мимо.
Так то дома. То совсем не то, что здесь…
Чужая земля…
Серёдка кладбища…
Глухая ночь…
Один…
Петро поймал себя на том, что ноги сами принесли его к машине, облитой изнутри мертвенно-слабым светом. Рванул за ручку и тут же тихо, беззвучно прикрыл дверцу: на передних сиденьях, свившись в калачик, спала Мария.
Стыд ударил в лицо.
Он, медвежеватый мужик, со страху летит с кладбища, а тут же, посреди кладбища, праведным сном младенца спит женщина. Ей не страшно, ей всё равно, что вокруг, она хочет спать, и она спит; эта спящая любимая женщина устыдила его своим безмятежным сном, заставила, не поворачиваясь, на ноготочках отступиться от машины.
Он отошёл и остановился, как отуманенный.
Вид спящей женщины устыдил его, но и дал смелости.
«А почему кладбищ обязательно надо бояться? – впервые подумал он. – Почему, блиныч?»
Пугнув себя солёным словцом за не поддающуюся объяснению трусость, он, сомкнув зубы, сомкнув так, что вспухла желваки, пошёл назад, к отцовой могиле. И если б его спросили, зачем он возвращается, он бы не смог ответить.
Страх, пригнавший Петра, был такой силы, что он даже не запомнил, в какой именно стороне была отцова могила, и теперь Петро шёл наугад, шёл осторожно, боком, невесть для чего готовно выставив вперёд гиревые кулаки.
Ему почему-то припомнилось, что в Белках как-то особо не отдаляют покойников от живых. Кладбище было посреди села.
Не то что здесь, Бог знает где от городской окраины. И кладбище дома называют не кладбищем, а вечным селом.
Забрал человек свои года, провожают с почётом в другое село, в вечное, средь живого села – чтоб мёртвым было одинаково близко к своему старому дому.
«У них своё село… Заселено село… только петухи не поют, люди не встают… Смерть… Хлебом не отманить, деньгами не закупить… Вечная загадка без разгадки…»
Петро с ужасом ощутил, что под ногой нет никакой твёрдости, он уже ничего не мог поделать: тяжесть тела переместилась на опускаемую в неожиданную пустоту ногу, и он, заваливаемый собственным слоновьим весом, обмирая, больно упал, едва не вывихнув ногу.
С минуту он лежал, не отваживаясь шевельнуться, боясь, что, пошевелясь, непременно слетит в преисподнюю.
Он тихонько шевельнулся на пробу…
Твердь не расступалась…
Насмелился, ошарил всё под собой и вокруг, насколько доставала рука, немного успокоился. Он завис над приоткрытой могилой. Ещё не заселённая вечная хатка.
Прощупал выпуклую надпись на плите. Отцова!
«Нянько, нянько… А таки чувствительно Вы целуетесь…» – горестно усмехнулся, трогая в кровь рассечённый висок.
В сердцах толкнул плиту, высвобождая ногу. Расхлебенилась, размахнулась настолько расщелина, что Петро мог опуститься в могилу.
И Петро, опираясь одной рукой на край отодвинутой плиты, а другой – на верх могильной стены, пружинисто, мягко опустился.
Не без боязни погладил бетонные стены, пол.
Всё было гладко, осклизло-холодно…
Пов i й, вiтре, на Вкраi ну, Де покинув я дiвчину, Де покинув карi очi, Повi й, вiтре, опiвночi.Петро не мог понять, откуда лилась эта заветно-томительная песня, откуда шла.
А песня росла, набирала силу, ширилась.
Мiж горами там калина, Пiд калиной е хатина, В тiй хатинi дiвчинонька, Дiвчинонька-голубонька.Кто же пел?
В кручинном голосе Петро вроде угадывал то молодого отца своего, то молодого кума Торбу, то стариков, что были на вечёрке…
Петро так явственно их заслышал, что высунулся из могильной ямы удостовериться, что пели именно они.
Но сверху давила духотой чёрная тишина, нигде не было ни живой души.
А может…
А может, то пели все молодые мужики, покинувшие в горевую годину дома, в Карпатах, невест, молодых жён, и отправившиеся в чужую землю за своей долей? Не нашли своей доли и молодыми полегли в эти каменные мешки?
Повiй, вiтре, де схiд сонця, Де схiд сонця, край вiконця, Край вiконця постiль бiла, Постiль бiла, дiвча мила. Повiй, вiтре, тишком-нишком Над рум’яным бiлим личком, Над тим личком нахилися, Чи спить мила, подивися. Чи спить вона, чи збудилась, Спитай iї, з ким любилась, З ким любилась и кохалась, И любити присягалась. Як заб’еться iй серденько, Як зiтхне вона тяженько, Як заплачуть карi очi – Вертай, вiтре, опiвночi. А якщо мене забула И другого пригорнула, То розвiйся по долинi, Не вертайся з України. Вiтер вiе, вiтер вiе, Серце вяне, серце млiе. Вiтер вiе, не вертае, Серце з жалю замирае.Петро достал из гамака карточку.
На карточке мамко была ещё молодая, и Иван с Петром ещё хлопчики. Это их первая карточка. С осени сорок четвёртого. Верховина тогда только что надела шапку Советов, и у бездольных Голованей просеклись первые рубляши. Из тех первых рублевиков они и отложили на этот снимок…
В тесной печали глянул Петро на карточку, в тёмное зеркало будто посмотрелся, и бережно поставил её в передний могильный угол.
36
В чёрном деле честь не спрашивай.
Притискивая к груди свёрток, старик неслышно выскользнул из дома и тут же попятился, вжался в тень за угол. Навстречу катил одноглазый «Мустанг». У Марииной машины со светом бегала лишь одна сторона.
Мария с Петром не заметили старика, это было ему в руку. Настёгивая из последнего, торопился он чёрными улочками к Джимми. В другой раз не сел бы с ним рядом в одном чистом поле, а тут статья особая.
– Дедулио-о! – пропел Джи, притворно раскинув руки. – Каким ветром?
– Русинским! Русинским!.. – отпыхиваясь от скорых шагов, повторял старик с каким-то торжеством, с каким-то ясным, с видимым вызовом и в голосе, и в самой манере держаться. Так ведут себя люди, раз и навсегда решившиеся на что-то такое, на что прежде у них целую вечность не хватало духу.
Джи скрестил руки на груди, в нетерпеливой выжидательности уставился на старика, понимая, что тот спроста к ночи не прикатит.
– Я скромно подозреваю, – вязко залоснился лицом Джи, – что я тебе крупно нужен. Крупное дело? Не так ли?
– Джимка! Пёс ты муругий! Как же без крупной надобности?
Старик забирал широко, для прочного разгона подступался к затее с дальних подходов.
– Дедулио! Голубчик! – Джи облапил старика и даже, кажется, без фальши чмокнул в дряблую, вислую щёку. – Ещё минуту назад я молил Бога послать мне… Боженька не фраер, он всё слышит! Дошла до его уха моя молитва. Снарядил тебя передать мне тысчонку?
Пухнул Джи с радости.
Победно выставил руку с предельно разжатыми пальцами.
– Не тяни, дедулио! Спеши облегчить свои карманы, а заодно и участь мою.
Размыто улыбаясь, не зная, серьёзно ли, в шутку ли отнестись к словам Джимки, старик, слабо высвобождаясь из сатанинских объятий, выдавил с чужеватинкой:
– А ты сукин сын…
– Ему щенка, да чтоб не сукин сын! – захохотал Джимка. – Тыщу на кон!
– А с чего ты взял, что я тебе купилки принёс?
– Ну не пришёл же ты пожелать мне спокойной ночи!
– Откуда ты, идоляка, взял, что я тысяченачальник? И почему именно тысячку?
– Тыщу и сорок центов, – уточнил Джимка.
– А это что ещё за набавка?
– В сорок центов я ценю твоё дело и в тысячу джорджиков – своё умение, как провернуть его интеллиго. Без помарок.
– Тыщу! – отшатнулся старик. До него только сейчас стало доходить: целую тыщу ломит Джимка! – Откуда? Вымогателец! Откуда? Откуда мне взять столько? Сцелело с гостеванья у меня капиталишку, как от пожару травы…
– Вот видишь! – в голосе у Джи дрогнули просительные нотки. – На слове ловлю. Что-то у тебя да осталось. У меня ж кругом ноль! А мне, – подолбил ногтем часы у себя на запястье, – а мне через час к шефу. Какой чёрт даёт шефам жён?! Иди волоки тысячный презент!.. Пунктуальная стервь… За месяц наперёд припёрлась к маман в лавку, облюбовала серьги, похвалила, что значит: это мне по вкусу, пускай несёт на день рождения. Да по карману ли мне серьги те проклятые? А ей это до зонтика. Большое дело сделала, похвалила! Теперь вот она ждёт… Из года в год, из года в год… Вот идти. Что нести? Одно перепуганное плевало?[72] Навар невелик. Зато убыток явный. Завтра же шеф замочит и высушит на солнышке. Ну выжмет же с работёхи! Выручай, голубчик! Уж дай тыщу…
Обмяк старик.
– Набралась бы только… Отдам дотла… С матерью не обкашливал это дельце?
– А, – упало вздохнул Джи. – С матуней номер дохлый… А сам я гол, как полицейская дубинка. Ка-ак умасливал мамуню… Дай, говорю, серьги под проценты, в барыш въедешь. Не-ет, отвечает, раздолбаев ищи за Полярным кружочком. А мне гони наличными. Сама куда-то умоталась, серьги кинула мне на условии: если серьги исчезнут, а взамен не прибудут проклятые барсики хоть с тыщу, стукнет хвостом она полиции на меня… Совсем у паханки чердак потёк. Выведи, деду, из беды! Не то пропаду, совсем пропаду… как Гэс… как Гэс…
Был Джи из того сорта людей, которые, подворачивая возможное в уже свершившееся, принимали всё единственно как свершившееся, и оттого Джи так жалобно забирал, что у самого блеснули слёзы.
– От ты грех… От ты какой грех… – растерянно запричитал старик. – Совсема умаяли, совсема решили малого… Я ж что… Я…
Выгреб старик из потайного кармана на стол всё, что у него жило в наличности и, вовсе забыв, зачем сюда пришёл, принялся считать.
Набежала тысяча с мелочью.
Тысячную горку мятых долларов пододвинул Джи, а всё остальное, что было поверх тысячи, снова спрятал в потайной карман. Застегнул карман на пуговку.
– Нешь я супостатий какой… Ежли могу… Не подмогти как? Бери, Джимка, да помни деда…
Не ожидал Джи, что вот так глупо вывалится эта тысячная удача.
Он даже опешил. Хотел было уже вякнуть что-то такое вроде да зачем, да не надо, но удержал себя, прикусил язык и вымолчал счастье.
Горестное, просительное стало спадать с его лица; сквозь минутную беду пробилось привычное: наглое, хваткое, язвительно-насмешливое.
– Ты, дедудио, – смешинки катались в его голосе, – очень уж не убивайся. Я не спаная девка[73]. Может, я тебе что и верну. С полицейскими всякое бывает.
– Я не под возврат даю… Я так… Жалеючи…
– Верну, обязательно верну-у, – ядовито наворачивал Джи. – Верну, – стишил голос до шёпота, так что недовольный, но ещё крепкий на ухо старик не мог уже слышать, – верну, когда леший ослепнет. Дедулио, серёжики-то наши! Йахоу-у!
Чужая напасть так придавила, что старик не замечал насмешки ни в голосе, ни в лице парня, решительно ничего предосудительного не видел в его поведении, а только окаменело стоял, выжидательно уставясь на Джимку.
«Что думает это вторсырье? Может, подсчитывает, сколько тонн песка уже рассыпало? А может, подсчитывает, сколько пенсии за него получено на том свете?.. Интересно, не из той ли небесной пенсии эти… – Джимка ястребино скосил липкие глаза на деньги. – Не сгрёб бы он эту валюту назад. Ну везетень!»
С обременительной, уступчивой улыбкой – ох уж «дипломатия улыбок»! – Джимка, притворно зевая, подровнял стопку, лениво прибрал в пистолетную кобуру.
Увидав усмешеньку на молодом лице, старик услужливо, как-то опасливо просиял.
– Вот и хорошо, до смерточки хорошо, что всё слилось в лад, – почему-то смято миротворил старик, нетвёрдо правясь к двери.
– Не шевели слишком коньками, дедулик… Не спеши… Тише едешь – дальше будешь…
– … от того места, куда едешь! – горячечно отстегнул старик.
– Ну я отрубился! – застонал в сухом, смазанном смехе Джимка. – Да прежде чем двигать поршнями, хоть ради хохмы скажи, зачем приходил-то? Ну? Чего молчишь? Чего жмуришься, как майский сифилис?
– А! Да!.. Я ж…
Старик покаянно проплюхал назад от двери к столу. Угрюмо вслушиваясь, долго смотрел на дверь, на окна чёрные. Всё молчало.
Дед сломился в поясе, чуже нагнулся к Джимке – сидел за столом и очумело пялился на стареника, – запальчиво вдохнул в самое ухо:
– Я ж… каторжанец… надумал бечь…
Джимка саркастически хмыкнул.
– Что за мираж-фиксаж на тебя наехал? Вижу, не все у тебя дома. Ушли к соседу на чай? К ним тебе надо?
– Ей-бо! – припиная ладони к груди, одними губами прошамкал старик. – На Родину…
– Шарахнула фантазия, ну и чеши! – злобно бухнул Джимка. – Чего крякать?.. А может, ты хлопочешь, собираешься выплакать, чтоб полицейский из миссии милосердия, – негнуще, коротко поклонился, – экскортировал тебя? Глубоко извиняюсь! – Джимка почтительно-ехидно ещё раз поклонился. – Но компании составить не могу-с!
– Ну да что слова квасить? В разных мы компаниях… Одной компании нам с тобой не водить…
Размывчиво старику подумалось, что денег при нём разве что на стакан кофе, так и на то безразлично махнул рукой. Что из горшка выбежало, не соберёшь!
Попросил:
– Ты билетом подсоби… Выручи!
– А ты крупный нахал. Не чувствуешь? Ты что, с перезвоном в голове? Сказанул, я так и отпал… Достать леваком на международку?.. Я в такие игры не играю… Да ты хоть представляешь, что нужно иметь на подступах к билету? Как минимум, например, визу… Пустячок…
Старик отуманенно пялился на Джимку, не совсем ясно видел того.
– Разве в родную хату дозволено вернуться только по визе? Я спокинул её без визы, я вернусь в неё без визы! Вскипела душа… Не хочу… Не могу выжидать, покуда… И дня не буду кулюкать без сынов… Качнулся к кассе… С пустом отлип… С послезавтрева у летчиков забастовка… Никуда никаких билетов… На завтра – всё разобрано. К кому понесёшь бедушку?.. Я и к тебе, генерал удачи…
Корявая лесть умягчила Джимку.
– Дедулио, ты явно переоценил мои весьма скромные возможности. Внутри – ради Бога, один звоночек…А за рубе-е-еж… Я пас. Ни Боже мой!
– А как же…
– … тыща? – подсказал Джимка.
– Ни при чём тут тыща. Я ж вроде об деле?..
– Не боись, дедулио. Тугрики твои я подчистую отработаю. Насколько мне известно, ваши вылетают завтра утром в Торонто?
Старик кивнул.
– В Торонто пересадка на международный… Пожалуй, Торонто я сделаю. Вырублю плацкарту. А дальше как?
– А дальше, – старик храбровито хихикнул, – а дальше – как раньше… Разве долларики мне больше не откроют нужную дверку?
– Какие ещё долларики?
Действительно, какие?
В смятении старик заохлопывал себя. Из потайного кармана тонким задавленным звяком отозвалось несколько монеток.
«Ни граммочки… Нищему совестно подать…»
– Джимка! Коршун ты тряпишный! Что ж ты угрёб всю тысячку? Гре-ех по стоку за раз цопать…
– Такса, дедулио, – с насмешливым сочувствием развёл Джи руками.
– Побойся Бога, орлан!
– Не кричи, нервняк. Что твой Бог? Шеф через улицу живёт. Свои божки уездили…
– Грех… грех… – въедливо бубнил старик. – А что… А что, ежели твой грех да разломить напополамки? Всё тебе легче… Половинку оставь себе, половинку верни мне…
Поскучнел Джимка.
– Уж очень умный ты после дела. Только за половинку Торонто не пляшет… И потом, Балда Иваныч, учти, ты получаешь не простое место. Лежачее! А ты спроси, летал ли кто на самолете лёжа? До предела вытянувши лапки? Ни одна холера! Ты первый будешь. Ну так летим?
– Ладнушко, – без охоты отступился старик. – Не время перебирать… Мне абы встрять в драку, а там, может, удачушка и огреет…
– Всё! Айда. Это мне по пути к шефу. Да поворачивайся же ты живей! А то опоздаю на дурацкий день рождения… Я передам тебя человеку. Наш человек сейчас и проведёт в самолет. Будешь первый пассажир. Наверняка не проспишь свой звёздный рейс.
Они вышли на тёмную улицу.
– Джимка, пёс мокрогубый! – радостно-восторженно зашептал старик. – Гля! Гля! – взял парня за низ лица, повернул в одну сторону, в другую. – Скрось, дубленый твой загривок, ночь и ночь. А там очки уже давностно казакует господин День! В самый размах, в самую силу входит!
– Кому что… Я сегодня не в претензии к нашей ночи… Ну, дедулико, кланяйся нашим, как увидишь своих! А вообще, дедуня, тата киль![74]
37
От сладкого сердца наешься горького перца.
Дважды в году лето не бывает.
Поздно.
Ночь переваливалась уже на другой бок.
Гасли огни. Пустел дом.
Последние уходили гости, растерянные, голодные.
Весь день кружилась баба Любица на кухне, наворочала как на малашкину свадьбу, да никто и не притронулся. Какая ж она, прощальная вечеря, без хозяина?
Мария с Петром обскакали все ближние парки, приёмные покои, морги. Старика нигде не было.
– Ванюха! – не убирая глаз с чёрного стекла, гудел, не отворачиваясь от окна, Петро. – Ты мне за нянька ответишь ещё!
И в сотый раз Иван принимался терпеливо твердить одно и то же.
Да, по пятам крался за отцом. Да, не пускал из виду. Да, видел, собственными глазами видел, как входил отец в дом. Только куда потом он подевался? Уму недостижимо…
– Марушка, – уголком косынки вытирая припухлое от слёз лицо, тихо проговорила баба Любица, – а что да не позвонить Джимке?
– Бесполезно, – стукнула Мария кулачком в ладошку. – По ночам Джи не снимает трубку. Надо ехать, – обратилась она к Петру, вяло, нехотя беря его за локоть.
«Я вся устала. Я б никуда не поехала, не будь этой беды», – говорил ее измученный вид.
Но вид этот был обманчивый. Под пеплом усталости, отрешённости не погасло, жило ещё больное желание заманить этого упрямого верховинского медведя к себе домой хоть в последнюю ночь. Второго такого случая судьба уже не подаст.
В машине, за рулём, она грустно улыбалась.
«Ради отца ты, – летуче скосила глаза на сидевшего рядом Петра, – готов со мной на край света увеяться. А ради меня? Молчишь, дон Педро? Ну и молчи. Хоть ты и родился с лысинкой[75], а я мчу наконец-то тебя к себе. Первый раз за весь месяц. В первый и неужели в последний раз? Неужели это и всё? Может быть, и всё. Ну что ж… Пускай хоть одну ночушку… Да вме-есте…»
Она было сразу повела Петра на свою половину. Но, вспомнив с досадой о пропавшем отчиме, шепнула Петру подождать минуту какую здесь, в тёмном коридоре, и бесшумно повернула вправо, на сторону мальчиков.
Вошла. Зажгла ночник.
– Или у тебя болты срезало? Выруби! – Джи сердито отвернулся к стенке.
– У тебя что, подружка в гостях?
– Кажется…
– Не кажется, а точняк! – капризно поправил грудной девичий голос.
За лежавшим на боку сыном Мария не видела девчошку. Увидела лишь, когда та, проговорив, в назидание столь основательно дёрнула согнутыми двумя пальцами за нос Джи, что тот ойкнул.
– Выключи же! – в один голос крикнули и Джи, и янгица. Мария смешалась.
Она не знала, то ли повернуться и уйти, то ли всё же сказать, зачем вошла.
– Ну и ёбчество! Может, – мокрощёлка снова весьма профессионально поймала Джи за нос, твёрдо потянула из стороны в сторону, – может, ты всё-таки соизволишь популярно объяснить своей мамуленции, что темнота – друг молодежи?
Боже, как она таскает его за нос… И кто?
При облаве на наркоту Джи выскреб эту пигалицу в какой-то тайной ночлежке. Не то в «Белой смерти», не то в «Доме всех новых начал», не то в «Конце всех начал»…
Эта кручёная коза ему глянулась. Он ничего не придумал лучшего и вместо фараонки[76] повёз её к себе домой.
Дорогой она тогда пела:
– Заче-ем люби-ить, Заче-ем страда-ать, Коль все пути-и Ведут в крова-ать?..– А ты хохмогонка, – похвалил он. – Притопила муму[77] и фестивалишь теперь по полной?
– Как видишь… Вся в пожаре…
– Скажи, тебя устраивает роль моей заложницы? – спросил Джи.
– Заложницы-согревушки?
– Да.
– Условия?
– Я не даю делу ход. А ты, подружка-лягушка, раз в неделю, по средам, прибегаешь ко мне на полежалки…
– На приём с коктейлем?
– Ну!
– Не откажусь и чаще. Ты такой умнявый. Много читаешь?
Он расхохотался:
– Очень много! За всю жизнь одолел целый заборный романище! Из четырёх букв! Не считая мягкого знака. И запомнил весь наизусть. Роман называется «Даша». Слушай же меня внимательно… «Даша! Дашь, а?» – «Да». – «Ша!»
Мария никогда не видела эту сойку в лицо. Зато вчастую видела её со спины – уходила от сына по утрам.
Не сльшала её голоса.
Но вот услышала. Дожила до счастья.
– Джи, – потухшим голосом проронила Мария, – у нас пропал дедко.
– А я тут при чём? – поморщился Джи. – Что я, бюро находок? – Уныло потянулся к пиджаку, висел на спинке стула, просторно раздвинул нутряной карман большим и указательным пальцами, сосредоточенно посмотрел на дно кармана. – Здесь его, как вижу, нету. Может… Может, перед сном качнул прогуляться?.. А? Чего раньше времени гнать волну?
– Так уже поздно!
– Ну и что? Он не бесогон какой трёхлетний. Ему можно разрешить погулять и подольше.
– Да кончай ты трёп! Как быть? Усоветуй что-нибудь…
– После семи, может, что и посоветую. А сейчас не мешай нам входить в столбняк[78]. Не могу я сразу два дела делать хорошо. Тебе не кажется, что я и так уже весь в работе? – лениво хлопнул по замку девичьих рук у себя на шее. – Мамунцуня, пока ты свободна. Чао, какао!
Про себя Петро обругал Джи тупым, как колун, и пустым, как куль дыму, и, ничего не говоря, поплёлся за Марией, звавшей рукой следовать за ней.
Они шли в её ювелирную лавку.
По мере того как приближалась туго черневшая в конце коридора тесная дверь в лавку, Мария подтягивалась всё более, гордовато выпрямлялась. Петру подумалось почему-то, что и змея выпрямляется, когда вползает в свою нору.
В лавке откуда-то сбоку тревожно мерцало красным.
Витрины, полки мёртво отсвечивали драгоценными камнями, поделками. Всё переливалось, блестело, загадочно играло.
Невесть почему ей вспомнилось, что вот это забившее всю лавку чужое, бродвейское, золото взяло у неё мужа, сломало, раздавило её саму, и ей стало как-то жалко себя.
– Последняя ночь, Петруччио, – тихо проговорила она. – Сухарь… Сколько же тебя размачивать?
Он понуро молчал.
Среди этого тоскливого, холодного великолепия она долго, жалко смотрела на Петра и, тяжело, по-бабьи взвыв, виновато приникла к жаркой глыбе его плеча.
«Одна… Совсем одна… Как сорока на берёзке…»
От матери она слышала, что славянский мужик ласков, нежен, прямодушен в любви; он не обидит платой за радость, как за проезд на такси.
Хотелось ей хоть последний рассвет встретить вместе с Петром. Навсегда хотелось оставить подле себя Петра в его ребёнке.
Вслух же она просила, взрыдывая:
– Бери на память… Что только на тебя смотрит…
– Ловлю на слове… На меня вся лавка весело уставилась, – пробовал он шутить в грусти.
– Бери всю лавку… Бери…
Голос её звучал искренне, чисто. Она искала в нём согласия пойти ей навстречу и не находила.
Досада, тревога, жалость притихли, застыли в его взгляде.
В один рысий прыжок она оказалась у стены возле громоздившихся друг над дружкой полок, и, измученно горя глазами, яро смахнула с нижней полки реденькое всё добро ему к ногам.
– Бери… бери…
– Что ты… Одумайся! Не сорока я. На блестящий сор не падок.
– У меня – сор? – подпёрла кулачками плоские, диетой обсосанные бока. – Может, ещё скажешь, я и себя подобрала на бродвейской помойке?
Вкогтилась в крутой его локоть обеими руками, прямо в зрачки уставилась умоляюще:
– Возьми… Возьми тёзке к свадьбе хоть заушницы[79].
– Да не-е… этого… Этой канители у Марички досталь… Не рви… Не жги нервы… Успокойся… Ну успокойся…
И он, мягко высвобождаясь из её слабеющих рук, пятясь, стараясь не наступить на рассыпанные по полу тускло кровяневшие побрякушки, покосолапил к выходу.
В ночь.
38
Плуг да борона сами небогаты,
да весь свет кормят.
И в наше оконце засветит солнце.
А утром чем свет притихлая от горя баба Любица, Петро и Иван посыпали в полицию.
За квартал до полиции их нагнал «черный воронок». Остановился.
– Джимка! Джимка! – вальнулась баба Любица к парню за рулём. – Каким ветром тебя надуло!? А но выручай! У нас дедо пропал. Не сночевал дома!
– Не ночевал… Это, бабуленция, ещё не повод для паники… Какой-то озорной пострелун попался вам, бабунька. – Скучная, вязкая усмешка блудила на тонких искусанных посинелых губах парня. – Может, к какой подмолодке где припарковался там…
– Не в час ты с шутоньками… Уши вянут… Так-таки ты ни холеры про деда и не знаешь?
– Я и не знаю! – лениво хмыкнул Джи.
– Что с ним? Где он? – заторопилась словами баба Любица.
– Где… Дальше фазенды под бетонной плитой не ускачет…
– Говори же! Говори же, что с ним!
– С ним всё в абажуре. Полный окейка! – Посуровев внезапно, меж зубов пустил Джи: – И отвянь от меня, прелая морковина, с допросом…
Старуха враз примолкла, сжалась и маленьким комочком закатилась за братушков. Спряталась.
Так за широкие родные спины прячутся дети, когда кто-нибудь чужой нашумит на них или покажется им страшным.
Помолчав, уже уступчивей, мягче спросил Джи Петра с Иваном, понравилось ли им в гостях.
– А кому не нравится гостеванье? – вопросом по вопросу скользнул Петро. И полуизвинительно, с далеко упрятанной увилистой колкостью спросил: – Можем ещё к вам приезжать?
– Ради Бога! Только… – Джи подался к другой, дальней дверке напротив и над верхом машины показалась по тот бок трембита, – только без этого сувенира. – Он трудно потряс трембитой, будто палицей вздумалось поиграть больному, хилому.
Правил Джи одной рукой. Вторая же, опущенная за дверцу, держала трембиту, так что со стороны подошедших трембиту не было видать из-за машины.
– Только без этого, – напружиниваясь, он слабо помотал трембитой стоймя, – только без этого!
Баба Любица, Петро и Иван так и обмерли.
– Ты что же, арестовал её, что ли? – смутился Иван.
– При чём тут арестовал? Просто слегка изолировал от ёбщества.
– За что?
– Будет наперёд знать, кому подыгрывать… А то вчера подыгрывала пиводёрам, пардон, пиводелам. Завтра, гляди, подпоёт лётчикам… Что это ещё за концертушки?
– Помилуй! Ка-ак она очутилась у тебя? – допирал Петро. – Насколько я помню, нянько передарил трембиту Гэсу.
– Правильно. И я не позволил себе разлучить Гэса с этой дуделкой. Где эта дуделка, там ищи и Гэса.
Джи пнул трембитой в чёрный бок машины.
Только тут все увидали, как в зарешеченное оконце скомканно улыбался Гэс.
– Джи-имка! – оторопел Петро. – Иль ты выпал из ума?.. За что таковецкое ты усахарил… упаковал его туда? Что всё это значит?
– Лично для вас всё это ничего не значит и вас не касается. Через три часа вы будете в воздухе. Мы свои проблемы как-нибудь да утрамбуем сами…
Баба Любица решительно растолкала сухонькими кулачками Ивана и Петра, внырнула между ними.
– Это не разговор! Не разговор! – срывисто, храбровато посыпала словами. – Ты и Гэс родные братья, внуки мне. Ещё неделю назад вы плясали одному начальству, вместе ездили на задания. Почему же теперь ты везёшь его, – баба Любица пальцем ткнула в сторону окошка, похожего на плохо замаскированную дыру в чёрной скале, – почему же теперь ты везёшь его как преступника?
Джи вяло поморщился:
– До преступника, допустим, ему ещё далеко-о…Видишь ли, – заговорил он назидательно, – нормальных людей роднит то, что все они после дела умнеют. А этот глупка, – саданул трембитой в бок машины, – и после дела продолжает пяткой креститься. Накололся – ша, притихни, не вкручивай щетинку. А он ломится в пузырь! Подайте ему на подносе какую-то справедливость. Насточертело всё это там, – ткнул большим оттопыренным пальцем вверх. – Вот я и везу. Теперь ему, может, и подадут… Хва-а-атушки плясать на чужих нервочках… После вчерашнего, – Джи с нажимом произнёс это слово, – шеф пожелал развеяться и ли-и-иично послушает его игру уже на трембите. В трембитах шеф знает толк. Его корешки бегут откуда-то оттуда, откуда и вы, – кивнул Ивану с Петром. – Так что трембиту он понимает. Оценит и трембиту и трембача.
– И что, на этот спектаклий обязательно везти по-чёрному? – пыхнула баба Любица.
– По форме… Как положено…
Наступило давящее безмолвие.
– И всё же? – сломав тишину, медленно произнёс Иван, – Чем же провинилась трембита наша?
– А тем, что за месяц она наделала больше, чем все дипломаты во все времена, – ясно ответил из-за решётки Гэс.
39
Река не может не течь к морю.
У муравья перед смертью крылья вырастают.
Самолет летел.
Перепачканный рвотой, старик лежал, как и обещал Джимка, на верхней багажной полке, завернутый в брезент, пристёгнутый к крючьям в стенке.
Со вчерашнего завтрака у старика не было во рту и маковой росинки, однако рвота долго его маяла. Его всего выворачивало наизнанку. Он скрючился, насколько позволяла бечёвка, которой был перехлёстнут в ногах, в поясе и по груди, заходился поминутно на рвоту, но рвать было уже нечем.
Наконец рвота отступилась.
Затихло всё в старике; вернулась ясность в сознание.
Старик забеспокоился. На тот ли самолёт попал? Тут ли мои? А как, как я выйду? Ка-ак?..
Старик мучил себя вопросами и ответить самому себе не мог, не мог вовсе и боялся любого ответа. Откатывался моментами страх, твёрдый рассудок говорил:
«А вот возьмут и швыранут! Раскачают да в дверку… Лети, друже, откуда прилетел…»
Ёжился, с перепугу закрывая глаза, однако ясно видел себя, как летел в воздухе, выброшенный с самолета; и до того накатывала на бедолагу жуть, что почти физически чувствовал боль от удара при падении; кусая слабыми зубами хрусткий край брезента, задавленно мычал, стоном опасаясь выдать себя.
Проходило несколько секунд.
Старик оцепенело лежал с открытыми глазами, будто пережидал боль. Помалу её забирало, относило куда-то…
Светлел старик лицом, трогая под рубахой на груди кримпленовый отрез.
«На месте… Летим…»
Старик купил этот отрез, когда узнал, что жива-здорова его Анна, и надумал подарить ей через сыновей.
Хотелось ему, чтоб именно из этого чёрного кримплена сшила себе платье Анна, никогда б не носила, а наказала, чтоб надёрнули на неё после её смерти. Тревожился старик, что уже не признает там Анну в лицо, а по платью узнал бы враз.
«А на что через сынов?.. Я сам из рук в руки… Тако оно способней… Принарядишься ты у меня, Анница, мы ещё прогуляемся с тобой по Белкам… Материя добра… всё одно как рубленка… Свой подарок привезу сам… Долларики подмогут…»
Пальцы гладили носовой платок, завязанный узелком. Платок был в отрезе. В платке действительно были деньги до встречи с Джимкой.
«Вы, – говорил деньгам, вовсе забыв, что в платке у него осталась одна мелочина пустая, христараднику не наскребёшь дать, – вы положили меня сюда… Вы и не дадите выкинуть… Вы и высадите где надо… У вас, у доллариков, о-хо-хо-хо какие отмычки ко всякому смертному, ко всякому закону…»
Старик настолько верил в силу доллара, что, осмелев, освоившись в самолёте и вовсе перестав бояться, подумал самым честным образом, что это доллары задобрили его страх, выкупили его у его же вечного страха перед самолётом; он боялся самолётов не только в аэропорту, но и когда видел гудевший золотой крестик в небе. Заскакивал в первый же подъезд и, припахнув лицо полой пиджака, выстаивался, покуда гул дочиста не сминало.
Это было там, на земле, было так всю жизнь.
А вот теперь, спелёнатый, лежит он в самолёте и анисколечко не боится!
Радужные мысли про собственный пангероизм в нём ломались, таяли, гасли; снова вспухала тревога.
Чёрными воронами слетались в плотную кучу клевать его одни и те же старые думы. На тот ли попал? Здесь ли мои? Как выйду?
«Про выход, ядрён марш, головы не ломай. Были б тольке туточки… Как прознать? Может, всёжки слезть да пойти?»
Ужас выворачивает старика.
Становится страшно, так страшно, что отворачивается он лицом к стенке – будто отворачивается от своей мысли про то, чтобушки вот взять да пойти по салону искать сынов.
«Пойти – риск какой… А подслушать говорильщиков не во вред».
Рядом туалет. В эту сторону всё пришатываются заодно и покурить, и старик, задыхаясь от дыма, поскольку не курил сам, сосредоточенно вслушивается в голоса курцов.
Сквозь шмелино-монотонный гуд долетали размытые, зыбкие обрывки слов и чем доле старик вслушивался, на душе становилось холодней: говорили всё по-чужому.
Самолет сел.
По весёлым голосам, по топоту догадался старик, что народ выходит.
«Словчи незаметно врубиться в выходящую очередь», – шли на память слова Джимкина дружка. Это ему вчера Джи передал старика. Это он вёл старика ночью глухими путями к пустому самолёту. Это он, запеленав в брезент старика, вскинул его на верхнюю багажную полку, привязал к крючьям. Да, видать, перестарался.
Как ни вертелся старик – не мог отвязаться. Узлы мёртвые, слабыми пальцами нипочём не разомкнуть.
А между тем пропал топот, уходили от самолёта голоса.
Старик готов был уже кричать, как сверхусилием он таки по ниточке схитрился перекусить бечёвку. В старых дёснах уже не было силы, кровь пузырилась, кипела в дряблых уголках рта, и он, выплюнув красный ком в кулак, свалился с полки.
Стюард у трапа на половине зевка прикрыл ладонью рот. Присвистнул:
– Хо-хо!.. – Да поспи ты ещё с полминуты, я б захлопнул двери…
Народ с самолёта уже смешался с вокзальной толпой, и как старик ни кидай глаза по все стороны, не находил своих.
«Невжель не на тот?..»
В старике примёрло всё: дыхание, пульс, желание идти куда-то ещё дальше. Он остановился. Расколото, убито смотрел на круглый вокзал, на гудящую тесноту вокруг.
Невесть откуда вымаячил ему на глаза Петро, хорошо видимый над роковитой людской сумятицей.
– С-с-сынки-и!.. – неверяще позвал старик сквозь подступавшие слёзы, но его никто не слышал. Из хвоста терявшейся в общей толпе кучки с их самолета ни одна живая душа даже не обернулась.
Наддал старик из последнего, повис в слезах у Петра на руке.
Выронил Петро вещи на бетонку.
Сгрёб в охапочку отца.
– Нянько! Нянько! Да отку-уда?! Откуда Вы проблеснули в Торонтах?
Старик плакал, не мог и слова сложить.
– Нянько! Нянько! – тормошил Петро. – Говорите же… Нам же прямо зараз на посадку!
Выкатил старик глаза, непонимающе перевёл взгляд на Ивана. Конечно, Петро что-то непотребное поёт. Скажи, ну скажи, Иванко!
– Прямо сейчас, – тускло подтвердил Иван.
– С… с… сын… ки… С… с… сын… ки… – опустошённо запричитал старик. – Одни?.. Без меня?.. Ка-ак?.. Я ж вот он вот… Живой… даже… Я с Вами!.. С Вами!!.. С Вами!!!..
Каменнные взоры прохожих безучастно-летуче скользили по плачущему старику. С ленивым водянистым любопытством поглядывали полицейские.
Стоят братушки, по кому в горле.
– Ну, – со слезьми в голосе вытолкнул из себя Петро, – давайте в сторонку.
Воссиял старик.
«Всё ж не без меня… Всё ж не одни… Зараз вот станем у круглого вокзального бока, что-нибудь да прирешим доброе… Три ума не один…»
– Нянько! Так Вы ж скажить ради самого Господа, куда ж Вы вчера уёрзнули? Где были ночь? Как очутились здесь вот?
Широкой ладонью Петро ткнул себе под ноги в горячую бетонку.
– Сынки! – радостно воскликнул старик, успокоенный неспешным, твёрдым тоном Петра. – Да разве мир живёт без добрых людей? Ещё когда добрые индейцы нарекли это место Торонто? По-ихнейскому Торонто – место сбора. Сам Бог велел нам туточки собраться. Но не было б зараз туточки меня, кабы не Джимка. Джимка, ядрён марш, подмог! Без Джимки разве был бы с Вами я наполовину уже в Белках? Вся и запятая теперь, как и вторую половинушку туда доправить…
– Нянько, – с сердцем глухо бубнил Петро, – Вы с нами просто нехорошо шуткуете. Что ж Вы, кнопка? Кинул в карман и повёз?.. Сюда Вы добирались – Господь с Вами как. Это местная линия. А дале рейс уже международнейший! Контролюга на контролюге! Ключ домашний забудешь в штанах, сунешься через мосток – запикает! А тут целый Человек! Сколь говори-или-проси-или… Ну приезжайте к нам насовсемушко! Не насмелитесь насовсем, приезжайте как турист.
– Спасибы, сынку… Туристом я не хочу. – Обида тронула стариков голос. – Ездил один туристом… Приехал в Мукачево – назавтре во Львов. Улестил, под секретом отпустили на ночь в свою деревеньку. Поймал такси, помчался. Под потёмочками со слезьми обежал, как волк, деревеньку, поля, ярки ближние, обежал, а с зарёй назад, на свой маршрут… На одну ноченьку, всего на одну ночушку. Ночи с меня, сынки, и туточки хватает. Одна ночь тянется полвека… И света не видать, совсем не видать, и нитко[80] не скажет, нитко не предскажет конца той ночи… Невжель ничего нельзя придумать? Не хочу я оставаться здесь один… Не х-хочу… н-не ммогу… Неужели ничего нельзя надумать? Так и нельзя?..
Сыновья сражённо молчали.
– И выдумывать ничего не надо, будь только виза, – вздохнул Иван. – А так… Навсправде…
– Хэх! А так и домой не заявись без визы! – дурманно пальнул старик. – Виза! Виза!!.. Как сюда шёл, как сюда нёс свою жизнь, своё здоровье, свою силу молодую, ни одна собака визочку не спрашувала, а пёрли, как вон ту чурку, – тыкнул пальцем в каменный бюст на быстро проезжавшей мимо тележке. – С той колоды никаких виз не трясут, погрузили да повезли… Ну что б да мне так?.. Оттепере я, больная кость без мяса, буду только там, где мои сынаши… Чего б это мне ни стоило…
– Что ж, – подал задумчивый голос Петро, – как у нас один говорил, где бегает желание, там лежит и путь… Сколько Вы, нянько, тянете?
– Да не тяжеле одного хорошего барана… Забитого, уже без шкуры… Без потрохов… Освежёванный…
– Добрэ, – прогудел себе под нос Петро. – Пустячий вес. Под плащом пронесу?.. А ну-ка я спробую…
– На одной руке такую тяжесть?.. – Старик воровато повёл глазами по сторонам. – Мне б побрызгать где, всё б и тебе облегчение, и мне терпеть нету спасу. С вечера ж не ходил до ветру…
– В самолёте сходите. А зараз… – Петро протянул свой длинный плащ, что висел на согнутой в локте руке. – Ныряйте!
Нахлобучил старик плащ – потонул.
Застёгивает Петро пуговицы, а Иван вшёптывает:
– Брось ты эти чёртовы играшки… Запекут же!
– Кажется, не тебя? – так же шёпотом кинул Петро.
Застегнул Петро пуговицы плотно все до одной.
Побелел, кусает губы…
Повис старик на локте, утянул ноги – и впрямь пустой плащ.
Для верности кинул Петро поверх плаща ещё и пиджак.
40
Река ищет своё старое русло.
Разомлелый от жары таможенник целую вечность изучал Петрову декларацию и всё косился на плащ и пиджак на руке.
Петро, размытой улыбкой встречая его сторожкие взгляды, держался ненапряжённо, сила его была без меры.
Наконец таможенник нехотя, будто из милости, разрешающе качнул головой к выходу на посадку и в ужасе отшатнулся: из плаща вывалился истоптанный дешёвый башмак.
– На стол! – гаркнул таможенник и сам подлетел к столу, в нетерпенье забарабанил по нему пальцами, багровея. – Если слетел башмак, где-то должна быть и нога, с которой он слетел. Мы уж доищемся! Это наша печаль.
Петро положил. Расстегнул.
Не открывая глаз, старик лежал мёртво, не дыша.
– Тэ-экс… гробовое дело… На субъекте нет одного башмака… в плаще пытались пронести контрабандой пока одну особу. Потрудитесь, мистер, – обратился таможенник к Петру, – ответить, что это за человек?
Петро сделал безразличное лицо.
– По-моему, это… ну… скульптура.
– В магазинных башмаках?
– Естественно.
Таможенник упёрся старику в живот.
– Но у него и живот мягкий!
– Вполне естественно. Воск есть воск… Это знаменитый в Канаде человек. И его восковую фигуру я везу в Европу… В музей восковых фигур… Не верите?
– Вы еще расскажите мне про Буратино… Как он ожил из полена, кажется…
– Время не для сказок, – деловито проговорил Петро.
– Вот именно! За выдумку спасибко! А теперь едем к правде. Кто этот человек? – жёстким взглядом таможенник упёрся в молчащего старика. – Кто и откуда? Как очутился он у вас на руке?
– Понятия не имею…
Не стерпел старик таких слов. Вскочил. Сел на столе.
– Сыновец! Как же это ты о батьке понятия никакого не имеешь, чёрт-мать? Отрекаться от живого батька?
– Кроме того что ваша «скульптура» в одном башмаке, она ещё и натурально ругается! Быть разговору коротким… Я кланяюсь вашей силе, выдумке. Идите, откуда прибыли, мистер.
Таможенник кивнул на волю, в сторону взлётного поля, – А вы, – осуждающе уставился в отца, – а вы… неизвестная наша знаменитость… Наверняка ведь здесь оплачено комфортабельное кладбище, а он ловчит именно в русский навоз уйти. Зачем? Как ответите?
– Молча.
– Не-ет! У нас вы заговорите!
Почему-то именно такой глупой привиделась Петру воображаемая история с проносом отца, и потому чем ближе подходили Головани к контрольным службам, тем всё плотней наливалось в Петре желание не рисковать.
Поставил Петро отца на пол. Снял плащ.
Прошептал сбелевшими губами:
– Не смогу, нянько, пронести… Не пёрышко, заметят… Не сумел даже в мыслях пронести, а уж в натуре как отважиться? Давайте, няне, прощаться.
Потянулся Петро обнять отца. Отец вырвался из смыкающегося кольца сильных сыновьих рук.
«Как прощаться? Почему прощаться?»
Потерянный немой взгляд заледенел на поникших сынах.
Тяжело перенёс на лица прохожих.
«Скажите, вы знаете, почему отец должен прощаться с живыми сынами?»
Люди спешили.
Натыкаясь на вопрошающие стариковские глаза, быстро отворачивались.
Даже статуя на постаменте отвернулась от старика, когда он поднял к ней своё лицо…
Чужой, негнущейся рукой старик достал из пазухи сверток, подал Ивану.
– Иванко, прими последний подарок нашой мамке… Думал, сам доправлю… Это, – потухший взгляд на чёрный ком ткани, – кримплен… Тёмный, старушкинский… Нехай сошье платье на похороны… Худо с нами жизня обошлась… Сколь не видались и – расставайсь! Нехай… Расстаёмся мы на времю… Все обязательно совстренемся там… В своём кримпленовом платье я наверняка узнаю нашу мамку. А так, простите, хлопцы, я не совсем ю[81] ясно помню в лицо… Петрик…
Старик задумался.
Похоже, у него был провал памяти. Он забыл, что хотел сказать, и долго угробно смотрел на сынов молча. Дрогнул. Вспомнил:
– Петрик, а это к тебе просьбушка… Подари и ты мне последний подарок…
Старик достал из потайного кармана пиджака ветхие самодельные топанки. В них он приехал из Белок. Потом больше не надевал. Всё берёг.
– Думалось… Их и надену, как опять вернусь в Белки… В них уходил… В них и вернулся… Ан не выходит… Не судьбушка…
Умученно посмотрел на башмаки, тукнул друг об дружку подошвами, притиснул Петру в приоткрытый чемодан.
– Петрик, сынку, походи в них в Белках… Вкруг нашей хаты походи… В хате походи… В саду… На огороде… Походи и вышли назад… Я как дома побуду… Тогди я со спокойной душой пойду в землю спать… В них мне будет легко…
Старик придавленно заплакал, уронив в ладони лицо.
Петро и Иван беспомощно переглянулись.
– Ня-янько, – Петро бережно тронул отца за плечо, – возьмить себя в руки… Вертаться в Калгари у Вас есть на что?
– Нет…
Петро повернулся к Ивану:
– У тебя ничего не осталось от карманных расходов?
– Нич… ничего… Всё до цента распустил…
Вывернул Петро карманы свои, выгреб на ладонь всё до мелочёвки.
– Нянько, вот Вам последний заваляшкин долларь… Ага… Вот ещё один барсик… Э! Да вот ещё червонишко наш…Залип, друже, в гамаке… Как же я его раньшь не видел?.. Нате… Можь, обменяют как…
– Никаких обменов! – надорванно вскричал старик. – Ваша денежка пойдёт мне на память… А доллары, эти проклятые доллары-барсы!.. Развели с Белками… Развели с семьёй… Разлучили… Сманили сюда… Выжали… Что я теперь?.. Отломанная сухая ветонька?..
Старик, плача, с ожесточением стал драть доллары в мелкие клочья, швыряя себе под ноги, топча.
«Это я! Это я, проданный за них на корню! Это я рву себя прошлого… вчерашнего!.. Рву себя, слопанного долларами!..»
– Нянько, не пылуйте! – заозирался Иван. – А то ещё заметут…
– А нехай! Мне теперь всё без разницы. Что мне здесько без Вас?
Проронил это старик с такой обреченностью, что Петро, не выдержав, заговорил твёрдо:
– Не-е, нянько. Да кто ж Вас оставит одного? Молчок, молчок… – ободряюще потряс за плечо. Надел на отца балахонистый плащ, застегнул, повесил на руку. – Пан или пропал!
Но Петро трёх шагов не дошёл до стойки регистрации, как послышалось сзади:
– Э-эй!!.. Весёленький Перфект!.. Сила!!.. Стой-да!.. Земляче!..
Петра будто вморозило в горячий бетон по колени.
Остановился, но повернуться на крик не решается.
«Кто там ещё?.. По голосу, кажется, закройщик… Один он называл меня Весёленьким Перфектом. Далась же ему эта моя дурацкая присловка!..»
– Погодь!.. Секундушку!..
Обернулся Петро.
Ну да, так и есть. Привальнувшись спиной к какому-то киоску, трудно отпыхивался калгарский закройщик. На руке было сшитое на заказ Петрово пальто.
Не найдя в магазинах пальто по Петрову плечу, отец потащил позавчера Петра к знакомому русину закройщику. Закройщик поклялся, что к отъезду пошьёт…
Ватно поплёлся Петро назад.
– Что же ты мне, пан Петрик, такой развесёленький перфект устроил? – ещё не отдышавшись, пустился выговаривать закройщик. – Мы какой уговор держали? Вчера вечером приходите за обновкой. Так? – И сам себе отвеял: – Та-ак… Смотрю, не идут. Я с утреца к деду. А баба Любица мне и спой: «Деда нетоньки, хлопцы уже поехали». Я в аэропорт – Вы уже в воздухе! Не вручить выполненный заказ землячку, русскому клиенту… Это ж готовенький скандалище!.. Международный! Межконтинентальный! Хоть сядь да плачь, хоть стоя реви… Какое счастье, что тако совпало! У мя дела свои в Торонтах, билет на следующий за Вами рейс в кармане. Я с пальтишком в самолёт. Думаю, в Торонтах настигну тебя. Кой видишь, Сила, расчётушка выказался точный… Получить, Петро Ваныч, Ваше дорогое пальтишко! Носить на счастье по милым Карпатам…
С цветастой радостью закройщик поднял перед собой на складной вешалке пальто.
– Спасибствую, – растерянно пробормотал Петро. Широко выставил руку с «плащом». – Кидайте наповерх…
– Ка-ак это кидайте? – обиделся закройщик. – Я две ночи взаподрядку не спи, всё старался, старался… А ты – кидай! Ты уж надень, спомеряй… Не жмёт ли игде… Это ж вешша дорогая, не на день сооружалась… Да дай же и я на свою работу гляну-погляну со стороны…
Ну что ты тут поделаешь?
Петро карающе боднул привязчивого закройщика взглядом, осторожно опустил «плащ» в просторное кресло.
«Как бы кто не сел верхи, – потерянно подумал Петро, промокая платком холодный пот на лбу. – Сдался мне этот проклятущий пальтовый концертино…»
Петро надел пальто. Закройщик мягко одернул полы.
– А ей-бо, гарнушко сидит! – ликующе жестикулируя, отступался портной, без фальши любуясь своей работой. – Ей-ей! Ка-ак влитое!.. Ну-у, Пе-ет…
Полный чувства свято исполненного долга, закройщик шально вальнулся со всего роста в кресло и тут же взлетел, подброшенный страшным криком.
– Что такое? – уставился из-за стойки регистратор на закройщика. – Что там в плаще?
Закройщик откинул капюшон – остолбенело прошептал:
– Де-еду?!.. Вы-ы?
– Не-е… – потерянно пробормотал старик. – Батько Петра…
Регистратор – к креслу.
Что оставалось делать Петру? У него хватило ума повернуть всё в дурь и, переломив себя, он с беззаботной гулливостью раскинул полы, закрыл закройщика и отца от служивого:
– Мистер! Оцените! Это пальто – моё? Как оно на мне?
Служивый не мог предстать перед иностранцем невежливым, невоспитанным. Покуда он близко рассматривал пальто и с ужимками нахваливал, закройщик проворно расстегнул плащ, выпростал из него деда и горкой надвинул плащ на маленькое стариково тельце, шепнув:
– Знай спи! Крепша!
Регистратор подошёл к креслу, избоченился.
– Печально… Этот плащ был на руке у этого мистера, – летуче скосил глаза на Петра. – Этот мистер куда-то далеко летит… Теперь, похоже, мистер этот куда-то далеко не полетит. А уже в шаге был от… Кто под плащом был? Он? – бросил в старика растопыренную пятерню. – Контрабанда?!
– Извинить глыбоко, – сказал закройщик, – но Вы ищете трения с законом там, где их нет.
– То есть?
– Когда я вошёл, мистер действительно был почти у вашей стойки. Я окликнул, он пошёл ко мне. Я огляделся. Старик уже спал в кресле. Следувательно, в одно и то же время человек не мог висеть под плащом на руке у мистера Петронция и лежать в вашем кресле.
– Тогда почему Вы сели в это кресло?
– От счастья! Когда я увидел, как хороше сидит моё пальто на мистере, я забыл про всё на свете и не глядючи повалился в это кресло, чтоб посмотреть свою работу со стороны. А этот воробей, – показал на старика в кресле, – как спал тогда, так спить и зараз. Пушкой не разбаюкаешь!
– Все было именно так? Вы подтверждаете? Слово джентльмена?
– Хоть два! – щедро закивал закройщик.
– Уф-ф! – свободно вздохнул служивый. – Вы избавили и меня, и мистера от кучи неприятностей… Бр-р-р!.. Выяснения, проверки…
– Мда-а, – торопливо поддержал закройщик разговор. – Аэропорт кишмя кишит… Бог весть откуда собираются лишь бы увидеть, услышать соотечественника, поплакать. Ну не странно? Совсем чужие, а встречаются и расстаются как родные. Совсем мир сошёл с ума…
Иван, уже пройдя все контроли, робко напомнил о себе из сумрака тоннеля:
– Петро, ты чего там присох?
– Ня-янько, – тихонько позвал Петро.
– Петрик!
Со слезами обнялись они.
Запечалился закройщик. Без зова побежали слёзы по лицу…
Петро подвёл отца к закройщику, попросил:
– Не оставляйте его одного… Не оставляйте…
Старик трудно повернулся и лишь увидел, как медленно, словно бы нехотя, закрывалась за сыном дверь.
Простёр в дрожи хиловатые руки, бросился вдогонку было, но, сделав несколько шагов, упал: с ним случился обморок.
Вернулся в рассудок старик, слабо огляделся с кресла. Позвал:
– Сынки… Сынки… Сынки-и… Где мои сынки?..
Сглатывая слезу, закройщик показал ему в окно на бегущий по взлётной полосе самолёт.
Последняя лихая сила вынесла старика на поле, во весь дух понесла вслед за самолётом.
Заулюлюкала, загоготала вокзальная теснота, с сытым любопытством пустилась рассуждать, догонит ли, не догонит ли старик самолёт, вскочит или не вскочит в самолет на взлёте, или, гляди, изгоном погонит попереди самолёта…
Кто знает, насколько бы хватило в старике пару, если бы самолёт не взлетал… Именно в тот момент, когда самолёт оторвался от земли, старик, цепенея, раздавленно прохрипел:
– За-аче-е-ем?..
Со всего бегу упал он, поскользнувшись на шевелящейся муравьиной дорожке, что чёрно перехлестнула взлётную полосу, упал лицом в бетон, кинув руки вперёд.
Недоумение, обида вытвердились в лице.
Из остановившихся удивлённо распахнутых глаз выдавило, выкатило по слезине.
Слезины затихли в ресницах и не падали.
41
Ту воду, что утекла, мельник не пускает на мельницу.
Как себе постелешь, так и выспишься.
Иваново место было у окна.
По просьбе Петра они поменялись местами.
Стало как-то темней, когда Петро, пересев, привалился плотно к стенке, вмазался щекой в овал окна.
Поморщился Иван. Сиди из-за какой-то горы в полумраке, не видь живого света. Но уже минутой потом он думал иначе, думал про то, что сумрак в высшей степени удобен, выгодна эта вышка: ты из сумрака видишь всех, а тебя или не видят вовсе, или видят так мало, что вплотную и не обратят внимания, а люди мы маленькие, на свет выползать не любим, нам и ночь в самый раз наша красная пора…
Поглянулось Ивану в тени, что лилась с крутого Петрова плеча, лёг к душе уют сумрака. Откинувшись на спинку кресла, закрыл глаза.
Удобно думалось-дремалось в этом уютном сумраке.
«Итак, Иване, подобьём черту. Ты вертаешься домой. С чем ты вертаешься? Дочкам, хозяйке, половинке лучшей моей, – Иван кисло хекнул, удивившись нежданной мысли про жену, – всёжки не поскупился, отвалил нянечко по отрезу на весёленькие платья. Самому поднёс на долю, на счастье пальтишко. Кожаное, дорогое. Гм… Новая новинка на старую брюшинку…»
Давила духота.
Давила на земле, давила и в самолете, но Иван не отважился положить пальто в чемодан. Подприпёр, ужал, достало б места и на пальто. Да ужимать, утеснять всё в чемодане Иван не стал, не решаясь класть туда пальто.
Как-никак штуковина стоящая. А чемодан может и потеряться иль в случай не к тебе при получении может попасть. Всяко может повернуться. Так чего сидеть убиваться? Уж лучше пускай на коленках лежит. Так оно спокойней.
И с закрытыми глазами Иван безучастно наглаживал сложенное вдвое на коленях пальто, мрачнел: гостевой улов вышел-таки щербатый, негустой, ни мой бог.
«А ведь плыло, ломилось в руки такое… Да… Ре-екбус этот батечка… Крепенькой оре-е-ешек… В письмах жалился, пел лазаря: приезжайте, закроете мне, старому, глазоньки. Закрыли… На самих себя открыл, разодрал нам наши же глаза. Слетали за океан в зеркало посмотреться? Увидать свои настоящие портреты?
Вот так живёшь, живёшь, привыкнешь к себе, ко всем вокруг и думаешь весь свой век, что ты только такой, какой был, какой есть, а на самом деле кинь человека в беду ли, в роскошь ли, покажи что богатое, что он мог бы иметь, но не имеет, словом, поскреби мармазона, доподлинная, без подмесу натура наявится. Поскрёб меня батька своей фермой – выщелкнулся тайный?..»
Стало страшно. Холодная испарина выступила на лбу.
Думалось, вот войду в самолет, все страхи и отринутся, отлипнут, останутся на земле, останутся на той земле, что шла под крылом, но мысли о тайном вероломстве не покидали его, ворочались в нём тяжело, всё угрюмей.
Сжался Иван в комок, спрятался в гущу Петровой тени, уткнувшись лицом брату в бок, – в ушах стояло одно и то же: «Тайный… Тайный…»
Иван украдкой посмотрел на дремавшего за ним мужчину. Мужчина как-то нехотя откачнулся от своей кресельной спинки, с таинственным видом потянулся к Ивану, поманил его пальцем, давая понять, что хочет сказать что-то тайное. Радостно вальнулся Иван навстречу, готовно подставил ухо, и мужчина доверительно шепнул:
«Тайный!.. Тайный!..»
Испугался Иван, что услышит это и от другого кого ещё, и чтоб не слышать больше этого, накрылся отцовой пальтухой.
Однако и снова, куда он ни посмотри, в том самом месте просекалась одна и та же людская кучка и, наставив указательные пальцы на Ивана, будто собиралась пронзить его насквозь, спокойно и ясно твердила:
«Тайный!.. Тайный!..»
Иван глянул в салон – та же кучка, те же пальцы-копья, те же слова.
Глянул в потолок – та же кучка, те же пальцы-копья, те же слова.
Отвернулся к окну – и в заоконье та же кучка, те же пальцы-копья, те же слова.
Зажал лицо – сквозь ладони увидал икону.
Лик у Христа был отцов. Христос холодно улыбнулся, притихло промолвил: «Тайный!.. Тайный!..» – и утвердительно коротко кивнул: обжалованию не подлежит.
«Почему я какой-то тайный? Откуда они всё это взяли? Да кто ж я в самом деле?»
Иван воровато выполз на полглаза из-под воротника и омертвело, как мышь, вытаращился на Петра, желая знать, слышит ли Петро, что за несусветщину боронят все вокруг, что за труху собирают.
Петро угнетённо смотрел в заоконный чистый простор; был Петро далеко от этого салона, от этих голосов: был он там, внизу, на земле, где остались отец, милоданка, любимая Мария, и он прощался с ними, видя их в каждом деревце, в каждой горушке, в каждом озерке, в каждой травинке…
«Мария, Мария, – думал Петро, – расстались мы не по-людски, и грех тот на мне на одном. Совсем выпал я из лада… Ты как-то ласково грозилась: я тебя и в Белках найду. А что, если ты погрозилась да забыла? Подай-то Бог тебе доброй памяти. В Белки путь тебе не заказан… Скольких разностранцев свела судьба! А почему бы ей не свести и нас?.. Тукает ретивое, не так, ой не так надо бы мне с тобой… Теперь, узнав тебя, не смогу я больше против воли своей и дня пробыть со своей хозяйкой. Докуда ж блудильничать, докуда ж обманывать и себя, и её? Вернусь – и прямо на развод?..»
Безотрывно смотрел Петро в окно.
Это несколько уняло, угомонило Ивана.
Ни холеры не слышит Петро!
Высмелел Иван, подзажгло его приплавиться к Петру с разговором. Однако, убоявшись, что и тут обломятся те же два слова, отхотел говорить. Поудобней лишь подобрался в кресле, плотней надвинул пальто себе на лоб.
– Иль ты замёрз? – бегуче покосившись, сторонне спросил Петро, отлепляя взмокший ворот рубашки от шеи и гоня изо рта струю воздуха на грудь в рясном поту.
Смолчал Иван.
Петро больше не трогал расспросами.
Минуты через три Иван опять скрадчиво высунулся верхом из-под воротника, как-то изучающе вылупился на Петра.
На память притекли отцовы слова про то, что ни в нём, в отце, ни в нём, в Иване, нет того, что есть в Петре и что в такой цене у отца. Что бы то могло быть?
«А, колода, ничего в тебе такое и не живёт кроме широкого генерал-баса. Сотня трембит в одном голосище. Эким голосищем только воюшкой выть, оплакивать дурь твою. На весь свет будет слыхать… Эх, тюха-мантюха, да ты или крепенько упал на головку? Я б на твоём месте… Ну чего было не поджаниться на этой?.. Не беда, что тощей сосульки, зато какая жемчужина в золотой короне! Всё б в кулачину ужал… Два домяки, её и батьков, отламывались, крючок, тебе… магазин со всем ювелирным сором, «Мустанг», фермочка… Бога-атая корона… Отшагнуть от такой… Приехал Петром, а стал бы мильёнщиком… А то приехал Петром и поехал Петром с тремя волосёшками внаперекрест. Тоже… Хох, вьются, как колышки… Лупай теперь, кудрявчик, в окошко. Близёхонек локоток, да пусто на нём. Одно дарёное пальтишечко…»
«Петро, а что если и впрямь привалит тебе кой да какое наследишко?»
«Ты-то, тоскливая фрикаделька, больно уж не убивайся по этой части, – набряклым голосом ответил Петро. – Что получу – дотла твоё. Семейка твоя громадная. Тебе нужней…»
«А ты, кудряш, не думал… Через частое ситишко той инюрколлегии к тебе прорвутся лише капельные гроши. А на месте огрёб бы долларик в долларик… Эха, родителёк…»
«А почему – родителёк? У нас для нянька было одно имя: нянько».
«Было, – Иван увёртисто ушёл от прямого ответа. – А теперь довольно с него и родителя».
Петро уничтожающе кольнул Ивана горячим взглядом и снова громоздко поворотился к окну, больше не трогая Ивана словом.
«В интерес, а будь во мне проклятое то, что вот в Петре околачивается, переписал бы, переиграл бы наш водитель-родитель завещание на меня? Я б тогда натурой хапанул… Не сжимался бы, как сейчас, от одной мысли, что я скажу дома, зачем мы мотались в ту Канаду, не пухнул бы во мне какой-то неясный клейкий страх… Та же Снежанка, чадо сотворённое, при встрече вымокрит всего поцелуями, а там и:
«Дедуска, а дедуска! А засем ты ездил?»
Так и брякнуть – посмотреться в канадское зеркало?
«А сто, лазве у нас нету своего зелкала? Целая ж вон тлюма стоит!»
«Трюма твоя-то целая, да не видел я в ней так насквозь себя».
«А новый ты поналавился себе?»
«Как собаке палка…»
«А в гостинчик ты мне пливёз сто?»
«Двести привёз!»
«Ну-у пла-авда?»
«Тайного привёз». – Так и брякнуть?
«А сто это такое?»
«А чёрт его мать знает, что это такое!
Кто я? Одно точно знаю, никакой я не… Ни тайный, ни явный. Я никого не предавал. Ни мать. Ни Петра. Ни себя. Ни отца. Так какого ж лешака надо было этому старенику сбуровить про какого-то тайного?
Ошибаешься, батюня! Никаким твоим тайным это дело, – подолбил себя в грудь по медальке, холодно трижды звякнувшей, – не вешают! Я был, есть и буду какой был повсегда, и новым, пустобрёшка ты Снежанка, я не буду. К чему мне новиться? Меня и такого, слава Богу, знают в самой в Москве, знают и ценят, ценят и вешают, – щелчок по медали. – Это малое золотце мне подороже самого большого, да с дуринкой. Нам большого не надобно, мы и с малым дружны… Какое имеем, такого золота мы и стоим…»
Мысли путались, лились, скакали, будто шалый поток с косогора, пущенный грозовым ливнем.
«Петро, а как ты думаешь, тайным награды дают?»
«Аж два раза! Один раз шито, а другой раз крыто. Хэх!.. Ты что, рухнулся умком?»
«Ха! И я так думаю…»
«Ты про каких тайных печёшься?»
«Если б ещё я сам знал… – отмахнулся Иван. – Спроси что полегче… Скажи… А вот поездка наша… Это что, испытание Канадой или никакого испытания и не было? Как думаешь, выдержали мы эту испытанку?»
«Расфилософствовался… С канадского перегрева?.. Помолчи с глупостями. Дай посмотреть на эту землю, может, в последний раз… Она ж нам не чужая…»
«Не чужая, так и не своя», – несколько успокаиваясь, смазанным, неясным голосом пробормотал Иван и… проснулся.
Было нестерпимо душно.
Холодная испарина блестела у него на лбу, а он полуобрадованно подумал:
«А счастье, что всё это только сон… Наснится же какой-то волчьей, гниючей жути – на трёх тракторах не свезёшь…».
Подарок старуха Анна не приняла.
– Я ждала-выглядала… Думала, Вы мне моего Иваночка вернёте. А Вы… Невжель всего-то комком чёрного тряпья откупился? Пошей платье и не носи! Видал, надень только туда… Да невжель только там суждено совстретиться нам? Да невжель те его слова на скале[82], размытые слезьми моими, живут на посмех?.. Не верю… Рвался он с Вами вернуться – Вы не взяли! Не всхотели!
Как было ей объяснить, что дорога домой, отцова дорога домой оказалась трудней и длинней дороги из дома?
Этого братья объяснить не могли.
В который раз терпеливый Петро подступался передать свои вербовальные толки с отцом, в который раз Иван подхватывался расписать Петрову контрабандистскую выходку – ответом были два тихих горьких слова:
– Не верю…
Братья потерянно отвели глаза.
Старуха запричитала, не видя, не слыша их за слезами:
– Иваночко, Иваночко… Кулько[83] ж мне ещё куликати одной?.. Доки ж тебе блукати по чужине? Чужина немила, чужина без огня печёт… Не за годами Петровки… Наш день… Мы с тобой посвальбовали на Петровки. На Петровки и у Марички свадьба. Сойдутся четыре сотни душ… И не будет лише тебя одного…
– Как это не будет? – обрадовавшись нежданной своей мысли, вкричал Петро в материны причитания, так что Анна, замолчав, выжидательно подняла тяжёлые глаза на Петра. – Как это не будет? – повторил Петро. – Затребуем телефоном! Нехай вместе с сопроводительницей Марией летит к Маричке на свадьбу. Да не в качестве почётного гостя. В качестве жениха!
– Тю-у-у на тэбэ! – утомительно махнула мать рукой. – Пустое вяжешь.
– Именно жениха! Это ж будет Ваша золота свадьба! Нехай капелюшку припоздали, зато аж две свадьбы разом отскачем. Так отгуляем, все колышки в плетне, все листики в саду, все звёздушки на небе пьяные будут!
Петро снял трубку (у них с Иваном параллельный телефон), по срочному заказал отца на 41-2– 82.
Но от телефона Петра отжал, оттёр Иван.
– Ты чего? – как-то уступчиво возразил Петро, отдавая трубку. – Может, у нянька Мария. Я б и Марию сопригласил сюда…
– Ты что? Думкай! Совсем не дружишь со своей головой!? Разбегаешься-таки затесаться в четвёртые? После собаки?
– Ты про что?
– Про что и ты. Надумал-таки поджениться?
– Ты-то чего так печалишься обо мне?
– Не топтал бы в позор нашу фамилию… Иль не знаешь эти канадские штукерии? В Канаде женщин меньше, чем мужиков. Потому у них в семье какая иерархия? На первом месте дети. На втором – жена. На третьем – собака жены. А уж на четвёртое пожалуйте, господин муженёк. Четвёртое!
– А-а! Вон оно об чём твои горячие печали! Так ты сильно не горюй. В любви ж начальников не бывает. У Марьюшки нет собаки. И я на одну ступеньку перескакну выше. А третье место призовое. Я на третье согласен…
– Ну тогда…
– Сойдёмся мы, не сойдёмся… Кто сейчас скажет? А мне просто хочется её повидать… Мне подсоветоваться надо б и с няньком…
– А-а! Советуйся не советуйся… А раз твоя благоверка не отстёгивает тебе развода, делуха твоя прокислая.
Иван судорожно хохотнул. Помолчал.
И вдруг оправдательно, затравленно забубнил:
– Это он там, батечка, уже не помнит, кто у него из сынов старший. Но мы-то туй знаем, кто старший, кто голова, а потому – между прочим, я ещё отец невесты! – говорить с ним должен именно я. Мы наши свычаи-обычаи не ломаем… Мы чтим свои обычаи и ему советовали б чтить. А то он там совсем… Даже простился со мной в аэропорту как-то впрохладь…
Воистину «язык у человека на то, чтобы скрывать свои мысли».
Оттого так путано, так длинно нудил Иван про обычаи, про старшинство, что боялся допустить к телефону кого другого. Даже Петра.
А ну бухни батька про тайного кому второму? Что тогда?
И потом…
Чини воз загодя, покуда колёса не разбежались…
Наверняка все свои сбегутся на разговор, тесно облепят, не продохнуть… А ну выверни, вывороти непотребное что старик – почуют! Неминуче почуют!
И всполошённый, вошедший в панику Иван, жалея, что в последнюю зиму протянул к себе в дом телефон, вымел, выставил из комнаты всех до единого.
На своём пепелище и старый петух всем генерал!
Для верности намахнул крючок на дверь – дали Калгари.
Прикрывая шалашиком ладони трубку, сбавленным, уполовиненным голосом быстро спросил алёкавшую бабу Любицу:
– Баба Любица! Что там сейчас у вас?
– А что у нас… Ночь… Как и тогди, как ты говорил от нас с Белками. Дождь… Холод…Прямушко зима зимняя. Ветер крышу рвёт… Климат у нас поганючий. Разбойничает антициклон. Нагоняет этот антициклон южный наш соседушка. Что этот соседушка нагонит, то и терпи. Сидим на антициклоне, как на пороховой бочке… Как Вы там долетели?
– Из нормы не выпали, баб Люб. Знаете… – Иван замялся, в тревоге обдумывая, как позвать отца. – Знаете, на Петровки отдаю я младшенькую… Я Вам про эту пешую фасолю без краю лалакал… На Петровки отмечают в Белках и день села… Летели б к нам на свадьбу с няньком. Сам он там далече?
– Далече, сынку, далече… Спокинул нас нянько наш… Ушёл до земли спати…
– Ка-ак?! – с подстоном вырвалось у Ивана. – Где случилось это, мамко?
– В Торонто… На взлётной полосоньке… С его ли сердцем было догонять самолёт с сыновцами?
В старом голосе, тихом, усталом, был упрёк и Ивану, и Петру. Она удушенно, обездоленно заплакала.
– Какое горе горькое придавило нас… – пусто, сторонне проговорил Иван, проговорил без боли, почти безразлично.
Всё же стыд от слёз в трубке царапнул его, и он с холодной рассудочностью подумал, нелишне бы и ему вподхват рыдануть, под момент надо показать бабе Любице, что горе-горюшко у неё с ним одно. Он пробовал заплакать, делал над собой усилие и – не мог.
Напротив. Вместо слёз лезла на лицо обмяклая, мятая, услужливая улыбчонка, мысли сносило на то, что вот наконец-то не стало единственного свидетеля его теперь навсегда уже скрытого падения. Всё, всё кошмарное за чертой, позади, больше нечего жаться, ни один пёс больше не посмеет ляпнуть ему непотребщину.
В самом деле…
Улетал туда человек человеком, при награде. Награда его при нём (бросил липкий взгляд на пиджак, медалью светился со стенной вешалки); не подмарана чистая репутация, полное уважение всех к нему при нём. И на миг здесь, в Белках, никуда не отлучалось…
Лишь один он знает проклятое то. Так он уж как-нибудь да не выдаст себя. Сбережёт. Разве, может, когда ненароком во сне откроет рот?
«Не-ет… Оттеперь надобно спать одному, обязательно только одному. Один чтоб в комнате… Ни тени чтоб чужой!.. Постой… И что ж теперь? Довеку страх огородит мои дни? А-а, страх… Не высовывай язычок на себя и будь спокоен!»
Поднялся Иван духом, высмелел, гаркнул в трубку от полноты чувств:
– Я спокоен уже сейчас!
– Насчёт чего ты, сынок, спокойный? – спросила сквозь слёзы баба Любица.
– Вам этого не постигнуть, – с нажимом ответил он.
Больше не слушая, что говорила старуха, и, опустив трубку к коленке, он с любопытством загорелся выяснить, что бы он получил, пристынь он у отца.
– Ба-аб, – Иван снова поднёс трубку к уху, – а что там за ферма была у нянька?
– Не ферма… Одно званье, сыно. Не своя… Помирал один, так отказал… Они приятелевали. Разом приехали, разом побирались по миру. Товаришок так и не оженився.
Перед смерточкой просил нянька: «Хочу, чтоб только русин… карпатец закрыл мне глазыньки. Сделай, будь ласка, а я тебе всё своё отпишу». Исполнил нянько, как приятель просил…
– И получил что?
– Бедную хатку под городом. Заколотил, зашил досками окна. А коров – не дай Господь, попортятся! – за так отдал тамошнему соседцу приятеля.
– Коров, коров сколько?
– Не то три, не то четыре…
– Бож-жечко… м-мой!.. – сражённо прохрипел Иван, роняя трубку.
Трубка свисла на туго крученном чёрном шнуре со стола.
– Иваша… Сыночок… Иванко… – бесприютно, пропаще звала баба Любица из трубки, что маятно покачивалась.
Не слыша её, заметался Иван по комнате, потерянно рассуждая сам с собой:
«Как я м-мог? Ка-ак?.. Неужели нянько отошёл с последней мыслью про меня, что на три рогатины я чуть было не сменял всё? Ах, нянько, нянько… Да не сбирался я ничегошеньки менять! Да и что на что менять? Горшок на глину? Да у меня у самого дом полная хрустальная ваза… У самого корова, тёлка, бычок, овцы, гуси… У самого ферма!.. Тогда, спросите, на что было затевать тот распроклятый кладбищенский балаганко? Простите, нянько, виноват. То была всего лишь игра… Всхотелось, подожгло глянуть, а как оно поведёт себя батенько, узнай, что его сын ладится стать невозвратцем. Добре подсыпали Вы мне ремня, до смерти останутся рубцы на сердце… Ка-ак славно сделали! Я обрадовался за Вас… И вперекор себе и дальше понёс чепуху, втягиваясь всё глубже в игру, желая слышать Ваши ответы, залепетал про то, что дети могут жить где ни вздумай, – с отцом ли, с матерью ли. Это их воля, их право. Выбирай! И на мои «доводы» Вы, приговаривая сквозь слёзы: «Сыну надобно повсегда жити тамочки, где мати, где Родина…» – жгучим ремнём крепонько вбивали в меня убедительные советы. Я был рад за Вас… И мне жалко было Вас в слезах… Одначе не мог я сознаться, что играю с Вами и продолжал гнуть комедию… вплоть до сегодня… Не хватило во мне духу остановиться, сказать всю правду. А правда та… Кто, может, невольно в самом начале нашего гостеванья подал знак к этой игре? Вы. А я весь в Вас, я Ваша кровь – я и подхвати… В этом вся моя вина перед Вами. Простите, нянечко, и спасибо за урок, хотя и ненужный. Вы «уберегли» меня от страшного, гнилого шага, что я и не собирался делать. Зато я увидел, какой Вы настоящий русинец. Это только больная тень Ваша была там, а весь Вы здесь… Зачем мне было тиранить, казнить Вас своей проверяльщиной? Каюсь, я и себя вымучил, загнал этой дурьей игрой самого себя в чёрт те какие дебри… Что только мне ни мерещилось… Какие только страхи не жгли, не били меня… Кажется, только сейчас я начинаю приходить в себя, начинаю понемножку понимать и Вас, и себя… Я снова дома… И как горько, – Иван покаянно обошёл глазами стены, раздольный заоконный сад в рясных завязях плодов, – и как горько, что всего этого Вы никогда уже не увидите… нянечко, родненький нянечко… А… Знайте, знайте, милая мамко Любица, какой чудный, какой ясный был человек наш нянечко-о!..»
Рассвобождённые слёзы тяжело закрыли Ивану глаза.
Подлетел к столу, схватил трубку – уже разъединили!
Забарабанил по рычажкам, немедля требуя соединить опять с Калгари.
Тут тревожно постучали в дверь.
Не выпуская из руки трубку, он ватно подошёл к двери.
Услышал насторожённое дыхание. Наверняка все дома. Соседи ещё набежали.
В нём начал пухнуть сосущий, какой-то давящий, иезуитский ужас.
– Алё… Алё… Алё… – изношенным голосом звала телефонистка.
Иван не отвечал ей, не убирая загнанного взгляда с крючка.
«Откинуть крючок? В самом деле откинуть? А что я, иван-покиван[84], скажу им всем? Что?»
В центре Европы Роман о странностях любви
Без хлеба и любовь умирает. С золотом, как с огнем: тепло и страшно.
Русинские пословицы1
Первый звон – чертям разгон.
Цвёл июль, макушка лета.
После долгих, уже ненужных, пустых дождей наконец-то вкоренилась ясная погода.
В солнечное утро звено Марички вышло на подкормку кукурузы, что доставала уже до пояса.
Маричка сама подвезла на тракторе нитрофоски, установила на обоих культиваторах норму высева, заправила банки удобрением. Махнула хлопцам:
– Пошёл!
Только стронулись трактора – подлетает на мотоцикле Иван, молодой рослый заведующий отделением. Крупное лицо печально-виноватое.
– Маричка, я с горе-новостями, – жалуется. – Жди гостей.
– Каких? – насторожилась Маричка.
Иван скосил глаза на соседнее с её участком пастбище.
На пастбище бугрились здоровенные туши труб. Строители газопровода в аккурат подобрались уже к самой к Маричкиной кукурузе.
Со вздохом добавил:
– С минуту на минуту должно нагрянуть пускай и небольшое, а всё ж начальство. Покажет, где именно пойдёт тут трасса «Дружбы»[85].
У Марички вырвалось больное:
– Иваночко! Ну да что ж это будет?! Столько положили труда и – губи?
– А что, Маричка, поделаешь, раз надо? – Заслышал машину, осёкся, кинул быстрый взгляд назад. – Вот! Полюбуйся!
Из-за труб вывернулся «бобик».
Не сминая скорости, стремительно катится к межине поля.
– Про него речь, – мрачнеет Иван, – а он навстречь… Мда-а, едрёна корень. Вот сейчас ткнёт пальчиком и хошь не хошь, а режь на корм эвона какой коридорищекукурузы. Готовь этим доблестным газовичкам фронток работ!
– Э-эй!.. Э-эй!.. Да куда-а!? – в отчаянье замахала руками Маричка, видя, как колёса, миновав межину, вдавились в мягкое тело её земли.
Ударив передком и наклонив от себя крайние кукурузи– ны, машина стала. Откачнулась назад.
Тяжело охнув, хлопнула дверца.
К Маричке с Иваном нехотя, как-то лениво, с чужой тягостной улыбкой на широком лице двинулся громоздкий, медвежеватый чернявый парубок.
– Это и есть ваше начальство? – с ядком хохотнула Маричка.
Иван зашептал:
– Срочно приказываю. Меняй гнев на милость! Начальство оченно не любит непочтительности.
И, смеясь глазами, с деланным подчёркнутым прилежа– нием потянул руки по швам, выпячивая простор груди.
– Отставить, – без аппетита качнул рукой дюжий парубок и без желания, словно по принуждению, поручкался с Иваном. Они были уже знакомы.
– А вот наш Бог по кукурузе, – кивнул Иван на Маричку.
Парубок понёс и Маричке массивную руку:
– Богдан Клавдиевич Гойдаша.
– Мария.
– А дальше?
– Что дальше?
– По отчеству?
– Не обязательно! – зардевшись, смято бросила.
– Ну а всё-таки?
Открытая отчуждённость не во нрав легла гостю.
Гость явно уязвлён. Оттого, может, и опрометчиво настойчив.
Разворотистый Иван, как свою руку знающий кремнёвый Маричкин характер, канючит с улыбкой:
– Егоровна! Да сознайся уж, как там тебя по батьке, раз ему так желается.
Все рассмеялись.
– Ну что, – говорит Богдан, – прогуляемся… Покажу, где у вас пройдёт наша трасса.
И веселун Богдан, досмеиваясь, грузно зашагал немно– го впереди. Под ногами у него хрустко ломались, падали с корня тёмно-зелёные сочные, раскормленные стебли.
Почернело всё в глазах у Марички.
«Я каждой кукурузинке по сотне раз кланялась. А он прёт, яко танк!»
Вспомнилось, какая дураха была весна.
Из-за холодов на целую неделю посеяли после срока. Схватилась корка. Не подсоби зёрнам – не пробьются к свету. Пробороновали – закупали дожди.
«Блюдца» сплошь и рядом затянули делянку.
Кукуруза в «блюдцах» желтела, вымокала.
Под гибельным дождём девчата мотыгами пробивали канавки, гнали из «блюдец» воду, подсеивали вручную…
Так тяжко далась эта кукуруза, а он, как гусарский конь, чалит не глядя себе под ноги, крушит всё, выворачивает с корнем. Давит растеньица – будто на душу тебе наступает!
– Что ж вы наступаете? – не стерпела Маричка.
– А летать, увы, нас не научили, – прижав руку к груди, с поклоном ответил Богдан. – И потом, всё равно ж брить! Что тут такого?
– Чужие труды топчете!
– Заплатил и топчу.
– Будто из своего кармана!
– Из своего. Из газового. Отставим этот пустой спор Давайте к делу. Мы отчекрыжим у вас ленту в двадцать четыре метра.
– И чего языком вертеть, как вор мельничным колесом? – вскипела Маричка. – Норма ж… В правлении подымался разговор… Ширина отчуждаемой полосы всего-то две-над-цать!
– Нужно двадцать четыре, – монотонно повторил Богдан, всем своим видом давая понять, что эта торговля начинает его утомлять. – Техника тяжелющая. Гигантская. Чтоб не мотаться для разворота в конец поля, будем разворачивать– ся на месте.
Трудно себя удерживая, Маричка медленно из стороны в сторону пронесла отставленный блёсткий от мозолей плоский палец перед самым носом у Богдана:
– И чего гнать порожняк!? Боюсь, любимушка, не будете вы разворачиваться на месте. Или вы думаете, что я упала на голову и глупей резинового сапога? Заплатили за двенадцать, а дай-подай им все двадцать четыре? Как же! А вы когда-нибудь слыхали про уважительное отношение к каждому клочику земли?
– Допустим. Даже читал в газетах. И что?
– А то, что делаете, как не себе. Давайте спокойно. – Маричка мирно свела на груди ладошки. – Что вы замышляете тут колобобить на первых порах?
Богдан повёл плечом.
– Монтировать трубу.
– Как это выглядит?
– По-моему, красиво. Завезём на «Ураганах» двадцатипя– тиметровые трубы и станем сваривать в одну нитку… Уч– тите, какой техникой работаем. Не дадите, сколько просим, – колёсами подавим больше!
– Извините! – Маричка щитком выбросила руку. – Что выделим, тем и обойдётесь. Провезти трубы, сварить… Хватит, я считаю, и восьми метров.
– Помилуйте, – устало посмехнулся Богдан. – Вам ли знать, сколько нам хватит? И потом… За двенадцать уже за-пла-че-но!
– Тем хуже для вас! Вот здраво рассудить… Сразу тран– шею рыть свою не кинетесь. А покуда раскачаетесь, у нас кукурузушка поспеет. Уберём, тогда и копайтесь на здоровье!
«У-у! Такая и у козла молока выпросит!» – лениво поду– мал Богдан и, вымолчав с минуту, заговорил сердито:
– Ну да сколько же можно торговаться? Вон трубы на пастбище ещё везут!
– А везите хоть сюда! Восемь метров очищу. А попробуйте мне залезть дальше!..
От решительности, с какой говорила Маричка, гость (каков гость, таков и калач) несколько растерялся и ничего не нашёл лучшего – сел да укатил.
Через короткие часы девчата выстригли серпами отме– рянную Маричкой полосу.
Будто сняли с себя ленту живого тела.
2
Коли по вершинам хочешь ходить, научись сперва ползать.
Вечером не горелось сразу забиваться в душные вагонушки, что стояли на ископыченном пустыре за селом, и Богдан, наскоро перекусив в вагончике-столовой, шатнулся в прогулку по Чистому Истоку.
У Богдана была своя, выверенная годами, мода знакомиться с новыми сёлами, через которые тянул газ.
Богдан надевал галстук, тирольку шляпу, споласкивал рот одеколоном и, приосанившись, торжественно выступал в боевой культпоход. Он часами неприкаянно бродил по улицам, ищуще пялился поверх плетней с перевёрнутыми банками-глечиками, пялился во все дворы подряд и, наскочив где на канашку с соответствующими его запросам радостными достоинствами, деловито поправлял угол белого платочка, видимого из кармана на груди, котовато, с небрежно-льстивым шиком приподымал шляпу, коротко кланялся, здороваясь.
Обычно этот променад обрывался в том дворе, где Бог– дану удавалось-таки завязнуть в разговоре.
Но сегодня…
Как-то неуверенно мурлыча про то, что у него и в Том– ске есть, и в Омске есть любимая, Богдан продул с кило– метрище, и ни в одном дворе не наткнулся ни на одну мало-мальски приличную заводилочку.
Катастрофически быстро темнело.
– Ха тире ха! – устало присмехнулся Богдан. – Даже никакого намёка сегодня на улов. Жирный прочерк!
Он огляделся. Подумал:
«Что ж я зря бегал? Хоть воды напьюсь!», – и свернул в бедный двор.
Калитка в ветхом, скособоченном плетне висела лишь на одной ржавой петле.
Навстречу из ветхой хатки вышла высушенная боль– шими годами-хлопотами сухонькая маленькая старушка. Узнав, что Богдан с газа, обморочно всплеснула ручонками.
– Господи – и!.. Да далась тебе та вода! С газа сытый не будешь! Гляди, голодом там сидите!? А ну, хлопчак, заходь ко мне на свежий борщ!
И даже набежала стопочка сливовицы умочить горло.
Богдан завёл парадно-пустой разговор «за жизнь».
Старухе нравился «хороший разговор». Богдану нравился хороший борщ. Каждый получал своё.
– Ешь, ешь, – ласково приговаривала старушка, ставя Богдану вторую миску борща. Богдан уборонил пока лишь половину первой миски.
– Вы мне не очень-то наставляйте. А то у меня на домашнее аппетит… Не жёвано летит!
– И слава Богу! – светится старушица, робко пряча руки под фартук и открыто любуясь волчьим аппетитом парня. – Борщ домашний. Не то шо у вас. Муха по потолку гуляет под ручку с тараканом, а в борщу бачишь!
Находится ещё миска вареников.
Богдан и вареникам выкраивает место.
Пока всё подмёл, аж упарился.
Повело кота на сало.
«Хороша бабуся, да эх нужна Богдашке Дуся!» – вспоминает, за чем сунулся в село.
Со старухой весело прощается за руку. Долго держит её сухонькую ручку в своей, держит на весу, как бы взвешивает.
– Ты ж, парубец, заходь когда… – в грусти роняет старушка. – Как по дому соскучишься.
– Нам соскучиться, бабушка, ничего не стоит… Ну, спасибо этому дому, пойдём к другому.
Богдан ещё какое-то время кружит по селу коршуном, высматривает в мягких, нежных сумерках свою удачу.
«Неужели весь первый вечер в Чистом куковать по-чистому? Без обжимашки? Неужели припухать на диете ангела? Пох-хоже… А есть же гор-р-рячее… ну гор-р-р-рячущее предложение! Да куда спрос запропастился? А ты говоришь – прогуляться!»
Богдан замечает, что уже совсем темно.
А какие по ночам знакомства? К кому подкатишься?
Не отваживаясь осложнять и без того натянутые отношения с дворнягами, сумрачно сверкавшими на него злыми глазами из-под калиток, Богдан даёт отставку своим угарным поискам.
– Киношки не будет! – вяло взяв под козырёк, с чувством докладывает седому бобику, лежал на возвышенке у вереи[86].
Пёс и ухом не повёл.
Богдан обиженно присвистнул:
– Даже барбос на меня ноль вниманья. А ты говоришь – прогуляться!
Заталкивая, утапливая в карманчике угол белого платочка, Богдан тоскливо озирается. Натыкается посоловелым взглядом на круг высоких белых огней, что подымались невдалеке над хатами в садах, и шатнулся к огням.
Он набрёл на ярко освещённую площадь.
Посреди площади томко благоухала круглая клумба. Цвели белые лилии, гвоздики, флоксы, хризантемы, левкои.
Близко к цветам подступали мраморные торжественные колонны дворца культуры.
Слышалось пение.
– Извините, – приподнял Богдан шляпу, обращаясь к цветам на клумбе. – Молчуны вы красивые. Но скучно с вами. Подамся-ка я к поющим Мальвам да Лилиям.
Его поразило просторное и богатое фойе с картинами сельчан из крестьянской жизни.
«Неужели в этой большой хате не сыщется хоть на один вечерок какая-нибудь завалящая медовушка с розовыми ямками на щеках и с фигуристым банкоматом? Всё б какое-никакое разовое приключение».
Крадучись, он на коготках боком втёрся в слегка приоткрытую великанистую дверь, что вела в пустой неохватный тёмный зал, тихо примостился в последнем ряду на краешек крайнего стула, как воробейка на колышке в плетне.
Из темноты ему удобно было наблюдать за спевкой на сцене.
Богдан сразу увидал Маричку, такую пригожую, что грех смотреть на неё сердитыми глазами, и подивился, подивился тому, что эта, по его мнению, слишком строгая дивчина ещё и поёт!
И в то же время чем дольше слушал, всё чаще ловил себя на том, что изо всех голосов выбирал именно её голос.
– Слышь, – вполголоса окликнул подсевшего Ивана, – а что за пропащая сила… пожилой такой… рядом с Марикой?
Иван насупился. Процедил сквозь зубы:
– Пристегни своё ботало… Выбирай выражения… Да знаешь ли ты, что этот старик – Верховный депутат от самой от Москвы?! Дважды Герой Труда! На Покрова памятник ему в Чистом открывают!
Богдан захлопал лохматыми белёсыми ресницами.
– То-то! – победно напирал Иван. – Это наш Дмитрий Дмитриевич Вернигора! Кукурузных дел орёл! Вовсе не случай, что Митрич и Маричка стоят рядом. Не только на сцене – в работе всегда рядом. Они звеньевые, в соседях их поля. Митрич – Маричкин наставник, первый помощник…
Заслышав знакомую мелодию «Вечера над Боржавою»[87], Иван выставил палец:
– О! Давай помолчим. Давай лучше послушаем про нашу Верховину.
– Який тихий вечгр ниш наближаетъся, Лишь Боржаеа на бистрит не егаеаетъся Та пташки mi до безтями десъ мгж вгтами Розсипаютъся тенями, наче кетами. Дана, дана, дана, дай… Розквгтай, наш рiдный край. Мы милуемся з тобою з высоты скалы, Як берiзочкы гурьбою схылом ген пiшлы IenpoMiHHi цвiтом бтым розсыпаютъся, Нiбы нам з тобою, мылый, посмiхаютъся. А внызу красуня рiчка загскрылася, Моебы сонця свiтла стрiчка там розлылася… Череднык корiв iз гаю до села веде 1 в трембiту свою грае, аж луна iде! ВШер нiжно по облыччю ледъ лоскочетъся, Про красу спiватъ велычну серцю хочетъся. Впалы mini у долыну – вечорiетъся… Як чудово в цю хвылыну з любым мрiетъся[88]!Песня-слеза цветком легла Богдану на душу.
Обмяклый, благодарный его взгляд медленно заскользил по лицам на сцене.
Богдан как-то привык, что в самодеятельности обычно одна зелёная холостёжь. А что ж тут, в» Кукурузоводе», за сборная солянка? Звеньевая и школьный учитель, пенсионерка и старшеклассница, главный агроном и тракторист… Что это за люди?
Мягко тронул Ивана за локоть и, приложив палец к губам, напомнил про Вернигору и Маричку. Иван согласно кивнул, помолчал, собираясь с мыслями, и, минуту спустя, Богдан разом слушал и новую песню, ясно зачем-то выделяя из всех голосов чистый Маричкин голос, уже который не мог спутать ни с каким другим, слушал и тихий рассказ Ивана.
– Вот Дмитрий Дмитриевич… Шестьдесят четыре. А поёт! А житуху какую проскочил?
В пору его молодости горько шутили в Чистом бедаки: «Захочешь в обед отдохнуть, ложись на своём поле посерединке, да не забудь ноги подвернуть: растянешься – панскую землю примнёшь».
Было время, называли эти места «краем, забытым Богом», называли «Африкой в центре Европы». Неподалеку от Чистого находится географический центр Европы.
* * *
За куском хлеба нужда снимала людей в чужие земли. Редко кто возвращался. Раз сорвался гореносец – будто ка– мень в воду.
Батрачили Маричкины родители.
Батрачил сам Вернигора.
Выращенный самими и собранный с арендованного уча– стка урожай той же кукурузы или картошки ссыпали в две кучки.
Первым выбирал свою долю хозяин.
Вернигоры на плечах вприбежку перетаскивали ему с поля его долю, только после могли забрать свою.
За работой и дети не знали детства.
Сначала Дмитро – мальчик пас свиней. Потом его резко повысили в должности. Стал пасти коров.
В семнадцать качнулся искать хлеба на стороне. Копал в карьере глину для кирпичного завода близ Праги. Тянул железную дорогу в Словакии. Водил коней в борозде в Моравии… Перебивался с хлеба на воду.
24 октября 1944 года Чистый Исток освободила совет– ская армия. Весь верховинский край вошёл в Украину.
Советская палица быстро согнала всех чистян в колхоз «За нове життя».
В заявлении под диктовку Вернигора писал:
«Я, Вернигора Дмитрий Дмитриевич, крестьянин села Чистый Исток, № 519, понял, что наилучшая жизнь для меня будет в коллективном хозяйстве. Добровольно прошу принять меня в коллективное хозяйство. Все обязанности буду выполнять так, как велит устав сельскохозяйственной артели. 26.1.48 г. Имущество: – (прочерк). Состав семьи: жена Иолана (взял бедной фамилии), один ребёнок шести лет».
Не напиши Вернигора это заявление, где б он был? И что с ним было бы?
Не верили крестьяне, что из колхоза будет толк.
Богатики заставляли детей ложиться под трактор, лишь бы не допустить трактор в поле. Мол, «трактор пашет глубоко и выпахивает мертвицу, а такая земля никогда родить не будет».
Но первый колхозный урожай был выше панского.
Паны и тут нашлись:
– Всё равно их Бог забыл. Это чёрт им дал!
С первой колхозной поры Вернигора ведёт звено.
Как-то нагрянул к Вернигоре Рокуэлл Кент[89].
Обмирая от восторга, целый день протолокся в звене на севе. И сказал:
– Роден говорил, что человек может быть счастливым лишь тогда, когда станет художником в душе. Вы стали таким человеком. Вы безгранично любите свою работу, землю. Я провёл тут самый радостный день в своей жизни.
Сколько помнила себя Маричка, столько и знала Вернигору.
Странного здесь ничего.
Ее отец, Егор Александрович, и Дмитрий Дмитриевич были неразлучные, как лист с травой, друзья. Дружили домами. Звеньевые. И уж как сошлись, так без разговоров про кукурузу не разойдутся.
«Знаете ли вы землю, где ветер пашет, а дождь сеет, где вместо колоса пшеницы растут высокие ели?»
Да, это Верховина. Русиния.
Постные, глинистые, каменистые склоны тут не щедры…
Однажды обходил Вернигора свой участок у Боржавы. Увидал толстый слой сизоватого ила.
«Ого, сколь награбила речушка добра у гор! Где лист, где палое дерево – отличное удобрение, чего так нам недостаёт. Как же раньше я не углядел этого ила?»
Стал мешать ил с навозом. Заметно подросли урожаи.
По урожаю Вернигора обходил Егора Александровича. Неудачу Егор Александрович переживал мучительно.
Раз он сказал:
– Одна голова – это одна, а две головы уже люди. Давай посоветуемся.
– О чем?
– Накупил до лешего книжек… Живое живёт и думает… Без знания и лаптя не сплетёшь… Так же… Кукурузоньку по книжкам надобно выхаживать.
– А у меня, думаешь, книжек мень твоего? Книжки… Не суй, Егор, ногу в чужой черевик. Разве кто писал, бывал у нас в Чистом? Разве знает наши земли? Не про наши места книжки, вот где большой им минус. Надобно самим повязать науку с практикой нашей да наших стариков…
– Ну-ну-ну! – перебил Егор Александрович. – Лучше и не заикайся про дедов. Сеяли, вишь, тоже по «науке». Вол мог спокойно лечь меж рядков и не прикоснуться ни к одному стебельку. Зато и зерна брали втрое меньше против нас.
– Да-а… За густоту не похвалишь. Земли не было. А сеяли так редко. Одначе не всё ж худо, было что-сь и доброе. Взять это доброе, добавить наше с тобой нонешнее, проверить на просторной ниве да и скласть самим книжку. Чтоб молодые не ощупкой, как мы с тобой, шли к добрячим урожаям.
– Мечтать ты, Дмитро, горазд. А впрочем… Ты подмоложе. Хватит твоих годков и на книжку. А я буду дышать уж тем, что растёт вот у меня Марийка… Продолжательница…
Спевка начала расходиться.
Нехотя поднялся и Богдан.
– Занимательный, очень занимательный у вас народко, – тряхнул за плечо Ивана. – Жаль, что всего этого не слыхали мои архаровцы. Не то б они… Ну да это исправимо. Я думаю, надо бы им устроить встречу с жителями Чистого. Нам нелишне знать друг друга. Наверняка соберётся весь наличный состав чистых невест. Я обратил внимание, девчата у вас смотрибельные. Есть на чём глазу разговеться. Познакомимся, общнёмся…
Богдан поднёс Ивану руку.
– Ну, держи пять. До завтра.
– Уже уходишь?
Богдан беспомощно раскинул свои грабельки.
– Уходит она… Надеюсь, ты не возражаешь как непосредственное начальство, если я провожу Марику?
– Высочайше соизволяю! – с коротким поклоном насмешливо ответил Иван.
– Ты мне почти ничего о ней не рассказал… Тогда рискну всё узнать от неё самой. Что поделаешь, я до гибели любопытный…
Иван резко, с чужеватинкой глянул Богдану прямо в глаза.
– Слушай, печколаз[90], – голос у Ивана похолодел, – один совет на дорожку. Лихое что в голове держишь – не ходи. Лучше побереги себя. Пришьёт она тебе цветок[91].
– И хорошо! Нарядней буду.
* * *
Ночь была ясная.
В чёрной тени колонны Богдан выждал, покуда Маричка не отдалилась на приличное расстояние и только потом стриганул топтать её следы.
Крался медленно, боялся ненароком нагнать.
«Далеко ли она живёт? А вдруг она уже у своего дома?»
Панически набавлял шагу – через минуту вкопанно останавливался.
«Ну ладно, нагоню. Дальше что? Скажу что? Здрасьте, я ваш дядя? Негусто…»
Маричка заметила преследователя. Стала.
Некуда Богдану деваться. Подошёл, как спутанный.
Выдавил:
– Можно… Я провожу?
– Зачем? – В вопросе плескалась улыбка. – Не инвалидка… Ноги есть, сама дойду.
– Ну… Немножко…
– Куда?
– Вообще-то… до дома.
– Я уже дома.
И повела рукой в сторону белой хатки, что словно с испугу вжалась в склон холма.
– Идите уж своей дорогой. Не перебивайте нашей собаке сон. А то ещё проснётся… Вы ей можете не понравиться. Глаза у вас слишком горят.
3
Хорошего вола в ярме узнают.
Всякая работа мастера любит.
Наутро Маричка шла по своей делянке, проверяла, не помяли ли где растеньица вчера ненароком при подкормке, и, задумчиво взглядывая на резные светло-лиловые зубцы гор вдали, напевала:
– Ты гадаешь, гарний любку[92], За тобою гину[93] Та я десять собi знайду, Лишь бровами кину.Богдан вкрадчиво спросил:
– Что, репетиция продолжается?
Маричка сделала вид, что и не слышит и не видит. Знай своё работает.
– Я читал… Один американский агроном уверял, что кукуруза лучше растёт, когда над полем звучит лёгкая му– зыка. Звучит нежно, розово, а не хулиганиссимо.
Эффект – пухлый ноль.
Богдан твёрдо рассчитывал, что коронный номер с му– зыкой над полем наверняка поможет ему завязать близкий, греющий разговор с Маричкой, но она лишь летуче глянула на него как-то безнадёжно, прыснула в шоколадный кула– чок. Эх, тёмный лес – никакого просвета!
– Мда-а, одна птаха лета не напоёт… – то ли себе, то ли Маричке в спину с несмелым, мяклым укором бросает Бог– дан. А сам переминается с ноги на ногу, не решается дви– нуться следом.
«Ничего, я терпеливый, как камень. Подожду…»
На второе утро снова прикатил. Растерянный, словно заяц.
«И не знаю, с какого боку к тебе и подступиться…»
Робеет, не найдёт речей Богдан.
Молчит и Маричка, будто немая.
На третье утро сознаётся в мыслях Богдан:
«У меня от тебя в душе рана, как могила глубокая. Хоть куда иди, а я привсегда вижу тебя…»
И следом поплёлся, как блудный пёс.
Казнить молчанием не рука.
Маричке понравилось, что возили вот по её «коридору» экие трубищи, а и стебелька внечай не подломили, а и на ладошку не заскочили в сторону от того, что отвела сама.
Сказала, чуть повернув к нему голову из милости:
– В соседних сёлах жалятся, страшное дело, сколь это лишних посевов переводите…
– Так то ж в соседних…
– Выплывает на поверку, можно и вот так везде тянуть газ, – взгляд на тесный, аккуратненький «коридор». – А что мешает?
– Не нарывались на таких, как вы, – чистосердечно признался Богдан.
– Во-он оно что! Чем же я плоха?
– Проще сказать, чем хороши…
– И на это запрета не кладу. Говорите.
– Ух! – Торопливый, как суета, Богдан готовно усмехнулся. – Чересчур громко получается… Махом и не сказать… Одно слово… Тут по-быстрому не… А знаете! – вспыхнул Богдан ликующим отчаянием. – А давайте встретимся вечером. Для дела ж…
Повела Маричка ласковой, смоляной бровью на шнурочке – узенькой, ровной, красивой.
– Ну разве что для дела…
И вечером, при огнях уже в окнах, шли молодые по селу, смущаясь друг друга.
Где-то за околицей, у вагончиков, под хромку дурашливо и хрипло раздишканивал какой-то партизанко:
– Меня милашка разлюбила, Что же я поделаю? Пойду к речке, к проруби, Вокруг неё побегаю.Второй удалина парень, по-бабьи ломливо взвизгивая, назидательно отвечал:
– У моей-то грубеянки[94] Двадцать два сударика: Два женатых, два седых, Восемнадцать холостых.Пожаловался и третий:
– На крылечке две дощечки Ветром перекинуло. Мы с залёткой не видались – Два годочка минуло.Богдан подумал, как бы эти певуны не посыпали солёными тараторками, и, норовя разговором покрыть неясные, будто придушенные, голоса от вагончиков, подхлёстнуто попросил:
– Марика, расскажите про себя.
– Думаете, это интересно? – искренне удивилась Маричка.
– Спрашиваете!
У Верейских было трое детей. Старшие, Петр и Анна, завеялись уже во Львов.
Это нравилось и не нравилось старикам.
Оно, конечно, лестно, что вот Петро, сынаш бывших батраков, преподавал в торгово-экономическом институте. К сердцу вроде ложилось и то, что и Анна правилась по стопам брата, в том же институте копила ума.
Правда, Анна клялась-божилась, что неминуче вернётся в Чистое. Она и в самом деле потом таки вернулась в Чистое, в торговое объединение экономистом. Да какой с того возврата навар?
Ушёл, стаял с земли Петро; и Анна на земле не работница. Гостья.
Будь они хоть раззолотые спецы в своём тоже нужном деле, а коль не при земле служат – не та, не та им стариковская цена, совсем не тот почёт.
Теплила душу одна надежда. Маричка.
Дохаживала десятый класс.
Разговоров про отъезд не затевала.
Напротив, с большим ещё старанием нéжила звеном свой опытный школьный участочек. А выпади вольный час, неслась ветром на соседнее поле к Вернигоре, к отцу подглядеть, и как сеют, и как глубоко заделывают семена, и как смотрят за посевами…
Не-ет, не похоже, что Маричка утянется с земли.
Это одно по-настоящему радовало, грело стариков.
И – сбивало с толку.
Как же так? – томились старики в догадках. Все трое одного корени. Поднимались на одной каше кукурузной. Бегали в одну школу. Рвали с огня, тянулись в нитку в одной ученической бригаде…
Так как же получилось, что Петро и Анна, пройдя все те же круги, сошли с земли, а Маричка осталась?
Хотелось старикам взять себе в ум, понять, какими же ниточками привязана дивчинка к земле, – не могли. Перебирали, тасовали, как колоду карт, её прошлое, короткое, чистое, ничего особого не находили и ясно улыбались, припоминая потешные картинки из её детства. Не всякие следы ветер песком заносит.
То вот она, набрав с початков волосу, вплетала себе в косички и во всю прыть мчалась к отцу-матери похвалиться, какая ж она хорошка с шёлковыми кукурузными косами.
То вот составила из янтарных зёрен мудрёный, только ей понятный узор.
То… Девочка вся так и светилась желанием завести кукурузное ожерелье и – не завела: «Зёрнушкам больно, когда протыкают их и носят на нитке. Зёрнушки будут плакать…»
То…
Сели как-то в январе лущить кукурузу. А Маричка утаскивает куда-то кочан за кочаном. Прячет.
– Ты что это вытворяешь?
– А зачем выгоняете зёрнушки из домиков на холод? – кажет на сухие толстые, с ножкой, листья-стаканы, где только что ещё жили початки. – А ну выскочи кто сам босиком на снег – сразу назад в тепло крутнёшься!
День бежит, неделя летит, годы скачут…
Подросла, подбольшела Маричка.
Воротилась раз из школы и отцу:
– Татонько! А вы знаете, учительница назвала кукурузу лучшей из всех хлебов!
Посмеивается отец:
– Теперь знаю.
– И везде её любят. Давно любят… Когда она появилась у нас?
– Читать не доводилось, а слыхал от дедов. Давненько. И как!.. В войне с турками один наш отряд попал под Белградом в плен. Замирилась война. Родичи отдали за каждого невольника выкуп и только потом, ой и нескоро, отпустили. Один истокский отчаюга и прихвати кочешок до се неведанного мелая[95]. С нашего, с истокского, поля он и пойди по окрестным полям, а там дальше, дальше…
Легенда ли это, быль ли…
После школы Маричка пошла в звено к отцу.
Вместе на поле, вместе с поля.
Не знал старик Верейский большего счастья, как жить с дочерью одними хлопотами, одними думами.
Радовался в душе, что Маричка упрямо доходила до сердцевины всякого дела, докапывалась до нутра цепким, молодым разумом и вовсе не стеснялась тормошить его самого, напористо выведывая, как способней, как лучше делать это, это, это.
Отцу ли тут скупиться!
– Учись, доня, учись… Чему научишься смолоду, в старости не забудешь…
Богатую сняли страду.
В декабре, на первом при Маричке годовом собрании звена, отец и скажи в грусти:
– Спасибо всем вам за доверие. Как мог, так и оправды– вал день в день все двадцать лет… А больше я не батька звену…
Ему с тревогой возразили:
– Самоотвод не принимаем!
– Что самоотвод… Годы плывут, как вода. Вот и подплыла моя пензия…
– Ну-у… Пенсия подождёт. Этой мадамке спешить неку– дочки!
– Да нет, – стоит на своём, – день за днём и ближе… Здо– ровье уже не то. Всё меньше остаётся земелюшку топтать.
– Во-он вы куда-а… Да вы ещё воробья переживёте!
Отемнел лицом Егор Александрович. Пожал плечом, тихо, но твердя обронил:
– Как хотите, власть звеньевого сымаю с себя. Пойду рядовым.
– И что, никого не присоветуете заместки себя? Без пастуха ж и овцы не стадо…
– Сами выбирайте атамана. Тут я сторона.
Молчание было короткое.
– Егор да свет вы наш Александрович! – ласково пропел кто-то. – А коли мир пожелает атаманшу да с вашей фамильностью? Марийку! Только год с нами, а добре выказала себя. Дивчина в работе боева, горячущая. Про таку не грех сказать: или дай, или вырвет!
Другой голос:
– Трудолюбка. Уже на восходе не ждёт захода солнца. Как некоторые.
Третий:
– При доброй грамоте. Земля слухом полнится, в заоч– ный сельский институт вроде как настраивается… Помним, в школе была звеньевая. А что будет самая молодая звень– евая в хозяйстве – грех невелик. Ну чем не верховодка?
Выбрали Маричку в один голос.
Верейские сажали картошку.
На ту пору звено всего помалу выхаживало. Это каких три последних года стало знать одну лишь кукурузу.
На беду, с картошкой ещё не управились – слёг Егор Александрович и в скорых днях отошёл.
А вокруг цвели сады, в нарядах невест роскошничали яблони; белые иголочки кукурузных ростков, подталкива– емые силами земли, прокалывали её изнутри и быстро, будто из воды, тянулись к свету жизни.
Горе сделало Маричку намного взрослей.
Уже первый её урожай был на целых пять центнеров выше отцова.
Поднялась Маричка на ступеньку, которой не знал отец.
А с новой высоты мир шире, видней!
Подхватилась Маричка посоперничать с самим Вернигорой.
– Ну что ж, – положил согласие наставник, – вечер пока– жет, какой был день.
А день выдался тяжкий, тревожный, в бесконечных хлопотах.
Земли в Чистом не божий подарок. Нищие, скупые на отдачу. Хорошенько не удобришь, на удачу по осени, вечером, и не рассчитывай.
А удобрений нехват.
И сгребали девчата сами по дворам и золу, и куриный помёт, и навоз.
Двор, где жила корова, облагался особой данью. Дай две тонны навоза. Зато без платы получишь и выпаса для своей бурёнки, и машину подвезти ей корм.
Весть о работе в урочище Мочар звено приняло в шты– ки.
– Что же ты согласилась? – разом наваливались на Маричку со всех сторон. – Как ты могла пойти на такое? На верный позор! С треском же провалим свои сто семнад– цать на круг! Эти центнеры там не валяются!
Страсти бушевали. И было отчего.
Заглянем в словарь.
«Мочар. Топь, низменное с подпочвенной водой место».
Это поле и в самом деле слыло худшим, пустым.
– Послушайте, – сердито кинув бровями, отвечала Ма– ричка, – а что, прикажете… Говори да оглядывайся! Гм… идея! Выбирайте ходоков и прямой наводкой к руководс– тву! Так, мол, и так, мы, молодые, не желаем браться за Мочар. Дайте-подайте нам лучшее поле! Вот тогда мы вам и докажем, что мы можем!.. Так петь станете? Да? Думайте. Не для платка голова на плечах. Выходит, брали высокие обязательства под тепличные условия?
– Ну при чём тут сразу тепличка?
– Тогда какого же рожна разгорелся этот сыр-бор? Стыдоба одна! На собраниях мастаки лить речи про честь, про гордость! А как до дела доехали… Один разговор – выпроси я тот Мочар. Но как вы не понимаете, выскочил он нам по севообороту. Нам бы нет доказать, что на любой земле способны огребать урожаи геройские… А вы…
Маричка опало махнула рукой. Помолчала.
– Вспомните Фрайду.
– Слыхали от родителей. Была жадюга помещица. Сдавала крестьянам в аренду самую плохую землю в урочище. После то урочище назвали Фрайдой, по имени той убежавшей бездетной помещицы.
– Так вот, злопыхатели всё тычут пальцем на Дмитрия Дмитриевича. Мол, создают особые, райские, условия, зем– лицу побогаче всегда ему. Вот он и давит урожаями… Дмитро Дмитриевич не вынес перетолков, откачнулся от участка, намеченного по севообороту, и стребовал, чтоб отвели во Фрайде. Кроме куколя ничего путного не росло в том урочище. Прозвали яловым, вымахнули даже из кол– хозных угодий. А Дмитро Дмитриевич – по сто двадцать желаете центнеров! О! Отдачка! Но кислые недоброжелатели и здесь своего не упустили. Кричат: «Кто взвешивал, кто считал его центнеры? Знаем мы эти бумажкины рекорды! Зато всему Истоку стегают по глазам. Старайсь! Догоняй маячка! Р-равняйсь на Вернигору!» Ну, завистники завистниками, а сто двадцать – это сто двадцать! Бери, молодь, пример со стареника! Не стесняйсь! Не прячьте, девчатоньки, подсиненные глазки…
Вышла неловкая пауза.
Все смятенно молчали.
Все знали, что Вернигоре власть подсыпает сверх всякой меры. Пришла новая техника – ему! Вырвали где удобрений – ему! Зашивается с прополкой – полколхоза ему на прорыв! А как же? Маяк! Пример другим! Тянись! Рви жилы! Догоняй!..
А не подсыпь маячку – потухнет! И жизнь вокруг померкнет. Что мы будем делать в темноте?
Кто нас, тёмных, поведёт тогда во мраке к светленькому будущему?
Вот «маяк» и сидит на маячном довольствии.
Дмитро Дмитриевич, честнейший трударь, внутренне протестовал против маячного довольствия себе. Но выступить открыто не решался. Ничего не мог с собой поделать. Не хватало на то воли. Он понимал, плевать против ветра – только выпачкаешься. Да ветер с верхов не уймёшь. А раз так, чего ж внапрасне противиться? Пусть всё идёт, как идёт, как хотят того и колхозный, и районный, и областной генералитеты. У них в этой возне с маяком свои неколебимые доводы. Любой ценой давай маяк, на которого потом уже будут подгонять-поджимать в работе остальной трудовой люд.
Все в звене да и сама Маричка всё это распрекрасно знают. Но все крепонько держат рты на замочках. Знают, где что сказать, а где и промолчать. Комвыучка!
Подумала Маричка про маячное довольствие старого коммуниста, усмехнулась. Но строго продолжала так:
– Ну как, побежим выговаривать себе тепличку – не без иронии допирала. Или?..
– Остановимся на или, – сказали все в один голос, и каждый про себя не забыл подумать про маячное довольствие Вернигоры.
Осваивали молодые Мочар при подспорье Вернигоры.
Обошёл весной поле, придиристо посмотрел, как удоб– рено, как подготовлено. Доволен был. Оборот пласта нор– мальный. Ни одной селезёнки не оставили. Без огрехов вспахано, выровнено, чисто от сорняков.
Позже, когда надо было вести обработку междурядий, а Маричка всё крутилась на сессии в институте, где заочно училась на агронома, Вернигора на самом деле взял на себя генеральско-свадебную управу и в молодёжном звене.
А чего не поводить рукой?
Пускай все видят: хоть и стар маячок, да ещё светит.
Уже совсем счернело, когда Богдан с Маричкой подо– шли к магазину. Магазин был диковинно нарядный, но– вёхонький. Весь с лица из стекла.
Богдан подал десятку продавщице.
– Наилучших конфет.
– На все?
– Есественно… – сановито качнул головой Богдан.
– Вот это путём! Да нашей Марийке, хлопче милый, надо каждый день подарки дарить! Заслужила, ой как ещё заслу– жила!.. Да за один вот этот магазин бабоньки и не знают, как и возблагодарить. То вот вы, – уважительно протянула Богдану пухлый кулёк, – подошли да спокойно взяли… А то даже за теми же серниками за пять лети верст!
Стоит Маричка, застенчиво опустила глаза, будто пробирают её с песочком.
Удивлённый взор кинул на дивчину Богдан.
– Что вы ещё такое сотворили, что старухи на вас не намолятся?
– А-а, больше звону… – как-то виновато улыбается Маричка и медленно выходит первой на улицу.
– А всё же?
– Неподалеку отсюда ютилась лавка в старой хатёшке. Совсем плохая стала хатинка, прихлопнули магазинушко. И что поднялось… Верно, как колодец высыхает, честь воде прибывает… Хлеба ли, соли ли, кусок ли мыла… За всяконький пустяковиной стреляй в центр села!.. Раз вваливается ко мне женская делегация. Были там и из моего звена. «Мы выбирали тебя в депутатки? Вы-би-ра-ли! Ты нам слуга? Слу-га! Служи. Спрашивай-требуй. В закрытый рот муха не залетит! Хлопочи! Нехай ладят нам на нашем краю магазин, да не абы какой. Картинку!» Завертелась я, как посоленная. Бегала, бегала по верхам… Подживила, выбегала. И самой не в веру… Прямо нарисовали…
– Магазинщица права. Да за такое вам каждый день надо подарки! Вот на первый случай…
Богдан неловко протянул кулёк с конфетами, досадуя на себя, что не отдал за разговорами сразу, ещё в магазине.
– Так много?! – детски восхитилась она. – Да что с ними делать?
– Тут уж я вам не советчик… хотя, – усмехнулся он своим весёлым мыслям, – как это одна соседке говорила: ешьте, ешьте, кума, не жалейте, как дома… Я шучу. Берите, берите…
– Спасибо.
Вечерняя дорога привела в урочище Мочар, где впервые встретились.
Ночь засветила уже и самые маленькие звёзды, рассыпала по лазоревому полю золотое просо.
Неторопливо шли Богдан с Маричкой по «коридору».
С обеих сторон под слабыми вздохами ветра вздрагивали широкие тёмные ленты кукурузных листьев.
Скобкой указательного пальца Богдан постукивал по трубе, что вдавилась в мякоть почвы посреди «коридора». Сронил:
– У вас кукурузища лес лесом. Словно тут жирная земля…
– И тем жирней, чем гуще польёшь потом…
– Так говорите, будто совсем пустая.
– По крайности, была…
– И теперь – такое! – в печальном восторге повёл Богдан рукой вокруг, показывая на глухо-таинственно шумевшую чащу.
– Такое, – сторонне подтвердила Маричка. – И правились к нему тяжело…
Год выпал… Не позавидуешь. Бесснежная зима припла– вила позднюю холодную весну, дождливое лето.
Покрывшая делянку вода болезненно желтила и без того слабые растеньица.
Предложила Маричка прополоть в третий раз.
– Но мы ж обычно полем дважды, – отхлестнули ей.
– Маловато. Смотрите, какой бурьян прёт! Страшный, как смерть.
– Не хваталась бы за этот Мочар, не пёр бы… Эх, кукол– ка, когда что затеваешь, подумай и про конец. Оч-чень до– рого обойдутся нам твои громкие речи про молодую гордость.
Молча кутаясь в клеёнку, Маричка ещё злей орудовала под дождём мотыгой. Два раза в году лето не бывает.
Следом – девчата.
Задние колеса поспешали-таки за передними. Не отставали.
А когда чуть просохло, в дело вошли трактористы.
Подкормили. Окучили.
Зелёного в листьях вроде набавилось. Однако подыма– лась кукуруза чересчур плохо, копотливо.
Вперёд об эту пору шумел уже трехметровый лес. Сей– час же дитя пойди – видать.
– Дмитро Дмитрович, эти маломерки, – с тревогой Ма– ричка показывала на своё поле, – выкормят ли добрые ко– чаны?
– Пожалуй, дожди помешали опылению.
Маричка за помочью в ученическую бригаду.
Назавтра ребята стряхивали пыльцу с цветка на цветок, вели искусственное опыление.
И взяло-таки звено по сто семнадцать, всего-то на пять центнеров меньше против Вернигоры.
Вот такой был вечер.
Поздравляя Маричку, Вернигора сказал:
– А я что говорил? У кого есть на плечах голова, тот расчесаться су-ме-ет! Молодчинка!
Мочарская история поразила Богдана.
Как это можно, недоумевал он, вырастить два початка не только там, где рос один, но и там, где не росло ни одно– го?
Странное, гнетущее чувство неизъяснимой вины овладело им. Он видел, как пленительно-беззащитная Маричка мягко прижимала к щеке кукурузный лист, что лёг к ней на плечо темно-зелёным крылом, и путано, покаянно думал:
«Вот чванился пижон Пижонкин своей работой, самим собой. Умная голова, золотая макушка!.. А встретил этого ребёнка с косой, и этот ребёнок с косой открыл ему глаза, заставил глянуть на себя со стороны. А со стороны видней. Не с чего же фуфыриться… Наш брат, Марика, привык, что малейшее его желание – закон. Как же! На газ из этой трубы пол-Европы сядет, Украина туда ж… Работа важнецкая, трансконтинентальная, почёту выше ноздрей. И за своими трубами не видел чужого труда, не ценил, ни во что не ставил… Поле засеяно, а ты под трассу хвать вдвое против нормы – молчат. Их земля, мне что… А вот стычка с вами… Пал мне тогда на память тургеневский стих про воробья. С отчаянным мужеством вскинулся воробей защищать от собаки своего птенца. И защитил!.. Защитили и вы… Вы с такой решимостью защищали каждую былочку, что в душе я невольно залюбовался вами… Переломил к вам своё сердце… Как же надо жалеть эту землю, чтоб вот так стоять за каждый вершок. Спор пошёл мне в руку. Наказал шоферюгам, ездили чтоб по струночке, ни корешка чтоб не вмяли. Кажется, всё обошлось. Но когда услыхал, каких потов стоил Мочар… Как топтать такой труд? Стыдуха печёт…»
4
Чем больше куёшь железо, тем оно горячей.
Примерно недели так через две Маричка с Богданом пришли на встречу молодых колхозников со строителями газопровода.
И сама Маричка, и Богдан вздрогнули, когда в микрофон сказали, что вот сейчас покажут Маричку на слёте молодых передовиков.
Пригас свет.
Откуда-то сверху посыпалось потрескивание.
Богдан заглянул Маричке в глаза. Была Маричка далеко от Истока.
В Москве была.
«Аж до какой трибуны вознеслась, – с задумчиво-восторженным смешком покосился Богдан на Маричку, крепко сжимая ей локоток и властно поворачивая к себе её лицом. Лицо у неё было какое-то растерянное. – Мда-а, фирма «Ребёнок с косой и К°» блох не ловит… Это ребёнок стоит на земле полной ногой, а не на цыпочках, как некоторые. Когда только этот ребёнок и успел заработать полную грудь орденов? Ишь, для Москвы нацепила ордена. А здесь не то что я не видел – не слышал даже про них от неё. Почему она не рассказывала, что была на слёте? Почему и слова не сронила про ордена? Вот и узнай человека… Скрывала? Зачем? Разве я ей чужак?»
Нетерпёж и обида подожгли Богдана. Сию же минуту надо выяснить всё!
Он клонится к её уху.
Она умоляюще подносит палец к его раскрытым губам: помолчи. Дай послушать себя со стороны…
5
Начало трудно, а конец мудрён.
Прошло три месяца, и все те три месяца каждый вечер встречались Богдан с Маричкой.
Насторожился Дмитрий Дмитриевич.
– Дивчинка ты видная, – говорит Маричке. – Хоть оно и поют, красу на тарелку не положишь, а покажись на улице, – хлопцы роем за тобой. Шла б за парубка сельской закваски… А этот не твой… Тебе надобно под пару агронома, инженера сельского. Чтоб при земле состояли. Чтоб земле служили. А этот трассу натянул да и с глаз вон! Или?.. Да что… Дивчина, как верба, принимается: где посадишь, там и растёт. Как бы он, шутоломец, тебя в свою в строительную веру не…
– А-а, – весело перебила Маричка. – Вы вон про что! Не бойтесь. Рыба никогда не забудет плавать. Часом намаешься, рук не чуешь… Да всё одно никуда я из звена!
– Это ты, доча, говоришь. А вот что голова скажет!
– Ну-у! Муж, не спорю, голова, зато жена – шея. Куда хочу, туда и поверну… Повернула уже! В Чистом одним Богданом боле станет. Достроит свою трассу, а там перейдёт на её обслуживание.
Осень.
Было уже позднее утро.
Светило нежаркое, сиротское солнце.
День входил в самую силу, когда Богдан на своём «бобике» подскочил к Маричкиному дому.
Вокруг стояла какая-то разбитая, гнетущая тишина.
«А почему никто не встречает? Ни ковровой дорожки! Ни хлеба с солью!.. Похоже, здесь меня никто и не ждёт, а я, едри-копалки, рад стараться. Разлетелся с правительственным донесением…»
Он опало усмехнулся.
Остатки бедовой улыбки тихо сгасли, потонули в чёрных омутках глаз, и он, уже больше никуда не торопясь, отстранённо принялся обозревать место.
Весь довольно таки круто взбегавший холм, насколько брал глаз, горел осенним жаром, и невдомёк было видеть, как эта ветхая, шевченковская хатка зацепилась на склоне, заплуталась тут меж дерев.
Конечно, она давно рассыпалась бы в пыль где-нибудь там, внизу, не держи её подпорки, три могучие бревна, вставленные в ямки, выдолбленные в комлях старых груш, что стражем стояли в ряд у дома. Как хибарка ни мала, а напирает видимо с годами всё сильней, отчего груши уже клонятся от дома. Того и жди, того и выжидай, что в ненастный час опрокинутся.
«Выходит, не всё могут короли… В самой Москве прохлаждается по слётам, а обретается в такой халупине… Мда-а… Без мужика дом сирота…»
Много раз толокся у дома Богдан глухими вечерами, всё свиданничал, и только вот впервые очутился тут днём.
Увиденное смяло его.
Он застыдился своей давешней радости, с какой летел сюда на всех рысях. Совестно стало и за концерт, который налаживался дать, подъезжая ко двору.
И слава богу, что не дал!
«Уехать! Пускай всё будет как будет…»
Он завёл машину. Тесно разворачиваясь, едва не воткнулся в плетень, что завис наружу.
На шум выскочила мать Марички в фуфайке внапашку. Притискивая к груди одной рукой концы темного платка, а другую приставив к глазам шалашиком, окликнула, спеша к калитке:
– Агов! Кто там приехал!?
Богдан выключил мотор. Без охоты отозвался:
– Кто ж кроме меня…
Старуха прошла в калитку, близоруко уставилась на Богдана.
– Голос мне твой на слуху, а саме чей не пойму… И на личность не вгадаю… Зовсим слепая, как тугой туман на глаза кинулся… Живу зажмурки… Так ичей ты будешь?
– Спросите что полегче, – надвое ответил Богдан и, толкнув от себя дверцу, повернулся на сиденье к старухе. – Помните…
Богдан запнулся.
Он не знал, как теперь называть эту женщину. Бабушкой? Ну, так зовут всех старух… Матерью? Не рановато ли да и вообще?..
– Помните… – Богдан снова на миг запнулся и с усилием, нетвёрдо проговорил: – А помните, мамаша, потчевали вы как-то борщом одного с газа? Просил он у вас напиться, а вы ему борща… Так тот непрошеный гость я и есть в полной наличности.
– А-а! – тихая улыбка засветилась на лице старухи. – Те же люди, в ту же хату! Навприконце разобрались. Так чего ж ты, сынку, сидишь на раздумах и нейдёшь у хатыну? Ты молодцом, знаешь, колы наежжать. Под сам борщ! Тико сготовила. Тико с жару. Без домашнего як оно тико и жити?..
Старуха потянула Богдана за рукав.
Делать нечего. Надо идти.
– Ты шо як побитый? – с опаской спросила. И бесперебойно, как дятел, продолжала: – Или у тебя шо болит? Или беда яка придавила?
Богдан вздохнул, занося над порожком ногу:
– И не поймёшь, то ли беда, то ли радость…
– А ты для аппетиту прими, – старуха отставила указательный палец от большого на рост, на высоту, стопки, – и она даст твоей головушке умной полную ясность. Сливовица у меня свежая. Своя. Не с купленки.
Старуха выдернула кукурузный катышек из горлышка бутыли со сливовицей, разбежалась было лить в эмалевую кружку.
Богдан накрыл кружку просторной ладонью.
– Что так? – подивилась старуха. – Бастуешь?
– Бастую.
Старуха скептически махнула на Богдана рукой.
– Та тю-ю на тэбэ! Я помню, як ты у прошлый раз бастовал… «Выпить сто грамм? Мало… Двести – много. Налейте два раза по сто пятьдесят». Ты не упомнил, хто цэ казав?
– Это говорил один у нас. А я только повторил. В тот раз был вечер, а сейчас утро. Мне ещё целый день пахать да пахать, как папе Карло.
– Оно, гляди, и верно, – соглашается старуха. Убирает под стол бутыль и не без удовольствия взглядывает на парня. Молодчага, говорили её глаза, знает, когда поклониться стопочке, а когда и отмахнуться. Под масть мне таковские парубки!
Через минуту она, неуверенно присев на край табуретки и спрятав под съехавший несколько вбок передничек разбитые в тяжкой работе жилистые руки, с умилением, обворожительно смотрела на Богдана. Ей нравилось, что Богдан хорошо ел.
– За вкус не поручусь, а так борщ горячий… Господь тебе, парубоче, гарный, трудолюбивый аппетит дал… По большому знакомству, шо ли?
Радостно моргнув разом обоими глазами, Богдан согласно качнул головой.
– Вкуснятина! Того и аппетит – не жёвано летит!.. Да как бы вы с моим волчьим аппетитом не прогорели.
– Тю-ю… Та шо мне, борщу жалко? Безразговорочно приезжай, колы надумаешь…
– Да я буду к вам ездить на борщ по гроб жизни!
– А хоть и дале ездий!
– Я вам всё это говорю не абы говорить… Да знаете ли вы, что я, между прочим, ваш зять?
Старуха насторожённо вытянула в изумлении шею.
– Я-я-кы-ы-ый… ще… зять?..
– Ну-у… С которого… нечего взять… Почти законный…
Старуха помрачнела лицом, судорожно зачем-то вцепилась в верх табуретки. В следующее мгновение встала. Отшагнула к двери.
– И долго ты, мудрая голова, золотая верхушка, кумекал? – обмякло спросила. – Довго сушил голову?.. Нашёл из чего шутки сплетать…
– Хороши шутки! – дал вспышку Богдан. – Вчера свернули с Маричкой, как говорится, вегетационный период. Отнесли в загс заявку. Дали по тридцать суток. Думайте, говорят. Я и думаю. Всю ночь ребята спали, как пеньки, а я не… сомкнувши… Всё раздумывал до посинения… Весь мой табор, все мои солдаты снялись с корня, подались на новое место впереди по трассе. А я заместо того чтобы ехать с ними вперёд, рванул в обратки. К вам… Назад… Не стерпел… Мы хотели союзом сказать вам сегодня вечером… А я не вытерпел… Нетерпелка загорелась… Я досрочно… Проклятый собачий инстинкт стахановца… Привык… Мы вот берём к такой-то дате быть на таком-то километре. Пока подскребётся та дата, а мы казакуем уже далеко поперёд того обещанного километра. Да не за бесплатно. Этот пожар подсыпает нам премиальные тити-мити…
– А якый туточки тебе премиальный навар? – жёстко перебила старуха.
Её крутой тон смял Богдана.
«Как же так? Я от души, откровенно… А почему это она вроде как серчает? На что?»
– Так тебе по сегодняшнему дню якый будэ навар? – всё также жёстко повторила старуха.
Богдан пожал плечом.
– Ну… Сам первый сказал… Удивлю Марику…
– Ты шо, циркач? Шо цэ ты взялся всех удивлять? – глухо ворчала старуха.
Обида давила её.
«Ну как это Марийка все так повернула? Кой год одни и одни в дому. Легли одни, встали одни… Всё навроде друг у дружки на видах… Як тилько и можно было шо стаить от матери, а она – на тебе, зволь радоваться… Оттащила заявку и мать про то узнала родная от стороннего человека… Ох же и густо засыпал он ей сором мозги, шо она уже только всё так и ладит, как ему всхочется… – Старуха вкогтилась в Богдана сухими, горячими глазами. – Шо ты за генерал? Та ты ще у мене узнаешь, як пахнет табак!»
– От шо, хлопче, – растравляя себя, сурово продолжала уже вслух старуха. – Может, ты поторопился, так ты подумай. Можь, ты не в ту хату заскок?.. Время есть, ты крепенько подумай… Чужаку, можь, я би не сказанула, а коли ты мне под крыло в родичи мостишься, так на шо ж в молчанку играть? Ты мне в хату ту неславу не тащи.
– Какую неславу? – бледнея, прошептал одними губами Богдан.
– А ту, за котору премиальные отхватываешь. Где только у людей и совесть!.. В то воскресенье бегала я с Марийкой в соседнюю деревнюшку. Бегали наведаться к больному куму. Сбила три кружалки сыру. Сыр он мой поважает… Ну, добежали до вашего газа… Што вы тамочки наворочали? От трубы и по одну руку, и по другую мама его знает эскико изуродованной мертвицы. «Царя почв» – Марийка так зове чернозём – нема и напоказ. Тамочки тепере ничему путяще не расти. А ведь до вас на том на самом месте, где вытянулась, разлеглась ваша барыня труба, якый був виноград, яка шумела кукуруза! Шо ни сентябрь, урожай ломанут – обвал! По две заготовки за год брали. А вы все те земли изувечили. Одни ямы да горы глины посля вас. Мамай дураковал! И вам за то ще премией светят? Судить вас треба за таку горьку работёху, дорогый зятёк!
– Ну, – вскинул Богдан руку, – там лучше знают, судить или премировать. Им видней… А вообще… Правы вы. Не от одного меня зависит… Крепенько хулиганили мои солдатики до участка Марики. И на отчуждение отсекали, сколь Бог на душу кинет, и чёрте в каком непотребном виде бросали землю… А на поле Марики пришлось взять и полосу ни на сантиметр шире нормы, и почву стали рекультивировать… Это по науке. А так, по-человечьи если… С полосы, где ляжет труба, начали в полной аккуратности снимать да складывать в сторонке весь, – Богдан высоко поднял палец, – весь! плодородный слой, начали снимать «царя». Прокинули, прохлестнули трубу, покончали свои дела – «царя» культурненько на старое место. Пожалуйста, снова сей, сажай – плодородие прежнее, нетронутое. Так что наш брат строитель наконец-то спихнул с себя грех перед землюшкой, чистый теперь перед нею…
Говорил Богдан тем особенным доверительным тоном, которому нельзя не верить.
Однако старуха толком так и не поняла, а чего этот таранта уцелился вести панский уход за земелюшкой только с дочкиной делянки. Старуха и спытай напрямик про то.
– А, это уже секрет фирмы, – кокетливо ушёл от ясного ответа Богдан. – То вы уж спросите у самой у Марики.
– Ох, хлопче, – отмякая душой, ласково погрозила пальцем старуха Богдану. – Смотри, не плутуешь у меня? Правду поёшь-чечёкаешь? Со мной начинай по правде и во всем малом. Инакше не сварим мы с тобой ни кулеша ни каши. Подгорит!.. У тебя в запасе двадцать девять дней, так шо ты хорошенько всё промозгуй. Хоть оно и кажуть, жить с жинкой, а не с тёщей. Дак и тёща ж будет не за дверью… Я чула и так: сперва выбери тёщу, а потом и жинку… Кумекай… Бабака я шумная, як речка, колы шо не по мне… Против дела… Колы ото во вред делу, так скандалистка я невозможная!
– А я сам скандалист первостатейный. Подарок с перцем… Вот, думаете, вы первые мне про землю твердите? Думаете, сами мы, строители, и в ус не дуем? Считаете, все мы пирожки горелые, дальше премий ни на что и не способные? Будьте спокойны. Свои болячки мы знаем получше вас. Нянчимся с ними. А подсобить нам некому. Вот вы знаете, какую беду несут тем же птицам наши газовые трассы?
– Ну-ну, – с любопытством подживила Богдана старуха, – скажешь, и я прознаю.
Богдан с пятого на десятое повёл издалека, С того, что трубы ест ржа. И чтобы посбить рже аппетит, чтоб не так скоро ела, нужен электрический ток. Ток умедляет коррозию. Вот вдоль газа и понавесили малой силы электролинии.
Трубам под током хорошо. Так зато птицам горе. Садясь на столбы или взлетая со столбов, аисты ли, орлы ли часто и густо гибнут. У того же орла размах до полутора метров, простор меж проводами куда тесней. Как тут не коснуться крылами разом обоих проводов? А коснулся – спёкся.
Обернулись эти линии ловушкой для крупных птиц.
Человек сжалился над мёртвым металлом, а на живую птицу души не хватило.
Вычитал Богдан в «Комсомолке» у Пескова, что «на Британских островах загнездился орлан-белохвост. Вблизи этого единственного гнезда поставили караул, чтобы никто и ничто не потревожило редкую птицу. Так человек пытается сохранить крохи от некогда большого каравая дикой природа».
Не доживём ли и мы до такого края?
Мучило Богдана, что поневоле губил птиц. Не строй он газопроводы, не было бы и этих злосчастных линий. Но как же не строить? И строить надо, и выводить птиц из беды надо, покуда не поздно. Да как?
Разве нельзя пустить ток по кабелю? Разве нельзя гонять по изолированным проводам? Тогда не надо б было пробивать просеки да и птицам никакой угрозы. Наконец, разве нельзя уснастить линии присадами, напоминающими уличные телеантенны? Крепи присады на столбах чуть выше проводов, и птицы – птицы всегда мостятся где повыше – непременно станут садиться на присады. Уже никогда не притронутся к проводам.
Свои горячие письма-предложения куда только ни засылал Богдан. Достучался до Москвы, до газового министерства. Ему вежливо отвечали, что работа над присадами вёдется. Но уходили годы, и никаких присад он не видел на линиях.
Про его переписку с «самим центром» знали все на участке, и все разно относились к нему. Одни в глаза сочувствовали, а позаглазно называли его птичий Дон-Кихот, пташкин плакун. У других он шёл не выше тихого, упрямого скандалиста. Рядили: критиковать не пахать, критикнул – отдохнул.
Переписку не одобрила и старуха.
– Писанину ты брось, – приблизившись к Богдану и наклонившись над его плечом, твёрдо, но еле слышно сказала, будто боялась, что услышит кто-то нежелательный третий. – Человек не солнышко, всех не обогреет… А так с жару настрекочешь ще кучу сору, допекёшь кого невзначайку сверха… Не сдёрнули б с начальства самого!
Богдан печально покривил рот в улыбке.
– А почему вы решили, что я начальник?
– Раз на машине раскатываешь, кто ж ты? Простому работуну машину не подгонят на борщ слетать.
– Начальник участка… Безвидная бугринка на равнинке… Невелика кочка…
– Велика… невелика… А всяк береги свою марку, – назидательно заметила старуха и глубоко вздохнула. – Ось бачу, с душой ты. За пташек всё убиваешься. А шо ж ты ничо про сэбэ не стукнешь? Дражнять-то хоть як, зятьюшка? – с весёлым укором пальнула.
Богдан перестал есть. Отодвинул миску.
– Да… – законфузился, – Богдан я… Богом данный… И фамильюшка по мне. Гойдаша… Перекати-поле… Как дожал техникум, куда только не забрасывало! В Средней Азии газ тянул… В Сибири тянул… С Урала вот дотащим нитку до границы… И амбец моим странствиям. Тридцатую осень топчу землю… Пора к одному берегу притираться…
Старуха горестно покачала головой.
– Вашей житухе зависти не положишь. Повсегда грязный, яко чёрный ворон…
– Танки грязи не боятся! – хохотнул Богдан.
– Все дожди, все снега ваши. Тянете тепло в дома другим. А сами мёрзнете-холодаете… Всё на холодняку… Батько-матирь игде?
– Да где… Мамко померла, я в первый класс только что толкнулся. Отец пристал в примаки к одной в дом. Не на судьбе женился, плохо лепилась у отца жизнь. Свара за сварой… Сунул меня в детдом… Когда ни приедет проведать, всё в глазах полно слёз, вины. На детдомовской роскоши я и возрос… Скоро и отец помер…
Острая жалость к Богдану обхлестнула старуху.
– Ой дитятко! – запричитала она, подставив худой кулачок под щёку. – Бачу, и ты отхватил лиха, и тебя поклевала беда… Шо ж ты до таких до старых годов всё один да один?.. К Марийке-то душа лежит иль так, абы под яку крышу заскочить да ливняк переждать?
– Тоже скажете… – прихмурился Богдан.
– А как не скажешь. Ось раскинула я коротким бабьим умком… Ты газу воевода. При газе ты на месте. А к земле тебя ж никаким боком не притулить! Ну, нехай всё у вас с Марийкой лад повяжет. Подай-то Бог, шоб всё так и було! Да вот шо ж ты станешь делать у нас? Ма-ало одной лихой должностёнки мужа.
Богдан посветлел.
– Тоже нашли мне мировую проблему! Да будь вам известно, в Истоке строят компрессорную станцию. Будет наш газ гнать по трубам. Обслуживать станцию надо? Надо. Вот и буду я крутиться при этой станции. И что в особенку… Одна турбина нахлопает столько дарового тепла – с походом хватит обогреть целый городишко на пятнадцать тыщ душ. Увы, пока турбины обогревают небо…
– И шо, ты тоже настрополился греть тучи? – прищурилась старуха.
Надёжными щитами выставил Богдан перед собой тяжёлые широкие ладони.
– На такую службу я не разбегусь. Не охотник… Всё будет как у добрых людей. Понастроит ваше хозяйство у станции теплиц. Тепло наше. А январские помидорчики, огурчики, всякая там петрушка-зеленушка ваши. Вот такой обозначается перепляс.
– Добрый перепляс, – торопливо соглашается старуха, вовсе не веря Богдановым прожектам, и с вызовом накатывается: – Вот ты, сладкий, всё поёшь, примеры всё наводишь, можно, мол, согреть город надурняк. Города-то вы греете, куда вы денетесь. А взялись бы да нагрели деревню, вот эти ненаглядные дворцы, – старуха уничижительно обвела рукой бедно уставленную громадность хаты. – Оттуда дует, оттуда несёт… Из пальтух зимой не выползаем.
– Ёлка без палки! Конечно же, побежит наше тепло и в истокские дома! Но в этот дворец, – Богдан подолбил черенком ложки в стол, – я тепло не допущу.
Лицо у старухи вытянулось.
– Это ещё почему?
– Да потому, что канцелярскую кнопку ткни в стенку, и дворец ваш рухнет! Останется кучка пыли. Тепло надо гнать в новый домину, и я его сам сгандоблю! – с жаром выворотил Богдан и тут же пожалел. До чего глупо и хвастливо всё свертелось!
– Тю-ю! – махнула на Богдана старуха. – Дуже ты горячий на золотые посулы… Не пришлось бы рачковать на попятки…
«Не бойтесь! Крокодилы пятиться не могут!» – мелькнуло в его голове.
В следующий миг сознание прошила ярая мысль, и Богдан, схватив старуху за руку, властно потащил во двор.
Старуха до крайности выпугалась, когда он в сенцах выдернул из чёрного угла топор. Она было закричала – он отпустил её руку. Горячечно остругал с одного конца слегу, повис на ней среди двора, с силой нажал, и слега на добрый локоть въехала в землю.
– Вот, – качнул слегу, и слега державно поклонилась и в одну, и в другую сторону, – если через год на этом на самом месте не будет нового дома, этим самым дрыном до смерти забьёте меня! Хоронить запрещаю. Выбрасывайте собакам!
– За шо такие страхи? – размыто прошептала старуха.
Недоумение давило, беспокоило её. Ей нравилось, что Богдан такой хваткий, бриткий, но и забивало, загоняло в тупик другое: что же лезть во все дыры, коли в доме ты ещё никто?
– У вас вон и лес на стройку, – показал Богдан на чёрный толь, что втугую прикрывал брёвна, аккуратно сложенные к стене хаты.
– Хозяин наготовил… Хотел строиться… С лета на лето всё откладывал, всё откладывал…
– До границы, повторяю, нитку дожмём, и мы… Со своими солдатушками в неделю подыму храмину. Это я вам говорю! А сейчас мне пора…
Говорил Богдан отрывисто, невнятно.
Недоверие старухи вывело его из колеи. Но он понимал, негоже вот так, на «злой ноте», расставаться, и, делая вид, что о чём-то серьёзном думает, собирал скобчатые брови к переносице, сосредоточенно «думал» – давал себе остыть, перекипеть. Наконец злость в нём на самого себя улеглась, и он, не без принуждения полусветло улыбаясь старухе, поблагодарил за борщ, попрощался с нею за руку и пошёл к машине.
Неловко, неуютно чувствовал себя Богдан. «Как-то нелепо всё получилось. Разговор не разговор, а так, какой-то дуренький лепет… вышел с моей стороны… Выказал я себя совсем не с той стороны, с какой хотелось бы, хотя, собственно, знаешь ли ты, несчастный долгоносик-трубковёрт, где та сторона, где эта?»
Медленно кланяясь старухе, Богдан почти боком шёл к машине. Старуха растерянно смотрела на него. Молчала.
Кто они друг другу? Случайные люди? Ну, может, случайными были в прошлый раз, когда именно случай занёс сюда его ногу. Но вот сейчас… Старуха чувствовала, не случайные они друг дружке уже, хотела и не могла позвать парня снова в гости, убоялась: «Подумает ещё, что вот подпихиваю ему свою дочку».
И уже из машины он печально поклонился ей, завёл мотор. Сдавая назад для разворота, оглянулся и увидел на заднем сиденье свой старый облезлый чемодан.
«Вот! Я ж вёз его отдать. И отдам!»
Отводя в сторону лицо, он подошёл с чемоданом к старухе. Старуха всё стояла посреди двора, у вжатого Богданом в землю высокого кола, и с интересом постороннего человека ждала, что же дальше, чем же всё это покончится.
– Наши, – сбивчиво заговорил Богдан, – в общем… Наш табор сегодня снялся с места, подался вперёд по трассе километров на двадцать. На новую стоянку… А я не повёз туда свой скарб… Я привёз его вам… Тут, – подал чемодан; старуха приняла и поставила у слеги, – тут всё моё приданое. Валенки, тёплые, на вате, штаны, теплая шапка… Что всё это туда тащить? Я уж лучше всё это дома оставлю. Можно?
– У нас, Богданушка, всё можно…
– Да, – спохватился Богдан, хлопнул себя по лбу костьми пальцев. – Тут немного капиталу на свадьбу. Готовьтесь потихоньку. Денег ни на что не жалейте. Зовите народу потесней. Свадьбу закрутим королевскую. Чтоб и все воробьи были пьяные! Не хуже чтоб как у людей… Через стол чтоб прошло народу сотни с три…
Чемодан сам собой распахнулся, и старуха растерянно прошептала, пораженная увиденными большими деньгами:
– Иль ты на сберкассу налетел?!
Богдан довольно хахакнул.
Капиталы выстрелили точно. Дали эффект, на что втайне и рассчитывал.
– Налететь налетел, но честно. Без разбоя. Достал из кармана книжицу, отщипнул от своего каравая всего какие две тыщухи. На первые свадебные разбросы.
Старуха посуровела, выстрожилась лицом.
– Две тыщи? Откуда у тебя этот чемодан денег? К рублю рубль нёс?
– Нёс, – с лёгким, бравурным вызовом ответил Богдан, – копил… Деньга деньгу зовёт, деньга деньгу достаёт…
– Я никогда таких деньжищ в руках не держала, – вслух подумала старуха и опасливо подняла чемодан, подняла на вес, попробовала, тяжело ли заважат деньги большие. – А лёгкие… Это мне они лёгкие, а тебе-то як добывались?
– Честно. Путь у меня, мамаша, один в жизни. Честный… Жизнь научила… Кре-епко натёрла мозги. Так я куда зря не совал свою копейку… У меня копейка на копейку набегала… И… – Богдан осклабисто улыбнулся. Мол, не мне б говорить это. Само валится с языка. – И… Наша конторка мошек не ловит. Делом занимается… Я сам не пью… Не курю…
Насмешливо перебила старуха:
– Случаем, ты не со знаком качества где на боку?
С иронией ответил и Богдан:
– Не приглядывался.
– Тебя можно у музей под стекло и за деньги показувать. Шоб ту же тещину смесь не пил кто из мужеской артели… По нонешней поре такого у музее тико и завидишь… Бабка я пустоколоска, открытая… Колы и правдушка, шо градусы не пропускаешь, так мне зятька краще и не треба… На корню сгрёб бабку… Видать, баклуши не сбиваешь, самостоятельный, сурьёзный… А от денег отведи мой грех. Не возьму без Марички. А ну против Маричка? Шо тогда?
– Ка-ак против? У неё дорожка одна. Согласная! Вчера в том и расписалась в сельсовете, – полным голосом сказал Богдан.
– Шо она там расписывала, я не бачила, не слыхала от ней от самой. Моть, из осторожности она мне ещё про всё это ваше не хвалится. Да и как хвалиться? Моть, вы ещё до расписки не докувыркаетесь, разбежитесь по разным кусточкам?.. Я такой деньжуры в руках не держала и не надо… Вся моя жизня уместилась в моих морщинах. Морщины – всё моё состояние. Моё состояние никто не унесёт, а эти, – покосилась на чемодан у своих ног, – эсколь всякских бед… Эсколь их ворують, уносять и никак все не унесут. Боюся я их… Не знаю, к чему и…
– Не знаете вы, так знает пёс! Верно говорят, когда сомневаются: а пёс его знает. Пёс и знает!
Холодея от злости, Богдан с чемоданом рванул к собачьей будке. Ещё издали он заметил, что из конуры торчала расплывшаяся тёмным пятном пёсья лапа. Лапа загодя остановила его, не дала подойти плотно.
Богдан прислушался.
Из будки сонно выглянул пёс, показал свою квадратную морду, и, вяло зевнув, утянулся назад.
«А, это он для приманки тихоню из себя строит. А сунься – цапнет!»
Богдан на цыпочках пробрызнул к боку халупки, поспешно пихнул псу за спину чемодан – пёс даже не шелохнулся. Как лежал клубком в углу, так и не взнялся с тепла.
– Не знаете, что с ними делать… Так вот Серко… Пускай хоть спит на них, хоть по четвертной раздает любезным вертихвосткам своим. Мне на трассу с тыщами не скакать!
Старуха пожалела, что всё так повернулось. Ой лишенько, хлопцу пришлось даже в собачью соваться хату, абы бросить там купилки. Зря, совсем зря осердила парубка. Но и принять их вот так запросто она тоже не могла.
«Який-то ты упрямистый, – извинительно выговаривала она ему в мыслях. – Напору в тебе, як в бугае… Ну шо за спех? Приде Маричка вечером, всё обсудим вместях. А то… Як-то не по-людски…»
Старуха вздохнула, спросила примирительно:
– Ты як, с сёдни жить у нас станешь?
Богдана этот вопрос застиг врасплошку.
– До расписки, пожалуй, не надо бы… – замялся он. – А то что люди скажут? Буду наезжать… В гости… Табор теперь наш далечушко… Раз в недельку уж наточняк наведаюсь.
Старуха зажурилась, подставила костлявый кулачок под сухощавую щёку.
– И шо, будешь наскоками?.. До самой до расписки?
– О, как вы заворачиваете! – пыхнул Богдан. – К вашему сведению, да и после расписки так всё и будет катиться! Иначе что, бросай я работу? А кто будет поставлять монету? Серко?
На язык легло ядовитое:
«Много ж масла набьёшь с ваших морщин!»
Однако вслух этого он все-таки не произнёс, осадил себя в пылу.
– Я думала, – как на духу сознавалась старуха, – до закона покняжишь на газу. А потим разом сюда и жить, и работать.
Богдан защитительно вскинул широкую ладонь:
– Не-е! На трассе я нужней. Без трассы вот так сразу кто я? Приймак несчастный. Не-е! На роль прозябателя я не согласен.
– И шо, можь, ты до пензии будешь тянуть свой газ?
– До пенсии не до пенсии… А довести до границы нитку свою обязан. С самой же серёдки России вёл и у самого порога границы брось? Это всё равно, что плыть, плыть да на берегу и утонуть… Не-е. У нас с первой минуты во всё должна войти ясность. До работы я бешеный… У нас будет разделение: труд – мой, а деньги – жены. До грошика пересылаю ей, если затрёт меня куда к чёрту на рога. С вами я откровенен от и до. Я так понимаю… Муж – монеторобот, добытчик. Супругу-повелителю высочайше дозволено отсутствовать. Его отсутствие никого не колышет! Зато его тугрики должны всегда блистательно присутствовать дома. Пока в Истоке не пустят компрессорную, что мне тут делать? В прохожем ряду солнышком торговать? До компрессорной моё место только на трассе. Там я нужней… В крайнем случае буду переводами засылать вам помесячно куска по три, то есть по три сотняге. Скупо? Вам невдохват?
– Як-то у тебя всё наперекрёс… Ще нема семьи, а ты вже откупаешься от неё своими кусками. Да не куски Маричке нужны!.. А!.. Жена без мужа вдовы хуже… Или оно только кажуть, шо муж с женой, что мука с водой: сболтать сболтаешь, а разболтать не разболтаешь… А детвора народится… Кусками батька ей не заменишь. Не превратятся ли твои куски в страшные алименты? По бомагам ее муж, а в жизни, дома его нема… Так, порхунок якый-то… В воскресенье отгостил и слетел… И это – хозяин? Батька детям?
Старухе стало жалко дочку.
Вспомнила себя молодую.
Вышла она замуж в соседнее село. В первое же воскресенье прибежала назад домой, вроде в гости. Повисла у матери на шее, зажалилась со слезами:
– Ой, хорошо ж вам, мамонько, жить за родным батюшкой, а пожили б вы за чужим мужиком!..
Вспомнила старуха то давнее воскресенье, тихо заплакала.
Богдан ободрительно тронул её за сухонькие плечи, подержал её притихлые, покорные зябкие руки в своих руках, будто отогревал, и, ничего не говоря, поплёлся к машине…
Ехал он на трассу и грустно думал, как-то польётся его жизнь в Чистом Истоке.
6
Покоряй сердце любовью, а не страхом.
Миновал, ушёл месяц без дня.
За неделю до Покровов – именно на Покрова была назначена свадьба – Богдан и Маричка разнесли двести пятьдесят приглашений. Не все ли село позвали, прихватили и богдановских солдат с трассы.
Второй день уже распустили на каникулы, но бедной окнастой школе нет передыху. Третью ночь полыхают в школе огни, бьёт оттуда с шипом, с паром ароматный дух; бьёт по временам вперемешку с дымом. Хоть пожарников вызывай.
То Маричкины стряпали товарки.
Как догадываетесь, школа готовилась свадебничать. Пол-Истока радостно работало на свадьбу; у кого выскакивала вольная минута, тот и бежал в школу помочь. Каждому хотелось положить и свой пускай махонький блёсткий камешек в счастье милой звездочки Марички.
Всяк шёл не с пустыми руками, шёл да вроде ненароком и прихватывал кто тройку толстых кур, кто гусей, кто вёл живого барана или козла.
– Ну к чему вы всё это? – рдея, укоряла Маричка.
С шуткой отвечал пришедший, почесывая меж рогов барана, что уткнулся ему в колени:
– Отака скотыняка! Куда хозяин, туда и он. Не отстану, блеет, и шабаш. Вот такая запятая… Вот мы и объявились напару. А уж отсюда похромаю я один. Так что примай на баланс. И не отказывай. Не обижай…
Третью ночь толчётся Маричка в школе на кухне, и час от часу печаль круче, гуще затягивает её бледное красивое лицо.
Маричка чистит одна в уголке картошку; нож неслышно вываливается из руки, втыкается шилоострым носом в пол у ноги. Дивчина сидит, отрешённо смотрит перед собой и ничего не видит.
«Что же он не едет? Как разнесли приглашения, так с той поры и не кажет глаз… Насмешки строит?.. А может, его не отпускают? Ка-ак не отпускают?.. На собственную свадьбу не могут не отпустить.
Уже завтра же в загс на расписку… Все гости съедутся, все будут, одного жениха где-то черти гоняют!.. Что же он думает? Кинул собаке на посмех две тыщи и в кусты?..»
Долгое время Маричка понуро сидит без всякой мысли на лице, невпопад что-то отвечает хлопочущим на кухне женщинам.
«А если и впрямь не пускают? Завтра Седьмое… Перед праздником там надо подчистить, там навести марафет – подай в отчётности полный глянец, что без чёрных очков не взглянешь в полные глаза… Глянец глянцем, но у человека… Не-е… Не могут не отпустить. На свадьбу положены законом три дня. И сегодня отходят последние часы последнего, третьего, дня… А что!?»
Маричка дрогнула, загнанно заозиралась по сторонам.
«А что… А ну сдавила его беда! Я тут Бог весть что плету, а он, может, уже лежит где мертвый?..»
Какая-то неведомая, чужая воля подняла её, вывела во двор.
Плотнели сумерки. Сеялся мелкий, тесный дождь.
Словно в беспамятстве побрела Маричка по пустынной, осиротелой улочке… Её морозом будто окинуло, когда она упёрлась недоуменным взглядом на площади у дворца в памятник Дмитрию Дмитриевичу.
Бюст задёрнут белым полотном. Завтра в десять тридцать, когда молодые поедут из загса уже расписанные, в законе, грянут тут торжества. Тогда-то и сдёрнут покрывало. И поручено это сделать Маричке и Богдану. Как-никак Маричка всё же ученица Дмитрия Дмитриевича, наследница.
В смятении Маричка пятится от Дмитрия Дмитриевича.
Ей кажется, Дмитрий Дмитриевич живой. Стоит и понапрасну не желает терять с нею слова, потому и закрылся от неё белым. Ей припоминается, как он допирал, что ей под пару обязательно нужен кто-то из сельского звания. Не послушала старого. Так вот получай! Получай!
Ниже, ниже опускает Маричка голову, точно прячет лицо от ударов, и проскакивает тёмной тенью мимо белого столба памятника.
Ноги выносят её за село на трассу газопровода. Идёт она споро, срываясь на бег. Ничего! Она разведает всё ещё сегодня! Сколько можно томить себя неизвестностью? Далеко до табора? Двадцать километров? А плевать и на всю сотню! Добегу! Прямо по газу добегу до этих дурацких вагончиков. Узнаю всё ещё до рассвета!
Зацепившись ногой за что-то твёрдое, Маричка со всего маху повалилась на мягкое от дождей месиво. Не чувствуя боли, не вставая, ощупкой обошла пространство вокруг себя, качнулась слабо назад – стукнулась пальцами о гладкий холодный мрамор надгробной плиты. Вскинула глаза – еле различимо виден ближний крест.
«Боже, да я на кладбище!.. – Выстывая нутром, обшарила плиту, осторожно, бережно погладила буковки знакомой надписи, будто ощупью читала, и застонала повинно. – Лёвушка… Лёвушка… – По узкой вдавине, обегавшей по краю плиту с двух сторон, Маричка догадалась, что плиту кто-то недавно сдвинул немного вбок. – Кому же ты, горький, помешал?..»
Могила агронома Льва Барашкова, была на окрайке у самой трассы. Эти газовые архаровцы, которых Богдан зовёт солдатами, задели гусеницей, и плита, обломившись, чуть отжалась, посторонилась под стальным натиском тяжести. Споткнулась об угол щербатой этой плиты и сама Маричка.
«Мёртвые достают и из могилы, – разбито подумала, с тихими слезами прижимаясь лицом к холоду мокрой плиты. – Прости, Лёвушка, прости… Господи-и… Как я могла? Ка-ак?.. Лёвушка, я живому тебе клялась, что буду век весь верная… Клялась тебе в верности до последнего дня своего и вот на этой плите… А куда повернулось? Выходит, врала я тебе?.. Прости… со звоном я в голове… Не та я совсем, за кого ты меня принимал. Прибитая на цвету дура бегу вымаливать подачку у другого… Милый, прости, я и шага больше не кину к тем вагончикам. Наш уговор быть вместе я помню. Помню я каждое слово нашей любви. Как бы я хотела навсегда остаться здесь с тобой… Помоги только наложить на себя руки, помоги переступить этот порожек – страх… Молчишь?..
Они жили в соседях. Вместе учились. В одном классе всегда, за одной партой всегда. Даже в один институт поступили. Лев был агрономом в Истоке, Маричка всё вела звено, став и агрономом. Сговорились они пожениться.
…Однажды осенью – добрый урожай был уже снят – ребятёжь утянулась на выходные в туристский поход по горам. Завеялась Бог знай в какую глушь.
Словно из ковша ударил дождина.
Рассыпался народ по уютным палаткам.
Вдруг в главную палатку влетает парень. Орёт:
– Лес горит!
Лев выронил из объятий Маричку.
За топор и к огню.
Совсем рядом проходила высоковольтная линия. Ветер оборвал провод, нахлестнул на дерево. Пошёл дым. Ветви, на которых висел провод, обуглились, отвалились; провод соскользнул на землю. Вокруг него почернели, задымились опалые листья, трава.
«Провод перечеркнул тропинку… Ходят люди, скот… Надо, – решает подбегавший Лев, – повыше отсечь… Чтоб не мог достать человека!»
Лев с бегу прицеливается к проводу, что свисал вдоль столба. «Если точно попасть, можно перерубить на столбе».
Метнул Лев топор. Мимо!
«Кину ещё!»
Рванулся к топору.
Надо бы обминуть простор у провода – забыл про осторожность, забыл про всё на свете, бросился напрямик. И в нескольких шагах от провода, судорожно дёрнувшись, опрокинулся навзничь. Подскочившая Маричка вальнулась оттащить. Едва коснулась Льва, её так стегануло, что она сама не своя отлетела назад.
Под тугим, навалистым дождём, по грязи непролазной бегом несли Льва на брезенте в ближайшее селенье, в больничку.
Наконец вот и больничка.
Навстречу вышел на крыльцо хирург. Помог внести в приёмный покой. Открыл Льву глаза.
– В морг.
Сказано это было так спокойно-убийственно, что ребята чуть не попадали в обморок от немого возмущения.
– Да, да, – трудно сдерживая гнев, продолжал хирург. – Мгновенная смерть. Удивляться нечему. Шесть тысяч вольт, миряне, это не укус комарика, чёрт его батьку бей! И не смотрите на меня волками. Лично все вы виноваты, что он мёртв… Эх, молодёжь, с золотом кончаете школы-институты! Неужели никому и в голову не пришло на месте оказать первую помощь?!
– Каку-ую? – вырвалось у всех разом.
– Искусственное дыхание, наружный массаж сердца…
Все понуро уставились в пол. Все вроде что-то такое и слышали, но как оно делается, никто и понятия не имел.
– Прошло всего полчаса, – буркнула Маричка. – Разве уже поздно?
Медик укоризненно покачал головой.
– Да это надо делать в первые четыре-пять минут. На шестой минуте хлопоты бессмысленны… Вы хоть представляете, что происходит с человеком, окажись он под напряжением? Под высоким, – как ваш товарищ, – и в десятые доли секунды наступает паралич двигательных мышц и остановка сердца. На ногах в отдельных местах, – врач приподнял штанины у Льва, потыкал в черные пятна у щиколотки, у колена, – кожа обугливается…Сами видите… Если бы вы знали… Надо было к нему подойти… Умеючи! Вокруг же провода опасная зона метров на восемь-десять во все стороны. Если вы войдёте в эту зону обычной походкой или вбежите, вы попадёте под действие шагового напряжения. Что за зверь это шаговое напряжение? Это очень страшный зверь! Сидит он…
Доктор обрезался, замолчал, подбирая нужное слово.
– Нет, точней нашего электрика не скажешь. Как «Отче наш» строгает. Без запинки. «Шаговое напряжение – это напряжение, обусловленное током, протекающим в земле, и равное разности потенциалов между двумя точками поверхности земли, находящимися на расстоянии одного шага человека… Шаговое напряжение зависит от тока и удельного сопротивления грунта». Так слово в слово записано в энциклопедии. Сверял… Знал бы это, как молитву, как дважды два и ваш брат турист… Пояснее бы… Ну вот вам грубый пример. В двух метрах от лежащего на земле провода потенциал земли равен, скажем, двум киловольтам. В трёх метрах – уже одному киловольту. Шаг у вас с полметра. Вы идёте. Одна нога от провода в двух метрах, другая – в двух с половиной. На одной ноге сидит у вас два киловольта, на другой полтора. Разность – полтыщи вольт. Следовательно, вы под действием напряжения в полтыщи вольт. А по госту человеку опасны уже сорок два вольта. Мало человеку надо… Один не выдерживает сотню, другому и двух сотен мало… Тут гора всяких нюансов. Здоров ты или болен. Трезв или пьян. Обут в резину или в сырую кожу… Вернёмся к вашему случаю. Нужно вынести пострадавшего из опасной зоны и не пострадать самому. Как войти в эту зону? Можно прыжками на одной ноге. Можно прыгать и на двух одновременно. Только при этом тесно прижми ногу к ноге. Дальше. С человеком на руках не очень-то запрыгаешь… Тут лучше идти медленными короткими шажками, не отрывая обеих подошв от земли и не отрывая одну стопу от другой…
А на дворе споро хлопотал дождь. Невидимыми молоточками вперебой густо остукивал жесть больничной кровли, будто проверял её на прочность, и тесными ясными струями, напоминающими живую, колышущуюся бахрому, валился с крыши и пухлыми ручьишками сердито скакал по косогору к ближнему оврагу.
На крыльце, в коридоре мокрые до нитки парни, девчата с рюкзаками у ног. В оцепенелом молчании прислушиваются к приёмному покою. Ждут не дождутся, как распахнётся дверь и лечильщик объявит, что с Лёвой полный порядок, отбой, можно не переживать. Что именно это скажет, они почти не сомневаются. Будь плохо, он бы наверняка уже сообщил.
Однако, что же так долго? Оказывает первую помощь? Оперирует?.. Ой ли… Хотя бы выщелкнулся кто из толпы, что ввалилась в покой, когда вносили Льва, да шукнул, что там, как там…
А в приемном покое…
Оглушённые, раздавленные смертью друга, ребята сиротливым табунком жались к стенке и, виновато поглядывая то на Льва, – лежал на кушетке; под ним заляпанный брезент, на котором несли, так и забыли вытащить – поглядывая то на Льва, то на хирурга, покаянно отводили хмурые лица в сторону.
Сознание собственной вины тиранило, жгло душу. В полном молчании побыть бы возле мёртвого друга, вымаливая как бы тем самым прощение, если только вымолишь, да этот скрипучий голос этого коновала… Эта вечная-бесконечная лекция о вреде прочности верёвки в доме повесившегося – всё это распаляло, допекало ребят. Кто его уймёт? Кто заставит замолчать? Всему же место и время. Неужели он думает дурацкой лекцией поднять Льва?
Всем шею переела выходка врача, всех дергала, коробила, но сказать ему поперёк хоть слово никто не решался.
В глубине души и сам врач чувствовал нелепость своей затеи, что, однако, не помешало ему рассудить так:
«За окном лупит дождяра. Неужели я кого выпущу под такой ад? Пускай сперва хоть пообсохнут да послушают заодно. Может, не всё выпадет из уха. А то… Уже при мне гибнет под током третий. И всё туристы, туристы, туристы…»
Едва кончил он говорить о том, как выходить из опасной полосы, – Маричка нетерпеливо огляделась, напряглась.
Все уставились на неё с надеждой.
«Ну хоть ты шугани этого балаболистого лекторишку!» – молили убитые горем глаза.
– А по мне… А по мне… Вы что-то не то… – ершисто и глухо кольнула Маричка врача. – Безо всякого… Безо всяких ваших рецептов подбегала, – перевела взгляд на Льва, – и, как видите, цела. Правда, когда я взялась его тащить, меня будто отшвырнуло назад… Прогнало, что ли… Только и всего…
Доктор прощающе, скупо улыбнулся:
– Благодарите его величество случай. Только и всего. В опасной зоне прикасались к пострадалику… У вас были с ним равные шансы на смерть.
– Так почему я разговариваю с вами, а он?..
Доктор обвёл её неспешным цепким взором.
– Насчёт лично ваших шансов я, пожалуй, хватил лишку… Во-первых. Вы с товарищем были на разном расстоянии от провода. Лично вы были дальше. Понятно, потенциал земли под вами был меньше. Он, – врач указал на Льва, – был ближе. Через него прошёл ток большей силы. Во-вторых. Он попал под шаговое напряжение. Ток по телу его растекался самым опасным путём: со ступни с большим потенциалом к сердцу и к другой ступне. По вас же ток шёл другим путём… Кстати, какой вы прикоснулись рукой к пострадавшему?
– Правой. Она у меня вроде как занемела…
– Ток прошёл. Мышцы внутри обожжены… Эту беду от вас я отведу… Так вот, ваше счастье, что именно правой. Помимо того, что по вас прошёл ток слабей, шёл он ещё и не так опасно: через правую руку, в обход сердца и в ноги. По пути наименьшего сопротивления… Схватись левой… Говорили бы сейчас?.. Не знаю… Да и обувь… На нём кожаные туфли с сырой подошвой, на вас резиновые боты. Есть разница?
Вот теперь и через три года жалеет Маричка на кладбище, что не схватилась тогда левой рукой.
«Лёвушка… Золотко… Милый мой соколик… Не ток, не трусость моя отогнали меня тогда от тебя. Ты сам… И только после я поняла, почему ты оттолкнул, отбросил меня от себя в ту последнюю минуту. Я и тебе скажу, не потаюсь… Ты обиделся, что подала я тогда правую руку. Правая для всех, левая для единственного друга. Ты и в такой кусочек времени, может, в сотую долю секунды, разобрал, какую именно руку протягивала я тебе… И отбросил. Иди ко всем, будь со всеми!.. А мне никто не нужен, мне нужен ты один… Когда ты упал, все бежавшие за тобой остолбенели. Никто не знал, что же делать, чем же тебе помочь. Глазами шалыми спрашивали друг у друга совета, не двигаясь с места. И только мне некогда было теряться. Не остановилась как все, не стала играть в переглядки. Поскорей поднять! Отвести от тебя беду! Взять твою беду!.. Это потом я узнала, что ты под током мог продержаться всего-то что-то около половины секунды. Что я могла в полсекунды сделать? Полсекунды мне не хватило на добро. Полсекунды мне хватило только на глупость. Сунула правую… Это какой-то демон толкнул именно правую. И в этом моё преступление перед тобой, перед нашей любовью. Но посуди. Было ли в тот момент когда разбирать, где левая, где правая? Случай мог кинуть и левую, тебе одному принадлежащую. Тогда бы ты не отбросил, не отшвырнул меня от себя… Тогда б навсегда мы слились в объятии и никогда-никогда не разлучались больше… Тогда б я сейчас не плакала… Как ты горько наказал меня… И я на тебя не в обиде. Я в обиде на саму себя… Ведь ты же загодя говорил о беде… Предупреждал… Я не поверила… Помнишь, дня за два до похода мы встретились. Последние обговорили мелочи походные, я под интерес и напомни: «На той неделе у тебя день рождения. Не забыл? Двадцать четыре… Скоро гульнём на ять!» А ты скорбно так улыбнулся и ещё скорбней проговорил: «Ты погуляешь, моя Ками-сама[96]. А я нет». – «Да брось ты эту хандру! Всё так прекрасно кругом! Расшибец!» – «У меня какая-то давящая пустота в груди… Сердце что-то ноет… Умру, наверное, скоро…» Я и взвейся: «Знаешь что, друг! Ты сына не воспитал, дерево не посадил. А умирать собираешься?..» Какая я до тошноты правильная была. Почему я не положила веры твоим чёрным предчувствиям? Не знаю, не знаю… Я не верила тогда… Я не верю и сейчас, что ты ушёл… Кажется, отлучился в район по делам и вот-вот вернёшься… Ребята по-прежнему тебя любят. Чтят. Из живых, из коллектива, не вычёркивают… Аккуратно платят профвзносы… Работают за тебя… В ведомости только против твоей фамилии всегда белеет чистая полоска. Не мажут её. Никто не расписывается, а зарплату твою пересылают в детдом, возле которого случилась с тобой беда… А так… Что ещё?.. Да. Наконец-то женился Жорж Савенков. Взял из Долгого Ларису Криворотову. О своём браке Жорж сказал как-то: «Покончил жизнь самоубийством!» – и при этом хорошо засмеялся… Наша Оля Дудченко среди доярок района выскочила на первое место… Ваню Пилипа переводом сосватали в Иршаву. Люба Потешина кончила торговое училище, теперь в продмаге наводит глянец… Давно там не было порядка… Отслужил Витюк Черкас. В бескозырке королевствует. Очаровал, захлестнул до сердца. Девки вьются хороводом. Да… Налаживается Витюк в Москву. К своей Танечке Венецевой… На днях у нас в Чистом пела Жанна Бичевская. Ты так её любил… Пела… «Милый мой, возьми меня с собой. Там, в краю далёком, была б… тебе… женой…» По телевизору прошёл «Подросток». В фильме твои любимые Наталья Гундарева, Олег Борисов… Что ещё?.. Бабушка моя долго хворала. Еле оттерлась от болезни. В воскресенье первый раз встала. Я плела. Она шатко подскреблась – там вся сияет! – села к коклюшкам и вальнулась вбок. Едва удержала я её на стуле. Смеётся: «Чуть бабука не кубыркнулась… Совсем сгасла… Шутка в деле… А пораскинуть… Який спрос сымешь с моих с девяноста? Яку пенку смахнёшь с моих старючих годов? Ось шо, внука… Шоб не качалась я былинкою в поле, привяжи меня к стулке». – «Бабуня, да вы что! Кто чужой войдёт, что подумает?» – «Вяжи!! Я тебе заздря вчила кружева плести? Ты выполнительная… Вяжи, отрабатывай должок… Как же это не в деле сидеть?..» Ну, привязала… Плести она уже не может. И без коклюшек не может. Со счастьем ребёнка грохочет коклюшками, слушает их гром не наслушается. Ей кажется, она снова плетёт… Смотрела-смотрела я на бабушку да и заплакала… Знаешь, мой сладкий, я перед тобой виновата и сейчас, виновата тем, что наобещала всё тебе рассказывать, что происходит в Истоке, а сама кой да что стаиваю. Как-то не хочется тебя тревожить, всё молчала про преподобного папу… Ты не забыл, папой ты называл Иосифа Абрамовича, голову колхоза Якубовича? Так вот этот прыткий папа, аршин с кепкой, первый прокрякал твоей маме о беде, сам толком не зная ничего. Мы, походчики, ещё не втащились в Чистый, а папа уже эахлёбисто звонил на всех углах. На похоронах он чувствительно бил себя в грудь воробьиную, клялся-чирикал, что колхоз всенепременно поставит хороший памятник. Постучал и забыл. Только с месяц тряс его овечий кашель, больно уж усердно подсаживал на похоронах себя в грудки. Парубки и пусти шапку по кругу. Кинь кто сколько может. Провели ещё субботник. На молодых рублях и возрос памятник… Вот такие они, милый, дела… А оградку не стали ставить. Ты как-то ненароком в шутке уронил, что если умрёшь, то б не хотел, чтоб была на могиле ограда. «Я агроном. Не отделяйте меня от поля». Это я запомнила…»
7
Жена три угла держит в доме, а муж – один.
Нарастающий шум машины, натужно приближавшейся снизу по дороге, что чёрно простёгивала мимо кладбища с противной стороны, заставил Маричку подняться. Ей почему-то показалось, что в машине её все равно увидят. Маричка упёрлась руками в осклизлый холод острого края плиты, резко оттолкнулась и, всплывая, зажмурилась: навстречу машина гнала плотную стену золотистого света.
Несколько притерпевшись к свету, Маричка чуть раздёрнула глаза. Машина с асфальта нырнула в пологую канаву, с подвоем выкарабкалась и по крайке погоста взяла к Маричке, поднося всё тесней и тесней скачущую белую полосу света. Защитительным крестом вскинула Маричка руки, отгораживаясь от яркого, обвально-слепящего огня.
«Кого это лешак сюда несёт!» – насторожённо подумала, полуотворачиваясь.
Вкопанно, как-то устало замер «бобик» возле Марички.
Сухой, короткий, словно выстрел, хлопок дверцы.
Удивленно-торжественный бас Богдана:
– Мари-ика!.. Ты чего здесь?..
– Я… Я… – пропаще залепетала Маричка.
И тихо.
Только дождь яро толчётся на брезенте машины.
Богдан дрогнул, близко увидев измученное мокрое девичье лицо.
«Не с дождя, со слёз мокро…» – опало подумал.
– В такой проливень… Одна… На кладбище… – сбивчиво рокотал Богдан. – Что всё это значит?..
– А то и значит!
Маричка широко замахнулась ударить, но путевой оплеушины не получилось; так, кисло мазнула по щеке и с больным взрыдом повалилась Богдану на грудь.
– О господи! Прости всё сразу, – приобнимая ласково Маричку за остренькое плечо, повинно зашептал Богдан. – Марика, капелька ты моя чистая… Бей! Я заслужил… Виноват перед тобой… Отбил номер – получай, чтоб… – схватив её за локоть, с силой полоснул её кистью себя по щеке, по другой, – чтоб в пятках отдавалось…
Маричка выдернула локоть, занесла за спину.
– Бей, жги, только прости за всё… Не тянет бить – ругай. Ругачка для нашего брата прогресс. Нас, мужиков, надо строгать да строгать… Мы воск…
Маричка безразлично повела плечом.
– Да, да, – разгораясь, просветлённо подтвердил Богдан. – Ты как не от мира сего… Видишь жизнь в цветном исполнении. Прям готовенького, в упаковочке, хочешь заполучить мужа. А так, моя пикколо бамбина[97], увы, не бывает… К слову, в тебе сто шестьдесят четыре сантиметра. Да знаешь ли ты, что у тебя рост Венеры Милосской?
Маричка охладело молчала, и Богдан, смятый её безучастностью, заговорил уже сдержанней, рассудительней.
– Ношение брюк ещё не доказательство, что ты мужчина. Ты вон сама носишь брючки. Нынче мужик – это тупак, пластилин в брюках. Бери и лепи, что душеньке угодно. Это воск. Что хошь, то и сливай. Ты вон, например, – прошу извинить за громкие словеса! – слила из меня совсем нового человечину!
– Будет тебе заливать… – затихая в слезах, отстранённо буркнула Маричка.
– И не думал! – воскликнул Богдан, радуясь, что наконец-то подала Маричка голос. – С тебя… С твоей делянки завязалась новая эра в моей беспутящей житухе! Того-то я не мог в эту неделю и на минуту вырваться. Я там, извини, не девок шелушил. Сдавал комиссии свой участок от твоего поля и дале на запад. Беготни-и!.. Зато и отвалилось такое, что разом не обскажешь. Представляешь, моих солдатушек придавили экспресс-премией! И за что? Одни красивые глазки премию не выволокут… За то, что отхватывали мень нормы на отчуждение. Знаешь же, надо двенадцать, а мы – восемь. И весь дёрн чин чинарём сберегли, вернули на прежнее… Полный порядок… Выходит, запели, можно и на восьми распрекрасно работать. Так что теперь за восьмёрку пыхнула целая война. Говорят, вроде везде введут такую ширину. Конечно, и противников тучи. Противников этой восьмиметровки. Пока перемалывали… То да сё… Куда от дела?.. Метался, бегал до сдвига фаз…
– Бегающий патриот… – укорно покачала головой Маричка. – Метался всю жизнь до этого… Видать, метаться тебе и дальше, шатун…
– А как не метаться, голубанюшка? Как не суетиться, будто змея на кочке?.. Верно французы говорят, надо идти своей трудной дорогой, а не дорожкой с подстриженными газонами. Я и иду своей трудной… Жизнь везде достаёт…
– Значит, вся жизнь там? На газопроводе? А здесь что, могила? Я его жду, жду… – Маричка обиженно замолчала. Вслух подумала: – Весь ты там, в своих хлопотах. Даже на свадьбу не спешишь. А поспешишь ли потом домой? После свадьбы?
– Ну я же приехал… Свадьба-то завтра!
– Ах, в счастье попал… Ты б на свадьбу ещё заместителя прислал своего или шапку вместо себя, как…
– Думаю, – вскозырился Богдан, перебив её, – Бог мне простит мою резкость и ты тоже… Во-первых. И в мыслях не было походить на того типа из истории, чью тень ты на меня тянешь. А что до шапки, так я тебе её принес домой в чемодане со всеми своими тряпочками ещё месяц назад, на второй день после заявки. Так что шапка у тебя дома уже давно. Во-вторых…
Богдан осёкся.
Не хватило пороху выдержать строгость и, извинительно, в досаде коротко вскинув руки, повёл уже уступчивей, мягче, шелковистей.
– Заранее прошу тебя. – Он тихонько взял её за плечи. – Брани почаще, буду слаще. Если б… Опять сносит на тогда… Замахнулся я на двадцать четыре. Расстегнул глотку… Задала ты пфейферу. Чётко осадила на восьмак. Возьми тогда мой верх, дело б у нас рассохлось, остался бы я прежним гастролёром-рублехватом, этаким лихим савраской без узды. Но ты устояла на своём. Вступилась за ленточку земли. А кончилось… Именно с первой встречи с тобой… Именно с твоей земли пошёл я в чём-то… другой. Со временем помалу как-то поднялся в собственных глазах, в глазах всей стройки. Возведут вот, глядишь, в норму нашу восьмиметровку… А без тебя был бы этот зачин? Понимаешь, кто ты для меня? Для моих солдателли?
– Без понятий… – не сразу ответила Маричка. Казалось, будто издалека достал её его вопрос, без видимой охоты отозвалась. – Только знай одно, твои газовые бакланы – нехристи… Им даже мёртвые мешают. Своротили плиту…
Поверх Марички Богдан глянул ей за спину, откуда размыто, полупризрачно, как-то отжито серела надгробная плита. Капли дождя, разбиваясь, глухо вызванивали по ней.
– Ты уж строго не карай, – винясь, попросил Богдан. – Мы так старались тут, так старались… Выскочил как на грех угол кладбища на сам путь трассы. Так осторожничали… Сколь можно отступили… Вроде разошлись без особой беды… Однако, – качнулся верхом в сторону плиты, – смирняга тут жилец, терпеливец большой… А вот коснись меня, я би из-под тонного камешка не смолчал, что потревожили домок.
– Не паясничай.
– Поворчи, поворчи… Это тебе в пользу. Странно даже… Не выкати ты тогда на сто лет[98], не царапни, разве – даю честное-расчестное – были б мы теперь вместе? Мда-а, мины рвутся все ближе… До нового года трое у нас женятся. Что делают, что делают «девушки повышенной опасности»
– верховинские крали!..
– Мы – вместе?.. – сломленно прошептала Маричка и повинно повела вокруг очами.
– Увы и ах, подтвердил товарищ монах. Именно вместе!
– Проворно снимая с себя плащ и развешивая его на широко раскинутых руках над Маричкой, наливающимся твёрдостью голосом пробасил Богдан. – Венерами Милосскими не бросаются. Отнесли заявку, союзом потопаем и под расписку. Сказал а, говори и бэ!
«Пока не поздно, не остановиться ли нам на а? – путано подумала она. – Куда вело, туда и брело… Как же меж двух огней?..»
Вслух же выговаривала уныло, окусывалась:
– Если сейчас ты так… А… Я про свадьбу… Не спешишь… А ну случись… Отбежишь от слова от своего… Кинешься летать со стройки на стройку… А я кукуй одна?
Богдан оторопело смотрел на неё и в первую минуту не знал, что и сказать.
– Ин-те-ре-е-есненько – наконец прорвало его. – Если я кукуй один – пожалуйста?
– Это ж когда ты успел накуковаться без меня?
– А ты ничего и не помнишь? Уже при мне ты сколько раз отъезжала? То в Иршаву? То в Ужгород? То в Киев? То в саму Москву? Не помнишь? Заколебали эти совещания-мутатания! Как же! Без передовички из Чистого Истока Москва не может заснуть! Кому нужна эта бесконечная делёжка опытом? Девчата у тебя в звене что поют? Маричка вечно в разъездах-путешествиях по стране! А мы за неё паши. А урожайка раскладывается на всех! Открыто говорят: она прохлаждается, а мы за неё знай паши! Она только не забывает грести денежки да почёт! Ты-то на себя глянь… Это ты у нас будешь больше блистательно отсутствовать! А вовсе не я!
Маричка повинно молчала.
Богдана это подстегнуло, и он уже твёрже вёл свою линию:
– Так что, подружа, не в ту степь ты сворачиваешь. Прежде чем сказать слово, я крепенько взвешу. Знай, моё слово не с ветра упало. Сказал – связал. Ещё раз повторю: дальше компрессорной не упорхаю. А до компрессорной буду гнать домой переводы.
– В деньгах вся жизнь? Пойдут… когда-нибудь дети… Что, я им с карточки стану папаньку показывать? Ты ж незаменимый на своём газе! И не превратятся ли твои переводы в чумные алименты?
Богдан жертвенно закатил глаза. Надоело! Ну что молотить одну и ту же копну? Одну и ту же?
Демонёнок поджигает бросить обидную колкость, но Богдан сдерживается. Возражает прощающе, уступчиво:
– Ты не своё, Марика, поёшь… Всё это я уже слышал от твоей мамушки. Слово в слово слышал. Так что не обессудь. Повоспитывала и доволе на первый раз. Разумное принимаю к исполнению…
И, в досаде саданув кулачиной в ладонищу, гордовато выкрикивает:
– Да! Забыл главное!.. Мои присады пошли в серию! Сообщили мне… Больше не будут гибнуть орлы. И аисты!.. А то б дожили, некому стало носить детей…
– Тебя всё на смех заносит…
– А чего горюниться? Переедем вот сюда с музыкой, – потыкал в кресты вокруг, – тогда и нагорюемся. А пока нам пора домой. Прочь от этой сыри… В тепло!
Как сквозь мглу неуверенно, выплаканно спросила Маричка:
– К-куда-а?..
– До-мой, – по слогам повторил Богдан. – У нас с тобой дом один.
Примечания
РУСИНИЯ
РУСИН – СЫН РУСИ!
Лучше садися под тень Льва и Тигра, нежели под покров лукавого.
Александр ДухновичА закрутил всё коварный господин Случай в командировке.
От одного толстого московского журнала я приезжал осенью 1980 года в карпатское село Белки за очерком о знатной звеньевой кукурузоводческого звена.
Материал я собрал дня за два и уже был на автобусной остановке, чтоб вернуться в Ужгород, а там и в Москву.
На автобусной остановке я невольно подслушал страшную историю семьи Н., и автобус без меня упылил в Ужгород.
А я ринулся к братьям Н.
Они всего-то три месяца как вернулись из Канады.
Пожилые братья рассказали мне грустную историю про то, как недавно ездили в Канаду на встречу с отцом, которого не видели полвека. Рассказали про его жизнь, про то, что сами видели там.
Одному рассказчику было с год, второй жил у матери под сердцем, когда отец уехал за океан заработать на землю да на хату. Уехал и пропал. Вот только отыскался…
Многие мужчины уходили отсюда в прежние времена на заработки в Штаты, в Канаду, в Бразилию (в Бразилику, как тут её называют), в Аргентину.
Многие уходили, да не все возвращались.
Застарелая карпатская открытая рана.
Я объехал в округе всех, кто побывал там, за океаном.
Иван Иванович Жупанин.
Пётр Иванович Жупанин.
Анна Петровна Бабинец.
Дмитрий Павлович Кармазин.
Фёдор Юрьевич Ильницкий.
Юрий Васильевич Кепич…
Русин у себя дома, на Верховине, и за границей, в США, в Канаде, – нетронутая тема в современной русской отечественной литературе.
Почему бы мне не тронуть?
«Русиния» (первоначально роман назывался «Верховина, или Путь из-за океана» и был в «ранге» повести) поглотила меня. Писал я её почти круглыми сутками, как в угаре. Начал во вторник 24 июня 1980 года. А уже в пятницу 31 октября того же года повесть была вчерне готова. Потом «белил» до четверга 25 июня 1981 года. Один год и один день вырезала у меня «Верховина».
Тут надо сказать искренние слова благодарности моим большим, добрым помощникам. Это прежде всего киевский учёный, профессор института искусствоведения, фольклора и этнографии Академии наук Украины Алексей Иванович Дей и талантливый московский критик Леонид Павлович Бараев.
На год я запер рукопись в стол. Для выдержки. Потом прочитал, поправил и 11 декабря 1982 года отправил на верховный суд Ф. Ф. Кузнецову, первому секретарю правления Московской писательской организации СП РСФСР.
Кузнецов направил рукопись руководителю секции критики В. И. Гусеву. Тюбетеечно я знал Гусева по Воронежу. В молодости я работал в щучинской, потом в лискинской районных газетах, засылал свои «бессмертинки» и в Воронеж, в «Молодой коммунар», где Гусев работал. Мы встречались только на газетной полосе. А теперь вот через четверть века встретимся нос к носу? В натуре?
Я позвонил ему, и мы уговорились о встрече.
Он спустился к проходной Союза писателей. Встретил выкинутой вперёд рукой с оттопыренным большим пальцем:
– Вот такую вещь написал! Квалифицированно! Сочувствующую рецензию гарантирую. Этой темой интересуется в «Совписе» Немченко. Неси к нему. Пусть передаст мне на рецензию.
Тут же звонит Немченке. Тот в творческом загуле.
Приходит день, и я тащу повесть в «Совпис». В издательство «Советский писатель».
Редакцию русской советской прозы вёл там Гарий Леонтьевич Немченко. Мы были с ним немного знакомы. Это он в журнале «Смена» напечатал в моём переводе с украинского рассказ Миколы Винграновского «Не смотри мне в спину».
При встрече я перепутал отчество Немченки. Обрадовал:
– Гарий Львович! Я Вам рукопись принёс!
Он искренне улыбнулся, отечески похлопал меня по плечу и наклонился к моему уху, чтоб не слыхали остальные в комнате, – коробочка была полна:
– Я и сам не прочь бы быть Львовичем. Но… Для начала я всё же Леонтьевич. В компании «Толстой и дети» и без меня тесно… Владимир Иванович приложил к Вашей рукописи рецензию?
– Пока без приложений.
– Тогда ему и пошлём на рецензию. К тому же Гусев член правления нашего издательства.
«Основной пафос, которым руководствуется автор, не вызывает никаких сомнений: А. Санжаровский ратует за верность родине, стремится показать трагедию и обречённость людей, порвавших с корнями. В «Верховине» есть изобразительные достоинства: автор хорошо владеет предметной деталью, ощущает характеры.
В столь серьёзном и трудном деле, которое взвалил на себя А. Санжаровский, облегчённые пути исключены. Иначе материал начинает работать в обратную сторону. Рукопись как минимум нуждается в доработке. Но готов повторить, что спасти её для печати было бы очень хорошо и полезно».
Мда-а… Ну что? Нормально? От таких рецензий пулю пускают в лоб? Тем более, когда нет денег ни на пистолет, ни на пулю. А взаймы могут и не дать.
Конечно, предела совершенствованию нет и каждый час, проведённый, казалось бы, над уже готовой рукописью, никогда напрасным не бывает. Я попытался взглянуть на свою повесть чужими холодными глазами.
Как бы со стороны.
Мне открылось такое, над чем я не мог не поработать ещё.
Я считаю, выстраданная книга – это как родившийся ребёнок. В нём ничего нельзя ни убавить, ни прибавить. Каким, скажем, роман слился, таким и живи.
Треть событий в повести происходит в Закарпатье. Раньше его называли Подкарпатской Русью. Хорошо бы дать прочитать повесть знающему Западную Украину, чтоб ничего «неправильного», случайного не проскочило в книгу.
И вот отзыв ответственного секретаря совета по украинской литературе Союза писателей СССР Виталия Григорьевича Крикуненко:
Значительное место в повести занимают канадские события. Кто бы и тут дал мне своё добро? Всё-таки не хочется, чтоб были в рукописи хоть мелкие накладки.
В то время в «Литературной газете» шёл цикл очерков Виталия Коротича о жизни выходцев с Украины в Канаде. Я с упоением читал эти захватывающие душу очерки и креп в желании написать ему. Виталий Алексеевич Коротич – крупный поэт, главный редактор журнала «Всесвiт», автор книги «О Канада!». Человек и без меня занят по горло.
И я всё же переломил себя. Отправил свою просьбу разрешить прислать ему «Верховину» на отзыв.
Виталий Алексеевич быстро ответил.
Пробежал июль, прожёг мимо и август…
Конечно, текучка сотворила своё болотное дело.
Засосала.
Я узнал, что на писательский пленум в Москву приехал Коротич. И я кинулся отыскать его по телефону.
Семь утра.
Звоню в «Москву». В гостиницу.
Ответили. Я:
– Виталий Алексеевич?
Густоватый со сна басок:
– Это который Коротич?
– Да.
– Он на седьмом этаже. Но не на седьмом небе. В двадцать девятом номере. И у него на конце семь тридцать пять. Вы понимаете, о каком я конце? Телефон тот же. Да конец семь тридцать пять.
Восемь двадцать пять утра. Снова набираю. Занято. Ничего, подождём. Нам спешить некуда.
Восемь двадцать шесть и пять. Свободно!
– Виталий Алексеевич, здравствуйте! Вас беспокоит, – и называю свою фамилию.
Отвечал он несколько виновато. Как мне показалось.
– Прочитали ли вы мой несчастный труд?
– Да, прочитал. Вещь очень стоящая. Но я никак не могу усадить себя за развёрнутую рецензию. Некогда… Я напишу частным письмом. Говорить есть о чём и ко времени, ой как ко времени! Вы уж ради Бога извините меня!
– Да нет! – не уступаю я в вежливости. – Это вы меня извините за надоедливость. Когда вы сможете написать?
– Сейчас у нас конец сентября… В октябре… В начале октября. А «Верховина» сработана похвально! Удач вам новых!
– Спасибко вам! И всего вам самого доброго!
Дела наши не так уж и плохяк. Как сказала бы одна моя героиня Таня Саницкая: «Не тухленько, господа! Не тухленько!! Именно-с!!!»
Подхожу к окну. Две груши под окном совсем листом ярко-жёлтые, верх даже уже причернел. Туман.
В тумане соседняя высотка совсем как привидение.
Вскоре пришло письмо от Виталия Алексеевича.
Не вскрывая конверта, я пожалел. Да, не надо бы частного письма… Он же прекрасно знает все эти издательские тупики, и частное письмо – это всё же не то, что рецензия по заказу самого издательства.
Но он будто читал мои мысли.
Забегая наперёд скажу, Виталий Алексеевич Коротич действительно оказал мне неоценимую помощь. Это уже при нём, главном редакторе «Огонька», в «Библиотеке «Огонька» появились в моём переводе впервые на русском языке пятнадцать рассказов талантливого украинского сатирика Василя Чечвянского, репрессированного и расстрелянного в тридцать седьмом. Позже Василь Чечвянский был реабилитирован.
Без поддержки Виталия Алексеевича не видать мне «Библиотеки «Огонька» как своего затылка.
Стоит к месту добавить. Со временем я перевёл на русский основную часть иронической прозы В. Чечвянского, этого украинского Зощенко, и на свои средства издал в Москве однотомник его сочинений в своём переводе. Эту книгу я выпустил в 2013 году. К 125‑летию со дня рождения В. Чечвянского.
Тут не обойтись без отступления.
Нельзя не привести строки из книги Натальи Шубенко «Неизвестный Харьков»:
«К середине 30‑х романы Ильфа и Петрова были переведены на множество языков – редкий случай популярности при жизни. Среди них есть и столь экзотические, как румынский, хорватский, македонский и даже хинди. Отсутствовал, как ни парадоксально, перевод… на украинский. Пытаясь решить эту проблему, Ильф и Петров в 1936 г. вновь приезжают в Харьков на встречу с писателем Василем Чечвянским. Увы, работе не суждено было осуществиться: через несколько месяцев украинского писателя арестовали и расстреляли как «врага народа». Впрочем, и сам Ильф держал наготове сумку с двумя сменами белья.
Лет пять назад в интернете не было даже упоминания о Чечвянском. Очерк о нём и его фотографию я отправил в киевский биографический банк данных «Личности». Тогда и появились в интернете первый материал о Чечвянском, снимок с автографом, что я посылал. К слову, позже из шести картинок о Чечвянском пять появились при моём старательстве.
Но почему дело с мёртвой точки столкнул именно русский? москвич? Почему в Киеве до этого сами не доехали?
Я просил финансовой поддержки у сумского губернатора Чмыря Ю. П. Надеялся, что поможет издать книгу переводов рассказов Чечвянского, его земляка. Даже не ответил чинуша Чмырь. Не ответил на такую же мою просьбу и харьковский губернатор Аваков А. Б. В Харькове прошла почти вся творческая жизнь Василя Михайловича.
Насколько мне известно, за все пятьдесят шесть лет после посмертной реабилитации у В. Чечвянского вышли на Украине лишь две тощенькие книжечки. За последние сорок пять лет ни одной книги не издано на Родине.
Зато в Москве за последнюю четверть века вышли три книги его рассказов в моём переводе. «Радостная параллель» – третья книга. «Избранное». Я выпустил его к 125‑летию В. Чечвянского на свои тоскливые пенсионно-инвалидные миллиардищи. Уцелевший русский репрессированный выдернул из забвения расстрелянного репрессированного украинца.
13 марта 2013 года «Клуб 12 стульев» «Литературной газеты» опубликовал мой перевод рассказа В. Чечвянского «Подход» с таким предисловием.
«Мы уже знакомили читателей с творчеством украинского сатирика Василя Чечвянского (№ 16, 2008 и № 44, 2011). Он родной брат классика украинской сатиры Остапа Вишни. Оба писали под псевдонимами, их настоящая фамилия Губенко.
У Василя Чечвянского (1888–1937) трагическая судьба: в разгар большого террора он был арестован и расстрелян. Что касается литературной судьбы, она постепенно улучшается благодаря усилиям писателя и переводчика Анатолия Санжаровского. Анатолий Никифорович всячески пропагандирует творчество «Колумба украинского юмора». Сейчас, к 125‑летию сатирика, он даже издал за свой счёт (!) сборник его рассказов «Радостная параллель» (М.: Книга по требованию, 2013)».
А вот насчёт рецензии на свою повесть я задумался.
По доброжелательному тону письма В. Коротича и по телефонному разговору я понял, что претензий к «Верховине» у него не будет. Это для меня главное.
Но всё же…
Для крепости тылов я решил послать обновлённую рукопись и великому русскому писателю Василию Ивановичу Белову, члену правления издательства «Советский писатель».
Глубокоуважаемый Василий Иванович!
Посылаю Вам на отзыв свою повесть «Верховина, или Путь из-за океана».
Вы уж ради Бога простите. Прекрасно понимаю, загружены Вы сверх всяких мер. Но не могу не обратиться к Вам, к народному писателю, к народному депутату.
Посылаю Вам и свою единственную книжку повестей «От чистого сердца». Это пока всё, что я мог издать в свои пятьдесят лет. Тяжко на Руси живому русскому слову.
С уважениемА. Санжаровский 8 апреля 1989.Мнение Василия Ивановича Белова, секретаря правления Союза писателей РСФСР, пришлось мне по душе. Он, в частности, писал:
Я успокоился за рукопись и решил: есть два положительных отзыва – хватит!
Сменился в стране строй.
Вломился новый век.
Более трёх десятков лет не отпускала меня «Верховина». За эти долгие годы она значительно увеличилась, переросла рамки повести, и я не мог не повысить её в «должности». Стала повесть романом. Сменил и название. «Верховина, или Путь из-за океана» стала у меня «Русинией».
Русиния…
Это имя прислышалось, пришло ко мне в Мукачеве, в исторической столице Подкарпатской Руси…
Когда я занялся примечаниями к «Русинии», я невольно полез в историю русинов. И здесь открылась бездна непонятного и странного.
Как известно, «Карпаты являются общеславянской прародиной, откуда в седьмом веке славянские племена рассеялись в разные стороны». «Так потомки древнейшего коренного русского населения Карпатской Руси, частично Киевской Руси (самоназв. русины, т. е. «сыны Руси»; русичи, руснаки, карпатороссы, угророссы, русские галичане, угрские русины, галицкие русины, буковинские русины, др. назв. – рутены) – жители основных исторических регионов Западной Украины (Прикарпатской Руси и Закарпатской Руси; живут также в Польше, Словакии, Сербии, Франции, США и др.), которые несмотря на многовековое существование в составе различных государств (особенно Австро-Венгрии), оторванность от России и украинизацию сохранили русское этническое самосознание, русский язык и православную веру». (Энциклопедия «Народы России», стр. 283. Москва, научное издательство «Большая Российская Энциклопедия, 1994 год.)
Жили и живут русины в Закарпатье, на Верховине, где происходят события романа. По географическому энциклопедическому словарю (Москва, 1989), «Закарпатская Украина, Закарпатская Русь, Закарпатье – историческое название территории современной Закарпатской области. В 10–11 веках в составе Киевской Руси. Древнейшее население – славяне. В 11 веке захвачена Венгрией, затем в составе Австрии и Австро-Венгрии, с 1919 в Чехословакии, в 1938 оккупирована Венгрией. В 1944 освобождена Красной Армией, с 1945 в составе Украинской ССР».
Но вот в Большой советской энциклопедии(1955) читаем:
«Русины (руснаки) – название, которое в официальной австро-немецкой, а также в польской и русской литературе применялось по отношению к украинскому населению Галиции, Прикарпатья и Буковины (бывшая австрийская часть Западной Украины). После воссоединения всего украинского народа в Украинскую ССР (1940) название русины не употребляется».
Века и века был народ и вдруг не только его, этого народа, не стало, но и само слово русин уже не употребляется! В срочном порядке!
Эта «срочность» налетела сразу после того, как Никита Хрущёв спьяну отлучил единым росчерком пера Крым от России.
Уж так и «не употребляется»? На следующий год после выхода «не употребляется» вышел «Орфографический словарь русского языка». На месте и русин, и русинка, и русинский.
И русины как жили, так и живут.
Но…
Приведу отрывок из статьи Андрея Фатулы, заместителя председателя правления Русинского землячества «Карпатская Русь»:
«… 1945 год – новый передел Европы. По соглашению между Чехословакией и СССР от 29 июня 1945 г. автономная республика Подкарпатская Русь, переименованная в ноябре 1944 года подкарпатскими коммунистами в Закарпатскую Украину, вошла в состав Советского Союза. В январе 1946 года, в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР, республика была включена в состав Украинской ССР с понижением ее в статусе до области. Однако Подкарпатская Русь просилась в состав СССР на правах автономии! Что же получилось? Руководство СССР и Советской Украины просто обмануло народ автономной русинской республики, резолюцию партийной конференции края, состоявшейся в городе Мукачеве (на которой присутствовал начальник политотдела 18‑й армии, будущий Генсек КПСС Леонид Ильич Брежнев) об автономии проигнорировали, а обращение делегатов православного съезда священников к Иосифу Сталину о присоединении Подкарпатской Руси на правах 16‑й Карпато-русской Советской Социалистической республики к СССР и подавно не расслышали. Сегодня любому человеку ясно, будь он русин, украинец, русский, белорус или представитель другой национальности, что если бы Подкарпатская Русь осталась в составе Чехословакии, то с вышеупомянутым Конституционным законом Чехословакии она была бы отдельным государством. Однако колесо истории вспять не повернешь.
И здесь нужно сказать самое главное. Народ Подкарпатской Руси восторженно встречал воинов Красной Армии, освободившей их территорию от фашистов в конце октября 1944 года. Среди освободителей родного края были и тысячи русинов (карпатороссов), воевавших в рядах Чехословацкого корпуса генерала Свободы.
Русинский народ радовался освобождению его родины и присоединению его к Советскому Союзу, к Украине, к Киевской Руси. Тысячи простых людей выкрикивали слова: «Мы русины, мы сыны Руси!». На русинском языке слово «русин» произносится как «русын», т. е. сын Руси. Но никому из них в то время даже в кошмарном сне не могло присниться, что после присоединения к Украине их всех по личному указанию Первого секретаря ЦК Компартии Украины Никиты Хрущева в одночасье переименуют в украинцев. Сельское население Закарпатья паспорта не получало в течение всего времени правления Хрущева, и только в конце октября 1964 года, после его смещения со всех постов, русины узнали, что они уже не сыны Руси. Грустно и печально.
В этой связи напомню читателю некоторые статистические данные довоенного периода, касающиеся Подкарпатской Руси.
Так, в соответствии с законодательством Чехословакии об образовании, все дети в возрасте от 6 до 15 лет должны были обучаться в школах. К примеру, в 1923/1924 учебном году в школах Подкарпатской Руси обучались дети следующих национальностей: русинской – 67,999 или 62,8 %, венгерской – 17,585 или 16,25 %, еврейской – 16,35 тыс. или 15,07 %, румынской – 2,238 или,07 %, немецкой – 2,008 или 1,85 %, чешской и словацкой – 1,982 или 1,83 % и других (в их числе: украинской, русской, польской, болгарской, греческой) – всего 121 ученик или 0,11 %. Согласно переписи населения в 1930 году, всего в Чехословакии проживало 14 млн. 729 тыс. 536 граждан, а на территории Подкарпатской Руси – 858,7 тыс. человек, в т. ч. 528 тыс. русинов. Во время этой переписи русские и украинцы, проживающие на территории Подкарпатской Руси, были учтены в графе «иностранцы» (чужинцы), и их было зафиксировано всего 6 870 человек.
После распада СССР русины на региональном референдуме 1 декабря 1991 года вновь заявили о желании иметь автономию, уже в составе Украины. Им пообещали, но слово не сдержали, а в 1996 году правительство Украины приняло пресловутый план мероприятий по искоренению русинов Закарпатья. Все должны быть украинцами, и точка. И это несмотря на то, что русины Закарпатья любят Украину и очень надеются на взаимность.
Сегодня русины признаны во многих странах мира, в т. ч. и в России. В столице достаточно активно работает Русинское землячество «Карпатская Русь». С 1991 года осуществляет свою созидательную культурно-просветительскую деятельность Всемирный Конгресс русинов.
Здесь следует упомянуть, что научные и культурные связи русинов и Великой России имеют уже свою многовековую историю. Первой связующей ниточкой между Подкарпатской Русью – Закарпатьем и Российской империей был Иван Алексеевич Зейкан – просветитель и дипломат при царе Петре I. После него в России работала целая плеяда ученых русинов, в том числе Михаил Андреевич Балугьянский – первый ректор Санкт-Петербургского университета. А путешественник Афанасий Никитин? А писатель Нестор Кукольник? А композитор Дмитрий Бортнянский? А художник Игорь Грабарь? А глава Русской зарубежной церкви митрополит Лавр?.. Всё это русины…».
О деле должен говорить человек, знающий это дело изнутри. Таким я и считаю Андрея Фатулу. Поэтому позволил себе привести большой отрывок из его статьи «Четвертый восточнославянский народ».
В новом издании БСЭ (1975) находим новенькое:
«Русины (от Русь) – название украинцев западно-украинских земель…»
Слава богу, вспомнили, что всё-таки русин – от Русь. Русин – сын Руси! Но почему «русины – название украинцев»? Неужели по аналогии: Иван – имя Петра? А тогда и Петр – имя Ивана? Следовательно, тогда и украинец – название русина?
Но вот в 1993 году в Ужгороде выходит книга «Сочинения» Александра Духновича и в первом же абзаце вступительной статьи Юрий Бача «радует» читателя словосочетаниями «закарпатский русин-украинец», «русин-украинец».
Это что, по типу: овцебык, козлотур? Доживём ли мы до бачинского, скажем, «англичанина-француза», «шведа-немца», «американца-африканца», «землянина-марсианина»?
Конечно, тут не до шуток. Идёт откровенное выдавливание всего русского из сознания карпатцев. Ю. Бача спокойненько нам, твердолобым, объясняет на 11‑ой странице своего вступления: «…русский (народ) по теперешним понятиям – украинский (народ)».
Раз вот так «доказана теорема», что русский – это украинец, то вот поспели и «плоды». В аннотации к названной книге карпато-русского писателя Александра Духновича (Ужгород, 1993) о нём открытым текстом сказано: «видатний украинський культурно-освiтнiй дiяч на терени (территории) историчного Закарпаття». Ни больше ни меньше. И конкретный русский превратился в украинца.
А первым проделал эту «операцию» всё тот же неутомимый Ю. Бача.
В 1963 году в Словакии, на родине Александра Духновича вышло его «Вибране» («Избранное»). Выпустило книгу прешовское отделение украинской литературы Словацкого педагогического издательства.
Составитель кандидат филологических наук Ю. Бача такими словами начинал предисловие:
«В этом году исполняется 160 лет со дня рождения Александра Духновича – известного карпато-украинского педагога, культурно-просветительского деятеля и писателя».
Был человек русским, а через 98 лет после смерти вдруг превращается в украинца. И это «превращение» произошло вскоре после того, как Большая советская энциклопедия объявила, что слово русин больше не употребляется.
Кому-то это было на руку. И стал Духнович украинцем.
Попробуем развеять этот мираж-фиксаж.
В 1916 году в Москве вышла книга профессора Московского университета Фёдора Фёдоровича Аристова «Карпато-русские писатели». Издание галицко-русского общества в Петрограде.
В этой книге подробно рассказывается об Александре Духновиче.
Родился он в Словакии, в селе Тополя близ Прешова, в семье приходского русского священника Василия Дмитриевича Духновича. Мать Мария Ивановна была из дома Герберов.
На седьмом году мальчик стал изучать русский букварь, псалтырь и часослов. Его первым учителем был дядя Дмитрий Гербер, священник.
В Ужгороде, в начальной школе, где русский букварь был заменён мадьярской азбукой, над Сашей издевались учителя и ученики «за его привязанность к русской речи». Александр быстро выучил мадьярский, отлично говорил на нём, но стал забывать родной язык. И «от национальной гибели его спасло услышанное впервые от деда семейное предание о древнерусском происхождении их рода. Это произошло в 1816 году, когда умер отец А. В. Духновича, и он вместе с братом и четырьмя сестрами остался сиротою. В один из ближайших дней после похорон отца писателя дед призвал своего двенадцатилетнего внука и торжественно ему объявил: «Сын мой! Отец твой умер, а мне уже 70 лет и я не знаю, увижу ли тебя, когда ты вернешься из училища. Поэтому я должен тебе сообщить то, что мой отец и дядя завещали мне передать наследникам относительно нашего рода. Предок наш происходил из Москвы и не назывался тогда Духновичем, а был из известной фамилии Черкасских. В царствование Петра Великого, во время его отсутствия из Москвы, настал бунт стрельцов, которым руководила царевна Софья. Одним из начальников стрельцов был наш предок Черкасский; он спасся от казни бегством и с несколькими своими товарищами, в числе которых были Гербер и Брылла, чрез Польшу направился в Угрию, где поселился под Бескидом, в селе Тополе, приняв имя Духновича. Здесь он получил должность певца при деревянной церкви; но, отличаясь познаниями, обратил на себя внимание соседних священников, которые убедили его жениться и принять звание иерея. Он женился на дочери одного из этих священников, отправился в Мукачевский монастырь, был там посвящен в иереи и получил приход в селе Тополе, который и переходил всегда к его потомкам. Сын мой! Не забывай Бога, молись Ему и люби свой русский род, и хоть не станешь от этого богат, но зато будешь счастлив».
Духнович «сам изучал общерусский язык и своими книгами просвещал русинов – угорские русины зачали думать по-народному, воздвигши по силам слабым письменность свою».
И далее продолжаем читать у А. Духновича:
«И радостно могу сказать, что русины епархии Прешовской одушевилися, найпачеже молодежь стала душевно ревновать за русский дух и за русское слово. Девушки уже не стыдилися петь русские песни, и песнь моя народная «Я русин был, есмь и буду» повсюду голосовала в обществах… На гимназии Прешовской я преподавал русский и любезно посещали школу мою не токмо русины, но и словаки, и мадьяры да и лютеранские ученики».
А. Духнович собирал народные песни и издал в сборнике Я. Ф. Головацкого «Народные песни Галицкой и Угорской Руси».
Первый его труд – русский букварь «Книжица читальная для начинающих» – вышел в 1847 году.
«Он был не только одним из главных основателей, но и первым председателем Общества Iоанна Крестителя в Прешове, которое, помимо забот о развитии литературы, оказывало также поддержку русским воспитанникам прешовской гимназии, давая им квартиру со столом и необходимые учебники.
Свои произведения он писал как на местном угро-русском наречии, так и на общерусском литературном языке; первые предназначались для простого народа, а вторые – для образованных читателей».
На его стих «Я русин был, есмь и буду» была написана музыка и вплоть до первой мировой войны эта его «народная русская песня» была народным гимном Угорской Руси.
Литераторы Угорской Руси пользовались церковнославянским, латинским и мадьярским языками. Народный деятель А. Духнович первый стал писать по-русски. «Впервые в Угорской Руси изложил её историю по-русски. Если Угорская Русь – в противоположность Галичине и Буковине – никогда не знала украйнофильства, всегда отстаивала общерусское национальное культурное единство, то этим она в значительной степени обязана плодотворной деятельности А. В. Духновича».
Итак…
Предки Духновича были Черкасские.
Заглянем в названия московских улиц.
Центр Москвы.
Черкасский Большой переулок…
Черкасский Малый переулок…
Это разве никак не увязывается с подлинной фамилией московских предков Духновича?
Человек корнями москвич, родился в русской семье, учился по русским учебникам и сам преподавал русский язык; русские учебники и свои сочинения писал по-русски… Как можно было такого человека назвать украинцем? Уму непостижимо…
Но, сказавши а, Ю. Бача спешит прокричать бэ. Объявивши А. Духновича украинским деятелем, тут же кидается это доказывать, уродуя тексты русского писателя.
В примечаниях к «Избранному» (Прешов, 1963) сказано:
«Язык украинского населения Чехословакии за последние сто лет претерпел значительные изменения и немыслимо печатать произведения, написанные сто лет назад, без языковой обработки. Потому произведения А. В. Духновича, которые вошли в «Избранное», подаются в соответствии с современным украинским правописанием. Что касается стилистики, в произведениях сделаны определённые вмешательства, проведённые Ю. Бачею и П. Гулою. Это относится и к произведениям А. В. Духновича, написанным русским языком».
В запале «новаторы» подтвердили сами: писал-таки А. Духнович по-русски.
Русский и украинский – языки-братья.
Но братья всё же разные.
И если какое слово не ясно, так сделай сноску, объясни.
Куда там! Чего мелочиться?!
«Обработчики» по мере сил и возможностей навалились вымахивать из текстов русское и стали просто переводить на украинский. И потом, не говоря, что это перевод с русского, подают свой перевод как подлинный текст А. Духновича. И – смотрите! Ба! Да он же украинец! Пишет-то по-нашенски, по-украински! Готовенький украинец!
Те места, которые «обработчикам» не нравились, они попросту выбрасывали, сообщая в примечании, что такое-то произведение печатается с сокращениями. Например, стих «Жизнь русина» («обработка» Петра Гулы) сократили на треть! Что-то диковатое. Где это видано, чтоб «Избранное» подвергалось такому весьма сомнительному «вмешательству»? Присмотримся к этим «вмешательствам».
Возьмём «главный» стих, начинающийся словами «Я Русин…» в «обработке» П. Гулы. Кстати, Петро Гула – ответственный редактор издания. Ответственный! И потому со всей ответственностью уродовал тексты.
Итак, сравним первые строки.
А. Духнович:
Я Русин был, есмь и буду, Я родился Русином, Честный мой род не забуду, Останусь его сыном. Русин был мой Отец, Мати.Обработка» П. Гулы:
Я русин був, есмь i буду, Я родився русином, Чесний мiй рiд не забуду, Останусь його сином; Русин був мiй отець, мати.Начнём с того, что у А. Духновича слова Русин, Отец, Мати пишутся с большой буквы. «Обработчик» дал с маленькой. Зачем? Чтоб смять высокий смысл этих слов? Мол, потише, потише тут со своим русским духом?
Дальше. Что ж у А. Духновича не понятно люб ому украинцу? Зачем надо менять был на був, родился на родився, честный на чесний, мой на мiй, род на рiд, его на його, Отец на отець?… Зачем всё это? А чтоб доказать, что Духнович «український дiяч» и писал по-украински?
Уши этого «доказательства» торчат и из другой книги Духновича «Твори» (Ужгород, издательство «Карпаты», 1993, составление и подготовка текстов О. М. Рудловчак).
К счастью, есть добросовестное издание сочинений Духновича. Это «Твори» в четырёх томах. Вышли в Прешове пока первые три в 1967, 1968, 1989 годах (основной составитель О. М. Рудловчак).
Сравним эти два издания.
Один автор, один составитель, но почему одни и те же тексты отличаются друг от друга? Почему? Зачем упражнения составителя в переводах с русского на украинский выдавать в ужгородской книге за оригинальные тексты… Духновича?
Но зачем портить тексты ради того чтоб доказывать недоказуемое, что А. В. Духнович «український дiяч»?
Конечно, знакомить современного украинского читателя с творчеством Духновича необходимо. Делайте профессиональный перевод, говорите, что это перевод с русского и печатайте. Кто против?
Хотя тексты в четырёхтомнике даны вроде бы без искажений, но и здесь не обошлось без ложки дёгтя. Первое. Зачем собрание произведений русского автора надо называть украинским словом «Твори», что в переводе означает «Сочинения»? Второе. В аннотации сказано, что первый том «содержит украинские и иноязычные художественные произведения». А тексты-то там русские! Как это увязать? Духнович же писал по-русски! Да в аннотации об этом ни слова. И выходит, что русский язык для Духновича – иностранный язык, а украинский – родной? В пылу этих «доказательств» составитель и комментатор творчества Духновича О. Рудловчак сама себя подсекла.
На сто первой странице третьего тома она пишет:
«Украинский литературный язык… Духнович воспринимал как диалект, поднятый на ступень письменного языка, как «смешение простонароднаго с польским», потому с такой страстностью выступал против введения его в практику».
Если Духнович «с такой страстностью выступал против» украинского языка, то как он мог на нём писать?
Выступая за чистоту русской речи, он отвечал своим оппонентам:
«Вместо… що, бути остаемся с нашим что, быти».
Спрос на русский язык на планете растёт. Он стал четвёртым ведущим языком мира. Сейчас на нём говорят 275 миллионов человек. Ещё миллионы и миллионы хотят овладеть им.
Памятник Александру Духновичу в Мукачеве
Собирание Руси…
Российская диаспора – одна из крупнейших за рубежом и насчитывает 32 миллиона человек. В последнее время Россия стала проводить всемирные конгрессы соотечественников, Ассамблеи Русского мира в поддержку русского языка за рубежом. Москва ведёт работу по 24 направлениям с соотечественниками во всем мире. Судьба каждого русского разве ей безразлична?
В апреле 2013 года исполнилось двести десять лет со дня рождения Александра Васильевича Духновича. Напомню, корнями он москвич, русский. Он достоин того, чтобы Россия чтила своего великого сына, так много сделавшего для просвещения русского народа за её пределами.
Публикации
Дилогию «Подкарпатская Русь» составляют романы «Русиния» и «В центре Европы».
Отрывки из романа «Русиния» опубликовал журнал «Воин России». (№ 2 за 2012 год).
Главы из романа «Русиния» опубликовала всеукраинская ежедневная газета «День» на русском, украинском и английском языках в №№ 76–77 от 29–30 апреля 2011 года.
Рецензия на роман «Русиния» в «Литературной газете» 21 мая 2014 года.
ЛГ. № 20 (6463) (21-05-2014). 15 страница.
Иван, вспомнивший родство
Книжный ряд Портфель ЛГ Книжный ряд
Анатолий Санжаровский. Русиния. – М.: Книга по требованию, 2013. – 310 с. – Тираж не указан
Первую свою повесть «Оренбургский платок» Санжаровский когда-то послал Виктору Астафьеву. «Повесть хорошая… Прочитал я её с большим удовольствием, многое было для меня ново и внове. Дай Вам Бог и далее удачи». Этот отзыв классика решил писательскую судьбу А. Санжаровского. Интерес его к судьбе русинского народа не случаен – Санжаровский много переводил славянской литературы – украинцев, белорусов, поляков. «Русин у себя дома, на Верховине, и за границей, в США, в Канаде, – нетронутая тема в современной русской отечественной литературе», – как справедливо пишет автор в послесловии к роману.
Критики писали о некой чрезмерности сказовой манеры, используемой в романе. Но, как нам представляется, они не уловили фольклорно-мифологической основы языка «Русинии», выявляющего глубокие познания автора в этой области. Недаром в текст включены русинские народные песни, а каждую главу предваряет русинская пословица. «Особенно нравится мне язык» – так отозвался Василий Белов о романе Анатолия Санжаровского, рассказывающем о жизни русинов у себя на родине, в Подкарпатской Руси, а также в Канаде и США. На первой странице обложки – рисунок выдающегося художника из Мукачева Артура Брагинского. (Мукачево – историческая столица Подкарпатской Руси.) И он удивительно соответствует атмосфере романа.
Предыстория отсылает нас к первой трети XX века. Потом действие переносится в 80‑е годы XX века. Постаревшая героиня Анна, давным-давно проводившая мужа в Канаду на заработки, не теряет надежды найти его следы. Выясняется, что Иван-старший действительно осел в Стране кленового листа, завёл другую семью. Два его русинских сына едут повидаться с отцом. Оказывается, эмигрант все эти годы думал, что его родную деревню сожгли гитлеровцы. Увидев сыновей, старик решает бросить всё нажитое на чужбине и вернуться домой, вспомнив пословицу, вынесенную в эпиграф: «За морем теплей, да дома милей». Но сердце не выдерживает, и Иван умирает прямо у трапа самолёта. «Многие мужчины уходили отсюда в прежние времена на заработки в Штаты, в Канаду, в Бразилию (в Бразилику, как тут её называют), в Аргентину. Многие уходили, да не все возвращались». Но, может быть, наконец настало время, когда Родина – Русиния – вернётся к заждавшемуся народу?
Олег ДОЛГАНОВСноски
1
Подобенка – фотокарточка.
(обратно)2
«Русины, Рутены (нем. Russinnen, Ruthenen) – употребляемое преимущественно поляками и немцами название русского населения австро-венгерских земель в отличие от русских (русских подданых), причём название рутены – средневековое латинское название вообще русских, а русины – неправильное образование множественного числа от единственного числа рýсин. Сами русины зовут себя в ед. числе русин, во множ. числе – русскими, веру свою – русскою, свой народ и язык – русскими. Ы сохранилось у них как великорусское и употребляется после гортанных: кыдати, гынути. Русины живут по обоим склонам Карпат, в Галиции, Буковине и Венгрии, и принадлежат к южнорусской части русского племени, отличаясь от малоруссов (украинцев) как особенностями языка, так и физическим складом и этнографическими признаками, вследствие условий жизни и давнего отделения «закордонной Руси» от основного племени. В 1890 году в Австро-Венгрии насчитывался 3105221 русин, но эта цифра, без всякого сомнения, гораздо ниже действительности. В Австро-Венгрии счёт при переписи ведётся не по национальностям, а по разговорному языку; между тем многие русские, в особенности городские учителя и служащие, или вообще не пользуются русским языком в домашнем обиходе, или же находят для себя выгодным или удобным выдавать себя за немцев и поляков – в Галиции, за мадьяр – в Венгрии, за немцев и румын – в Буковине. Русинов в Галиции насчитывается 2835674 человека.
Верховинцы (обитатели верхов или гор) иначе горешняне, непосредственные соседи галицких русинов, к которым они ближе всего по языку, живут в возвышенных частях комитатов (округов) Мармарошского, Бережского и Ужгородского. Они лучше других сохранили свой первоначальный тип сильного пастушеского племени. Обыкновенно флегматичные, в минуту опасности обнаруживают большое мужество и даже на медведя решаются выходить с одним ножом в руках. Скотоводство – любимое занятие верховинцев».
(Энциклопедический словарь Ф. Брокгауза и И. Эфрона, 1899 год, 53 том, стр. 296–297.)
(обратно)3
Нянько (ласковое) – папка, папочка.
(обратно)4
Богу работать – сидеть в тюрьме.
(обратно)5
От perfektne (чешское) – отлично.
(обратно)6
Дотеперь удруге не отдалась – до настоящего времени не вышла вторично замуж.
(обратно)7
Жуковина – перстень.
(обратно)8
Чай неженатый – чай без хлеба.
(обратно)9
Коломыйка – особый род песенок, получивший своё название от городка Коломыи, где они наиболее распространены.
(обратно)10
В окрестностях Калгари развито животноводство. Отсюда и название «коровий город».
(обратно)11
Ленькари – лодыри.
(обратно)12
Твердыш – доллар.
(обратно)13
Паленка – водка.
(обратно)14
Бжезинскасы (правильно Бразинскасы, Пранас и Альгирдас, отец и сын); при побеге 15 октября 1970 года на Запад захватили советский самолёт, убили молодую бортпроводницу Надежду Курченко.
(обратно)15
Подружака – подружка.
(обратно)16
Самодруга – беременная.
(обратно)17
Клебаня – шляпа.
(обратно)18
Каламанка (презрительное) – водка.
(обратно)19
Туй – тут.
(обратно)20
Забава (здесь) – вечеринка.
(обратно)21
Хроник (жаргонное) – хронический алкоголик.
(обратно)22
Голосница – расширенная часть трембиты.
(обратно)23
Тайстра – полотняная сумка через плечо.
(обратно)24
Сесть на снег – расположиться на жительство в местности, где раньше никто не жил.
(обратно)25
Рокуел Кент (21.6.1882 – 13. 3. 1971) – известный американский художник, писатель, член Всемирного Совета Мира. Посетил Верховину в мае 1964 года.
(обратно)26
Сливянка – самогон из сливы.
(обратно)27
Не пылуй – не спеши.
(обратно)28
Фармалей – фермер.
(обратно)29
Топанки – самодельные башмаки.
(обратно)30
Копиця – копна.
(обратно)31
Кленовые деньги – канадские доллары.
(обратно)32
Говерла – одна из самых высоких гор в Карпатах. Её высота 2061 метр.
(обратно)33
Цэушка (от цэу) – ценное указание.
(обратно)34
Покупалки – деньги.
(обратно)35
Лишний – безработный.
(обратно)36
Бакс (просторечное) – доллар.
(обратно)37
Полевой дворянин – бездомный, цыган.
(обратно)38
Надеть браслеты (жаргонное) – арестовать, надеть наручники.
(обратно)39
Буксы клинит – о головной боли.
(обратно)40
Iстик – чистик; палочка с наконечником для очистки земли с плуга.
(обратно)41
Не Минай Корчма – прозвище пьяницы.
(обратно)42
Санжаровка, санжарка – шуточный танцевальный куплет. Название – от деревни Санжары близ Полтавы, где в старину любили под танец напевать разные куплеты вроде частушек.
(обратно)43
Гурда – выжимки из семян конопли или зёрен мака, приготовленные для начинки вареников или пирогов.
(обратно)44
Не голений – не бритый.
(обратно)45
На юге России Петром называют и птицу дергача (коростеля).
(обратно)46
Вонятки (словацкое) – духи.
(обратно)47
Пустовойт Василий Степанович (1886–1971) – академик Российской академии наук, селекционер. На Кубани вывел высокомасличные сорта подсолнечника, которые сеют и в Канаде.
(обратно)48
Антей – герой греческой мифологии. В единоборстве не знал себе равных: родная земля давала ему силу, когда прикасался к ней. Лишь Геркулес, подняв Антея в воздух и не давая ему прикоснуться к земле, сумел его победить.
(обратно)49
Иван Сила, Иван Федорович Фирцак-Кротон (настоящая фамилия Фирцак, 28 июля 1899, Белки – 10 ноября 1970, там же) – самый сильный человек планеты 1928 года. Выдающийся артист цирка, атлет, борец, боксёр, боец вольного стиля. Родился в крестьянской семье. В 1919 году нужда заставила его отправиться на заработки в Чехословакию, где занялся цирковым искусством. Став артистом известного «Герцферт – цирка», объездил 64 страны мира, побывал в США. Выступал под псевдонимом Иван Сила. За его феноменальную силу и трюки, уникальные рекорды мировая публика присвоила ему имя античного героя Кротона, пришедшего на олимпийский стадион с быком на плечах и продержавшего животное более полутора часов. Этот трюк Фирцак выполнял и сам.
Выступал перед английской королевой. В Париже на конкурсе красоты мужского тела занял первое место. Владельцы концерна «Форд» в знак уважения подарили Фирцаку именной автомобиль.
В 1930‑х годах вернулся в родное село. Возглавил в Белках отделение милиции. С 1999 года в Белках проводятся ежегодные соревнования по тяжелой атлетике на приз И. Фирцака-Кротона. В 2013 году Виктор Андриенко и Игорь Письменный сняли фильм «Иван Сила».
(обратно)50
Канадский максимум – область повышенного давления, расположенная зимой над Канадой.
(обратно)51
Картер Джимми (родился в 1924 году) – президент США в 1977–1981 гг.
(обратно)52
Вигвам – у индейцев Северной Америки: хижина, покрытая кожей, корой, ветвями.
(обратно)53
Нарушив договор, США в начале 1980 года отказались продать нам 17 миллионов тонн зерна. Эмбарго отменено администрацией нового президента Р. Рейгана 25 апреля 1981 года.
(обратно)54
Посвальбовали – поженились, сыграли свадьбу.
(обратно)55
Ейко – её.
(обратно)56
Духнович Александр Васильевич (родился 24 апреля 1803 года в селе Тополе в Словакии – умер 30 марта 1865 года в городе Прешове, Словакия) – известный в Карпатах русский просветитель, писатель, педагог, церковный деятель. Он, «будитель Подкарпатской Руси», открыл 71 народную школу для детей русинов. Написал для них букварь, грамматику, географию. Сам преподавал русский язык в прешовской гимназии. На свои средства Духнович издавал свои книги и большей частью бесплатно раздавал их детям.
А корнями Александр Духнович был москвич. Подростком он впервые услышал от деда семейное предание о древнерусском происхождении их рода. Это было в 1816 году, когда умер отец Саши, и Саша вместе с братом и четырьмя сестрами остался сиротою. На второй день после похорон отца писателя дед торжественно объявил своему двенадцатилетнему внуку: «Сын мой! Я должен тебе сообщить то, что мой отец и дядя завещали мне передать наследникам относительно нашего рода. Предок наш происходил из Москвы и не назывался тогда Духновичем, а был из известной фамилии Черкасских. В царствование Петра Великого, во время его отсутствия из Москвы, настал бунт стрельцов, которым руководила царевна Софья. Одним из начальников стрельцов был наш предок Черкасский; он спасся от казни бегством и с несколькими своими товарищами чрез Польшу направился в Угрию, где поселился под Бескидом, в селе Тополе, приняв имя Духновича. Здесь он получил должность певца при деревянной церкви; но, отличаясь познаниями, обратил на себя внимание соседних священников, которые убедили его жениться и принять звание иерея. Он женился на дочери одного из этих священников, отправился в Мукачевский монастырь, был там посвящен в иереи и получил приход в селе Тополе, который и переходил всегда к его потомкам. Сын мой! Не забывай Бога, молись Ему и люби свой русский род, и хоть не станешь от этого богат, но зато будешь счастлив».
Духнович сам изучал общерусский язык и своими книгами просвещал русинов. Первый его труд – русский букварь «Книжица читальная для начинающих» – вышел в 1847 году.
«Он был не только одним из главных основателей, но и первым председателем Общества Iоанна Крестителя в Прешове, которое, помимо забот о развитии литературы, оказывало также поддержку русским воспитанникам прешовской гимназии, давая им квартиру со столом и необходимые учебники».
На стих А. Духновича «Я русин был, есмь и буду» была написана музыка и вплоть до первой мировой войны эта его «народная русская песня» была народным гимном Угорской Руси.
(обратно)57
Родина – родня.
(обратно)58
Дружина (здесь) – товарищи, общество.
(обратно)59
Маетнiсть – поместье.
(обратно)60
Гойно – роскошно.
(обратно)61
Кава – кофе.
(обратно)62
Из поточка – из ручейка.
(обратно)63
Мозолится – надрывается.
(обратно)64
Прото – поэтому
(обратно)65
Сумлиня – совесть.
(обратно)66
Похопити – схватить, воспринять, понять.
(обратно)67
Посполу – вместе, разом.
(обратно)68
Автор Иван Петровций.
(обратно)69
Никитин Афанасий (умер в 1475) – тверской купец, путешественник, первым из европейцев посетил Индию (за четверть века до открытия пути в эту страну Васко да Гамой), автор «Хождения за три моря». Из «Хождения…»: «И в том Джуннаре хан отобрал у меня жеребца, когда узнал, что я не бесерменин (мусульманин), а русин».
(обратно)70
Понималка – голова.
(обратно)71
Милая косточка – человек с изюминкой.
(обратно)72
Плевало – лицо.
(обратно)73
Спаная девка – любовница.
(обратно)74
Тата киль! (чувашское) – приезжай ещё!
(обратно)75
С лысинкой родился – об упрямом человеке.
(обратно)76
Фараонка – отделение полиции.
(обратно)77
Принять наркотик
(обратно)78
Входить в столбняк – наслаждаться.
(обратно)79
Заушницы – серьги.
(обратно)80
Нитко – никто.
(обратно)81
Ю – её.
(обратно)82
Уходившие на чужбину нередко выбивали на скалах клятву-обещание вернуться домой.
(обратно)83
Кулько – сколько.
(обратно)84
Иван-покиван, иванец-киванец – ванька-встанька.
(обратно)85
Магистральный экспортный газопровод «Уренгой – Помары – Ужгород» строился в 1982–1984 годах. Длина 4451 километр. Украинский отрезок составляет 1160 километров. Газопровод «перепрыгнул» через Уральские горы, пересёк шестьсот рек, среди которых Обь, Волга, Дон, Днепр. Русский газ с севера Западной Сибири поступает по этой трассе на Украину, в страны Западной Европы. Русины строили у себя в Подкарпатской Руси последний участок легендарного русского газопровода, по которому вот уже более 30 лет русский газ идёт из России в Европу, того самого газопровода, о котором сейчас гудит вся Европа. Этот газопровод сейчас у всего мира на слуху.
(обратно)86
Верея – столб, на котором навешаны ворота.
(обратно)87
Стихи и музыку написал Михаил Машкин.
(обратно)88
Не в гаваеться – не успокаивается; до безтями – до исступления; мiж вiтами – меж ветвями; наче квiтами – словно цветами; в промiннi – в лучах; стрiчка – полоска; чередник – пастух; луна iде – эхо катится; ледь – чуть; в цюхвилину злюбиммрiеться – в эту минуту с любимым мечтается.
(обратно)89
Рокуэлл Кент (21.6.1882 – 13.3.1971) – известный американский художник, писатель, член Всемирного Совета Мира. Посетил Верховину в мае 1964 года.
(обратно)90
Печколаз – блудник.
(обратно)91
Пришить цветок – осмеять острым словцом.
(обратно)92
Любку, любко – милый.
(обратно)93
Гину – умираю.
(обратно)94
Грубеянка (уральское) – соперница.
(обратно)95
Мелай – кукуруза.
(обратно)96
Ками-сама – божество горы Нараяма в Японии.
(обратно)97
Пикколо бамбина (итальянское) – маленькая девочка.
(обратно)98
Выкатить на сто лет – сильно поругать.
(обратно)

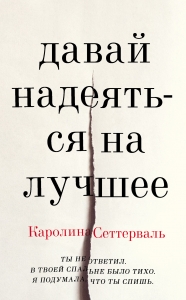











Комментарии к книге «Подкарпатская Русь (сборник)», Анатолий Никифорович Санжаровский
Всего 0 комментариев