Дэвид Стори Такова спортивная жизнь
Часть первая
1
Я упирался головой в крестец Меллора, ожидая, когда мяч появится между его ногами.
Но он замешкался. Я уже отодвинулся, когда мяч влетел мне в руки, и, прежде чем я успел отпасовать, снизу в мою челюсть ударило чье-то плечо. Лязгнули зубы, и все провалилось в черноту.
Первое, что я различаю, — это виновато-растерянное лицо Меллора рядом с лицом Дея, нашего тренера, который выжимает на меня из губки воду.
— Отдохни-ка пока, — говорит он. — Ты себе рот разбил.
Я встаю, заложив кулаки под мышки. И говорю Меллору пару теплых слов; остальные игроки стоят и смотрят — для них это приятная передышка. Я ухожу с Деем, и он сует мне под нос пузырек с нашатырным спиртом.
Я сижу на скамье, а он выкрикивает распоряжения игрокам, а потом закладывает большие пальцы мне под губу и оттягивает ее вверх.
— Ах, черт! — ахает он. — Ты же себе все передние зубы разбил!
— Вот, вот, вали все на меня, — говорю я, и получается шипенье с присвистом.
Он заглядывает мне в разбитый рот, и его глаза прячутся где-то за кончиком моего носа.
— Ну, Меллор тут тоже ни при чем, — говорит он. — Что, очень больно? Пожалуй, придется тебе вставлять искусственные зубы.
А запасные толпятся у него за спиной, и каждый норовит заглянуть ко мне в рот.
— И на что же я похож?
Глаза Дея на секунду встречаются с моими — надо же узнать, очень ли я зол.
— На старика. Недельку лучше держись от девочек подальше.
— Совсем онемело, — говорю я, когда он отнимает пальцы и губа сползает на место. — Я сейчас вернусь на поле.
Возвращаться-то не так уж и нужно. Мы ведем двенадцать очков, противник совсем вымотался, а до конца игры остается меньше десяти минут. Зрителям все давно ясно, и не расходятся они только потому, что на поле всегда может приключиться что-нибудь веселенькое, вот как со мной. Пожалуй, оттого-то я и возвращаюсь — пусть знают, что мне плевать.
Уже темнеет, и из долины навстречу низким тучам поднимается туман. Я бегу сквозь сумерки на поле и машу рукой судье, а по трибунам проносятся насмешливые приветствия и свист.
Времени остается как раз на один прорыв. Бензедрин уже перестал действовать. Я бегу посредине поля, зажав мяч в ладонях, хоть этот прием и мальчишку не обманет. Меня перехватывают, я падаю, пасую, а потом держусь в сторонке до финального свистка.
Мы по двое и по одному уходим с поля. Толпа зрителей разделилась посредине, как черная занавеска, и потихоньку рассасывается через главные выходы по обоим концам поля. Снаружи ждут автобусы — их освещенные вторые этажи видны над трибунами. Самый приятный для меня час за всю неделю — один и тот же час каждую субботу, когда игра кончается, в сумерках загораются огни и легко дышать, потому что не надо работать и завоевано право ничего не делать. Но сегодня я смотрю на сволочную спину Меллора и разделываюсь с ним и так и эдак. В туннеле он опускает голову и, ни на кого не глядя, равнодушно проходит мимо толпящихся там служителей. Он всегда такой — делает вид, что ему все нипочем. Потому, наверное, и лицо у него неподвижное, как у идиота.
Оно не меняется и тогда, когда мы залезаем в бассейн и горячая вода щиплет ссадины. По поверхности расплывается муть из грязи и крови. Она завивается вокруг наших поникших тел. Головы торчат над водой, словно какое-то зверье загнали в пруд; я бросаю думать — все равно ничего не получается.
Позади нас запасные с помощью горбатого служителя разбирают рубашки и трусы — берут самыми кончиками пальцев, чтобы не выпачкаться в липкой от пота грязи. Они в дождевиках, их движения медлительны и сердиты. А над головой все еще топочут расходящиеся зрители, и от этого гудят металлические перекрытия. В комнате сквозняк раскачивает тусклую лампочку, воняет потом, грязью из сточной канавы, мазями, жиром и дубленой кожей, и духота плавает в клубах пара, скрывающего стены.
И в этом тумане стоит Джордж Уэйд. Я чуть не сбиваю его с ног, когда переваливаюсь через край бассейна и бреду к массажному столу. Впрочем, узнаю я его, только когда наступаю босой ногой на лапу его собаки и слышу визг. Он подходит и стоит надо мной, пока Дей растирает и разминает мое бедро.
— Ну, как вы, Арт? — спрашивает он и, опираясь на палку, наклоняется над горами и долами моего тела. Но старательно смотрит только на мой рот.
Я оскаливаюсь прямо в его старую унылую физиономию, чтобы он сам посмотрел. Ему это кажется шуткой, и он смеется.
— Теперь вы больше не сможете огрызаться, — говорит он и добавляет: — Ну, там день или два. (Он, видимо, догадался, до чего мне смешно.) Я договорюсь, чтобы дантист принял вас в понедельник… Ах, да что это я? Сейчас ведь рождество. Ну, я посмотрю, что удастся сделать.
Он стоит и смотрит на меня, словно запоминая, как я выгляжу без зубов. По-моему, это ему нравится — во всяком случае, он спрашивает так, будто говорит с нормальным человеком:
— А вы сегодня идете к Уиверу? Он упоминал, что ждет вас.
Я уже сам об этом думал. Жаль упускать возможность отпраздновать сочельник и познакомиться со Слоумером. Но что делать, еще не знаю.
— Да, но мои зубы? — говорю я. — Вы не можете устроить, чтобы мне починили их сегодня? Не то я раньше чем через неделю к врачу не попаду.
Уэйд жует губами и щурится, будто раздумывая.
— Ведь при клубе есть дантист? — подсказываю я.
Он качает головой.
— Не знаю, Артур. Право, не знаю. Попробую навести справки.
Он смотрит на меня, словно прикидывает, стоит ли хлопотать.
— А не могли бы вы узнать прямо сейчас, сэр?
Он поворачивается и, волоча за собой пса, бредет между ворохами грязной одежды к двери. Собака пытается поднять заднюю лапу над одной такой кучей и чуть не летит кувырком.
— Я попробую, старина. Попробую. Положитесь на меня! — кричит он где-то в желтом тумане.
— Чтоб сегодня! — кричу я.
Он выходит, и духоту пронизывает струя холодного воздуха.
Я сползаю со стола и кутаюсь в одежду. Из бассейна доносятся вопли: чье-то поведение ниже ватерлинии не нравится остальным. Двое-трое как очумелые перемахивают через край и стоят, глядя на воду и почесываясь.
— Свиньи, — бормочет Дей и тоже смотрит на воду, а потом хохочет.
Настроение у меня как раз такое, без какого я сегодня с радостью обошелся бы.
Скамья скрипит — это Фрэнк сел рядом и, сам того не замечая, привалился всей тушей к моему плечу. Он сострадательно глядит на меня: его медлительный шахтерский мозг соображает, каково мне сейчас. С той же сосредоточенной неохотой он растирает себе плечи, не найдя другого способа выразить сочувствие. Я улыбаюсь ему; я ему всегда улыбаюсь, потому что в нем есть та скромность, которой обзаводятся профессиональные игроки под конец выматывающей жизни. Это отсутствие высокомерия и нравится мне во Фрэнке больше всего. Я не злюсь, что он капитан, и к его возрасту тоже отношусь спокойно. Скоро он совсем бросит играть.
— Ты идешь к Уиверу, Арт? — Он похлопывает себя по огромным ляжкам, и они трясутся. — Мне сейчас Морис сказал про его праздничек, — он кивает в сторону коренастой фигуры Мориса, почти изуродованной переразвитой мускулатурой.
И Морис ухмыляется нам, показывая на ссору в бассейне.
— Думал пойти. Как, по-твоему, я выгляжу?
Фрэнк встает и начинает вытираться; живот у него обвисает и колышется.
— Морис опять насвинячил, Арт, — говорит он и сердито смотрит, как Морис сгибается пополам от хохота. — На этой неделе я работаю в ночную, я ведь тебе говорил. И надо чулок сынишке повесить. — Он косится на меня и добродушно спрашивает: — А как твоя миссис Хэммонд?
Это уж такая шутка — говорить про меня и миссис Хэммонд. Но у Фрэнка она иной раз звучит упреком. Я шарю под лавкой и вытаскиваю сумку.
— Я кое-что купил для ее ребятишек. Девочке пару кукол, а сосунку — поезд.
— А сколько им?
— Линде, наверное, пять. А мальчонке пошел третий. Только их мамаше это не понравится. Она не любит, чтобы я вмешивался. — Я вытаскиваю из сумки негритенка, и он таращит глаза на Фрэнка.
Фрэнк улыбается.
— Говорят, там будет Слоумер, — говорю я ему.
Он неторопливо переводит взгляд на меня.
— Я бы не стал набиваться к нему в знакомые.
Я смеюсь, и он смотрит на мои зубы.
— Дорожки бывают разные, — говорит он и, кряхтя, нагибается, чтобы натянуть носки. — Но что-то не верится, чтобы ты пошел туда только из-за Слоумера. Кто она-то?
Фрэнк из тех, кто не слышит или не слушает, когда им отвечают, и только задает время от времени вопросы, чтобы собеседник не молчал. А если он вдруг и заинтересуется, то всегда тем, о чем разговор давно окончен. Вот он распрямляется, похлопывает себя по животу и поворачивается лицом к горящим углям в камине по ту сторону комнаты. Он перебрасывает мне полотенце.
— Ну-ка, потри мне спину, Арт. — Он покачивается под моими руками, и я не слышу, что он говорит.
— …На твоем месте я держался бы подальше, — заканчивает он, когда я вешаю полотенце ему на плечо, и начинает тереть мне спину.
— Совсем сухая. Ты слышал, что я сказал?
Я киваю, но думаю уже только о тупой боли, которая дырявит мне верхнюю челюсть.
— И занялся бы ты зубами. Это поважнее.
В комнату врывается холодный воздух — это открылась дверь. Вслед за собакой входит Джордж Уэйд.
— Вы скоро, Артур? — кричит он сквозь пар.
— А вы кого-нибудь подыскали?
— Закройте дверь, Джордж. Спасибо, старина, — доносится голос из бассейна.
— Какой-то школьный дантист. С ним договаривается мистер Уивер. Только надо поторопиться.
— Веселенькое рождество! — говорит Фрэнк. — Мне с тобой поехать?
— Не нужно, Фрэнк. Мистер Уивер сказал, что отвезет его на своей машине, — вмешивается Уэйд.
— Повезло, — решает Фрэнк. Он кашляет от пара и, опираясь багровой спиной о массажный стол, смотрит, как я одеваюсь.
Хватаю сумку, кричу из дверей: «Счастливого рождества!» — и иду за Уэйдом по холодной сырости туннеля под трибунами.
— И конечно, — продолжает он, — если вам придется вставлять зубы, как думает Дей, то клуб должен будет это оплатить. Я скажу Уиверу. Ну, как вы? То есть зубы как?
Я что-то буркаю, и мы по деревянной лестнице поднимаемся в буфет. В дверях, как я и думал, стоит старик Джонсон. Он хватает меня за локоть, когда я прохожу мимо.
— Как ты тебя чувствуешь, Артур? Все обошлось?
Глазки у него совсем сощурились от тревоги. Для него-то все кончено. Я вырываюсь, стараясь не очень его ушибить.
— Не приставайте к нему, Джонсон, — говорит Уэйд. — Мы торопимся.
Да только не слишком. Я сразу понял по спине Уивера, что поездка к дантисту в такое время ему совсем ни к чему. Уэйд переминается с ноги на ногу, пытаясь отвлечь Уивера от разговора. Пес стоит неподвижно. Джонсон следит из дверей. Наконец Уэйду надоедает приплясывать, и он легонько трогает плечо Уивера под дорогой материей. Фабрикант чуть оборачивается, разыгрывая свое обычное удивление перед случайностями жизни, и быстро взглядывает на меня, но тут же начинает с легкой насмешкой сверлить взглядом смущенное лицо Уэйда.
— Ну что, Джордж?
— Артур готов ехать, мистер Уивер, — говорит Уэйд и, помолчав, добавляет: — Когда вам будет удобно.
— Ах, вот что? Я сейчас освобожусь, Джордж. Ну, как вы, Арт, мальчик?
Он возвращается к своему разговору как раз вовремя, чтобы не расслышать моего ответа.
— Деловая беседа! — шепчет Уэйд, выворачивая большой палец в сторону тех, кто стоит перед Уивером, и, правильно сообразив, что он здесь лишний, добавляет: — Если что-нибудь понадобится, я буду в баре. А вертеться возле него мне незачем.
И он уходит с собакой туда, где сидят члены комитета.
Джонсон соображает, что сейчас, пожалуй, можно снова со мной заговорить, но пока он до этого додумался, Уивер успел повернуть ко мне свое херувимское личико и теперь говорит с раздражением:
— Вы готовы, Артур?
Я отвечаю утвердительно, конечно шепелявя, и он смягчается.
— Дайте-ка взглянуть, — говорит он, тоже бессознательно начиная пришепетывать, и я показываю ему всю картину.
Тут он немножко оттаивает. И будто нечаянно отступает в сторону, так, чтобы и его приятели заодно посмотрели.
— Здорово заехали, сынок. Не знаю, сумеет ли он привести в порядок этакую кашу.
Есть у Уивера это манерничанье, — и не только в речи, — которое, по его мнению, сразу показывает, что он промышленник и демократ. Некоторые никак не могут с этим свыкнуться. Уэйд, например, никогда не называет его Чарльзом, а только мистером Уивером. Я замечаю, как краснеют припухлости вокруг глаз Уивера, и понимаю, что он говорил сейчас обо мне.
— Ничего, если мы немного подождем? — спрашивает он. — Мориса еще нет, а я хотел бы поговорить с ним, прежде чем мы поедем… Как он, был почти готов, когда вы уходили?
— И долго мы будем ждать?
— Ну, пока он не придет, — отвечает Уивер. — Хотите выпить? — Но тут он взглядывает на свои ногти, словно что-то вспомнив. — А впрочем, не стоит — вдруг вам дадут наркоз. Я пошлю кого-нибудь поторопить Морри — он показал сегодня класс. Как по-вашему?
— Просто мяч отлетел в его сторону.
— Как всегда, сынок. — Уивер весь загорается, а потом настолько успокаивается, что говорит: — Вы и сами хорошо играли, Артур, — до этого случая. А для чего, герой, вы вернулись на поле?
— Подумал, что так будет лучше. Я совсем расклеился.
— Вы с ним поквитались?
— С кем?
— С бревном, которое вас стукнуло.
— Меллор затянул пасовку.
— Да… может быть. Ну, ничего. С кем не бывает! Правда, не слишком приятный рождественский подарок. — Один бок его вздымается: Уивер машет Морису, который влетает в дверь. — Мы здесь, Морри!
— Ну, как ты, Арт? — говорит Морис. Он вертится внутри своего вместительного пальто. Плечи обвисли, потому что Мориса под ними просто нет. — Меллор! — говорит он. — Ну и поганый же игрок. — Он смотрит на Уивера. — Не понимаю, почему вы держите в команде таких, как он?
— Так, по-вашему, виноват Меллор? — говорит Уивер без всякого интереса, но смотрит на Мориса очень внимательно.
— А! — Морис морщится и меняет тему. — Не думай об этом, Арт, и не порти себе вечер, — говорит он. — Ах, черт, да ведь ты же собирался к дантисту! Дей сказал, что ты уже ушел.
— Мы как раз едем, — сообщает ему Уивер. — Хотите с нами в машине? Не знаю, долго ли мы задержимся, но как только Артур покончит со своими зубами, так сразу и отправимся.
— Я — за. Хотя бы ради того, чтобы полюбоваться, как Артур сидит в кресле. Жаль, нет фотоаппарата.
— Раз уж мы об этом заговорили, то надо бы захватить и Джорджа Уэйда, — решает Уивер. — Он, конечно, не обрадуется, но все равно, пусть поедет и убедится, сколько это потребует хлопот.
Через окно в задней стене трибуны я вижу внизу, в проулке, «бентли» Уивера. Рядом с машиной вдруг появляется из служебного входа Фрэнк; он идет, наклонив голову, а концы белого шарфа, которым замотана его шея, заправлены за воротник старой, перекрашенной шинели. Свет уличного фонаря ложится на его плешь.
— Возможно, я оставлю вас у дантиста, если это будет слишком долго, — говорит Уивер, возвращаясь с Уэйдом на буксире. — Вы ведь не обидитесь, Артур? Я сегодня жду Слоумера и еще кое-кого, так что мне нужно вернуться домой пораньше. Ну, мы все готовы?
Мы все выходим на улицу.
— Может быть, вы посадите собаку в багажник, Джордж? Так, пожалуй, будет удобнее, — говорит Уивер, высовываясь из «бентли».
— Хорошо, — неуверенно отвечает Уэйд.
— Багажник отперт. Можете сами ее посадить. — Затем он медленно добавляет: — А как насчет вашей собаки, Артур?
— Какой еще собаки?
Он показывает на Джонсона — старик стоит у служебного входа, кепка ему велика и совсем закрывает его лицо.
— Не смешно, — говорю я ему.
Уэйд и Морис словно не слышат моего тона.
Уивер втягивает голову внутрь машины и спрашивает оттуда:
— Вы хотите, чтобы он поехал?
Я этого вовсе не хочу, но все же подзываю Джонсона, и он поспешно ковыляет к нам, готовясь благодарить и благодарить.
— Влезай, — говорю я ему. — Мы сейчас трогаемся.
— А ты где сидишь, Артур? — спрашивает он.
Я втаскиваю его на заднее сиденье.
— А вдруг, мистер Уэйд, ваша собачка вылакает все пиво? — говорит Морис, который сидит впереди.
— Ну, для этого ей нужен вместо зубов бутылочный ключ, — говорит Уивер, но никто не смеется.
Автомобиль проплывает мимо служебного автобуса — в нем сидят трое игроков и смотрят наружу, но нас не видят.
Внизу поворачиваются огни города. Мы быстро спускаемся к ним. Сэндвуд, на противоположном склоне долины, где живет Уивер, скрывается за каменными зданиями. С Булл-Ринга мы сворачиваем в улицу с односторонним движением и останавливаемся у кирпичного дома времен королевы Виктории.
— Он уже тут, — говорит Уивер. — Прекрасно. — Перегибаясь через руль, он показывает на освещенное окно на втором этаже. — Вы все пойдете туда или подождете в машине?
— Я пойду, — отвечает Морис. — А вы, мистер Уэйд?
— Не обращайте на меня внимания. — Пока мы спускались с Примстоуна, Уэйд успел закурить сигару. — Я подожду здесь с собакой.
— Я тоже там не нужен, — говорит Уивер; его обычная холодность становится из-за этой поездки еще более заметной. — Я подожду с Джорджем. Если я вдруг понадоблюсь, позовите меня. Вероятно, мистер Джонсон пойдет с вами.
Мы трое вылезаем. Входная дверь открыта. На ней надпись: «Детская зубная клиника». Джонсон прижимает ладонь к моей спине, пока мы поднимаемся. Дантист услышал наши шаги и ждет на площадке.
— Кто из вас ко мне? — спрашивает он и уверенно глядит на Мориса.
В своем огромном пальто Морис смахивает на больного.
— Ошиблись, старина, — говорит Морис. — К вам Артур, вот он.
Дантист ведет нас в свой кабинет.
— Садитесь в кресло, — говорит он. — Я состою в клубе. Вот почему вам удалось меня отыскать. Впрочем, в этом году я не видел ни одного матча, — последнее он говорит так, словно это освобождает его от обязанности помогать пациенту. — Где мистер Уивер?
— В машине. У него коленки дрожат. Верно, Артур?
Я киваю, откидываюсь на спинку кресла и гляжу в матовое стекло плафона. Пахнет эфиром, и после вони в раздевалке и теплоты шикарной машины меня начинает мутить.
— Я сейчас вернусь, — говорит дантист и скатывается вниз по лестнице.
— Ты понимаешь, почему его заело? — говорит Морис. — Пожалуй, тащить твои клыки придется мне, Арт.
Он перебирает инструменты, дергает провод бормашины и обнаруживает в ящике щипцы как раз в ту минуту, когда дантист, тяжело топая, начинает взбираться по лестнице.
— Он идет, — предупреждает Джонсон из своего угла.
— Как по-твоему, сколько он выжал из Уивера? — спрашивает Морис.
— Пятерку.
— Да, не меньше. Вспомни, чей сегодня день рождения!
Дантист слегка запыхался. Он замечает в руке Мориса щипцы.
— Сами обойдетесь? — спрашивает он. — Или вам нужен мой совет?
— Консультация специалиста — что может быть лучше? — говорит Морис за моей головой.
— Ну так вот: не лезьте не в свое дело! — судя по голосу, он не просто сердит, а так как Морис ничего не отвечает, я догадываюсь, что дело серьезно.
Я пытаюсь повернуть голову, но дантист уже держит меня за виски. Я открываю и закрываю глаза. Он часто и жарко дышит, и пахнет от него не как от врача. Он раздраженно буркает:
— Однако! Больно?
— Не очень.
Джонсон тревожно квохчет, и из моей десны брызжет кровь.
— С ними ничего не случится, если подождать несколько дней, — говорит он. — Пойдете тогда к собственному дантисту. Это ведь детская клиника.
— А что нужно будет сделать?
— Удалить их, разумеется. Шесть зубов. Один, правда, можно попробовать сохранить, хотя придется повозиться. Но в любом случае вполне можно подождать до среды. А тогда зубоврачебные кабинеты уже откроются.
— Уивер что, мало вам дал? — спрашиваю я.
Я чувствую, что он пятится, и открываю глаза.
— Это вы о чем? — он вдруг срывается на простонародное йоркширское наречие.
К нам подходит Морис.
— Если он дал меньше, чем положено, мы доплатим. Я потом с него получу. Сколько нужно?
— Дело не в этом, — отвечает дантист. Он еще не надел халата и как будто вовсе не собирается его надевать — вид у него, как у банковского клерка, пойманного на грошовой растрате. — Вопрос в том, как вставлять вам зубы. Вероятно, вам понадобится протез верхней челюсти?
— Вот именно, — говорит Морис.
— А если сразу после удаления шести зубов он пойдет вставлять зубы к другому дантисту, получится неудобно. Сам же я сделать этого не могу.
— Ну почему? — удивляется Морис, радуясь возможности поспорить. — Вы что-то крутите. У детишек тоже бывают вставные зубы. Я сам знаком с таким.
— Неужели? — кивает дантист.
— Вы можете договориться с каким-нибудь своим приятелем. Вы выдерете ему зубы, а тот сделает протез.
— Я склонен выпроводить вас даже без обезболивающего, — говорит дантист. — Я ведь вас сюда не приглашал.
Я даже вспотел, до того мне тошно. Джонсон подобрался поближе и заглядывает мне в лицо.
— Тут не вечеринка, — говорю я им. — Давайте покончим с этим, а на цену наплевать.
— Вы же видите, — замечает Морис, — у него все болит.
— Это будет стоить пять гиней, — говорит мне дантист.
Я думаю, не объяснить ли ему, какая он сволочь. И прикидываю, какими способами он может со мной поквитаться. Он спрашивает:
— Ну как?
Я говорю «да», а Морис предлагает заплатить, и дантист смотрит, как он вынимает деньги. Дантист прячет их во внутренний карман.
— Работать для муниципалитета совсем не так выгодно, как вы, может быть, думаете, — говорит он, натягивая белый халат. — Вам сейчас не найти никого другого. Придется дать наркоз. Вы давно ели?
— С обеда — ничего.
Морис добавляет:
— И вы договоритесь с кем-нибудь из ваших приятелей насчет протеза?
— Да, — отвечает он. — Но не будете ли вы так добры подождать в приемной? Можете не закрывать дверь, если вам интересно. А тут вы мне мешаете.
Еще минута, и он кладет мне на лицо маску. Мне становится жутко, и я кричу: «Морис!» Национальное здравоохранение, запашок виски. «Выпустите меня отсюда». Нелепое пустое лицо Джонсона. И совсем больное лицо Джонсона.
2
Стоит ли из-за него беспокоиться? Эта мысль сразу пришла мне в голову, когда я вдруг задумался о Джонсоне. Зачем, собственно, разузнавать о нем все, что можно, если он больше не нужен? Вначале я полностью на него положился и из-за этого не особенно к нему присматривался — боялся увидеть, какая это ненадежная опора. И все-таки потом, когда он сделал свое дело, я начал раздумывать, что он за тип. Мне, пожалуй, никогда не приходилось встречать такого измолотого жизнью человека. Меня даже озадачивала его непробиваемая простота. Какой же мелочишкой может стать человек! Вот о чем думал я каждый раз, когда видел, как он с натугой передвигает ноги.
Я наслышался про Джонсона еще мальчишкой. В Хайфилде его знали все женщины и дети, потому что, когда остальные мужчины были на работе, он слонялся по улицам — только он один. Наверно, одиночество натолкнуло его на мысль прибавить себе лет: он притворялся, что ему лет на десять больше, чем было на самом деле. Этого, конечно, тоже не забывали, как и его постоянную праздность. Совсем недолго, может недели две, он работал садовым сторожем.
Когда я учился в последнем классе и играл в команде лиги регбистов, Джонсон почему-то оказался членом комитета городского клуба в Примстоуне. Он продержался там очень недолго, но все-таки достаточно, чтобы у меня осталось впечатление, будто он человек с весом. Я попал пальцем в небо. Хотя это обернулось к лучшему. Как он пробрался в клуб, я до сих пор не знаю, но, конечно, ни у кого в городе не было столько свободного времени, сколько у него.
По-настоящему я познакомился с Джонсоном только в двадцать лет. Я тогда явился по газетному объявлению в дом № 15 на Фэрфакс-стрит. За два года до этого я получил освобождение от военной службы: в школе во время столкновения на поле я изуродовал правую лодыжку. К тому времени я потерял интерес к игре, был сыт по горло жизнью с родителями и кочевал из одного ирландского дома в другой.
По мне, миссис Хэммонд могла быть хоть четырехглазым чудовищем. За тридцать пять шиллингов в неделю я пользовался отдельной комнатой с пансионом— как будто она во мне была заинтересована, а не я в ней. Да ставь я сам условия, лучших мне все равно не придумать бы. Других жильцов у нее не было. Сама она была вдовой не первой молодости, и дом был вполне приличный, так что, вообще-то говоря, никак иначе она и не могла себя вести, тем более что совсем недавно жилось ей довольно счастливо, а потом вдруг все оборвалось. У камина всегда стояла пара коричневых башмаков.
Я попал к ней после двух лет работы у Уивера. Миссис Хэммонд ненавидела меня, мои родители ненавидели миссис Хэммонд, ребятишки ревели по целым дням. А мне было на все наплевать. Я только что самостоятельно встал к токарному станку и большую часть времени старательно следил за Морисом Брейтуэйтом, который работал в том же цехе. Мне было интересно наблюдать, как к нему относятся люди. Им восхищались, его ненавидели. И у всех это сразу было видно. Он перестал ходить в заводскую столовую и обедал с двумя приятелями в соседнем кафе. Мне казалось, что он не такой, как остальные. А лет ему было не больше, чем мне.
Брейтуэйт играл в регби за лигу, вот почему он не тонул, как все, в вонючем болоте, а для меня это было главным. Сам я только-только не захлебывался. Когда я сказал ему, что хотел бы попробовать себя в «Примстоуне», Брейтуэйт объяснил, что для этого нужно иметь поручителя или рекомендацию агента, который занимается розысками новых талантов. Я никого не знал, а он не скрывал, что не собирается мне помогать. Тогда я назвал Джонсона.
— Никогда не слышал про такого, — сказал он. — Но ты все-таки поговори с ним. Кто-то должен тебя рекомендовать.
Тогда я пошел к Джонсону. Я не рассчитывал, что он мне поможет, а просто хотел посмотреть, что будет, если я его попрошу. Когда я постучал, он вышел и уставился на меня, но я не сомневался, что его жена стоит тут же за дверью. А когда я начал объяснять, что мне нужно, он вдруг пробормотал:
— Как ты смеешь стучать ко мне в дверь!
Мне это показалось уж очень смешно, и я расхохотался. Он не понял, почему я смеюсь, но все-таки спустился на одну ступеньку и шепнул что-то про «Короля Вильгельма». Я ушел, еле держась на ногах. Я хватался за заборы, калитки, фонарные столбы. Мне казалось, что я в жизни не видел большего чудака, чем Джонсон. Потом мы встретились с ним в этой пивной. Больше я над ним никогда не смеялся. Скоро я решил, что зря затеял все дело. Год ожидания, во время которого Джонсон упорно трудился, чтобы так или эдак устроить мне пробу в «Примстоуне», дал ему гораздо больше, чем мне. Он это тоже понимал. Я бы не удивился, узнав, что он сам сводил на нет свои старания, лишь бы оттянуть время, когда я смогу обходиться без него. Джонсон все больше за меня цеплялся, а мне это совсем не нравилось. Мне казалось, что он ходит за мной по пятам. Я уже был не прочь поискать какой-нибудь другой способ попасть в «Примстоун». Сначала я надеялся, что Морис Брейтуэйт передумает и согласится немного подтолкнуть меня — только это мне и было нужно. Но он явно не собирался ничего делать. Целый хвост возможных кандидатов в форварды дожидался пробы, так что мне оставалось положиться на Джонсона, рассчитывая, что он протащит меня в начало этой очереди.
Когда я выбежал на поле, было почти темно. Тяжелый туман застлал долину, и стадион замкнулся в плотных серых стенах моросящего дождя. Было отчаянно холодно. Группки игроков перебегали с места на место; на фоне полупустых боковых трибун они казались маленькими и ненастоящими — насекомые, толкущиеся в пустоте. От страха меня мутило, я не понимал, зачем я оказался в Примстоуне и почему целый год этого добивался. За темным поясом толпы и деревянными башенками стадиона ничего не было видно. Мы были одни: все привычное, все, от чего становится легче на душе, исчезло; мы были брошены в кольцо трибун. Я больше не знал, зачем мне все это нужно.
Когда я бежал на поле, Джонсон был у выхода. Я не знал, как ему удалось договориться о четырех пробных играх, но все-таки это был час его торжества. Когда я пробегал мимо, он стоял насупленный и жалкий. Пока мы ждали выхода другой команды, я мог разглядеть, как он медленно поднимается по центральной лестнице главной трибуны. Потом из жерла туннеля на поле хлынул поток белых рубашек.
Я приглашал миссис Хэммонд прийти, но она отказалась наотрез — нечего к ней с этим привязываться.
— Ведь это моя первая игра. Нужно же, чтобы кто-нибудь меня подбодрил.
— Сами себя подбодрите. С чего это я стану сидеть на холоде и целый час мерзнуть до полусмерти.
Когда я попробовал ее уговорить, она сказала:
— Нечего вам этим заниматься.
Ее лицо прямо горело от злости.
— Это же просто заработок. Если я буду играть хорошо, мне заплатят триста, а может, и четыреста фунтов.
Она засмеялась.
— Конечно, столько они вам и заплатят.
— Вот это я и хотел услышать. А все-таки хорошо бы вам прийти.
— И не подумаю, — с надрывом сказала она. — Если бы мне хотелось, я бы пошла. Я уже сказала. Я не хочу.
— Ну, так пожелайте мне удачи.
— Желаю вам всякой удачи. Только не моей.
Я прыгал на одном месте, как заведенный, и пытался вспомнить, какое у нее было лицо, когда я уходил из дому. Она смотрела на меня с недоверчивым интересом, пробивавшимся сквозь жалость к себе. Я был рад, что она не пришла. Ничего стоящего: сотни две зрителей, встреча двух команд-дублеров, вон Джонсон машет своими паучьими руками. Но ее намеренное безразличие разбудило во мне злость, даже ярость, и это было хорошо для игры. Я забыл про осторожность. После первого тайма, когда мы уходили с поля, я понял, что ярость — это главное, что помогает мне играть. Хотя эта манера как будто пришлась мне по нутру, мне не нравилось, что я могу похвастаться только медленной неуклюжей игрой и преимуществами роста и веса.
Мы строились перед вторым таймом под моросящим дождем, мешавшим разглядеть края поля. Я вдруг почувствовал себя счастливым, как будто сбросил с плеч какую-то тяжесть, и набрал полные легкие воздуха. Тогда я не придал этому никакого значения, просто воспользовался минутой, чтобы подбодрить себя. Позже я понял, что так всегда бывает перед тем, как приходит ощущение силы. Я был большим и сильным, и я мог заставить других признать это. Я мог показать им всем; с расчетливостью, которой я сам потом гордился, я по-настоящему кому-то врезал. Я был сильным. Сильным! Захватывающее чувство!
Я вслушивался в гул толпы — еще незнакомый мне звук. Я попробовал управлять этой музыкой одну минуту, две минуты. Некоторое время я действительно заставлял их реветь, словно дрессированных зверей. Я был сильным!
В последнюю четверть часа подъем сменился усталостью — я не знал, что бывает такая усталость. Я больше не хотел играть — совсем, никогда. Холод и дождь пробирали меня до костей, я не чувствовал ни рук, ни ног. Теперь между мной и толпой встала стена: я больше не слышал зрителей. Поле раздвинулось, его границы пропали в душном тумане. Земля ходила ходуном, стремясь поглотить меня. Я прислушивался к глухому топоту моих исчезнувших ног, которые двигались сами по себе. Я ненавидел толпу, которая заставляла меня терпеть эту муку. Глаза вылезли у меня из орбит, нижняя челюсть отвисла, каждый глоток воздуха казался куском свинца.
И все это было ненужно. Я бегал по полю как очумелый, выворачиваясь наизнанку при каждом движении, вместо того чтобы прохлаждаться, пока можно. Даже за время четырех пробных игр я научился приберегать силы до того момента, когда их можно лучше всего использовать. Никогда больше я не чувствовал себя таким измотанным, как после этого первого матча, и не радовался так окончанию игры. Мне было все равно, буду я когда-нибудь еще играть или нет. Я хотел только одного: лечь на спину и не двигаться ни сейчас, ни потом. Я лежал, задыхаясь, в бассейне, а вода стискивала мне грудь, как будто хотела удушить, и обжигала ссадины так, что начинались судороги. Позади раздавался возбужденный голос Джонсона, вокруг смех и болтовня — все одинаково чувствовали облегчение.
Кто-то взял полотенце и растер мне спину, потом тренер смазал желтой мазью мои руки и ноги. Джонсон стоял у двери и не отводил от меня глаз, полных гордости и восхищения. Он одобрительно кивал. Когда я начал одеваться, он улучил минуту и бросился ко мне.
— Ты замечательно играл, — тихонько сказал он, ожидая разрешения излить свой восторг.
— Тебе, значит, поправилось?
— Еще бы, Артур, — с нежностью ответил он и покачал головой. — Я никогда не видел такой игры. Они все будут за тебя.
— Ты так думаешь?
— Я знаю.
Джонсон таращил глаза, подбадривая сам себя.
— Я же сидел среди членов комитета, — соврал он. — Я их знаю, я знаю, что они думают. Ты играл как надо, в точности так, как требуется. Разве я тебе не говорил?
И он принялся описывать различные моменты игры, которые я даже не заметил.
— Ты что-то увлекаешься, — сказал я, потому что он заговорил слишком громко и некоторые уже начали откровенно улыбаться.
— Увлекаюсь! — Он отдернул руку, словно обидевшись.
— Да они все казались молокососами рядом с тобой, вот как ты играл!
— Я что-то этого не заметил. И не расходись так, папаша. Мы ведь еще в раздевалке. Как ты, собственно говоря, сюда попал?
— Они не обращают на меня внимания, — ответил он и зашептал: — Теперь, Артур, перед тобой открытый путь. Можешь запросить сколько хочешь. — Он внимательно посмотрел на меня. — Уж я-то знаю. Я же заседал в этом комитете, когда ты еще даже мяча в руках не мог удержать. Сам видишь, все идет, как я говорил. Разве не верно, Артур? — Он схватил меня за руку.
— Вряд ли они все думают так же, как ты, папаша. Попробуй посмотреть на это дело, как они.
— Вот увидишь, мы с ними ни в чем не расходимся. — Лицо у него сморщилось. — Только, может, они не станут это показывать. Само собой, они не станут это показывать, как я.
Он выпустил мою руку и ждал, пока я оденусь. Оглядываясь по сторонам, он не слишком остроумно сравнивал ноги и спины других игроков с моими.
Я немного постоял с остальными около огня — хотел убедиться, что Джонсон не очень навредил мне своим длинным языком. Потом он увел меня в буфет.
— Никого из значительных людей здесь нет, — сказал он очень уверенным голосом.
— Ни одного из членов комитета, о которых ты говорил?
— Нет. Во всяком случае, Джордж Уэйд, председатель, сейчас в Сент-Хеленсе с основным составом.
Мы взяли чай и бутерброды.
— А что за человек Уэйд? — спросил я.
— Решать будет он. Я говорил с ним о тебе. Он кремень, но свое дело знает. Он этим занимался, когда тебя еще на свете не было.
Мне надоел Джонсон. Я хотел поговорить с другими игроками, чтобы понять, трудно ли с ними поладить, разузнать, что они думают про матч и про мою игру. Мне надоел старик и надоело, что он все время пялит глаза на мои мускулы. Я смотрел, как он открывает и закрывает свой маленький рот, и не мог понять, для чего он это делает.
— Ну, чего ты треплешься, старикан? — хотелось мне сказать ему. — Все же это вранье.
Но я спросил только:
— А Уивер и Слоумер?
— Ты о чем? — Он был как будто озадачен и даже встревожен.
— Разве не они решают?
Он покачал головой.
— Они обеспечивают деньги. А Уэйд — игру. Можешь о них не думать.
— А что за человек Уивер?
По-моему, он не расслышал. По-моему, если бы он увидел, что я интересуюсь Уивером больше, чем регби, он бы этого не понял. Буфет заполнился, но через десять минут снова опустел. Никому не хотелось задерживаться. Я ждал в одиночестве, пока Джонсон бродил среди столиков, высказывая свое мнение и доверительно сообщая какие-то сведения, в результате чего несколько пар глаз обратились в мою сторону и еще больше бровей поднялось вверх, провожая его. Джонсон носил черные сапожки, его ноги в них смахивали на обрубки.
Мы вышли вместе и сели в автобус прямо у ворот стадиона. На улице были уже ранние зимние сумерки. В долине тускло светились городские огни. Мы сели спереди и смотрели, как по обеим сторонам бегут назад серые каменные стены и дома. Я достал книжку в бумажной обложке, которую пытался читать по дороге на матч. Радужное настроение Джонсона теперь, когда все было позади, постепенно улетучивалось. Время от времени он что-нибудь говорил, по-новому поглядывая на меня хозяйским глазом. В таком настроении мы сошли на Булл-Ринге и пересели на десятый номер, который шел по Вест-стрит в Хайфилд.
— Я ее читал, — сказал Джонсон, потрогав книгу и положив руку на страницу, чтобы я оторвался.
— О чем она?
— О боксере. — Он кашлянул и высморкался двумя пальцами.
— Это и так видно, — сказал я, показывая ему картинку на обложке. Он стал разглядывать раскрашенное лицо и две большие красные перчатки.
— Тебе нравится эта книга? — спросил он.
Я пожал плечами и ответил первое, что пришло в голову, — мне не хотелось показывать ему, что этот твердокаменный герой производит на меня впечатление. Наконец, как будто ему стиснули горло, он выдавил из себя то, о чем думал с самого конца матча.
— Ты хочешь, чтобы я к тебе зашел? — Он смотрел на меня жадно и растерянно — прикидывался. — Мне это нетрудно… совсем нетрудно, — добавил он.
— Как хочешь. Заходи, выпьешь чаю. Миссис Хэммонд ничего не скажет.
Он промолчал. Автобус катил по лужам света мимо замка, к дальней окраине за больничным холмом.
Дома никого не было. Миссис Хэммонд ушла с обоими детьми. Может быть, нарочно. Мы сидели в кухне и ждали. Джонсон снова завел разговор о матче, он поглядывал на коричневые башмаки у камина, поправлял кочергой огонь, подбрасывал уголь, — словом, делал вид, будто чувствует себя как дома.
Войдя в кухню, миссис Хэммонд прежде всего посмотрела на камин, на яркое пламя, которое разгорелось к ее приходу. Потом она сердито перевела взгляд на меня, а один из малышей сказал:
— Правда, тепло, мам?
— Очень, — отозвалась она и тут увидела в углу комнаты Джонсона, который с трудом поднялся на ноги. — Как в печке, — прибавила она с горечью. — Вы же знаете, мистер Мейчин, что мы не можем сжечь весь этот уголь.
Она не смотрела на Джонсона и ждала ответа от меня. Теперь она злилась уже не из-за огня, а из-за старика. Зря я его все-таки позвал!
— Мистер Джонсон проводил меня до дома, — сказал я, сам не зная зачем. — Мы только что вернулись с матча. Это миссис Хэммонд, — сообщил я ему.
Они что-то пробормотали друг другу. Джонсон остался стоять около своего стула.
— У нас почти ничего нет к чаю, — сказала она.
— Не стоит этим хвастаться, — ответил я. — А то мистер Джонсон подумает, что мы бедняки.
Казалось, она вот-вот заплачет или начнет ругаться. Она больше ничего не сознавала. Я помог ей вынуть покупки из сумки. Я понял, что не надо было приводить Джонсона — ни в коем случае. Но на нее я не сердился. Я сердился на него. Я положил на стол несколько пакетов, недоумевая, с какой стати она все это накупила.
— Я ходила по магазинам, — сказала она, — ужасная погода.
— Да, да, — подтвердил Джонсон. — Туман и дождь.
Она хлопотала у стола, очень довольная, что я ей помогаю и что Джонсон это видит. Она налила воды в чайник. Дети все еще стояли около двери. Они чувствовали, что мать сердится, и хмуро поглядывали на Джонсона.
— Садись-ка, — сказал я ему. Он опустился на стул и, выпрямившись, настороженно следил за каждым моим движением.
— Как прошел матч? — спросила миссис Хэммонд. — Вы выиграли?
Она не притворялась равнодушной, ей в самом деле это было совершенно неинтересно. Я что-то ответил, но тут Джонсон почти закричал:
— Он играл лучше всех, миссис!
— Правда? — На мгновение ее взгляд остановился на мне. — На сколько же они подписали с ним контракт?
— Это так быстро не делается. Ему нужно сыграть еще три матча, прежде чем они примут решение.
— А я думала, раз уж он так хорош, — вспылила она, задетая его вмешательством, — они подпишут контракт тут же.
— О нет, — важничал Джонсон. — Видите ли, они должны принять меры предосторожности, ведь речь идет о немалых деньгах!
— Значит, он должен еще три раза играть задаром?
— Не задаром. Он получает тридцать шиллингов — столько, сколько платят любителям. Это делается из предосторожности.
— Замечательно, — сказала она. — Тридцать шиллингов!
— Это не имеет значения, — ответил Джонсон. — После четырех матчей вроде сегодняшнего он сможет потребовать, сколько захочет. Им будет невыгодно ему отказывать, миссис Хэммонд. Верно, Артур?
— Не знаю.
— Конечно, мистер Джонсон, ему-то уж они не откажут.
— Да, — подтвердил Джонсон со слезящимися от жара глазами, — он пойдет далеко.
— А вы будете этому очень рады, — сказала она еще более ядовито и посмотрела на Джонсона даже с удивлением.
Мы уже вышли на улицу, и тут Джонсон вдруг тронул меня за руку и прошептал:
— Я забыл тебе сказать. Там сегодня был Слоумер.
Я отдернул руку.
— Почему ты мне раньше не сказал?
— Забыл. Он ушел, не дождавшись конца. Он редко бывает на матчах дублеров.
— Ну и как он?
Джонсон улыбнулся.
— Почем я знаю. Он ведь со мной не разговаривал.
— А ты не мог догадаться по его лицу? Он калека, да? Где он сидел?
— Позади меня. На несколько рядов выше.
Джонсон вдруг пожалел, что заговорил о Слоумере.
— Ты сейчас куда собираешься, Артур? — спросил он и с раздражением заглянул в освещенный коридор за моей спиной. — Давай пойдем куда-нибудь. Можно зайти в «Короля».
— Я устал.
— Мы доберемся туда в одну минуту. Можно доехать на автобусе.
Я посторонился, и свет упал на его маленькое встревоженное лицо — застывшую в темноте маску обиды. Сзади в коридоре я услышал шаги миссис Хэммонд.
— Может быть, я приду завтра. Поближе к обеду, — сказал я и отступил назад, за дверь. — Тогда и увидимся, папаша.
— Ты не сердишься, что я тебе помогаю? Не сердишься, Артур?
— Чего это ты вдруг? — Его лицо исчезло, вместо него появился потертый верх его кепки, такой потертый и сплющенный, что казалось, будто Джонсон цеплялся за все потолки. — Знаешь… я надеялся, что ты не подумаешь, будто я навязываюсь, вмешиваюсь… — говорило его скрывшееся лицо.
— Нет… — начал я неуверенно.
— Потому что я просто хочу помочь тебе, понимаешь? Раз я могу помочь, так и правильно будет, если…
— Ну да. Верно, папаша.
— Ты не сердишься?
— Нет, — сказал я с сердцем. — Не понимаю, о чем ты говоришь. Так, значит, до завтра.
— До завтра, — повторил он. — В одиннадцать.
— Спасибо за все.
— Не за что, Артур. В любое время. В любое время, когда понадобится.
Он стоял и ждал, чтобы я закрыл дверь.
Миссис Хэммонд убиралась на кухне. Я долго потом помнил особенное выражение, которое было тогда у нее на лице.
— Раз огонь горит так сильно, не стоит зажигать свет, — сказала она.
— Я хочу только отдохнуть, — ответил я. — Мне все равно.
Я сидел около камина и молчал.
— Почему вы не идете в свою комнату, если устали? — спросила она, увидев, что я достаю «Кровь на брезенте»: голос у нее был какой-то сдавленный. По ее лицу и фигуре пробегали отсветы огня.
— Там не отдохнешь. А спать мне не хочется.
— Разве вы не собираетесь выйти? Я думала, вы захотите насладиться своей славой.
Я глубоко вздохнул, чтобы показать, как сильно я устал.
— Тогда можете немножко мне помочь.
— Ладно.
Тэд Уильямс рассказывал своей красотке о матче. Она гладила его волосы, хвалила, и он чувствовал, что стоило все это вытерпеть ради нее. Он морщился от боли, но оставался твердокаменным.
— Что надо сделать?
— Можете вымыть посуду. Сегодня столько дел набралось. И то и это. — Она говорила без всякого выражения, вернее, с одним и тем же тупым выражением, как будто подавляла мучительную внутреннюю боль.
Я подошел к раковине и сложил в таз чайные чашки, потом обеденную посуду, потом грязную посуду, оставшуюся после завтрака, потом тарелки от вчерашнего ужина.
— Отставьте чашку этого Джонсона, — распорядилась она. — Я вымою ее сама: ее надо ошпарить. В чайнике осталась вода.
Я налил кипятку и хотел разбавить его водой из-под крана, но она снова вмешалась:
— Не добавляйте слишком много холодной воды. К чему тогда было лить воду из чайника?
— Где Линда и малыш?
— Наверху. Я сейчас уложу их.
— Еще рано.
— Они всегда рано ложатся по субботам.
Я постукивал чашками и протер запотевшее зеркало, чтобы смотреть на себя.
— Если они сейчас не лягут, — добавила она, — пьяные не дадут им заснуть, тогда они век не угомонятся. — Она смотрела, как я мою первую чашку. Секунду она молчала, потом не выдержала: — Если после мытья ополоснуть чашку под краном, на ней не останется мыла, она будет чище. Мне не хочется без конца этим заниматься.
Когда она уложила ребят и спустилась вниз, посуда стояла на столе, ее уже можно было убирать. Я сидел у камина и знакомился с домашней жизнью Уильямса после тяжелого боя. Я никак не мог понять, почему они не поместили на обложке изображение его шикарной блондинки. Например, в углу, за одной из огромных красных перчаток, как раз справа от его уха. Она лежала бы на этом своем диване. Очень было бы симпатично: спереди — он дерется, а в глубине — она с целой кучей всяких утешений. Здорово быть таким вот Уильямсом! Любая красотка — твоя, только свистни. Удар левой, перед которым никто не устоит, и смертоносный крюк правой. Его левая…
— Можете курить, если хотите, — сказала миссис Хэммонд и, внимательно осматривая тарелки, чтобы знать, сколько жира я на них оставил, начала убирать их в буфет.
— Что?
— Я сказала, что вы можете курить.
— А как же все попреки и разговоры?
— Сейчас здесь нет детей. Я не люблю, когда курят при них.
— Вы никогда этого не говорили.
— Ну что ж, теперь вы будете знать.
Я слышал, как она возится в буфете. Потом она сказала:
— Заработком это не назовешь.
— Вы про сегодняшний матч?
Она ничего не ответила.
— Заработок будет, когда подпишут контракт, — сказал я.
— Еще подпишут ли?
— Не знаю.
— Старик, кажется, не сомневается… А вы для него прямо как сын.
Я обернулся и посмотрел на нее.
— По-моему, нет. — Я задумался над тем, что она сказала. — Я называю его папашей просто потому, что он старый.
— Я не про это.
— А про что?
— Про то, как он себя с вами ведет — глаз с вас не спускает. Он смотрит на вас, как девчонка.
— Да бросьте вы! Ему интересно, вот и все.
— Вернее, даже очень интересно.
— Пусть очень. Ну и что из этого? В его годы у человека мало развлечений, и он достаточно для меня сделал.
— Вот, вот. Это-то и странно. — Она вешала чашки на крючки с таким видом, будто ее слова попадали в цель так же неотвратимо, как каждая чашка на свой крючок.
— Если регби вас не интересует, вы не можете знать, как к нему относятся другие. Больше всего его как раз любят старики вроде Джонсона.
— Любят, да не так, как он.
Она подошла и остановилась, опершись ладонями о стол.
— Знаете что, я понимаю: вы устали, и мне не надо было приводить его сюда. Я прошу прощения. Больше этого не будет.
— Я не устала. И мне все равно, приведете вы его снова или нет.
— Что же вам тогда нужно?
— Ничего.
— У него нет своего сына. Вы что, знакомы с Джонсоном или что-нибудь про него знаете?
— Может быть, и знаю. — Она напряженно наклонилась через стол, и по ее лицу забегали огненные зайчики. — Сколько он получит, если с вами заключат контракт?
Я сделал вид, что обиделся. Но она не заметила. Мне казалось, что она старается держаться поближе ко мне и обойти Джонсона. Я сказал с досадой:
— Ничего он не получит. Я никогда об этом даже не думал.
— Можете не сомневаться, он-то подумал.
Я вдруг почувствовал, что в дружбе Джонсона есть что-то такое, что я должен защитить.
— Он не такой, — сказал я.
— Да неужели? За всю свою жизнь он ни разу не работал.
Настоящая язва. Хотел бы я знать, как с ней управился бы Уильямс. Вздул бы? Отвесил бы пощечину? Это-то уж наверняка. Тигру так и положено. Раз — и готово.
— Откуда вы знаете, что Джонсон никогда не работал? — спросил я.
— У меня есть глаза. Посмотрите на его руки. Разве они знают, что такое работа? У него мерзкие руки. Совсем мягкие.
— При чем здесь, черт возьми, его руки? — Я быстро посмотрел на свои ладони и у пальцы. — У него мерзкие руки. У меня мерзкие руки. Мы же не можем все быть женщинами. Я еще даже не знаю, подпишут со мной контракт или нет. И он не знает.
— Он, кажется, в этом не сомневается. — И она добавила небрежно: — Я слышала, он говорил про Слоумера.
— Ну и что из этого?
— Я слышала, что он говорил про Слоумера.
— Пусть вы слышали, что он говорил про Слоумера. Твердите одно и то же, как ребенок. К чему вы клоните? Вот что я хотел бы знать. Слоумер помогает содержать клуб. На самом-то деле, может, он один его и содержит. Денег у него много.
— И вам нравятся такие деньги? Он ведь католик.
Я прикинул, насколько это должно меня потрясти. В конце концов для этой улицы, и для соседей, и для всего множества улиц, которые видны с больничного холма над долиной, католик — это уже почти иностранный агент. Он может быть за вас, а может быть против вас. Чтобы жить спокойно, лучше относиться к ним всем, как к врагам. Если каждого считать тигром, то не ошибешься. Но Слоумер-то не каждый. Он богат и один из заправил. Мне казалось, что это должно покрывать все остальное.
— По тому, что я слышал, — сказал я, — Уивер мне совсем не нравится. Но я все-таки работаю у него на заводе. По-вашему, я должен переменить место?
— Меня это не касается. — Она как будто обрадовалась, что вывела меня из себя. Огонь в камине угасал, и читать было уже нельзя, но она не зажигала света. В довершение ко всему она взяла желтую тряпочку и, встав около самого огня на колени, начала чистить башмаки, стоявшие на каминной решетке.
— Насколько я знаю, ваш муж работал у Уивера, — сказал я казенным голосом, словно объявлял о несчастье, которое не имело ко мне никакого отношения.
— Кто вам это сказал? — спросила она, не поднимая глаз. Она навернула тряпку на указательный палец и протирала сгибы вокруг дырок для шнурков.
— Один человек. Он случайно спросил, где я живу. А когда я ответил, сказал, что ваш муж там работал.
— Наверное, он еще что-нибудь говорил. Не то вы не стали бы заводить разговор… Вы, конечно, тут же выложили, что живете за гроши у вдовы Хэммонда.
— Нет. Я просто сказал, сколько плачу, и объяснил, что отрабатываю остальное, помогая по хозяйству.
— И он, конечно, подумал, что вы… настоящий рыцарь. Помогаете по хозяйству. Так вы ему и сказали? А он что же?
— Вам ведь не интересно, что говорят люди.
— Да, не интересно. — От огня в камине осталась только кучка жарких углей. Красные отблески ложились на коричневый башмак, который она надела на руку. — Мне не нравится, когда говорят про Эрика, вот что, — сказала она.
— Я и не стал бы о нем говорить.
— Мне все равно, когда сплетничают обо мне. Они только этим и занимаются. Когда он умер, они болтали… ну, это все равно. Я не люблю, когда треплют его имя.
Позади дома играли дети. У них под ногами скрипела выброшенная за двери зола. Они кричали и визжали в темноте.
На соседнем дворе мальчишка Фарер проверял мотор своего мопеда; мотор трещал, чихал и глох. Там всем было весело. Я встал, собираясь уйти.
— Что про него говорят у Уивера? — спросила она.
— Я только раз слышал, как о нем говорили.
— Наверное, сами разболтались, вот и зашел о нем разговор.
— Нет. Я никогда даже не произносил его имени.
Она вытащила руку из башмака и поставила его рядом с другим.
— Знаете, когда Эрик умер… я… для меня рухнул весь мир. — Ее черный силуэт совсем поник. — Он часто говорил, что не знает, зачем живет. Он говорил: «Зачем я родился?» Когда он это повторял, я чувствовала, что я ему плохая жена. Я не смогла заставить его поверить, что он нужен… — Она подняла глаза. — Наверное, не надо было это вам говорить? — спросила она.
— Да ничего…
— Нет, я хотела сказать, что не надо этого говорить такому, как вы. Уверенному в себе. Вы ведь, наверное, так это называете. Свое бахвальство. Вас, кажется, никакие сомнения не мучают, как Эрика.
— Я заговорил об этом только потому, что вы начали чистить эти башмаки.
— А что тут такого? Вам что, не нравится смотреть, как я это делаю?
— Да нет… я ведь уже сказал, что мне все равно.
Я увидел, что она плачет. И ушел, пока ничего не началось.
* * *
Второй пробный матч показался мне легче первого. Главное, мне незачем было особенно надрываться: один идиот каждый раз вырывался из схватки вслепую, а мяч держал кое-как. Мне нужно было только встать у него на дороге — он никогда не смотрел, куда несется. Подставишь плечо ему под челюсть, и он валится, как кукла. Я даже сосчитал, сколько раз он так хлопался. Четырнадцать. У него на лице живого места не осталось. В пятнадцатый раз его унесли с поля. До чего же можно одуреть! Значит, я могу хорошо играть в защите.
Джонсон меня злил. Сам не знаю, почему я больше не мог видеть, как он торчит на фоне Бэттли. Я не торопился вылезать из бассейна, потом еще дольше одевался, но он все равно меня дождался. Ему показалось, что я себе что-то повредил, и его беспокойство разозлило меня еще больше.
— Мы уже уезжаем. Я не думал, что ты будешь меня ждать, — сказал я.
— Мне только хотелось узнать, как ты себя чувствуешь, Артур. — Он оглядывал меня с ног до головы, проверяя, действительно ли я цел и невредим.
— Куда ты собираешься? — Я старался скрыть раздражение.
Он пожал плечами, но, когда я взялся за поручень, чтобы вскочить в автобус, он схватил меня за руку.
— Автобус еще не уходит, — сказал он. — Пойдем выпьем чаю.
— Они ждут только меня. Ребята хотят вернуться в город. — Я кивнул на озадаченные лица за стеклами автобуса. Все устали, у всех что-нибудь болело, всем хотелось скорее уехать.
— А ты придешь сегодня в «Короля»?
— Не могу.
— Не можешь?
— Я уже договорился.
Джонсон начал догадываться, в чем дело.
Он подсунул под кепку сивую прядь, которая вечно выбивалась наружу.
— Когда же я теперь тебя увижу? — Он хмуро посмотрел на меня из-под кепки, как он думал, с упреком, но взгляд получился просто ошарашенным. — Ты только скажи когда, Артур. Ты меня знаешь. Я буду на месте.
Я вошел в автобус.
— Если не увидимся раньше, — крикнул он, — встретимся в Примстоуне! Это уж наверняка. Я буду обязательно. После тренировки. Вечером, во вторник.
Когда автобус отъехал, я помахал рукой и пригнулся посмотреть, как он это принял. Джонсон стоял один посреди замусоренной площадки. Ветер крутил программки. Поле было похоже на грязную серо-зеленую тряпку. Джонсон изо всех сил махал рукой.
— Старик спрашивал, нельзя ли ему с нами, — сказал из-за моего плеча тренер. — Да ты сам знаешь. Пустишь одного, а за ним все полезут.
— Ну и хорошо, Дикки. От него трудно отвязаться.
Я почувствовал, что Джонсону следовало держать свою старость при себе.
— Тогда все в порядке, Арт. — Он хлопнул меня по спине, и мы сели.
Автобус несся сквозь сгущавшиеся сумерки назад в город. На небе догорал закат, голые известковые холмы стали лиловыми.
Устроившись сзади, мы вшестером играли в карты. Я проиграл три фунта и немного мелочи.
Когда я вернулся, было уже почти двенадцать и в доме не светилось ни одно окно. Я тихонько постучал. Через минуту я услышал на лестнице ее шаги. В коридоре зажегся свет, и она отперла дверь. Когда я вошел, она не сказала ни слова. Заперев дверь, она начала подниматься наверх.
— Простите, что так поздно, — сказал я.
— Ничего.
— Вот и хорошо, что ничего.
Она была в пальто, накинутом на ночную рубашку, и терла руки от холода.
— Вы пьяны, — она говорила спокойно и остановилась там, где ступеньки уходили в темноту.
— Разве вы не хотите спросить меня, как прошел матч в Бэттли?
— Вы до сих пор играли?
— Как сказать? Мы поздно вернулись назад. Я ходил на танцы вместе с другими ребятами.
— Я не знала, что вы так любите танцевать.
— А я не люблю. Не очень люблю. Просто иногда мы заходим в «Мекку».
— И вам там нравится?
— Ничего.
Я старался говорить равнодушно. И так уже мне пришлось прислониться к стене, чтобы легче было смотреть на нее снизу вверх.
— Вы пьяны! — сказала она. — Вы явились сюда пьяным!
— Ну и что? Вы же мне не мать и не… и вообще никто. Чего вы на меня рычите? А я вот хочу называть вас солнышком… Валерия.
Она уже начала подниматься по лестнице. Но тут обернулась, как будто не расслышала, что я сказал.
— Солнышко, — повторил я и рыгнул.
Она метнулась вверх, и я услышал, как захлопнулась ее дверь.
Джонсон ждал в туннеле рядом с раздевалкой, так что мне некуда было деться. Весь вечер он простоял у боковой линии: следил за тренировкой и, как всегда, ободряюще махал мне рукой.
— Это что, твой отец или дядя? — спросил один из игроков, с которым мы вместе уходили с поля.
— Нет. Просто он мне устроил здесь пробу.
— Старые соседи? Хорошо, что удалось. — Он подмигнул, хлопнул меня по плечу и ушел, жуя резинку.
— Ты был сегодня в хорошей форме, Артур, — сказал Джонсон. — Как ты себя чувствуешь после той субботы? — Он вглядывался мне в лицо, чтобы угадать, в каком я настроении.
— Ничего, привыкаю, — сказал я и почувствовал, что стараюсь его ободрить.
— Это правильно, сынок, это правильно. — Он всеми силами пытался уловить хоть подобие дружеской ноты в моем голосе. — Главное — заниматься регулярно, в этом все дело. Тренироваться и опять тренироваться. Тут уж, Артур, не переборщишь. Понимаешь? Иначе ничего не добьешься. А так все пойдет как по маслу. — Теперь он обшаривал меня взглядом, боясь пропустить какую-нибудь перемену, которая могла произойти, пока мы не виделись. — Много хороших игроков погубили себя… по-настоящему погубили, потому что им лень было тренироваться. Понимаешь? Раза два подряд сыграют с блеском и уже решают, что тренировки им не нужны. Некоторым это ударяет в голову. Расхаживают с таким видом, будто они бог знает что такое… — Он все уговаривал меня и уговаривал, а его старое усталое тело дергалось и подпрыгивало из-за того, что он силился не отстать, пока мы шли к автобусу. — Я все думал, почему бы нам не зайти к тебе, — сказал он достаточно громко, чтобы его услышал другой игрок, жевавший резинку. — Мы можем захватить рыбы и жареного картофеля. Твоей миссис Хэммонд ни о чем не надо будет беспокоиться. Я буду рад еще раз с ней повидаться.
Я посмотрел на него, не понимая, с чего это ему захотелось еще раз с ней повидаться. Она-то зачем ему понадобилась?
— Сегодня она занята, папаша. И последнее время она обижается, если приносишь что-нибудь, не предупредив. Она любит, чтобы ей говорили заранее.
— Мы же не доставим ей никаких хлопот. Посидим все вместе. Устроим маленькую вечеринку. Захватим пива и немножко портера. Она ведь пьет портер? Пьет?
— Как-нибудь в другой раз. Она сейчас очень нервничает. И всю ту неделю нервничала. Давай как-нибудь в другой раз.
Я сказал это очень решительно, но, когда мы сели на десятый автобус, он, как маленький, начал снова:
— Не понимаю, что тут плохого.
— Что тебе вдруг так приспичило? — спросил я.
— Приспичило? Мы ведь теперь с тобой как-то связаны. А мне показалось, что в тот раз я ей не понравился. — Он посмотрел на меня, надеясь услышать правду.
— Она просто не очень любит, когда в дом приходят люди, вот и все.
— Все-таки я ей не понравился.
— Не в том дело. Это все из-за камина. Угля мы много потратили, черт бы его побрал. А может, еще что-нибудь. Она очень обидчивая.
Перед мостом автобус проехал несколько улиц с приземистыми одноэтажными домишками. Черные хибарки стояли, кое-как приткнутые к земле высокими дымоходными трубами. На берегу лежала баржа — глупое ленивое животное, широко разинувшее пустую пасть трюма, и ребятишки съезжали вниз по палубе, как с горы. У угольной пристани стояли два самосвала, дожидаясь утра. Городские огни один за другим тонули в реке, сливаясь в тонкую дрожащую струйку.
— Тебе нравится там жить? — спросил Джонсон.
— Нравится? Мне все равно. Да и дешево. А что?
— Мне, знаешь, показалось, что она… ну, странная, что ли. На лице такое выражение, словно она не в себе. Что это за башмаки стояли у камина? Не твои? Нет?
— Это башмаки ее мужа. Из-за этого она и не в себе. Его не так давно убило на заводе Уивера.
Но Джонсону все было мало. Он что-то говорил, как ее жалко. Только это еще больше сбило его с толку. Он уже совсем не понимал, почему я живу у миссис Хэммонд. Честно говоря, я тоже. Я просидел с ним час в «Короле Вильгельме».
В четверг во время вечерней тренировки мне сказали, что в субботу Джордж Уэйд не поедет с основным составом в Уэйкфилд, а придет посмотреть дублеров. Я почему-то решил, что он хочет посмотреть меня, хотя в нашей команде испытательный срок проходили еще четверо. Перед матчем в раздевалке я бросался на помощь всем и каждому. Одних мазал вазелином, другим помогал надевать наплечники и боксировал по углам со всеми желающими. Все понимали, чего я добиваюсь. И в первый раз была хорошая погода.
Я услышал в репродукторе свое имя и потом рев толпы — на ноле вышла приезжая команда. Дикки, наш тренер, давал последние наставления, мы построились и двинулись к туннелю. Передние перешли на бег. Бутсы дробно застучали по бетону, потом звук утратил четкость и вдруг совсем оборвался на земляной дорожке у выхода из туннеля.
Темнота осталась позади. На мгновение все зажмурились от света и людского рева. Оказавшись на поле, я как будто стал больше. Все время, пока мы быстро, с важным видом, бежали к середине поля и строились в круг, в репродукторах гремел «Марш гладиаторов». Когда капитаны бросили жребий, марш сменился пронзительным ревом фанфар.
Команды разбежались в противоположные стороны, игроки встали по своим местам и стояли неподвижно — красные и синие на тускло-коричневых и грязно-зеленых лоскутах поля. Все, замерев, ждали свистка. Вот он раздался. Мяч взлетел в воздух.
Прошло пятнадцать минут первого тайма, а я ни разу даже не коснулся мяча. Я совсем измотался и запыхался. Только к концу тайма я понял, что мне не дает мяча моя собственная команда.
Я решил, что это подстроил Тэфф Гоуэр, наш центр — тихоня, доживающий последние дни в команде дублеров. Когда мяч летел на меня, где-нибудь рядом вдруг мелькало покрытое шрамами беззубое лицо Гоуэра, его короткая кривоногая фигура, и будто случайно он направлял мяч в другую сторону. Я догадывался, что он должен меня недолюбливать. Я, кажется, перебежал дорогу какому-то его дружку и лишил его приработка. До всего этого мне не было никакого дела. Я видел только одно: все мои надежды сейчас рушатся. Когда мы в следующий раз встали, согнувшись пополам, чтобы разыграть схватку, Гоуэр оказался немного впереди меня.
— Почему ты не даешь мне играть? — спросил я.
Он ждал мяч, низко опустив голову, но очень вежливо усмехался. Я видел его глотку. Когда он плюнул, я не мог отвести лицо. Я знал, что он меня терпеть не может.
Я пропустил три схватки, чтобы Тэфф перестал остерегаться, а потом выбрал удобный момент. Правую руку я оставил свободной. Тэфф опустил голову и таращил глаза, чтобы не пропустить мяч. Я видел, что мяч уже прошел половину схватки, форварды нажали и голова Тэффа пригнулась еще больше. Мой правый кулак пришелся в самую середину его лица. Он громко вскрикнул. Я ударил еще раз и, отняв руку, увидел розовое месиво там, где у него были губы и нос. Теперь он вопил во все горло, отчасти притворяясь, как все игроки, но больше от настоящей боли. Его ругань разносилась по всему полю.
Судья засвистел изо всех сил, и схватка распалась.
— Я видел! Я видел! — кричал он; возмущенные вопли с трибун подхлестывали его стремление восстановить справедливость.
Зрители повскакали с мест, кричали и махали руками. Гоуэр прижал ладони к лицу, но кровь просачивалась у него между пальцами, пока тренер и еще два игрока, как поводыри, уводили его с поля.
— Тебе это даром не пройдет, подлюга! Больше тебе не придется играть! — и прочее, что полагается, кричал судья. Он со злостью ткнул пальцем в центра противников. Рев толпы достиг предела — подожги кто-нибудь церковь, они бы никогда так не бушевали.
Центр, молодой парень, замотал головой.
— Я к нему даже не прикасался, — возмущался он, оглядываясь и ища сочувствия у своей команды. — Клянусь богом, я к нему даже не прикасался.
— Скажешь это председателю лиги!
Ни в чем не повинный нападающий выходил из себя.
— Да вы посмотрите на мой кулак! — кричал он. — Вы посмотрите, есть на нем кровь?
— Я не собираюсь с тобой пререкаться.
Судья записал его фамилию и отправил с поля.
Я никогда не видел такого, представления. Весь стадион дрожал от ярости, когда этот паренек в детском костюмчике проходил перед главной трибуной.
— Таким нечего делать на поле, — судья обращался ко мне, потому что я стоял к нему ближе всех. Не знаю, о ком он говорил: о тех, кто был на трибунах, или о центре. Штрафной удар дал нам два очка.
Во время перерыва мы столпились у выхода из туннеля, пили из бутылок воду и слушали, как Дикки разматывает рулон наших ошибок. Мы помалкивали. Как ни верти, после ухода Гоуэра я часто получал мяч, и не всегда только благодаря счастливому случаю. Я смотрел на трибуны, стараясь разглядеть в комитетской ложе фетровую шляпу Джорджа Уэйда, и тут ко мне подошел Дикки. Он взял меня за руку и стал разглядывать пальцы.
— Ну и синяки же ты заработал, старик! Что это на тебя нашло? — Он смотрел не на меня, а на других игроков.
— Про что ты?
— Про Тэффа Гоуэра. Со скамьи все было отлично видно.
— Он не давал мне мяча.
— Брось, приятель. У нас такие штуки не выходят.
— Теперь, конечно, это так.
Он поморщился, недовольный тем, что я еще отшучиваюсь.
— Ты придешься к месту в нашем клубе, — сказал он. — Я, конечно, не скажу ни слова, если только Уэйд не спросит меня с глазу на глаз.
— Ты, значит, за меня? — спросил я.
— Запомни, приятель. Я за себя. — Он многозначительно подмигнул и хлопнул меня по плечу. — Действуй так и дальше, Артур, — сказал он громко и пошел давать советы беку.
В начале второго тайма, пока мы стояли на поле и ждали, когда введут мяч в игру, я, внимательно глядел по сторонам, говоря себе, что должен полностью насладиться каждой из этих секунд. Я не спускал глаз с двойной шишки охладительных башен электростанции и смотрел, как облачко белого пара проходит над долиной и приближается к полю. Мяч взлетел прямо к нему и, описав дугу, начал падать в мою сторону. Я хорошо взял его и, сбив двух игроков, бросился к центру поля. Кто-то кричал, чтобы я пасовал. Я не стал. Вырвавшись на открытое пространство, я вдруг подумал, что, пожалуй, смогу добежать до линии. Я ринулся прямо на бека и, когда он оказался рядом, ударил его запястьем по носу. Хряск, стон, его руки разжались, и у меня внутри все взвилось от радости. Я пробежал между стойками и, приземляя мяч, видел, как ликуют трибуны.
Все светилось и сверкало. Дома позади башенок стадиона, силуэты сэндвудских деревьев, льдисто-голубое небо, толпы людей — все жаждали увидеть меня. Я двигался, до предела заряженный энергией, без малейших усилий, готовый разорвать на куски кого угодно, и еще улыбался зрителям. Я уходил с поля, чувствуя себя сильнее, чем перед матчем. Мне все было нипочем.
Джорджа Уэйда в кафе не было, зато Джонсон был. Он впился в меня восторженным взглядом, обнимал своей короткой рукой и так радостно тараторил, что привлекал в нашу сторону множество глаз.
— Какая игра, Артур! Чудо!
Он нес такую околесицу, что мне пришлось увести его в бар, чтобы как-нибудь успокоить. Как только мы пришли туда, он сразу же отправился в уборную — терпел, пока не дождался меня. Я заказал пару пива.
— Позвольте мне, — раздался у меня за спиной чей-то голос. Я обернулся и увидел расплывшееся, улыбающееся лицо. — Нет, нет, разрешите мне. Я решительно настаиваю. — И хотя я не мог знать, кто это, я знал, что это Уивер. Он отодвинул мои деньги и вместо них протянул бармену фунтовую бумажку. Сняв шляпу, он заказал пива себе тоже.
— Вы сегодня хорошо играли, Артур, — сказал он дружески, как будто мы с ним были сто лет знакомы. — Как вам нравится городской клуб? — Его маленькие выпяченные губы раздвинулись, и открылись маленькие ровные зубы, которые казались вставными — и напрасно.
— Это моя третья игра. Пока вроде все идет хорошо.
— Да, — сказал он. — Насколько мне известно, вы начали весьма удачно, позвольте вам сказать. — Он кивнул на матовые стекла комнаты комитета. — Уэйд говорил там о вас. По-моему, сегодня для этого вполне подходящий день. — Он снова кивнул, на этот раз в сторону окна, выходящего на поле. — Вам нравится жесткая тактика?
— Куда ж денешься?
Он расхохотался во все горло. Я видел, что Джонсон вышел из уборной и остановился в стороне. Я поманил его, но он не подошел.
— Вы играли в других клубах… в какой-нибудь другой лиге? — спросил Уивер, словно не заметил, как я подзывал Джонсона.
Я покачал головой.
— По-моему, я прежде не слышал вашей фамилии — Мейчин. — Он произнес ее как-то пренебрежительно, и мы посмотрели друг на друга с инстинктивной настороженностью.
— Жаль беднягу Тэффа Гоуэра.
— А что с ним? Я его не видел после матча.
— Разумеется. Его увезли в больницу, чтобы сделать рентген. Кажется, у него сломан нос. Для такого щуплого юнца у их центра тяжелый удар! — Уивер улыбался, почти смеялся, его голубые глазки моргали.
— Не повезло.
— Вот именно. — Он взял шляпу, так и не притронувшись к пиву. — Ну, мне пора. С вами уже подписали контракт?
— Я должен сыграть еще один матч, прежде чем они решат.
— Не думаю, чтобы им было так уж трудно это сделать. А как по-вашему? — Его младенческие глазки снова заморгали и провалились в напухшие подглазья. — Пока, Артур.
Как только он ушел, я повернулся к Джонсону.
— Кто это? — спросил я.
— Неужто ты не знаешь, Артур? (Он знал, что я знаю.)
— Кто это?
— Угадай… ну-ка, попробуй угадай. — Он улыбался — эта игра доставляла ему удовольствие.
Я схватил его за руку, за кисть, и крепко сжал.
— Кто это, папаша?
Я сам удивлялся, что так себя веду из-за Уивера. Наверное, иначе я не мог сладить со своим волнением.
— Это подло, Артур! Это подло. — Я стиснул его руку еще сильнее, так что побелели скрюченные пальцы. — Это подло, — простонал он.
Я отпустил, и Джонсон принялся осторожно потирать запястье, не спуская с меня глаз.
— Зачем ты это сделал, Артур?
— Не знаю.
Все невысказанные упреки подступили ему к горлу.
— Зачем ты так схватил меня за руку?
Я мотнул головой.
— Это был Уивер? — спросил я.
— Мне больно. Ты из-за него так меня схватил? — Он прикрыл запястье здоровой рукой. — Только потому, что это был Уивер?
Я удивился, что Джонсон вдруг обиделся оттого, что ему причинили боль. Он ведь был из тех, кому всегда причиняют боль и всегда будут причинять боль, что бы он ни сделал. Мне было противно слушать его жалобы. Не я, так другой сделал бы ему больно. Что же тогда меня попрекать, как будто я какой-нибудь бандит?
— Ты слишком разгорячился, — сказал он устало, поглаживая горевшую кисть. — Я думал, ты знаешь, что это Уивер.
— Я удивился, что он так со мной говорит. Ведь это чего-нибудь да стоит, если он сам к тебе подходит и начинает вот так разговаривать. Значит, он меня заметил.
Джонсон продолжал дуться. Он хотел затеять ссору, но не знал, как это сделать. Причинив ему боль, я отнял у него свой недавний успех — вот что он чувствовал. Я бросил его и пошел в город пешком. Огни вспыхивали беззвучными взрывами. Наступил час, когда все руки тянутся к выключателям. Я видел огни долины до самого Хайфилда — ряд громоздился за рядом, словно огромный военный лагерь занял все пространство до смутно чернеющей громады Райдингской больницы на высоком гребне. Туман полз от реки, затягивая долину позади парка, в центре которого стоял одинокий холм; темные силуэты кустов и деревьев по его склонам казались зверями, присевшими на задние лапы. Оглянувшись, я увидел, что Джонсон бредет ярдах в пятидесяти позади меня.
Я не знал, что делать дальше. Книги с собой у меня не было. «Тореадора» я оставил дома. Я подумал, что с удовольствием прокатился бы на автомобиле куда-нибудь за город. Я купил спортивную газету, после долгих поисков нашел на внутренней странице маленькую заметку о матче и увидел, что всего через час или около того после финального свистка мое имя было напечатано в газете большими буквами. По нашим токарным стандартам — одна шестнадцатая дюйма. Не очень внушительно. Но я сумею сделать их больше!
Добравшись до города, я просто сел на 10-й автобус.
Она стояла в кухне, наклонившись над раковиной. Линда и Йен играли на стуле около камина. Они отчаянно шумели. Йен был без штанов. Я шлепнул его по голому заду и сел, раздраженный, как внезапно нагрянувший инспектор, тем, что она возится в этой непроветренной, неприбранной, заставленной посудой конуре и ничего не знает об успехе, который вошел сюда вместе со мной.
— Вы пили чай? — спросила она.
— Пил после матча.
— Как прошла игра?
— А вам интересно?
— Не очень… Что там у вас? — сказала она, услышав рев Линды. Она вытерла руки, чтобы разнять детей, и слегка шлепнула их обоих.
На мгновение они уставились на меня и, увидав в моих глазах сочувствие, заревели еще громче.
— Что тут смешного? — спросила она.
— А вам не кажется, что они смешные? — ответил я.
Она отошла к раковине и снова принялась стирать нелепые штанишки Йена, которые сама сшила. Она, конечно, вспоминала, сколько времени ей приходится изо дня в день проводить с детьми и почему она не замечает, что они смешные.
— Иногда кажется, — сказала она.
Я освободил себе место, сбросив на пол газеты, кукол, разорванные книжки, грязное белье, драные подушки, кубики и жестяные автомобильчики.
— Полчаса назад я познакомился со своим хозяином, — сказал я.
— Кто же это такой? — она открыла кран. — Про кого вы говорите?
Заглушая шум воды, я назвал Уивера. Она кивнула, как будто это имя ничего для нее не значило.
— Где же вы с ним познакомились? — все-таки поинтересовалась она.
— На стадионе. Он, кажется, считает, что с контрактом все будет в порядке.
— Очень любезно с его стороны. Наверное, зря он не стал бы говорить.
— Да, уж конечно, и я ему понравился. Это было видно. Он угостил меня пивом.
— А что сегодня случилось с другим вашим другом, с мистером Джонсоном?
— Он его тоже угостил пивом.
— Значит, он умеет различать, кто ему друг.
— Я подумал… когда ехал сюда… а почему бы нам не пойти погулять? Если вам не на кого оставить ребят, мы можем взять их с собой.
Она закрыла кран, и Йен почему-то перестал реветь, а за ним Линда.
— С чего это вдруг? — Она поглядела на меня с удивлением. — И что за радость гулять в такую темень?
— Да просто вы совсем не выходите, и я подумал, что немного свежего воздуха будет вам полезно. Когда я гуляю, я люблю с кем-нибудь разговаривать. Тогда легче разобраться…
— Очень вам признательна. Но о своем здоровье я позабочусь сама, — сказала она.
Мне в самом деле хотелось пройтись, только не одному, и она была единственным человеком, с которым я хотел погулять. Но я не мог ей этого растолковать. Мне просто надо было с кем-нибудь поговорить. А она ждала объяснений. Она, наверное, даже обрадовалась, что ей представился случай показать свою независимость. И когда я промолчал, она заговорила сама:
— С чего вам взбрело в голову, что я пойду с вами гулять?
Она думала о том, что скажут люди, жадно высматривающие по обеим сторонам улицы, не происходит ли чего-нибудь необычного.
— Я думаю, мистер Мейчин, нам лучше договориться раз и навсегда. У каждого из нас своя жизнь, и пусть это так и будет. Я не хочу, чтобы вы совали нос в мои дела. А я не буду вмешиваться в ваши. Я не хочу, чтобы вы держались с нами вот так, как свой. Может быть, вы этого не знаете, но у меня еще осталось немножко гордости.
Говорить больше было не о чем. Я хотел рассказать ей про сегодняшнюю игру, про Гоуэра, про свои шансы на успех, показать газетную заметку с моим именем.
— Значит, вы просто не хотите быть счастливой? — спросил я.
— Счастливой? Конечно, я хочу быть счастливой. Вы, наверное, думаете, что я несчастна, потому что… Когда меня оставляют в покое, я счастлива. Я могу сама справиться со своими делами. И не желаю, чтобы вы вмешивались.
— Я и не вмешиваюсь. Я просто стараюсь относиться к вам по-дружески. Недавно вечером вы, по-моему, были рады со мной поговорить.
— У вас хватает друзей. Здесь ваша дружба ни к чему. Приставайте к ним.
— Да как вы можете быть счастливы? Только подумайте. Вы никуда не ходите. У вас нет ни одной подруги среди соседок. Настоящей подруги. Что за удовольствие торчать здесь целый день? Нечего говорить, что вы счастливы.
— Я счастлива.
— Это одни слова. Вы только говорите, что счастливы. Я вам не верю.
— А я и не прошу, чтобы вы мне верили. Да кто вы такой, скажите на милость? Здесь вы командовать не будете, хватит с вас этого замухрышки Джонсона. Я вам не служанка. Я не собираюсь прыгать целый день, скаля зубы, чтобы вы видели, какая я счастливая.
— Разве я говорю, что вы должны все время смеяться? Просто выглядеть счастливой. А вы… вы не кажетесь счастливой. Дело не в смехе.
— Мне надоело с вами разговаривать. Вы же собирались идти гулять.
— Собирался. Мне надоело здесь жить, вот что.
— Ну, этому легко помочь. Не живите. Кто вас держит? Вы, наверное, думали… что я упаду на колени и стану упрашивать вас остаться? Да это легче легкого. Уходите, и все. Нам без вас будет лучше.
Я вышел, хлопнув дверью. Дом задрожал. Представляю, что она почувствовала, когда весь ее дом задрожал. Я хлопнул дверью еще два раза и бродил вокруг до поздней ночи, а потом пошел убивать время в «Мекку» и попробовал подцепить девочку.
Всю следующую неделю она не могла решить, отказать мне от квартиры или нет, я это прекрасно видел. На этот раз я не знал, как она поступит. Когда я в среду вернулся с работы, на ней было серое шерстяное платье. Она накрыла стол к чаю, а Линда и Йен уже поужинали.
— Вы сегодня куда-нибудь собираетесь? — спросил я.
— Мы только что вернулись из парка, — сказала она и, напирая на каждое слово, прибавила: — Мы гуляли и еще не успели переодеться. Они устали. — Она кивнула на ребят, которые дремали под одеялом на кушетке.
Она смотрела, как я ем. Наверное, она не знала, что смотрит слишком пристально, и я старался не обращать внимания.
— Я хотела вас спросить… — сказала она.
— Съеду я или нет?
— Знаете… нам надо что-то решить.
— Вы хотите отказать мне от квартиры?
— Я хочу не этого, — сказала она, как будто еще не решив. — Нужно кое-что выяснить. Верно? — Занятая своими мыслями, она взглянула мне прямо в лицо — для нее это был хороший знак. Ее выпуклый лоб светился такой же напряженностью, как и глаза, словно у итальянской матери в американском фильме. — Я вот о чем: вы понимаете, почему я спросила с вас такую маленькую плату?
— Потому, что я помогаю по дому. Я так думал.
— Я раньше никогда не сдавала комнат. У меня на уме было взять жиличку. Только какая женщина пойдет сюда? До вас приходили одни ирландцы. Вы не думайте, что я недовольна вашей помощью.
— Сколько вы тратите на мою еду?
— Я не об этом говорила. Это сюда не относится.
— А, бросьте! Конечно, вы должны брать с меня больше. Вы же тратите на меня не меньше трех фунтов. — Как только я заговорил о деньгах, ее лицо стало каменным. — Некоторые хозяйки берут даже пять фунтов в неделю. Я вам прямо скажу: когда я первый раз сюда пришел, я решил, что мне здорово повезло.
— Мне совершенно не нужно, чтобы вы перечисляли все мои промахи.
— Я и не перечисляю. Я просто хочу, чтобы вы поняли, что вас больше всего мучает. Неужели я не могу раз в жизни поговорить с вами по-человечески? Если бы вы слушали, что я вам говорю, у вас все пошло бы по-другому.
Она встала, стараясь сдержаться. Мы оба хотели быть добрыми, проявить сочувствие, но оба боялись поторопиться и продешевить. Ее переживания всегда казались мне показными. Из-за этого я никогда не знал, когда она расстроена всерьез, а когда нет.
— Я хотела бы, чтобы вы не старались каждый раз вывести меня из себя, — сказала она. — Я просила вас и прошу вас снова: оставьте меня в покое. У меня нет сил это вынести.
— Я уйду, — сказал я.
* * *
Заброшенное поле наводило на меня тоску. Оно составляло центральную часть собачьих бегов. Клуб был из тех, которым трудно содержать дублирующую команду, поэтому большинство игроков набирали на одну игру с соседней шахты. От этого здесь все шло кое-как. Когда мы вышли из автобуса, несколько мальчишек начали просить у нас автографы. Они глядели, как мы рассматриваем полуразвалившийся стадион: неподстриженную траву, скверную дорожку, колдобины на поле. Низкие, кое-как сколоченные трибуны совсем заслоняли город, потому что стадион был устроен на вершине старого осевшего террикона.
Я приготовился написать свою фамилию и увидел, что в углу уже нацарапана подпись Чарльза Уивера.
— Где ты это раздобыл? — спросил я паренька.
— У одного типа на трибуне. Мы его попросили.
— Давно?
— Только что. Минут пять назад.
Это вполне похоже на Уивера — раздавать автографы. Я поставил свою подпись под его и посмотрел на трибуну. Там было пусто. Зрители должны были собраться минут через двадцать, не раньше. Зачем он-то сюда пришел? Я прикидывал и так и этак, но выходило одно — из-за меня. Вместе с остальными я пошел в маленькую нетопленную раздевалку, позади мест, отведенных для букмекеров. Они уже расхаживали там, притопывая, грея руки под мышками, споря друг с другом и дожидаясь, пока Дикки скажет, кто будет сегодня играть.
— Неужели нельзя отменить этот матч? — заговорил кто-то. — Каждый год одна и та же история. Сначала тебя как следует заморозят, а потом оторвут голову. Как будто в морг являешься.
— Уж ты-то, покойник, наверняка это знаешь, — сказал Дикки. Язык у Дикки подвешен как надо.
— Я бы отдал им премию за выигрыш, только бы не приходить сюда.
— Услышал, наверно, призывный глас с небес.
— Ты, приятель, сначала поезди сюда столько годков, сколько я, а потом…
— Что же ты не играешь в основном составе?
— Вот, черт возьми, младенец. Отвяжись!
Дикки и тот помрачнел. Выйдя на поле, мы прыгали, бегали, перекидывались мячом и все равно не согрелись. Уивера на трибуне не было. Единственным местом, где он мог находиться, была будка стартера. Но на нее падала тень, и я не разглядел, есть ли там кто-нибудь.
Игра началась со свалки и никак не ладилась. У меня все шло ничего, но хавбекам, несмотря на их доспехи, доставалось так, что я не стал бы за те же деньги меняться с ними местом. Шахтеры уж что-то, но все силачи. Увертываться от их кулаков и бутсов — все равно что плясать между дождевыми каплями.
Перед концом игры кто-то тычком ударил меня в переносицу. Мяч у меня вырвали, и я лежал плашмя, вдыхая запах шлака и дожидаясь, пока Дикки подбежит ко мне с губкой.
— Что это еще за штучки? — спросил он с какой-то особенной злостью.
— Регби, будь оно проклято.
— Значит, попал в точку. Ну, раз ты теперь знаешь, с чем его едят, может, на этом и успокоишься. Расквасился ты здорово, так что пошли. — Мне ничего другого не оставалось. Ему пришлось поддерживать меня, пока я тащился с поля, как будто у меня было пять ног. — Сегодня у тебя день особый. Поберегись.
— Ты о чем, Дикки? — Я попробовал на него посмотреть.
— Держись подальше от заварухи и спрячь кулаки. За милю видно, как ты ими машешь, — больше он ничего не сказал.
— Не я один. Там их еще двадцать пять.
— Если судья тебя поймает, ты будешь один. Один-единственный. Он может дисквалифицировать тебя на три игры. Послушайся моего совета: проболтайся до свистка и не лезь на рожон.
Он окунул мою голову в ведро, дал мне понюхать нашатыря, и я пошел назад.
Я изо всех сил старался не попасть в свалку, не рвался к мячу и следил, чтобы не очутиться под ним, когда он падал на землю. Впервые я боялся, что меня ударят. Все лицо у меня болело и мозжило, как будто кости нашпиговали булавками.
— На этом поле в регби вообще не играют, — сказал Дикки, когда мы притащились в раздевалку. — Хорошо хоть, что все уже позади. Каждый год одно и то же. Они выходят на поле, только чтобы подраться.
— Ей-богу, Дикки, они еще при римлянах живут, гладиаторы, да и только.
Мы пили чай в ветхом павильоне, выходившем окнами на трек. Никто не разговаривал. Красные, разгоряченные, блестящие после бассейна лица были повернуты к запотевшим слезящимся стеклам. Всем хотелось попасть назад в город, в «Мекку», почувствовать себя людьми.
Зимнее солнце еще не село, когда мы отправились в сорокамильный путь по плоской равнине обратно к нашим долинам, и настроение у всех постепенно поднялось. Уивера я так и не видел.
Большинство сошло на Булл-Ринге.
— Артур, ты можешь остаться? — спросил Дикки. — Мы должны отвезти барахло в Примстоун. Тебя там хотят видеть.
— Зачем?
— Я думаю, ты знаешь больше моего. Держись, скоро приедем.
Один из служителей, дожидавшийся автобуса, показал мне комнату, где заседал комитет. Первым я узнал Уивера, хотя он стоял в глубине, разглядывая фотографии команд городского клуба. Потом я увидел собаку и Джорджа Уэйда. Пес спал у камина.
— Я слышал, вы попали сегодня в переделку, — сказал Уэйд. Он расщедрился на улыбку и протянул мне руку. — Я полагаю, Артур, вы догадываетесь, зачем мы попросили вас прийти.
— Я не ждал, что это будет так скоро, — ответил я.
Он обдумал мои слова и потом сказал:
— Да, пожалуй. И очень хорошо, мой друг. — Мы пожали друг другу руки. — Ну, садитесь, пожалуйста.
Всего их тут было пятеро. Кроме Уэйда и Уивера, краснолицый секретарь Райли и еще два члена комитета, которых я раньше никогда не видел. Мы расселись вокруг полированного дубового стола. Уивер оторвался от фотографий и улыбался направо и налево: мне, Уэйду, собаке, столу, стенам.
— Если я не ошибаюсь, вы уже знакомы с мистером Уивером, — сказал Уэйд. — Это мистер Райли, секретарь нашего клуба. Эти два джентльмена — мистер Главер и мистер Торп — представляют интересы комитета.
Я посмотрел на Уивера, чтобы собраться с духом. Он по-приятельски уставился на меня и спросил:
— Как вам понравились эти четыре матча, Артур?
— Очень понравились.
— Вряд ли вы уже успели освоиться с профессиональной игрой, — снова заговорил Уэйд. — Вы, конечно, понимаете, что это немножко другое дело. — Он решил сбить с меня спесь и не сомневался в успехе. — Вы ведь всерьез не занимались регби.
Я не сразу нашелся, что ответить, и он с хитрым видом поспешил добавить:
— Мы навели о вас справки. Только о вашем спортивном прошлом, конечно. После окончания школы вы перестали играть систематически. С тех пор минуло шесть или семь лет.
Уивер смотрел на меня с таким видом, как будто все это ему уже слегка надоело и мои ответы интересовали его больше, чем придирки Уэйда. Я промолчал, и Уэйд продолжал:
— Вы, Артур, конечно, не будете в претензии, если мы поговорим начистоту, чтобы, так сказать, сначала узнать, что нам подадут на обед, а потом уже садиться за стол. Мы присматривались к вам так же, как вы четыре недели присматривались к нам. Надеюсь, вы не думаете, что мы ходили за вами по пятам или что-нибудь такое. Вы меня понимаете, мой друг, не так ли?
Они ждали, что я вот-вот выкину какую-нибудь штуку, и я прикидывал, какой бы отыскать ход. Полагаться я мог только на совет, который дал мне Морис, когда узнал, что мне дали пробу:
«Держи язык на привязи. Говори, сколько ты хочешь, и больше ничего».
— Я понимаю, — сказал я.
— Насколько нам известно, вы не женаты?
— Нет.
— А где вы живете?
— Сейчас на Фэрфакс-стрит.
— Кажется, это где-то около заводов? — спросил Уивер.
— Да. Я работаю у вас, мистер Уивер.
Он внимательно посмотрел на меня.
— Правда? Жаль, что я не знал этого раньше.
— Ну что ж, очень удобно, — продолжал Уэйд, обращаясь к остальным, — Брейтуэйт работает там же. Значит, вы снимаете комнату на Фэрфакс-стрит?
— Да.
— И вас это устраивает?
Я кивнул.
— Видите ли, это не праздный вопрос. Мы всегда можем устроить вас удобно. Будь вы, например, женаты, вы имели бы право претендовать на клубный дом. Вы меня понимаете, Артур?
— Я устроен, — ответил я, прикидывая, много ли они успели обо мне разузнать.
— И вы ни с кем не связаны никакими официальными узами? Семейными или какими-нибудь другими?
— Нет, не связан.
— Вы довольны работой на заводе Уивера? — Уэйд задал этот вопрос с таким видом, будто он сам был мистером Уивером. — Если вы чем-нибудь недовольны, говорите прямо, и пусть присутствие мистера Уивера вас не смущает. Он будет только рад узнать правду.
Уивер улыбнулся в знак подтверждения.
— Я вполне доволен.
— Вам по душе ваша работа? Если она вам не нравится, мы можем устроить вас как-нибудь иначе.
— Работа мне нравится.
— По-видимому, он удивительно счастливый человек — всем доволен, — небрежно заметил Уивер.
Они все смотрели на меня так, как будто я на самом деле был очень счастливым человеком… или дураком.
— Вы, наверное, уже решили, хотите ли вы дальше играть в «Примстоуне»?
— Да, хотел бы.
В буфете и в баре кто-то громко смеялся, на матовые стекла двери ложились чьи-то тени.
— Вы хотели бы подписать с нами контракт как профессиональный игрок?
— Да.
— Может быть, вы предпочитаете заключить договор как любитель? Я хочу сказать…
— Нет.
— Вы все взвесили и уверены в своем решении? Видите ли, Артур, мы не хотим торопить вас, толкать на необдуманные поступки. Городской клуб — большой клуб, и любая ошибка здесь — большая ошибка. Я хочу, чтобы вы это поняли прежде, чем кто-нибудь из нас примет окончательное решение.
— Я это знаю.
Все вдруг стали смотреть по сторонам. Секретарь Райли ссутулился над столом, и огромная эмблема клуба на его спортивной куртке исчезла. Он покраснел еще сильнее, как будто кожу у него на лице вывернули наизнанку. Его зубы сияли.
— Извините за резкость, Артур, — сказал этот красный мяч, вступая в игру, — но чем скорее ми договоримся, тем лучше. Вы можете назвать цифру своего гонорара?
— Пятьсот фунтов, — сказал я ему.
Ни одно лицо не дрогнуло. Словно желая замять неловкость, вызванную упоминанием о деньгах, Уэйд принялся повторять:
— Пятьсот. Пятьсот. Вполне прилично. — Он что-то бормотал себе под нос, смотря то на одного, то на другого. Как будто вываживал меня на удочке, надеясь, что я скину пару сотен. — Пятьсот.
Заметив, что Уэйд растерялся и чересчур натянул леску, Райли поспешил вмешаться:
— А если триста фунтов сейчас, сто пятьдесят за выступление в сборной графства и еще сто пятьдесят за участие в сборной Англии?
— Великобритании, — пробормотал Уивер.
— Пятьсот фунтов сейчас, а за участие в сборной графства и за международные игры отдельно, — сказал я, ясно представляя, как помогаю им сэкономить три сотни, оказавшись просто хорошим клубным игроком.
— Вы хотите, — начал Райли, наконец-то удивившись, — вы хотите пятьсот фунтов сейчас и сверх того по сто пятьдесят за выступление в команде графства и за участие в международных встречах?
— Да.
— И это ваше последнее слово? — спросил он.
Когда я кивнул, он обернулся к Уэйду, и тот снова взял удилище в свои руки.
— Для человека, который только начинает играть, это многовато. Вы сами знаете, что у вас нет никакого профессионального опыта.
— Вы видели, как я играл на прошлой неделе.
— Но ведь это только один матч, мой друг. Да еще с дублерами. За сезон же надо сыграть не меньше тридцати шести матчей. Вы понимаете, о чем я говорю? Я не утверждаю, что вы плохо играли в прошлую субботу.
— И не произвели на нас никакого впечатления, — с усмешкой добавил Уивер.
Они не давали мне передышки. Уцепились за удилище и тащили. Перед тем как заговорил Райли, все как будто набрали побольше воздуха.
— А что вы скажете на это: мы платим вам шестьсот фунтов. Шестьсот! Триста сейчас и триста, когда вы закончите с нами сезон, то есть ровно через год. Кроме того, вы получите по сто фунтов за участие в сборной графства и за международные встречи.
— Ну, конечно, — сказал Уэйд, демонстративно переведя дух. — Это прекрасные условия, черт возьми!
Уивер никак не мог решить, заслуживают притворные восторги Уэйда его улыбки или нет.
— Я хочу пятьсот фунтов сейчас и две премии по полторы сотни.
— Но мы предлагаем вам столько же, ровно столько же, — сказал Райли. — И так и этак вы получите восемьсот фунтов. Приняв наше предложение, вы получите их даже скорее. Вам обеспечено шестьсот фунтов. Вы понимаете? Как гарантию, триста из них мы задерживаем на год — только как гарантию.
— Это больше гарантия для вас, чем для меня.
— Послушайте, Артур, — опять заговорил Уэйд, — вы ставите нас в положение игроков. Принимая ваши условия, мы лишаемся уверенности, что наши капиталовложения принесут достаточную прибыль. Я вовсе не утверждаю, что риск так уж велик, но мы в принципе стараемся избегать подобных ситуаций. Понимаете, мы говорим с вами не как частные лица. Каждый из нас в отдельности может считать, что вы стоите тех денег, которые просите. Но мы платим вам не свои деньги. Понимаете, в том-то и дело, — добавил он, когда сам это понял. — Мы — акционерное общество. У нас есть обязательства помимо регби. Предложение мистера Райли гарантирует соблюдение и ваших интересов и наших.
— Как ни верти, риск все равно остается, — сказал я. Он смотрел, как я потираю лоб, чтобы прогнать дремоту, — слишком уж тусклым был свет. — Ведь я могу получить повреждение и больше не выйду на поле в этом сезоне, а может, вообще никогда. А не сыграв все игры, я потеряю свои триста фунтов.
— Ну, это мы оговорили. В договор включен специальный пункт, — заговорил Уэйд, снова почувствовав уверенность. — «Если способен принимать участие в игре» — так и будет сказано.
— Но, получив повреждение, я ведь не буду способен принимать участие в игре.
— Мы учитываем увечье во время игры, это само собой разумеется. Полного страхования мы, конечно, не даем. — Он барабанил пальцами по столу, и его рука гарцевала на полированной поверхности, как нервная лошадь. Наклонив голову, не отрывая от меня глаз, он ждал, чтобы я уступил.
— Я не могу переменить решение, — сказал я. — По-моему, я стою этих денег.
Он вздохнул, наверное, не очень вежливо.
— Мы вовсе не стремимся к чему-либо вас принудить, Артур, — сказал он. — Я хочу, чтобы вы постарались это понять. В наших собственных интересах предложить вам условия, которые вас устраивают. Но мы связаны с другими людьми. Мы отвечаем за разумное использование их денег. Что они скажут, когда узнают, что я отдал принадлежащие им пятьсот фунтов человеку, о котором известно только, что один раз за всю жизнь он удачно выступал в матче дублеров? Насколько я понимаю, мы спорим только о том, как будут выплачены деньги. О сумме мы договорились: шестьсот фунтов и премии.
— Пятьсот фунтов.
— Как вы себя чувствуете? — спросил он. — Вы все время трете лоб. Вас сегодня ударили по голове?
— Побаливает. Меня порядком-таки стукнули.
— Хотите чего-нибудь выпить?
Я покачал головой.
— Итак, что вы скажете?
— Пятьсот фунтов сейчас, — машинально повторил я.
Лицо Уэйда оледенело.
— Раз вы настаиваете на этом, — сказал он, — не будете ли вы так любезны выйти на минутку?
Райли уже открыл дверь. Я вышел в бар и перевел дух.
— Ну как, Артур? — Какой-то вислобрюхий тип в плаще и фетровой шляпе подошел к стойке. — Они уже решили?
— Что?
— Будет война или нет; сколько ты стоишь со всеми потрохами — вот что. — Он немного посмеялся своему остроумию.
— Они сейчас об этом говорят.
— Хочешь выпить? Давай я тебя угощу. — Он заказал пиво. — Уж они постарались тебя обработать, могу себе представить, — сказал он, ничего не представляя, и для выразительности стиснул кулак. — Не любят раскошеливаться.
— Скоро я это узнаю.
В другом конце бара Дикки и несколько человек из комитета пили, ждали конца переговоров и поглядывали, какой у меня вид.
— Между прочим, моя фамилия Филипс, я из «Сити гардиан». Если хочешь, можешь рассказать о себе. Знаешь, вдруг понадобится.
От пива гул в голове прошел и стало приятно. Филипс заглянул мне в лицо и сказал:
— Не стоит принимать это всерьез.
Я не понял, совет это или осуждение.
— А почему?
— Это ведь просто игра, старина! — Он по-приятельски взял меня за рукав и добавил: — Спектакль ради Уивера.
— Они устроили все это ради Уивера?
— Да ведь они выкладывают его денежки. Ему нравится, чтобы они делали все как положено. А у тебя, я вижу, порядочный синяк. Стали бы они звать тебя сюда, чтобы разводить тары-бары.
Он снова стал разглядывать мой синяк.
— У нас сегодня было настоящее сражение, — сказал я.
— Дикки мне рассказывал. В этих диких местах вечно одно и то же. Ух, этот человек снова здесь! — Мы оба оглянулись и увидели, что в дверях комнаты комитета стоит Уивер. — Будь с ним поосторожней, — добавил Филипс.
— Не можете ли вы к нам вернуться? — спросил Уивер, когда разговоры в баре оборвались.
Я не сел, да они, кажется, этого и не ждали.
— Что вы будете делать, Артур, если мы не подпишем с вами контракт? — спросил Уэйд. Его собака проснулась, как будто они с ней советовались, и теперь смотрела на меня красными глазами.
— Не знаю. То же, что сейчас. Я не думал об этом.
— Другими словами, вы надеялись подписать контракт с городским клубом?
Я кивнул, хотя не знал, правильно ли я делаю, что стою на своем.
— Вы будете очень огорчены, если мы не примем вашего предложения?
— Значит, отказываетесь?
— Можете вы согласиться с оплатой по частям? В конце концов это просто формальность.
Я чуть было не сказал «да», но покачал головой, и, прежде чем успел произнести «нет», Уэйд грустно развел руками.
— Ну что ж, Артур, боюсь, у нас не остается другого выхода.
Уивер все еще чуть улыбался, как будто удивлялся самому себе, если только он был на это способен.
— Вы не подписываете со мной контракт? — переспросил я.
Уэйд тяжело вздохнул:
— То-то и оно, что подписываем. — Он протянул через стол руку с привязанным к запястью поводком и нагло улыбнулся. — Поздравляю, Артур.
Другие тоже меня поздравили. Уивер ласково пожал мне руку и заглянул в самые зрачки, как младенец, любующийся новой игрушкой.
— Кто вас надоумил это сделать? — спросил Уэйд.
— Что сделать?
— Попросить так много и не вступать в объяснения.
— Морис.
— Брейтуэйт? Так я и думал. — Уэйд хлопнул себя по ляжке. — Мне все время казалось, что я чувствую его упрямство за всем, что вы говорили, или, вернее, не говорили.
Значит, это на самом деле был спектакль.
— Если вы будете действовать на поле так же напористо, как в, этой комнате, — продолжал он, — в будущем году будете играть в сборной страны. Я говорю серьезно.
Райли молчал, слегка лиловея и озабоченно глядя на Уивера, потом он сказал:
— Прочтите и подпишите документы, Артур, и покончим с этим.
Разделавшись с бумагами, мы вышли в бар. Уэйд постукивал палкой рядом со мной, таща на поводке собаку. Я не мог понять, когда же они собираются отдать мне деньги. Может, они хотели, чтобы я их попросил. Я таких штучек терпеть не могу.
— Всем за счет клуба, — приказал Уэйд лопоухому бармену; бармен налил, и Уэйд провозгласил тост: — За ваше будущее, Артур, за ваши успехи!
Все выпили: Дикки и Филипс выпили, несколько посетителей выпили, я выпил, Уэйд опустил стакан.
— Вот этот проклятый клочок бумаги, из-за которого мы спорили. Теперь я могу признаться, что Райли подписал его, когда вы вышли из комнаты. Настолько мы в вас поверили. — Уэйд стиснул мою правую руку, и мы одновременно сжали в пальцах листок бумаги. — Погодите, — прошептал он с настойчивостью, которая прежде у него не получалась. — Подержите его так, пока он щелкнет. — Зубы Уэйда едва не вылетели из десен; пока фотограф Филипса не сделал снимок, они так и оставались на виду, потом они исчезли и сам он испарился.
Я не знал, в какой карман положить чек. Это было словно предварительное взвешивание кандидатов в чемпионы, когда вокруг толкается орава помощников и болельщиков. Все смотрели, как я верчу чек в пальцах, пока Уивер не спросил:
— Вы не собираетесь прочесть его?
— Да, конечно, — ответил я, мельком посмотрел на слова и цифры и сунул чек во внутренний карман. Я слышал, как Дикки спросил Торпа, на сколько чек, и, когда член комитета шепнул ему цифру, личико тренера дублирующей команды перекосилось от злости и удивления. Уивер хоть и не потирал руки, но улыбался так, что, казалось, его нежная кожа не выдержит и лопнет.
— Смотрите не спустите их сразу, — сказал он и засмеялся.
На минуту я возненавидел эти проклятые деньги. Они прожигали дыру у меня в кармане. Потом я вспомнил, что они мои, и улыбнулся.
— Что касается вон того джентльмена, — сказал Уэйд, отвязывая от руки поводок и указывая на Филипса, — то Эду Филипсу вам лучше ничего не говорить. Все, что ему нужно, он узнает от меня. Это оговорено в контракте, Эд! Никаких сообщений для прессы.
— Да что он может сообщить? — бросил Эд.
Но Уэйд не слушал его.
— Понимаете, Артур, — говорил он, кивая мне, — таков порядок.
Потом, увидав, что я упорно смотрю на Филипса, он взял меня за локоть и отвел в сторону.
— Вам не придется играть в эту субботу, — сказал он, — но через неделю основной состав играет дважды: в субботу и в понедельник. Вы будете участвовать в обоих матчах. Две игры подряд помогут вам быстрее освоиться. Учтите, Артур, у нас во втором ряду есть два-три хороших форварда… — И он принялся рассуждать о том, как важно для меня играть лучше всех, о добросовестности и прочей белиберде. Все это я пропускал мимо ушей, пока он не сказал: — Вы можете получить одну-две премии. В понедельник выигрыш даст вам двадцать фунтов, если Уивер, Слоумер или кто-нибудь еще на радостях не назначит персональную премию. Во время рождества и новогодних праздников за выигранный матч можно набрать фунтов пятьдесят. Как видите, мы не скупимся. Ваше дело показать, на что вы способны, и помните: я ценю хорошую игру, а не тяжелые кулаки. Вы понимаете меня? — И я понял, что Уэйд вовсе не так уж уверен, что не промахнулся. Он нервничал. — Во вторник приходите, конечно, в раздевалку основного состава, — закончил он, попрощался со всеми и ушел вместе с собакой.
Я вышел вскоре после него и был уже на нижней ступеньке лестницы сзади трибуны, когда из дверей бара меня окликнули:
— Артур, вы уже уходите? Погодите минутку, я сейчас вас догоню.
Я остановился у служебного выхода, соображая, что еще могло понадобиться Уиверу.
— Примерно час назад сюда заходил ваш приятель Джонсон, — сказал он. — Мы ему что-то наплели, и он ушел. Нам не хотелось, чтобы он здесь слонялся в такое время. Вы не обиделись? Как вы себя чувствуете?
— Я здорово устал. Думаю отправиться домой.
— Конечно, поэтому я и догнал вас. Идемте. Я вас подвезу. Вам нужно быть осторожным. Уж лучше мы вас доставим домой в целости и сохранности.
Он произнес все это так, как будто обращался к пятидесяти Артурам Мейчинам, или к вагону бревен, или к высокой кирпичной стене: все время он глядел в воздух или себе под ноги и шарил рукой в кармане брюк.
Под фонарем стоял «бентли». Он отливал голубым. Я мог бы узнать его по запаху за двадцать ярдов. Я зашел с другой стороны и подождал, чтобы Уивер открыл дверцу. Белесая рука отперла замок.
— Забирайтесь, юноша! — пригласил он. — Я включил отопитель.
В машине было тепло, мягко и пахло духами, как в кино. Мы выскользнули из проулка и свернули на дорогу.
— Фэрфакс-стрит, вы говорили?
Казалось, что от звука его голоса это место изменилось: стало еще грязнее и заброшеннее.
— Да, — ответил я.
Некоторое время мы молчали, потом я сказал:
— Я как будто видел вас сегодня на стадионе? — Я посмотрел на его каучуковый силуэт и фетровую шляпу. Он, кажется, смотрел только на дорогу.
— Сегодня? — повторил он, слегка заинтересовавшись. — Да, я приходил посмотреть, — он улыбнулся с легким неодобрением. — Вы играли не слишком хорошо.
— А кто-нибудь играл хорошо?
— Да, конечно.
Уивер слегка повернул руль, включил фары, переключил скорость, на секунду осветил щиток, потом взглянул мельком на приборы — все это так, как будто меня не существовало. Он хорошо знал город. Не сворачивая в центр, он обогнул парк и оказался напротив Хайфилда.
— Как вы оцениваете умение Уэйда торговаться? — снова заговорил он. — Удалось ему организовать «стойкую защиту»?
— Понятия не имею, что он делал. Я ведь только повторял «пятьсот фунтов» и надеялся, что все будет как надо.
Он обогнал две-три машины, выключил фары и спросил:
— Сбылись ваши надежды?
— Кончилось ли как надо? По-моему, да. Только я не думал, что это будет так быстро.
Уивер, наверное, решил, что, положив в карман пятьсот фунтов, я теперь прикидываюсь простачком. Он искоса взглянул на меня.
— Я сам не знаю, что я сейчас думаю, — сказал я.
— А какое это ощущение — заработать в один день пятьсот фунтов?
Он хотел заполучить меня целиком. Я чувствовал, как он полирует меня и пристраивает на полке в качестве последней находки. Вот он нагнулся, подышал на меня и потер манжетой.
— Я пока ничего не ощущаю.
— Слишком быстро все произошло, — неопределенно сказал он.
— Наверное.
— Боюсь, что это моя вина. Я не люблю тянуть. Но вряд ли вам это так уж неприятно.
— Теперь совсем нет.
Он засмеялся.
— Дело в том, что к вам приглядывалось еще несколько клубов. В субботу на матче были их агенты. Значит, я не так уж виноват, что вас пришлось поторопить. У вас были другие предложения?
— Нет.
— Ну, во всяком случае, если теперь будут, вы знаете, что ответить: собственность городского клуба. — Он засмеялся еще громче и похлопал меня по ноге. Потом сжал мое колено. — Никогда не следует мешкать, Артур.
Когда мы проехали Хайфилд, он сказал:
— Райли, по-моему, это пришлось против шерсти. Как вам кажется? Видите ли, он любит обставлять все это торжественно. Они так придают себе солидности. Эти буквоеды бухгалтеры всегда стараются нарядить деньги, чтобы замаскировать грязь. А как по-вашему?
— Мне, наверное, нравится грязь.
Он снова рассмеялся. Как будто нажали маленькую кнопку. Он хотел, чтобы я чувствовал себя по-свойски, поэтому и засмеялся. Я тоже засмеялся. Я не мог сказать, что он мне не нравится. Он поверял мне какие-то секреты, если только это были секреты. «Тесный семейный круг». Но я был новичком и стеснялся. Поворачивая руль, он толкал меня локтем.
— Фэрфакс-стрит, — сказал он. — Странно, знакомое название. Кого я могу там знать? — Он почесал кончиком мизинца краешек ноздри.
— Там прежде жил человек по фамилии Хэммонд. Его убило на вашем заводе. — Я сам удивился тому, как я сказал: «на вашем заводе». Как будто я говорил о чем-то большом и значительном. — На заводе Уивера, — поправился я, чтобы между ним и заводом была какая-то разница. — Я снимаю комнату у его вдовы.
— Ну конечно, — спокойно сказал Уивер. — Хэммонд. Его, кажется, звали Эрик? Я помню похороны.
— Как его убило?
— Токарный станок, в цехе «Д». Это было страшновато. — Автомобиль замедлил ход, и Уивер включил фары, как будто наш разговор напомнил ему, что бывают несчастные случаи. — Он обтачивал ручным напильником втулку ременного шкива. Напильник был без деревянной ручки. В значительной мере все произошло по его собственной вине. Все знают, что на этих станках такими напильниками не работают. Ну и конечно, едва он прикоснулся к краю шкива, как злосчастный напильник вышибло у него из рук: его пропороло почти насквозь. Мы убрали эти напильники даже с верстаков. Хотя, казалось бы, человек мог сообразить такую простую вещь. — Он потушил фары. Мы двигались медленно. — Вдобавок его одежда попала в станок, это ему тоже не помогло… Были и еще некоторые обстоятельства.
Он больше ничего не сказал, поэтому я спросил:
— Какие?
Он пожал плечами.
— Пустяки. А как его жена, или, вернее, вдова? У него осталось двое детей, если память мне не изменяет.
— Ничего.
Секунду он смотрел на меня. Не знаю почему. Потом сказал:
— Она не получила никакой компенсации. Суд решил не в ее пользу. Мы что-то дали ей, но немного.
— А ей полагалась компенсация?
— Не знаю, Артур. Нам не было никакого смысла брать ответственность на себя. Впрочем, не мне это говорить, не так ли? Где вас высадить? В начале улицы или перед домом?
— Лучше в начале.
— Какое все-таки совпадение, что вы там живете.
— Да.
— Очень интересное совпадение, я был сказал. Эрик Хэммонд! Удивительно, как мертвецы постоянно напоминают о себе.
Он остановил машину, как будто знал улицу. Я нажал на ручку и открыл дверцу.
— Ну, надеюсь, вы не лишитесь чека, пока дойдете отсюда до дома, — сказал он. — Кажется, тут вас не подстерегают сильные искушения.
Я стоял на мостовой и смотрел на Уивера — на рыбу в аквариуме. Аквариум ценой в три тысячи фунтов.
— Спокойной ночи, Артур, и наилучшие пожелания.
Я попрощался и стоял, глядя, как он дает задний ход и разворачивается. Я продолжал смотреть, когда «бентли» уже несся по Сити-роуд.
Я ни о чем не думал, потому что едва я вылез из машины, как улица стремительно покатилась колесом, а потом взлетела в воздух и заметалась над темным городом. Я прислонился к чужой двери. Что-то соскользнуло с моего носа, и я почувствовал горький вкус на верхней губе.
Потом я увидел Джонсона. Он окликал меня и говорил, что он мой друг.
— Что ты делал? — спрашивал он. — Что они с тобой сделали?
— Я устал. Черт, до чего я устал.
— Ты пил. Это нехорошо. — Он обхватил меня рукой, словно стараясь защитить.
— Ты видел, как я выходил из машины Уивера, папаша? Ты видел? Он подвез меня на своей машине.
Джонсон вдруг стал почти лисой.
— Что ты делал вечером? Праздновал? — спросил он и ткнул меня в бок, как собутыльник. — Ты подписал? Они предложили тебе контракт?
В меня как будто бес вселился. Я выпрямился, чтобы лучше его видеть. Улица приземлилась. Она еще подрагивала, но никуда не неслась.
— Я им не нужен, папаша. Совсем не нужен. И я им сказал, что мне начхать на их вонючие деньги.
— Ты этого не сделал! — закричал он. Ему показалось, что теперь он понял, почему я в таком виде. Он все еще думал, что я пьян.
— Неужто ты из-за этого плачешь? — спросил я и заглянул ему в лицо. — Плачешь?
— Нет, — ответил он, прислонившись к фонарному столбу и закрываясь руками, как ребенок.
— Дело того не стоит, — сказал я, — не так уж это важно.
Моя голова раскалывалась надвое, и все капало на тротуар, на мою одежду, на мостовую. Глаза отчаянно болели. Теперь я подтолкнул Джонсона, но он не пошевелился.
— Уивер подвез меня на своей машине, папаша.
— Я ждал здесь два часа, Артур, — пробормотал Джонсон.
— Два часа? Зачем?
— Хотел узнать, что случилось. Значит, все напрасно.
— Да… вот именно.
— Ну ладно, — сказал он, по-прежнему пряча лицо.
— Ты расстроился? — спросил я. Он не ответил. Но тут же повернулся, и я подумал, что сейчас он уйдет — и навсегда.
— Мне сказали, что они приедут сюда подписать с тобой контракт. И что в Примстоуне ждать нечего. Уивер — вот кто мне это сказал. Он говорил, что они приедут к тебе. Я ждал два часа.
— Я бы увиделся с тобой завтра. Зачем было ждать столько времени? Мог бы зайти попозже вечером.
— Я хотел посмотреть, — пробормотал он.
— Что посмотреть? Как я подписываю эту бумажонку? А что тут смотреть? Знаешь, я ведь разыграл тебя.
— Я ждал…
— Я просто пошутил, я ведь подписал.
Он ничего не ответил.
— Как ты думаешь, папаша, сколько?
— Скажи сам, Артур, — сказал он настороженно. Казалось, он весь сжался в комок.
— Ну как ты думаешь, сколько? Как ты думаешь, сколько они заплатили за Артура Мейчина?
— Скажи сам.
— А ты не хочешь угадать? Попробуй угадай, сколько я получил.
— Когда я тебе так ответил, ты чуть не сломал мне руку. Ты должен сам сказать, Артур.
— Пятьсот! Пятьсот фунтов! Я только сейчас начинаю чувствовать, что это значит. Пятьсот фунтов стерлингов. Хочешь взглянуть на чек?
Он смотрел на фонарный столб. Когда он обернулся ко мне, я увидел, что его лицо поблескивает.
— Можно мне посмотреть? — спросил он. Его глаза были в тени.
Я вынул чек и протянул к свету. Джонсон сложил руки лодочкой, как будто держал бабочку с нежными крылышками, и стал внимательно разглядывать чек.
Потом он посмотрел на меня.
— Ты и я, Артур, — сказал он.
— Ты думаешь, я стою столько?
— Ты и я. Это мы. — Он поднял чек.
— Мне пришлось поспорить.
Он как будто не слышал.
— Мы добились этого вместе, — сказал он.
— Старик Уэйд да еще этот подлый вонючий Райли. Если бы ты видел его лицо. Все красное. Красное, как… ну, сам сообрази. Они все старались выторговать что-нибудь. Хотели, чтобы я согласился на половину или на какие-то паршивые несколько фунтов. Да, может, я умру в этом году. Или начнется война. Они и сейчас не понимают, как это получилось, что они согласились. Так сказал Уивер. Он думает, что Райли пробрало до самых печенок.
Джонсон не слышал, как все это выплескивалось у меня из головы и уносило боль. Он приплясывал вокруг фонаря. Это было черт знает как смешно. Его сапожки топотали по водостоку, потом по тротуару, потом по мостовой — все вокруг и вокруг фонаря. Он меня не слышал. Но когда я спросил: «Сколько ты хочешь?» — он остановился как вкопанный. Я его пригвоздил к месту.
— То есть как, Артур?
— Сколько ты хочешь? Пятьсот фунтов. Ты помог мне их получить. Сколько, по-твоему, причитается тебе?
— Нет, Артур.
— Как так — нет?
— Ты знаешь, что я старался не ради этого.
— Ничего я не знаю, — сказал я, злясь, что он ломается, рассчитывая урвать побольше. — Ради чего ты тогда старался?
— Не ради этого.
— Значит, ради чего-то еще?
— Нет.
— Слушай, зачем-нибудь ты ведь это делал. Целый год ты уламывал Уэйда и комитет. Что ж ты думаешь, все это задаром? Никто не станет делать этого задаром. Уговаривать эти жирные рожи. Думаешь, я поверю, что тебе это нравилось?
— Я старался не из-за этого.
— Я хоть половину отдам, не беспокойся. Я всегда получу еще. Я знаю, как обращаться с этими типами, и с удовольствием с тобой поделюсь. Я считаю, что ты это заслужил. Честное слово, я так считаю.
Он перестал приплясывать и перестал говорить. Даже как будто перестал дышать. Он как-то разом весь сник.
— Зачем тогда ты это делал? Ты можешь сказать? Ну, говори. Я тебя чем-нибудь обидел?
— Не в том дело.
— А в чем?
— Я хотел… ты знаешь. Ты знаешь, как это было.
— Ничего я не знаю, — твердил я, пытаясь сообразить, чего он хочет, если не все пять сотен.
— Я хотел что-нибудь сделать сам, добиться чего-то. Вот чего я хотел.
— Как-то не очень ты меня уверил, — сказал я.
— Ты сделал мне больно, Артур. Ты на всех наседаешь. Ты хочешь заставить меня думать по-своему. Как ты мог сказать, что мне нужны деньги, плата? Ты все испортил.
— Ну ладно, я не хотел, чтобы так вышло. Просто я с самого начала думал, что ты мне помогаешь за деньги. И вовсе я на тебя не наседал.
— Давай тогда забудем об этом.
Его лицо стало маленькой непроницаемой маской.
— Нет, я хочу, чтобы ты меня выслушал. Мне неохота, чтобы потом все началось сначала. Давай договоримся. Я хочу тебе что-нибудь заплатить. Пусть это будет подарок, если тебе это больше нравится. Но я хочу, чтобы ты что-нибудь у меня взял. Я не хочу быть у тебя в долгу. Я тебе прямо скажу, мне не доставляет никакого удовольствия, когда меня лупят и гоняют по полю на потеху зрителям. Понимаешь, папаша? Я соглашаюсь на это только потому, что мне за это будут хорошо платить. Только так. Поэтому я хочу, чтобы и ты получил свою долю.
— Мне не нужно никаких денег, Артур. Если ты только их и добивался, пусть так, ладно. А я свое получил.
— Вот уж не думал, что для тебя это серьезное дело. А знаешь, что говорила миссис Хэммонд?
— Что? — тут же спросил он.
— Да все то же. Она сказала, что ты стараешься из-за денег.
— Да, конечно… конечно, — повторял он, стараясь придумать что-нибудь в ответ. — Другого она и не могла сказать. Мне не нравится эта женщина. Не знаю, Артур, зачем ты там живешь. Она меня не любит.
— Да я не о том. Я сказал это только, чтобы ты понял: мне ничего не стоит выложить тебе несколько фунтов. Я-то знаю, что ты старался не из-за денег. К черту, хватит разговоров. Я тебе что-нибудь пришлю. Давай-ка назад чек.
— Когда мы с тобой увидимся? — спросил он, весь какой-то застывший и растерянный.
— Не знаю. — Я взял у него чек и сложил его.
— А как завтра? — спросил он. — Завтра воскресенье.
— Воскресенье? Мне до того не по себе, что я не отойду до следующего воскресенья. Я совсем скис.
— Пойди отдохни, — посоветовал он. — Я забегу завтра посмотреть, как ты… Ты пил?
— Да, я пьян в стельку, — ответил я.
Он смотрел, как я, шатаясь, побрел к парадному. Какие-то люди выглядывали из окон. Но ее окно было темно — обычный мрак.
— Кто там? — спросила она, когда я постучал.
— Это я. Король Англии.
— Это вы? — переспросила она.
— Нет. Это я.
— Вы?
— Да откройте же! Что сейчас, война, черт подери?
Я слышал, как она отодвинула задвижку, потом я оказался внутри и прислонился к стене.
— Что сегодня со всеми стряслось?
— Вы пьяны, — сказала она. Она смотрела на меня спокойно, стараясь изобразить отвращение.
Я сам доковылял до кухни и лег в кресло.
— У вас глаза совсем красные. Кровью налитые, — говорила она.
— Это от сотрясения мозга, сударыня.
— Вы что, дрались? И на лбу синяк. — С минуту она смотрела на меня, может быть, надеясь обнаружить еще что-нибудь и понять, в чем дело. Она не знала, как себя вести. — У вас на переносице синяк.
— Можете мне про это не рассказывать. Я и так чувствую. Есть у вас кодеин или что-нибудь вроде?
Она принялась с шумом выдвигать ящики, заглянула в буфет, а потом подошла и сунула мне в руку чашку. Я протянул другую руку, нащупал ее пальцы и таблетки.
— Ну, давайте. Целых четыре.
— Две сейчас, — сказала она, поджав губы. — Остальные возьмете потом, если не поможет.
— Очень похоже на вас: если не поможет. Почему не взять сразу четыре, чтобы наверняка помогло?
— Каким вы вдруг стали героем и храбрецом… и все потому, что вас стукнули по голове.
Я не ответил. Она подождала, пока я запью, и сполоснула чашку под краном. Вода рычала. Она села напротив.
— Заходил Джонсон. Этот ваш приятель.
— Я видел его на улице. Он вбил себе в голову, что вы почему-то его недолюбливаете. Правда странно?
— Он, по-моему, думал, что я вас где-нибудь прячу. Заявил, будто ему сказали, что вы здесь.
— Ему так и сказали. Давно он приходил?
— С час назад. Он, наверное, не в себе, а то с чего бы ему ждать столько времени. Разве не так? Не понимаю, зачем он вам.
— Он то же самое говорит про вас. Никак не может понять, почему я не ухожу отсюда.
Минуту она молчала, не зная, что сказать.
— Лучше бы вы завели приятелей одного с вами возраста, — ответила она наконец.
— Я завел.
— Пусть бы работал. Он еще не такой старый, чтобы не работать.
— Со мной заключили контракт.
Я сказал это без всякого выражения. Она удивленно повернулась ко мне. Как всегда поздно вечером, она выглядела усталой. Ее глаза, и всегда-то мутные, сейчас вообще исчезли. Пустые дыры.
— Хотите чаю? — спросила она.
— Вы не слышали, что я сказал?
— Слышала. Вы рады?
— Скажете сами, когда угадаете сколько.
— Я ничего в этом не понимаю… ваш Джонсон так волновался, будто дело шло о целых тысячах. Я его не слушала. Да оно и к лучшему.
— А ну его! Угадайте, сколько я стою.
— Не знаю. Я ничего не понимаю в регби.
— Я знаю, что не понимаете. Просто угадайте, сколько я, по-вашему, могу стоить. Сколько в меня вложено наличными?
— Мне, правда, трудно сказать. Будь моя воля, может быть, вам. пришлось бы еще приплачивать.
Я закинул голову за спинку кресла, чтобы мне было ее видно, и засмеялся.
— Шутите, — сказал я.
— Шучу.
— Я знал, что вы такая, если стащить с вас эту маску.
Она улыбнулась по-настоящему.
Я снова посмотрел на нее. Я никогда не замечал, какая она. Она не хотела, чтобы ее замечали. Вся ее жизнь, сколько я ее знал, только в том и состояла, чтобы сделаться как можно меньше и незаметней. Сжаться так, чтобы жизни уже не оставалось. В этом была ее цель. В точности противоположная моей. Это меня больше всего выводило из себя. Я хотел, чтобы настоящая миссис Хэммонд выпрыгнула наружу, как она почти выпрыгнула в эту минуту. Жизнь кинула ей столько плохих карт, что она больше не хотела иметь с ней дела. Она сдалась и сложила руки. Я ненавидел ее за это. За то, что она меня не видела, за то, что она не хотела видеть, что я могу ей помочь. Все было плохо. И я тоже. Все безразлично. И я тоже.
— Будете угадывать? — спросил я: мне хотелось ее поразить.
— Нет, — она покачала головой.
Я подождал, чтобы она могла передумать.
— Ладно, скажу, раз вы такая мастерица отгадывать загадки. Пятьсот фунтов.
Она засмеялась легко и неожиданно. Я никогда раньше не слышал ее смеха.
— Не верите? — спросил я.
— Нет.
— Если подойдете ко мне, я покажу вам чек со всеми подписями и с числом.
Я протянул ей бумажку, она взяла.
— Видите, пятьсот, буквами и цифрами, — сказал я, пока она читала.
Она немножко подержала чек в руке, потом отдала назад.
— Что вы про это думаете?
Она думала, что я слишком ликую.
— Очень хорошо.
— Вы как будто не рады.
— Что же мне, вскочить и танцевать?
— Зачем вы так говорите? Это на вас не похоже.
— Не очень-то тяжко вы трудились, чтобы получить этот чек.
— Пусть будет по-вашему. Забудем про чек, если из-за него начинаются такие разговоры. Я попробую пойти к себе. В темноте мне станет легче — особенно под этот ребячий визг… Вам надо было обрадоваться, — прибавил я, не удержавшись.
— О них не заботятся… родители не заботятся. Позволяют ребятам играть всю ночь напролет, лишь бы домой не приходили.
— Сегодня в «Мекке» обо мне поплачут. Полагается ведь угостить всех и каждого. Старик Дикки! Видели бы вы, как он позеленел, когда Торп сказал ему, сколько я получил. Не будите меня утром, миссис Хэммонд, может быть, я уже буду мертв. — Я нарочно с трудом тащился по лестнице, чтобы посмотреть, решится она мне помочь или нет. Она растерянно стояла посредине кухни. Не знаю, может быть, она хотела, чтобы я покатился вниз. — Да, кстати, — сказал я, — Уивер говорил сегодня о вашем муже. Рассказал мне, как его убило.
— Да?
— Я это просто так сказал. Может, не надо было, тогда простите.
Некоторое время я лежал в постели и из-за боли не мог заснуть — я перелистывал «Тореадора», читал, как он заставлял зрителей охать на каждый свой чих, и ждал, чтобы она перестала плакать на кухне. Она, наверное, ненавидела меня за то, что я так легко получил эти деньги. Эрику пришлось умереть, чтобы завод заплатил ей каких-нибудь две сотни. А этот тореадор кричал на толпу. Он выводил их из себя, а потом выкидывал какой-нибудь такой номер, что они тут же готовы были лизать его пятки. Потом я услышал за дверью ее голос.
— Значит, вы не останетесь? — спросила она.
Я об этом не подумал. Не дождавшись ответа, она спросила снова:
— Эти деньги… значит, вы теперь переедете?
— Вряд ли! — крикнул я и услышал, как хлопнула ее дверь. Я положил чек на стул около кровати, чтобы сразу увидеть его, когда проснусь.
3
— Тара-ра, тара-ра, идут горой, грянем ура.
Я вижу рукав из дорогой материи — Уивер обнимает Мориса за плечи. Морис горланит песню. Их головы почти рядом, между ними дорожка, которую пробивает в листве свет фар. Мы мчимся вверх по холму где-то в Сэндвуде. Я чувствую рядом запах сигары Джорджа Уэйда, с другой стороны вплотную ко мне притиснуто тело Джонсона. Старик нагибается вперед и осторожно прикасается к затылку Мориса.
Морис оборачивается.
— Что тебе, папаша? — И тут он замечает, что у меня открыты глаза. — А! Пациент проснулся, доктор!
Он заставляет Уивера обернуться. Несколько мгновений только я один смотрю в ветровое стекло.
— Ну и видик у него! Ты держался что надо, Артур, ей-богу, — говорит Морис и гогочет. — Верно? — обращается он к Уиверу, искоса поглядывая на Джорджа Уэйда. — Теперь мы знаем всю белиберду, которая скрывается у него в подсознании. Правда, Джордж?
Я вижу, но не слышу, как Уивер пытается его унять.
— В жизни не слышал ничего интереснее, Арт. Нет уж! Когда мне будут рвать зубы, я постараюсь, чтобы рядом никого не было. А то у меня не останется ни одного друга на всем белом свете.
— А у меня?
Морис опять смеется и спрашивает:
— Вы слышали, что он говорил, мистер Уэйд? — Он захлебывается и давится от смеха. — Один друг у тебя есть, Артур. Это я. За других не ручаюсь.
Он смотрит прямо на Уэйда, лица которого мне не видно. Тут вступает Уивер.
— Я никогда особенно не верил в психологию и тому подобные вещи, но теперь я, пожалуй, этим займусь — глубинами подсознания и прочей волынкой, как выражается Морри, тем, что мы прячем под прилавком.
— Бред человека без сознания, — возражает Уэйд. — К чему делать из этого что-нибудь еще?
— Бред или не бред, Джордж, — говорит Уивер, — но, видимо, у него есть какая-то любимая дорожка, и по ней-то он и ходит.
— Да еще как топает, — вставляет Морис. — Та-ра-ра, тара-ра… идут герои, грянем ура.
— Во всяком случае, я на Артура не обижаюсь, — говорит Уэйд. — Он нездоров. Я по-прежнему считаю, что нам следовало отвезти его домой, как советовал врач. Или по крайней мере подождать, пока он окончательно придет в себя. Как вы себя чувствуете, Артур?
— Он хотел пойти. Правда, Арт? — говорит Морис. — Сегодня сочельник. Какая ему охота весь вечер сидеть взаперти в своей конуре. Правильно, Артур?
— Не знаю.
— Как вы себя чувствуете? — повторяет Уэйд. Кажется, я задел его за живое, когда был не в себе. Он говорит глухо и обиженно и интересуется моим самочувствием очень уж напоказ.
— Я чего-нибудь наболтал?
— Вас вынесли на воздух раньше времени. Мистер Уивер не мог больше ждать, и Морис решил захватить вас. Врач, кажется, дал вам слишком большую дозу.
— Ты ведь не хотел, чтобы мы тебя бросили там, верно, Артур? — говорит Морис. — Посмотрел бы ты на себя, когда мы волокли тебя от этого зубодера. Тебе чудилось, что ты плывешь. Руками ты размахивал…
— Вы могли уехать вперед, — говорит Уэйд, — мы бы взяли такси.
— И отвезли бы его домой? Какое, к черту, получилось бы у него рождество? Верно я говорю, Арт? Ты ведь хотел пойти.
— И сейчас хочу, поворачивать назад нет никакого смысла.
— Молодчина, Арт! Покажи им, на что ты способен!
— Самое правильное, — говорит Уэйд, — как только мы приедем к мистеру Уиверу, вызвать такси и отправить его домой в постель.
— Я не собираюсь ложиться в постель, — говорю я ему.
— Вот это так, Арт. Представился случай, веселись вовсю!
Все откидываются на сиденье и смотрят, как за ветровым стеклом мелькает листва.
Нужно заняться Джонсоном, он уже давно подталкивает меня локтем. Оказывается, он хочет, чтобы я посмотрел на него, только и всего. При отраженном свете фар я вижу, как он беззвучно улыбается с какой-то туповатой радостью.
— Мы приедем через несколько минут, — говорит Уивер. — Я поехал кружным путем. Меньше движение. Джордж, если вы посмотрите за поворотом направо, то увидите Примстоун.
Я сглатываю кровь и прикасаюсь кончиком языка к пустым ямкам на месте передних зубов. Они мягкие. Студенистые. Ноющая боль в нёбе, но терпеть можно.
Машина вырывается из выемки и едет по гребню над долиной. Внизу — освещенный город, цепочка огней свертывается кольцами и обрывается в темноте вокруг Примстоуна. Свет отражается от охладительных башен в долине чем выше, тем слабее, и верхушки их сливаются с темнотой неба. Кажется, что две колонны поддерживают какую-то невидимую тяжесть.
— Ну и дыра, — говорит Морис. В окно летит плевок.
Уивер убирает руку.
— Попало и на меня, Морри, — говорит он, вытирая щеку. — Как ты себя ведешь?
По-моему, Морис не слышит. Во всяком случае, он снова плюет, и Уивер оборачивается к Уэйду.
— Совсем разошелся. Как по-вашему, Джордж? — Уивер злится на своего любимчика, но не хочет этого показать.
Уэйд не отвечает. Он смотрит вниз и больше ничего не видит и не слышит. Может, вспоминает свою жизнь — для поднятия духа.
Фары освещают белые ворота в высокой живой изгороди. Морис выходит, громко кляня все на свете, открывает ворота, и мы въезжаем. Он садится на свое место, и машина осторожно движется по аллее.
Все окна Линга-Лонги ярко освещены. Там уже веселятся вовсю. Половина гостей с криком и визгом высыпает нам навстречу и провожает до стеклянной террасы. Морис высовывается в окошко и вопит во все горло.
— Как в древнем Риме, — говорит Уивер со спокойным, снисходительным удовлетворением. Ему так и хочется сбить одного-другого, но он удерживается.
— Давите их, они не обидятся! — кричит Морис. — Сегодня сочельник.
Никто не может открыть дверцы, чтобы выбраться наружу. Тогда Морис открывает люк машины и вылезает через него. Его ноги упираются в модные плечи Уивера, а потом вдруг исчезают, и он валится на протянутые снаружи руки.
— Самый дорогой половик, на который когда-нибудь ступали ноги этого парня, — говорит Уивер все еще вежливо. Но в свете приборной доски его лицо кажется бледным и напряженным.
Мотор умолкает. Мне видна огромная рождественская елка посреди террасы. Лампочки на ней вздрагивают, потому что мимо снует толпа.
— Я думаю, самое разумное — это тут же уехать, — говорит Уэйд.
— Возможно, вы правы, Джордж. Только вряд ли мне удастся проехать хотя бы десять ярдов.
Уивер пытается открыть дверцу, сохраняя достоинство. Но как только дверца поддается, груда тел радостно наваливается на нее снова.
— Я вовсе их не приглашал. Сюда сбежалось полгорода. Очевидно, нам тоже придется воспользоваться люком. Как вы думаете?
Он в изнеможении откидывается на спинку сиденья.
— Я считаю, что надо уехать, — повторяет Уэйд. — По-моему, всякий цивилизованный человек, не говоря уже о Слоумере и таких, как он, постарается держаться подальше от этого сброда. Сборище идиотов.
— Я их вовсе не приглашал. Славу богу, Слоумер и член парламента приедут не раньше чем через час.
— Сколько сейчас времени? — спрашиваю я. Мне кажется, что с тех пор, как мы были у зубного врача, прошло несколько недель.
Уэйд шарит в жилетном кармане.
— Еще нет восьми.
Минут через десять дверца со стороны Джонсона открывается, и старик вдруг исчезает. Морис заграбастывает мою руку и кричит:
— Берегись этого педераста! Не то он тут же напьется, и мы так и не увидим его милой детской улыбки.
Я стою на земле, прислонившись к машине. Меня теснят тела, лица, зажатые в пальцах стаканы, но сквозь смех, крик и звон стекла я ясно слышу, как внутри Джордж говорит:
— Пока это скопище не рассеется, я отсюда не двинусь. Можете идти без меня.
— Ну, давай, давай улыбайся, Арт! — кричит Морис.
Между машиной и террасой целая толпа, да и терраса битком набита. В каждом окне пляшут лица, похожие на маски. Всем заправляет Морис. Я смотрю на него как баран, чтобы подманить его поближе. Он подходит вплотную и орет мне в лицо:
— Ну-ка, улыбнись им, Арт!
Я отталкиваюсь от машины и с размаху бью его в живот.
— Поспокойнее, Морис, — говорю я, держа его левой рукой.
Он вырывается.
— Да, я совсем забыл, — говорит он стоящим рядом, — в багажнике два ящика пива.
Они идут за Морисом к багажнику. Уивер уже там и нажимает на ручку. Увидав собаку, свернувшуюся между ящиков, женщины визжат и хлопают в ладоши. Этого довольно, чтобы выманить Уэйда из машины; он проталкивается вперед.
— Я возьму собаку, — говорит он.
— Ничего, — откликается Морис, — сейчас я ее вам достану.
Он оглядывается на Уивера, Уивер посмеивается.
— Иди сюда, песик. Иди-ка сюда, песинька.
Собака взвизгивает и забивается в глубь багажника. Морис хватает ее и вытаскивает, держа одной рукой за хвост, а другой за толстый ошейник с серебряными бляхами. Пес выгибает спину и извивается, но Морис зажимает его в руках. Женщины пользуются случаем показать свою доброту: они поглаживают собаку и говорят ей ласковые слова. Пес опускает голову, Уэйд улыбается.
— Фьють, — говорит Морис, когда собака выскальзывает у него из рук, — я ее уронил.
— Не дайте ей уйти! — кричит Уэйд.
— Сейчас поймаю, — говорит Морис, но, стараясь схватить пса, словно нечаянно пинает его.
Собака мечется среди леса ног, внезапно находит просвет и удирает в кусты.
— О, дьявол! — разражается Уэйд.
Морис закрывает лицо руками, его плечи под огромным пальто сотрясаются.
— Удрала, — ухитряется выговорить он.
— Сюда, Тоби! К ноге, Тоби, Тоби! К ноге! — В голосе Уэйда и злость и ласка.
Большинство — и я тоже — в первый раз слышит ее кличку, многие смеются. Двое-трое отворачиваются.
— Мы ее скоро отыщем, Джордж, — говорит Уивер, явно развеселившись. — Она не может убежать из сада. Давайте лучше внесем ящики, пока пиво не замерзло. Ну-ка, девушки, покажите этим воинам, куда их поставить.
Морис с ящиком проходит мимо меня, его все еще душит смех.
— Пойдемте, Джордж, — зовет Уивер.
Уэйд по-прежнему стоит позади машины и с надеждой смотрит на кусты.
— Я должен сначала найти собаку, мистер Уивер. Не могу же я бросить здесь проклятую тварь. — Он начинает звать ее и свистеть, чтобы подтвердить свои слова.
— Ну, как хотите, Джордж. Мы через минуту к вам выйдем, только разложим все по местам. Говорю вам, что из сада она убежать не может. Внутри живой изгороди протянута проволочная сетка. Так что не беспокойтесь.
Вместо ответа Уэйд ныряет в кусты, палкой нащупывая путь — собачий ловец. Уивер сочувственно улыбается и поворачивается, чтобы идти к дому.
— Вы обойдетесь без посторонней помощи, Артур? — спрашивает он и уходит, не дожидаясь ответа.
Я хорошо ориентируюсь в доме Уивера, как в любом общественном здании, хотя я в первый раз вижу здесь, такое сборище, даже в сочельник. Мне хочется только одного: найти где-нибудь спокойный угол и лечь. Место, о котором я мечтаю, это маленькая спальня под самой крышей в одной из башенок. Там я обычно оказываюсь в конце вечеринок, которые Уивер устраивает для регбистов. Я успеваю подняться только до половины лестницы, когда в холле появляется Джонсон — он похож на заблудившуюся собаку Уэйда. Я добираюсь до площадки раньше, чем он меня замечает. Голова кружится.
Дверь заперта. Я слышу, что внутри кто-то возится. Стучу.
— Побыстрей. Побыстрей. Ваше время кончилось.
За дверью скрип и шорохи, потом раздается голос Томми Клинтона, одного из дублеров городского клуба.
— Катись отсюда, мы еще только вошли.
— Послушай, Клинтон, — говорю я, — внизу тебя ждет папочка.
— Если ты не уберешься, — говорит он спокойно, — я выйду и съезжу тебе в рыло, кто ты там ни есть.
— Ты слишком молод для таких вещей, Клинтон. Имей совесть. У тебя впереди вся ночь, чтобы попивать какао.
— Это ты, Артур? — спрашивает он подозрительно и гораздо тише.
— Да. Долго мне еще ждать?
— Дай нам пять минут, Арт. Через пять минут мы выйдем, честное слово.
— Пять минут. Я буду ждать на площадке и считать.
Возвращаюсь назад и жду около огромного азиатского ландыша в медной вазе — одно из увлечений миссис Уивер. От него пахнет, как будто его недавно полили, и не водой. Из-за цветка мне видны лестница и часть холла. Шум внизу оглушительный. Он бьется в стене рядом с моим ухом и отдается у меня в голове. Я жду не больше двух минут и опять вижу Джонсона, на этот раз он тащится за Морисом. Некоторое время они о чем-то спорят, потом начинают подниматься наверх.
Я удираю с площадки и забираюсь в ванную. Света нет, я запираю дверь.
— Если он в доме, папаша, то он должен быть здесь, — говорит Морис. — Домой он не уехал, можешь быть спокоен. Просто стесняется, что у него нет зубов. — Морис барабанит в дверь спальни, напротив ванны, но никто не отвечает. — Послушай, Арт. Это я, Морис. Я знаю, что ты здесь. Что с тобой стряслось? Ты обиделся?
— К черту! — слабо доносится голос Клинтона, — неужели в этом доме не могут хоть на одну минуту оставить нас в покое!
На мгновение водворяется тишина, потом Морис говорит:
— Прости, Томми. Я думал, там Артур.
— Я не из таких, — отвечает Томми, — иди-ка ты, Морис, знаешь куда.
— Его здесь нет, — шепчет Морис Джонсону. — Если хочешь, поищи в других спальнях. Я пошел вниз.
Когда они уходят, я наливаю в таз холодной воды и на минуту окунаю голову. На полке рядом с тальком миссис Уивер лежит аспирин. А может, это тальк Уивера? Я глотаю четыре таблетки. Потом для верности еще две. Когда я выхожу из ванны, дверь спальни открывается, и Томми со своей девицей выходит на площадку.
— А где твоя девочка? — спрашивает он.
— Сейчас придет, — я кивком показываю на ванную.
Он подмигивает.
— Прихорашивается, — говорит он. Томми воображает, что он дока по части женщин. — Тебя искал Морис.
— Скажи ему, что ты меня не видел.
— Будь спокоен, Арт. Удачной охоты.
Он не оставил ключа в замке. Я задвигаю задвижку и поправляю матрас. Сильно пахнет духами. Я выключаю свет, задергиваю занавески, снимаю пальто и ботинки. Потом залезаю под одеяло и стараюсь понять, за что Уивер так меня ненавидит. Где я оступился?
4
За два первых выступления в основной команде я получил на шесть фунтов больше, чем предсказывал Джордж Уэйд. Они принесли мне пятьдесят шесть фунтов — из-за рождества премии были особенно высоки. Я уверовал в будущее и купил автомобиль, который сосватал мне Уивер. За «хамбер» из гаража ратуши я заплатил всего триста фунтов с небольшим — не крутись там Уивер, он обошелся бы мне вдвое дороже. Через несколько месяцев я продал его по настоящей рыночной цене, когда решил обзавестись «ягуаром».
Прошло три недели, прежде чем я уговорил миссис Хэммонд сесть в машину. Это была вторая поездка на автомобиле в ее жизни; в первый раз она ехала за гробом Эрика. Она не знала, как поступить. Это было в воскресенье утром, и Линда ныла, что хочет погулять. Правда, про машину она не заикнулась, это за нее сделал Йен. Миссис Хэммонд заговорила о другом, но не велела детям замолчать. Она смотрела на меня и улыбалась, словно я уже предложил покататься. Машина сияла на улице — в восемь утра я ее вымыл, и теперь вокруг нее толпились ребятишки, которые никогда не видели в этих местах такого чуда.
— Хорошо. Мы скоро пойдем в парк.
— Ну, мама! — воскликнула Линда и разочарованно, как взрослая, посмотрела на мать.
— Но ведь ты все утро твердишь, что хочешь гулять, — сказала миссис Хэммонд.
Она не могла примириться с автомобилем отчасти из-за Уивера — она вдруг люто возненавидела Уивера, может быть, обвиняя его в смерти Эрика и находя в этом облегчение. Она не знала, какое отношение Уивер имел к покупке машины, но слышала, что он обучил меня вождению. Я всегда старательно прощался с ним на углу.
— Ты же знаешь, что мы не про то, мама. Мы хотим поехать на машине дяди Артура, — объяснила Линда.
— Про это я ничего не могу тебе сказать. Это не твой автомобиль, моя милая.
— Я тебя покатаю, — сказал я Лин, — но только если мама тоже поедет.
Девочка запрыгала, решив, что теперь все в порядке.
— Не знаю, смогу ли я, — заколебалась миссис Хэммонд. — Мне еще надо все это привести в порядок. — Она оглядела комнату — лавку старьевщика. На полу, где Йен мыл свой игрушечный автомобиль, растекалась мыльная лужа, рядом валялась куча пустых консервных банок и коробок из-под корнфлекса — это Лин играла в магазин.
— Что ты скажешь, — спросила она девочку, — если тебе нечего будет есть на обед? А ведь его еще надо приготовить.
— Ничего не скажу, — надулась Лин.
— А без мамы мы ехать не можем, — повторил я.
Девочка неуверенно теребила мать за юбку.
— Тогда совсем ненадолго, — решилась миссис Хэммонд и сняла фартук, — объедем вокруг квартала.
— Разве вы не наденете серое платье? — спросил я.
— На несколько-то минут? — Она с недоумением смотрела на меня.
— Сегодня воскресенье. Лин одета по-воскресному, и я тоже. Верно, Лин?
Ей не хотелось спорить. Может быть, она знала, чего я добиваюсь; не сказав ни слова, она поднялась наверх.
Я ждал ее в кухне, а Линда и Йен вертелись около машины: нажимали на клаксон, стучали по шинам, протирали стекла. Она провозилась долго и, спустившись в кухню, еле сдерживалась. Видно было, что она плакала. Она вообще часто плакала в последнее время — даже больше, чем раньше. Она позвала детей домой и терла их физиономии фланелевой тряпкой до тех пор, пока они оба не начали скулить. Я надел кожаную куртку и вышел на улицу. Миссис Хэммонд старательно заперла дверь и зажала ключ в руке.
Утро было морозное и солнечное. Кое-где в дверях стояли любопытные. Миссис Хэммонд не поднимала глаз — делала вид, что ей все равно. Она мучилась. Она знала, что они думают, и из-за этого боялась их.
— Они теперь будут считать вас настоящей леди, — сказал я, распахивая перед ней дворцу.
— Конечно, — ответила она. — Только можно, я сяду сзади? А то получится, будто… — она перехватила мой взгляд и прибавила: — Линде и Йену хочется ехать спереди.
— Мы все усядемся спереди. Тут сколько угодно места. Этот автомобиль привык возить толстяков из ратуши, уж на нас-то он не обидится. — Она тут же села в машину.
Я медленно ехал по улице — хотел, чтобы соседи нарадовались вовсю. Я разговаривал с миссис Хэммонд, не скрывая, что чувствую себя достаточно независимым, чтобы больше не обращать на них внимания.
На углу Сити-роуд я повернул влево в сторону от города и дал газ. Миссис Хэммонд нервничала. Между коленей она крепко зажала Йена, рукой обхватила Линду. Она смотрела на огромный капот автомобиля, как будто это было какое-то гигантское пресмыкающееся чутьем отыскивающее путь.
— Далеко мы едем? — спросила она, когда последние дома унеслись назад и по сторонам замелькали покрытые копотью кусты высоких живых изгородей.
— Я думал уехать на целый день. — На этот раз я не мог воспользоваться помощью Линды и поэтому прибавил: — Вы ведь заперли дом. Покатаемся за городом. Ну как, не возражаете?
— Мы, конечно, не можем тут выйти.
— Если вы собираетесь всю дорогу сидеть с таким видом, я сейчас же поверну назад.
Она не ответила.
— Даже если это только ради детей, разве не стоит прокатиться? Как по-вашему?
Ответа не последовало. Я повернул на север и спустился с гребня в соседнюю долину. Мы объезжали несколько городков и минут тридцать кружились по пригородам. Детям скоро надоело разглядывать скопища безобразных домов. Я свернул на шоссе, пересекавшее вересковые пустоши, и мы оказались на вершине известковой гряды, откуда открывался вид на леса, тянувшиеся миль на десять-пятнадцать. Все немного повеселели, и я остановил машину на лужайке. Мы вышли, размяли ноги и отправили Лин и Йена в кусты. Неподалеку уже расположилась какая-то компания, они весело помахали нам; миссис Хэммонд улыбнулась и робко помахала им в ответ.
— Я была здесь однажды, — сказала она. — Мы приезжали сюда на автобусе. Как раз пород тем, как поженились.
— Летом здесь, наверное, лучше. Мы приедем и посмотрим.
Она все еще улыбалась. Мы побродили немного среди камней и берез; я гонялся за ребятами, пока им не надоело и они не запросились обратно в машину.
Мы спустились в долину и поехали вдоль реки, мимо двух голых пустынных рощ и деревни. За поворотом показалось Маркхемское аббатство, оно стояло на лугу около реки. Миссис Хэммонд удивленно ахнула. Лин, увидав «волшебный замок», чуть не выпрыгнула через ветровое стекло. Я свернул на узкий проселок, и мы остановились у самых развалин возле овечьего стада. Овцы не обращали внимания на автомобиль, как будто он был частью развалин, и тыкались черными мордами под колеса, стараясь дотянуться до травы.
— Как-то даже не верится, что это на самом деле, — сказала миссис Хэммонд.
Мы стояли около машины и смотрели на остов здания, на огромные пустые окна, в которые было видно небо. Испуганный Йен жался около нас, но Линда уже исчезла внутри, и ее веселым крикам вторило гулкое эхо.
Мы медленно пошли за ней. Линда то и дело на мгновение подбегала к нам, чтобы сообщить о каком-нибудь новом открытии, но нагнали мы ее только на берегу реки, где она внимательно смотрела на воду, дожидаясь, когда опять всплеснет рыба. Давным-давно реку в этом месте расширили и перегородили плотиной. От нее ничего не осталось, кроме стежки торчащих из воды камней, об которые дробилась вода, похожая на отполированный в прожилках мрамор. Линда прыгнула на первый камень и, покачнувшись, сказала:
— Здесь есть рыба. Мам, а мы пойдем на ту сторону?
Мать покачала головой.
— Это слишком опасно, Лин. И во всяком случае, на это нужно слишком много времени.
Я подхватил Линду на руки.
Миссис Хэммонд поняла, что я хочу сделать. Она не произнесла ни слова. Пройдя несколько шагов вперед, она остановилась и застыла на месте. Пока мы перебирались с первого камня на второй, она не спускала с нас глаз, а потом отвернулась. Она стояла — маленькая, прямая, окаменевшая — и смотрела на развалины.
Воды было много, из-за зимних дождей она бежала быстро и плавно, а отблески мешали разглядеть дно. У высоких камней вода шумела и пенилась, но над затопленными камнями скользила, как по зеркалу. Линда испугалась. Она с недоверием оглядывалась по сторонам, как будто вода была для нее чем-то новым, чем-то таким, чего она никогда раньше не видела, с чем никогда не имела дела. Она весила не так уж мало, и, переступая с камня на камень, я боялся, что она вдруг станет вырываться и мы оба полетим в воду. Мы добрались до середины реки, и тут я заметил, что некоторые камни пошатываются, но когда я попробовал повернуть, не нашлось ни одного достаточно широкого, чтобы на нем уставились обе мои косолапые ступни. Я больше не надеялся, что ноги останутся сухими. Нащупывая следующий камень, я зачерпывал воду в ботинки, а переступив, останавливался, чтобы не потерять равновесия. Последние камни были уложены вплотную друг к другу, чтобы с них можно было ловить рыбу, и, когда мы очутились на этом крошечном молу, я сказал Линде, чтобы она помахала матери.
— Ма-ма! — крикнула она как-то по-овечьи.
— Хочешь посмотреть, что здесь, Лин, — спросил я, — или пойдем назад?
Она не знала, на что решиться. Она взглянула на меня, потом на воду. Берег был низкий и сырой, и ноги у меня вязли в грязи. Я подумал, не поискать ли мост, но ниже по течению река исчезала в лесу, где вряд ли было для него подходящее место, а выше тянулась каменистая гряда, к которой примыкало болотце, переходившее в вересковую пустошь. Линда обошла несколько кустов. Она нашла птичье гнездо, и мы оба принялись тревожно его разглядывать — гораздо старательней, чем делали бы это в другое время. Я поднял девочку, чтобы она могла просунуть руку в куст и пощупать гнездо. Она вытащила из него мокрое перышко.
— Ну как, вернемся, Лин? — спросил я.
Линда медленно покачала головой и уставилась на кусты, надеясь найти еще какой-нибудь предлог, чтобы задержаться. Она побледнела. Немного погодя она подошла к самой воде и стала смотреть на мать, до которой было ярдов пятьдесят или даже больше. Я посмотрел на машину, торчавшую среди стада, и разглядел даже красные метки на спинах овец. Я попробовал представить, как я буду себя чувствовать, если Линда из-за меня утонет, но, когда снова взял ее на руки, забыл об этом.
— Ну, шагом марш! — сказал я так весело, что она засмеялась.
Когда мы почти добрались до середины и Линда услышала, как я тяжело дышу, с трудом переступая с камня на камень, она начала жалобно ойкать. Я остановился передохнуть. Шум воды заглушал все. Миссис Хэммонд махала рукой и что-то беззвучно кричала, сама стоя почти в воде. Линда внимательно следила, как я ставлю ногу на следующий камень, но, увидав, что я поскользнулся на зеленом пучке водорослей, она подняла голову и больше не отрывала глаз от маленькой фигурки на другом берегу. Она терпеливо прижималась ко мне, вцепившись в мои плечи, и я чувствовал, как она дрожит, дожидаясь, чтобы я снова попытался встать на качающийся зеленый валун.
— Эй, Лин! Ты видела эту рыбку? — спросил я. Но она не слышала.
Чем ближе мы подходили к берегу, тем больше она напрягалась.
— Ма-а-ма! Мам! — Она изо всех сил замахала рукой.
— Перестань махать! — крикнула ей мать. — Из-за тебя мистер Мейчин упадет в воду. — Но голос у нее был удивительно равнодушный.
Когда я добрался до последнего камня, Линда стала вырываться — она хотела слезть. Я поставил ее на общипанную почти до корней траву, и она бросилась к матери.
— А мы перешли! — кричала она. — Ты видела нас? — Теперь, когда все было позади, от ее страха не осталось и следа.
Миссис Хэммонд обхватила дочь руками и не смотрела на меня.
— Мы быстро вернулись, правда? — говорила Линда придушенно.
Мои ботинки промокли насквозь. Когда я достал из багажника бутсы, миссис Хэммонд смущенно засмеялась.
— Но как же вы поведете в них машину? — спросила она.
— Других нет. Или вы хотите предложить мне свои?
Она покраснела и молча смотрела, как я продеваю шнурки. С той минуты, как Линда перебежала от меня к ней, она и так вся была красная, как будто волнение погнало быстрее ее кровь и она проникла даже в те уголки, которые раньше ей самой казались мертвыми или в самом деле перестали быть живыми. Ее лицо словно отходило после пережитой тревоги и казалось покрасневшим от загара, как будто она долго пробыла на солнце.
— Увидим, будет ли какая-нибудь разница, когда машина тронется, — сказал я.
— А это не опасно? — Она спрашивала как будто всерьез. — Они вам не помешают править?
Я засмеялся, в ответ она нервно улыбнулась.
— Я думал, вы заметили, что я не правлю ногами.
— Я говорила про те штуки, на которые вы нажимаете.
Мы смущенно посмотрели друг на друга, понимая, что оба дурачимся. Потом она перевела взгляд на овец и топнула, стараясь их испугать.
Машина казалась надежным другом больше, чем всегда. Включенный отопитель и плавный быстрый ход делали ее особенно уютной.
— Своя машина — это вещь, — сказал я.
Она сделала кислое лицо; очевидно, это должно было обозначать что-то вроде согласия.
— Здесь жил король? — спросила Линда; она раскраснелась, как мать, и, пока мы не выбрались из долины, все время смотрела на развалины.
— Наверное, детка, — сказала миссис Хэммонд. Может быть, она не знала, что это был монастырь.
Линда не отрывала от него глаз, пока последний каменный пик не исчез за голыми вершинами деревьев.
— Куда мы теперь едем? — спросила миссис Хэммонд.
Дорога долго шла вниз, и мы быстро неслись вперед. Я дал полный газ, машина дрожала и покачивалась, и воздух свистел в какой-то щелке.
— В одно место, про которое я слышал. Мы там пообедаем. Это недалеко.
Мы ехали молча, но, когда проезжали через следующую деревню, где по сторонам тянулись серые каменные дома, похожие на мрачные речные берега, миссис Хэммонд спросила:
— Значит, нам придется есть на людях?
— Да, если найдутся люди. Вряд ли там очень много посетителей в это время года. А вам что, не нравится есть рядом с чужими или еще что-нибудь?
— Вовсе нет, — ответила она тревожно, — я просто не знаю, одеты ли мы так, как надо.
— Ну, раз мы не голые, нас не выгонят.
Хаутон-Холл — это старинный помещичий дом, перестроенный в гостиницу с рестораном в расчете на клиентов, которым по карману приехать туда на вечер или на воскресенье. Он находится на равном расстоянии от трех больших промышленных городов и в пределах досягаемости еще двух. Раньше такое расположение служило своего рода социальным ситом. Но после войны, когда стало больше машин и больше трепотни о равенстве, сито заметно поредело. Два-три регбистских клуба устраивают здесь свои ежегодные обеды; в воскресенье тут можно встретить учителей, а иногда конторского служащего, который всю дорогу от города потел на своем велосипеде. Благодаря тому, что дело расширилось, а средний уровень посетителей понизился, заведение разделили на две части. С одной стороны, откуда были видны глубокая, заросшая лесом долина и озеро, сделали гостиницу и ресторан, а с другой — стоянку для автомобилей, стойку для велосипедов и кафе.
Мы пошли в ресторан. Был второй час дня и еще не очень людно. Я повел было миссис Хэммонд в бар, но, увидев тамошнюю роскошь и лавочников в дорогих костюмах, она не двинулась дальше порога. В ресторане сидела та же публика: люди, которым неохота возиться дома с воскресным обедом. Они лениво ели и пили и поднимали слишком много шуму. Но здесь было просторно, и это не так подавляло.
Одна стена была из стекла, из-за этого сидящим за столиками казалось, будто зал висит над долиной — изысканное удовольствие, за которое надо было платить.
Миссис Хэммонд было страшно — еще страшнее, чем когда я переносил Линду через реку. Она боялась, что дети будут вести себя, как поросята. Всем своим видом я старался уверить ее, что до моих футбольных бутсов никому нет дела.
Все переговоры с официантом я взял на себя. Он вовсе не старался скрыть, что мы по ошибке попали не на ту сторону. Он все время покашливал и указывал концом красивого карандаша на высокие цены. Две-три цены он подчеркнул, чтобы показать, как тут все дорого. Я заказал все самое дорогое. Он не знал, радоваться ему или огорчаться. Ему хотелось, чтобы поскорее пришла минута, когда мы будем расплачиваться. Миссис Хэммонд сидела не шевелясь, запуганная насмерть, и смотрела на него, как будто он не очень-то хорошо пах.
Но когда этой обезьяны не было рядом, мы все равно ели с удовольствием. От вкусной еды миссис Хэммонд все шире открывала глаза. Ей уже казалось, что мы не зря пошли сюда, хотя тут и смотрят на нас сверху вниз.
— В таких местах ведь полагается пить кофе после сладкого? — спросила она, как будто давным-давно знала все такие места. Она только что запихнула последнюю картофелину в рот Йену. Когда я сказал: «Да», — она многозначительно кивнула.
— Может быть, в таком случае вы хотите кофе? — спросил я, потому что надеялся обойтись без него. На мне не было носков, и кое-кто из этих пижонов уже поглядывал на мои бутсы. Один какой-то тип даже указал на них официанту.
— Ну… — сказала она и поглядела на меня, проверяя, не из-за денег ли эта заминка, — нас не выгнали, и к ней вернулась уверенность.
Я заказал два кофе.
Когда его принесли, Линда тоже захотела кофе и в своей собственной чашке. Вместо кофе я заказал для нее апельсиновый сок; официант немедленно дал понять, что это чрезвычайно сложно. Мы сели свободнее и минут пять любовались видом, пока детям это не надоело. Линда отошла от нашего столика и теперь внимательно разглядывала какого-то солидного мужчину, евшего цыпленка. Я сказал миссис Хэммонд, чтобы она забрала Йена и Линду и ждала меня у машины.
Официант вышел, чтобы заставить меня подождать счет. Я дал ему три минуты. Потом быстро пошел к двери. Он перехватил меня, сделав основательную пробежку по длинному залу, извиваясь и ныряя между столиков, словно ему жгло пятки.
— Вы получили счет, сэр? — спросил он, задыхаясь.
Я хотел ответить ему как-нибудь поязвительней, но сумел выдавить из себя только: «Нет».
Он скорчил гримасу, довольно вежливую, и на подносе подал мне счет. Набралось около двух фунтов шестнадцати шиллингов. Я спросил, откуда взялась эта цифра. Он старательно объяснил, чувствуя, что настал, наконец, долгожданный миг; он перечислял все, что мы съели, отмечая цену в меню своим красивым карандашом и предвкушая удовольствие позвать управляющего. Я спросил, не ошибся ли он, подводя итог.
Карандаш мотнулся вверх по столбцу пенсов, соскользнул вниз по шиллингам и стремительно набросился на фунты. Я сказал, что, по-моему, он ошибся в пенсах. Он снова сложил их, немного медленнее, взглядывая на меня каждый раз, когда набегал шиллинг. Я высказал предположение, что не мешало бы сверить цены, стоящие в счете, с ценами в меню. Он сверил — цифры счета были теперь похожи на детский рисунок — такие они стали толстые оттого, что он множество раз их обводил. Его карандаш затупился. Он весь кипел. Я все еще не был уверен, что он не ошибся. Он начал снова проверять счет и не мог разобрать несколько цифр.
Я аккуратно отсчитал деньги и положил сверху шесть пенсов на чай.
— Благодарю вас, — сказал он; его глаза горели как угли.
Они ждали около машины. Линда плакала, а сонный Йен прислонился к крылу. Когда я подошел, он сердито посмотрел на меня, как будто я был виноват во всех его бедах.
— Что случилось с нашей малышкой? — спросил я миссис Хэммонд.
— Ее отшлепали за то, что она бегала между столами, — ответила она.
Я укоризненно кивнул Линде и отпер дверцы. Мы расстались с Хаутон-Холлом, чувствуя себя победителями.
Я поехал назад кружной дорогой по тем местам, где я ездил только мальчишкой на велосипеде. Словно чемпион, совершающий круг почета. Лин заснула. Пришлось остановиться, чтобы положить ее на заднее сиденье; миссис Хэммонд села рядом с ней. Мы вернулись на Фэрфакс-стрит, когда уже вечерело.
* * *
Несколько недель я был слишком занят, чтобы раздумывать, какое впечатление произвела эта поездка. Миссис Хэммонд как-то притихла. Я возвращался поздно, и мы почти не разговаривали. Я увеличил плату, она не возражала. Зато я больше не мыл посуду и не помогал ей во время стирки. Изредка я приносил уголь.
Большую часть времени я тратил на то, чтобы освоиться в новой компании, и здесь моим лучшим помощником был автомобиль. Хотя бы потому, что мне стало легче избегать Джонсона. Раньше это было трудное дело: возвращаться домой можно было только на автобусе, а идти пешком — только через парк. Теперь я видел Джонсона лишь после матчей на нашем стадионе да иногда на вечерних тренировках. Вокруг меня всегда толкалось много новых друзей, и я быстро научился находить способы улизнуть от него.
А Уивер всегда был готов сделать мне какую-нибудь любезность. Я стал уже совсем своим, и мы с ним были прямо приятели. Когда я получил пятьсот восемьдесят фунтов за «хамбера», он помог мне купить «ягуара» и одолжил недостающие сто пятьдесят фунтов, чтобы я не трогал денег в банке. К его удивлению, я расплатился с ним уже через пять недель. По очень простой причине: несколько недель подряд я выигрывал фунтов до двадцати на собачьих бегах в Стокли, в шахтерском поселке ниже в долине, где жил капитан городской команды Фрэнк Майлс.
С машиной и свободными деньгами пришла уверенность, к тому же я становился известным, и вдруг оказалось, что у меня есть дар легко сходиться с разными полезными людьми вроде местных фабрикантов, управляющих стадионами, футбольных звезд из окрестных городов и членов парламента от нашего округа. Правда, такая дружба продолжалась обычно недолго. Не считая Мориса, только с Тэффом Гоуэром у нас было что-то прочное. С тех пор как я расплющил ему нос — он так и остался свернутым на сторону, — мы стали приятелями, никак специально этого не показывая. Мы никогда не делали друг для друга ничего особенного. Как ни странно, но что-то тут пошло от истории с носом — из-за того, что я тогда разбил ему лицо. Я часто встречался с Тэффом, даже когда он перестал играть и купил пивную недалеко от Примстоуна, — вечерами по четвергам он помогал тренировать молодых.
Я не настолько приблизился к Уиверу, чтобы не видеть, что он тоже из тех, у кого сегодня одна блажь, а завтра другая. Дружба так и осталась для него чем-то вроде снисходительной опеки. Раньше, наверное, он был очень честолюбив — настолько, что я даже представить себе этого не мог, да и сейчас он ни в чем не хотел уступать Слоумеру, своему единственному сопернику. Они считались самыми опасными людьми в городе — если только в этом городе могли быть опасные люди, — а «Примстоун» был их общей забавой. Они покупали и продавали игроков, возносили их и бросали, словно мальчишки — оловянных солдатиков. Ну, да в любом профессиональном спорте делается то же самое. Я считал, что мне важно держаться поближе к Уиверу.
Когда я только с ним познакомился, вернее, когда он познакомился со мной, я понятия не имел, какие у него возможности. Я думал, что если Уивер или кто-нибудь вроде него ходит за мной по пятам, значит я это заслужил. Я никогда не знал, на какую ненависть способны люди, пока не познакомился кое с кем из тех, кто ненавидел Уивера или Слоумера. Про Уивера болтали, что он со странностями, наверное, потому, что он очень уж беспокоился о своей репутации. Может, у него и были странности, но он не давал себе воли. Он часто смотрел, как мы моемся в бассейне, иногда хлопал одного-другого по спине или клал кому-нибудь руку на плечо, но на этом все кончалось. Он проявлял свое расположение и нерасположение откровеннее других. А я предпочитал закрывать глаза на все, что мне не нравилось, — по той простой причине, что он ко мне благоволил. Уивер был богат, а я никогда раньше не был знаком с богатыми людьми.
Зато с женой Уивера я познакомился не сразу. Она не показывалась на его субботних вечеринках, и он никогда про нее не говорил. Я знал только, что она очень набожна, покровительствует епископу и его ближайшему кружку, а кроме того, ведает в нашем городе благотворительной помощью престарелым. Представляя себе, как она всем этим занимается, я думал, что они с Уивером вряд ли особенно ладят.
Как-то днем в субботу, во время мертвого сезона — это было первое лето после заключения контракта — я сидел в баре отеля «Вулпек» на Виктория-стрит, когда там появился Эд Филипс. Я только что приехал в город, чтобы взять из гаража мой автомобиль; бар уже не работал, и я решил, что Эд зашел потому, что увидел снаружи машину. Он посмотрел на меня и нарочно вздрогнул, как иногда вздрагивают мужчины, а чаще женщины, чтобы показать, как они заняты своими мыслями.
— Эй, Артур! Мы, спортсмены, подкрепляемся?
Он был помешан на том, чтобы походить на спортсмена: поля его мягкой фетровой шляпы были чуть-чуть загнуты, желтые перчатки чуть-чуть отвернуты, воротник пальто сзади чуть-чуть приподнят. Спортом, кроме гольфа, он занимался только в воображении, но это нисколько не уменьшало его энтузиазма. Я никогда не мог точно определить, после какой очередной победы он явился. То ли утром в уборной он обеспечил сборной Англии победу в крикет над австралийцами, то ли по дороге в редакцию пришел первым в забеге на 1500 метров. Трудно было сказать. Но подходил он ко мне, во всяком случае, с видом рекордсмена.
— Ты занят? — спросил он, небрежно садясь рядом.
— Как самочувствие, Эд?
— Так себе. Сам понимаешь — лото, жара. Хочешь выпить? — спросил он, зная, что это ему ничем не грозит. — Ты как, занят?
— Буду занят, если ты не перестанешь приставать. — Я думал, если ты свободен, может, подвезешь меня к Уиверам? — неуверенно спросил он.
— Я-то тебе зачем?
— Видишь ли, старина, моя машина чинится, а брать такси неохота. Это может произвести неважное впечатление: я ведь еду к мадам, а не к старику.
— Так поезжай на автобусе.
— Ну, знаешь, Артур! — Он вдруг просиял. — Как я могу явиться к ней прямо из автобуса? Вот твоя машина из ратуши будет в самый раз.
— Я продал «хамбер». У меня теперь «ягуар». Он не произведет на нее никакого впечатления. Хотя бы потому, что мне его устроил Уивер.
— Жаль, жаль, ведь в «хамбере» есть стеклянная перегородка, верно? Нет? Ну, она-то все равно ничего не заметит. Машин дешевле «даймлера» она не различает. Допивай, и поехали.
Подъезжая к Линге-Лонге, я вдруг оробел, потом меня разобрало любопытство. Из-за этого я заметил, что Эд тоже как-то переменился. Уивер отсутствовал — дома была только его жена. К тому времени, когда мы добрались до белых ворот, Эд совсем изнервничался.
— Пойти с тобой? — спросил я.
Он посмотрел на меня с легким изумлением.
— Ну, зачем же я вдруг потащу тебя туда, Артур? — Он по-прежнему держался со мной, как дрессировщик со зверем, которого надо успокоить. — Ты же меня просто подвез, старина. С какой стати тебе еще затрудняться?
— У тебя что, личное дело и ты не хочешь, чтобы я слышал? — допытывался я.
— Да ничего личного, Артур! — Он раздраженно пожал плечами. — Я иногда бываю тут — исключительно по долгу службы. Просто чтобы поболтать. У нее большие связи, она рассказывает мне новости. И мне не приходится зря бегать по городу. Пойдем, старина, если хочешь. Это просто всякие местные сплетни. Если ты, правда, хочешь, то пошли.
Он повторил это столько раз, что убедил меня: он не хотел, чтобы я торчал рядом, — я был шофером. От такой наглости мне почему-то стало смешно, и я сказал:
— Ладно, иди один. Я подожду.
— Правда? Ты не обидишься? — Он уже пролетел ступеньки и звонил в звонок.
Дверь открыла Мэй, горничная-ирландка Уиверов. Эд ухмыльнулся во весь рот и сделал несколько не совсем ясных движений руками, словно рекламировал машину, а заодно и себя. Пока он уговаривал меня подождать, у него немного поубавилось самоуверенности.
— Привет, Артур! — крикнула Мэй из-за его плеча.
— Миссис Уивер дома? — спросил Эд. — Доложите, что пришел мистер Филипс из «Гардиан».
С этими словами он исчез в холле.
Я барабанил пальцами по рулю и раздумывал, сколько времени Эд решится продержать меня здесь. В конце концов у него не было гарантии, что я не уеду и не заставлю его прогуляться по этому совсем не маленькому саду. Я поглядывал на окна, надеясь увидеть мистера Уивера, но увидел только Мэй. Она поводила носом, как будто в доме пахло чем-то особенным, поглядывала на меня и улыбалась.
Я вылез из машины и присел на переднее крыло погреться на солнце, но не прошло и десяти минут, как дверь открылась и вышла миссис Уивер, а за ней плелся недовольный Эд. Наверное, ему показалось, что я выгляжу слишком независимо для шофера из-за того, что сижу не в машине, а на ней.
— Артур Мейчин, — сказала миссис Уивер, останавливаясь на верхней ступеньке, — если верить моему мужу, это один из столпов городской команды… Мы видели вас из окна.
— Угу, — сказал я, неловко поднимаясь; руки я засунул в карманы, потом снова вынул.
— Должна сказать, — миссис Уивер повернулась к Филипсу, — что этот великан не кажется мне очень общительным.
Эд растянул рот в улыбку, изо всех сил стараясь скрыть дурное настроение.
— Наверно, робеет, — сказал он почти грубо.
У миссис Уивер был такой вид, как будто ей доставляло удовольствие его дразнить. Она медленно спустилась по лестнице, и мы пожали друг другу руки.
— Пожалуйста, не говорите, что он робеет, — сказала она. — Он ведь часто здесь бывает. Правда, Мейчин? Но, конечно, тут тогда бывает веселее.
Она мило рассмеялась; я невольно сравнил ее с другими знакомыми женщинами и понял, что она мне нравится. Ей, кажется, было приятно, что она сумела этого добиться и что Эд был свидетелем ее победы.
Эд вежливо положил руку на дверцу машины, показывая, что его визит окончен. Он понял, что дал маху.
— Я попросила мистера Филипса выйти со мной и познакомить нас, — сказала миссис Уивер, — но он что-то не торопится… боюсь, он предпочел бы держать меня там и слушать мою болтовню. — Она подняла брови, и мы с ней засмеялись.
— Ничего не поделаешь, за этим он и приехал, — сказал я, подхватывая ее доверительный тон. Эд тоже попытался улыбнуться.
— Ну, ну, не торопитесь сделать из меня просто болтуна, — сказал он и многозначительно открыл дверцу. — Я ведь иногда бываю очень занятым человеком.
— Я вышла поговорить с Мейчином, а вы хотите немедленно его увезти, — пожаловалась миссис Уивер. — Мы видели, как вы тут гримасничали, — обратилась она ко мне, — сидели на крыле и умирали от скуки. Конечно, я могла сообразить, что у мистера Филипса не хватит духу позвать вас с собой.
— Да я просто не люблю навязывать… — начал Эд.
— Неважно, — прервала его миссис Уивер, словно вдруг вспомнив, кто она такая. — Если вам так уж хочется разыгрывать занятого человека, что поделаешь. Но я все-таки люблю изредка знакомиться с протеже мистера Уивера. Иногда мне кажется, что он слишком их присваивает.
Они попрощались, и, когда Эд залез в машину, она сказала:
— Вы должны приехать еще раз, Мейчин. Мы вполне могли бы поболтать подольше… и, может быть, я, наконец, пойму, почему мистер Уивер проводит так много времени в этом вашем клубе. — Она подняла брови, и мы снова засмеялись. Я включил мотор, и она вернулась на ступеньки.
— Напишите несколько слов, если будете не очень заняты! — крикнула она кому-то из нас или обоим вместе.
— Это она тебе, — сказал Эд с обидой, когда мы ехали по аллее.
— Может, она просто пошутила? — спросил я.
Он не ответил.
Пока мы проезжали выемку по дороге в город, я спросил:
— Уивер правда очень богат?
Эд подумал и сказал:
— Нет.
— Думаешь, нет?
— Знаю, что нет. Вот его отец был богат… Но, конечно, бедняком его тоже не назовешь. Деньги, которые у него есть, остаются при нем. Слоумер, например… это совсем другое дело. Он заставляет свои денежки работать. — Эд был рад, что может мне что-то рассказать — объяснить ситуацию.
— Значит, «Завод Уивера» — просто вывеска?
— Уивер — директор и все прочее. Да только положение у него не такое, как было у его отца. А то завод давно бы полетел ко всем чертям.
Больше он ничего не сказал, пока я не остановил машину перед редакцией. Но вместо того чтобы выйти, он положил руку на спинку переднего сиденья.
— Знаешь, старина, там у себя миссис Уивер говорила с тобой так, будто… смотри не оступись. Это простая вежливость. Больше ничего.
— Знаю. Показывала, что я ничем ее не хуже и всякое такое.
Я почувствовал на щеке его дыхание. Наверное, он не спускал с меня глаз.
— Ты и без меня знаешь, что делается в «Примстоуне». Уивер и Слоумер вложили в клуб одинаковые деньги. Особой нежности они друг к другу не питают. Понимаешь, старина, про что я говорю?
— Нет.
— Ну, хорошо, — он привстал, — они примечают, кто на чьей стороне.
— Ты думаешь, мне лучше плыть посредине? — спросил я.
— Как хочешь, старина. Ты не хуже меня знаешь, что для этих двух… господ «Примстоун» — прихоть. А ради прихотей люди идут на большие подлости. Представь себе, что Уивер не может больше поддерживать клуб. Ну, вдруг он обанкротится. Тебя тут же выкинут на улицу. И то же самое, кстати, будет с Уэйдом. Теперь понимаешь, что ты делаешь? Прямо показываешь, что ты с Уивером. Райли, секретарь, — этот со Слоумером. Понимаешь, как это устроено?
— Вряд ли они так уж совсем не церемонятся.
— Только один игрок играет в «Примстоуне» постоянно. Наверное, уже лет двенадцать играет. Фрэнк Майлс. А почему? Потому что никто не знает, на чьей он стороне. Когда на еженедельных заседаниях комитета начинается перепалка из-за отбора игроков, о Фрэнке никто не спорит. Он ни за того, ни за другого. Он плывет посредине, приятель. А с этими волками только так и можно. Вот тебе и все церемонии.
— Почему ты думаешь, что Уивер обанкротится?
— Но-но… Ты за меня не говори. Я сказал «вдруг». Ты тут еще новичок. Я просто знакомлю тебя с обстановкой. Я за всем этим давно наблюдаю. Ты, наверное, думаешь, что я продажная шкура — из-за этих моих «приятель» и «старина». Но такое уж у меня ремесло. Хочешь не хочешь, мне надо ладить с этими людьми, и я научился. Не думай, что я такой, каким ты меня видишь. Если хочешь и дальше ездить в приличном автомобиле, иметь кучу друзей и носить костюмы вроде того, который сейчас на тебе, смотри в оба. И вот тебе даровая информация: Уивер, наверное, скоро выйдет в тираж. Долго ему тут не продержаться.
Он не спеша вылез из машины и остановился на тротуаре.
— Конечно, старина, болтать об этом не стоит. Беру с тебя слово.
Он взбежал по ступенькам редакции, ни разу не оглянувшись.
* * *
После той первой воскресной поездки в Маркхемское аббатство и Хаутон-Холл мы стали меньше дергать друг друга. Пока я постепенно привыкал к новой обстановке и к покровительству Уивера, а матчи шли своим чередом, миссис Хэммонд не лезла в мои дела, как прежде. Почти каждое воскресенье я куда-нибудь уезжал с ней и с детьми. Это вошло в привычку. Мы осмотрели все исторические памятники, объездили все холмы и озера у нас в округе.
Когда начался мертвый сезон, мне все надоело, я нигде не мог найти себе места. Отчасти из-за этого я согласился подвезти Эда. Не было ни тренировок, ни игр. Я даже немного заинтересовался работой, кому-то на удивление.
Только мне было отчаянно скучно. До тошноты. Ни минуты я не чувствовал себя спокойным или довольным. Я даже прикидывал, не убить ли кого-нибудь, или, может, ограбить банковского инкассатора, или погнаться через весь парк за старой проституткой. Словно я был большим прожорливым львом, которого вдруг перестали кормить.
Этот день — суббота в начале июля — был облачным и душным. Я пришел домой около трех часов, думая соснуть, чтобы избавиться от львиного настроения. Миссис Хэммонд вешала белье позади дома. Чтобы Йен никуда не убежал, она посадила его на шлак в заброшенный загончик для кур. Линда бегала в соседнем дворе с другими ребятами, их визг разносился по всей улице. Постель была не убрана, я расправил одеяло, лег и попробовал заснуть.
Разбудил меня звук ее шагов: она ходила взад и вперед у себя в спальне. Наверное, стелила постель. Я лежал, не двигаясь, и смотрел на двух мух, танцевавших вокруг лампочки, и на пчелу, гудевшую снаружи на оконном стекле. Мухи слиплись в одну. Мне то хотелось, чтобы она ушла вниз, то — чтобы она зашла ко мне. Когда ее шаги раздались на площадке лестницы, я не мог сладить с ознобом. Я с удивлением посмотрел на свои руки: они в самом деле дрожали. С той секунды, как она открыла дверь, началась борьба: я боролся с собой. На кровати лежали два Артура Мейчина.
Она вскрикнула.
— Ох!.. Я не знала, что вы здесь. — Ее руки были прижаты к горлу. — Я не слышала, как вы пришли. Я хотела убрать постель.
— Я лег прямо на одеяло. Мне что-то захотелось спать, — сказал я, перекатился к краю и встал.
— Я постелю, все равно я уже здесь. У меня сегодня еще не было свободной минуты. Я стирала, Йен без конца убегал. Вы давно пришли?
— С час назад.
— Значит, когда я вешала белье. Я сейчас. — Она повернулась ко мне спиной и наклонилась над кроватью, подворачивая простыни.
— Вы не играете в крикет? — спросила она, вытянувшись на кровати, чтобы подсунуть руку под дальний конец матраса. Она была так занята, что, кажется, не ждала ответа.
Одно мгновение я был спокоен, потом у меня начали гореть шея и уши. Пока она возилась с матрасом, я ждал — я надеялся, что она почувствует напряжение и сумеет как-то его рассеять. Но она продолжала спокойно стелить постель, и я, сам не зная как, протянул руки и прижал ладони к ее бедрам. На мгновение она вся расслабла, потом вдруг одеревенела. Я притянул ее к себе и обнял. И опять она вся словно расползлась по швам. Она вырывалась, что-то выкрикивала. Я не выпускал ее и не произносил ни слова. Я все время напоминал себе, как некрасиво ее лицо, как она боится. Я был поражен ее бесчувственностью.
Ее голова дергалась из стороны в сторону, изо рта вылетали какие-то пронзительные звуки, которых я не понимал. Мне казалось, что я борюсь не с женщиной, а с кроватью. Я не мог понять, почему это было для нее такой неожиданностью, почему она не уступала.
Потом вдруг мне стало тошно, в горле поднялся комок — такое у нее было жалкое заношенное белье. Мне хотелось вырваться на воздух. Я попятился и увидел Линду: она стояла в дверях, смотрела на нас и не знала, плакать ей или смеяться.
— Ма-ма! — крикнула девочка, как будто снова переходила реку.
— Уйди, Лин! — сказала миссис Хэммонд. — Уходи! Уходи!
Девочка нерешительно стояла на месте, но мать не двигалась. Линда внимательно следила за нами, переводя взгляд с одного конца кровати на другой — смотрела то на один берег, то на другой.
— Мама, вы деретесь?
— Уйди, Линда! — крикнула миссис Хэммонд. — Уходи! Это просто игра.
Девочка, кажется, не очень поверила.
— А мне можно поиграть, мама?
— Уходи, Линда! Ну же…
Линда неуклюже повернулась и, громко топая, сбежала по лестнице.
Миссис Хэммонд лежала, повернувшись лицом к стене. Ее тело начало приподниматься в медленной судороге злобы и недоумения. Удивления.
— Ты! — всхлипывала она. — Ты! — На тонких стеблях рук торчали узловатые розовые кулаки. Глаза бегали из стороны в сторону. От нее пахло мыльным порошком, паром и влажной одеждой. Теперь, к концу, она кричала во весь голос.
Она встала с постели и пошла прямо вниз. Я подумал, что она идет искать Линду. Но я ошибся. Когда я схватил пиджак и выскочил на улицу, я увидел, что она опять стирает. Как будто ничего не случилось. Она стояла с вальком над тазом и медленно колотила белье, а может, там и не было белья.
Я ездил на машине около часа, потом отправился в «Мекку» прямо к открытию. Ресторан был пуст. Я зашел в бар и достал «Тропическую оргию»: лунная ночь над тихим тропическим морем; капитан Саммерс поднимается на палубу, оставив в каюте свою девочку «полностью удовлетворенной и в высшей степени довольной». К борту подошла шлюпка, чтобы забрать контрабанду, и капитан Саммерс вытащил маленький вороненый пистолет тридцать восьмого калибра. Я не считал себя виноватым. «Нечего все валить на меня», — говорил я себе. Не такая уж она недотрога. Она была замужем. Я бы ее не тронул, если бы не думал… И все-таки у меня на душе кошки скребли, пока не явился Морис с девочками.
— Тарзан снова сражался, — сказала Джудит, белокурая секретарша мэра. — Не хочет ли он сразиться со мной? — Она оттянула лацкан моего пиджака и увидела влажную запятнанную кровью рубашку. Она состроила гримасу. — Ну что ж, пора приучаться быть храброй! — сказала она.
Я засмеялся и почувствовал облегчение: я боялся, что, увидев меня, они сбегут.
* * *
Это повторялось не часто. Я предпочитал уходить с ней наверх в середине дня — так было легче. Вот почему нашим днем постепенно стало воскресенье. Все было известно заранее. Она поднималась к себе и надевала серое шерстяное платье, а если я не шел, звала меня или спускалась вниз и тихо сидела у камина, пока я не вставал. И уже тогда она без меня не шла. Тот же раз навсегда заведенный порядок соблюдался и в спальне — обязательно моей, как она настаивала, словно важнее всего для нее было соблюдать какие-то правила, которые она сама установила. Она всегда оставалась безучастной. И бессловесной. Когда все кончалось, она опять надевала домашнее платье. Она только терпела. Она, наверное, думала, что у нее нет другого выхода. Ей было все равно. Обычно такие воскресенья выпадали два раза в месяц.
Она стала чистоплотней. Башмаки исчезли с каминной решетки.
Предварительные тренировки шли уже несколько недель, когда я решил все-таки встретиться с миссис Уивер. Я довольно долго обдумывал ее приглашение, прикидывая, какую пользу оно может мне принести. Я был не так уж уверен, что она не указала мне границу: дальше омут, не заплывать.
Потом я вдруг встревожился, что упустил время. И при этом никак не мог понять, из-за чего я, собственно, беспокоюсь — я прекрасно обходился и без нее. Меня попросили доставить ей несколько благотворительных билетов, и я перепоручил их Уиверу — пусть сам отдает. А если забудет, тем лучше. Можно будет выбросить все из головы. Билеты были на «семейный вист» в Кооперативном зале — с половины восьмого до половины десятого. На обороте я написал свою фамилию. Если ее заинтересует нечто столь неопределенное, значит стоит попытать счастья. Уивер сказал, что его жена обрадуется любому благотворительному вечеру.
— Благотворительность — ее конек, — заявил он, горя желанием, чтобы я засмеялся; я доставил ему это удовольствие.
К моему удивлению, она все-таки пришла в Кооперативный зал и сыграла положенные партии в вист. Честно говоря, она выглядела тут не на месте: линейный корабль, состязающийся с яхтами. Пожалуй, даже глупо. Вообще-то такие карточные вечера не были для нее новостью, но только устраивались они под опекой местных властей и не здесь, а в ратуше. Я не знал, как мне держаться, и решил предоставить все ей, а сам стал играть, как будто ее и на свете не было.
В четверть десятого она перехватила мой взгляд. Она злилась, ей, наверное, было скучно, и она не очень хорошо себя чувствовала из-за спертого воздуха.
— Мы могли бы побеседовать раньше, — сказала она. — Через пятнадцать минут за мной приедут.
Она говорила раздраженно и деловито.
— Я думал, вы хотите, чтобы все приличия были соблюдены, — ответил я ей в тон.
— Приличия? Здесь? — У нее сорвался голос. — Нас тут никто не знает.
— Меня знают.
— Что ж, это естественно, — сказала она и презрительно оглядела зал.
— Придется им умереть. Я не должен был допускать, чтобы они видели вас такой.
Мы оба удивлялись, что разговариваем друг с другом таким образом.
Она встала и пошла к двери. Немного подождав, я пошел за ней. Я редко бывал так взвинчен. В ту самую минуту, когда я спустился к выходу, кто-то открывал дверцу ее «мориса-минора». Я отступил назад и видел, как машина уехала.
Через неделю, только я перестал об этом думать, как получил от нее письмо; я нашел его среди писем моих болельщиков, в жиденькой пачке, ожидавшей меня в «Примстоуне».
«Дорогой Артур Мейчин!
Мне очень жаль, если вам показалось, что в тот раз я была невежлива и резка: у меня немного расходились нервы из-за одного происшествия, которое случилось как раз перед этим, и я была не в духе. Надеюсь, вы извините меня. Может быть, как-нибудь на этой неделе вы заедете выпить чашку чаю? Среда — вполне подходящий день. Как вам известно, мистер Уивер уехал, и я буду рада гостям.
С наилучшими пожеланиями Диана У.»Внизу, видимо, не доверяя моей сообразительности, она приписала:
«Это не значит, что вы должны привести с собой кого-нибудь из буйных приятелей моего мужа, являющихся сюда по субботам».
Все остальные письма в моей пачке были от подростков.
В среду я взял отпуск на полдня. Я не был уверен, знает ли она, что я работаю на заводе Уивера, но уж лучшего повода отдохнуть полдня, чем отправиться в гости к жене хозяина, кажется, не придумаешь. Я вернулся домой и надел костюм.
— Кто-нибудь умер? — спросила миссис Хэммонд.
— Нет. Я иду в город. Взял отпуск.
— Наверное, что-нибудь важное — вы надеваете костюм только по воскресеньям. Собираетесь куда-нибудь с Морисом?
— Нет. Это секрет.
— Что это за секреты у вас завелись?
— Самые секретные.
Она вышла, чтобы посмотреть, как я уеду. Она начала гордиться мной — тем, что я делаю и как одеваюсь.
Я проторчал часа два в бильярдной, сыграл три партии и решил, что, наверное, подошло время, когда миссис Уивер пьет чай. Мне было до того не по себе, что я два раза останавливал машину, чтобы помочиться. Как ни странно, около дома никого не было, кроме Джонсона. Две-три недели назад я слышал, что он — возможно, сославшись на меня — устроился на неполный день к Уиверам. Но когда я увидел его там во всей красе, меня как будто по голове ударили. Он пропалывал клумбу около подъездной аллеи. Я затормозил рядом.
— Как живешь, папаша?
Он выронил из рук совок и широко открыл глаза.
— В субботу начинаем — товарищеский с Лидсом. Придешь?
— Да. — Он посмотрел на машину, потом снова на меня.
— Мистер Уивер уехал на неделю, — сказал он.
— Знаю.
— Зачем же ты приехал?
— К его жене.
— Ты ушел с работы? — встревожился он.
— Только на полдня. Ну, пока, папаша.
Я подвел машину к стеклянной террасе. Он смотрел, как я выхожу. Я постучал, Мэй открыла дверь, и я вошел.
— Привет, Артур. Ты не часто бываешь здесь в такое время и по таким дням. Я думала, ты знаешь, что мистера Уивера нет.
— Я приехал к миссис Уивер, — сказал я и вдруг встревожился, как Джонсон. — Она тебя не предупредила?
Мэй нерешительно покачала головой.
— Она ничего не говорила. Сейчас я сбегаю и посмотрю.
Субботними вечерами я рыскал по этому дому, как пес, а теперь неподвижно стоял в холле, увязнув в ковре, который по субботам убирали. Я понял, что не надо было сюда приезжать. Может быть, она ждала ответа на свою записку. Может быть, вовсе и не думала, что я приеду.
— Какая неожиданность, мистер Мейчин! — воскликнула миссис Уивер, выходя из дверей гостиной, и по ее вырезу я понял, что она меня ждала. — Я очень виновата, но, очевидно, я потеряла ваше письмо… или вы звонили? Конечно, я очень провинилась… — Она выжидающе смотрела на меня.
Мэй стояла за ее спиной.
— Я говорил мистеру Уиверу, — с трудом произнес я. — Он сказал, что в сроду днем вы свободны. Наверное, он забыл передать вам, что этот благотворительный…
— Ну что ж! Значит, по крайней мере его сведения верны, — вздохнула она. — Давайте лучше перейдем в гостиную, и вы мне все расскажете.
Я думал, что Мэй давится от смеха, глядя на это кривлянье.
— Что подать к чаю? — спросила она у миссис Уивер.
— К чаю? Вы выпьете со мной чаю, мистер Мейчин? Боюсь, что такому великану этого хватит на один глоток. Но Мэй что-нибудь быстренько придумает… Не правда ли, милочка?
Мы вошли в гостиную, и она закрыла дверь. Обои с зелеными листьями вызывали у меня зуд. Стеклянные двери были распахнуты настежь. Я видел, как Джонсон возится у клумбы, и, когда он вдруг поднимал глаза, он видел меня. Все-таки это было утешением. Может, она нарочно приказала ему там работать.
Миссис Уивер была лет на двенадцать старше миссис Хэммонд — примерно на столько же, насколько миссис Хэммонд была старше меня. Эти годы оставили на лодыжках миссис Уивер валики жира да еще словно покрыли ее дорогим лаком всюду, где кончалось коричневое платье, туго обтягивавшее ее фигуру. Садясь, миссис Уивер успела дать мне понять, что она — человек свойский. Она положила ногу на ногу.
Мне не сразу удалось что-нибудь сказать.
— Ваш садовник… он здесь недавно, — это были первые слова, которые я произнес. Я пытался говорить небрежно, но она засмеялась.
— Да, — сказала она. — Вы его знаете?
Я не ответил, и она начала новый заход.
— А как поживает Эдвард Филипс? Я его не видела с той самой субботы, когда вы были здесь.
Я хотел сказать: «И я тоже», но вместо этого ответил:
— Хорошо. Точит карандаши к началу сезона.
— Ах да, начало сезона! Я совсем забыла. Как только мы с вами заговорили о регби, лето стало казаться таким коротким. А вы рады, что снова будете играть?
— Да, я немного соскучился, пока был мертвый сезон.
— Немного соскучились! Не могу себе представить, чтобы вы скучали. Скажите, а что вы делаете, когда вам скучно? Напиваетесь?
— Просто скучаю. И ничего не делаю.
— Вы, наверное, часто уезжаете куда-нибудь.
— Стараюсь. Машина жрет много бензина.
— А… — Она обдумала мои слова и переложила ноги. — Конечно, вам ведь летом не платят. То есть за регби.
— Да.
— Наверное, это одна из причин, из-за которой вы радуетесь, что снова будете играть. — Она улыбнулась самой себе и добавила: — Но мне, собственно говоря, хотелось бы узнать, почему вы приехали в ту субботу вместе с Филипсом?
Теперь она улыбалась во весь рот, обхватив пальцами колено.
— Он воспользовался моей машиной, — сказал я.
— Вашей машиной? — Этого она не ожидала. — Зачем?
— Его была неисправна… Он боялся, что произведет плохое впечатление, если приедет на автобусе.
— А! Как это на него похоже! Я могла бы догадаться… Значит, он заставил вас приехать сюда только потому, что ему нужна была ваша машина? Впрочем, ничего удивительного.
Она встала, подошла к стеклянной двери, закрыла одну половину и скрестила руки на груди.
— Что вы думаете о наших цветах? — спросила она.
Я думал, надо мне встать или нет; когда она обернулась, я поднялся и подошел к ней.
— Замечательные цветы, — ответил я.
На нее нашло смирение.
— Это Джонсон, — сказала она, когда он поднял голову и мы вместе перехватили его взгляд.
Я вдруг сообразил, что она навряд ли знает о наших приятельских отношениях, и решил, что так лучше.
Джонсон увидел, что мы на него смотрим, и начал орудовать совком прилежней обычного.
— А вы любите возиться в саду? — спросила она.
— Нет.
Это показалось ей забавным, и, повернувшись ко мне, она засмеялась. Потом положила руку мне на плечо.
— Ах, Артур! — произнесла она словно невзначай, и у меня зазвенело в висках.
Мы вернулись на прежнее место, и она начала говорить, что тоже не очень интересуется цветами, но тут раздался стук в дверь, и Мэй вкатила чайный столик.
— Спасибо, Мэй, — сказала миссис Уивер.
— Я хотела бы сейчас уйти, миссис Уивер, если вам больше ничего не нужно.
Миссис Уивер сделала удивленное лицо.
— Так скоро? — Она посмотрела на часы, оформленные под корабельный штурвал.
— Вы сказали, что я могу уйти сегодня на час раньше.
Кажется, спектакль под названием «Плохая память» начался снова; обе играли всерьез, хотя понимали, что на успех рассчитывать не приходится.
— Я составлю посуду, и вы вымоете ее утром, — сказала, наконец, миссис Уивер и проводила Мэй до двери.
Она закрыла ее довольно старательно, как мне показалось, и, вернувшись назад, стала разливать чай. Мне никогда не приходилось есть за таким первобытным столом, и я начал жонглировать чашкой и тарелочками, а потом посмотрел на нее, чтобы проверить, так ли я это делаю. Она сама жонглировала, так что ей было не до меня, но, подняв глаза, она все-таки заметила, каково мне приходится, и сказала:
— Вы, наверное, не привыкли к таким ухищрениям. Может быть, нам лучше устроиться за большим столом?
— Ничего. Я не так голоден, — ответил я.
— Не так голоден! — повторила она. — Я тоже не умираю от голода, но все-таки что-то ем. — Она подвинула мне тарелки со всякой всячиной; я взял руками несколько кусочков, собрал все вместе и отправил в рот.
Ей вдруг пришло в голову, наверное впервые, что я обыкновенный рабочий, поэтому она неожиданно спросила:
— Чтобы приехать сюда, вам пришлось на полдня уйти с работы? Я не думала…
— Да нет, я все равно взял бы полдня. Я играл сегодня на бильярде.
— На бильярде? — снова повторила она и, слегка заинтересовавшись, подняла брови.
— Да.
— Профессиональному игроку в регби, наверное, не так уж важно работать полный рабочий день?
— Да, пожалуй. Двое-трое наших игроков совсем не работают. Живут на то, что получают за регби.
— А что они делают летом?
— Ну… подыскивают какую-нибудь работу.
— И вы тоже так, Артур?
— Нет, я всегда работаю.
— Что же вы делаете?
— Я токарь.
— Токарь?
Она съела еще несколько жирных кусочков с тарелочек, которые подала Мэй, и пососала пальцы.
— А как вы предпочитаете зарабатывать на жизнь, работой или регби?
— Регби.
— Прекрасно! — сказала она. — По-моему, у вас дар к регби. Это поднимает вас над другими, вы согласны?
— Согласен…
Мне было тошно слушать, как она говорит про вещи, в которых ничего не смыслит, только и надежды было, что ей самой это надоест. Джонсон поднял голову и глядел на дом, на стеклянную дверь, но вряд ли видел меня через стекло: смотрел он довольно долго, а потом снова занялся клумбами.
Тут я заметил, что она сидит рядом и спрашивает:
— Налить вам еще чаю?
Я передал ей чашку, она наклонила носик чайника, но оттуда ничего не полилось.
— Придержите, пожалуйста, крышку, Артур, — попросила она.
Я прижал крышку пальцем, и она почти опрокинула чайник.
— В нем ничего нет, — жалобно проговорила она. — Мэй налила мало воды и забыла подать кипяток.
— Может, мне пойти принести? — спросил я.
Она поставила чайник рядом с чашкой.
— Не стоит, то есть если вы не хотите еще чая.
— Нет, спасибо.
Я сунул руку в карман брюк и вытер пальцы о носовой платок.
— Очень досадно получилось с чаем, — сказала она.
И вдруг мы оказались лицом друг к другу.
Не знаю, сколько времени мы так просидели. Я посмотрел ей в глаза и увидел, что в каждом из них крупными буквами написано: «кровать». Она прижалась правой грудью к моему плечу. Я решил не обращать на это внимания.
— На нас смотрят, — сказал я.
Она только слегка напряглась, но это был верный знак ее настроения.
— Кто? — равнодушно спросила она.
— Джонсон. Он в саду… пропалывает клумбы… и смотрит.
— Если вам неприятно, что на вас смотрит садовник, можно уйти в другую комнату.
— Джонсону, наверное, не очень трудно будет догадаться.
Она начала раздражаться.
— Странно, что это вас беспокоит. Но, конечно, неудачно, что мы у него на виду. Если хотите, Артур, перейдем в другой угол.
Она встала, взяла меня за руку и повела к другому дивану, откуда был виден капот и фары моего автомобиля. Ей не пришло в голову закрыть вторую стеклянную дверь. Она выпустила мою руку как раз вовремя: едва я встал, как услышал хруст песка и увидел, что Джонсон идет по аллее, косясь на дом.
— Опять он, — сообщил я.
— Вы мне нравитесь! — воскликнула она. — Вы похожи на кошку.
— Я хотел бы выпить. У вас что-нибудь найдется?
— Непрерывно в движении. Я никогда не видела такого неугомонного человека.
— Неприятно все время смотреть на Джонсона.
— Он уйдет через несколько минут. Может быть, тогда вы немного успокоитесь. Просто поразительно…
Миссис Уивер подошла к шкафчику рядом с радиолой и налила две рюмки. Она смотрела, как я залпом выпил свою, потом тоже отпила половину. У меня было такое чувство, как будто Джонсон подкрадывается к окну. В рюмках было виски.
— Вам хочется двигаться? — спросила она.
Я, кажется, не понял, что означал этот вопрос. Она отпила еще глоток и поставила рюмку. Я отошел к стеклянной двери и выглянул наружу. Никого не было. Я немного надеялся, что Джонсон окажется там и все решится само собой.
— Я, пожалуй, зря приехал, — сказал я.
— Ах, Артур, к чему эти глупости? — Миссис Уивер говорила ласково и сочувственно. Как с ребенком.
Она подошла и остановилась прямо передо мной, сдерживая дыхание и слегка открыв рот.
— Вы чем-то расстроены? — спросила она.
— Нет.
Она положила руку чуть пониже моего плеча.
— Не надо так стесняться, — сказала она по-прежнему ласково.
Она, наверное, видела, что я дрожу, и из-за этого подошла так близко, что я не мог ее не обнять. Она прижала свои губы к моим, и я почувствовал во рту ее язык.
С трудом отстранившись, я сказал:
— Не знаю, зачем я приехал.
— Молчите, — настойчиво сказала она и нажала на мое плечо, чтобы повернуть меня к двери. Я ждал, что сейчас на пороге увижу Уивера.
Но там никого не было. Я почувствовал, что мне безразлично, кто бы сейчас сюда ни вошел.
— Мне, пожалуй, лучше уйти, — сказал я.
Она остыла, и мы отпустили друг друга.
— Почему? По-моему, вы вели себя так мило.
— Я думаю, это нечестно.
— О Артур… нечестно!
Она повернулась, чтобы посмотреть на меня.
Чем больше я двигался, тем мне было спокойнее. Я сделал несколько шагов поперек комнаты, потом начал ходить вдоль стены.
— У вас такое ощущение… как будто… вы чего-то не поняли? — спросила она.
— Наверное, да.
Я смотрел на капот автомобиля и чувствовал себя в безопасности.
Потом она вдруг сказала:
— Может быть, вы думаете о миссис Хэммонд?
Она ожидала, что я сразу же на нее посмотрю. Кажется, ей было немного не по себе.
— О миссис Хэммонд?
— О женщине, с которой вы живете… Вы ведь с ней живете?
— Я снимаю у нее комнату.
— Ну, хорошо, называйте это как хотите. Я вовсе не стараюсь вас испугать, Артур. Но вы думали о ней?
— Нет… Я думал о мистере Уивере.
— А!.. Понимаю.
Она не знала, нужно ли объяснять мне, почему из-за него не стоит беспокоиться. Она снова нерешительно подошла ко мне.
— Я, пожалуй, пойду, — сказал я.
Этого не надо было делать. Я ее не понял, не понял, чего она хотела, я мог еще исправить ошибку — казалось, именно это она мне говорит и советует поторопиться, потому что ее терпение уже почти иссякло. Я сделал шаг к стеклянной двери. Мне было не до тонкостей.
Она еще не знала, до какой степени ей следует рассердиться: прийти ли в бешенство или нет. Она так на меня посмотрела, что я ясно увидел, как она поднимает стол красного дерева весом в полтонны и швыряет его мне вдогонку.
— Вы уходите?
Я сделал все самым омерзительным образом. Я был слишком неуклюж. Я отказался от даровой пробы, и у нее появилось то самое выражение лица, которое бывает у разочарованного продавца. Она не поняла, что я тоже разочарован. Она просто не могла себе представить, что для меня значит рисковать отношениями с Уивером. Она смотрела на меня как на последнего подлеца, и я чувствовал себя последним подлецом…
— Вы уходите? — снова спросила она.
Я попробовал объяснить ей, рассказать, чего я хотел от жизни и как я этого хотел.
— Разве я могу… — начал я. — Такая жизнь просто не по мне.
— Вам незачем объяснять, Артур. Если вы чувствуете, что должны уйти, уходите.
— Вы понимаете, что я хочу сказать? Понимаете?
— Или оставайтесь, Артур, или уходите.
Минуту нам обоим казалось, что я останусь.
Потом я выскочил на аллею, забрался в машину и рванулся к белым воротам. На старательно разровненном песке остался широкий след, где машину чуть не занесло. Теперь я обливался потом, меня била дрожь, и все путалось в голове. Почему я не подыграл ей? Ведь наверняка она была лучше всех, с кем я имел дело. Такая женщина! А я взял и отказался.
Почему? Это-то понятно… Я должен относиться ко всему этому, как к шутке. Это не деловое предложение — настолько, что я отказался от самой большой удачи, какая мне только выпадала. Может, около нее толпятся сотни желающих, да мне-то от этого не легче. Она же выбрала меня. Безвестное ничто. А я взял и отказался. Это было так не по-деловому, что я вел себя, как порядочный человек. Только одно… Если я когда-нибудь замечу, что Уивер хочет отделаться от меня…
* * *
Начало сезона оказалось бурным. Тогда мы еще не знали, что кое-кому пригрозили увольнением, если наша команда не поднимется в таблице лиги. Джордж Уэйд и Дей Уильямс, тренер основного состава, не давали нам ни минуты передышки. Предварительные тренировки были напряженными и непрерывными: все долгие летние вечера мы занимались боксом, гимнастикой, бегали на короткие дистанции, играли в салки и первую встречу с Лидсом начали в хорошем настроении. Мне это пришлось кстати: я чувствовал себя все беспокойнее, а тут сразу стало легче. Играл я от этого только лучше. Можно было подумать, что за лето я стал опытным мастером. Тем более я удивился, заметив, что Уивер ко мне остыл. Никаких особенных признаков не было, но я всегда хорошо замечаю такие вещи: теперь он все чаще бывал с Морисом. Тогда же я в первый раз увидел Слоумера — закутанная в плед детская скрюченная фигурка в ложе комитета.
Однажды утром в воскресенье я сделал ошибку: поехал к родителям. Отец спал — он работал на железной дороге в ночную смену, но шум машины его разбудил, и он сошел в кухню прямо в кальсонах и встал у огня.
— Я слышал, ты хорошо начал этот сезон, — сказал он. Глаза у него были усталые и мутные. Он еще не совсем проснулся.
— Что же ты не придешь посмотреть? — спросил я.
— Он уже ходил, — ответила мать. Она собиралась печь хлеб и месила тесто, стоя на коленях пород очагом, где горел уголь. От жара и напряжения руки и лицо у нее были красные, она тяжело дышала, на круглый обтянутый фартуком живот падали отблески огня.
— Он ходит, когда днем свободен. Верно, отец?
— Если б ты предупредил заранее, я мог бы достать тебе билет на трибуну на весь сезон, — сказал я отцу. — Наверное, и сейчас еще можно…
— Я и сам могу заплатить, — тут же ответил он. — Верно, мать?
— Если Артур берется достать тебе билет, — отозвалась она, — пусть достанет. В конце концов… — Она увидела его предостерегающий взгляд, напряженное заносчивое лицо, — …тебе не пришлось бы столько простаивать под дождем.
— Я смотрел ваш первый матч недели три тому назад, что ли, — сказал он, распрямил свое маленькое коренастое тело и повернулся спиной к огню. — Вроде ты был лучшим игроком на поле.
— Вот, вот, он всегда так говорит, — сказала мать и откинулась, чтобы видеть нас обоих.
— Чудно! Мальчишкой ты никогда не играл. Что-то я не помню, чтобы ты был из тех, которые сходят с ума по регби.
— Чтобы начать, нужно знакомство.
— А… — Он посмотрел на мать. — Про это мы уже достаточно наслышались. — Голос у него был усталый.
— Хоть в воскресенье-то не надо! — остановила его мать. — Что-то тебя совсем не видно, Артур, — сказала она мне. — Ты все время занят?
Она поднялась с колен и поставила миску с тестом на стол. В комнате запахло дрожжами. Мать посыпала доску мукой, вынула из глиняной миски тесто и начала нарезать его ровными кусками.
— У меня было много тренировок после работы, — ответил я.
— Один человек у нас на работе говорит, что частенько видит тебя в Стокли на собачьих бегах, — вмешался отец.
— Может быть.
Мать стояла спиной к нам и ждала объяснений. Потом она взяла коричневую формочку и принялась смазывать ее изнутри бумагой из-под маргарина.
— Где это? — спросила она, наконец, ставя формочку на черный противень рядом с доской для теста.
— Ниже в долине, — не очень уверенно ответил я и вместе с отцом стал смотреть, как она берет кусок теста, скатывает в шарик между красными ладонями и кладет в формочку.
— Хуже Стокли места не найти, — сказал отец, — не знаю, какой честный человек туда пойдет. Они даже не состоят ни в каком союзе. И собакам дают допинг.
Мать понесла черный противень с четырьмя формочками к огню. Она поставила его на решетку так, чтобы верхушки булок были повернуты к огню, и каждую булку четыре раза наколола вилкой. Зубцы легко погружались в тесто и выскальзывали назад.
— Они, правда, дают им допинг, Артур? — спросила она.
— Иногда.
— Но ты-то в этом не участвуешь?
— Нет.
Она наклонилась, длинной начищенной кочергой подгребла горячую золу под решетку и аккуратно подложила в огонь два куска угля с железной дороги.
— Раз ты в этом не участвуешь, — сказала она, — тогда еще ничего.
— А зачем же ты туда ходишь? — не отставал отец. — Ты ведь знаешь, что они дают собакам допинг.
— Если и дают, собакам от этого нет никакого вреда — не больше, чем мне, когда я играю, не поев как следует. Плохо только тем, кто ставит на таких собак. Только им и плохо.
— Не очень приятно слушать, когда ты рассуждаешь, как… — начала мать.
— Собачьи бега никого еще не довели до добра, — перебил ее отец, — никого. Это я тебе говорю, Артур.
— Ты останешься обедать? — спросила мать. — Если останешься, я возьмусь за готовку. Испеку хлеб и сразу поставлю мясо, духовка будет еще горячая.
— Я сказал миссис Хэммонд, что вернусь к обеду. Она будет ждать.
Отец сел поближе к очагу, протянув к огню короткие сильные ноги. Кожа на них была бледная, с узловатыми венами.
— Ты бы лучше надел штаны, отец, — сказала мать, чтобы отвлечь его, — он все больше хмурился. — А как поживает твоя миссис Хэммонд? Я только вчера подумала, сколько лет прошло с тех пор… жила бы она в каком-нибудь хорошем месте.
Мать выглядела под стать словам: распаленная и обиженная. Она ни минуты не стояла на месте, как будто ее суетня могла развеять злобу, которой дышало все, что они с отцом говорили про миссис Хэммонд.
— Там дешево, — сказал я, — и от работы близко.
— Но ведь у тебя теперь есть автомобиль и ты играешь в регби, почему ж ты не можешь жить где-нибудь на чистом воздухе — в Примстоуне или в Сэндвуде?
— Я не хочу ездить на работу на машине. Вряд ли мне это по карману. Да и ребята начнут завидовать.
— Все равно можешь ездить на автобусе и жить где-нибудь подальше. — Прищурившись от жара, мать открыла дверцу духовки, подняла противень и сунула его внутрь. Тесто плохо поднялось. На него попала вода. Может быть, пот с ее лица.
— Я привык там жить, — сказал я.
Она выпрямилась и начала поворачивать хромовый регулятор на дверце духовки.
— Не знаю, Артур, чем ты кончишь, — заключил отец, уставившись на огонь, и медленно, с издевкой покачал головой, — честное слово, не знаю.
— А ты посмотри на мой автомобиль, — сказал я. — Посмотри на мой костюм. Разве можно заработать на такой автомобиль и на такой костюм, стоя пять с половиной дней в неделю за паршивым токарным станком? И не в этом одном дело. Меня знают. Уж ты бы должен это понять. Теперь в городе фамилия Мейчин не пустой звук. Не просто еще одна фамилия из сотни тысяч других. На работе наверняка говорят с тобой обо мне. Разве тебе это не приятно? Что все знают твоего сына?
— Знал бы ты, Артур, что они про тебя говорят. Тот человек только и сказал, что каждую неделю видит тебя в Стокли. Вот и весь разговор.
— Они всегда так — те, кому не нравится, что ты добился успеха. Им хочется, чтобы тебе было так же скверно, как им. А все-таки признайся: ты ведь и хорошее про меня слышал. Уж наверное в понедельник утром к тебе подходили даже незнакомые люди и говорили: «Ваш Артур здорово играл в субботу».
— А этот Уивер, с которым ты свел знакомство, — не унимался отец. — Держался бы ты подальше от этих людей, Артур. Эта компания не для тебя.
— Ты просто не знаешь, к чему бы придраться, — разозлился я. — Где деньги, там всегда грязь. Придется мне перешагнуть через нее. Я хочу зарабатывать деньги. Я их зарабатываю. Ты разве против? Вспомни, что ты сам всегда говорил про деньги. Что без них счастья не бывает. Ты мне это твердил с тех пор, как я научился говорить. А теперь, когда я делаю в точности то, что ты хотел… ты же меня этим попрекаешь.
— Эх, Артур, бывают деньги и деньги, — сказал он, притихнув, как только я озлился.
— Для меня все деньги одинаковы. Никто не может разделить их на хорошие и плохие. Никто. Посмотри на католиков, на Слоумера — они целыми днями устраивают всякие лотереи. Когда дело доходит до денег, идеалы идут ко всем чертям. Тут не разбирают, что хорошо, а что нет. Идеалы! Чего ты добьешься с твоими идеалами? Чего ты добился?
— Чего? — Он оглядывался по сторонам, как будто это было ясно само собой: чего он добился со своими идеалами, и чего добилась его соседка миссис Шоу с ее идеалами и сосед соседки мистер Чэдвик с его идеалами. Да, это было ясно само собой.
Потом на мгновенье он понял, что я ничего этого не вижу. Он увидел окружавших его людей без их привязанностей и волнений — кладбище разбитых надежд. Может быть, в молодости он сам мечтал стать регбистом… Мать смотрела на него, словно окаменев. А он сидел — маленький человечек без брюк, — в недоумении покачивал головой, морщил лицо, чувствуя свое бессилие, упрекая себя за него, слепой от усталости, накопившейся за прошлую неделю и за всю жизнь.
5
Я вижу в темноте его лицо: оно сморщилось и исказилось от боли, которая все усиливается. Между нами стена боли, она растет вверх и вширь, пока не поглощает нас обоих. Боль пробегает по моему лицу тупой судорогой. И будит меня.
Язык лежит на пустых ямках верхней десны, от него куда-то в глубь носа бегут жгучие иголки. Я совсем разбит. Через некоторое время из-за двери доносится что-то вроде хихиканья. Я встаю с кровати, всовываю ноги в ботинки и тащусь к двери. Отодвигаю задвижку, но дверь не поддается. Заперто.
Снова раздается хихиканье, я барабаню в дверь. Когда я перестаю стучать, на площадке не слышно ни звука, хотя внизу шум стал еще сильнее. Прикладываю глаз к замочной скважине. Наверное, это Томми Клинтон решил сострить. А может, Морис. Иду к окну — ни одной водосточной трубы. Я сажусь на кровать и закуриваю. Внизу кто-то распевает рождественскую песню.
По аллее проезжает фургон; несколько минут, пока он стоит, слышно, как звенят бутылки. Пополняются запасы спиртных напитков, а наверное, еще рано. Часов десять. По-настоящему вечер сейчас только начинается. Фургон уезжает. На аллее два хора поют рождественскую песню.
Я думаю о миссис Уивер. Делать больше нечего, так что заодно я думаю и о мистере Уивере. С ней я раззнакомился, ему вдруг разонравился. В конце ноября мне показалось, что он пытается выжить меня из команды. Тогда и на поле и не на поле были всякие трудности. А теперь мне вышибли передние зубы. И кто вышиб — Меллор! Хотя он не мог знать, что попадет именно мне в зубы.
Может, я зря все валю на Уивера, но ведь Меллор один из его самых тихих дружков. Как ни крути, сегодня мне хотелось приехать сюда только из-за одного. Где-то в глубине я чувствую, что надо уладить дело с миссис Уивер. Если уж на это идти, так не зря. А все-таки есть еще одна затаенная причина. Сегодня здесь будет Слоумер.
На аллею въезжает машина. Я прижимаюсь лицом к окну, стекло, оказывается, немного заиндевело. Машина останавливается у самой террасы, и в полосе света появляется Эд Филипс. Он приехал на такси — выскочил как ошпаренный. Я кричу ему. Он смотрит на входную дверь, машет кому-то рукой, расплачивается и входит в дом.
Нужно выйти из комнаты. Я снова подхожу к двери, заглядываю в замочную скважину, стучу и кричу, потом возвращаюсь к окну. Открываю его и чувствую, как холодно на улице. На покатой лужайке блестит иней. Чистое небо затоплено бледным лунным светом. Футах в двадцати внизу замусоренная альпийская горка, которую соорудил Джонсон. Я гашу свет и вылезаю на подоконник. Несколько минут я стою, не двигаясь, как мойщик, которому неохота приниматься за работу. Подо мной свет из окон и эта горка. Я дергаю изо всех сил, водосточный желоб выдерживает.
Я вскарабкиваюсь на раму и подтягиваюсь. Выбитое стекло беззвучно падает в комнату. Втиснув локти в желоб, я пристраиваю ноги на верхушке открытой оконной рамы и не знаю, лезть дальше или нет. Под руками у меня ледяное крошево, желоб потрескивает и стонет под тяжестью моего тела. Крыша слишком крута, чтобы на нее выбраться, — настоящая пирамида. Прямо передо мной труба дышит дымом в бледное небо.
Справа угол дома. За углом должна быть водосточная труба, которая мне нужна. Я спускаюсь с рамы, повисаю на желобе и соскальзываю с подоконника. Я перебираю руками по краю желоба. Где-то по ту сторону окна он трещит, отламывается и вдруг провисает на фут. Я вскрикиваю и стараюсь быстрее добраться до угла.
Достигнув цели, нащупываю скобу на том месте, где должна быть труба. Дергаю — она отваливается.
Узнаю Уивера: станет он думать о ремонте дома. Руки у меня вытягиваются, и я не могу двинуться ни назад, ни вперед. Подтягиваюсь и снова втискиваю локти в желоб. Опираясь на левый, освобождаю правую руку и начинаю выдергивать черепицу на углу крыши. Первая поддается с трудом. Она разламывается, и я бросаю ее на газон. Потом дело идет легче, и постепенно я разбираю весь угол прогнившей уиверовской крыши. Показываются деревянные брусья, и скоро дыра уже достаточно велика, чтобы в нее можно было залезть. Я просовываю ноги между брусьями, ложусь спиной на черепицу и закуриваю.
Отдельные голоса доносятся совершенно ясно. Я слышу, что говорят внизу, и не знаю, может, и я несу такую же чушь.
Отсюда хорошо виден город. Большие заводы Ярроу и Саджена плывут по долине, как два огромных корабля с ярко освещенными иллюминаторами — они движутся прямо на башни электростанции. Внизу сверкают огни тысячи сочельников. Сегодня вечер вечеринок. Я так вспотел, что мне становится холодно, и я начинаю прокладывать дорожку вдоль края крыши. Я подсовываю пальцы под черепицы и стараюсь их отодрать. Одни ломаются, другие отрываются целиком, и я бросаю их вниз в темноту. Наконец я добираюсь до единственной водосточной трубы, которую видел за весь вечер, и съезжаю вниз.
Едва я касаюсь земли и с облегчением вздыхаю, как у меня за спиной раздается чей-то сердитый голос:
— Артур, что вы, черт возьми, там вытворяли?
Это Джордж Уэйд. Он наклоняется вперед, чтобы разглядеть в темноте мое лицо.
— Вот уже минут десять, как я за вами наблюдаю, — говорит он. — Хорошо еще, что я вас узнал, а то вы попали бы прямо в объятия полицейских.
Он принюхивается, чтобы узнать, не несет ли от меня спиртным.
— Я не мог выйти из комнаты… меня кто-то запер.
От меня пахнет копотью и стоячей водой. Но Джордж вполне может принять это за запах виски. Он дрожит и стучит палкой по земле.
— Вы там порядочно напортили, — говорит он и, запрокидывая голову, смотрит на конек крыши. — Надеюсь, вы не забудете сообщить об этом мистеру Уиверу. Первая черепица меня очень напугала. Она чуть не угодила мне в голову… Вы разобрали всю крышу?
— Труба все-таки осталась, мистер Уэйд. Мне не хотелось особенно утруждаться… А как вы? Что вы здесь делаете? Вы, кажется, совсем замерзли?
— О… — вздыхает он и снова стучит палкой.
— Неужели вы все еще ищете собаку?
— Мне не удалось ее найти, Артур. Столько времени, будь оно неладно. По-моему, Морис нарочно ее выпустил. Вы знаете, как он себя ведет в подобных случаях. Ему словно что-то ударяет в голову. Он вполне способен поступить таким образом.
— Возможно, только вряд ли он станет ее искать. Тем более что собака, наверное, убежала домой.
— Но мистер Уивер заверил меня, что она не может убежать, — говорит он таким тоном, как будто уже много раз повторял это про себя. — Впрочем, раз вам не терпится войти в дом, Артур, я не хочу вас задерживать. В конце концов несчастный пес принадлежит мне. А владение собственностью всегда сопряжено с риском. Если вы застудите зубы, вам придется плохо.
— Сколько сейчас времени?
Он вынимает часы.
— Почти десять минут одиннадцатого, — говорит он и поворачивается к кустам, как будто мой вопрос снова напомнил ему о собаке. Я смотрю на него и не верю. Все это из-за какого-то жалкого пса!
За домом, возле кухонной двери, где останавливаются фургоны, стоит старый прославленный «роллс» Слоумера. Я вхожу в кухню и умываюсь под краном. Оказывается, у меня все ладони в порезах. Я вытираю руки, чищу костюм и начинаю осматриваться.
Из гостиной вынесена почти вся мебель, хотя обои с листьями остались; здесь танцуют. На подушке развалился Томми Клинтон, он, мигая, смотрит на меня и не узнает. В остальных комнатах устроены бары, буфеты и места для отдыха. В холле толпа во главе с мэром и олдерменами-лейбористами поет регбистские песни на рождественский мотив. «А ну еще, а ну еще, а ну давай!» Они медленно движутся вокруг елки, вытащенной на середину комнаты; половина волшебных фонариков помята, они похожи на подгнившие плоды.
Из буфетной доносится голос Мориса: он поет, отставая на одну-две строчки от певцов в холле. Стучу в дверь и окликаю его.
— Это ты, Артур? — кричит он. Ключ поворачивается, и Морис смотрит на меня из-под полуопущенных век.
— Тебе что, дружище? — Он без рубашки, кожа еще горит после дневной игры, некоторые ссадины снова начали кровоточить. — А я думал, Томми запер тебя наверху.
— Я только что выбрался.
Он смеется не меньше минуты. Джудит, секретарша мэра, выглядывает из-за его плеча и улыбается, пьяно покачиваясь.
— Где ваши зубы, Тарзан? — спрашивает она. — Решили догнать золотую молодежь выпуска 1934 года?
— А что вы предлагаете?
— Ах, черт! Вам я многое могу предложить.
— Э-эй, потише! — говорит Морис.
— Ты видел Уивера? — спрашиваю я его.
— Не видел целую вечность, малыш. — Он медленно трясет головой, стараясь очухаться. — Может, войдешь? Я сейчас уйду. Холодно, как в тюрьме, а эта стерва — лед, верно, дорогая? Может, у тебя она оттает. — Он захлопывает дверь и запирается. Через минуту раздается крик: — Ты еще здесь, Артур?
— Да.
— А чего ты дожидаешься? — Оба хихикают.
Я подымаюсь по лестнице мимо второго азиатского ландыша, в листьях которого видны странные плоды: бюстгальтер и еще что-то шелковое. Дверь в большую спальню слегка приоткрыта. Только я собираюсь заглянуть в щель, как дверь распахивается настежь, и Уивер, чуть сощурившись и едва заметно улыбаясь, устремляет на меня голубые кукольные глаза. Он во фраке, и на его мгновенно изменившемся лице написано, что я грязное назойливое ничтожество.
— Надеюсь, я вам не помешал, Артур? — спрашивает он.
Я говорю «нет» и качаю головой.
— Неужели вы оставили праздник, чтобы просто так подняться сюда? — продолжает он. — Что вам нужно?
Прежде чем я успеваю придумать что-нибудь язвительное, из-за двери доносится голос миссис Уивер.
— Это Артур Мейчин, дорогой? Почему ты не попросишь его войти?
— Входите, Артур, — говорит Уивер.
Я вхожу, протискиваясь мимо него.
Что верно, то верно — лежать на кровати миссис Уивер приятно. Люстра сверкает прямо у меня над головой, и вся комната залита светом. Позади во всю стену гобелен с изображением охоты: собаки вонзают зубы в маленькое бесцветное животное, и оно уже истекает кровью.
Слоумер улыбается, глядя на меня, и поднимает рюмку, показывая, что я должен выпить.
— Выпейте, молодой человек, — говорит он топким ломким голосом, похожим на шелест бумаги. — Ведь это бывает только раз в год.
Для него наверняка не чаще.
Когда я входил в комнату, он тем же тоном сказал:
— Значит, это тот самый молодой человек, которому сегодня выбили зубы.
Рюмка в моей руке пуста. Я прячу ее в кулак и делаю большой глоток.
Кажется, никто толком не знает, что мы празднуем. И уж во всяком случае, мы не веселимся. Уивер сидит в кресле около двери и, расставив колени, смотрит на ковер: он только что пролил вино, и маленькая лужица впитывается в ворс, превращаясь в темное пятно. Миссис Уивер расположилась возле окна недалеко от меня и со сдержанной злостью разглядывает ту же лужицу.
Долгое время мы сидим и молчим, потому что для Слоумера в смысле развлечений это, кажется, предел мечтаний. Я все время думаю, как бы отделаться от него и от Уивера и на несколько минут остаться наедине с миссис Уивер, которая в своем узком платье, отливающем серебром, жжет меня с расстояния в три ярда.
— Внизу очень шумно, — говорит она наконец.
А вдруг она думает о том же, о чем я?
Уивер угрюмо кивает.
— Последний раз я устраиваю все это в своем доме, — говорит он.
— Почему? — спрашивает Слоумер.
Он поворачивает голову к двери, где сидит Уивер, и оказывается, что под нижней губой у него начинается чахлая, словно из пуха, бородка. Но и в этом новом положении я все равно не могу разглядеть, что у него не так.
— Почему? — переспрашивает Уивер и странно расширившимися глазами смотрит на Слоумера. — Почему? Потому, что сюда пролезли все городские подонки. Мне это не нравится.
— Они всегда себя так ведут? — невинно спрашивает Слоумер.
В каждом пустяке, который Слоумер говорит или делает, Уиверу чудится подвох, и теперь он старательно обдумывает ответ.
— Мне кажется, да. С ними там член парламента и мэр… Но боюсь, что они не подают остальным благого примера.
Слоумер усмехается, и Уивер немедленно начинает ерзать в кресле, как будто Слоумер неодобрительно ткнул его в ребро своим тонким белым пальцем.
— Вы считаете, что мне не следовало так говорить? — спрашивает Уивер.
— Не следовало? — Слоумер с улыбкой разглядывает Уивера.
— В конце концов, — говорит Уивер, — член парламента не обязательно должен быть лучше других. Ведь все сводится к удобному случаю, а особая проницательность или способности тут ни при чем.
— Я не знаком ни с ним, ни с мэром, — говорит Слоумер, — и меня совершенно не интересует их положение. Если не ошибаюсь, вам как-то предлагали выставить свою кандидатуру… Не помню, от какой партии.
Слоумер доволен, что заставил Уивера высказаться, Уивер краснеет оттого, что попался.
Мне, кажется, лучше помалкивать. Я изучаю миссис Уивер и прикидываю, есть ли у нее под платьем корсет, но, главное, я изучаю Слоумера — жадно, словно пью в жару. Это его забавляет, как все в этой комнате. Его интересует гобелен, хотя он ничего про него не говорит. Миссис Уивер переводит взгляд с гобелена на Слоумера, напрашиваясь на похвалу. А он глядит на меня и на охоту за моей спиной, как будто такое соседство кажется ему нелепым или непристойным.
Я разочарован. Во-первых, миссис Уивер совсем не та. И смотрит она на меня совсем не так, как я, по-моему, смотрю на нее. Я придворный шут, большой глупый шут, над которым все втайне потешаются. И виноваты в этом мои зубы, Меллор, а больше всех — сидящий напротив меня калека, весь вид которого словно говорит, что его уродство — единственная достойная форма человеческого тела. Мне кажется, что в кресле скорчился до времени состарившийся мальчик, и его стариковские глаза, посмеиваясь, следят за ощущениями, которые его наружность вызывает в тех, кто собирался не обращать на нее внимания. Фрак сшит так, чтобы его уродство было незаметно. Вот это первоклассный портной!
— Наш молодой человек начинает скучать, — говорит Слоумер Уиверу. — Конечно, ему нужно общество его сверстников внизу, а не таких усталых стариков, как мы с вами.
— Ну, у меня, во всяком случае, нет желания мешать ему развлекаться в другом месте, — говорит Уивер. — Ради меня ему незачем тут оставаться. А что ты скажешь, дорогая?
Прежде чем она успевает ответить, опять говорит Слоумер:
— Пока он здесь, он вряд ли что-нибудь сломает, не так ли?
— Не думаю, чтобы именно он стал разносить дом на куски, — говорит миссис Уивер.
— Что случилось? — спрашиваю я ее.
— Некоторое время тому назад нам показалось, что кто-то срывает черепицу с крыши, — объясняет она. — Пришлось убедить моего мужа, что он выпил слишком много ершей.
— Вы меня не убедили, — говорит он. — Я по-прежнему думаю, что там кто-то был. Я же отчетливо видел, что с желоба свисало что-то вроде большого мешка… Я только не могу понять, как кто-нибудь сумел туда забраться. — Кажется, ему стало легче от того, что он может пожаловаться на что-то определенное. — Ведь на фасаде нет ни одной целой водосточной трубы.
— Вы себе не представляете, какими настойчивыми становятся люди, когда к ним в кровь попадает капелька алкоголя, — говорит Слоумер. — Я часто спрашивал себя, почему предприниматели вроде вас, Уивер, не используют это обстоятельство. Я склонен думать, что для настоящего преуспевающего промышленника контролируемый алкоголизм — просто необходимость.
Мне вдруг приходит в голову, что Слоумер нарочно хочет заварить кашу. Он смотрит то на меня, то на Уивера, примериваясь, как нас стравить. Только теперь я понимаю, почему, когда я вошел, он посмотрел на меня с облегчением. Он желает, чтобы его развлекали.
— Зачем вы пришли сюда, наверх, мистер Слоумер? — спрашиваю я. — Вам мешал шум?
— Ну… мы празднуем канун рождества Христова, — медленно говорит он.
— Очень точное определение… — начинает Уивер.
— Разгул внизу — это такое же празднование. Тем более что один из нас санкционировал его, создав все необходимые условия.
— Но послушайте, я ведь не отвечаю за их поведение, — резонно возражает Уивер.
— Ну, а кто? — говорит Слоумер. — Не находись они сейчас здесь, они вряд ли вели бы себя так, а уж у себя дома тем более.
— Они просто употребляют добро во зло. Казалось бы…
— Не может быть, Уивер, чтобы у вас сохранились какие-нибудь иллюзии относительно человеческого поведения. Во всяком случае, я не раз замечал, что в своих личных взаимоотношениях вы скорее склонны проявлять недоверие.
— Что вы хотите этим сказать?
Уиверы — и он и она — краснеют и почему-то смотрят на меня.
— В такой праздник вряд ли стоит затевать разговор на эту тему, — с твердостью заявляет Слоумер.
— Все-таки объясните свои слова, — настаивает Уивер. — Не слишком приятно, когда о тебе говорят такие вещи.
— Ну, что ж… тогда я беру их назад.
— Они уже сказаны, — не унимается Уивер. — Так или иначе, из чистого любопытства я очень хотел бы узнать, что вы имели в виду.
У него красное напряженное лицо, как у женщины, которую душит злость; голубые глаза полны ненависти.
— Вы это знаете, — многозначительно произносит Слоумер, с откровенным злорадством наблюдая, как бесится Уивер.
— Не имею ни малейшего представления… Вы сказали, что в отношениях с другими людьми я склонен проявлять недоверие. Мне всегда казалось, что дело обстоит как раз наоборот. Скорее уж можно говорить об излишке доверия.
— Ну… возьмем для примера вот этого молодого человека, — говорит Слоумер и невозмутимо смотрит на меня. — Разве в этой истории не сказалось недоверие к нему?
Он следит за нами, весело посмеиваясь.
— К кому? К Мейчину?
Уивер смотрит на меня, еще не погасив в глазах ненависти, и старается понять, знаю ли я, о чем идет речь.
— Да, к Мейчину, — повторяет Слоумер.
— О чем вы говорите? — спрашивает Уивер.
— Ну, послушайте, мне не хочется быть серьезным в такой вечер, как сегодня, — упирается Слоумер.
— Если вы решили затеять спор, почему не сказать об этом прямо? — злится Уивер. — А если нет, то зачем вы начинаете подобные разговоры?
— Я ничего не имею против спора, — говорит миссис Уивер, — если только он будет забавным. У нас тут достаточно скучно.
— Таково мнение дамы, — говорит Слоумер, — и все же я не хочу копаться в вещах, о которых мне не так уж много известно.
— Что это за история, в которой сказалось недоверие к Мейчину? — спрашивает миссис Уивер. — На что вы, собственно, намекаете, Слоумер? Вам известно о нем что-нибудь неизвестное нам?
— Нет, — отвечает Слоумер. Он наблюдает, как из-за веселой игры, которую он затеял, кровь приливает к моему лицу.
— Значит, моей жене это тоже известно? — спрашивает Уивер.
— Как и вам, — раздраженно отвечает Слоумер.
— Черт подери, к чему вы все-таки клоните? — почти кричит Уивер.
— Я знаю, к чему он клонит, — вмешивается миссис Уивер и смотрит прямо на Слоумера, как будто говорит ему: «Давайте. Говорите начистоту. Кончайте с этим».
— Что это значит? — подозрительно спрашивает Уивер; ему уже не хочется подставлять себя под удар.
— Слоумер намекает на сплетню, которую ты слышал, милый… Кто-то решил, что Мейчин был моим любовником.
Слоумер не может скрыть радости и из-за этого немного переигрывает, изображая, как он потрясен.
— Что вы! Я имел и виду совсем не это, — говорит он, словно растерявшись. — Может быть, такая сплетня и существует, но я слышу ее впервые.
Миссис Уивер — проколотый воздушный шар.
Я не смотрю на Уивера. И слушаю, как Слоумер смущенно вздыхает.
— Послушайте, Слоумер, — для собственной бодрости миссис Уивер говорит на удивление спокойным голосом, — не прибегайте к старым трюкам. К чему это театральное изумление? Право, не считайте нас такими уж…
— Простите. Еще раз простите, — говорит он. — Уверяю вас, я никак не ожидал ничего…. Я совершенно не представлял… Вы должны извинить мою глупую неловкость.
— Ну, что ж… — говорит миссис Уивер, — рано или поздно вы об этом все равно услышали бы. — Теперь, когда весь воздух вышел, она пытается заклеить дыру. — Во всяком случае, вам теперь понятно, что Уиверу и мне это, естественно, крайне неприятно.
— О, конечно! Я вполне разделяю ваши чувства, — уверяет Слоумер. — Странно, как такая сплетня могла возникнуть.
— Да, очень странно, — говорит миссис Уивер. — Хотя объяснение достаточно простое, но сейчас не стоит ворошить все это.
Миссис Уивер слегка улыбается мне.
— Простите, Мейчин, мне очень жаль, что вы оказались главной темой нашего разговора.
Я говорю, что это неважно, и притворяюсь озабоченным, чтобы скрыть ошеломление. Я все еще думаю, что лучше не смотреть на Уивера. Значит, он знает, что я приходил в пятницу. Джонсон сказал ему? Мэй? Я чувствую себя мишенью для учебной стрельбы.
— На что же вы тогда намекали? — негромко спрашивает Уивер.
Слоумер медленно качает головой.
— Я имел в виду случай, когда вы предлагали заменить Мейчина тем юношей… Я забыл его фамилию. Это было примерно в ноябре.
Несколько минут все молчат. Потом Уивер говорит:
— Не понимаю, в чем тут выразилось мое недоверие к людям, о котором вы завели разговор.
— Возможно, ни в чем, — говорит Слоумер. — Я пал духом и боюсь, что теперь уже ничто не может подкрепить мнение, которое я высказал. Наверное, я немножко злоупотребил вашими напитками: вам мерещатся тела, свисающие с крыши, а мне злобные, непримиримые души. Давайте принесем друг другу взаимные извинения. — Он смотрит на меня с таким видом, словно я должен быть ему благодарен за то, что он так удачно все уладил. — Во всяком случае, молодой человек, все члены нашего отборочного комитета хотели от вас отделаться, и мне пришлось-таки потрудиться, чтобы вы уцелели. Мистер Уивер вам это подтвердит. Он в курсе. Но я не могу сказать, что обманулся в своих ожиданиях. — Я не очень понял, относится это ко мне или к сегодняшнему вечеру. Раза два он кивает, а потом вытаскивает из-за лацкана массивные часы. — К тому же моя луковица показывает, что сейчас как раз половина двенадцатого. Это означает… что мне пора. Я люблю встречать рождество дома.
Он соскальзывает с кресла и встает — в глазах напряжение от сделанного усилия. Подходит к миссис Уивер и, как маленький мальчик, протягивает руку. Она с сомнением пожимает ее, то же самое делает Уивер.
— Счастливого рождества, — говорят они друг другу.
— Не провожайте меня, — предупреждает их Слоумер. — Я сам сумею добраться до черного хода. На всякий случай я подъехал туда — так безопаснее. А молодого человека я попрошу пойти со мной и присмотреть, чтобы у меня не вышло никаких неприятностей с вашими веселыми гостями.
Я не знаю, соглашаться или нет. У меня еще есть надежда, что Уивер настоит на том, чтобы самому проводить Слоумера, и я, может быть, останусь здесь с Дианой. Но Уивер молчит.
— Еще раз до свиданья, — говорит Слоумер. — Примите мои наилучшие пожелания на рождество и на новый год.
Я выхожу вслед за ним и закрываю дверь спальни.
На площадке он останавливается и говорит:
— Я не хотел оставлять вас наедине с этими двумя хищниками. Если вам не трудно, помогите мне спуститься по лестнице.
На ступеньках тут и там расположились усталые парочки в первой стадии праздничного утомления. Пока мы пробираемся между ними, я успеваю разглядеть, что у Слоумера изуродован правый бок: под мышкой на уровне ребер фрак вздувается бугром. Его, по-моему, никто не узнает — они уже на это не способны. В кухне полно народу, но мы благополучно выбираемся наружу.
Усаживаясь за руль специально оборудованной машины, Слоумер говорит:
— Скажите, вы действительно принимали участие в том, что я называю склонностью миссис Уивер к нарушению светских приличий? Другими словами, есть ли доля правды в том, что я слышал?
— А вам какое до этого дело? — говорю я и наступаю на машину, как будто угрожая ему.
— Это, Мейчин, вы должны решать сами, — отвечает он таким тоном, что я понимаю: он посадил меня между двух стульев.
— Нет… Я с ней не спал и вообще ничего…
— Такова, значит, истина, — говорит он. — Насколько мне известно, сезон пока проходил для вас удачно.
— До сегодняшнего дня.
— Ах да… я понимаю, что вы хотите сказать. Но ведь вставные зубы иногда выглядят даже лучше собственных. Какие, вы думаете, у меня?
Он растягивает маленький рот и показывает два ряда мелких белых зубов.
— Да… — говорю я, не зная, что он хочет услышать, — очень хорошие зубы.
— Как вы думаете, это мои собственные или вставные?
— Вставные… а может быть, собственные.
— Вставные, — довольным тоном говорит он, все так же растягивая губы, чтобы я мог посмотреть, как они удобны. — Вы знаете, что оказались в неловком положении перед Уивером?
— Я знаю, что последние несколько недель он меня не очень жалует.
— Теперь вы знаете почему… Ну, не вы первый, кого раздавила эта супружеская пара. Так что не стоит предаваться сожалениям. Вы ведь не католик?
— Нет.
— И никогда не думали перейти в католичество?
— Пока нет.
— Для молодого человека вроде вас это имеет множество преимуществ. Например, своя организация. — Он дает задний ход. — Желаю вам счастливого рождества, — говорит он. Над нижним краем ветрового стекла видна только его голова.
— Счастливого рождества, — отвечаю я.
Настоящий Санта-Клаус — не хватает только хлопьев снега. Я слышу, как Слоумер выезжает на дорогу, потом шум мотора затихает, и я возвращаюсь в дом.
— Значит, вы тот самый Артур Мейчин… регбист?
— Ага, — говорю я.
Она закидывает ногу за ногу, расправляет на коленях край узкой черной юбки и откидывается на подушку посредине дивана. Колени сияют. Когда я делаю вдох, я касаюсь ее плечом.
— Никогда бы не догадалась, — говорит она. — На поле вы совсем не такой.
— Какой?
— Ну… — Она думает изо всех сил. — Как бык.
Когда я сел рядом с ней, я подумал, что видел ее в каком-то табачном магазине. Из-за этого мне теперь кажется, что она похожа на туго набитую сигарету. Я помню, что видел эту подложенную грудь над каким-то прилавком.
— Это Артур Мейчин! — кричит она подруге, которая на другом конце комнаты лапает Мориса.
— Подумать только! — откликается та. — А это Морис Брейтуэйт, Мэг. — Они обе замолкают, чтобы оценить размеры своей добычи.
— Вас зовут Маргарет? — спрашиваю я.
— О да, — отвечает она, как будто это необыкновенное счастье. Мы оба смотрим через комнату на Мориса, который до сих пор сидит полуголый, выставляя напоказ свои синяки.
— Вы, регбисты, народ опытный, — говорит она, смотря, как Морис орудует руками.
Я смеюсь; она резко оборачивается.
— Над чем вы смеетесь? — сердито спрашивает она и вдруг говорит без всякого перехода: — Фу, черт! У вас нет передних зубов!
Она быстро взглядывает на подругу, чтобы узнать, заметила ли та этот дефект.
— Удалил сегодня вечером, — говорю я.
— Вы женаты?
Она разочарована.
— Нет, коплю деньги.
— Приходится, милый. На беззубого не очень-то многие польстятся.
— Правда? А я думал, девушки любят разнообразие.
— Разнообразие! — говорит она. — Конечно, девушки любят разнообразие. Но не настолько.
— Не хватает всего шести зубов.
— Мне, милый, кажется, что это очень много. Ведь самое главное — это впечатление. Увидишь, проснувшись, такую физиономию, и покажется, что губишь молодость за стариком.
— Я не думал на вас жениться.
— Очень вам признательна. Для меня это комплимент.
— Это большой дом, — говорю я.
— Да?
— Вы часто здесь бываете?
— А вы?
— Довольно часто.
— Значит, я не очень.
— А как вы сюда добираетесь, на автобусе?
— Нет, милый. Меня привозит мой друг. Вы не видели его машину, когда входили?
— Я, наверно, пришел раньше. А как зовут вашего друга?
— Лайонел Мэннерс…
Она ждет, чтобы насладиться впечатлением.
— Разве вы о нем не слышали? — спрашивает она с удивлением. — Борется в «Ипподроме» и прочее.
— Особенно прочее, как я слышал.
— Ничего подобного! Пожалуйста, поосторожней…
— Одно время он играл в лиге регбистов, верно?
— Еще бы, — говорит она таким тоном, словно это всего лишь один из его многочисленных второстепенных талантов. — Но он с ними расстался. Сказал, что там не очень-то заработаешь.
С минуту она что-то самодовольно напевает, потом говорит:
— Хочешь выпить, сынок? Этого добра здесь хватает.
Она достает бутылку из ящика возле себя, открывает ее и ловко наполняет два стакана, из которых уже кто-то пил.
— Мэвис, хочешь выпить? — кричит она подруге.
— Нет, — откликается та.
— Этот типчик Уивер скряга каких мало. Для мужчин целый вечер пиво, а для дам сидр.
— Вы пьете пиво? — говорю я.
— А… ну да. Я вас поняла. Пойдем потанцуем?
В соседней комнате громит музыка.
— Не возражаю.
Я трезв, и у меня нет никакого желания любоваться Морисом и его дамой.
Мы входим в соседнюю комнату и начинаем медленно, рывками двигаться под меняющуюся музыку. Я узнаю кое-что из мебели. Кто-то катает длинноногую девку на чайном столике, за которым миссис Уивер угощала меня в ту среду.
— Вы хорошо танцуете, — говорит Маргарет.
— Идете на попятный?
— Нет, сыночек. Я правда так думаю. Вы здорово танцуете. У вас есть стиль. Большинство этих свиней думают только, как бы залезть к тебе в постель.
Мы танцуем и молчим в ожидании, пока у нее в голове завертится новая пластинка. А я пытаюсь представить себе, что значит залезть в постель к богатой дамочке вроде миссис Уивер: всякие ароматы, мягкий матрас, тонкие простыни и уверенность, что это временное соглашение. Никаких обязательств, заранее знаешь, с чем имеешь дело — взаимное удовольствие по обоюдному согласию, без всяких дурацких чувств; хорошее белье. Я смотрю в оба: вдруг она сойдет вниз?
— Вы знаете, мои подруги лопнут от зависти, когда я скажу им, что была с вами.
— Значит, я знаменитость.
— Почему вы так думаете?
— А почему они лопнут от зависти?
— А… понимаю… Только не вздумайте задирать нос из-за того, что вы мне понравились. Без зубов и все такое. Девчонки думают, что парни из городской команды купаются в золоте. Странно: смотреть на борьбу куда интереснее. Лайонел — хороший борец.
Мы продолжаем танцевать, и я говорю:
— Фрэнк Майлс, наш капитан, тоже занимался борьбой, когда был помоложе.
— Он-то? Можете мне про эту дубину не рассказывать. Лайонел сразу его положил… Два раза.
— Раз в две недели ему ломали спину, — говорю я.
Она обдумывает мои слова и чуть-чуть наклоняется через плечо, проверяя в порядке ли ее собственная спина; потом она спрашивает:
— Ну и как же он?
— А в остальные недели он побеждал.
Через два шага она смеется.
— Как же это она так быстро у него заживала?
— А он ее не ломал. Я поджидал его с машиной позади «Ипподрома», а Фрэнк, только его уносили, хватал одежду и добегал до автомобиля, прежде чем собиралась толпа поглазеть, как его вынесут. В раздевалке повесили колокол с кареты «Скорой помощи», и один человек — Джонсон — звонил в него.
— Ну-ка, — говорит она, поднимая юбку выше колен, — потяните. У меня тут тоже колокольчики.
Я протягиваю руку.
— Нет, не здесь. Слишком уж вы торопитесь. — Она отстраняется. — Не распускай руки, дружок.
Успокоившись, она говорит:
— Вы сказали, что у вас есть машина?
— «Ягуар».
— Наверное, старый.
— Двухлетний.
— А что вы делаете, когда не валяете дурака?
— Разговариваю с вами.
— Где ваша машина? Здесь?
— Нет. Она дома.
— Ловко вывернулись.
— Спросите у типа позади вас.
Она оборачивается и видит члена парламента. Он холодно смотрит на нее.
— Его? Я не могу. Я же с ним не знакома.
— Он не обидится. Спрашивайте. На таких, как вы, он и держится.
— Ну, ладно. Не читай мне мораль. Эй! — окликает она члена парламента. — Эй, приятель, какая машина у Артура Мейчина?
Он снова смотрит на нее через плечо Джудит.
— Если я не ошибаюсь, «ягуар».
— Старый?
Он спрашивает у Джудит и говорит:
— Кажется, почти новый.
Мы опять молча танцуем. От нее чуть-чуть пахнет духами и потом, от меня чуть-чуть пахнет затхлой водой.
— Где вы работаете? — спрашивает она.
— У Уивера.
— Очень удобно. Он всем своим рабочим позволяет хозяйничать у себя в доме?
— Зависит от того, какие рабочие. А вы где работаете?
— А какое это имеет значение?
— Просто мне показалось, что я видел вас в какой-то табачной лавочке. Вы продавали папиросы.
— Я уже сказала: какое это имеет значение?
Музыка обрывается, но тут же начинается снова — кто-то, пошатнувшись, завел радиолу. Комната пустеет. Вечерние гости начинают разъезжаться, а ночные устраиваются передохнуть. Теперь с Джудит танцует мэр. Его глаза стрелочника тускло поблескивают над ее спиной.
— Может, уйдем отсюда? — говорит Мэг. — Мэр действует мне на нервы. Слишком у него добродетельный вид.
В холле Томми Клинтон раскачивается под елкой, на него дождем сыплются иголки. Его девчонка помогает ему устоять на ногах. Увидав Мэг, он говорит:
— Ну, как понравилось… столько времени взаперти со стариной Артуром. Я всегда говорил, что в этой комнате чувствуешь себя уютно, как дома. Это я… — говорит он, тыча в себя пальцем и стараясь не рыгнуть. — Это я вас запер… А сейчас я вас выпустил. Вот только что… Постой-ка, Артур! Я знаю эту куклу. Это юбка старины Мэннерса. — Томми кладет руку ей на плечо. — А ты знаешь, юбка Мэннерса, что это я тебя сейчас выпустил?
— Это тебя, наверное, сейчас выпустили, пьянчуга! — взбеленилась она. — Пора бы запереть тебя снова!
Клинтон щурит слезящиеся глаза и смеется.
— Сразила наповал. Слышала? — обращается он к своей девице. — Она умеет говорить! Жаль, что старины Мэннерса тут нет. Он рассказывал, что его стерва все умеет, только не говорить.
Клинтон, шатаясь, выходит на террасу и приваливается к стене. Разбитое стекло сыплется на аллею.
— Арт, старина, ты ведь не сердишься, что я тебя запер… Это просто шутка, понимаешь. Рождество и все такое… Я напился до бесчувствия и забыл, а то я бы выпустил тебя раньше. Честное слово. — Ломая сучья, он исчезает в аллее. Девица идет за ним.
— Он из городской команды? — спрашивает Мэг.
— Это Томми Клинтон.
— Клинтон. Я не забуду. Я расскажу Лайонелу, как он со мной разговаривал, и тогда посмотрим, что останется от мистера Клинтона. Попомните мои слова.
— Они с вашим Лайонелом друзья.
— После того, что ему я расскажу, они больше не будут друзьями.
Она ведет меня в первую комнату, но там заняты все стулья и большая часть пола.
Морис ушел.
— А где комната, про которую он говорил? — сердито спрашивает Мэг. — Может, она свободна?
— Вряд ли. У меня все равно нет ключа.
— А вы живете далеко отсюда?
— На другом конце города. Да и ко мне нельзя.
Наверху вдруг снова запевают рождественскую песню. В гостиной член парламента выводит тирольские йодли. Он недавно отдыхал в Швейцарии. Мы тащимся назад в холл. Я захватываю с собой бутылку эля и выпиваю ее, пока мы стоим там. Потом иду назад, беру другую бутылку и выпиваю ее тоже.
Вдруг из гостиной появляется Джудит. Она подходит и крепко целует меня в губы. Это продолжается несколько минут. Я открываю один глаз и гляжу на Мэг. Она рассматривает что-то в другом конце комнаты. Мэр уставился на нас и изо всех сил старается казаться довольным. Джудит отпускает меня и говорит Мэг:
— Не сердитесь, дорогая. Он же стоит под омелой. И вы не теряйтесь. А где Морис, Тарзан?
— У него турне.
— Досадно. Мы уезжаем. Мэр решил, что вечер не удался, и мы едем в его обитель.
— Что же вы собираетесь там делать, чтобы не вспоминать про тех, кто здесь?
— Звонить в колокола, Тарзан! Ведь уже рождественское утро!
Она убегает наверх.
— Сразу видно, что это за птица, — говорит Мэг. Она как будто случайно подходит совсем близко и задевает меня острием левой груди. — Удивляюсь, что мужчины льстятся на такое.
— Я тоже удивляюсь.
— Вы что-то бледный, — вдруг говорит она. — Вам нехорошо?
— Нет.
— Мне самой что-то не по себе.
— Идите-ка вы наверх, найдите для нас свободную комнату, а потом возвращайтесь за мной. Я тут пока немного посижу.
— Может, вы меня подбодрите? А то у меня не хватит духа подняться по всем этим ступенькам, — говорит она.
Я наклоняюсь и целую ее в губы. Она сует руки мне под рубашку и обнимает меня.
Я сижу под елкой, пока Мэг не исчезает на лестничной площадке, потом начинаю думать, не попробовать ли в последний раз отыскать миссис Уивер. Минуты через две я решаю, что тут все кончено, тем более в такой час ночи; я подымаюсь, захватываю в первой комнате пива, сколько могу унести, и выхожу из дома. Мне трудно привыкнуть к мысли, что я мог бы получить миссис Уивер. Даже Слоумер считал, что это возможно, а другие, значит, и подавно. У меня слюнки текут.
«Бентли» заперт. Я пробую все дверцы и только потом замечаю, что люк до сих пор открыт. Я забираюсь внутрь и шарю в поисках моего пальто и сумки с игрушками. Сажусь, засовываю пиво в сумку и натягиваю пальто. Тут мне приходит в голову, что хорошо бы уехать на этой машине домой. Скажу миссис Хэммонд, что это подарок ей на рождество. Провожу рукой по приборному щитку, но Уивер унес ключи с собой.
Я снова выбираюсь на аллею и ударом о переднее крыло сбиваю с бутылки крышку. Иду к воротам напрямик по тропинке и на ходу глотаю пиво. Перед самыми воротами вижу в телефонной будке Томми Клинтона и его девицу. Непонятно, вызывают ли они такси или для разнообразия отдыхают в вертикальном положении.
Я устал, тревожусь о зубах и без передышки пью эль. Это немного подхлестывает мои мозги.
Я думаю о ногах миссис Уивер и о ее толстых лодыжках.
Пока дорога не сворачивает по направлению к городу, мне видна вся долина, до самого Стокли — вон шахты, четко выделяются малиновые и оранжевые пятна коксовых печей, и небо над ними зловеще багровеет. Фрэнк, наверное, сейчас лежит и спит в своей кровати главы семейства. Несколько минут вокруг нет ничего живого, кроме Стокли, потом я ныряю в черноту выемки и слышу, как сеть проводов поет и стонет у меня над головой и как гулко отдаются мои шаги. Сквозь верхушки деревьев пробивается свет, а внизу прямо передо мной тускло мерцают желто-красные языки газовых фонарей кирпичного завода. Постепенно становятся видны городские огни. Где-то в долине пыхтит, разрывая тишину, паровоз товарного поезда. А я срываю крышку еще с одной бутылки.
Перелезая через забор товарной станции, я роняю пакет: одна из двух оставшихся бутылок разбивается. От обеих проклятых кукол несет пивом. Я вытираю их носовым платком. Поезд для Йена, целый и невредимый, гремит в картонной коробке. Поднимаю сумку и, чтобы сократить дорогу, иду через пути.
Повсюду скрещиваются и расходятся рельсы. Откуда-то снизу доносится медленное и надрывное пыхтенье товарного поезда, взбирающегося по склону. Эхо повторяет его, все приближаясь, в низком тумане, сочащемся из глубины долины. Я здесь никогда раньше не был. Наступаю на рельс и чувствую, что он слегка подрагивает. Надо остановиться. И сзади и спереди шпалы.
За спиной слышится легкое посвистывание, я оборачиваюсь и вижу огромный желтый водянистый глаз.
— Какого черта ты тут делаешь? — спрашиваю я.
Глаз шипит, потом вдруг с грохотом бросается на меня. На мгновение эта штука вдруг сворачивает, ворча и растягиваясь, а потом дергается и мчится в прежнем направлении. Рельсы вибрируют и содрогаются. Они сотрясаются. Под водянистым глазом в две струи хлещет пар. Я спотыкаюсь о шлак, рассыпанный между шпалами.
Глаз проносится мимо. Он плюет на меня, обдает мелкими брызгами, и я чувствую жар его огромного черного тела. Секунду на мне горит рыжий огонь, потом снова становится холодно и темно. Теперь в тумане исчезает красный глаз.
Я без конца спотыкаюсь о рельсы, которые кто-то только что здесь накидал. В другом конце станции мычит скот. Я слышу голоса и вижу покачивающиеся фонари. Впереди раздается скрежет вагонного тормоза, переходящий в постукиванье, и мимо скользят одна за другой длинные темные тени, раскачиваясь и похрюкивая, как вереница недовольных свиней. Пахнет мокрым углем и жиром. Я останавливаюсь и допиваю оставшийся эль. Мимо идет человек, он размахивает фонарем, не видя меня. Но когда я, топая, бегу через последние рельсы, потом по куче шлака и перелезаю через забор на улицу, он слышит и останавливается. Теперь я оглядываюсь и вижу красные, оранжевые, зеленые сигнальные огни, а внизу багровое пятно жаровни стрелочников. Отца я на станции не встретил.
На ночной стоянке еще есть такси, и около половины четвертого я попадаю на Фэрфакс-стрит; она похожа на склеп. Я предупредил, что вернусь поздно, и миссис Хэммонд дала мне ключ от входной двери. Прежде чем войти в дом, я отпираю свою машину и достаю с заднего сиденья подарок, который я ей приготовил. Он тяжелый. Я старательно завертываю его в бумагу и громко хлопаю дверцей. Но свет не зажигается. На длинной узкой улице с кирпичными домами пусто, только стоит моя машина.
В кухне на столе три чашки, блюдца и тарелки с крошками рождественского пирога — чтобы я сам догадался, что у нее были гости. В камине блюдце молока и еще одна тарелка с почти нетронутым пирогом.
Она, наверное, ждала меня, может быть, даже приоткрыла дверь спальни, чтобы не пропустить, когда я приду. Я слышу, как она спускается по лестнице, и засовываю сверток за диван. Она входит, когда я достаю из сумки игрушки.
— Очень поздно, — шепчет она. — Вы только что вернулись? — Она босая, на ночную рубашку накинуто пальто. — С вами ничего не случилось?
— У меня была чертовски веселая ночь, если вы об этом… А к вам, как я вижу, кто-то приходил?
— Двое, — с довольным видом говорит она. — Вы их не знаете.
— Кто же это?
— Нечего злиться. И только потому, что вы не знаете всех моих знакомых. — Она совсем как молоденькая девушка. Глаза тут же загораются от радостного волнения и от того, что у нее есть секрет. — Приходила сестра Эрика с мужем.
— Я не знал, что у него была сестра.
— Вот, вот! Так и знала, что вы скажете что-нибудь такое. Ну, так у него была сестра. Эмма… Комптон. Они про вас слышали. — Она потирает руки, как будто их приход был ей очень приятен. — Про регби и вообще. Они все спрашивали, какой вы. Ее муж ходит на стадион, когда вы играете. А вот… — она тихонько смеется и берет карточку с каминной доски. — Вот… посмотрите и скажите, что вы думаете.
На фотографии, уже немного пожелтевшей, стоят, обнявшись, три девушки и смеются так, словно в жизни не видели ничего смешнее фотоаппарата. Все три в комбинезонах — в комбинезонах военного времени — волосы завязаны косынками.
— Это вы! — Я не могу скрыть удивления.
Она! В середине стоит она, немного откинувшись назад, на лице и на губах солнце и ничего скрытого, все наружу. Обыкновенное, ничем не омраченное девичье лицо.
— Справа Эмма — это было до того, как я познакомилась с Эриком. Она нас и познакомила.
— Что вы делали? Где это…
— Снято во время войны. Мы работали на артиллерийском заводе в Мойстоне. Делали бомбы. Видели бы вы нас тогда! — Ее лицо все еще сияет, как у ребенка. — Нам приходилось каждый день вставать в шесть утра, чтобы попасть на специальный поезд. Он тащился по всей округе, пока добирался до Мойстона, и всюду подбирал людей. Одни женщины! Доставалось же нам иногда! Вон там сзади видно несколько зданий — все замаскированы. Один раз во время работы нас даже бомбили. Эмма пришла, и мне все так ясно вспомнилось…
— Вы тогда еще не были замужем.
— Нет. — Ее глаза тускнеют и гаснут. — У меня были знакомые ребята… Нам было весело.
— А когда вы вышли замуж?
Раньше она на меня не смотрела. А весело оглядывала комнату, смущаясь, вспоминая. Но теперь она сникает и оборачивается ко мне.
— После войны.
— Вроде немного поздно?
— Я должна была ухаживать за отцом. И больше сидела дома. Наверное, потому мне так нравилось работать в Мойстоне.
— Значит, вы вышли замуж, когда ваш отец умер?
Она качает головой и, кажется, не знает, что сказать.
— Нет, я ушла из дома. Я больше не могла… Я старела. Он, наверное, думал, что я должна оставаться с ним до… не знаю, сколько еще. Мы поссорились, и я ушла и вышла замуж за Эрика. С тех пор я его больше не видела и вряд ли увижу. Слышала только, что его отправили в какую-то богадельню. Господи! — Девичье лицо исчезает, она смотрит на меня, застыв от ужаса и изумления. — У вас нет передних зубов!
— Кое-какие остались, — говорю я. Положив фотографию, я иду к раковине и смотрю в зеркало — я еще ни разу не решился посмотреть. — Не очень-то я красив, верно? Постарел на десять лет. Как по-вашему?
— А я-то не могла понять, почему вы так странно говорите, будто пришепетываете. Я думала, вы выпили. — Она дрожит от холода и начинает беспокоиться.
— А зачем в камине блюдце с молоком и пирог?
— Для Санта-Клауса. Молоко для его оленя. И не смейтесь. Линда сказала, что ночью холодно, и ему это будет приятно, и том, кто о нем подумал, он оставит больше подарков.
— Оленя я, правда, не прихватил, но рад, что обо мне подумали. — Я отпиваю молоко. После пива оно кажется противным и обжигает холодом. Мыши уже попробовали пирог. Миссис Хэммонд смотрит, как я отставляю его, и говорит:
— Вы дрались?
Нет. Мне вышибли зубы, а зубной врач удалил корни. Шесть штук. Пять гиней. У меня чертовски невыгодная работа.
Она долго и внимательно разглядывает мое лицо.
— Вид у вас неважный.
— Это я уже слышал.
— От какой-нибудь девушки?
— А кому еще есть до меня дело?
Она умолкает, пытаясь представить себе, как я провел вечер.
— Значит, вы все-таки поехали к Уиверу?
— Да.
— Вы выглядите совсем больным. Вам никуда не надо было сегодня ходить. По радио после передачи новостей сказали, что вы ушли с поля, но через несколько минут вернулись. Я не думала, что это серьезно…. Вот простудите десны, тогда узнаете.
— Это я тоже слышал, и еще много всего.
— От какой-нибудь другой девушки?.. Кажется, их это не очень отпугивает.
— Не жалуюсь… Что делать с этими игрушками?
— Я возьму их с собой и положу детям в чулки.
— Для вас у меня тоже есть подарок. Хотите получить его сейчас?
Она быстро оглядывает комнату.
— Где же он?.. Нет, не надо, пусть все будет как положено.
Я гашу свет, и мы идем наверх.
— Черт возьми, я бы ни за что не догадался, что вы делали бомбы.
Она смеется; когда мы доходим до площадки, я спрашиваю:
— Почему бы вам не пойти ко мне? Ночь холодная, а меня нельзя оставлять одного. Ты же знаешь, что мамочка всегда спит с Санта-Клаусом.
Она держится за ручку двери своей спальни, потом гладит рукой панель.
— Хорошо, — говорит она. — Но только на рождество, так и запомните.
Часть вторая
1
Обедать я отправился во двор и уселся на бетонный парапет над рекой. Низко осевшая баржа продиралась сквозь грязно-коричневую воду, пенившуюся, как скисшее пиво. Внизу подо мной поднятая волна глухо рычала, набегая на гальку. Матрос привязал длинный румпель веревкой и швырнул за корму ведро. Несколько минут оно тащилось за баржей, потом он поднял его наверх и выплеснул воду в узкий проход над трюмом. Вернувшись к румпелю, он подтянул его, так как баржу уже начало сносить.
С нового года я стал часто ходить сюда обедать. Обычно здесь собиралось несколько человек из разных цехов и лабораторий; ребята усаживались между стальных и чугунных болванок или играли в футбол на свободном месте около конторы. Люди постарше, не приставшие к нашей компании, ели, уставившись на коричневую воду, как будто эта сточная канава, называющаяся рекой, была для них единственным привычным зрелищем во всей округе. Но сегодня было холодно и ветрено, хлопья пены взлетали в воздух над шлюзом напротив и заводская вонь висела над самой водой. Насколько я мог разглядеть, больше никто во двор не пришел.
И вдруг я увидел Уивера, осторожно пробиравшегося между рядами металлических балок. Он оказался совсем близко от меня раньше, чем сообразил, на кого он наткнулся.
— Привет… Артур! — машинально сказал он.
Это была наша первая встреча после сочельника.
Я с облегчением услышал, что он все еще называет меня Артуром.
— Давно вы приходите сюда обедать? — спросил он, от неожиданности вступая со мной в разговор.
— Да нет, недавно. Когда хорошая погода.
— Заводская столовая вас не устраивает? — В его голубых глазах загорелся огонек, на губах появилась улыбка.
— Приходится экономить, — ответил я многозначительно. — Никогда не знаешь, что будет завтра.
Улыбка завяла и испарилась. Сложив руку горстью, он решительно смахнул пыль с бетона, поддернул на коленях брюки и кивнул, чтобы я сел рядом. Прямо пахнуло чем-то прежним.
— Я давно собирался потолковать с вами, Артур, — сказал он и покосился вниз, проверяя, не прикасается ли его костюм к моему комбинезону. — После этой отвратительной сцены… которую устроил Слоумер. В сочельник. Я полагаю, это всех нас несколько оттолкнуло друг от друга. Собственно говоря, Слоумера нельзя приглашать в общество. Но как бы то ни было, я готов забыть эту мерзкую историю, если это может послужить вам утешением.
— Я бы с радостью забыл.
Он опять улыбнулся — по-настоящему.
— В таком случае можно считать, что со всеми обидами между нами покончено?
Он упрямо ждал моего «да», а потом выставил перед пиджаком руку. Мы обменялись рукопожатием настолько энергичным, насколько это возможно сидя.
— Как ваши зубы? — спросил он. — Райли показывал мне счет. Весьма внушительно. Надеюсь, они вас устраивают.
Я улыбнулся специально для него, и он критически осмотрел мой рот.
— Выглядят они, во всяком случае, прилично.
— Говорят, я помолодел, — сказал я.
— Правда?
— А вам как кажется?
— Видите ли… вы мне никогда не казались старым. Наверное, поэтому я не заметил, что вы помолодели. По-моему, их невозможно распознать, то есть догадаться, что они искусственные.
Носком башмака Уивер начертил в металлической пыли круг. Потом провел через него черту.
— Да и еще одно, раз уж мы заговорили о том не слишком приятном вечере, — сказал он. — Вполне возможно, что вы об этом не слышали, но полиция пытается найти вора, укравшего в ту ночь драгоценности из спальни моей жены. Стоимостью почти в четыреста фунтов.
— Я ничего об этом не слышал.
— Я упомянул об этом на тот случай, если полиция сочтет нужным вас допросить — чистейшая формальность, разумеется, но вам могло быть неприятно. А вы совсем ничего не слышали?
— Ни слова… Их украли в начале вечера или в конце?
— Не знаю, мы заметили пропажу только на следующее утро — рождественское утро, когда миссис Уивер стала собираться в церковь.
— Мне очень неприятно, — сказал я неуверенно.
Я вдруг понял, что начинаю относиться к Уиверу, как к Джонсону, — на этой кляче больше никуда не уедешь. Я презирал его за то, что он размазня — такая размазня, что позволяет чужим пользоваться своими деньгами, своими драгоценностями, своим домом. Для него враги — это те, кто не желает пользоваться его благодеяниями. «Я готов помогать всем» — это был его девиз. Никто не принимал его всерьез: слишком хорошо — наверняка вранье.
— Больше всего меня расстраивает не пропажа драгоценностей, — продолжал Уивер, — а то, что их взял кто-то из пришедших на вечер. Помните, Слоумер говорил, что я вообще не доверяю людям, — каким же запасом доверия должен обладать человек? Они не удовольствовались тем, что сорвали половину черепицы с моей крыши, а в доме переломали все, что только смогли, нет, им понадобилось еще красть. Вот скажите, Артур, как нужно обращаться с этими людьми? Если вы относитесь к ним, как к собакам, — так, как они относятся к вам, — какой-нибудь Слоумер заявляет, что вы недостаточно гуманны, если вы обращаетесь с ними по-человечески, они садятся вам на голову.
— Это я сорвал вашу черепицу. Я заплачу за повреждения. Конечно, мне нужно было сказать вам об этом раньше.
— Я рад, Артур, что вы все-таки сказали — я ведь это знал. В полиции решили, что вор таким путем проник в дом, хотя одному богу известно, откуда они взяли, что в ту ночь кому-то понадобилось проникать в дом таким сложным путем. А мне объяснил Джордж — он сказал, что вас заперли в комнате.
Я терпеливо слушал, а он растолковывал мне, как именно он собирается замять эту идиотскую историю и как мы должны ее забыть — от начала до конца. Говорил он не очень убедительно. Я повторил, что заплачу за черепицу, и он не стал возражать. Еще он мельком сказал, что Джордж Уэйд вернулся в два часа ночи искать собаку.
— И как, нашел? — спросил я.
— Нет, ее нашел Джонсон — на следующее утро, когда пришел убирать… Сад был похож на поле сражения. Если бы она сдохла, кажется, это было бы последней каплей. Когда Джонсон подобрал ее, она совсем ослабела. Вы ведь знаете, как она привязана к старику Джорджу. А все-таки… Очень было смешно, когда Морис ее выпустил. Положитесь на Мориса! Он весь действие. У этого парня за всю жизнь не было ни единой мысли в голове.
Еще одна низко сидящая баржа с углем проплыла мимо нас в сторону электростанции. Стук мотора заглушил все звуки на реке. Баржа резала воду, как пласт резины, который собирается в толстые тугие складки, а потом снова разглаживается. Над коричневой пеной кружили две белые чайки.
— Вы ведь раньше не были знакомы со Слоумером? — словно невзначай, но многозначительно спросил Уивер.
— Нет.
— Видите ли, мне показалось, что он… Уивер пощипывал подбородок, точно женщина, у которой пробивается борода, — он говорил так, словно хорошо вас знает, и я подумал, что вы уже встречались.
Уивер смотрел за реку, где разноцветные тюки шерсти — желтые, красные, синие — громоздились на больших деревянных тележках.
— А как вы находите Слоумера, Артур? — Он улыбался, но лицо оставалось серьезным.
— Наверное, он очень умный… мне трудно судить.
— Он вам не понравился?
— По-моему, он не хочет нравиться. Может быть, он стал таким из-за того, что ему долго причиняли боль.
— В таком случае он научился делать из этого развлечение, — Уивер почесал верхнюю губу холеным указательным пальцем. — Мне показалось странным, — снова заговорил он, — что Слоумер так о вас печется.
— А мне показалось, что от его попечения на мне не осталось живого места. Как будто я боксерская груша, только для того и подвешенная, чтобы по ней лупили кулаками.
— В самом деле, Артур? — переспросил он с облегчением, почти улыбаясь.
— Только вы ведь этому не верите, — сказал я.
— Дайте я объясню вам, Артур. Я готов признать, что были случаи, когда я пытался ставить вам палки в колеса, — часто для вашей же собственной пользы, как я ее понимаю. Например, в ноябре. Вы, вероятно, думаете, что я сводил с вами счеты… Не отрицаю, что я мог быть не вполне беспристрастен. Но каждый раз, когда я предлагал заменить вас Мак-Ивеном, большинство голосовало против. Меня, если хотите, убеждали изменить точку зрения. А у вас тогда была дурная полоса. И чаще всего переубеждал меня Слоумер. Конечно, не сам он лично, как вы понимаете. Но тем не менее он, так как возражали мне те, кто — это всем известно — представляют его точку зрения в комитете. Скажите теперь, что бы вы подумали на моем месте?
— Я понимаю, что вы хотите сказать, — я смотрел на его руки, которые чуть-чуть дрожали. — Так это или нет, я, по-моему, честно заслужил право играть в этой команде.
— Разве я это отрицаю? — Он поднял правую ладонь, растопырив пальцы веером, как карты. — Вовсе нет. Я ни в чем вас не виню, Артур. Поймите меня правильно. Я просто хочу вас предостеречь.
Я тут же вспомнил Филипса и его предостережения, но никак не мог сообразить, в чем именно они заключались.
— Вы хотите сказать, что считаете меня своей собственностью во всем, что касается комитета, и вам не нравится, что эту собственность у вас отбирают.
Уивер ничего не ответил. Может быть, он не ожидал, что я так прямо ему это выложу, и растерялся.
— Вы намекаете, что я держался там только благодаря вам?
— Вы сами знаете, что это так, — сказал он с горечью. — Прежде вы мне нравились, Артур. Вы ехали на моей спине — только на моей. С самого начала.
— А теперь вы считаете, что я натягиваю вам нос! — Я был зол на него, зол за то, что он разрешает мне вот так с ним разговаривать, за то, что он не постеснялся вывернуться наизнанку и набиваться со своей дружбой, а потом, решив, что Слоумер меня переманивает, прямо напомнил мне, как я ему обязан и как охотно он мне помогал. Как все мужчины, похожие на баб, он вечно все преувеличивал. И тут я понял, что оба они — и Уивер и Слоумер — вчерашний день. Уивера, может, из-за его добродушия забивают другие, а Слоумер только и думает, как отстоять неприкосновенность своей религии — этой его «организации». Ясно, что оба они выйдут в тираж, и тогда комитет заберет все в свои руки.
— По-моему, Артур, вы не представляете, как много вам помогали, — сказал Уивер. — В этом, очевидно, вся суть.
— Я считал, что заслужил помощь, а вам кажется, что нет. По-моему, суть как раз в этом. Я хорошо играю в регби или плохо?
— Мне больше не о чем с вами говорить, — сказал он, как гордая девица, — смотрите только не перегните палку, вот и все.
Он отошел, прежде чем я успел придумать ответ. У него был короткий шаг. И короткие ноги.
Я остался и до звонка разговаривал со складским сторожем о его голубях.
* * *
Переменился не только Уивер. Миссис Хэммонд тоже вдруг стала другой. Как-то во время воскресной поездки она внезапно заявила:
— А ты не думаешь купить телевизор?
И, заметив мое удивление, добавила:
— Ты ведь не считаешь их вредными, верно?
— Я просто думал, что ослышался: ты — и вдруг чего-то попросила!
— Я так и ждала, что ты это скажешь, — она тихонько улыбнулась. — Но почему бы и не обзавестись телевизором, если у нас есть на него деньги?
— По-моему, ты забыла, что сидишь в девяти телевизорах да еще и на тебе их два.
— Ну вот, ты уже говоришь гадости. Это ты, конечно, про машину и мое манто! А я заговорила про телевизор совсем не потому, что я такая уж корыстная или жадная.
Манто, которое я подарил ей на рождество, я купил по себестоимости у одного торговца, моего болельщика, хотя особым приятелем он мне не был. Потребовалось немало времени и сил, прежде чем я сумел убедить его, что знакомство со мной важнее прибыли от одного манто. Когда в рождественское утро миссис Хэммонд его увидела, она, естественно, сперва обрадовалась такой дорогой вещи, потом сердито, с видом мученицы, отказалась от него наотрез и в конце концов с неохотой взяла. Но все же она гордилась этим манто и ухаживала за ним, как за живым существом. А теперь она ни с того ни с сего вдруг сказала:
— Я содержанка, Артур. Так как же мне еще себя вести?
— А, черт подери! — сказал я. — Но я, конечно, понимаю, о чем ты.
— Так чего же ты удивляешься, что я не хочу притворяться?
— Да, конечно… Только я не вижу, чем это может помочь.
— То есть тебе помочь! А не видишь ты вот чего: когда залезаешь в грязь, то пачкаешься. А у людей, как тебе известно, есть глаза.
Я не понимал, почему она вдруг заговорила об этом, и решил, что проще всего будет стукнуть ее — и делу конец. Я залепил ей пощечину и тут же, едва ее щека покраснела, чуть было не попросил прощения.
Мы продолжали ехать дальше в молчании, которое не могло не наступить после такого происшествия. Ребятишки выпрямились и застыли, потом Йен заплакал, а за ним и Линда.
— Ты что, считаешь себя замаранной? — спросил я.
— А как по-твоему, что мне считать?
Мы перевалили через гребень и покатили вниз через безлистую рощу. Ночью выпал легкий снежок и только-только начинал таять. Неяркое солнце разрывало его на лоскуты, а между ними темнела коричневая земля и бурая трава.
— А вот я не чувствую себя замаранным, — сказал я. — Хотел бы я знать, откуда такая разница?
— Разница в том, — ответила она, сперва помолчав, — что я привыкла быть честной. И вот этого я никак не могу в себе истребить.
— Я ведь сказал, что не чувствую себя замаранным. А ты говорила о том, что у людей есть глаза… о том, что они думают про то, что видят.
— Мне просто хотелось бы чувствовать себя чистой, вот и все, — ответила она и добавила со странной неохотой: — Я ведь вовсе не собираюсь упрекать тебя, Артур. У тебя есть свои чувства. Но только мне хотелось бы иметь право считать себя честной женщиной.
— По-твоему, я должен был бы чувствовать то же, что и ты? Ты на это намекаешь?
— Ты и без меня знаешь, как все это выглядит. Машина… я в манто. Живу в одном доме с тобой. Теперь ты понимаешь, на что я намекаю? И конечно, ничего другого я чувствовать не могу.
— А мне неинтересно, что думают люди, — сказал я. — С какой стати мы должны обращать на них внимание? Пусть их!
— Ты же сам не веришь в то, что говоришь! Тебе интересно, что думают твои болельщики и что говорят люди, когда они говорят тебе, какой ты замечательный игрок. Вспомни-ка, какой ты бываешь после неудачного матча. Бьешь все, что попадется под руку. Бегаешь по дому как сумасшедший. И все только потому, что выронил мяч или еще как-нибудь ошибся. И всегда рассматриваешь свое тело в зеркале. Вспомни-ка, как ты боксируешь перед этим зеркалом и глаз с себя не спускаешь! И нечего говорить, будто… — она задыхалась от обиды, красный след на скуле и виске стал багровым, и от этого ее лицо сделалось еще бледнее. — Ты ведешь себя со мной нечестно, Артур. Говоришь все, что тебе приходит в голову, лишь бы показать, что я должна быть тебе благодарна…
Ее глаза налились слезами, но она не заплакала. Только глаза стали блестящими.
— Я о тех, кто подсматривает и вынюхивает, — вот на них мне наплевать. Правда. И значит, ты ошибаешься. Это просто свиньи, и я о них даже думать не хочу. Пусть идут ко…
— Вот, вот, так у тебя всегда. Рвешься напролом. А если кто-нибудь встанет у тебя на дороге, столкнешь, и все тут. Чуть человек перестает быть тебе полезен, и ты его отбрасываешь. Ты только используешь людей. Вот как меня. Ты ведь не относишься ко мне, как… как следовало бы. Ты даже не знаешь, какой ты с людьми. Вспомни, как ты теперь ведешь себя с Джонсоном. А было время, когда ты просто лип к нему.
— Кто бы говорил! Ведь ты же и испортила то, что было у нас с Джонсоном.
— Испортила! Ничего я не портила. И ты не имеешь права валить на меня такие вещи. Я тут ни при чем. Я только сказала, что мне не правится, когда ты приводишь его в дом. Ну, он мне не нравился! А ваши с ним отношения меня не касались!
— Говори что хочешь, а это ты настроила меня против него.
— Я тут ни при чем, — повторила она тихо, пустив, наконец, воду из глаз. Она посадила Йена к себе на колени. — Ты еще скажи, что это из-за меня ты плохо играешь в свое регби.
Роща кончилась, и теперь мы мчались вдоль водохранилища. Оно было затянуто тонким ледком, а на другом берегу какие-то ребятишки старательно съезжали на санках с холма по тающему снегу.
— Ну, почему ты заводишься? — спросил я. — Ведь я всегда стараюсь держаться с тобой по-человечески. Но что бы я ни делал, ты ни черта не ценишь.
— Прикажешь объяснить почему? Я мать!
— Если ты будешь так к этому относиться, то внушишь то же самое Лин и Йену, когда они станут постарше. Или тебе все равно, что они о нас думают?
— Конечно, нет, — ответила она глухо. — Но ведь ты меня скоро бросишь.
Я чувствовал только, что и против воли она все время старается уколоть меня побольнее. По ее лицу я догадывался, что она этого не хочет, но что-то подстегивало ее изнутри, и она начинала язвить — так было почти каждый день, почти в каждом нашем разговоре. И ведь я постоянно ей показывал, что она становится все нужней для меня, и все-таки она продолжала поступать так. Казалось, она и хотела быть мне нужной и пугалась этого. Она боялась отрезать себе отступление и поэтому продолжала отталкивать меня, причиняя себе такую же боль, как и мне, и раздувать между нами огонь мучений, с которыми ни она, ни я не умели справляться.
Когда мы взлетели на горбатый мостик у верхнего конца водохранилища, машина вдруг вздрогнула, что-то загремело и упало. Но машина продолжала нестись дальше, и я не стал останавливаться. Мы замедлили ход, проезжая через деревню. Потом въехали на противоположный гребень долины и вновь увидели ребятишек с санками. Йен и Линда перестали плакать, заглядевшись на них. Мы обогнули подножье холма, с которого они катались. Это был старый террикон; за ним виднелось полуразвалившееся строение заброшенной шахты.
— Это я в первый раз слышу, — сказал я. — Что я уйду.
— Все когда-нибудь бывает в первый раз.
Я вспомнил, что сказал Уивер в тот вечер, когда он подвез меня домой после подписания контракта. «Удивительно, как мертвецы постоянно напоминают о себе». Эрик, кем бы он ни был теперь, кем бы он ни был в прошлом, стоял… не между нами, а позади нее.
— Неужели ты не понимаешь, что ты говоришь? — спросил я. — Неужели ты не понимаешь, что ты делаешь? Превращаешь наши отношения во что-то дешевое, не имеющее никакой цены. А ведь все могло бы быть наоборот, если бы ты только захотела!
— Я же не говорю, что они не имеют никакой цены, — сказала она, думая тяжело и неуклюже. — Цена есть у всего. Но если что-нибудь дешево, так это сразу видно. Сразу видно, когда у вещи цена дешевая.
— Мне и в голову не приходило, что на наши отношения можно смотреть вот так.
Некоторое время мы молчали.
Потом я сказал ей:
— Послушать тебя, так подумаешь, что ты хочешь спихнуть меня какой-нибудь другой женщине.
Она засмеялась.
— Ну, тут ты и без меня обойдешься, верно? Говорят, женщин у тебя хватает, как и у твоего Мориса.
— Ты думаешь, я сплю с кем-нибудь еще?
— Думаю! А что тут думать? Или ты меня дурой считаешь?
— А если ты так уверена, почему же ты меня еще не выгнала?
— Я ведь не жалуюсь!
— И тебе все равно, что у меня есть другие?
— Может, и не все равно! — Глаза у нее высохли. След моей руки все еще горел на ее лице, и к нему добавились две полоски от слез. — Только я не из тех, кто жалуется.
— А на что тебе жаловаться? У меня ведь никого другого нет!
Она засмеялась своим странным смешком. Коротким и глухим.
— Твой Морис, наверное, думает по-другому!
— «Твой Морис»… Почему ты всегда говоришь «твой Морис», «твой Джонсон»? И моя мать не лучше: «твоя миссис Хэммонд»…
— Я так и слышу, как она это говорит. Очень хорошо себе представляю. Наверняка твоя мать была похожа на меня, когда была помоложе.
— Я на это и отвечать не стану. Ты до того уж все перевираешь, что спорить с тобой бесполезно.
— Ну и не спорь, как будто мне это надо. И не отвечай ничего.
Я открыл окошко, и в машину ворвался холодный воздух.
— Если я остановлю машину, — спросил я, — а ты снимешь манто и мы все вылезем и пойдем назад пешком, ты почувствуешь себя чище?
— Нет. Почувствую только, что это глупо. Что от этого изменится? Вот ты всегда так: похвастать, сделать напоказ. Я уже говорила тебе, Артур: как бы ты ни спорил, а для тебя главное — произвести впечатление. Сделать что-нибудь такое — и ты думаешь, это кого-нибудь обманет?
— Но ведь тебе это не понравилось? Тебе не хочется возвращаться пешком столько миль?
— Конечно, нет. И ребята замерзнут насмерть, даже если мы выдержим.
— А я заверну их в одеяло. Да и теплеет.
— И понесешь их? Ну и будешь ты строить из себя мученика, а что от этого изменится? Я же тебе говорила. Вот о чем я думаю, когда говорю, что ты скоро уйдешь от меня. Ты просто поймешь, что только так сможешь почувствовать себя чистым.
— А я не чувствую себя грязным!
— Ну, значит, тебя хватит еще на одну неделю. Я больше не хочу об этом говорить. И так уж недолго осталось.
Она немного успокоилась — во всяком случае, она начала объяснять детям, мимо чего мы проезжаем, и разговор возобновился, только когда мы перевалили через гребень у замка Колсби и внизу открылся город.
— Ты, по-моему, не понимаешь причины, почему я все это для тебя делаю, — сказал я и вдруг почувствовал себя Уивером — когда он говорил тоном гордой девицы.
— Нет, понимаю. Ты все это делаешь для того, чтобы чувствовать, какой ты добрый, какой ты замечательный; ты ведь любишь думать, что ты замечательный!
— Вот, значит, причина?
— Ну, не знаю… Но ты наверняка думаешь: только поглядите, что я за молодец — содержу вдову и двух ее щенят в придачу. Ну, не герой ли я? До чего же я добрый, раз я это делаю. Содержу их. А ведь я вовсе и не обязан это делать.
— Значит, вот как я к тебе отношусь?
— Я знаю, как ты относиться. Я уже один раз жила с мужчиной.
— Так ты обрадуешься, когда я куплю телевизор?
— Ворчать не стану. Люди ждут, что мы будем жить на широкую ногу. — Она увидела мое лицо и добавила: — Я уже давно перестала радоваться чему бы то ни было — и больше того: я давно уже перестала себя за это жалеть. Но одно я скажу: ты мне помог. Пожалуй, помог не меньше, чем детям. Если бы ты не появился, я, пожалуй, так до конца и разгуливала бы в саване.
— А я думал, что ты начинаешь чувствовать себя счастливой.
— Счастливой! Сказала бы я тебе, да не стану.
— Валяй говори. Не возражаю. Мне хотелось бы выслушать все до конца.
— Ничего, скоро услышишь. Это как болезнь, которую ничем не вылечишь. А от сегодняшнего все только ускорится.
— Так, значит, я покупаю телевизор… И ты сможешь продать его, когда я уйду.
— Конечно, — сказала она серьезно, словно мне многое было неизвестно, а она сообщила бы мне и еще больше, да не может.
В марте у нее к тому же кое в чем изменились и привычки. Она дала себе немного воли. Как-то вечером я вернулся домой с работы и увидел, что она сидит у чайного стола и курит. Заметив, как я удивился, она засмеялась и предложила мне свою сигарету.
— Чего я не терплю, — сказал я, — так это когда женщины курят.
— А почему женщинам нельзя курить? — спросила она, неумело затягиваясь и со смехом выпуская дым изо рта.
— Как-то это непристойно выглядит.
— Ах, непристойно! Понимаю. Мы становимся такими разборчивыми… И уж кому-кому говорить об этом, как не тебе!
— А почему бы и не мне?
— Во всяком случае, командир, я курю, только когда меня никто не видит. А мне нужно отвлечение.
Через неделю она уже курила у себя во дворе, и я понял, что соседи это заметили. На другой день — утром в субботу — я встретил ее в городе, когда шел с Морисом. Она тащила за собой Линду и Йена, несла корзинку и сумку, а во рту у нее торчала сигарета.
— Ну и вид у тебя! — сказал я. — Хоть ты и считаешь себя шлюхой, другим этого показывать нечего.
Она уставилась на меня, так и не посмотрев на Мориса. Ее взгляд из-под бровей обвинял меня в предательстве. Потом она нагнулась, ухватила ребят за руки и поплелась дальше по улице.
— Значит, это и есть твоя миссис Хэммонд, — сказал Морис.
— Ты что, раньше ее видел?
— Нет, — ответил он чуть ли не со вздохом и покачал головой. — Зачем ты ей это сказал, Арт?
— Мне не нравится, что она курит.
— Что это ты, малыш? Прежде за тобой ничего такого не замечалось. Да ведь все юбки, с которыми ты знаком, курят.
— Вот именно. Все, кроме нее. И нечего ей начинать.
— Она ведь не собака, которую ты купил и дрессируешь по своему вкусу, — сказал он. — И говорить ей такие вещи ты не имеешь права. Да еще так, словно она твоя собственность.
— Пока именно собственность. А ей это не нравится.
Мелкие нахальные зубы Мориса открылись в улыбке. Он решил, что я острю. Мы вошли в «Павильон».
В глубине, там, где кончался кондитерский прилавок, швейцар со значком Британского легиона увидел нас и приготовился открыть дверь курительной.
— Мистер Мидлтон просил передать, что хочет поговорить с вами, мистер Брейтуэйт, мистер Мейчин, — сообщил он.
— Что случилось? — сказал Морис. — Ему понадобилась новая машина?
Швейцар чуточку улыбнулся и поглядел на меня через голову Мориса, словно извиняясь.
Внутри, как обычно, собрался весь цвет: директор и главный бухгалтер местного отделения управления угольной промышленностью, довоенный и послевоенный кандидаты в парламент от консервативной партии, так туда и не попавшие, директор начальной школы, секретарь муниципалитета. И у каждого свой кружок приятелей и доносчиков. В дальнем конце сидела кучка высоких толстяков — забытых героев регби, боксер-любитель с не слишком хорошей репутацией и компания привилегированных болельщиков, вечно сующихся с советами. И мэр Ральф Мидлтон.
Кружок Уивера занял столы возле камина, где пылал огонь, и, едва мы вошли, Уивер поманил к себе Мориса. И тут же я увидел, что мэр пересел за единственный свободный столик и помахал мне рукой. Наверное, он этот столик заказал заранее.
— Швейцар предупредил вас? — спросил он.
— Что вы хотите поговорить со мной и с Морисом?
— Ах, значит, предупредил.
Подошел официант, и Мидлтон заказал себе кофе.
— Он долго будет там разговаривать?
— Не могу сказать. Он ведь знает, что вы хотите с ним поговорить.
— Ну что ж, надеюсь, он не заставит нас ждать. У меня к вам с ним важное дело. Даже для такой важной персоны, как Морис Брейтуэйт.
Он говорил холодно и зло и не спускал с меня глаз так, словно не хотел смотреть на Мориса, или так, словно у меня в руках была какая-то вещь, которая принадлежала ему.
Я оглядывал стены, обшитые дубовыми панелями, потолок из дубовых балок и старался не замечать странного выражения на лице Мидлтона. Сквозь облака табачного дыма огненные блики ложились на гербы и латы, украшавшие комнату. Всегда приглушенный тон разговоров, избранность допускающегося сюда общества, отсутствие женщин — вот почему я так любил бывать тут по субботам. Но в эту субботу все испортили — сначала миссис Хэммонд, а теперь Мидлтон, который вдруг начал смотреть на меня так, словно я был виноват в том, что Морис все не шел.
— Сходите скажите ему, что он мне нужен, Мейчин, — наконец распорядился он. — И сейчас, а не завтра!
Я пересек комнату и сказал:
— Извините, мистер Уивер, но Мидлтон совсем взбесился из-за того, что Морис не идет поговорить с ним. У него к нам важное дело. Не терпящее отлагательства, говорит он.
— Да? — Уивер обводил взглядом комнату, задирая и опуская голову, пока не увидел мэра, который в эту минуту расписывался за кофе в своем постоянном счете. — Что случилось, Морри?
— Не знаю, — ответил Морис, и я сразу понял, что он знает. — Сколько, по-вашему, надо продержать его так?
Но я ответил прежде Уивера:
— Это твое дело, Морис. А я пойду и сяду за его столик. Других свободных мест тут нет, — и я вернулся.
— Он идет? — спросил Мидлтон сквозь пар над кофе.
— Сейчас придет. А какое у вас к нам дело?
— Скоро узнаете, — ответил он, и чашка застучала о блюдце, когда он ее взял.
Морис подлетел к нам, как невинный ветерок, и принес свою чашку. Он размешивал кофе, а Мидлтон изучал наши лица, благо они оказались рядом.
— Нам говорили, что вместе мы так и просимся на фотографию, — сообщил ему Морис. Вид у него был обиженный, и я все больше убеждался, что он знает, какое к нам дело у Мидлтона.
Мидлтон только пожал плечами и сказал:
— По-моему, это не смешно, Брейтуэйт. Будьте так добры, избавьте меня от ваших школьных шуточек.
— Ну, а что же вам от нас нужно? — спросил Морис. — Чтобы мы за пятерку провалили сегодняшнюю игру?
— Мне нужно узнать, — он быстро поглядел на нас обоих, — от кого из вас беременна Джудит, моя секретарша.
— Ах, черт! — сказал Морис, переставая смеяться. — И это все? А я-то думал, что вы хотите выиграть в тотализаторе.
— Значит, вам про это известно, — сказал мэр.
— Конечно. Да и все тут, наверное, знают. Во всяком случае, Уивер как раз говорил об этом, когда я вошел.
— А я ничего про это не знал, — сказал я и начал вспоминать, когда я в последний раз видел Джудит и как она выглядела.
— Вот полная невинность! — Морис хлопнул меня ладонью. — Значит, мы оба тут ни при чем.
— Не вижу почему, — негромко сказал Мидлтон. — Из всех ее многочисленных друзей именно вы, по-моему, должны знать, кто мне нужен.
— А почему вы не спросите ее? — осведомился Морис. — Кому же и знать, как не ей? Матери, говорят, всегда знают такие вещи.
— В настоящий момент я предпочел бы обойтись без этого. Будет лучше, если вы сами мне скажете.
— Я с ней знаком не так близко, как вам кажется, — сказал я. — А если то, что вы говорите, правда, то, наверное, ей вовсе не хочется, чтобы вы вмешивались.
Мидлтон как будто обиделся и покраснел.
— Возможно, вам это непонятно, Мейчин. Но дело в том, что я имею по отношению к этой девушке определенные обязательства. Со многими людьми она знакомится только из-за меня и во многих местах бывает тоже только из-за меня. А если слово «обязательства» для вас ничего не значит, то я могу только пожалеть об этом. Сегодня я пришел сюда для того, чтобы установить истину. А вы двое — наиболее вероятная возможность.
— Ну, я прекрасно понимаю ваше положение, — сказал Морис. — То есть вашу тревогу, как бы люди не сказали, что это ваш грешок.
Мидлтон ответил не сразу. Потом он сказал:
— Такие заявления вам не помогут. Конечно, вы можете считать меня дураком, потому что я так с вами разговариваю и задаю вам вопросы. Но Джудит хорошая девушка. Я не хочу осуждать ни ее… ни отца ребенка. Я хочу только одного: чтобы с самого начала дело велось правильно. Вы меня понимаете? — Он внимательно посмотрел на нас обоих. — Я знал Джудит еще крошкой, — продолжал он. — С ее родителями я знаком столько лет, что даже думать об этом не хочется. И это люди, которых я уважаю. Мне кажется, мое положение дает мне возможность помочь им… И я не зря начал с вас двоих. Вы оба, говоря начистоту, наиболее вероятные виновники. Я ведь не слеп, к вашему сведению. Я кое-что видел, — добавил он доверительным тоном, — и я наводил справки, — тут он приложил палец к носу.
Я ждал, чтобы Морис что-нибудь спросил — может быть, что-нибудь неопределенное о дальнейших намерениях Мидлтона. Но он продолжал смотреть на мэра пустопорожним улыбчатым взглядом.
— А насколько вы-то в этом заинтересованы, Мидлтон? — спросил я неуверенно, начиная подозревать, что Морису все равно, кого бы ни сочли виновным. — Это входит в политику муниципалитета или как?
— Если вы спрашиваете, хочу ли я замять это дело, то ответ будет утвердительным. Мне меньше всего нужно, чтобы сумасшедшая субботняя компания из «Примстоуна» и «Мекки» орала об этом на всех перекрестках. Но если вы думаете, что я сам хочу использовать эту сплетню против героев-регбистов, которые расхаживают по городу, будто они его хозяева, то вы ошибаетесь. Именно, учитывая интересы всех и вся, я и хочу, чтобы это дело было улажено надлежащим образом и без лишнего шума. Вам ясна моя позиция, Мейчин?
— Да… И нужен вам теперь только виновник.
— Вот именно, — и он опять посмотрел на нас обоих.
Морис открыл было рот, но тут же снова его закрыл. А потом сказал:
— Ей-богу, Мидлтон, я не понимаю, где вы набрались этих басен.
Мидлтон встал и взял свою фетровую шляпу.
— Очевидно, мне не имеет никакого смысла расспрашивать вас дальше, — сказал он. Его лицо было по-прежнему багровым, а взгляд — растерянным и встревоженным. — Всего хорошего. Желаю удачной игры.
Он медленно вышел, машинально кивнув швейцару в форме.
Уивер, который наблюдал за нами через плечо соседа, теперь вскочил и направился к нам со всей неохотой и нетерпением, характеризовавшими отношения, которые существовали теперь между нами тремя.
— В чем дело, Морри? — спросил он. — Перед матчем вам не следует волноваться… И Артуру тоже. А споры оставьте до вечера или до воскресенья.
Он знал, для чего мы понадобились Мидлтону, и, наверное, считал, что сумеет нас успокоить, если будет говорить без умолку.
— Вам совершенно ни к чему, — продолжал он, — принимать его слова так близко к сердцу. Он кого угодно заговорит до смерти. Если все стрелочники похожи на Мидлтона, понятно, почему поезда всегда опаздывают, черт бы их побрал…
— Он, кажется, думает, что папочка либо Морис, либо я, — сказал я.
Уивер угрюмо посмотрел на меня, прищурив голубые глаза.
— Вы имеете в виду Джудит? На мой взгляд, эта история не настолько серьезна, чтобы Мидлтон мог устроить какие-нибудь неприятности.
Он обнял Мориса за плечи, но Морис расстроенно и сердито стряхнул его руку.
— Все вспыльчивость! — сказал Уивер, обиженный такой выходкой, да еще на людях. Он огляделся, проверяя, многие ли заметили этот эпизод. — Зачем вы себя так ведете, Морри? Образумьтесь, ради всего святого.
— Все эта сволочь Мидлтон! — сказал Морис. — Сует свой грязный нос куда не следует. Надо было бы взгреть его как следует.
Уивер поглядел на меня — может быть, я смогу утихомирить Мориса?
— Будьте осторожнее с Мидлтоном, — посоветовал он ему. — Знаете, что с ним произошло три года назад?
— А что? — спросил Морис и поднял голову, надеясь услышать что-нибудь особенно гнусное.
— Он разъехался с женой. А месяца через два она умерла.
Морис подождал, а потом спросил:
— А я-то тут при чем?
— Ну, вы понимаете, что стали говорить люди. И конечно, он с тех пор ищет случая реабилитировать себя — показать, что он не такой бездушный, каким его изображают. Должен признаться, я был очень удивлен тем, как он вел себя на моем вечере.
— Вот, вот! Он и сам этому, наверное, удивляется, — сказал Морис. — Тогда около нее увивался не только член парламента. Он тоже!
— Ну же, Морис… — Уивер перешел на шепот, потому что Морис уже почти кричал. — Послушайте… — но тут он увидел лицо Мориса, напряженное и злое, и замолчал. Секунду он растерянно смотрел на меня, а потом его глаза загорелись и он сказал: — Остается только одно, Морис: я сам должен поговорить с Мидлтоном и с Джудит.
Может быть, он втайне завидовал Мидлтону, предпринявшему этот крестовый поход, но теперь, когда перед ним открылась возможность самому заняться тем же, он сразу весь подобрался. И даже посмотрел на меня так, словно мы все это время были в наилучших отношениях. Какой случай быть добрым, быть щедрым! И он снова обнял Мориса за плечи, на этот раз куда более уверенно.
— Предоставьте все это мне, Морри, — сказал он. — Я все устрою.
Он как будто не сомневался, что виновник — Морис.
Я договорился в «Павильоне» с одним торговцем, и он обещал прислать в понедельник телевизор по себестоимости. Я дал ему десять процентов задатка. Он, казалось, был рад оказать мне услугу. Я расписался в книжке автографов для его сынка. А потом мы отправились в ресторан отеля «Северный» съесть бифштекс.
Морис в этот день играл хорошо. Даже замечательно. А я — плохо, дальше некуда, и в раздевалке меня встретил улыбающийся Уивер. Стоя в клубах пара между двумя грудами грязи и фуфаек, он сказал:
— Право, не понимаю, из-за чего вы-то тревожитесь, Артур.
Он вновь держался с небрежным дружелюбием, как при нашей первой встрече. И расплывался в улыбках.
— Перестаньте беспокоиться. Вы сегодня играли ужасно. Хорошо, что хоть я знаю почему, — он многозначительно подмигнул мне и отошел к Морису.
Вечером в «Мекке» я увидел Джудит. Под глазами у нее легли тени, но она бодрилась, и никто ничего не заметил бы, если бы все и так уже не знали, что она беременна. И все внимательно приглядывались к тем, кто с ней танцевал, — чуточку отстраняясь, чтобы не соприкоснуться животами, — а бармен из осторожности даже не вступал в разговор. Да, Джудит таскала за собой хорошенькую мину. Только через час мне удалось поговорить с ней с глазу на глаз. Мы топтались в плотной толпе посреди зала. И я заметил, что старательно отстраняюсь.
— Что-то у вас озабоченный вид, Тарзан, — сказала она, возможно стараясь ко мне подлизаться. — Я слышала, что сегодня вы были не очень в форме.
— Да.
— А Морис играл хорошо.
— Ему труднее играть плохо. Но я не из-за этого тревожусь.
— Из-за чего же, Тарзан? Все еще подыскиваете идеальную хозяйку для своей пещеры?
Мне показалось, что она хотела сказать «квартирную хозяйку». Я заметил:
— Я после матча говорил с Уивером. Никогда еще не видел его таким счастливым.
— Ну и что?
— А то, что теперь от его счастливого вида мне делается не по себе… И я хотел бы узнать, что он мог сказать вам сегодня.
— Кто? — удивилась она. Мы остановились. — Я не видела его с рождества. С того самого вечера, Тарзан. Когда вы с Мэг…
— Вы часто врете, Джудит?
— Это еще что? — Она попыталась напустить на себя негодование, и мы снова зашаркали ногами.
— Все здесь знают, что вы беременны от Мориса. Для чего вы притворяетесь? Скажите мне. О чем Уивер говорил с вами сегодня?
Она выскользнула из моих расслабленных рук, бросилась к двери и исчезла в дамской комнате. Многие танцующие остановились, посмотрели ей вслед, а потом — на меня. Я медленно пошел за ней и остановился перед мужским гардеробом напротив выхода.
Через колышущуюся толпу пробрался Морис. Его ярко-розовое пьяное лицо сердито хмурилось.
— Что ты затеваешь? — спросил он. — Что тебя укусило? Уивер же сказал, что все улажено. Ну и оставь ее в покое.
— А я хочу знать, как именно все уладилось. Тебе ведь это тоже должно быть интересно.
— Вовсе нет. Если он замял дело, так не вмешивайся. Он умеет обращаться с такими людьми. Ты дурак, Арт. Ты можешь все испортить. Черт, не хочешь же ты закрутить с ней, когда она в таком положении?
— А я не люблю, когда что-то устраивается за моей спиной. Я могу потерять больше, чем ты. Я не хочу, чтобы на меня наклеивали ярлыки, даже в шутку. Если бы миссис Хэммонд услышала…
Он ждал, чтобы я продолжал говорить про эту домашнюю ссору, и смотрел на меня с угрюмым недоумением.
— Если бы ты вытащил с собой и Джудит! — сказал я ему. — И положил конец всем этим разговорам. Ты ошибся… Почему не сказать об этом прямо? Вонючка ты, Морис.
Он подождал, не будет ли еще чего-нибудь. А потом сказал:
— Я бы убил тебя за это, Арт, не будь ты моим другом! — Его лицо лоснилось и распухало от пьяной ярости. Он вцепился сильными кулачками в лацканы моего пиджака и попытался притянуть меня к себе.
Я стиснул его запястья.
— И я бы тоже, Морис! — сказал я ему. И он выслушал меня с таким напряжением, словно одновременно к нему обращалось еще много голосов.
Джудит вышла из дамской комнаты с подругой.
Мы оба смотрели, как они проходили мимо. Мне вдруг показалось, что Морис пойдет за ней. Он привстал на носки. Потом вновь опустился на пятки и оторвал кулаки от моего пиджака. Я пошатнулся и оперся о стену.
— Я собираюсь потолковать с ней, — сказал я. — А ты идешь?
Он отступил в сторону, проверяя, пойду ли я. И остался стоять. На улице я оглянулся. Мориса у входа уже не было.
Джудит я нагнал на Маркет-стрит. Шел сильный дождь.
— Я отвезу вас домой на машине, — сказал я ей. — Она стоит у «Мекки».
— Она не хочет с вами разговаривать, — сказала подруга, секретарша из школьного отдела.
— Уйдите-ка, — сказал я. — Тут посторонние не нужны.
— Нет. Она останется, — сказала Джудит.
— Послушайте, деточка, я же попросил вас уйти. Если вам интересно посмотреть, что будет дальше, можете постоять на углу.
— Она останется, Тарзан. Я не хочу с вами разговаривать.
— В таком случае, — сказал я, — мне проще будет отправиться прямо к вам домой.
Подруга оживилась по праву посвященной. Подошел автобус, но Джудит не тронулась с места.
— Мы поедем, Джуди? — спросила подруга, смахивая с лица дождевую воду.
— Это подлость, — сказала мне Джудит.
— Если вы вернетесь со мной к «Мекке», мы сможем поговорить в машине.
— Нет. Я с вами никуда не пойду.
— Хватит препираться на улице. Я совсем промок. Решайте быстрее. С кем мне говорить — с вами или с вашей матерью?
Я повернулся и пошел через Булл-Ринг. Через минуту я услышал, что она бежит за мной. Подруга осталась на автобусной остановке.
— Тарзан!.. Да не бегите же так!..
Я остановился под навесом какой-то лавки, и она встала рядом.
— Я хотел знать, о чем с вами говорил Уивер.
— Ну, а вам-то что? Это же вас не касается. — Ее лицо против обыкновения было злым и все в дождевых крапинках. Она еще не могла отдышаться от своей пробежки.
— Мидлтон, по-видимому, другого мнения. Он сегодня разыскивал и меня, а не только Мориса. Вам же известно, что он втихомолку устраивает по этому поводу целую кампанию?
— Да, я знаю. Но ведь у него ничего не выйдет.
— А что говорил Уивер?
Она провела пальцем по запотевшему стеклу витрины, за которым смутно громоздились коробки и консервные банки.
— Он сказал, что поговорит с Морисом, — эти слова появились в облачке пара. — Он сказал, что поговорит с Морисом вместо меня. Ну как, довольны, господин сыщик?
— И больше он ничего не говорил?
— Да вам-то какое дело, Тарзан? По-моему, никто вам тут ничего приписать не может. — Она оглянулась на пустынную, поблескивающую под дождем улицу и на свою подругу, которая ждала на углу.
— Я просто не хочу, чтобы люди думали, будто это моя вина. А раз Морис отмалчивается и начинается мышиная возня и сплетни, то может случиться что угодно. В отличие от большинства я это вовсе не считаю веселой шуточкой.
— Вы преувеличиваете, — сказала она, удивленная моей тревогой.
— Ну, а Уивер с вами о чем-нибудь договорился… или как?
— У вас, по-моему, зуб против Уивера, словно он постоянно устраивает вам какие-то пакости. Честное слово, Артур, вы, по-моему, все-таки не настолько важная персона. Да и на Уивера это не похоже. Он вообще не способен сводить счеты… А уж если вы так хотите знать все, то он предложил мне деньги в случае, если ему не удастся уговорить Мориса. Вот и все, что он сделал. И не думайте, будто он старается от меня откупиться. Вы сами знаете, что Морис всегда плывет по течению, если его оставить в покое. Он и не потрудится подумать, как сделать лучше для себя или для кого-нибудь другого. Ему просто хочется развлекаться… И уж если мы поженимся, так я хочу, чтобы он сделал это по доброй воле, а не потому, что его заставили, или по легкомыслию. И Уивер хочет ему тут помочь. А если он не сумеет убедить Мориса, в таком случае, по его словам, маленький не будет обузой в материальном отношении ни для меня, ни для кого-нибудь другого. Боже правый, трудно представить себе более благородный поступок… А вы — как вы себя ведете?
— У вас есть то, что вы боитесь потерять, Джудит. И у меня тоже!
— Вам не о чем беспокоиться, Тарзан. Еще раз вам повторяю. И бросьте эту слежку.
— Так, значит, вы обещали молчать обо всем, пока Уивер не переговорит с Морисом?
Она кивнула. И мы молча смотрели, как ярко освещенный автобус вдруг заполнил улицу, оставляя две борозды на мокром асфальте. Кто-то прошел мимо лавки. Подруга Джудит забежала в подъезд напротив и уставилась на нас.
— Ну, будем надеяться, что он быстро образумится, — сказал я и вышел под дождь.
— Вы знаете Мориса, Тарзан. Что бы вы сделали на моем месте?
В ее голосе была искренняя мольба. Она проскочила мимо меня и перебежала через улицу. Она плакала. Подруга вышла к ней навстречу, они о чем-то поговорили, и Джудит пошла одна в сторону Булл-Ринга. Подруга отступила под темный навес и смотрела ей вслед. Я поднял воротник пиджака и зашагал назад, к машине.
* * *
Когда я в понедельник пришел домой с работы, телевизор был уже установлен. Они все трое сидели в гостиной и смотрели детскую передачу.
— Ты быстро его купил, — сказала миссис Хэммонд, вскакивая. — А я даже и не знала.
— Я же сказал, что куплю тебе телевизор.
— Ну, и конечно, ты человек слова, — произнесла она медленно. — А поставить я его решила в гостиной. Ведь на кухне я не могла бы от него оторваться. Большое спасибо, Артур, — она чмокнула меня в щеку и приказала детям: — Ну-ка, скажите Артуру спасибо за телевизор.
— Спасибо, Артур, — сказала Линда, с недоумением покосившись на мать, и тут же снова отвернулась к экрану.
— Пасибо, Алтул, — сказал Йен. Передача ему уже надоела, и он сполз со стула на пол.
— Вот он, мой такой-разэдакий герой! — Я подхватил его на руки и в первый раз совсем забыл, что он сын Эрика. Мы потерлись носами, и он рассмеялся. Когда я поставил его на пол, он хлопнулся лбом, перекатился на бок и захныкал.
— Осторожнее! — сказала миссис Хэммонд.
— Ничего! Мы же хотим, чтобы из него вышел хороший форвард, верно?
Она смерила меня критическим взглядом. Потом кивнула и сказала:
— Конечно, раз ты так считаешь.
Я пошел на кухню. Она вышла следом за мной и собрала мне чай.
— Дела у нас идут прекрасно, — сказал я. — Когда я уйду, ты сможешь открыть лавку.
— Если ты купил его, только чтобы хвастать, так лучше уж забери обратно. — Она улыбалась, и настроение у нее было хорошее.
— Я, пожалуй, забрал бы тебя наверх перед тем, как идти на тренировку, — сказал я.
— Ах, так!.. А почему ты так уверен, что я пойду с тобой? — Она расставила тарелки и начала мазать хлеб маргарином.
— Я вспомнил, как ты меня поцеловала.
— Так, значит, и это может иметь значение? Я хотела показать, что я тебе благодарна.
— А нельзя показать еще раз?
Она положила нож и лукаво улыбнулась.
— Да стоит ли он двух?
— А я говорю — стоит. Кому же и знать, как не мне? Ведь покупал-то его я!
Я встал и обошел вокруг стола. Она ждала моего приближения, опустив голову, глядя на тарелку с ножом. Я нагнулся и обнял ее, положив ладони на ее маленькие груди.
— Не надо, Артур, — прошептала она.
— Неужели мне нельзя разок тебя поцеловать?
Я прижался щекой к ее щеке и почувствовал, как задвигалась ее челюсть, когда она сказала:
— Наверное, я не сумею тебя остановить, если ты будешь настаивать.
— А почему надо так упираться?
— Но как же… А вдруг войдет Линда?
— Ну, она просто подумает, что я прошу у тебя прощения.
Я гладил ее грудь через платье. Она отвела мою руку и повернулась ко мне, открыв рот, чтобы что-то ответить. Я прижался губами к ее открытому рту и коснулся языком ее языка. Я хотел показать ей, что я чувствую. Я гладил ее живот, талию, спину. Потом прижал ее голову к своему лицу, как мяч.
— Ну, скажи же! — проговорил я, отступая.
Она вся как-то ослабела и растерялась, словно ребенок.
— Что? — у нее получился только тихий шепот.
— Что я для тебя не пустое место… что ты что-то чувствуешь.
— Артур… я не могу. Не сейчас.
Ее раскрасневшееся лицо было несчастным. Она отодвинулась и снова повернулась к столу.
— Я не могу так. Я не уверена в тебе.
— Но ведь ты знаешь меня. — Я снова попробовал ее обнять, но она словно одеревенела, и я опустил руки. — Ты ведь знаешь, как я к тебе отношусь.
— Я не могу дать волю своим чувствам. Чтобы еще раз… Чтобы опять все оборвалось, как с Эриком… и все исчезло с одним человеком и умерло. Я должна знать твердо. Тебе придется дать мне время.
— Но у нас уже было все это время. Так неужели…
— Откуда я знаю, что ты не уйдешь… Я не знаю, что я чувствую!
— Но, черт подери, подумай немножко. Ведь если бы я хотел уйти, то давно ушел бы. Ты же для этого все сделала.
— Не знаю. А вдруг ты просто хочешь, чтобы я это сказала? Хочешь увидеть, что я что-то чувствую. А тогда решишь, что добился своего, — и уйдешь. Откуда я знаю?
Лицо у нее теперь было совсем бледное и измученное. Хорошее настроение исчезло так же быстро, как и все ее настроения, и она снова ни в чем не была уверена. И как раз тогда, когда мне вдруг удалось подобраться к ней совсем близко — так близко, что она испугалась дать себе волю. Она взяла нож, и ее лицо стало суровым, как всегда. Она чуть было не уступила и очень об этом жалела.
— Ты всегда отбиваешься от меня, — сказал я. — Хоть и знаешь, что я не могу быть настолько уж плохим. Когда же ты, наконец, дашь нам пожить тихо и мирно?
Она ничего не ответила. И продолжала намазывать хлеб: так, словно маргарин и крошащиеся ломти были грязью.
— К тому времени, когда ты поймешь, что тебе нужно, от нас может ничего не остаться, — сказал я.
— Разве я не хожу с тобой наверх?
— Но ведь это совсем не то. Словно против твоей воли. У меня такое ощущение, как будто я покупаю тебя. Просто покупаю. А ведь на самом деле это не так.
— Ну, а я иначе не могу. Так вот я устроена. И ничего другого мне не остается. — Она снова только сердилась. И ударила ручкой ножа по столу. — Не нужно ко мне приставать! Мне нечего дать тебе, Артур.
— Это же неправда.
Она встала и рассеянно переставила тарелки.
— Ну, вот ты опять начинаешь! — сказала она. — Объясняешь мне, что я должна чувствовать. Какой я должна быть. Если бы ты просто оставил меня на время в покое! Но этого ты никак не можешь. Ты такой сильный. Ты такой глупый, Артур. Ты не даешь мне никакой возможности.
Я посидел с ними и посмотрел передачу. И рано ушел на тренировку, чувствуя, что это была последняя возможность и я никогда не увижу ее счастливой. Я не понимал, чего она ждала от меня. В первый раз она чуть-чуть не сказала, что она чувствует, а что чувствовал я, как я хотел ей помочь — это, по-моему, было совершенно ясно. Так чего ей еще нужно? Это была ее последняя возможность. И моя. Я чувствовал себя гориллой, которой дали подержать что-то драгоценное, но я только раздавил это в своих больших, неуклюжих, бесполезных лапах. И я не мог даже извиниться.
Я спрыгнул с автобуса и решил, что на тренировку не пойду. Сошел я на полпути между городом и Примстоуном в ту минуту, когда огни начали покалывать долину и она уже кровоточила своим обычным ночным неторопливым заревом. Чуть ли не все прохожие узнавали меня. Подталкивали друг друга локтями и кивали в мою сторону. Так бывало всегда. Я разозлился на Мидлтона — регбисты расхаживают по городу, будто хозяева! А что делать, если на них смотрят, как на хозяев? Ведь именно так люди держались и говорили со мной, когда мне было что-нибудь нужно — купить ли костюм, жевательную резинку или галлон бензина. Это они заставляли меня чувствовать, что я хозяин города. И конечно, я расхаживал именно с таким видом! Они этого ждали. От меня ничто не зависело. Я шел сейчас мимо этих прохожих и чувствовал себя героем. Они хотели, чтобы я был героем, и я хотел быть героем. Ну, почему этого не может понять она? Вовсе не я всегда говорил ей, какой она должна быть, как выглядеть, — это она без конца меня пилила. И не словами. А чисто по-женски. Скрывая свои чувства. Держа свои проклятые чувства при себе, так что мне начинало казаться, будто это я во всем виноват — я, и никто другой. Я всегда ругал себя из-за нее, всегда чувствовал, что не нрав. А она уж обязательно права. Мученица чертова, одна во всем мире с двумя детьми, и некому их защитить!
А тут подвернулся я. И она начала меня вываживать. Значит, так это было? А я-то гордился, что каждую субботу выхожу на поле, чтобы меня сшибали с ног, били, валяли, словно я навозный ком, и все лишь бы получить эти деньги и помочь ей. Я ведь даже думал о ней, когда играл, как будто играл для нее, как будто все это имело смысл, только если могло сделать ее счастливой — с помощью автомобиля, манто, а теперь еще и телевизора.
Но я ошибался. Я знал, что она не такая, ведь я знал, что играл в регби вовсе не потому и не потому каждую субботу девяносто минут дрался так, словно наступал конец света. Я знал, что не потому — ведь даже пока я думал об этом, я продолжал подниматься по холму к башенкам стадиона и замечал про себя, как люди оглядываются на меня, жмут на сигналы и говорят: «Добрый вечер, Арт!», хотя я никогда их раньше не видел. Я был героем. И меня душило бешенство, потому что только она одна во всем мире не желала этого признавать.
И она это знала. Наверняка знала. И может быть, даже думала, что только это меня к ней и привязывает. Ведь что бы она ни говорила, а я ей был необходим. Без меня она пропала бы. И она не желала этого признавать. У нее была своя гордость. И гордость эта — быть может, из-за Эрика — была посильнее всякой другой. Так что она не собиралась показывать, насколько я ей необходим. И у нее была надо мной власть, так как она знала, что необходима мне и без нее я не смогу почувствовать себя цельным и нужным. Теперь я понял ее страх. Если бы она показала, что любит меня, хоть на минуту, хоть на час, я мог бы навсегда уйти от нее.
А доказать ей, что это не так, я не мог. Снова я стал гориллой, которую все знают и все боятся из-за ее силы, так что она не смеет быть ласковой и нежной: ведь это может показаться слабостью. Пусть мне нравится, что мое появление на улице вызывает нервное оживление, что мне кивают и машут рукой, но ведь это только издалека. Окажись мы совсем рядом, никто не стал бы ни кивать, ни махать мне. А я хотел чего-то побольше. Я хотел чего-то постоянного и прочного, ведь не всегда же я буду регбистом. Но я горилла, сильная, страшная, так что любопытно посмотреть, как она выламывается. И чтобы никаких чувств. Всегда легче обходиться без чувств. И я без них обходился. Мне платили, чтобы я обходился без чувств. И то, что я без них обходился, вполне окупалось. Люди считали меня гориллой. И теперь, пока я шел по улице, они смотрели на меня совсем так же, как смотрели бы на гориллу, если бы она выбралась из клетки. Им нравилось видеть меня в такой обстановке, словно то обстоятельство, что я стараюсь вести себя совсем как они, могло добавить особый оттенок к ощущению, с каким они в следующий раз будут следить за мной на поле. «А на прошлой неделе я видел Артура Мейчина, — скажет каждый из них. — Он шел по Вест-стрит». Именно это им потребуется, когда они в следующий раз увидят, как я выбегаю на поле, и тогда они уставятся на меня с благоговейным ужасом и подумают: а вдруг я все-таки совсем такой же, как они? А вдруг я человек?
К тому времени, когда я добрался до Примстоуна, мне казалось, что я для этого вечера потренировался вполне достаточно. Прожекторы были включены, и чашу стадиона заливал резкий голубовато-зеленый свет. Несколько игроков бежали вокруг поля, смеясь и переговариваясь, и их одиночные голоса заполняли пустые трибуны. Те, кто пришел посмотреть тренировку, толпились у выхода из туннеля, чтобы поближе рассмотреть своих любимцев, может быть, расслышать какие-нибудь их слова и получить в ответ на свои крики кивок или приветственный взмах руки.
Было холодно. Я надел под тренировочный костюм две рубашки и два раза пробежался, но тут появился Дей и началась тренировка на поле. Оно было огромным и пустым. И мы были похожи на букашек. Мы наклонялись и прогибались, приседали и вертелись, боксировали с тенью, выстроившись в два ряда, и без конца бегали по полю, то медленно, то спуртуя по свистку Дея. Мы отрабатывали серии движений по три раза каждую, а потом играли в салки с запасными. И все это время Морис ни разу не заговорил со мной. И никто даже не заикнулся про Джудит.
Да и вообще этот разговор не начался бы, если бы не Меллор, — когда мы все набились в бассейн, он рассказал анекдот про беременную. Мы сидели нога к ноге, тесно прижавшись друг к другу, пытаясь выкроить местечко, чтобы окунуть голову и сполоснуть волосы. Вода, как всегда, была мутной, и в ней плавали травинки, но ее поверхность уже постепенно затягивалась смытой мыльной пеной. Стоял обычный запах пота и карболки, пронизанный парной сыростью, взбаламученный трясущимися от хохота телами.
— «Дамочка, — закончил Меллор, — да знай я, что вы в таком положении, так я бы вас и не попросил!»
Бассейн расплескался смехом. Всегда неподвижное лицо Меллора залучилось морщинками. Человека два, дожидавшиеся только конца анекдота, выбрались из бассейна, и Дей, спокойно ожидавший рядом с зубастой улыбкой наготове, взял полотенце и начал их растирать.
Томми Клинтон, который в поте лица старался наслаждаться жизнью, подошел к краю бассейна и сказал поверх голов:
— Так, значит, вы слышали про Артура?
Все поглядели на него, потом на меня и пришли к выводу, что не слышали.
— А что именно, Томми?
Клинтон захохотал авансом.
— А он скоро станет папочкой… Верно, Арт? А мэр будет крестным.
Я скривился, прикинул, не сделать ли из Томми лепешку, и сказал:
— В первый раз об этом слышу!
Я оглянулся на Мориса. Он тихо сидел в углу бассейна, курил и смотрел на Клинтона сквозь дым так, словно примеривался, отделать ли его сейчас или потом на улице.
— Ну как же, Артур! А на рождество-то! Я и моя подружка, — он взмахнул рукой и обернулся к остальным, вздрагивая всем покрасневшим от хохота туловищем, — мы рассчитали, что это должно было случиться на уиверовском праздничке в сочельник. Наш Арт и Джудит так резвились в парадной спальне, что с крыши послетала вся черепица.
Когда смех, наконец, утих, я сказал:
— Ты что-то имена путаешь, Томми, верно? Ты ведь говоришь про девочку Лайонела Мэннерса.
Он перестал смеяться и задумался.
— А знаешь, Арт, может, ты и прав. Просто удивительно, как все путается. Вот теперь, когда ты об этом заговорил, мне действительно мерещится что-то такое. Пожалуй, на этот раз можно будет тебя оправдать. Ведь остается еще Морис.
— Заткни пасть, Клинтон, — сказал Морис из своего угла так выразительно, что Клинтон чуть было не послушался.
— А, черт! Я ведь просто шучу, Морис. И про отца этого ребенка мне известно только одно: что это не я… — Клинтон рискнул еще на шуточку: — Да и то, если он тебе не нужен, Морри, — сказал он, — я могу взять его на себя.
Морис швырнул сигарету под скамейку в дальнем углу комнаты, вскочил и пошел через бассейн так, что все еле успевали от него уворачиваться. Волна обрушилась каскадом на пол, и Морис, выскочив из бассейна, кинулся на Клинтона.
Тот совсем растерялся и не двинулся с места. А может быть, ему показалось, что Морис тоже просто валяет дурака. Морис с размаху ударил его кулаком. Но они оба были мокрыми и стояли в неудобных позах, так что Морис, хотя и ударил еще раз, почти его не задел. Дей и еще кто-то растащили их. Оказалось, что Клинтон выщербил передний зуб, ударившись о бетонный край бассейна.
— Ну, ну, Морис, — говорил Фрэнк, оттесняя его к стене своим большим брюхом. — Не зарывайся. Клинтон трепач. Ну и ладно. А рукам воли не давай.
Морис что-то ответил Франку, но никто не разобрал, что именно. Фрэнк пожал могучими плечами и отошел от Мориса.
— Оставь его в покое, Морис, — сказал он. — Он больше про это дело говорить не будет.
Я вылез, вытерся и вставил зубы на место.
Когда эти сплетни дошли до миссис Хэммонд, — а что они дойдут до нее, я с самого начала не сомневался, — она истолковала их как могла хуже и ощерилась. Ей постоянно что-нибудь про меня рассказывали — не реже одной истории в день. И она знала обо мне куда больше меня самого: бывали дни, когда ей сообщали, что накануне вечером меня видели в трех разных местах (обязательно «скверных») в один и тот же час. Хотя поверить всему этому зараз она все-таки не могла, но у нее тем не менее складывалось общее впечатление, каким я бываю вне дома. Я не мог винить ее за это, как не мог помешать тому, чтобы впечатление было дурным. Я слыл «лихим парнем» и, «уж верное дело, бабником»; и, что бы я ни говорил, что бы ни делал, изменить это было не в моих силах. Людям хотелось видеть меня именно таким, и они свое получали. Наверное, моему отцу приходилось выслушивать то же, что и миссис Хэммонд.
Когда я в четверг вечером зашел домой переодеться перед тренировкой, она сказала:
— Сегодня я услышала, что случилось с Джудит Паркс.
— А я не знал, что ты ее знаешь.
— Вот теперь узнала. Она работает в муниципалитете. Говорят, из приличной семьи. И репутация у нее самая безупречная.
— Ты услышала, что у нее будет ребенок? Долгонько же эта новость добиралась до здешних мест.
— Тебя это как будто не тревожит!
— А мне что, надо тревожиться? И где ты про это услышала?
— В лавке — там все очень удивлялись тому, что отцом оказался ты.
— А! Значит, вот что ты слышала? Ну, так это уже устарело. Я больше не котируюсь. Имеется папочка номер два — Морис. Но кто тебе все-таки об этом сказал? Наверное, следовало бы хорошенько изукрасить им рожи!
— Собственно, какая разница, от кого я это слышала?
— По-моему, ты веришь всему, что тебе говорят обо мне. Как в тот раз, когда тебе рассказали, что я изнасиловал девочку. Помнишь? Та баба еще говорила, что у нее есть точные доказательства.
— Но когда все говорят одно и то же, это уже похоже на правду. В лавке говорили, что в прошлую субботу много народу видело, как ты ссорился с ней в «Мекке». Ты устроил настоящий скандал, и все смотрели, как она уходила, а ты бежал за ней.
— Ты и вправду веришь этой пьяной сплетне?
— Я уже сказала: когда все говорят одно и то же, часто выходит, что это правда.
— Да. Только еще чаще выходит совсем наоборот. А я-то думал, ты уже перестала слушать, что тебе на меня наговаривают.
— Я ведь не сказала, что верю этому, — ответила она сухо. — Но все-таки странно, почему бы тебя стали зря приплетать к этой истории. Дыма без огня не бывает.
— Меня от тебя просто мутит, — сказал я, надел пальто и ушел.
Она что-то закричала мне вслед, но мне это было неинтересно.
На этот раз я не пошел на тренировку. Забрал в «Примстоуне» жалованье и постарался не встретиться с Морисом. Я увидел, что он идет на поле, и переждал в туннеле. Я был зол на него, а он, конечно, злился на меня и на то, что случилось в субботу, даже еще больше. Я выбрался со стадиона, держась в сторонке от игроков, которые выбегали на поле. Тут мне пришло в голову, что, пожалуй, имело бы смысл повидать Уивера. Зачем, собственно, я не знал. Мне уже давно казалось, что я относился к нему несправедливо — презирал его за то, что он не был здоровенным кабаном вроде меня, а просто одним из зрителей. И все же он в отличие от большинства остальных обходился со мной, как с человеком, пусть даже как с уродом из балагана, но как с уродом, наделенным чувствами. Я доехал автобусом до Сэндвуда и поднялся к его вилле пешком.
Дверь открыла миссис Уивер. Она даже замерла от изумления. По ее лицу я догадался, что она дома одна.
— Здравствуйте, Мейчин. Что вам здесь понадобилось в такой ранний час?
Я спросил ее, дома ли Уивер, и она покачала головой.
— Его нет, — сказала она, но таким тоном, что я почувствовал себя последней дрянью. Она, по-видимому, решила, что я нарочно пришел в его отсутствие. — Зачем он вам? Что-нибудь срочное?
— Нет. Так… ничего.
Я вдруг подумал, что мы могли бы продолжить с того, на чем остановились в ту среду несколько месяцев назад. Может быть, и она думала о том же. В саду было сумрачно и туманно, а я стоял на пороге так, словно напрашивался. Судя по ее лицу, эта мысль слишком ее поразила, чтобы показаться неприятной.
Она неуверенно спросила:
— Может быть, вы зайдете?
И я почувствовал, что, пожалуй, найду у нее утешение. Как и сам Уивер, она могла позволить себе отдавать что-то, не получая и не ожидая ничего взамен. И быть может, как и Уивер, она начинала уставать от этой роли. В прошлый раз она обошлась со мной, как с гориллой. Некоторым людям не нравится просто смотреть на гориллу, им надо схватить ее руками. Она была прямолинейна, думая, что я прямолинеен, и отпугнула меня. Теперь она смотрела на меня с удивлением. Вид у нее был усталый. Наверное, я казался совсем больным — во всяком случае, она смотрела на меня так, словно я был человеком.
— Если я зайду, то могу и не удержаться в рамках, — сказал я.
— Ничего, — ответила она. — Думаю, что я сумею о себе позаботиться.
Я шагнул внутрь, и она заперла дверь. Мы прошли в гостиную. Занавески были задернуты, и горела только настольная лампа. Два-три пятна на обоях с листьями — вот все, что осталось от празднования сочельника. Я сел в кресло, на которое указала мне миссис Уивер, а она села напротив под лампой. На ней было шерстяное платье, полнившее ее. Волосы скручивались в обычную шапку кудряшек.
— Но ведь у вас сейчас как будто тренировка? — спросила она. — Сегодня четверг, а если не ошибаюсь, вы по четвергам тренируетесь?
— Я сегодня не пошел.
— Почему? Вы нездоровы?
— Настроения не было. Мне хотелось погулять или, может быть, поговорить с кем-нибудь.
— Поэтому-то вы и пришли к мистеру Уиверу?
— Наверное. Я и сам не знаю, зачем к нему пошел. Просто пошел, и все.
— У вас неприятности… с полицией или еще какие-нибудь?
— Да нет.
— Ну что ж, — сказала она, вставая и закрывая книгу, которую, должно быть, читала перед моим приходом. — Посмотрим, не поможет ли тут виски.
Она подошла к бару возле радиолы и налила небольшую рюмку. Принесла ее мне и стояла совсем рядом, пока я брал рюмку из ее пальцев. Потом вернулась на свое место и смотрела, как я сделал первый глоток.
— Надеюсь, вы любите виски, — сказала она. — Боюсь, ничего другого у нас нет. Наше хозяйство ведется из рук вон скверно.
Я поперхнулся и закашлялся, прикидывая, не снять ли пальто, но под ним на мне был комбинезон. Может быть, она догадалась об этом, а может быть, просто увидела комбинезон — во всяком случае, она не предложила мне раздеться.
— Почему вы вдруг так внезапно охладели к регби? — спросила она меня, как врач пациента. — Но хоть черепичные крыши вы больше не разбираете?
— Наверное, потому, что дома у меня неладно, — сказал я неловко, но с таким явным и неприкрытым намерением, что она не выдержала моего взгляда и посмотрела в сторону.
Ее пальцы пошарили по ручке кресла и выдернули шерстяную нитку. Потом она скрестила руки под грудью и опять посмотрела на меня.
— С миссис Хэммонд? — подсказала она.
— Угу.
— Я часто думала о вас… и о ней, — сказала она. — Но, может быть, вам неприятно, что я говорю об этом, Артур? Мистера Уивера это очень тревожило. В тот вечер, когда вы подписали контракт, он, если вы помните, подвез вас до дома. Он рассказывал тогда, как он удивился, узнав, что вы живете там — с вдовой и двумя детьми. Он не мог этого понять. По-моему, он и сейчас этого не понимает. Кажется, он считал, что вы напрашиваетесь на осложнения… Но, может быть, вам неприятно, что я об этом говорю? Так скажите и…
— Нет, ничего. Мне хотелось бы знать, что об этом думают другие.
— Ну, во всяком случае, такая вещь для молодого человека — редкость. Вероятно, поселились вы там потому, что у вас тогда не было другого выбора. Но позже, когда вы стали зарабатывать больше, было бы естественно, если бы вы переехали и создали себе более подходящую домашнюю обстановку. По словам мистера Уивера, замужество миссис Хэммонд было не очень счастливым. Ее муж был замкнутым, угрюмым человеком. Когда он погиб, поговаривали даже, что это не совсем несчастный случай.
Я допил виски. Я никогда прежде не задумывался, почему, собственно, я остался на Фэрфакс-стрит. То, что я узнал сейчас про Хэммонда, доставило мне большое облегчение. Мне показалось, что миссис Хэммонд здесь, в гостиной. Не то чтобы я ее видел, но я как-то ощущал ее присутствие.
— Так почему же вы остались там? — спросила миссис Уивер.
— Я сейчас как раз думаю об этом. Ну, если хотите, я с самого начала почувствовал себя там дома. Может быть, по привычке. Я чувствовал, что должен помогать ей… Конечно, поселился я там потому, что платить нужно было мало, и я решил, что мне повезло. А когда я там пожил, то увидел, как им туго приходится, и мне казалось, что будет правильно, если я немного помогу. А потом… так одно за другое и цеплялось. Ребята не слишком-то симпатичны на первый взгляд. Сперва я считал, что таких поганых… ребятишек поискать. Помнится, я думал, что они ревут и вопят весь день напролет. Наверное, она тогда сильно переживала, и ей было все равно. Ну, не знаю. Только когда я начал им помогать, они стали ждать этой моей помощи. Миссис Хэммонд всегда пробовала отказываться… вы ведь знаете, как это бывает у женщин. Но ей было нужно то, что я ей давал, а ребятишки и вообще не стеснялись. И вышло так, что я вроде бы заменил им отца. Во всяком случае, так теперь получается. Но мне-то всегда казалось… понимаете… что я остаюсь свободным.
— А теперь вы убедились, что это не так, — сказала она.
— Может быть. Дело просто в том, что она никак не хочет ничего признать. Ей кажется, будто я ей помогаю только из самодовольства. Ей кажется, что мне ни до чего нет дела, и я хочу только играть в регби, и чтобы меня узнавали на улицах, и все такое прочее. И она попрекает меня этим. И язвит меня за то, что я будто бы ничего не чувствую. Иногда она доводит меня до белого каления, и я пускаю в ход кулаки или ухожу. Вот как сегодня. Она думает, что мне нужно только, чтобы она уступила и стала по-настоящему… полагаться на меня, и тогда я сразу уйду и подыщу себе другую. Вот что она думает. А чтобы получилось, будто я и в самом деле такой, она собирает все сплетни, какие только обо мне ходят. Ну, представляете себе, чего ей могут насказать. И она не верит этим историям. Ей просто кажется, что это оружие против меня. Морковка, за которой я гоняюсь, стараясь доказать ей свои слова делом, и каждый раз она заявляет, что не может этому поверить, что я потерял… Я понимаю, что все это только слова. Я не очень вам надоел? Но ведь надо когда-нибудь высказаться, не то…
— Нет, нет, Артур. Что вы! Я просто потрясена. И очень рада, что вы мне все это рассказали. Мне и в голову не приходило, что вы способны так глубоко чувствовать.
— Наверное, я сам виноват. Я прирожденный профессионал. И не занимаюсь тем, за что мне не платят. Если бы мне прилично платили за то, чтобы я чувствовал, то, наверное, я сумел бы показать тут настоящий класс.
— Ну, вот это больше похоже на вас прежнего. Вот такие вещи вы обычно и говорите. И из-за них вас и считают… сильным. А ваше отношение к миссис Хэммонд… Это же совсем другое. Если бы вы на время спустились с высот, на которые возносит вас воображение! Мне кажется, я отчасти понимаю, чем вы напугали миссис Хэммонд. Наверное, вам удалось убедить ее в том, какой вы Сильный Человек, гораздо больше, чем себя самого. Для вас, возможно, это только оболочка. Но для нее дело обстоит по-другому, и деньги, которые вы зарабатываете, вещи, которые вы покупаете, ваши еженедельные фотографии в «Сити гардиан» — все это, наверное, внушило ей, что вы действительно величина. И наверное, она стала спрашивать себя, что вы могли в ней найти и каким образом, хоть раз показав, что вы ей дороги, она сумеет сохранить вас. Вам, мужчине, подобные соображения могут и не прийти в голову. Но поверьте мне, женщина обязательно будет думать об этом. А ее положение особенно уязвимо — вдова с двумя детьми. Вы же молоды и можете выбрать почти любую девушку в городе. Она, наверное, смертельно боится показать вам, что вы ей не безразличны. Особенно если сама она знает, что вы ей дороги, если она уже призналась в этом самой себе.
Выговорившись, мы оба откинулись в своих креслах. В темной комнате было очень тихо. Тикали часы, оформленные под штурвал. Но снаружи не доносилось ни звука.
— Прежде я очень восхищалась вами, — сказала она. — Как вам известно. И, несмотря на то, что произошло, вероятно, продолжаю относиться к вам так же. Иначе все это так меня не тронуло бы. И поэтому, Артур, не воображайте, будто я просто хочу с вами поквитаться… Когда обыкновенные люди, вроде вас, вдруг приобретают известность, это иногда приводит к самым неожиданным результатам. Теперь, вероятно, вы сами это понимаете. Как вам кажется, не стоит ли мне повидаться с миссис Хэммонд? Может быть, я сумела бы что-нибудь наладить.
— Я уже думал об этом, пока вы говорили. Но это ее скорее всего только насторожит. И очень ей не понравится. Но все равно спасибо.
— Понимаю… — сказала она, истолковывая мои слова как-то по-своему. — В таком случае вам придется распутывать все это самому. Но постарайтесь быть мягче. Я вам обоим глубоко сочувствую. Мы с мистером Уивером только и делаем, что улаживаем чьи-то неприятности, включая и наши собственные. Мистер Уивер сейчас, если не ошибаюсь, поехал домой к Джудит Паркс. Чтобы найти приемлемый выход — для них и для Мориса. Надеюсь, все устроится. Позвоните мне и расскажите, как все у вас сложится.
Она проводила меня до входной двери. Дала мне еще несколько советов, а когда увидела, что я без машины, предложила отвезти меня в город. Я сказал, что пройдусь пешком или сяду на автобус. Она стояла на освещенном крыльце все время, пока я шел по подъездной аллее. Потом в тишине большого сада раздался звук закрывшейся двери. И тут я вспомнил, что даже не поблагодарил ее.
* * *
Миссис Хэммонд становилась все хуже и только ждала, чтобы порвал наши отношения я сам. Она не понимала, почему я этого не делаю, а главное — почему я не собираюсь жениться на Джудит.
— Ведь только тогда ты станешь солидным человеком, — сказала она мне размеренным тоном, который вдруг усвоила.
Когда я вернулся от миссис Уивер, она задержалась только для того, чтобы заявить мне это, и тут же отправилась спать — заперлась с ребятишками у себя в спальне. В пятницу я не пошел на работу. Попробовал поговорить с ней и не злиться, но ничего не вышло. Чем больше я говорил и чем приниженнее держался, тем упорнее она считала, что я что-то скрываю. Слушать меня она не желала. Что бы она ни говорила прежде, в моей верности она все-таки не сомневалась. А теперь она бродила из комнаты в комнату, и все валилось у нее из рук, словно ее стукнули молотком. Это была какая-то болезнь — ноги у нее на ходу подгибались, голова падала на грудь. Даже с ребятишками она не разговаривала.
Когда я после того, как позвонил миссис Уивер, сказал ей, что Морис женится на Джудит, она была только еще больше ошеломлена. И сразу спросила:
— Это он для тебя?
— Нет. Она беременна от него, — объяснил я в пятый раз.
Ее совсем расстроило, что все обернулось таким образом, — Джудит была последней подпоркой ее ослиной гордости. Она даже сказала:
— Ты чересчур легко отделался, — словно считала, что в поведении Мориса и Джудит виноват я. Казалось, она уже давно ждала чего-нибудь вроде истории с Джудит и, несмотря на боль, была рада, что все, наконец, произошло. Какая-то часть ее души хотела этого. Ведь в таком случае она получала возможность решать. Она даже накопила силы для разрыва. А теперь, когда настала эта минута, из-за Мориса причина для разрыва вдруг исчезла, и она оказалась в пустоте — почва ушла из-под ее ног, и ей никак не удавалось обрести равновесие. Выходило, что я вовсе не был плохим, а этого она допустить не могла. Я же готов был убить ее за то, что она не желала признавать той вонючей помощи, которую получала от меня. По-видимому, она решила держаться со мной так, словно я все-таки был виноват.
В этот вечер она смотрела телевизор одна. Ребят она уже уложила, хотя сверху еще доносилось хныканье Линды.
Когда я вошел, она не обернулась.
— Ты его еще не продала? — спросил я.
— Пока нет, — ответила она без всякого выражения, словно ее интересовала передача или же ей все было одинаково безразлично.
— Каждый раз, возвращаясь домой, я думаю увидеть, как перекупщики выносят из дверей твое манто и телевизор.
— Я предупрежу тебя заранее.
— Да ведь, по-твоему, выходит, что тогда меня уже здесь не будет… Этого тебе хватит ненадолго. А что ты будешь делать потом? Я на днях как раз прикидывал — почему ты после смерти Эрика не потребовала пособия от завода?
Я все ждал, когда она оторвется от спектакля, который смотрела, но она продолжала сидеть, все так же скорчившись.
— Ну, хоть какой-нибудь компенсации? — добавил я. — Или с тебя было достаточно?
Она повернулась уже вне себя от злости.
— Я знаю, мистер Сверхчеловек, вы нализались, топя свои печали. Но до чего ты все-таки можешь дойти? Можешь выдумать что-нибудь еще подлее?
— Отчего же? Могу, если ты меня доведешь. По обыкновению.
— За что мне все это! — закричала она, заводя глаза к потолку, где слышались всхлипывания Линды. Она схватила пепельницу, которой никогда не пользовались, и швырнула ее в телевизор. В экран не попала, но попортила фанеровку. Лица на экране как ни в чем не бывало продолжали свои гримасы. Чуть повыше висела в рамке газетная фотография, на которой я прорывался с мячом.
— Попрошу тебя заметить, что я еще не выехал, — сказал я.
— Я заметила. Не волнуйся, я это заметила! Когда ты входишь, я и здесь чувствую вонь.
— Да неужто? Ну, так это запах работы, — сказал я. — Может быть, тут он редкость.
— Да ты никогда в жизни не работал. Ты живешь, как барыга, воняешь, как барыга… и со мной вот так же живешь!
— Если я не прихожу домой, хрюкая, ругаясь и потея, как все здешние свиньи, это еще не значит, что я не работаю, — я работаю! Стерва ты! Всегда делаешь вид, будто я бездельничаю!
Она вскочила и встала прямо у меня под подбородком, чтобы выкрикнуть то, что хотела выкрикнуть уже давным-давно.
— Ну, так убирайся ко всем здешним свиньям, потому что я больше не хочу терпеть тебя в моем доме!
Я отступил и внимательно посмотрел на нее.
— Я никуда не уйду, — сказал я, успокаиваясь. — Мне нравится жить здесь. Многое здесь куплено на мои деньги. Мне нравится смотреть, как тебе идет на пользу все то, что я для тебя делаю. Мне нравится смотреть, как ребята толстеют, становятся сильнее, да и веселее благодаря приличной жизни, которую я им обеспечиваю…
— Убирайся! — взвизгнула она и кинулась мимо меня вверх по лестнице. Наверное, она часто думала о том, как это сделает, — когда я вбежал в свою комнату, она уже успела разорвать две рубашки. Она вытащила ящик из комода на пол и, стоя в нем одной ногой, старалась разорвать лучшую мою нейлоновую рубашку. Остальная моя одежда и книжки валялись во дворе. Моим первым побуждением было убить ее. Выбросить в окно.
А потом я сказал ей:
— Твое белье станет такими же лохмотьями, когда я вышвырну его на улицу.
Она, спотыкаясь, выбежала за мной на площадку. Там она упала на колени и сжала руки.
— Артур, ради бога! Уйди от нас!
— Не могу. Я тебя люблю.
Она плюнула мне в лицо. Но попала только на рубашку. Ее лицо сморщилось, как сухая водоросль. Брызги слюны падали на серое платье. В спальне завопила Линда, а за ней и Йен. Я представил себе, что слышат прохожие и соседи.
Линда приоткрыла дверь и посмотрела на мать, которая рыдала на полу. При виде девочки мне стало неловко. Она бросилась к матери и обняла ее.
— Ничего, Лин, я просто упала, — и они прижались друг к другу.
Я спустился вниз и вышел через черный ход во двор, чтобы собрать свои вещи. За забором, как овцы, толпились люди, слушали, наблюдали, шаркали подошвами по шлаку, посмеивались, делали вид, что ничего не произошло. Когда я вернулся в дом, она уже была на кухне. В соседней комнате вопил телевизор. Рекламировал стиральный порошок.
— Ты уйдешь сейчас или утром? — спросила она, наблюдая, как я чищу одежду и вытряхиваю шлак из книжек. Она как будто успокоилась. Кожа на ее ладонях еще багровела — рвать рубашки не так-то легко.
— Я вообще не уйду.
— Чего ты хочешь… чтобы уйти? Я тебе отдам все что угодно. Все, что у нас есть, — она прижалась к столу. — Хочешь лечь?
— Мне ничего не нужно. Я остаюсь.
— Тогда мне придется позвать полицию, — сказала она тупо.
— Меня можно выселить, только если я буду предупрежден за неделю.
— Ну, тогда уйду я. Заберу Линду и Йена и уйду. Лучше жить в какой-нибудь яме на задворках, чем оставаться здесь с тобой. Ты нас всех отравляешь. Послушай-ка их — они же насмерть перепугались, — и она распахнула кухонную дверь, чтобы я услышал, как плачут ребятишки.
— Это ты виновата — нечего было так вопить. Тебе надо просто освоиться с тем, что я остаюсь. И ты перестанешь зря расходовать столько энергии.
— А на что мне ее еще расходовать? Ты, видно, не понимаешь, что ты такое. Каким ты нам кажешься.
— Я вижу только, что вы едите. Какую одежду носите. Как развлекаетесь. Когда я только поселился здесь, у вас на всех троих не было ни одной целой рубашки!
— Развлекаетесь! Развлекаетесь! Ты говоришь: развлекаетесь! Когда ты стоишь у нас над душой. Словно поганый хозяин… Если нам что и было приятно, так это ты нас заставил. Да, заставил!
— Ты совсем ничего не ценишь, черт подери! Ничего из всего, что я для тебя сделал! — крикнул я, обозленный ее вонючей неблагодарностью. — А я-то обходился с тобой лучше, чем даже с отцом и матерью. Как ты можешь так говорить? Да ведь ты живешь лучше любой другой женщины на этой улице.
— Нет, ты псих. Ты просто псих, если думаешь, что я должна… должна… должна хоть чуточку за то, что ты сделал. Говоришь сам не знаешь что. Да ничего ты для нас не делал, кроме того, что тебе самому хотелось. Ты делал только то, что тебе нравилось. Ты никак вообразил себя господом вседержителем… из-за этой твоей паршивой машины, этого твоего телевизора и поганого манто. Я все сожгу! Все, чего ты касался, я сожгу! Как только ты уйдешь — каждую щепку и кусок, которых ты касался. Просто ты не можешь увидеть, каков ты. Ничего ты не видишь. Я живу лучше любой другой женщины на этой улице! Да у меня не жизнь, а ад! Стоит мне голову поднять, как кто-нибудь уже тычет в меня пальцем и говорит, что я твоя… шлюха!
— Кто это говорит?
— Кто это говорит! Нет, вы его послушайте! Кто?.. — Она захлебнулась смехом, сдавленным смехом, выжатым из желудка. — Ах, богу не нравится, что кто-то зовет меня шлюхой? Что, бог собирается выехать на своей распрекрасной машине и посшибать их… посшибать их за то, что они не здороваются с его мразью? Ну что ж, бей их! Изничтожь их! Рви их, круши, пока от них и клочка не останется! Уж позаботься, чтобы они этого больше не повторяли… Все они над тобой смеются. Как удивительно, а? Все показывают на тебя пальцем. Ты этого не знал? Они думают, что ты хочешь быть не таким, как они. Они все показывают на тебя пальцем. И на меня. И на Линду. И на Йена. Мы теперь больше не порядочные — из-за тебя. Из-за того, что ты каждую субботу выламываешься перед тысячами таких, как они. Мы точно калеки, которые не смеют показаться на людях. Ты поставил свое вонючее клеймо на всех на нас.
— До чего же соседям интересно это слушать!
— Ничего… ничего, они уже наслушались. Они слушают это каждый вечер. И сегодня, как всегда… Если тебе нужно предупреждение за неделю, считай, что ты его получил.
Она нагнулась и завопила в камин — Фарерам за стеной.
— Вы мои свидетели! — кричала она. — Когда придет полиция. Предупреждение за неделю, считая с этой минуты.
— Ты думаешь, они все такие же сумасшедшие, как и ты? Нужно ли поднимать такой визг?..
— Я не думаю, что они такие же, как я. Я знаю, что они не такие. Они гораздо лучше. Все до единого лучше меня. До того, как ты тут поселился… конечно, тебе это не известно, но меня уважали. Все здесь, вся улица — ну все, они все меня уважали. И думали обо мне только хорошее — как я воспитываю Линду… Но я не собираюсь прихорашиваться. Я себя не обманываю. Не то что ты. Я знаю, что я такое.
— Тебе это кажется, потому что ты боишься…
— Ты меня не знаешь!
Она обошла комнату, глянула в окно, снова посмотрела на стены.
— Я тебя знаю, — сказал я. — Еще бы мне тебя не знать! Я прожил здесь достаточно долго.
— Ты меня не знаешь. Да и как это ты можешь меня знать? Ты же никого, кроме себя, не видишь. Когда я была моложе… Прежде я чувствовала себя молодой. А из-за тебя я чувствую себя старой. И ведь я старалась. Старалась поступать правильно. Старалась и старалась… Я хотела… я хотела только, чтобы меня оставили в покое. Ты не был мне нужен. Я не просила тебя являться сюда и навязываться.
— Но ты брала все, что я тебе давал. И не говори, что тебе никто не нужен. Я обходился с тобой, как с королевой. Вот погляди на все на это, что я тебе надарил!
— И говорит, говорит! Не понимаю, чего ты этим думаешь добиться. — Она, казалось, кончила и собиралась уйти. Но тут добавила: — Неужели ты не можешь понять? Ты нам не нужен.
— Все дело в том, что ты бесишься, если видишь человека, который не ползает на брюхе. Что, скажешь, не так? И ты хочешь, чтобы я ползал, как все остальные… как Эрик ползал. Посмотри-ка на тех, кто тут живет. На тех, кто с тобой не здоровается. Только посмотри на них. Ни одного настоящего мужчины. Все лежат на спинках — топчи их, кто хочет! У них не хватает духу встать и ходить, как сделал я. И вот поэтому ты стараешься доказать, будто это я вонючка. Я!
— И говорит, говорит!
— Заткнись и послушай меня. Это они хотят, чтобы ты вела себя вот так. Ты им не по нутру, потому что тебе повезло. Не будь у нас денег, машины и манто, нм было бы наплевать, живи у тебя хоть сотня мужиков. А хотят они только одного: чтобы ты барахталась в такой же грязи, как и они. Неужели ты не понимаешь, что ты делаешь? Я мог бы тебе сказать, что мне говорили люди, — у тебя бы от этого ногти на ногах слущились. И только потому, что я играю в лиге. Разве не так? Ты же знаешь, что так. Скажи, что это так!
— Ты не знаешь. Ты не знаешь, каково это.
— Нет, знаю. Они ненавидят меня, ненавидят тебя… даже Йена и Линду ненавидят. Только ты не хочешь этого видеть. Почему-то, как дура, как полоумная, ты обязательно хочешь думать на их лад.
Она извивалась у стола, стучала по нему, требуя молчания, мотала головой так, словно я схватил ее, а она вырывается.
— Ты не знаешь. У тебя всегда все было.
Кто-то — скорее всего мистер Фарер — дубасил в стену, потом застучал у камина. Я грохнул в ответ кочергой. Сверху в камин свалился кусок штукатурки. По шлаку бегали ребята и визжали — играли во что-то.
— Сейчас сюда явится полиция, — сказал я ей. — Достань-ка пиво и включи телевизор, чтобы он прогрелся.
— Для тебя нет ничего чистого, — бормотала она. — Ты пачкаешь все, к чему прикасаешься.
— Уж очень ты чувствительна. Мне эти разговорчики тоже не нравятся, но я ведь не жалуюсь. Те люди, про которых я говорил, — они мои приятели, мои болельщики. Мне все равно, что они думают. А попробуют заикнуться мне об этом, я вобью им зубы в глотку. А ты… ты злишься, что я вам помогаю.
Она задумчиво посмотрела на меня, словно пораженная неожиданным открытием.
— Слава богу, есть в моей жизни то, чего ты не касался. Есть хоть что-то чистое, — сказала она. — И это-то тебя и доводит. Теперь я все понимаю. Как ты, значит, ненавидишь Эрика! Его ты коснуться не можешь! Благодаря ему я и могу выдержать все это. Благодаря ему, и Лин, и Йену. Единственное хорошее во всем этом…
— Валяй, валяй договаривай. Можешь заодно снова поставить на решетку его поганые башмаки. Давайте-ка все встанем на колени и помолимся за блаженную душу Эрика — отца этого дома.
— Как он тебя бесит! — говорила она с радостью, потому что думала, будто нашла, наконец, чем меня можно уязвить.
— Ничего полоумнее и выдумать нельзя — башмаки покойника на каминной решетке. Черт подери, да сейчас людей отправляют в сумасшедшие дома и за меньшее. А ты их даже чистила! Будто он их вот-вот наденет. Да я про тебя столько знаю, что могу продержать тебя в смирительной рубашке до конца твоих дней.
— Что… что ты знаешь о том, каким хорошим был Эрик? Как он нас всех любил? Откуда тебе знать, как заботится о своей семье приличный муж и отец? И как он работал? Ну что ты знаешь об Эрике?
— Я знаю, что не так-то уж много он сделал, судя по тому, что я тут застал. Я знаю, что он проткнул себе кишки напильником. Уж до того он был хороший муж и отец, что попросту убил себя на этом станке. Никакой это не несчастный случай…
Она наткнулась на стол.
— Ты хочешь убить меня! — взвизгнула она. — Ты ведешь себя со мной так, словно меня нет. Я для тебя пустое место. И ты заставляешь меня думать, будто я действительно пустое месте. Что бы я ни делала, ты все ломаешь. Ты не даешь мне жить. Ты заставляешь меня думать, будто меня вообще нет.
Она добралась до стула и запястьем откинула волосы с лица. Она задыхалась и всхлипывала, совсем обессилев.
— Я хочу жить с тобой. И вовсе не хочу тебя давить.
— Что бы я ни делала, по-твоему, выходит, что это неважно. Из-за тебя мне кажется, что я мертвая.
— Но ты же мне нужна! — закричал я.
— У тебя все есть, но меня ты не получишь!
Она была где-то далеко-далеко — вот-вот исчезнет совсем.
— Ты же не хочешь, чтобы я ушел совсем, верно? Скажи, что не хочешь. Скажи, что ты не хочешь, чтобы я ушел.
— Я не хочу, чтобы ты оставался, — сказала она медленно, вымученно, механически повторяя мысль, к которой слишком привыкла, чтобы отбросить ее. Она вся застыла. Глаза остекленели. И я подумал бы, что она умерла, если бы ее губы не продолжали твердить все то же.
2
Приехав в субботу в «Примстоун», я увидел, что моя фамилия вычеркнута из списка игроков, назначенных на эту игру. Никто не знал, почему именно, — если только причиной не было мое отсутствие на тренировке в четверг, — и члены комитета порекомендовали мне обратиться к Джорджу Уэйду, которого на стадионе не оказалось. Я вдруг обнаружил, что нисколько не встревожился. И даже почувствовал облегчение. Я больше не хотел играть в регби, а это был самый простой выход.
Я поехал обратно на Фэрфакс-стрит и снес свои вещи в машину. Миссис Хэммонд заперлась с детьми на кухне, — как и раньше, когда я зашел с работы переодеться, — так что я не стал прощаться.
Пока я разъезжал по городу, до меня все время доносился рев зрителей на стадионе. Прежде я не замечал, как этот рев заполняет долину, — на Маркет-стрит, где перед магазинами толпились покупатели, головы поворачивались в сторону Примстоуна, точно белесые цветы. Я остановился и купил дешевое издание «Я нравлюсь кому-то там наверху».
Я снял себе угол неподалеку от автобусной станции, там же, где жил несколько лет назад, когда только ушел из дому. Владелец теперь был другой. Когда Камерон, новый хозяин, привел меня в комнату, там спало двое. По разбросанной одежде я понял, что это автобусные кондукторы. К оконному стеклу были прилеплены эмблемы Эйре и голая красавица. Плата — фунт в неделю и три шиллинга за завтрак. Я вернулся к тому, с чего начал.
Заплатив деньги, я ушел и устроился в автомобиле, который поставил на пустыре за домом. Я начал читать историю жизни Грациано, а потом уснул. Вернулся я в комнату около полуночи. Теперь в ней никого не было. Прошло, наверное, не меньше часа, прежде чем я задремал. Утром я проснулся от их храпа. На тумбочке возле кроватей стояли две бутылки пива и новенький будильник, а на комоде еще одна пустая бутылка подпирала «Английских красавиц».
Камерон сидел без пиджака на крыльце и читал воскресную газету. Он приставил ладонь к глазам, загораживаясь от косых лучей утреннего солнца.
— Ранняя пташка! — сказал он. — Что, эти два будильника не дали вам спать?
— Я даже не слышал, когда они вернулись.
— Все деньги в карманах целы? — Он посоветовал мне проверить. — Завтракать будете?
— Я ухожу.
— Ну, так мне будет меньше возни… если только вы не заявитесь завтракать позже. Мне по воскресеньям приходится стряпать на четырнадцать человек. Бог знает что такое, верно?
— Вы же берете за это вполне достаточно. Так чего вам беспокоиться?
— Да это никакое не беспокойство, — неопределенно сказал он. — Разве что вот вы решили бы позавтракать. Поэтому-то я и посмотрел на вас таким странным взглядом, когда вы вышли. Может, вы обратили внимание? Я всегда пускаю в ход этот взгляд, когда думаю, что от человека можно ждать неприятностей. И знаете, часто помогает.
— Я никакого взгляда не заметил, — сказал я.
— Неужто? — В его кротких глазах появилось недоумение: как это они оказались бессильными? — Вас ведь зовут Артур Мейчин?
Когда я кивнул, он постарался придать себе серьезный вид, а может быть, и заинтересованный.
— Я так и подумал, когда вы вошли. Мне ваше лицо показалось знакомым. Я видел вас в Примстоуне. — Он полистал свою газету. — Как это вас занесло в наш район? Воздух тут почище? Или какие-нибудь неприятности, а?
— Нет.
— Ну, я вам поверю на слово. Не забудьте. Вообще-то я пущу к себе кого угодно. Я не из разборчивых, но только чтобы никаких неприятностей. Нет уж, спасибо. Я верую в полнейший мир. Чтобы ни драк, ни неприятностей — вообще ничего, — он развел руки в стороны, отметая всякую мысль о неприятностях. — Уж лучше я сам буду спать в доме.
— Так вы, значит, здесь не живете?
— Мы с женой живем в гараже во дворе. Загляните как-нибудь, когда нас не будет, и посмотрите. Вообще-то там очень уютно. Да, кстати, это ваша машина стоит на пустыре?
— Я ее просто оставил там на ночь.
— Так я хотел вас предупредить: это место не годится. Ребята вокруг хуже горчицы. Если ее тут надолго оставить, так от нее скоро ничего не останется. Лучше ставьте ее вот тут на улице, чтобы она была под присмотром. А понадобится ее помыть, так скажите мне. За пять шиллингов я сделаю все что надо.
Я помахал ему рукой, проезжая мимо, и продолжал следить за ним в зеркало. Он даже почтительно привстал и глядел мне вслед.
— Посмотрите-ка, кто это! — сказал Фрэнк, отрываясь от своей грядки. — Рад тебя видеть, Арт. — Он шагнул на дорожку и начал соскребать о кирпичи жирную землю с подошв. — Жена еще не встала, но теперь-то она поднимется, раз ты пришел.
— Здравствуйте, мистер Мейчин! — крикнул с заднего крыльца его двенадцатилетний сын и кинулся в дом сказать матери.
— Куда это ты вчера исчез? — спросил Фрэнк. Он кивнул мне на дверь гостиной, а сам задержался в кухне, чтобы снять сапоги. — Все решили, что раз ты уехал, то, значит, обиделся.
— Может, так оно и было.
— Да, конечно, это было неожиданно, ничего не скажешь. Но с другой стороны… куда ты подевался в четверг? Райли сказал, что ты приходил за деньгами, но, кроме него, тебя никто не видел.
В кухню, смеясь, вошла миссис Майлс.
— Вот хорошо, что вы зашли, Артур! Вы теперь редко бываете в наших местах — я, конечно, о собачьих бегах не говорю. Ну-ка, Кенни, поставь чайник, — приказала она сыну. — Можете пить чай, Артур, и смотреть, как я завтракаю. Я как раз вставала, когда услышала вашу машину.
— Нынче у матери лежачий день, — сказал Фрэнк. — Я-то позавтракал в половине седьмого, учти.
— Въелась в него эта привычка… вставать, как для утренней смены.
— Верно! — Фрэнк серьезно признал свою вину, как большой мальчик. — После половины шестого я уже не сплю. Я чего-нибудь съем с тобой, детка. И положи парочку яиц для Арта.
— Разве вы не завтракали? — спросила Элси.
— А это сразу видно, — сказал Фрэнк. — Он ведь и не побрился. Ты делай, как я тебе говорю, а мы с ним пока пойдем в гостиную.
Элси понимающе кивнула.
— Я очень огорчилась, когда вас вчера вычеркнули, Артур, — сказала она мне.
— Да, да, детка, — сказал ей Фрэнк.
Мы прошли в гостиную, и он закрыл дверь. В этой тесноватой комнате он был невероятно велик, и голова на бычьей шее пригибалась, опасаясь потолка.
— Я вижу, ты на машине, — сказал он, кивнув в сторону окна, где над живой изгородью виднелась крыша автомобиля. — А я, Арт, ничего не знал… насчет вчерашнего. До четверти третьего. Это как-то непохоже на Уэйда — вычеркнуть игрока, а потом спрятаться. Я во время матча его нигде не видел.
— Ну, особенно его винить не приходится. Вероятно, это ему самому неприятно.
Фрэнк опустился на кушетку. Она всколыхнулась и расплющилась под его весом.
— А как ты думаешь, почему тебя вычеркнули? — спросил он настойчиво.
— Ты ведь сам знаешь, Фрэнк. Я уже давно играю скверно. В четверг я не явился на тренировку и не объяснил почему. Я не в претензии, что меня вычеркнули… И вообще я пришел не из-за этого.
Фрэнк медленно наливался удивлением.
— Что-нибудь случилось, Арт?
Большой пес, которому сделали больно.
— Хозяюшка вышвырнула меня вон.
Он молчал, переваривая эту новость. Мне было слышно, как за дверью Элси разговаривает с Кенни.
— Но ты же прожил у нее больше трех лет, — против его воли сказано это было с упреком.
— Я не хотел уезжать. Я даже попробую вернуться, когда она немного поостынет. Просто все накапливалось и накапливалось… А на этой неделе вдруг прорвалось.
— Видишь ли, Арт, я никогда не сую носа в дела, которые меня не касаются, но по правде — ты сейчас поймешь, почему я так говорю, — это меня не удивило. Странно еще, что ты так долго продержался. Я не знаю, зачем тебе понадобилось связываться с Уивером — ничего хорошего это тебе не дало. Я играю в клубе больше двенадцати лет, а пожалуй, и двенадцати раз с ним не разговаривал.
— У некоторых получается так, Фрэнк, а у других — нет.
— Может быть. И вот ты — взялся неведомо откуда, а у тебя сразу уже машина, и с Уивером вы друзья-приятели. Я же тогда тебя предупреждал, чем это кончится.
Он укоризненно покачал головой.
— Мне не по душе, что ты попал в такое положение, — ведь к регби это никакого отношения не имеет. А ты, Арт, всем обязан регби, с какой стороны ни посмотри. Я вот о чем, — он наклонился вперед и выставил свой огромный кулак. — Профессиональное регби — хорошая игра. Пожалуй, других таких, чтобы годились для настоящего мужчины, и не осталось, а те, кто старается ее переделать, только портят. Твоя беда, Арт, в том, что ты начал много о себе воображать. А толкнул тебя на эту дорожку Уивер. Я давно уже хотел тебе об этом сказать, так что ты не обижайся. Поднялся ты над «Примстоуном», прямо как солнце, и если не хочешь закатиться, так возьмись за ум, да поскорее. Я вот сказал, что мне все это не по душе, а потому не по душе, что, по словам Джорджа Уэйда, они прикидывали, не сделать ли тебя капитаном, когда я уйду. Теперь ты понимаешь, почему это меня касается. Я столько лет вложил в нашу команду, а теперь все полетит к черту, потому что тебе понадобилось подлизываться к Уиверу и валять дурака с этой твоей миссис Хэммонд. Еще немного, Арт, и ты устроишь хорошенькую кашу.
— Ну, а что, по-твоему, мне делать? У меня просто нет больше настроения играть. Как по-твоему, может, мне повидать Уэйда и поговорить с ним?
— Это тебе решать. Я не знаю, что тебе делать. Я знаю только одно: как ты довел себя до того, что перестал играть. Если дело тут в этой твоей миссис Хэммонд, тогда, по-моему, тебе следует раз и навсегда во всем разобраться. То есть как ты на нее смотришь. Я, конечно, знал про нее с самого начала, но кто она, собственно, для тебя? Жениться ты на ней собирался или она была просто женщиной, к которой ты шел каждый вечер? И между прочим: я о ней ничего не говорил жене. Она даже не знает, что есть такая миссис Хэммонд. Так что при ней об этом не заговаривай. Она считает, что ты хороший, чистый мальчик и с бабами не путаешься.
Я ждал, что Фрэнк мне хотя бы молча посочувствует, и теперь говорить мне, собственно, было нечего. Он выслушал какие-то мои извинения и сказал только, что мне нужно «уладить все с миссис Хэммонд». Когда Элси постучала и просунула голову в дверь, мы оба стояли и молча смотрели в окно.
Я провел этот день у Фрэнка: копал грядки, играл с Кенни. После обеда я повез их на машине покататься. Вечером к Элси пришли ее родственники — они тоже играли с Кенни и еще в карты. От таких родственных сборищ можно сдохнуть. Когда Кенни отправился спать, я сказал, что мне пора идти, и Фрэнк не стал меня удерживать. Он проводил меня до машины, а остальные махали мне из окон.
Когда я вернулся к себе, дверь была заперта, а может, ее заклинило. В одной из комнат верхнего этажа горел свет. Я забарабанил в дверь, но ничего не произошло. Не помог и камешек, который я бросил в освещенное окно.
Позади дома свет горел только в гараже, и створка больших дверей была приоткрыта. Женщина, одетая только в юбку, с грудями, как пустые мешки, спряталась за занавеску.
— Что там еще? — спросила она.
— Я не могу войти. Дверь заперта.
— А по ночам через парадное не ходят, — сказала она. — Ходят через черный ход. Если дверь не сразу откроется, толкните хорошенько — задвижек на ней нет.
Ее тень на занавеске прислушивалась, скоро ли я уйду. Я поднялся по лестничке из двенадцати ступенек сбоку от гаража и открыл дверь. Наверху не то пили, не то пели, и, когда я проходил мимо двери освещенной комнаты, танцующая парочка споткнулась о бутылку, свалилась и уставилась на меня где-то на уровне моих колен.
— А, пошел ты, Пэдди! Нечего заглядывать в чужие комнаты! — сказал мужчина и лягнул дверь так, что она закрылась. Потом они о чем-то заспорили, а когда я дошел до конца площадки, дверь снова отворилась и мужчина просунул голову в щель.
— Извиняюсь, что я тебя облаял, приятель! — крикнул он. — Фрида приглашает тебя зайти и выпить.
— Спасибо, — ответил я. — Но я иду спать.
Он втянул голову в комнату.
— И никакой он не ирландец, так чего же ты заладила «Пэдди» да «Пэдди»? — спросил он девицу и захлопнул дверь.
В комнате имелся только один ирландец. На нем была форма автобусного кондуктора, и, судя по его виду, его мучили кошмары — он сидел в тужурке, но без брюк и, широко разинув рот, смотрел, как я вхожу.
— Здорово, друг, — сказал он. — А лучшая половина тоже с тобой?
— Нет, я один.
— И слава тебе господи… А то мы опасались. Значит, можно брюк не надевать… Вы, случаем, не ирландец?
— Нет, я здешний.
— Здешний? — сказал он и тут же закачался от удивления, стараясь придать себе вид ирландца из кинокомедии. — Значит, местный, тра-та-та и тра-та-та? И чего же, сынок, тебя занесло в этот хлев?
— Я в отпуску, — сказал я ему, прошел к своей кровати и сел.
— В отпуску! Но только я чую тут какую-то шутку. Погодите-ка, я скажу моему приятелю… Он под этой треклятой кроватью. Э-эй, Пэдди! Будьте добры, вылазьте. Комен зи наружу.
Он нагнулся, наполовину влез под кровать и опять разогнулся — все единым духом. Его физиономия побагровела.
— Он из самых что ни на есть лучших ирландцев — украинский Пэдди. Верно? — спросил он, когда из-под кровати появился белобрысый человек в кальсонах и жилете — форменные брюки он держал в руке и нервно улыбался. — Ему почудилось, что вы с дамой, вот он и нырнул под кровать… Так нырнул, словно там футов сто глубины, не меньше. Ну-ка, послушайте, не то он раскроит мне черепушку. Я, собственно, хотел сказать, что он литовец. У меня все эти дальневосточные народы напрочь перепутались.
— Он говорит по-английски? — спросил я.
— Конечно, говорю, — сказал литовец с легким ирландским акцентом поверх своего собственного. — Будьте добры, проходите. Не стойте в проходе. Проходите вперед, будьте так любезны. Кому еще билеты, сукины дети?
— Ну что, слышали вы ирландский получше? — с гордостью спросил его друг. — Я часами могу сидеть и слушать, как он шпарит на моем родном языке лучше меня самого. Теперь вам ясно, почему говорят, что Шекспир был русским?
Он кончил раздеваться и облачился в зеленую пижаму. Они все еще тараторили, когда музыка по ту сторону площадки смолкла и весь дом за стенами нашей комнаты и улица погрузились в тишину. Мы все трое лежали на кроватях, и ирландец читал вслух подписи в своих «Английских красавицах» и показывал мне и литовцу картинки.
— Я прежде был на шахтах, — рассказывал мне литовец, перекрикивая его. — Но у вас, англичан, там тяжелая работа. Я ушел, потому что здоровье стало плохое… грудь болит. Доктор рекомендует свежий воздух и жизнь в деревне.
— И теперь, когда автобус поворачивает, он высовывается в дверь, чтобы глотнуть чистого воздуха, — сказал ирландец. — А как вам вот это покажется: «В глазах ее звездочки, и солнце — в улыбке»? Или вот: «Неприступна и неуязвима, кроме дырочки в чулке». Здорово придумано, верно?
— Но мое здоровье стало лучше. Это совершенно ясно. Я скоро окрепну, стану коммунистом и уеду домой. Мои родители и все родные живут в Вильнюсе. Совсем по соседству с вашей страной. Я бы хотел туда вернуться. Климат у вас… одна непогода. Да и домохозяин не из тех, с кем мне нравится жить по соседству. Камерон и эта его жена. Видели бы вы его жену! Очень плохо. А он мог бы стать лучше. Вы их видели? Они живут в гараже позади дома.
— Да, я видел, когда шел домой.
— Тогда вам понятно. Он получает двадцать фунтов в неделю с этого дома и живет в гараже. В такой сверхцивилизованной стране ждешь другого.
— Так какого черта ты тут живешь? — сказал его приятель. — А вот взгляните: «Небесное тело, взятое в пространстве». Как по-вашему, фараон греет тут руки или нет?
— Эта страна похожа на автомобиль: мотор работает, все в исправности, а он летит под…
— Кончай эту муть! — прикрикнул Пэдди. — Он это рассказывает всем, с кем ни заговорит. Вот посмотрите сюда. Чистая порнография, верно? Хоть для смягчения и нарисовали на заднем плане маяк.
Их голоса заглушили боль, прятавшуюся где-то в моем сознании, и я постепенно начал засыпать. Окончательно я провалился в сон, когда свет внезапно погас и Пэдди сказал:
— Сволочь Камерон выкрутил пробки. А я как раз добрался до «Невесты в ванной».
Мне вспомнились деньги у меня в кармане и ключи от машины, но чтобы очнуться, требовалось слишком большое усилие, и я уснул.
* * *
Я проснулся от треска будильника, как от удара.
Привскочив на постели, я решил было, что живу еще у миссис Хэммонд и будильник зазвонил по ошибке. Они уже оделись и теперь застегивали тужурки.
— Пожар погашен и все в полном порядке, шкипер, — сказал Пэдди.
— Работа, — сказал литовец. — Я работаю на автобусе пять двадцать, а ирландец — на пять сорок пять. А вы разве не работаете?
— Я забыл тебе вчера сказать, — вмешался Пэдди. — Он в отпуску. — Повернувшись ко мне, он добавил: — Ну, желаю загорать хорошенько, — и они пошли в соседнюю комнату, где разбудили кого-то еще, а потом раздались бульканье и плеск воды.
Литовец производил на меня гнетущее впечатление — таким он был перемещенным, выброшенным из жизни. Я снова заснул, а у меня в голове все отдавался и отдавался его голос. Потом мне почудилось, что Пэдди заглянул в дверь и сказал:
— Я забыл вас предупредить. Жена Камерона приходит убираться по утрам. Деньги, оставленные в карманах, она считает чаевыми. Так что оставляйте только мусор.
Когда солнце добралось до моего угла, я сел, прислонившись к подушке, и стал читать «Там наверху». В доме стояла тишина: возможно, в нем не было ни одной живой души — все ушли на работу. Я было хотел и сам пойти, но посмотрел на будильник и раздумал. Когда я встал, то обнаружил, что из моих карманов исчезла вся мелочь.
Я поехал в город и взял денег в банке. Проезжая по Маркет-стрит, я увидел Джонсона — он часто гулял по утрам. Мне захотелось остановиться и поговорить с ним, узнать, как он и что, но я не остановился, а свернул в какой-то гараж и распорядился, чтобы мне залили бензина в бак. Когда я выехал на улицу, Джонсона уже нигде не было видно.
Взглянув с гребня на город, работающий совсем нормально, но без меня, я почувствовал себя отщепенцем, изгоем. Теперь мне было запрещено жить там. Я остановил машину у замка Колсби. В воздухе стоял запах работы. Грузовики дальних перевозок уже покидали долину — дороги превратились в темные движущиеся полоски, а город был почти лесом, где эти насекомые ползали среди расчищенного подлеска домов и обрубленных стволов фабричных труб. Шесть металлических труб химического завода, слитые воедино, как забинтованные пальцы, выбрасывали на реку рыжий туман азотистых паров. Возле фабрики Гарриса стройная черная труба взметывала плотный куст белого пара, который держался в воздухе несколько минут и только потом лениво расплывался в синеватую дымку. Время от времени какая-нибудь коренастая труба изрыгала через долину угольно-черный клуб горячего дыма, и он, курчавясь, уплывал за гребень, заволакивая угрюмую Райдингскую больницу над Хайфилдом. У самого склона, там, где шоссе петляло среди деревьев перед подъемом к Сэндвуду, под самым кладбищем, стиснутым, забитым могилами, паровой котел кирпичного завода пыхтел, как паровоз, пытающийся сдвинуть с места длинную вереницу вагонов. Клубы пара, которые он быстро выбрасывал один за другим, складывались в разбухающую колонну, чтобы тут же развалиться и рассеяться на ветру. А ниже города, вздымая в небо две огромные ноги перевернутого трупа, раскинулась поперек долины электростанция — единственное новое здание, которое мне было видно. Она, словно плотина, запирала город и не давала ему хлынуть дальше в долину, через лоскутья полей, к Стокли. И где-то под всем этим была та единственная, которую я знал по-настоящему — среди всей этой громады и ее бесчисленных частностей, — песчинка, пылинка в стотысячном муравейнике, пятнышко в кружеве всех этих улиц. При взгляде отсюда она теряла всякое значение, так, словно я был богом.
В последующие дни это чувство отчужденности еще усилилось из-за литовца. Может быть, я ощущал его изгнание даже сильнее, чем он сам. Трех дней такой оторванности от прежней жизни хватило, чтобы переменить все. Словно какой-то долг все рос и рос, а теперь мне внезапно, без предупреждения предъявили счет: плати, а не то… Эта пустота гасила все прежние чувства и к людям и ко всему остальному. Мне представлялось, будто я стал таким, какой была миссис Хэммонд, когда я только с ней познакомился, и оказалось, что мне это приятно. Уверенно я чувствовал себя только в машине. Никогда еще я так ею не гордился. Я дочитал «Там наверху» и купил «Любовь будет завтра». В этой книжке сыщик Стилтон («Сыр» — для своих друзей) ведет расследование в каком-то американском городе — забыл в каком. И он влюбляется в подружку бандита, а она — в него. Но она слишком уж много знает про бандитов, и ее, конечно, приканчивают. Стилтон после этого чуть не сходит с ума и разделывается с шайкой в один присест. А потом, немного остыв, вдруг понимает, что все кончено. Девушки нет. И он не хочет больше жить. На последней странице он в своей машине уезжает из города. Выбравшись на шоссе, он дает полный газ. И вот и город, и люди, и его воспоминания — все остается позади. А впереди уходит вдаль пустое шоссе. Автомобиль мчится с бешеной скоростью. Стилтону становится легче на душе, и он начинает думать о следующем городе и о следующей девушке, которая, может быть, живет там.
Это произвело на меня сильное впечатление. И я подумал: эх, если бы и я мог покончить со всем, как Стилтон, уехать куда-нибудь еще и оставить всю эти неразбериху позади! Я даже попробовал выехать из города на большой скорости. Но шоссе было забито машинами. И оно извивалось, ныряло, горбилось. Да и не проехал я двух миль, как уже оказался в следующем треклятом городе, когда первый еще не кончился. Так они и переходят один в другой. И нет простора, чтобы почувствовать себя свободным. Я был на цепи, и куда бы ни ехал, мне предстояло вернуться той же дорогой.
Вечером в среду, еще совсем рано, Пэдди вернулся домой на карачках. Да и литовец был почти в том же градусе. Оба они наблевали на пол; потом рухнули на кровать ирландца и лежали там, обнявшись. Я сидел и не знал, то ли мне убрать, то ли убраться.
Через некоторое время литовец соскользнул на пел и встал возле моей кровати на четвереньки, поматывая головой. И начал лаять — сначала он негромко отрывисто тявкал, а потом подвывал. В его голосе звучала настоящая тоска. Пэдди, лежа на спине, что-то бурчал и рыгал, лицо у него было белее простыни — видно было, что его сейчас опять стошнит.
Когда я встал, литовец укусил меня за ногу. Я перескочил к соседней кровати, стащил Пэдди на пол и поволок его к двери. Кое-как я дотянул его через площадку в уборную, упер подбородком в унитаз и ушел.
Литовец ползал по комнате взад и вперед, он встретил меня жутким волчьим воем, но кусаться больше не стал. Я посоветовал ему лечь. Он остановился и посмотрел на меня.
— Вы напились, — сказал он. — Мы сегодня встретили одного вашего знакомого.
— А он вам сказал, как его зовут?
— Ну, конечно, мой друг. Или, по-вашему, я не умею говорить с людьми? Он просил передать привет.
— А кто это был?
— Кто это был? — передразнил он. — Пожалуйста, не перечисляйте столько имен. Дайте мне подумать… Филд… Нет. Брук, Дейл, Холл, Холм, Крот… все эти имена, да вы слушаете? Слон, Кит — это же не имена. А зоопарк. И мы исходили все холмы в окрестностях… Пэд вам не говорил? Мы поднялись вверх по одной стороне долины, а потом поднялись по другой стороне долины. Мы ходили вверх по долине, и мы ходили вниз по долине. Целые мили… И где-то мы побывали в дамском туалете. Может быть, это было вверху долины. Или внизу. Видели бы вы ее лицо! «Что вы тут делаете, моя милая? Билет у вас есть?» Я понял, в чем дело, только когда увидел все эти… как они у вас называются?., целый их ряд. Вы когда-нибудь бывали в дамском туалете? Куда удобнее мужского — женский мир, мой друг, не правда ли? Почему они вешают такие неясные таблички? И где Пэд, гав-гав-гав, у-у? — Он повалился на кровать и продолжал говорить, уткнувшись в одеяло. До меня доносилось только приглушенное рычание.
Я вытащил из комода мои рубашки, свернул их и взял обе книги. Спускаясь по лестнице, я обогнал Пэдди. Я не стал тратить времени на то, чтобы сообщить Камерону, что ухожу из его хлева. Я сел в автомобиль и машинально поехал домой к родителям, заранее стискивая зубы в предчувствии всех нравоучений, которые мне предстояло выслушать. Оставалось надеяться только, что отец работает в ночную смену, но шансов на это было мало.
Однако, открыв дверь, я увидел не мать и не отца, а, как мне почудилось, призрак миссис Хэммонд. Она вскочила, когда я вошел, а мать обернулась и поглядела через плечо — лицо ее в электрическом свете было бледным и испуганным.
Все мы что-то удивленно пробормотали и посмотрели друг на друга так, будто встретились впервые.
— Что ты тут делаешь? — выговорил я. Я часто воображал ее здесь, в этой аккуратной гостиной, а теперь, когда это, наконец, случилось, все было как во сне.
— Я встретилась с вашим отцом… на Сити-роуд. Он попросил меня зайти.
Я смотрел, как мои родители разыгрывают спектакль, словно все это было отрепетировано и теперь мы просто исполняли свои роли. Я начал называть миссис Хэммонд «Валли». Я говорил — «Валли то», «Валли се», или же: «Я не понимаю, Валери», «что это такое, Валери?» Я хотел показать им, показать ей, что она моя, что нас связывает слишком многое и никому и ничему не под силу разорвать эту связь. Я разговаривал не с миссис Хэммонд. Ее больше не существовало. Это доказывалось тем, что Валери сидела тут.
— Мы не знали, куда ты делся, — объяснил отец. — Мы позвонили в клуб, но там сказали, что им тоже ничего не известно. Мы все очень беспокоились. Потом я случайно встретил на Сити-роуд миссис Хэммонд и попросил ее зайти поговорить с твоей матерью. Твоя мать была просто…
— По-моему, Валли устала, — сказал я ему. — Может быть, ты хочешь поехать домой, Валли?
— А когда мы узнали, что тебя вычеркнули, мы испугались, не случилось ли чего-нибудь.
— Так ты поедешь домой, Валли? — снова спросил я ее.
Моя мать сидела вся красная. Она стиснула руки на коленях с беспомощным видом и глядела на нас с ней так, словно мы подстроили все это нарочно.
— Миссис Хэммонд зашла сказать нам, куда ты мог переехать, — заговорила она. — Я думала, ты сегодня переночуешь дома, Артур, раз тебе некуда идти.
— Так будет удобнее и для меня, — сказала миссис Хэммонд. Обе они говорили многозначительно, борясь друг с другом. — Я могу взять такси.
Валери, как всегда в тех случаях, когда она хотела настоять на своем, держалась очень чопорно. Она следила за мной с прежним молящим выражением — испуганная и ни в чем не уверенная.
— Нет, я поеду с тобой, Валли, — сказал я.
— Час уже поздний, — сказал отец негромко. — Надо все это решить побыстрее. Если миссис Хэммонд сейчас неудобно, чтобы ты ехал к ней, так зачем навязываться? Может быть, она уже сдала твою комнату другому жильцу.
Его вмешательство в эту женскую войну было слишком неуклюжим, слитком прямолинейным. Его голос словно прокатывался мимо них, не привлекая их внимания.
— Да, я договариваюсь, — сказала она неопределенно.
— Ну, вот видишь, — подвел он черту.
— Но ты же не имеешь права, — сказал я ей. — Это моя комната.
— Мне будет крайне неудобно, если вы вернетесь, — сказала миссис Хэммонд тоном квартирной хозяйки. — Да и ваша матушка хочет, чтобы вы жили дома. Может быть, вы его образумите, мистер Мейчин? — добавила она, обращаясь к моему отцу.
— Он образумится, будьте спокойны, — ответил он и поглядел на меня, как на больного. — Мы просто не знали… и немножко тревожились. Я пойду вызову вам такси. Это не займет и минуты.
— Валли просто стесняется, — сказал я ему, рассердившись, что он не замечает, как они им орудуют. — Я ее отвезу.
Она бросила на мою мать отчаянный взгляд пленницы. Это был тот же полный сумасшедшего страха взгляд, как тогда в пятницу, — взгляд загнанного в угол зверька.
— Лучше я вам прямо скажу, — торопливо сказала она. — Артур и я совсем рассорились, и я попросила его съехать.
Они смотрели друг на друга — моя мать постепенно подбиралась к тому, что хотела узнать, но не была уверена, хватит ли у нее сил примириться с этим.
— Я простил Валли… миссис Хэммонд давным-давно, мама, и она это знает.
— Простил меня! — Миссис Хэммонд даже покраснела, стараясь не дать себе воли в присутствии моих родителей. Она просто не могла поверить, что я так беззастенчиво воспользуюсь создавшимся положением. — Мне кажется, я должна сказать прямо, — решительно заявила она, — что начали вы. И нехорошо с вашей стороны так все переворачивать. Не понимаю, как вы можете!
Она начала застегивать пальто. Мы все наблюдали за ней так, словно эта операция кровно нас касалась. Моя мать глядела на нее, как глядела бы на проститутку, с которой застала бы меня в постели. Потом она сказала:
— Неужели ты так ничего и не объяснишь, Артур? Разве ты не думаешь, что пора бы твоим родителям узнать, в чем, собственно, дело? Ведь мы же всегда помогали тебе во всех твоих прежних неприятностях.
Она смотрела прямо на меня, чтобы полностью игнорировать миссис Хэммонд.
— Мы поспорили, только и всего. Ну и немножко перегнули палку. Все вполне естественно. Мы ведь не чужие и не раз уже ссорились. Как сказала Валли, виноват больше я. У меня было скверное настроение.
— Ты жил у миссис Хэммонд очень долго, Артур.
— Я знаю. Поэтому я и хочу помириться.
— Возможно, после стольких лет миссис Хэммонд считает, что ей следует найти другого жильца.
Мы выждали, чтобы посмотреть, как ее слова повлияют на ситуацию — не вызовут ли они взрыва, который захватит нас всех. Однако миссис Хэммонд сказала:
— Да, я об этом думала. Теперь я попробую сдать эту комнату женщине, а может быть, мы некоторое время поживем без чужих в доме.
— Об этом я слышу в первый раз, — сказал я ей. — Тебе же это не по средствам.
Мать резко меня перебила:
— Во всяком случае, я вижу одно: ты не имеешь права насильно навязываться миссис Хэммонд в жильцы. Если она была вынуждена просить тебя съехать, так ты не можешь требовать, чтобы она вновь пустила тебя в свой дом.
— Он этого требует, — подхватил отец, — словно он над всеми хозяин.
Оба они были готовы встать на сторону миссис Хэммонд, лишь бы она ушла.
— Это должны решать мы с миссис Хэммонд, — сказал я ему. — Сейчас я отвезу ее домой на машине, и по дороге мы все обсудим.
— Я поеду домой одна, — сказала она. — И, с вашего позволения, все уже решено.
— Домой я тебя все равно отвезу.
— Лучше пусть ваш отец вызовет такси… У меня есть деньги.
Моя мать наблюдала за нами с яростью, голодной и захлебывающейся, которая стерла с ее лица всю доброту и мягкость. Я еще никогда не видел его таким обескровленным. Бесцветным.
— Ты не смеешь так разговаривать с миссис Хэммонд! — крикнула она. — Ты говоришь с людьми, словно они твои рабы и обязаны тебе повиноваться. Ты не смеешь говорить с ней так! Отец! Иди вызови. такси и не слушай Артура!
Он надел свою железнодорожную шинель и начал продевать серебряные пуговицы в петли неуклюжими скрюченными пальцами, не глядя ни на кого из нас.
— Ты же не идешь с ней? — тихо сказала моя мать, когда я взял миссис Хэммонд под руку. Ее она видела только до локтя, которого касалась моя ладонь.
— Я отвезу ее домой. Мои вещи у меня в машине.
Тут, наконец, моя мать посмотрела на миссис Хэммонд.
— Неужели вы позволите, чтобы он… теперь? — воззвала она к ней.
— Мне все это надоело и противно, миссис Мейчин. Все противно. Он противен! Вы противны! Вы все противны! Я никого из вас не хочу больше видеть! Никогда!
Она обвела нас темным взглядом из-под бровей и вышла.
Я повернулся, чтобы пойти за ней, но моя мать, шатаясь, бросилась к двери.
— Оставь ее! — крикнула она, чуть не упав от своего стремительного рывка и цепляясь за косяк, чтобы удержаться на ногах. — Как ты можешь, Артур! — Она дрожала так сильно, что у нее подгибались колени. — Как ты можешь! Тебе нельзя туда возвращаться!
— Ах, вот что ты о ней думаешь!
— Да, и не стыжусь. Ты не можешь вернуться туда… теперь. К такой, как она!
— Скажи-ка, ты всегда о ней так думала?
— Так тебе будет лучше, Артур. Поверь, так тебе будет лучше. Я не могу себе представить, чтобы ты сделал это. Сделал что-нибудь такое!
— Мы хотим только помочь тебе, сынок, — растерянно сказал отец.
— А она как же? Ей, значит, никто не должен помогать? А что она будет делать?
— Она не годится для тебя, — предостерегающе сказала моя мать.
— Я слишком долго жил с ней, чтобы вы теперь могли меня остановить. Вы не помешаете мне уйти.
— Не годится, Артур, — стонала мать. — Она защищает своих детей… я защищаю моего сына. Ты не можешь вернуться, я же сказала тебе. Теперь уже нельзя. И она для тебя не годится. Никак.
— А я думал, что ты веришь в милосердие — что у тебя есть вера. Значит, она не в счет? Или она ничего не чувствует?
— Ты видел, что она чувствует. Как ты мог, Артур? Так пресмыкаться перед ней. Словно паршивая собачонка! Я не пущу тебя туда. Чтобы пройти через эту дверь, тебе придется меня убить.
Ее лицо обмякло. Все кости под ним исчезли. Кожа обвисла и легла складками, как сморщенная резиновая маска. Я больше ее не узнавал.
— Ты знаешь, что я жил с ней! — крикнул я. — Ты это знаешь? Жил с ней!
— Мы это знаем… мы знаем, как у вас было.
Это ее не возмущало. С этим она давно смирилась. Но теперь ей представился случай вырвать это из своей жизни и уничтожить. Я сел подальше от огня.
Она знала, как легко может добиться, чтобы я почувствовал себя виноватым. Отец медленно — всякое напрасно потраченное усилие унизительно — снял шинель, бесполезную форменную одежду.
— Ты нарочно стараешься сделать матери побольнее, сынок, верно? — спросил он угрюмо.
Она закрыла лицо руками и, не отходя от двери, зарыдала от пережитого волнения.
— Оставь его, — бормотала она.
— Не в этом дело, мать, — сказал он робко, стесняясь показать свое чувство. — Я не могу стерпеть, что он тебя мучает, — он тоже весь дрожал. — Я этого не могу снести. Ему это нравится!
— Оставь его. Не трогай! — шептала она.
— Без тебя, конечно, никак не обойдется? — спросил я его.
Он наклонился надо мной. Потом размахнулся и изо всех сил ударил меня по лицу.
— Питер! — вскрикнула, она и бросилась к нему, чтобы схватить его за руку. Но он и хотел ударить меня только один раз.
— Это тебе за то, что ты терзаешь свою мать, — сказал он, и в его покрасневших глазах стояли слезы. — Женщину, которая отдала тебе все.
Они отошли в противоположный угол и ждали, зная мой бешеный характер. Но я не смог даже сразу заговорить. Он вбил мне в рот мои вставные зубы.
3
Если верить статье Эда Филипса в «Гардиан», существует три типа спортсменов — животный, нервный и интеллектуальный. В профессиональном регби, нелегкой игре, которой занимаются ради денег, личного престижа и радостей, обеспечиваемых этими двумя и некоторыми другими факторами, подавляющее большинство игроков принадлежит к животному типу.
Нервный тип спортсмена, по утверждению Эда, чаще всего встречается среди крайних — это всегда человек невысокий, худощавый, подвижный и очень ловкий. Обычно он играет недолго, хотя бывает, что и блистательно, — достаточно одной серьезной травмы, чтобы он навсегда утратил уверенность в себе. Интеллектуальный игрок чаще всего бывает центром либо в защите, либо в нападении и добивается успеха благодаря расчету, а не просто грубой силой.
Первый хав должен представлять собой сочетание всех трех типов — ему требуется животная сила форварда и подвижность бека, иначе у него вообще ничего не выйдет. Ему обычно приходится тяжелее всех, так как из всего, что находится на поле, он по важности уступает только мячу. Вот почему Морис был крепок, вот почему он был подвижен и вот почему он обладал тонкой физической интуицией. Он сохранял свое место, утверждал Эд, потому что со стороны кажется, будто он не способен чувствовать боль. Морис был самым популярным игроком «Примстоуна».
Одной его бьющей через край энергии было достаточно, чтобы Мориса замечали даже те, кто совсем не разбирался в простой внутренней механике регби. Это было большим преимуществом для игрока, в конечном счете неспособного на тот завершающий, найденный по вдохновению штрих, который отличает великое от хорошего. Кроме того, благодаря своему месту он мог управлять почти всеми действиями на поле, накладывая на них собственный отпечаток — быстроты, смелости или подвижности. Тем же способом он мог поставить в глупое положение другого игрока — с таким небрежным и кротким видом, что кажется, будто жертва сама во всем виновата.
И вот это-то он и начал проделывать со мной, считая, что без меня у него с Джудит не дошло бы до свадебного марша. С тех пор я чаще играл в дублирующем составе, а стоило мне вернуться в основной, как он из кожи вон лез, лишь бы испортить мне все дело. Создавалось впечатление, будто я совсем потерял форму, и, быть может, навсегда.
Наверное, в том, что ему пришлось жениться на Джудит, он винил именно меня. Свою злость он прятал — мы слишком хорошо знали друг друга — и сводил со мной счеты так, чтобы не показаться слишком уж мелочным: искусно портил мне игру.
Теперь я жил дома, и отец ходил на все последние матчи сезона в городе и даже, как прежде Джонсон, ездил на важные встречи в другие места, стараясь ради меня увлечься регби. Но эта цель по самой своей сути была недостижима.
А мне общества Мориса не хватало больше, чем я готов был признаться самому себе. Я позволял ему портить мою игру отчасти потому, что мне уже казалось, будто я и правда в чем-то пород ним виноват, а отчасти потому, что я вообще больше не хотел играть. Я заметил, что теперь, когда я был не в форме, со мной стало разговаривать гораздо больше людей, чем прежде. Им казалось, что я стал доступнее. А может быть, теперь я забавлял их еще больше.
Морис не пригласил меня на бракосочетание, которое состоялось в регистратуре муниципалитета в первую субботу после окончания сезона. На церемонии присутствовали Фрэнк и почти вся команда вместе с Джорджем Уэйдом. Слоумер прислал телеграмму и какой-то подарок, а Уивер устроил огромный прием. Все это мне рассказал Фрэнк, с которым во время мертвого сезона меня постоянно тянуло видеться. За время последних матчей я вообще утратил интерес к чему бы то ни было. И просто плыл, куда меня гнал ветер.
И Джудит и Морис пытались делать вид, будто все произошло самым естественным образом, но Морис не был уверен, что их жизнь действительно наладится. Никто не верил, что он женился по доброй воле. Однако когда он ушел работать в чертежное бюро, которое организовал мистер Паркс, отец Джудит, дело приняло другую окраску. Я не жалел, что он ушел с завода.
Все лето, живя дома, работая на заводе, я чувствовал, что медленно возвращаюсь на ту ступень, на которой находился, когда познакомился с Джонсоном. Может быть, именно по этой причине я не желал его видеть даже издалека.
Как-то моя мать спросила, пытаясь разобраться в моем состоянии:
— Вот теперь, когда ты все больше один, кого тебе особенно не хватает?
— Мориса, — сказал я ей.
— Вы что же, были большими друзьями?
— Мне так казалось.
— Почему бы тебе не навестить их с Джудит? — предложила она. — У нее, наверное, срок уже подходит?
— Поэтому я к ним и не иду. Морис считает, что я один из тех, кто вынудил его жениться.
— Но ведь в конце-то концов он сам всему причина. Ты же рассказывал мне, что уговорил его Уивер.
Мне надоела эта тема.
— Да, — сказал я.
— Тебя ведь это очень удивило, верно?
— Меня удивили ее родители. Они люди верующие. И меня удивило, как они отнеслись к тому, что все обошлось без церкви.
— Ну, я представляю, что они должны были чувствовать, — сказала она многозначительно. — Вера и религия — вот как у них — помогает смиряться с такими поражениями и даже превращать их в победы.
— Хотел бы я знать, как на это смотрит миссис Хэммонд. Она, по-моему, ни во что не верит.
— А Джудит верующая? — спросила она.
— Нет, по-моему. Во всяком случае, она не так религиозна, как ее родители. А Морис скоро излечит ее от остатков веры.
Она рассеянно кивнула, словно соглашаясь, хотя, возможно, увидела все наоборот: торжество остатков добродетели Джудит.
— С тех пор как я вернулся домой, — сказал я, — я часто думаю, каким образом, прожив целую жизнь, ты все еще видишь мир только черным и белым, хотя уже давно должна была бы убедиться, что этого никогда не бывает. Я просто не понимаю, как ты можешь вот так делить людей на плохих и хороших. Я, например, твердо знаю, что миссис Хэммонд совсем не злодейка, какой она у тебя получается.
— Понимаешь ты или не понимаешь, — ответила она, — это еще не значит, что такого разделения не существует. Для меня есть только либо хорошее, либо дурное. Иначе и быть не может. Как вообще жить, если не замечать этой разницы?
— Но ведь у тебя получается, что она во всем плохая. А это неправда. В ней есть хорошее. Только у этого хорошего нет возможности проявиться…
— Ты не можешь требовать, чтобы я чувствовала как миссис Хэммонд…
— И это все, что ты скажешь?
— Не вижу, как я могу взглянуть на это по-другому. То, что она с тобой сделала… то, как ты себя вел… ничего хорошего я тут не увижу, хоть буду целый день смотреть, — она задумалась, а потом неожиданно добавила: — Если смерть отнимет у тебя кого-нибудь, кого ты любишь, это же все-таки легче, чем убедиться, что на самом деле тебя вовсе не любят, хотя ты в это верил, так ведь? Вот что я подразумеваю, когда говорю, что миссис Хэммонд для тебя не годится. Она словно вчерашние остатки. Вы никогда не были бы счастливы.
Такие разговоры завязывались у нас часто. Я вовсе не хотел хвалить ей миссис Хэммонд. А потом мне оставалось только молча беситься. Но бывали минуты и похуже, когда я сидел в кресле, а она проходила мимо, и мне вдруг казалось, что это миссис Хэммонд, и я протягивал руку, чтобы коснуться ее. Меня трясло при этой мысли. Я отдергивал руку, как ужаленный электричеством, кроме одного раза, когда я дотронулся до ее бедра и сделал вид, что потягиваюсь. Но она поняла, в чем дело. Рана открылась и кровоточила.
Чтобы смягчить это напряжение, как-то вечером в субботу я нехотя отправился повидать Мориса и Джудит. Я с самого начала знал, что еду к ним, но повернул в противоположную сторону, а потом кружил по улицам, пока будто случайно не оказался в их конце города. Они занимали половину коттеджа на полпути между Примстоуном и замком Колсби, прямо напротив Сэндвуда, от которого их отделяла вся долина. Позже я узнал, что тут не обошлось без Уивера — дом этот не принадлежал клубу. Совсем еще новый, построенный после войны — окно-фонарь на фасаде и небольшая веранда. Сад уже разросся, и за воротами виднелась подъездная дорожка из потрескавшегося бетона. В этом районе обычно селились не слишком обеспеченные люди интеллигентных профессий: женатые бездетные учителя и дипломированные бухгалтеры без особенно большой практики.
У ворот я дал полный газ на холостом ходу — мотор взревел так, что у них должно было хватить времени запереть дверь и забаррикадировать окна. Я позвонил у парадной двери, рассчитывая, что их нет дома. Человек в соседнем саду перестал подстригать газон и уставился на меня. В доме послышались бегущие шаги, и дверь распахнулась.
Джудит онемела от удивления и густо покраснела.
— Привет, Тарзан! — сказала она после того, как я что-то промямлил. — Заходите же! Такой сюрприз, что вы сюда явились. Извините, что я не взвизгнула.
Она не без гордости ввела меня в уютно обставленную гостиную: в комнату с окном-фонарем, которая удивительно смахивала на карманное издание гостиной Уиверов — единственный эталон красивой жизни, известный Морису. И обои с зелеными листьями, и даже чайный столик на колесиках.
— А разве Мориса дома нет? — спросил я.
Она с улыбкой покачала головой.
— Пожалуйста, не говорите, что вы добирались сюда не ради меня… Морис уехал в город. И наверное, застрял в бильярдной. Он вам нужен?
— Да нет. Я просто хотел узнать, как вы и что.
— Ну так выпейте чашечку чая. А он к этому времени обязательно вернется. Идемте на кухню, пока я буду заваривать чай.
Я шел за ней через весь дом, а она продолжала болтать, оглядываясь через плечо. Она вся раздулась, стала совсем другой и казалась гораздо интереснее, чем прежде. Мне еще не приходилось видеть ее такой розовой и счастливой.
— Ну, что вы скажете о нашем домике? — спросила она. — Он даже лучше, чем дом моей мамы.
— Настоящий дворец.
— Мы сильно потратились, чтобы его обставить, хотя наверху у нас ничего нет, кроме двуспальной кровати. А вот поглядите!
Мы вошли в кухню — там с трех сторон сверкал хром.
— Вот раковина и краны. Электроразогреватель. Шкафчик-сушилка. Простые шкафчики, полки, электросушилка и еще всякая всячина. Это нам подарил папочка. Ну как?
— Кое-кому достаются хорошие папочки. Лучшей кухни я еще не видел. А холодильник у вас есть?
Она приняла это всерьез.
— Скоро купим. Морри говорит, что нужен холодильник для нива. С тех пор как я в положении, я выпиваю по пинте в день. Можете себе представить, какие привычки будут у ребенка!
— Я вижу, что у вас есть бетонная дорожка и гараж, — сказал я, улыбаясь. Все было так прекрасно, что даже не верилось.
— Ну, нельзя уж так сразу и все. Но я еще заставлю его купить машину, чтобы я могла ездить в город и не чувствовать себя тут взаперти. Гараж, правда, так себе… А это электрическая плита. — Она повернула выключатель и поставила на плиту чайник.
— Когда вы ждете?
— Через три недели. Но он так брыкается, что просто не знаю.
— А вы чувствуете, как он брыкается?
— Вы этого не знали? Готовый хавбек… Если он возьмется за свое, пока вы тут, я дам вам послушать.
— А что вы будете делать, если родится девочка?
— Это не девочка. Морри говорит, что девочку он своим ребенком не признает.
Она держалась со мной с той интимностью, которая часто появляется у беременных женщин по отношению к посторонним мужчинам. Она и всегда была полна дружелюбия, а теперь стала как-то по-особенному ласковой и доверчивой. От этого становилось легко и просто. Я уже удивлялся, почему не пришел сюда раньше.
Мы отправились в сад позади дома, весь недавно вскопанный, и остановились у низкой ограды. За ней тянулось небольшое поле и рощица.
— От рощи виден город, — сказала Джудит, кладя локти на каменную ограду. — Мы один раз ходили туда посмотреть. И Сэндвуд тоже видно. Мы ведь здесь чуть выше. Из окна спальни можно разглядеть уиверовскую крышу и елки в его саду.
Когда мы неторопливо пошли к дому, она спросила:
— А как дела у вас, Тарзан?
— Ни шатко ни валко. Я теперь живу дома.
— Вам надо поскорее жениться, — сказала она осторожно. — Нельзя же, чтобы все для вас кончилось… ну, ничем.
Я сообщил ей, что изо всех сил стараюсь, а она сказала:
— Это самое лучшее, что у меня было в жизни. И у Морри тоже — хотя, конечно, он никому в этом не признается. И строит хмурую физиономию каждый раз, когда я его спрашиваю. Ну, сами представляете! — Она засмеялась. — А я вам говорила, что начала ходить в церковь? Это очень помогает.
— А как отнеслись ко всему этому ваши родители?
— Просто замечательно. Оба держатся с нами так, словно мы были помолвлены не меньше двух лет. Они по-прежнему преподают в воскресной школе, так что всякие сплетни были им особенно неприятны.
— А Мидлтон что об этом думает? Он сказал Морису и мне, что хочет все замять.
— Уивер поговорил с ним в самом начале. Мне кажется, Мидлтону ворчать нечего. Это ему ничем не повредило… Я слышала от Морри, что вы по-прежнему работаете на заводе Уивера.
— Да… и непохоже, чтобы я когда-нибудь оттуда ушел.
— Ведь вы сказали, что живете дома? А что случилось с миссис Хэммонд?
— Мы порвали.
— Из-за чего?.. Я…
— Так, не из-за чего — просто потеряли интерес друг к другу.
— И вы решили больше не снимать комнату?
— Не то чтобы решил. Вот все наладится…
Джудит слегка покраснела и пристально посмотрела на меня.
— Мне очень неприятно, Тарзан… то есть если я тут виновата.
Она подошла ко мне, крепко меня поцеловала и добавила, не выпуская мои плечи:
— Честное слово!
— В чем?
— В том, что у вас теперь такой вид.
— Вы тут ни при чем, — сказал я ей и почему-то поцеловал ее так крепко, что она даже чуть-чуть застонала.
Мы отодвинулись друг от друга и стали смотреть на чайник.
— Как поживают по субботам девочки в «Мекке»? — спросила она. — Мне теперь не хочется туда ходить, а им, по-видимому, лень добираться ко мне сюда.
— Они не меняются. Одна уходит замуж, другая возвращается из замужества.
— Так, значит, они не меняются? Вот так я думала о себе. Я видела, как год за годом являюсь туда каждую неделю со всеми этими бабами, выглядывающими себе мужа. Знаете, одно время я присматривалась к вам, Тарзан. Как, наверное, и почти все остальные. Только я считала, что подхожу вам больше любой из них. Мы подробно обсуждали это в дамской комнате. Слышали бы вы, о чем говорят там женщины, пока пудрят нос! В конце концов я передумала, потому что представила, как мы спим вместе. Кто-то заметил, что в постели будет тесновато. Я люблю спать, свернувшись калачиком. А с вами для этого не хватило бы места.
— У вас очень материальный взгляд на вещи.
— Как и у всякой женщины, когда она думает о своем замужестве. Я знаю, что теперь могу над этим посмеиваться. Но вы и представить себе не можете, что переносят девочки за субботний вечер в «Мекке»! Это ведь, в сущности, продажа с аукциона. И каждая до смерти боится, что достанется не тому покупателю. Они все хотят, чтобы из-за них торговались, — ведь нужна же хоть какая-то пища для самоуважения. Но чаще всего они берут, что могут и пока могут.
— По-моему, мужчинам грозит опасность побольше, — сказал я и подумал, что к миссис Хэммонд меня, возможно, тянуло отчасти и потому, что такой вот акулой она никогда не была.
— Ну, к этому в конце концов привыкаешь, — сказала Джудит, думая уже о другом. — Я сама удивляюсь, как я приспособилась к привычкам Морри. Неожиданностям нет конца. Я над этим часто смеюсь, когда остаюсь одна. В прошлую субботу он не знал, чем заняться, и я сказала: «Надо бы вскопать сад. Почему бы тебе не взяться за это?» А он так на меня посмотрел! Посмотрел и сказал: «Ты серьезно?», а я сказала: «Вполне. Судя по его виду, его не перекапывали с самой постройки дома». Ну, вы понимаете. И как только он убедился, что я действительно хочу, чтобы сад был вскопан, так он взял лопату и копал весь день напролет. Даже обедать не пришел, пока не кончил, а тогда уже совсем смерклось. Он думает, что не знает, как следует вести себя женатому человеку, то есть ему хочется думать, будто это так, и ему нравится, чтобы я указывала ему, что надо делать. Иногда он прикидывается совсем простачком. Мне временами даже кажется, что он хочет, чтобы я чувствовала себя виноватой.
Я не мог решить, себя она разуверяет или только меня. Возможно, в таком тоне она говорила о Морисе со своими родителями. К этому времени она уже заварила чай и мы вернулись в гостиную. И она подхватила манеру Уивера называть его Морри.
— Если я его не дождусь, это неважно, — сказал я ей. — Со вторника начинаются тренировки, тогда мы и увидимся.
— Но ведь он же не думает возвращаться в «Примстоун», — заметила она. — Разве он вам не сказал? — Она внимательно посмотрела на мое удивленное лицо и добавила: — Он попросил о переводе, и два-три клуба им интересуются. Вот как он надеется купить автомобиль — на проценты, которые получит.
— Я ничего не знал, — сказал я. — А почему он решил уйти?
— Ну, у вас с ним как-то не получалось…
— Но не из-за меня же он уходит? Ведь я, возможно, вообще не буду больше играть.
— Мне он сказал только, что живет теперь слишком близко от Примстоуна и поэтому играть там ему больше неинтересно. И это все, что я знаю.
— Но, значит, вы останетесь здесь? И не собираетесь переезжать?
— Конечно, нет. И не надо делать такое озабоченное лицо, Тарзан. Давайте пока оставим регби. Мне оно опротивело. Да… единственное, с чем он никак не может свыкнуться, это с моей интеллигентной манерой говорить. Он корчится, когда я говорю «папочка» или «мамочка». Он желает, чтобы наш ребенок говорил «папка» и «мамка». Ужасно, правда? А когда я пробую говорить на его лад, он думает, что я над ним издеваюсь. Он иногда дико бесится — послушали бы вы его тогда!
Тут она вскрикнула, вскочила и подбежала к двери.
— Он пришел! Спрячьтесь, чтобы устроить ему сюрприз… Да нет, я забыла: он же заметил вашу машину. Ну, пусть входит и видит, что мы пьем чай. Посмотрим, что он скажет.
Морис спокойно вошел в дверь, снимая куртку.
— Здорово, Артур. Вот уж не думал увидеть тебя здесь.
Автомобиль дал ему время справиться с удивлением.
— Вот решил заглянуть к вам — посмотреть, как вы устроились.
Он быстро кивнул и вышел, чтобы повесить куртку, — целая церемония.
— Ты давно здесь? — спросил он, вернувшись.
— Достаточно давно, чтобы поболтать со мной, Морри, — весело объявила Джудит. — Налить тебе чаю? Ты пообедал в городе? Видишь, я не говорю: позавтракал.
— Я перекусил в городе.
— А где ты был? В бильярдной?
— Как тебе понравился дом, Артур? — сказал он все тем же спокойным голосом. — Подходяще? — Он в чем-то переменился и держался как-то нервно.
Джудит показала мне…
— А он не знал, что ты решил уйти, — бросила она и вышла заварить свежего чаю.
— Да, — сказал я ему. — Это для меня новость.
— Я уже давно подумывал сменить команду, — ответил он. — А теперь, когда я устроился и с этим и с работой, то решил заодно и тут со всем покончить.
— С чем покончить?
— С прошлой жизнью.
Мы задумались над тем, что означали эти слова.
— Ну и как, они объявили о твоей продаже?
— Сегодня утром я как раз узнал, что им предложили за меня три тысячи. Я, если постараюсь, могу получить на этом фунтов триста.
— Не понимаю, зачем тебе переходить теперь, когда ты обзавелся домом совсем по соседству. Если ты перейдешь, тебе все время придется ездить.
Он задумчиво облизнул губы изнутри, а потом сказал:
— Мне надоело здесь играть, только и всего. И Фрэнк Майлс уходит. Им, собственно говоря, придется создавать команду почти заново. А это дело долгое. Пока она сыграется, я буду уже стариком. А я в этом году хочу попасть в сборную страны.
Джудит вернулась и очень обрадовалась, что мы разговариваем.
— Хотите, чтобы я оставила вас одних?
Морис резко повернул голову. На шее у него был чирей, заклеенный пластырем.
— А зачем? — сказал он.
— Чтобы ты мог поговорить с Тарзаном. Только и всего, Морри.
— А почему ты решила, что тебе нужно уйти? — не отступал он, словно опасаясь, что тут требуется соблюдать какое-то особое правило поведения. — Ты ведь теперь не секретарша, черт подери.
Джудит поглядела на меня, приглашая обратить на это внимание.
— Да, милый, — ответила она и села рядом с ним. — Можно подумать, что это ты ждешь ребенка, — сказала она ему.
— Почему?
— Слишком уж ты нервничаешь.
— Как видишь, она все еще строит из себя аристократку, — холодно сказал он мне.
— А ты живешь, как аристократ, — напомнил я ему, и он скорчил гримасу, словно его чирей вдруг разболелся.
Мы поговорили еще полчаса, не без интереса, но настороженно, а потом я решил, что мне пора. Когда мы стояли на дорожке, Морис спросил:
— Это не они тебя прислали, чтобы ты меня отговорил?
— Ничего подобного! — сказала ему Джудит. — Что ты выдумываешь? Он удивился совсем как я, когда в первый раз об этом услышала.
— Ну, ты не знаешь Артура так, как я его знаю, — сказал он злобно. — Поговаривали, что в этом сезоне он заменит Фрэнка.
— Да, — сказал я ему, сообразив, что это, возможно, тоже одна из причин, почему он решил уйти в другую команду. — Но, по-моему, ты позаботился о том, чтобы этого не случилось!
Я сел в машину. Джудит помахала мне, и я уехал.
* * *
Когда начались предсезонные тренировки, клуб был избавлен от многих хлопот и неприятностей, потому что Фрэнк решил пока не уходить. Я знал, как он относится к мысли о том, чтобы бросить регби, и не удивился, что он захотел оттянуть это еще на год.
К собственному удивлению, я был рад тренировкам, они даже доставляли мне удовольствие. Только теперь я до конца понял, каким неприкаянным я был в последние месяцы. Теперь все наладилось, словно перед окончательной переменой.
Я настолько обрел уверенность, что уже заглядывал в тот конец Сити-роуд, которого прежде избегал, а как-то в воскресенье добрался даже до Фэрфакс-стрит. Я прошел по всей улице и некоторое время смотрел на знакомую дверь. Я не мог понять, почему уже так давно ни разу в нее не входил. Она была все такой же. Коричневая дверь с темным пятном вокруг ручки. Маленький железный ящик для писем, всегда пустой и все же готовый оттяпать тебе пальцы. Я постучал. Ее не было дома, а может, она не отозвалась. Я подергал дверь — заперто.
Мать и отец оба не сомневались, что я бросил мысль о том, чтобы вернуться туда, и я не хотел рассеивать их иллюзии до тех пор, пока снова не водворюсь в свою прежнюю комнату. Однако вскоре после моей попытки увидеться с миссис Хэммонд моя мать столкнулась с ней в городе и, вдруг решив быть снисходительной, остановила ее и попробовала завязать разговор. Она спокойно слушала болтовню моей матери, а потом ушла, не сказав ни слова. Мать сочла это оскорблением, а не тем, чем это наверняка было — эмоциональной необходимостью, — и рассказала мне про их встречу со справедливым гневом.
— И еще одно, — добавила она, считая, что и я проникся ее обидой. — Во что она одета и как? Я даже не сразу ее узнала. Только когда мы совсем поравнялись и я по ее глазам увидела, что она меня узнает, я, наконец, сообразила, кто это. Можно подумать, что она живет на пособие по бедности.
— Возможно, так оно и есть.
— Ну, ты-то с ней обходился так, что она, наверное, воображала себя королевой.
— Пожалуй, иногда.
Однако я не рассердился на мать за ее слова. Я уже давно убедился, что она просто не понимает миссис Хэммонд. Она считала, что все люди в первую очередь сами ответственны за то, какие они, — это правило она применяла ко всем и всегда. Теперь она сказала:
— Не спорю: она делает то, на что способны немногие женщины. Но, конечно, она могла бы, если бы только попыталась, добиться вспомоществования более солидного, чем то, которое, по-видимому, получает сейчас.
Но я был так зол, что ничего не мог ей ответить.
— Матери, матери! Вечно матери! Женщины только и бывают, что матерями. И ни одна еще ни разу не родилась женой! Ненавижу всех этих сволочных матерей и их вонючих щенят. Дети, дети, только дети — неужто женщины не могут быть ничем помимо них? Вы же не просто животные. Миссис Хэммонд — она ведь женщина. Хоть в чем-то она женщина!
Она молчала, а потом сказала почти шепотом:
— Я рада, что ты ушел, когда ушел, Артур… И я говорю так не потому, что хочу этой женщине чего-нибудь дурного.
— Матери или проститутки — вот что такое женщины.
Когда я во второй раз явился на Фэрфакс-стрит — как-то в воскресенье к вечеру, — то уже твердо знал, что увижу ее, хотя бы мне для этого пришлось разбить вдребезги фасад дома. Я громко постучал и, едва стук разнесся по мертвой воскресной улице, прямо-таки услышал, как соседи подбегают к окнам.
Не сомневаясь, что она поостережется сразу открыть, а прежде посмотрит в окошко, кто это, я стоял, прижавшись к двери, пока не услышал ее медленные шаги. Она не казалась удивленной, а только постаревшей.
И тут, при этом первом взгляде на ее изглоданное лицо, я должен был сразу же решить, хочу ли я продолжать начатое или нет.
— Я пришел поговорить, — сказал я ей. Однако даже сами эти слова, в которых не было и следа прежней близости, показали, какое расстояние легло между нами за каких-нибудь несколько месяцев. Эти слова подтолкнули что-то внутри нее, смутно напомнили ей о чем-то. Она стала просто еще одной женщиной, чьи плечи придавлены бременем всей мировой грязи. Сзади из-за ее юбки выглядывал Йен — он сильно вырос, совсем побледнел и словно весь опух.
— Можно войти?
— Я убираюсь. Там беспорядок.
— К этому я привык, — напомнил я ей. — А может, ты наденешь пальто и мы погуляем?
Это до нее просто не дошло. Она и вообще никогда не понимала, как мне было приятно гулять с ней. Она нахмурилась и как будто растерялась.
— Вам что-нибудь нужно? — спросила она.
Я хотел было объяснить все. Сзади по тротуару кто-то прошел, и я сказал:
— Нет.
Я снова поглядел на нее, чтобы подбодрить ее, заставить сделать усилие. И увидел лишь пепел того, что знал прежде. Это была не Валли. Это была не миссис Хэммонд. Это была даже не женщина, которую знала моя мать. Это была пустая оболочка миссис Хэммонд. Я ушел. Позже мне пришло в голову, что, может быть, она меня вообще не узнала.
Фрэнк Майлс сделал меня заместителем капитана, хотя в нашей команде обычно их не было, и я принялся играть с небывалым усердием. Фрэнк должен был обучить меня тому, как нужно руководить командой; впрочем, все его преподавание свелось к тому, что перед каждой игрой он говорил: «Следи за мной внимательнее, Арт». Но вообще-то я находился под его опекой. Он поднял меня и снова поставил на ноги.
Я воспринял его жест очень серьезно. Гораздо серьезнее, чем любой другой. Я тренировался каждый вечер, а не только на стадионе по вторниками четвергам, и бегал вокруг парка в тренировочном костюме — большой медведь в капюшоне. Когда я возвращался, мать уже готовила мне горячую ванну, а потом отец перед огнем растирал мне ноги мазью. Ежедневно, работая с гантелями и проделывая все остальные упражнения, я ощущал, насколько я вошел в форму, и это служило мне утешением. Я чувствовал, что все больше и больше преображаюсь в профессионального спортсмена, в великолепную, безупречную гориллу — в тот тип игрока, который всегда был мне неприятен. Но теперь я с радостью натягивал на себя эту маску. Раза два утром в воскресенье я участвовал в соревнованиях по бегу на стадионе в Стокли вместе с другими профессионалами.
Теперь я видел, как это мое физическое превосходство отражалось в глазах тигров, которых мне предстояло останавливать или, наоборот, прорываться сквозь их строй. Я следил за их глазами с отвлеченным интересом, словно бы и не участвовал в игре, а потом бежал к ним и сокрушал их с таким же равнодушным удовлетворением.
Мне теперь все больше нравилось бежать с мячом — я хотел этого, жаждал, как никогда прежде, все время открывался, опережал противников и бежал, так вскидывая локти и колени, что тем, кто пытался меня остановить, приходилось очень несладко. А настойчивая тренировка сделала меня очень подвижным, и почти каждый раз, когда Фрэнк отпасовывал мне мяч, он выводил меня в прорыв, и я проделывал что-нибудь блистательное. Я отработал симпатичный толчок — каждый раз я бил по носу тигра запястьем, и этот легкий хруст доставлял мне такое же удовлетворение, какое испытывает механик, когда деталь в нужный момент становится на нужное место. Я обнаружил, что в тех случаях, когда мне приходилось закрывать игрока с мячом, я мог бежать очень быстро и в то же время полностью владеть своим телом, — беря на себя крайних, я аккуратно выбрасывал их за боковую линию на бетонный барьер. Это стало настолько привычным и доставляло такое удовольствие зрителям, что партнеры начали оставлять всех крайних на мою долю — чтобы они взлетали пятками в воздух и хлопались башкой о низенький барьер. Своего рода росчерк художника.
К этому времени — в начале весны — я переехал из своего дома в квартиру в центре города; клуб вдруг решил, что меня необходимо снабдить жильем. Квартира была расположена над небольшим магазином дамского платья и обходилась клубу фунтов четыре-пять в неделю. Это означало, что мне придется всегда быть дома для таких людей, как Джордж Уэйд и Райли, а иногда и для быстро стареющего Уивера: в субботу же утром она стала местом встречи всех «ребят». Выпив и поболтав, мы все, как одна большая семья, отправлялись в «Павильон». Морис, который ушел в другой клуб, побывал у меня на новой квартире дважды. Первый раз — вскоре после того, как я туда переехал, и он привел с собой Джудит, возможно, из предосторожности. Ширли, свою дочку, они оставили у матери Джудит.
Во второй раз он явился один. Он уже начинал жалеть, что ушел из «Примстоуна». В нашей лиге мы занимали третье место, и я знал, что Морис был бы рад вернуться. Как и я, он не попал в сборную страны или хотя бы графства.
— Мне приходится каждый четверг проделывать тридцать миль туда и тридцать обратно, чтобы получить жалованье. И то же самое — каждую субботу, — объяснил он. По вторникам его клуб разрешил ему тренироваться в Примстоуне.
— Ты как будто сильно просчитался, что ушел.
Он пожал могучими плечами своего пиджака.
— Как по-твоему, — спросил он, — что они скажут, если я захочу вернуться?
— Твой уход их не очень обрадовал. Они решили, что это как-то связано с твоей женитьбой… и вообще. А почему бы тебе просто не спросить Уивера?
— Не хочется — наверное, ему было неприятно, что я ушел, а кроме того, он и так для меня много сделал. Нет, я его просить не могу. И ведь они должны будут вернуть за меня три тысячи фунтов.
— Порядочно!
— Ты бы мог на них нажать, Арт, — сказал он прямо.
— Как?
— Ты и Фрэнк — на вас же теперь там молятся. Тебе стоит только мигнуть, и уж они приспособятся.
— Так вот почему ты пришел ко мне?
Но Морис, как и положено Морису, не пожелал в этом признаться. Он покачал головой.
— Я не могу пойти и прямо спросить их. Представь себе хотя бы, какую рожу скорчит Райли. Я и так теряю на этом деньги.
Он нахмурился и сделал безнадежное лицо.
И ничего не ответил, когда я пообещал ему сделать, что смогу. Он просто направился к двери, кивнул и вышел.
Я смотрел из окна, как он, незамечаемый, пробирался через субботнюю толпу, возвращаясь домой.
* * *
Заявление Уивера о том что он уходит на покой, совпало с возвращением Мориса в «Примстоун». Все знали, что в другом клубе дела у него не клеились. А его переход объясняли тем, что он женился. Молодой Келли, заменивший Мориса, был слишком неопытен, чтобы играть в основном составе, и чересчур медленно приобретал сноровку. Когда он вывихнул руку, потому что одновременно и чрезмерно мешкал и чрезмерно торопился, вопрос о возвращении Мориса был решен.
Он вернулся слишком поздно, чтобы его заявили в играх на кубок, и в результате, поставив первого хава из дубля, мы проиграли «Уиднесу» и вылетели из розыгрыша. После удачного сезона это оказалось большим разочарованием, и кое-кто был склонен винить Мориса за то, что он слишком долго кочевряжился. В пульке четырех лучших команд мы проиграли в финале. Мы устроили сбор и преподнесли Уиверу серебряную дощечку с перечислением достижений клуба и с подписями. Ни Морис, ни Джордж Уэйд не могли мне объяснить, почему вдруг Уивер выбрал именно этот момент, чтобы переселиться в Торки, однако Джордж был явно встревожен и раза два явился на тренировку без пса. Когда я отправился к Уиверу прощаться, он подарил мне часы.
Как-то утром в субботу я еще раз увидел миссис Хэммонд, когда мы с Морисом направлялись в «Павильон».
Я сказал, чтобы он шел в «Павильон» один, а сам подождал, пока она не поравнялась со мной. Она шла по самому краю тротуара и смотрела на витрины сквозь гущу снующих прохожих.
— Привет, Валли, — сказал я, когда она чуть было не натолкнулась на меня. Она резко повернула голову и пошатнулась. С ней был Йен. Ее лицо стало совсем белым и костлявым — правда, она намазала губы, но неровно, кое-как.
— Привет, Артур, — сказал мальчик, словно мы с ним виделись каждый день. — Мам, это Артур.
Она что-то пробурчала и прошла мимо. Я шагнул за ней.
— Может быть, мы постоим и поговорим?
Она ничего не ответила, и я продолжал идти за ней. Я видел, что она меня узнала и помнит обо мне все.
— Когда на тебе такой костюм? — сказала она. На мне был новый модный костюм.
Йен протянул руку, чтобы потрогать его и сказал:
— Костюм.
— Пойдем выпьем кофе в «Павильоне» наверху, — сказал я.
Она усмехнулась и продолжала пробираться сквозь толпу.
— Мне же все равно, — сказал я. — А уж тебе, должно быть, и подавно.
— Привет, Артур, — сказал Йен. Головенка у него тряслась и подпрыгивала — так быстро тащила его мать.
Люди начали оборачиваться и глядеть вслед нашей процессии.
Мы оказались почти напротив моей квартиры, и, когда она вдруг решила перейти тут улицу, могло показаться, что она направляется именно туда.
Я шел за ней все время, пока она лавировала между машинами, совсем их не замечая. Наверное, ей показалось, что я отстал, или же она просто забыла, что встретила меня, во всяком случае, когда я взял ее за плечо и втолкнул в подъезд, она растерялась.
— Хочешь побывать наверху? — спросил я Йена и, подхватив его на руки, бросился с ним по лестнице.
Он робко и испуганно прижался ко мне, и когда я поставил его на пол, сразу обернулся к двери. Мать позвала его снизу, и он попытался уйти.
Я подвел его к открытому окну и показал ему сверху толпы прохожих и потоки машин. Уличный шум заглушал голос его матери. Йен, открыв рот, смотрел на крыши двухэтажных автобусов, проносившиеся почти рядом с подоконником.
Она встала на пороге и закричала на него.
— Ну, войди и возьми его, — сказал я ей.
Йен начал вырываться и захныкал.
— Если ты его не отпустишь, я позову полицию, — сказала она.
Подождав минуту, она сбежала вниз. Я разжал руки, и Йен кинулся за ней.
— Что она сказала? — спросил Морис, когда я присоединился к нему.
— Ничего.
— Ничего не сказала, малыш?
— Она умерла.
Он поглядел на меня, а потом сказал негромко:
— Не стоит волноваться, Арт.
— Волноваться! — повторил я.
По-видимому, он рассказал про этот эпизод Джудит.(пожалуй, он наблюдал за мной из дверей «Павильона»); во всяком случае, она почти сразу заговорила со мной об этом, когда я в следующий раз зашел к ним в дом.
— Вы часто с ней видитесь? — спросила она с некоторой тревогой.
— Совсем не вижусь, — сказал я, и Джудит больше о ней не заговаривала.
Ширли ползала по ковру на лужайке позади дома, и мы все воскресенье возились с ней.
— Ну, давай, давай, подзаборница! — говорил Морис, и девчушка заливалась смехом. — Да, да, именно ты. Такая-сякая симпатичная подзаборница! — И он щекотал ей животик толстым пальцем.
— Он ее иначе не называет, — пожаловалась мне Джудит.
— Еще немного — и ее бы все так называли, — серьезно сказал Морис. Он начал кататься с дочкой по ковру, держа ее, точно мяч.
— Ему бы выступать с ней в цирке, — сказала Джудит. — Ну-ка, Тарзан, идемте в дом за пивом.
Когда мы отошли, она спросила:
— Как вам кажется, Морри нравится быть женатым? Ну, понимаете — в глубине души. По-вашему, он забыл?
Я подумал, что она вряд ли стала бы спрашивать меня об этом, если бы сама не была твердо уверена.
— Иначе он вообще не женился бы. Ему страшно повезло, что все получилось именно так.
— Но, по-моему, ему начинает надоедать. Для такого человека, как он, естественно подыскивать на каждую ночь новую женщину.
— Вы слишком мягки с ним, Джудит. Если хотите чего-нибудь добиться, будьте с Морисом пожестче.
Меня раздражало, что она вот так козыряет Морисом — хвастает прочностью своего положения. Она совсем не была похожа на ту женщину, с которой я разговаривал под навесом лавки. Замужество придало ей самоуверенности.
— Значит, и вам это известно? — сказала она, открыла холодильник и достала пиво. Она смотрела, как я откупориваю его, а потом мы оба принялись разливать его по стаканам.
— А как он сейчас с другими женщинами?
— Они называют его папочкой.
— В самом деле? — Она засмеялась.
— Только не говорите ему, — сказал я, так как это не было правдой. Однако Морис вел себя хорошо, и у меня не хватило духу заставить Джудит усомниться в этом.
Мы вернулись с пивом на лужайку. Его маленькое плотное тело скорчилось над ребенком.
Под вечер мы пошли погулять к замку Колсби. Морис давал характеристику каждому дому, мимо которого мы проходили, распределяя обитателей по категориям: муниципальный тип, тип тайных спортсменов на манер Эда Филипса и учительский тип. Ему нравилось так их определять, чтобы доказывать себе, что сам он не такой. Мы оба уже смеялись, когда перемахнули через перелаз; а там мы бросились в высокую траву в припадке истерической веселости. Как долго мы хохотали, я не знаю. Мы катались по земле, словно двое бродяг, — довольно было хлопнуть друг друга по плечу или просто состроить гримасу, и мы снова принимались хохотать. Когда мимо нас проходила какая-нибудь пара, совершающая вечернюю прогулку, Морису стоило только указать на них и объявить: «Учителя!», как мы опять захлебывались смехом. Мы, пошатываясь, помогали друг другу встать, валили друг друга на траву, держались друг за друга, чтобы не упасть, дрались и шумели, пока припадок не прошел так же внезапно, как и начался: совсем измученные, мы сели на землю по-турецки, смех перешел в судорожное хихиканье и замер совсем.
Мы поднялись на вал замка, обнявшись. Было очень тепло. Мы стояли на вершине холма, а внизу на долину и город уже наползал туман, багровея от мертвого солнца, заходившего за гребень. Раскаленная докрасна монета в щели автомата.
— Чем ты думаешь заняться, когда бросишь играть в регби? — спросил Морис, совсем отрезвев и глядя на солнце так, словно оно было человеком. — По-прежнему работать у Уивера? Открыть пивную?
— Я пока не думал об этом. Рано еще.
— А я подумываю завести какое-нибудь свое дело.
Ему в самый раз было смотреть на багровый диск.
— Когда?
— Как только накоплю нужный капитал. Хочешь быть моим компаньоном?
Он ковырял землю носком ботинка. Это был щебень надвратной башни. Морис не умел стоять спокойно.
— Чья это идея?
— Старика — ну, ты знаешь, моего тестя. Он даже готов войти с нами в долю. Он считает, что мне следует начать сейчас, чтобы дело было уже на ходу задолго до того, как придется бросить регби.
— И о каком же деле ты думаешь?
— Производство транспортеров-конвейеров и прочего, а со временем, может быть, даже и угольных комбайнов.
Я засмеялся, а он добавил:
— У Паркса в этой области большой опыт. Он говорит, что это гораздо легче, чем кажется на первый взгляд. И сам всегда мечтал заняться чем-нибудь таким.
— Может, он и прав, да только для начала нужен капитал.
— Как раз для начала он и не нужен, Артур. На первое время нам нужно только, помещение достаточных размеров, какой-нибудь транспорт и двое-трое рабочих. Сперва это будет только сборка — по заказу.
— Но ведь какие-то деньги все-таки понадобятся.
— Ну, какие-то деньги у меня есть и у тебя тоже. И у Паркса тоже кое-что имеется. — Он многозначительно посмотрел на меня, но в его темных глазах я не мог прочесть, к чему он клонит.
— А остальные тридцать-сорок тысяч откуда возьмутся?
— Да брось ты, Арт. У тебя ведь немножко отложено. И я не на мели. А что у Паркса есть порядочный капиталец, так это наверняка. Пока мы еще играем, мы как раз можем начать что-нибудь такое. Ведь верно? Вначале мы могли бы жить на то, что получаем за регби. Нам не нужно будет беспокоиться о заработке. Это уже большое преимущество. А иначе — либо пивная, либо полное забвение. Вспомни, как Фрэнк цепляется за клуб. Он боится бросить регби — он же привык к деньгам и, перестав играть, не сумеет сводить концы с концами.
— Если бы ты предложил открыть спортивный магазин, я бы скорее с тобой согласился.
— Это ничего не даст. То есть магазин. Страна и так кишмя кишит лавочниками. Нам нужно что-нибудь солидное, чтобы сразу либо прогореть, либо выйти в люди.
— Ну, предположим, я соглашусь. Но ты все еще не объяснил, откуда возьмутся деньги. Наших хватит только на конторский стол.
— Пошевели-ка мозгами, Арт! — Он поглядел на меня с притворным разочарованием.
Длинная тень от развалин замка пересекла холм, на котором мы стояли. Вокруг нас метались ласточки, а внизу двое ребят бросали камешки в темно-зеленую воду небольшого рва.
— Ты, конечно, думаешь про Слоумера, — сказал я.
— Он же набит деньгами.
Взгляд у него стал еще более доверительным, ноги переминались в пыли.
— Ну чего ты? Он даст нам ссуду. Это твердо. Он ведь уже давал деньги самым разным людям.
— Я больше не желаю торговать собой, Морис. Пятьсот фунтов я получил. С меня хватит. Он ведь захочет забрать тебя целиком. Разве ты не знаешь, что такое Слоумер? Ну-ка, спроси Эда Филипса. Слоумер потребует себе все.
— Он захочет получить проценты. Вот что он такое. Ему нужно выгодно поместить капитал, а для этого мы как раз подходим. Вот тут Слоумер молодец. Ему все равно, кто ты такой, лишь бы ты действовал на его лад. А это значит — получал прибыль.
— Он же калека. Он не похож на других людей. Видел бы ты, как он ведет себя, как обращается с людьми, как разговаривает с ними.
— Нам нужны его деньги, а не его фотография… Да ладно тебе, Артур! Ты точно можешь на него повлиять. Он ведь большой человек. Единственный твой крупный козырь. Я знаю. И с этим козырем мы наверняка выиграем.
Я не стал с ним спорить. Мы пошли обратно, все еще обнявшись, и говорили про субботний матч, про то, как играл Меллор.
До конца вечера он был очень тихим, и Джудит подозрительно спросила меня:
— Что, собственно, Тарзан, вы ему про меня наговорили?
4
За прошедший год Джонсон совсем состарился. Каждый раз, когда он проходил под моим окном, на которое иногда поглядывал, я думал о том, как быстро его внешность догнала и перегнала его воздаст. Сивая прядка уже не торчала из-под его кепки слева от козырька, а когда он снимал этот изношенный блин, топорщилась только жалкая бахромка волос. На некоторое время он затормозил одряхление, обзаведясь шикарными вставными челюстями, — когда они улыбались, то молодили его лет на пять, не меньше.
Он по-прежнему приходил на все городские матчи, и у него было на трибуне свое место. Когда я рассказал ему про план Мориса, он заметил:
— Это самое лучшее, что можно сделать с деньгами. А помнишь время, когда у тебя их не было? И мы ездили в Примстоун на автобусе, а в Хайфилд на десятом номере? Что же, Артур, мы таки добились своего. Просто слов нет, до чего мне приятно видеть тебя на поле в Примстоуне и вспоминать, как мы начинали. Помнишь тот вечер, когда ты подписал контракт? И как ты меня разыграл? Сколько раз я смеялся, когда вспоминал! Уж наверное, ты давненько не ездил в Примстоун на автобусе.
— Мы тогда часто бывали вместе, папаша.
— Ты и эта миссис Хэммонд, Артур, — сказал он и криво усмехнулся. — Старая кляча, верно? Я ее просто видеть не мог.
— Морис приглашает меня в компаньоны… в этом его деле, — сказал я ему.
Он раздвинул тонкие губы над розово-белой пластмассой.
— Ты весь в этом, Артур. Широко шагал всю дорогу, так чего же тебе сейчас останавливаться?
— Но ведь надо где-то раздобыть деньги.
— Деньги? — повторил он, словно не понимая, какое они имеют отношение ко всему этому.
— Морис считает, что я должен обратиться к Слоумеру. Он думает, что я могу договориться с ним о ссуде.
В уголке его рта возник небольшой пузырек и лопнул.
— Ты думаешь, он это зря? — спросил я.
— Меня ты лучше не спрашивай… Но ведь ты знаешь, как я отношусь к таким людям, — он старался догадаться, чего я от него жду и почему я его об этом спросил. — Если ты хоть за чем-нибудь обратишься к Слоумеру, то сделаешь большую ошибку, — заявил он наконец.
— Я рад, что ты так говоришь, — сказал я ему. — Именно это я и ответил Морису. Вся эта затея гроша ломаного не стоит.
За две недели до начала сезона я отправился отдыхать вместе с Морисом, Джудит и их девочкой, с Фрэнком, Элси и их Кеном. Мы все поохали в Скарборо: Фрэнк и его семья — и моем автомобиле, а Морис — в своем. Мы домчались туда через Йорк и Молтон за пару часов и остановились в отеле, где Джордж Уэйд заказал нам номера. В воскресенье он приехал с женой — посмотреть, как мы устроились, и отработать комбинации, которые мы подготовили на тренировках.
Скарборо мне понравился. Мы сидели в шезлонгах на пляже в Южной бухте и смотрели, как Ширли впервые пытается делать пирожки из песка, а Кенни плещется возле берега. Город пропах работой. Но он был полон моря. Его окутывал запах моря и запах работы. Округленные туманные очертания утесов, больших, дружелюбных, уютных, маленький порт, свернувшийся калачиком вокруг покачивающихся рядов рыбачьих баркасов, серебряная рыбья чешуя, инкрустирующая причалы, черные камни в водорослях и песок — да, это был древний и успокоительный запах. Я откинулся, впивая его всем телом, ощущая его внутри себя. Я чувствовал, что бухта вошла в меня — и скалы и песок. Она была древней, в ней жил суровый народ, и они смягчали друг друга. Века придали Скарборо нежность.
— Я забыл вам сказать, — внезапно, но неторопливо объявил Фрэнк, — что мы ожидаем прибавления семейства.
Элси резко обернулась и хихикнула.
— Он собирался держать это в секрете, — сказала она. — Но ему до того хотелось поделиться с вами, что все пуговицы, чуть не поотлетали — так его распирало. А ведь правда, он стесняется?
— По-моему, у него просто в карманах стесненье, — сказал Морис.
— Поздравляю, — сказал Джордж Уэйд и легонько потянул поводок. Он перегнулся через широкий фасад своей жены, которая посмеивалась так, словно ей это было давно известно. — Кого же вы хотите на этот раз, Фрэнк? Еще одного доктора или, может быть, фельдшерицу?
— Уж лучше пусть будет девочка, — сказала Элси. — Мне надоело сидеть дома одной.
— Осталось только дождаться того дня. когда мы увидим женатым вас, Артур, — сказала Джудит.
— Да, это будет денек! — сказал ей полушепотом Морис. Он засыпал ноги Ширли песком, гугукая, как она.
— По-моему, он самая завидная партия в городе, — сказала Элси. — И непонятно…
— И нельзя сказать, чтобы он не нравился девушкам, — объяснил Морис, не спуская с меня глаз. — Но Артур верит, что для этого надо влюбиться.
— И правильно делает, — сказала Элси. — А то с какой стати он стал бы жениться? — Тут она покраснела и постаралась не смотреть на Джудит.
— Вот правильно, — сказал ей Морис. — Теперь все ясно.
— А разве вы не хотите жениться, Артур? — спросила Элси. — Разве вы не верите в брак или же… — Она вытянула шею, чтобы увидеть меня в общем ряду.
— Да пойми ты, дурочка, — словно в шутку сказал ей Фрэнк, — что Морис тебя просто разыгрывает.
— Конечно, но все равно хотелось бы знать, — ответила она. — Вы ведь верите в брак, Артур? Правда?
— Да, — ответил я, краснея за нее, к большому удовольствию Мориса.
— Вот видите, Морис, — сказала она. — Так на что же вы намекаете?
— Я ведь ничего другого и не утверждаю, — ответил он. — Я просто сказал, что он верит в любовь.
Элси промолчала, пытаясь разобраться, что за всем этим кроется.
— Ты думал о моем предложении? — сказал Морис Фрэнку.
— Это еще что? — спросил я его. — Неужто ты и к Фрэнку обращался за деньгами?
Морис сморщился.
— За кого ты меня принимаешь? Я спросил, не хочет ли он работать с нами, только и всего.
Я поглядел на Фрэнка, который не спускал глаз с Ширли, копошившейся между его ног.
— Да не серьезно же ты ему это предлагал? — сказал я. — Ведь денег нам взять негде. И в конечном счете откроем мы ларек со сластями.
— Деньги у нас будут, — сухо сказал Морис. — Об этом, Фрэнк, можешь не беспокоиться.
— Я тут ни при чем, — предупредил я Фрэнка. — Откуда этот маг и волшебник собирается доставь деньги, мне неизвестно, а ведь я считаюсь одним из компаньонов.
Фрэнк наклонился, подхватил Ширли и посадил ее на свое широкое колено.
— Сама идея, по-моему, неплоха, — сказал он. — Но мне-то нужны твердые гарантии, Морис.
— И мне тоже! — Морис яростно указал на Ширли.
— Я это знаю, Морис. Но ведь ты только начинаешь. А с Кенни дело продвинулось уже далеко. И у нас все рассчитано, так что мы ничего не можем менять, разве уж будет что-то вполне определенное и надежное. Я ненавижу чертову шахту, но, во всяком случае, я твердо знаю, чего могу ждать. А вот твой план — я не говорю, что ты должен его бросить, — еще неизвестно, к чему приведет.
— Но разве ты не понимаешь, Фрэнк, что тут перед тобой возможность заняться чем-то новым, достигнуть положения, которого в твоей шахте ты никогда не добьешься? Тебе больше не придется работать под землей!
— Да, верно, — сказал Фрэнк, поглаживая ноги Ширли. Элси с тревогой посмотрела на него. — Я бы не знаю что дал, лишь бы выбраться из шахты. Понимаешь, как это все для меня получается?
— Он подманивает тебя морковкой, — сказал я ему. — И незачем относиться к этому серьезно.
— Черт! Да брось ты, наконец, свою морковь! — сказал Морис.
Некоторое время никто ничего не говорил. Мы глядели, как какая-то парочка старается выгрести против волны. Потом Джордж сказал:
— Мне кажется, сейчас вам не стоит начинать ничего такого. Вам обоим лучше подождать, пока вы не оставите регби, а я надеюсь, что до этого пройдет еще много лет.
— А потом вы возьмете Артура тренером и мы останемся с носом? — сказал Морис.
Джудит сняла Ширли с колен Фрэнка, потому что девочка захныкала.
— Иди, иди сюда, маленькая!
— Возможно, для него это будет лучше.
— Вы мямлите не хуже Артура, Джордж. Сейчас-то и надо начинать, пока мы можем жить на заработок от регби.
— Это еще ни одного игрока до добра не доводило — попытка жить только на заработок от регби, — сказал Джордж. — Толку из этого не выйдет. Будь это сразу после войны, так я бы первый с вами согласился. Но теперь — только если вам очень повезет.
— А у меня рука счастливая, — сказал Морис.
— Для регби. А за остальное не ручаюсь, — ответил Джордж.
— Видите ли, Элси… — Морис внезапно повернулся к жене Фрэнка. — Ту женщину, которая была нужна Артуру, он… ну, не сумел удержать.
— Неужели? — спросила она, не понимая всей ядовитости этих слов. — Кто же она, Артур?
Но ей никто не ответил.
Два дня спустя мне в голову пришла одна мысль, и я спросил Мориса, зондировал ли он Уивера относительно ссуд.
— Он мне сразу ответил, — признался Морис. — Написал, что подобная сумма для него слишком велика, да и, во всяком случае, он больше не намерен обеспечивать финансовую поддержку каким-либо начинаниям. Сам же план кажется ему вполне разумным.
— Сколько ты у него попросил?
— Он посоветовал, когда мы возьмемся за дело, найти участок возле Примстоуна для рекламы. Он считает, что для расчистки участка и постройки мы сможем подыскать дешевую рабочую силу или вообще добровольцев.
— Но сколько ты у него попросил?
— Ты ведь недолюбливаешь Уивера, Арт? Верно?
— Я этого никогда не говорил. Только я не могу понять одного: почему ты думаешь, что у тебя есть хоть малейший шанс найти кого-то, кто согласился бы финансировать твое предприятие? На тебя ведь смотрят как на ненадежного человека, Морис. Вот что пытался втолковать тебе Фрэнк в тот день на пляже. Ты думаешь, что я произведу на Слоумера лучшее впечатление, вот и пристаешь ко мне. Но это же бессмысленно. Слоумер не сидит весь день с закрытыми глазами…
— Ты просто мокрая тряпка, Арт. Что с тобой творится? С тех пор как эта твоя миссис Хэммонд дала тебе отставку, я тебя просто не узнаю. Совсем кишка стала тонка.
— Не волнуй меня так, дружище!
— Ты ведь шишка, Арт. А я… все мной командуют. И я это дело бросаю. Подавиться мне, если я хоть раз о нем упомяну!
Это была лишь одна из тех сдержанных ссор, которые то и дело вспыхивали между нами во время нашего отдыха. Собственно говоря, мы оба играли с одной и той же мыслью, но только Морис в отличие от меня в открытую. В следующие два-три дня расхождение между нами стало совсем уж явным. Мы оба знали, как сильно интересует нас этот план, и оба злились, потому что я не желал ради него палец о палец ударить. Но что-то меня удерживало — воспоминание о том, что мне уже раз отдавили ногу. Однако Морис видел только мое тупое упрямство. В драку это вылилось только однажды, когда мы двое и Фрэнк отправились на лодке поудить. Не отошли мы от берега и на двести ярдов, как Морис решил выкупаться и принялся плавать вокруг лодки, стараясь ее перевернуть. Я прыгнул вслед за ним, но зацепился ногой за борт, и Морис чуть не утонул от хохота, глядя, как я колочу руками по воде и отплевываюсь. Когда я догнал его, дело довольно быстро пошло всерьез. А Фрэнк, заметив, что мы без шуток стараемся утопить друг друга, подвел лодку к нам вплотную и поднял весло.
— Я огрею тебя по башке, Арт, если ты его не отпустишь! — сказал он.
Я только крепче сжал Мориса, и тут что-то обрушилось на мои плечи, и руки у меня сразу онемели. Я разжал их и лег на спину, совсем оглушенный.
— А теперь лезь в лодку, Морис, и, бога ради, попробуй стать взрослым! — прикрикнул на него Фрэнк, втащил этот мешок мускулатуры на борт, подогнал лодку ко мне и подхватил меня под мышки.
— Ведете себя, как младенцы, черт бы вас подрал, — сказал он и начал грести к берегу. Мы, еле переводя дух, лежали на дне лодки. Больше Фрэнк ничего не говорил до тех пор, пока лодочник не ухватился за нос лодки и не вытащил ее на песок вместе с нами.
— Вот уж компаньоны так компаньоны! — сказал он тогда и пошел к Элси и Джудит.
Через час мы все сидели в пивной на Касл-Хилл и выясняли, кто быстрее сумеет выпить пинту эля.
* * *
Мы вернулись домой, твердо решив и в следующем году поехать вместе в Скарборо. Когда я явился к себе после того, как отвез Фрэнка и его семейство в Стокли, меня уже ждал Джордж Уэйд. Он сказал мне, что Слоумер умер.
— Это случилось в воскресенье, когда я был у вас в Скарборо. Я узнал об этом сразу, как вернулся. Хотел было послать вам телеграмму, а потом решил, что лучше будет подождать вашего возвращения. Я попрошу вас с Фрэнком представлять команду завтра на похоронах.
Второй раз в жизни я видел Джорджа без его пса.
Слоумер словно вытащил затычку. Я вдруг услышал, как обсуждаю условия контрактов, заказы, детали постройки, спрашиваю служащих о выполненных договорах, о контрактах, имеющихся у нас в настоящее время. Джордж смотрел, как все это иссякает, а потом сказал:
— Разумеется, в личном плане это никак нас не касается. Ничего подобного тут не примешивается, Артур. Просто вам с Фрэнком следует проводить гроб. А потом можете не задерживаться. Ну что ж… — Он глубоко вздохнул, сел и снял свою фетровую шляпу. — Рука судьбы, можно сказать. В отношении того дела, о котором говорил Морис. Да, явная рука судьбы. Как по-вашему?
— Да, Джордж.
— Пожалуй, это один из решающих дней всей моей жизни, — сказал он многозначительно и посмотрел на меня почти умоляюще.
— Почему же?
— Ну, это уходит далеко в прошлое, Артур. К тому «Примстоуну», которого вы уже не застали. Но для меня-то наш клуб — и стадион, и те, кто им управлял, — всегда был особым мирком. Мне приятно думать, что я причастен к тому, как им управляли. Вы понимаете, что я имею в виду? Это место, за которое и я в какой-то мере ответствен. Я понимаю, что мои слова звучат несколько самодовольно. Но с самого начала и вот уже больше тридцати лет я отношусь к клубу именно так. И все это время власть над ним забирал в руки то один, то другой человек. То Уивер, то Слоумер — и снова Уивер, и снова Слоумер — постоянно грызлись и сменяли друг друга. Теперь их обоих больше нет. Один… ну, скажем, просто разочаровался, а другой умер. Можно, пожалуй, сказать, что Уивер пытался быть слишком добрым, и этим злоупотребляли, а Слоумеру не хватало физических сил. Но как бы то ни было, их обоих больше нет. И впервые клубом будет управлять комитет.
Он внимательно посмотрел на меня, стараясь понять, имеет ли все это для меня значение, потом взял лежащую рядом шляпу и начал крутить ее на руке.
— Вы так говорите, Джордж, словно давно этого хотели.
— Нет. Мне кажется, никто не имеет права говорить так. Естественно, из них двоих я предпочитал Уивера. Но это был просто вопрос моих личных симпатий. Не стану утверждать, будто я очень огорчен и расстроен смертью Слоумера. Но, с другой стороны, я вовсе этого не хотел, как вы намекаете. Пожалуй, можно еще сказать, что я этого ожидал.
— А я вот нет!
— Тут я не судья, Артур. Вы принадлежите к тем людям, которые обычно держат свои чувства под замком. Например, я так и не знаю, серьезно ли вы относились к вашему с Морисом плану.
— Это с самого начала было нереально, Джордж. Можете не беспокоиться.
— Именно такие вещи могут погубить команду, и особенно в начале сезона.
— Слоумеру следовало бы оставить ей это наследство попозже?
— Ну, Артур… — Он смотрел на меня задумчиво, не зная, как я в действительности к этому отношусь.
Но если он и хотел что-нибудь сказать, ему помешал стук в дверь, вслед за которым в комнату весело ворвался Морис. Я вдруг заметил, что за неделю отдыха он стал совсем шоколадным.
— И что же нам тут скажут? — спросил он. — Что нового?
— Ты о чем?
— В том-то и дело, — ответил он мне, а я не мог понять, что его так радует, если он уже слышал. — Вот только… Да ты слушаешь, Артур?.. Сегодня или завтра — ну в крайнем случае послезавтра — должно прийти словечко от Слоумера…
Сначала глаза, а потом рот Джорджа широко раскрылись, и он взвыл от хохота. Откинувшись на спинку кресла, он трясся, как студень. Я и сам начал улыбаться, увидев растерянное лицо Мориса.
— Простите…. что перебил… — говорил Джордж между припадками смеха. — Я не хотел. Но чтобы вы так… в довершение всего.
— Где бутылки? — сказал Морис, быстро оглядывая комнату. — Неужто ты сумел напоить Джорджа?
— Нет… право же, дело не в том, Морис, — заверил его Джордж. — Продолжайте, пожалуйста. Не обращайте на меня внимания.
— Ну, я хотел сказать… — обескураженно и с недоумением начал Морис.
— Значит, ты начал переговоры со Слоумером еще до нашего отъезда? — спросил я его.
— Я же об этом и толкую, Арт. Все устроено наилучшим образом. Ты ему, кажется, нравишься. Стоило мне упомянуть, что ты в этом участвуешь… то есть когда мы говорили по телефону, про что я тебе рассказываю… А потом я написал ему письмо… Я тебе ничего не сказал в Скарборо, потому что хотел устроить сюрприз. А когда я вернулся домой и ничего от него не нашел, то подумал, не написал ли он на твой адрес… — Морис переводил взгляд с Джорджа на меня со все возрастающей растерянностью, не сомневаясь, что его длинное бессвязное объяснение было вполне понятным и исчерпывающим.
Джордж тем временем взял себя в руки и, строго насупившись, настойчивым взглядом требовал, чтобы я сказал Морису все.
— Слоумер умер, Морис, — сказал я ему, и Джордж кивнул. — В прошлое воскресенье. Пока мы были в Скарборо.
У Мориса было два правила: никогда не показывать, что ты чувствуешь, если это связано с неприятностями, а в тех случаях, когда иного выхода нет, прятаться за улыбочку. И он бодро улыбнулся.
— В таком случае, Артур, вопрос разрешается сам собой, — сказал он. — Как твое мнение?
— Угу.
— А ты твердо знаешь, что он умер, — может, он притворяется? — задумчиво спросил он.
— Завтра похороны, Морис, — объяснил ему Джордж. — Артур и Фрэнк будут присутствовать там от команды. А я — от комитета.
— Очень-очень мило, — сказал Морис. — Беда только в том, что тех, для кого это действительно утрата, там вообще не будет.
— На что вы намекаете? — Джордж старался говорить строго, чтобы загладить свой смех.
— Ни на что… Он выбрал удачное время, чтобы скапутиться.
— Если вы хотите пойти, — сказал Джордж, — то я не возражаю. Пожалуйста.
— По такому случаю я в церковь не хожу. Я предпочитаю топить печали, а не утопать в слезах.
— Ничего, все проходит, — быстро сказал ему Джордж. — Ну, я пойду, Артур, вдвоем вам будет легче перенести свое разочарование. Позвоните мне попозже. Нужно будет договориться, где мы завтра встретимся. Фрэнку я сообщу.
Морис сказал:
— Ладно, господин доктор. Я иду с вами.
— Разве ты не останешься, Морис? — спросил я.
— Что?.. — Он подождал, чтобы Джордж вышел и спустился на несколько ступенек, а потом сказал — Остаться с тобой, мальчик? Для чего? Чтобы вместе состариться?
— Мы могли бы поговорить.
— Поговорить! Поговорить! Ничего, кроме разговоров, от тебя не дождешься, Артур. Если бы ты поменьше разговаривал и побольше делал, мы сейчас уже вышли бы на прямую дорогу. А теперь… Черт! И зачем я тут торчу? Мы с тобой вообще больше не знакомы.
Он вышел. С лестницы донесся негромкий голос Джорджа. Я запер дверь.
Похороны превратились во внушительную процессию. Казалось, когда Слоумер умер, город опешил и никто толком не знал, что, собственно, это означает и что следует делать. В результате почти ничего не осталось несделанным — все большие предприятия прислали своих представителей, все таксомоторные фирмы прислали все свои машины. Катафалк был одной огромной грудой цветов, из которой торчали только четыре колеса внизу и голова кучера вверху. Этот импровизированный спектакль привлек огромные толпы, и процессия двигалась в атмосфере почтительного недоумения.
Джордж, Фрэнк и я ехали в такси еще с двумя людьми, которым раза два приходилось встречаться со Слоумером по делам. На одного из них произвело сильное впечатление большое число зрителей, которые нагибались и заглядывали в окошко такси, и он сказал:
— А знаете, это по-своему конец эпохи.
Джордж поднял свои кустистые брови — без пса он выглядел совсем потерянным.
— Что вы имеете в виду? — спросил он терпеливо.
— Теперь, когда Слоумер умер, — ответил тот, — вы увидите, что всяким большим объединениям будет легче проникнуть в наш город. Вы еще вспомните мои слова. Козырного туза в колоде больше не будет. Мы станем такими же, как остальные большие города, — муниципализированными, безличными, анонимными. И единственным нашим опознавательным знаком будет, — он взмахнул в мою сторону рукой в перчатке, — место, занятое нашими регбистами.
Он снова стал смотреть на толпу, запрудившую Маркет-стрит, по которой процессия двигалась к церкви Святой Терезы. Было жарко.
— Вот поглядите, — снова заговорил он. — Больше уже не будет похорон, когда весь город высыпает на улицы поглядеть, как хоронят человека, им почти неизвестного… — Он щелкнул пальцами, обтянутыми перчаткой. — Но у нас будет команда регбистов.
Джордж подергал тугой воротничок.
— И слава богу, — сказал он.
5
Я снова забился в нору и не помнил ни о чем, кроме регби. Жить — значило отбывать повинность, не слишком о ней задумываясь. Каждый вечер я тренировался все напряженнее: пробегал по нескольку миль, прыгал через веревочку, переставая, только когда голова уже шла кругом, боксировал с тенью, пока мне не начинало казаться, что я бью собственную тень. Я непрерывно находился в движении и в конце концов отучил свое тело чувствовать, так что оно просто выполняло то, к чему было приучено. Я обнаружил, что утратил всякий интерес к результативности моей игры и специально старался причинять боль и доставлять неприятности. Я был готов приносить своей команде очки, но самого меня увлекали лишь те минуты, когда я бежал с мячом и останавливал тигров так, будто они натолкнулись на утес. Я только делал вид, что играю в регби. Человеку одиночество противопоказано, но я этого, наверное, не понимал. Я говорил себе, что был прав с самого начала: никаких чувств у меня вообще нет. И нечего вести себя так, будто они у меня есть.
Когда пришло это письмо, я не сомневался, что еще какая-нибудь школьница опять признается мне в безумной страсти. Я взял его с полки в «Примстоуне», на которую сваливали письма болельщиков, и меня сразу же удивило одно-единственное слово, написанное сверху — «воскресенье». А был вторник, и я еще подумал, зачем понадобилось помечать день недели в таком письме. В нем говорилось, что миссис Хэммонд увезли в Райдингскую больницу. Эмма Комптон не была уверена, что это может меня заинтересовать. В Райдинг обычно брали безнадежных.
Я сказал про это Дею и ушел, не дожидаясь тренировки. Я поехал через весь город к Райдингу — больнице на самом гребне над Хайфилдом.
На нее мне удалось только взглянуть. Она не то спала, не то была в забытьи. После небольшого препирательства ко мне вызвали сестру, а после большого — и врача. Это был маленький коренастый шотландец, примерно мой ровесник, и, узнав, кто я, он тут же пригласил меня к себе в кабинет.
— Артур Мейчин, вы же играете в городской команде, — сообщил он мне. — А кто вам больная?
— Раньше я жил у нее на квартире. Что с ней?
— Закупорка сосуда в мозгу, — ответил он после того, как рассказал мне, что ходит иногда на игры городской команды. — Пока мы почти ничего не можем сделать, — добавил он.
— А что с ней будет… То есть это серьезно?
— Серьезно?.. Да, это серьезно, — он внимательно посмотрел на меня, определяя степень моей заинтересованности.
— Она умрет?
Я ждал, что он улыбнется моему простодушию. Я ждал, что он неодобрительно потреплет меня по плечу и скажет: «Ну, конечно, нет!»
— Боюсь, пока я ничего сказать не могу. — Он втянул воздух через нос и прикинул, не лучше ли будет поговорить о регби. — Я знаю, что вы думаете, — добавил он. — Но так обстоит дело в настоящий момент. И поймите: положение у нее критическое.
— А скоро ли вы узнаете, каков будет исход?
— Я попробую вам объяснить. Тромб, как нам кажется, находится в наиболее опасной области мозга. Он может рассосаться без каких-либо последствий. А с другой стороны, может оказаться и роковым. Мне очень жаль, что дело обстоит именно так, но ведь лучше знать истинное положение вещей, а не просто мнение врача, верно? Вы ей не родственник?
— Нет, я просто снимал у нее комнату.
— Таким образом, эмоционально это вас никак не затрагивает.
— А какая разница?
— В подобных случаях это всегда полезно.
— Но, кроме фактов, вы, быть может, скажете мне и свое мнение?
— Если хотите: думаю, что она вряд ли будет жить. Во всяком случае, судя…
— Могу я взять для нее отдельную палату?
— Ну… вам, пожалуй, это и можно. — Он осмотрел меня с головы до ног, как будто мое тело имело прямое отношение к вопросу. — Я попробую что-нибудь устроить. Так сказать, неофициально, Артур.
— Вы что, переполнены?
— Мы всегда переполнены. Но кругооборот, так сказать, у нас идет довольно быстро. Думаю, что смогу это устроить. Я и сам здесь совсем недавно. — Он улыбнулся: слегка, по-дружески, смакуя и знакомство со мной и то, что я известный регбист. — Я слышал, что вы летом как будто отправляетесь в турне по Австралии.
— Возможно. Но я, наверное, откажусь. Вы не знаете, отчего она могла заболеть?
Он внезапно почувствовал, что я не оценил его сочувствия и дружеского расположения. А я почувствовал, что обманул его: ведь он вел себя очень порядочно.
— Давно вы с ней знакомы?
— Лет пять.
— А в последнее время?
— Мы практически не виделись больше года.
Это облегчило для него ситуацию.
— Первопричина, на мой взгляд, — крайне угнетенное состояние духа. Если вы не видели ее больше года, то, возможно, вам это неизвестно. Она чрезвычайно ослабела, и, говоря откровенно, именно это в сочетании с местом тромба и заставляет меня думать, что она вряд ли выживет. У нее нет сил жить, а может быть, и воли.
Наступило долгое напряженное молчание — он как будто не сознавал, что кончил говорить. В кабинете стояла нерушимая тишина. И казалось, она будет длиться вечно: я не знал, что сказать, что крикнуть, чтобы ее нарушить. Потом он добавил:
— Такой тип пациентов для нас обычен, хотя чаще нам приходится иметь дело с людьми постарше. Вы понимаете, я говорю объективно.
— Ну, надеюсь, мне не придется слушать, как вы говорите о тех, кто вам не нравится! — сказал я, и он засмеялся.
Я изо всех сил старался чувствовать к нему дружеский интерес.
— Но я хотел бы, чтобы у нее было все самое лучшее.
— Договорились, Артур, — сказал он. — Однако у меня есть все основания полагать, что она хочет умереть…
— А как же ее дети? У нее ведь есть сын и дочь.
— Если не ошибаюсь, их взяла к себе какая-то родственница. По-видимому, ее единственная родственница.
— Но есть у нее хоть какой-нибудь шанс?
Он помолчал, оценивая мой тон.
— Пожалуй, я переложил черной краски. Я был с вами совершенно откровенен. Некоторая надежда есть. Вы часто хотели бы навещать ее?
— Если возможно — каждый день.
— Каждый день… — повторил он и даже не попытался скрыть легкого удивления. — А вы говорите, что никак с ней не связаны — эмоционально или как-нибудь еще. Было бы лучше для всех, если бы вы мне сейчас сказали откровенно, как обстоит дело.
— Раньше я жил с ней… ну, вы понимаете — по-настоящему.
Он вздохнул и попытался сделать осуждающий вид. Возможно, он не уловил, что был первым посторонним, которому я в этом признался.
— Почему вы с самого начала не сказали, что это вас так близко касается? И не обязательно было бы объяснять, почему именно. Вы могли бы просто сказать мне… да что угодно! А как вы теперь относитесь к ситуации? Я имею в виду — хотите ли вы помогать ей потому, что я сказал вам о вероятности ее смерти? Вы чувствуете себя виноватым, обязанным ей чем-то?
— Можно сказать и так.
— Я вовсе не склонен сентиментальничать по этому поводу, Мейчин, так что выясним точно. Вы чувствуете, что обязаны что-то сделать для нее, так как она опасно заболела, — то, чего прежде никогда не делали? Или это все сложнее?
— Не знаю. Возможно, вы правы. В любом случае я чувствую, что обязан что-то сделать для нее.
Он хотел продолжать нападение, но вдруг смягчился и передумал.
— Когда вы перестали жить с ней?
— Больше года назад.
— Это был окончательный разрыв без примирения?
— Я пытался… Но ничего не получалось. Я не знаю, в чем была моя ошибка. Она не хотела продолжения. Она была напугана.
— Значит, между вами было настоящее чувство? Ну, вы понимаете — привязанность… что-то постоянное и надежное?
— Наверное, я все испортил… Но я не хочу, чтобы получалось, будто все было совсем ерундой.
— Но ведь что-то было?
— У меня — да. У меня было все!.. Но я не мог добиться, чтобы она поверила.
— Она отказывалась с вами увидеться?
— Да. Она не хотела иметь со мной никакого дела.
— Следовательно, вы были по-особому жестки, — сказал он.
— Не был!.. Да, был. Нет, не знаю. Я просто не мог проломить эту стену. Я был с ней, как… как горилла. Я просто не понимал, что она вовсе не так сильна, как я воображал. Наверное, я наносил ей удары — в эмоциональном смысле — гораздо более тяжелые, чем думал.
Он прошелся по кабинету и поправил три настольные лампы на гибких кронштейнах.
— Так чего же вы хотели бы от меня? — спросил он.
— Чтобы вы положили ее в отдельную палату, как обещали, если для этого, конечно, не придется слишком уж стеснить других больных. И чтобы я мог навещать ее каждый день.
— Я выпишу вам пропуск. Вероятно, вы только один и будете приходить к ней, кроме этой родственницы.
— Когда вы переведете ее из этой палаты? — спросил я, пока он писал.
— Сегодня же, если удастся. Когда мы выйдем, я покажу вам, какую палату имею в виду. Если что-нибудь случится, я вам позвоню.
Я записал для него номера телефонов — в «Примстоуне», на заводе и в квартире.
С гребня над Хайфилдом мне были видны огни, горящие в синеватой туманной дымке — квадрат парка, следующий изгибу широкого дна долины, Фэрфакс-стрит, гармоника крыш уиверовского завода, поблескивающая полоска реки между приземистыми складами. Я уехал в пустоши. Над сухими вересковыми волнами не было слышно ни звука. Осенний туман сгущался внизу в лиловато-черную полосу. Я чувствовал себя окрыленным (окрыленность, стиснутая горечью и угрызениями!), как будто наконец, наконец-то мне удалось взять в руки то нечто, которое прежде всегда от меня ускользало и которое я мог теперь держать, не чувствуя себя безнадежно неуклюжим. Теперь оно воплотилось в действительность и завладело мной. Я больше не был одинок.
* * *
Я ездил в Райдинг каждый день.
Миссис Хэммонд не выходила из забытья. Казалось, ее смерть — только вопрос времени.
Когда я пришел на тренировку во вторник, Джордж дожидался меня у служебного входа.
— Вам звонили, Артур… из Райдинга. Они считают, что вам следует приехать.
Собака пыхтела, а Джордж придерживал дверцу машины с отеческой заботливостью.
В городе все сговорилось меня задерживать. Кончился бензин, и мне пришлось бежать за канистрой, светофоры останавливали меня как могли чаще, скорости не включались, сцепление проскальзывало — и все словно по моей вине. Я бросил машину — я не мог ее вести — и кинулся бегом вверх по склону.
Доктор (другой доктор) и две сестры как раз выходили из ее палаты. Палаты, знакомой мне, как моя квартира, как Фэрфакс-стрит, как завод. Доктор вернулся в нее вместе со мной, чтобы сказать:
— Она, видимо, умирает. Вы останетесь надолго?
Он ушел и прислал сестру.
Я сидел у постели и держал маленькую руку, высунувшуюся из-под простыни. Нельзя было поверить, что когда-то она делала огромные бомбы. Это была совсем детская ручонка. Ее большие глаза были закрыты. Кожа на лице натянулась, особенно во впадинах, а на костях отливала желтизной. Рука была холодной, неестественно неподвижной, и пальцы держались за мои пальцы с бессознательной, безжизненной тревогой. Измученная рука с проступающими пятнами. Ногти обгрызены, обломаны, с корочками въевшейся грязи. Я не помнил, чтобы она когда-нибудь грызла ногти. Я стал думать об этом. Вена в запястье пульсировала и вздрагивала, как провод, под подбородком билась жилка — нити, дергающие ее тело, напоминая ему о жизни. Ее губы были чуть открыты, в тугой щелке поблескивал зуб. Ноздри расширились, всасывая воздух.
Я просидел так несколько часов, и ничего не случилось. Иногда заходил доктор. Сменилась сестра.
Ничего не случилось. Я держал маленькие пальцы и поглаживал их. Никогда еще она не была настолько моей, и она никогда об этом не узнает. Я навязывал ей мои силы. Я накачивал их через ее пальцы. Я говорил ей, что она не имеет права поступить так подло. На ее коже были пятна засохшего пота.
Она не может умереть, говорил я ей. Я говорил ей, что она не может умереть, чтобы она этому поверила. Она должна остаться здесь и дышать. Я говорил ей, что она не смеет поступить так подло.
Утром доктор велел мне уйти. Я заметил, как он глядел на меня — так, словно видел то, на что не должен был бы смотреть. И что видел уже слишком часто.
На улице было холодно.
Я спустился по склону к машине. Она завелась не сразу. Я поехал прямо на завод и подождал до половины восьмого, когда открылись ворота. Я в первый раз видел его таким, в первый раз явился на работу так рано, что оказался единственным человеком в цехе. Он был пуст и мертв, металлические болванки лежали у станков, как трупы после битвы.
Он ожил в легком вибрировании главного вала, а затем в вопле и дрожи, когда заработали станки, побежали приводы и начал содрогаться пол. Цех заполнялся людьми, их голосами, их шагами, их синими комбинезонами. Изгибалась струя искр от металла, взвизгивающего на точильном камне, горячий металл зашипел в воде. Забормотал, застонал, залязгал портальный кран и, неторопливо погромыхивая, двинулся по цеху. Дальний угол внезапно вспыхнул синим светом, дрожащим и искристым, — это сварщики начали водить по стали пламенем горелок.
Казалось, я отсутствовал только минуту. Она все еще была тут — маленькая, завернутая в простыни, с раздутыми ноздрями. Она казалась вещью, имеющей только одно назначение — умереть.
— У нее прямо-таки дубленое сердце, — сказал доктор. — Оно уже сутки работает после того, как должно было бы остановиться.
— Значит, можно еще надеяться?
Он медленно сомкнул губы и нахмурился.
— Скорее всего вы увидите конец сегодня вечером, если останетесь. Ее золовка с мужем не придут.
— По ее виду не кажется… — я не нашел, что еще сказать.
Его глаза выразили сочувствие и беспомощность.
Я уснул на стуле. Сон этот состоял из непрерывной попытки проснуться. На потолке возникло большое насекомое: из длинного, пухлого туловища веером торчали тонкие ножки. Хотя оно было маленьким, я различал каждую складку и ямку на его шкурке. Два его глаза были неподвижны — два лишенных всякого выражения полушария, жесткие и ничего не боящиеся. Ножки задвигались, туловище изогнулось, сложилось в гармонику, и насекомое быстро переместилось по потолку к стене над кроватью. Я долго смотрел, как оно, впившись в глянцевитую краску, висело там и не шевелилось. Потом я вдруг осознал, как близко оно к ней — над самой ее головой. Меня охватило бешенство, потому что я не заметил этого раньше, и я бросился к стене, чтобы раздавить его.
Но едва я привстал, как оно скользнуло вниз по стене и скрылось за кроватью.
Я стоял и ждал. Я смотрел на нее, проверяя, не забралось ли оно в постель. Я начал искать, а движения мои делались все медленнее и медленнее, так что я все больше цепенел, а когда я опять увидел насекомое, оно стало вдвое больше и глядела на меня из-под кровати. Я не мог пошевелиться.
Я открыл глаза — мне показалось, что она что-то шепчет. Она была по-прежнему мертвой, если не считать дыхания. Ее упорство расслабляло меня. Она словно росла там, как плесень на чем-то мертвом. Упорство плесени.
Когда я снова проснулся, у нее из носа вытекала струйка крови, как раз достигшая уголка губ.
Я нажал на звонок и попятился, глядя, как струйка удлиняется, нащупывает путь под нижней губой и начинает подбираться к подбородку. По ней прокатилась еще одна капля темной крови. Я открыл дверь и закричал в коридор. Рысью подбежала сестра. На ходу она прижимала палец к губам. Взглянув на кровать, она исчезла. Пришел доктор, и меня отправили в темный приемный покой. Я лег на деревянную скамью и стал глядеть на дверь. Я сел, снова лег, а потом вышел на холодный ночной воздух и посмотрел на бесчисленные огни внизу, которые утратили теперь какой бы то ни было смысл. Я кинулся назад, решив, что меня зовут. В приемном покое никого не было. Я почувствовал, что к запаху эфира примешивается запах моего пота.
Я выходил в коридор, прокрадывался к палатам в надежде узнать хоть что-нибудь, но каждый раз меня прогоняли вежливые сестры. Я уставился на стену у двери и принялся изучать все, что на ней висело. Я медленно обходил комнату, читая бюллетени, отчеты, рекомендации, инструкции министерства здравоохранения, правила выписки, не курить, не плевать, ждите по ту сторону барьера, ухо, горло, нос. Никто не приходил. Я сел в кресло-каталку и начал ездить взад и вперед. Где-то подъехала машина «Скорой помощи» и опять уехала.
На рассвете вошла. сестра и спросила, что мне нужно. Она ушла, а потом вернулась и сообщила, что в ее состоянии изменений нет.
Я попробовал вызвать доктора-шотландца, но сегодня дежурил не он.
— Можете подождать здесь, если хотите, — сказала сестра, — но боюсь, это будет бесполезно. Лучше придите попозже.
Она как будто знала меня. За твердой вежливостью сестры мне почудилась девочка из «Мекки». Я подумал: как ей кажется — изменился ли я? Я поехал к себе и поставил будильник на половину восьмого. Поспал часа два и отправился на завод.
Вечером я узнал, что отец миссис Хэммонд еще жив и живет в богадельне за вокзалом. Я приехал туда на следующий день, как раз когда его собирались отправить в приют для престарелых. Того, что я ему говорил, он не понял и продолжал принимать меня за какого-то Стэна. А я подумал, что было бы со всеми нами, если бы его дочь осталась с ним и не поехала в Мойстон работать на военном заводе. Ее он как будто забыл совсем и все время, пока ждал. у печки машину, шамкал что-то про Стэна.
Меня пустили к ней в четверг с утра. Ее голова и половина лица были забинтованы, и, хотя никто ничего не сказал, я понял, что это хороший признак. Я держал ее пальцы и думал, что, может быть, теперь она это чувствует, однако сестра решила встревожиться, когда, войдя, увидела, что ее рука открыта почти по плечо.
— Значит, вы думаете, что она все-таки может поправиться? — спросил я у нее.
— Право, не могу сказать, мистер Мейчин. Но все мы на это надеемся, не так ли?
Я до утра продремал на стуле рядом с ней.
* * *
Новая палата была больше первой — это знаменовало разницу между муниципальной больницей и Райдингом. И теперь она видела цветы. Прежде они просто тихонько увядали рядом с постелью. А теперь она замечала их свежесть, как только их вносили в палату. И едва они начинали никнуть, их убирали. Больше всего она смотрела на цветы — на цветы и на по-зимнему черную вершину дерева за окном.
Иногда она улыбалась, словно по доброте душевной уже не старалась вспомнить прошлое, и бездумно смотрела на меня. Ее лицо над простынями было маленькие, неомраченным, как у трехлетней девочки, предвкушающей удовольствия наступающего дня.
Она снова стала такой, как на фотографии, которую показывала мне, — лицо, подставленное солнечным лучам, смеющийся девичий рот. В первый раз я увидел, какой она была — без Эрика, без меня. Была девушка, был смех, а между тем временем и этим была только пустота забвения.
Когда я входил, она поворачивала голову и молча следила за мной. Она ни разу не сказала ни слова. Я сидел возле — иногда мы обменивались взглядами, в которых был вопрос. В спокойной тишине каждая минута проходила как секунда, пока мы старались узнать друг друга.
Однажды она выпростала из простыни руку — осторожно, словно для того, чтобы посмотреть, что я сделаю. Я взял ее в свои. Это словно подтвердило то, что было между нами, слило две половины воедино.
На рождество я в первый раз привез к ней Линду и Йена. Ее глаза расширились от радости и недоумения. Она их не узнала, а только почувствовала их счастье — и свое. Когда они прижались к ней, ее взгляд с новым недоумением бродил по комнате, пока она пыталась опознать их ласковое тепло. Доктор Мак-Мейон и сестра наблюдали за ее усилиями с улыбкой, но предостерегли детей, чтобы они были осторожнее.
— Да ведь это же Линда! — сказала она.
— А это я — Йен, — серьезно напомнил ей мальчик.
Она прильнула к ним, закрыв глаза.
Через неделю она умерла.
6
Пока я ехал в потоке машин по Новому мосту, я видел над верхом соседнего автомобиля свой завод — дым паровоза во дворе, металлическую ограду, закопченную гармонику стеклянных крыш. В голове у меня билась песенка, быть может воплощая ту уверенность, которой заражало меня в этот самый нервный день недели место, где я работал. Я успел заметить бурую от промышленных отходов воду, пологим бугром вздувающуюся над плотиной и неторопливыми завитками расходящуюся у каменной набережной под заводской стеной. Над плотиной, как в тихой заводи, стояли похожие на пухлые пальцы баржи, причаленные друг к другу под маленькими кранами у черного отполированного ската для угля. Все это я знал так, что мог и не смотреть, — резкий запах оскверненной реки просачивался в машину. Но все это было где-то далеко.
Человек, которого я подвозил в город, с улыбкой посмотрел на меня.
— Какие прогнозы на сегодня, Артур?
— Ничего особенного… немножко покидаемся.
— Самый подходящий день, — сказал он.
Мы оба посмотрели на низкий потолок из серых туч, мелькнувший за старыми кирпичными домами Вест-стрит. Некогда солидные особняки фабрикантов теперь превратились в потемневшие пни былого величия — то маленькая типография, то жилой дом, то фабричная контора, то большая, необычного вида лавка. Они проносились за ветровым стеклом, глухо и тупо отзываясь на мой взгляд.
— Вам здорово досталось в прошлую субботу, — сказал он с фамильярностью зрителя, оплатившего свое место на трибуне.
— Ну пока, — сказал я ему, подъезжая к тротуару, чтобы он мог сойти.
Воспользовавшись затором, он распахнул дверцу.
— Разделайся с ними сегодня как следует… Я буду смотреть матч, — добавил он, словно именно это должно было меня вдохновить.
Он захлопнул дверцу и помахал мне.
Я остановился перед «Вулпеком». Маленькая фигура в большом пальто появилась из дверей отеля, направилась ко мне и стукнула меня кулаком по плечу.
— Здорово, — сказал Морис. — Как дела, малыш? — он показал свои мелкие нахальные зубы.
Когда мы вошли в бар, его смуглое лицо поползло в стороны. Мы присоединились к небольшой группе у стойки — никто из них не пил, кроме Джорджа Уэйда.
— Привет, Артур, — сказал он. — Мы как раз говорили о новорожденном, Морис.
— Да неужели? — сказал Морис.
— А как Джудит?
— И она и он чувствуют себя прекрасно. Он весил восемь фунтов пять унций — чертов чурбанчик!
— Так и нужно, — сказал Джордж. — Мы еще сделаем из тебя отца! — Он пробурчал еще что-то шутливое, и его маленькие глаза под живой изгородью бровей растянулись в щелочки. — Помни, что играть он должен за «Примстоун». Хотя еще никогда отец с сыном не играли в одной команде.
Остальные решили засмеяться — Фрэнк, Морис, юнец Арни и двое нервничающих хавбеков. Мы все беспокойно задвигались.
Фрэнк, слегка сгорбившись, без всякого интереса смотрел на Джорджа дружелюбными глазами, припудренными углем. Белый шарф туго обматывал его шею, лицо у него было красное, и сразу становилось ясно, что он пришел сюда после ночной смены. Морис, который выглядел старше и, пожалуй, нелепее, чем положено семейному человеку, не так уж давно обзаведшемуся семьей, опирался на мое плечо с таким же притворным интересом. Рот Арни так и не закрывался, изображая улыбку.
Джордж, опиравшийся на стойку, знал, что несет чушь, но не останавливался и только поглаживал огромный набалдашник своей трости. Рядом с ним, точно маленький тюлень, припал к полу Тоби-второй и изнывающими от преданности глазами созерцал начищенные башмаки Джорджа, раздвинутые на истертом ковре.
Посетители за столиками говорили приглушенно, чтобы не упустить ни одного слова Джорджа. Каждая его фраза передавалась из уст в уста до самого дальнего угла комнаты, где экономно тлела кучка углей. Болельщики там, несмотря на жару, оставались в полной готовности покинуть помещение сразу же, как только Джордж или кто-нибудь другой из нас подаст знак, — они даже не расстегнули пальто и не сняли шарфы, и я почти слышал, как они потеют.
В конце концов Джордж все-таки посмотрел на часы, которые носил под отворотом рукава, — недавнее новшество — и сверил их с часами над стойкой, всегда показывавшими десять минут десятого. Он извинился и отправился в туалет. Пес последовал за ним — конец поводка исчезал в кармане дождевика его хозяина. Едва Джордж удалился походкой манекенщицы, пожираемой взглядами зрителей, как Морис включил свежую улыбку.
— Куда ты думаешь пойти вечером, Арт? — спросил он.
Я ответил, что еще не знаю, и он запустил пальцы в свои короткие черные волосы.
— Намечается вечерок. Почему и тебе не пойти отпраздновать?
— Что отпраздновать?
Он расстегнул пальто и обдернул свой лучший костюм.
— Мы разнесем их вдребезги, приятель, — сказал он. — Я поставил пятнадцать фунтов, так что теперь деваться некуда.
— Это ведь рискованно, Морри, — серьезно сказал Арни, помолчав. — Смотри не проговорись при его милости.
Он кивнул на дверь туалета. Мы жиденько посмеялись над его серьезностью.
— Не понимаю, и чего я работаю в шахте! — сказал Фрэнк.
Появился Джордж, рассеянно застегивая последние пуговицы, и замечание Фрэнка как-то повисло в воздухе. Он сменил свою утреннюю кепку на вечернюю фетровую шляпу.
— Интересно, а собаку он заставил… — начал было Арни, но тут Джордж сказал:
— Пора идти, ребята, — и почти все посетители в баре поднялись. Он опять посмотрел на свои новые часы. — Без пяти два.
Мы отправились на остановку и сели в автобус до Примстоуна. Машина уже порядком постарела и ползла в гору еле-еле, так что я предпочитал с ней не связываться. Я замечал, что все чаще езжу на автобусе.
По дороге мы не разговаривали. Первая волна зрителей уже заняла оба тротуара, поднимаясь вверх по склону под мелким дождичком, и начинали образовываться первые уличные заторы.
Серые массивные здания — из камня, а не из кирпича, как на самом дне долины, — дефилировали мимо медленной процессией; проплыл обшитый лакированным деревом узкий фасад лавки гробовщика, который всегда пробуждал во мне предчувствие, что я буду убит в тот день, когда стану его рассматривать по дороге на матч. Сегодня я уставился на него, словно бросая вызов. Толстый усач выглядывал из-за объявления в витрине, рассматривая густеющую толпу на тротуаре. Утомительность подъема в тесном потоке машин была заразительной: я начал позевывать.
Когда мы догнали Мориса, он раздавал автографы у служебного входа; мы гуськом прошли по коридору под главной трибуной. Гостевая раздевалка была еще пуста, но в нашу явились уже все игроки.
Они стояли в пальто, притопывали, быстро и сухо переговаривались, сновали между скамьей и уборной. Дей и массажист проверяли посреди комнаты экипировку. Служитель, горбатый и равнодушный ко всему вокруг, уже стоял в бетонном бассейне и среди клубов пара тер его жесткой шваброй.
Я нашел место на скамье и рассеянно смотрел, как Фрэнк спорит с Деем. Морис начал расшнуровывать башмаки — если не считать Фрэнка, только он один твердо знал, что будет сегодня играть.
Однако когда я снова взглянул на Арни, он уже тоже снял пиджак, а потом стянул и рубашку. Значит, по дороге на стадион Джордж шепнул ему, что он сегодня играет. Джорджу все больше нравились люди, которые не ленились за ним ухаживать. Мальчишка сунул руку в большую жестянку на полу и вытянул толстую колбаску вазелина. Он начал нетерпеливо втирать его в плечи, а потом вокруг ушей, уже успевших утратить форму и воспаленных. Арни любил поговорить и не закрывал рта все время, пока растирался, а его переразвитые мышцы бугрились от сдерживаемой самоуверенности. Глядя на обтягивавшую их гладкую кожу, я остро почувствовал собственную зрелость. Я встал.
Морис разделся донага. Охваченный, как обычно, возбуждением перед матчем, он подпрыгивал в гуще одетых в пальто игроков. Его испещренное шрамами тело немножко утешило меня. Я наблюдал за Морисом, словно никогда раньше его не видел. Его мышцы были твердыми и узловатыми — яростные клубочки физического напряжения. Искривленные, чудовищно наращенные бедра были заткнуты в тугие узлы колен, красных и огрубелых, которые готовился перебинтовать массажист.
Из темного коридора в раздевалку вошли три личности. Отлично защищенные от холода, они замигали в желтом электрическом свете, и двое из них устремили на игроков благожелательные взгляды. Они только что решили, кому придется сейчас выбежать на холод, под дождь, в грязь. Все уставились на листок в руках Джорджа.
Когда вслед за фамилией Арни прочли мою фамилию, мальчишка поглядел на меня, и в его глазах был явный вызов и честолюбивая злость. Я отвернулся. Стоит ли так неистово волноваться из-за этого. Подожди год-другой — и увидишь, что ты будешь чувствовать тогда!
Джордж кончил читать, поднялся шум, раздались возгласы, а запасные отступили в тень и стали подыскивать способы скрыть свое явное разочарование, помогая нам. Я снял пальто, когда Джордж сказал:
— У вас есть тридцать пять минут, ребята. Не торопитесь. Та команда только сейчас приехала, — он оглянулся с таким видом, будто в том, как он теперь постоянно напоминал нам о времени, не было ничего странного. — Я сообщу вам их фамилии сразу же, как только получу список.
Он послал кого-то из членов комитета за списком, и его шляпа замелькала среди деловитых голов — он направлялся к столу массажиста. Он осмотрел синие и лиловые пятна на спине Мориса.
— Похоже на обои, Морис, — сказал он и, наклонившись, начал что-то шептать ему на ухо. Это была еще одна новая привычка Джорджа, которая мне не нравилась.
Я сел на скамью, снял башмаки и засунул в них носки. Я пытался придумать, чем бы занять мысли, но, как обычно, ничего не придумал и только рассеянно решил, что, пожалуй, надо бы как-нибудь привести в порядок машину. Я втер вазелин в лодыжку, которую повредил, когда еще был школьником. И перебинтовал ее, считая, что Дею незачем видеть, как она распухла за последние две недели, а потом натянул синие в красную полоску гетры и завязал тесемки. Прислонившись к стене, я попытался расслабиться перед тем, как раздеться. Сквозь майку тут же просочилась вода и холодила мне спину. Арни был почти готов и подпрыгивал, боксируя в углу с тенью. Ему оставалось только надеть рубашку. Я как завороженный смотрел на его массивные плечи, на переливающиеся мышцы его спины. Такой гибкостью, пожалуй, не мог похвастаться никто другой — струящейся и не знающей неуверенности. Был ли я прежде таким? Я почувствовал, что лучше не смотреть на Арни слишком долго. В углу напротив Дей и один из запасных бинтовали хавбеков, которые были с нами в «Вулпеке». Более высокий стоял, расставив ноги и выпятив грудь, как нажравшийся голубь, пока Дей обматывал его тело бинтом и пластырем, чтобы защитить спину и ребра. Перед столом Фрэнк — живот у него свисал над трусами — втирал вазелин в плечи и шею, переговариваясь с Морисом. Джордж отошел к Арни, и тот с дипломатической серьезностью выслушивал его наставления. Тоби-второй, как показывал поводок, забрался под скамью. Горбун, продолжая скрести бассейн, затянул псалом.
Я разделся, застегнул трусы и подошел к Фрэнку.
— Как дела? — сказал он по обыкновению неопределенно и с многозначительной нежностью потер свое раздавшееся брюхо. — Надо бы обратить на него внимание. По примеру старины Джорджа. Он все на меня поглядывает с той минуты, как я снял жилет. — Его припудренные углем глаза устало заморгали. — Будь другом, потри мне спину.
Он повернулся, и я начал втирать вазелин в бледную кожу, испещренную синими шрамами. Это я неизменно проделывал с самой первой моей игры.
Знакомые запахи накапливались в низкой комнате — сухой пыли, пота, карболки, кожи и гуталина. Вверху непрерывно стучали ноги. Я натянул рубашку с двенадцатым номером, и в тот момент, когда моя голова вынырнула из ворота, увидел, что Арни разговаривает с Фрэнком. Их разделяло почти двадцать лет. Фрэнк начал играть за «Примстоун», когда Арни только родился. И я знал, что больше всего угнетает Фрэнка страх перед тем днем, когда уже больше не будет регби, не будет популярности, денег, а может быть, даже дружбы, и он станет таким же безвестным, как остальные его товарищи-шахтеры, станет бывшим. Это резкое сужение жизни как раз в тот момент, когда ей по правилам следовало бы обещать все больше и больше, выросло в угрозу, которую он заметил слишком поздно. Впервые Фрэнк проявил слабость. Мне не очень-то хотелось думать об этом.
Наверху громко топали подошвы. В нагретый воздух раздевалки ворвался холодный сквозняк, отдававший сыростью. Вернулся член комитета со списком изменений в составе приехавшей команды и властно захлопнул за собой дверь.
— Дождь еще идет? — спросил Фрэнк.
Игроки столпились, заглядывая в список. Бледное чахоточное лицо вошедшего стало желтоватым в свете лампочки, когда он повернул голову, чтобы ответить с заметным шотландским акцентом:
— Идет, старина. И теперь уж не перестанет, это точно.
Фрэнк откинулся на скамье, положив толстые ладони на колени, и о чем-то заговорил сам с собой. Арни взял мяч и теперь бросал его кому-то из игроков, указывая, как именно бросить его обратно. Через десять лет, подумал я, он станет таким же, как я. А потом все кончится.
— Следите за пасовкой, Артур, — шепотом и по секрету сообщил мне Джордж Уэйд. — Сегодня скользко. А они выставили хороших крайних — Тейлора и Уилкинсона, так что вам придется сегодня перехватывать со всей быстротой. Со всей!
— Я знаю, Джордж.
Кажется, он обиделся. Разогнувшись, он задел взглядом только кончик моего навазелиненного уха и шагнул к Фрэнку, чтобы сказать ему два-три бесполезных слова.
В дверь постучали, и вошел помощник судьи.
— Осталось пять минут, — сказал он и начал осматривать бутсы и «броню». Я вынул зубы и сунул их в нагрудный карман.
— Ну как, Артур? — сказал он и отошел, не дожидаясь ответа.
Два хавбека в углу — плечи в «броне» у них достигали ушей — нервно переговаривались вполголоса, стирали с пальцев вазелин, проделывали бег на месте, жевали бесплатную резинку Джорджа. Они замерли, давая осмотреть свои тщательно защищенные тела, а потом пригладили волосы перед тусклым зеркалом. Я почувствовал, что во мне поднимается агрессивная энергия — начинал действовать дексадрин, который я принял дома.
Я подошел к Морису, остановившемуся у аптечки. Он раздавил ампулку с нашатырным спиртом, и мы по очереди втянули его в нос. Над дверью зазвенел электрический звонок. Дей принялся отбарабанивать последние советы.
Кое-кто нервничал — на прошлой неделе умер игрок, которого ударили бутсой по голове. Дей говорил сурово и чуть-чуть устало. Потом он передал мяч Фрэнку и открыл дверь.
— Удачной игры, ребята, — отеческим тоном сказал Джордж, сложив руки на животе. — Кулаков в ход не пускать. Но уж будете бить, так бейте со всей мочи, — и он добавил крепкое словцо, ту еженедельную порцию ругани, до которой он снисходил. Он кивнул и ласково улыбнулся двум-трем игрокам.
Я вышел за Фрэнком в туннель. Такое тело, как у него, гарантирует некоторую безопасность. Представители лиги потрогали его спину, потом мою, и мы перешли на рысцу. Оглушительный рев возник одновременно с дневным светом и продолжал нарастать, пока мы выбегали на поле. Громкоговорители изрыгали «Марш гладиаторов».
Несмотря на моросящий дождь и холод, трибуны были черны от зрителей. Мы, чистые и аккуратные, выстроились в круг посредине поля и начали перекидываться мячом — на фоне зеленой травы наши красные рубашки с вертикальными синими полосами и белые трусы казались особенно яркими.
Плюмаж пара, ослепительно белый на фоне серого неба, отделился от края охладительной башни и медленно проплыл над стадионом. Из устья туннеля выбежал человек в белой рубашке с горизонтальными красными полосами. Новая волна рева — стрекотание трещоток, звон, вопли труб, — и красно-белый поток затопил более темную зелень на краю поля. Я поискал глазами пятый и второй номера и посмотрел на их форвардов. Они были совсем молодые.
Фрэнк стоял рядом с судьей и капитаном противника — кривоногим и низкорослым, похожим на Мориса. Они обменялись рукопожатием, бросили монету, и Фрэнк знаком показал, что мы будем играть, как уже стоим.
Толпа снова взревела, предвкушая начало. Морис выбежал, как выбегал уже тысячу раз до этого, и ударил по мячу. Шесть форвардов бросились вперед. Я придерживался прямого направления, зная, что могу создать впечатление мощной атаки, ничего для этого не делая, — игрок, схвативший мяч, побежит наискось к центру и отпасует кому-нибудь из хавбеков.
Он это и сделал, быстро и точно отпасовав своему низенькому капитану, но не успел еще тот забрать мяч, как его чуть не прикончил Морис коротким прямым — он набежал, предугадав их маневр. Капитан лежал неподвижно, зарывшись в грязь, широко раскинув на траве короткие ноги. Судья подошел посмотреть, сильно ли он оглушен, и бросил на Мориса предостерегающий взгляд.
— Давай и дальше так, Морис, — сказал Фрэнк.
Мы построили над этим местом схватку, короткие сильные ноги переплелись, потом налились напряжением. Схватка медленно сдвинулась, Арни пнул в лодыжку, и игрок рухнул. Мяч покатился, мальчишка ловко подхватил его одной рукой и, отскочив в сторону, помчался вперед. Потом длинным пасом послал мяч Фрэнку, который тяжело бежал следом за ним. Громоздкая туша Фрэнка, его медлительность притянули форвардов противника, как магнит. Они бешено наскакивали на него, пока он неторопливо шествовал сквозь их строй. Прежде чем упасть, уступая их одновременной атаке, он мастерски послал мяч в просвет, который сам же и создал. Морис, готовый принять мяч, уже не слышал, как Фрэнк глухо ударился о землю; он прижал мяч одной рукой, коротким точным рывком прорвался к беку и был уже почти на линии, когда прославленный своей быстротой крайний перехватил его и сшиб, точно колос.
Обе команды мгновенно кинулись туда под возбужденный шум на трибунах. Фрэнк стоял за Морисом и схватил мяч, едва он появился между ног нашего первого хава. Сзади набежал я, и Фрэнк передал мне мяч, когда я уже развил полную скорость. Я ударил в стенку ожидающего противника, точно глыба. Они немного подались, но тут же сомкнулись и устояли. Мой затылок вспыхнул тупой болью. Я с трудом принял позу, которая, как мне было известно, могла смягчить удар накатывающихся тел и давала возможность отпарировать чей-нибудь злобный кулак. В моих прижатых ушах отдавались вопль и свист толпы, почти переходившие в одиночные мучительные стоны, а потом я свалился.
Но тут же вскочил и отпасовал. Мяч схватил Арни. Только теперь я понял, какой популярностью он пользуется у зрителей. Когда его свалили словно бы нечаянным ударом, я почувствовал, что его неосторожность доставила мне смутную радость. Я схватил мяч, который он отбросил, и послал его Морису. Мяч перешел прямо к сверхзащищенному крайнему. Тот взял его очень чисто и рванулся вперед — только для того, чтобы вылететь в аут. Толпа недовольно зашумела.
Мы построили схватку, задыхаясь от первой усталости, — над напряженными спинами хавбеков поднимался пар. Я увидел, как между моими ногами прокатилась мокрая дыня, и Морис нетерпеливо схватил ее. Головокружительным финтом обойдя все еще оглушенного капитана, он был перехвачен крайним. Он брыкался, извивался и вдруг, сжавшись в комок, перемахнул через линию.
Толпа завопила и всколыхнулась, как стадо в загоне, как внезапно взбаламученный пруд. Свистки, колокольчики и трубы вплетали свои звуки в животный рев, господствовали над ним. Я подбежал к Морису, хлопнул его по спине, и мы все довольными кучками вернулись на свои места.
Бек промазал по воротам. Над полем пронесся легкий ветер, брызгая дождем. Ослепительное облачко пара заклубилось над стадионом, медленно поднимаясь все выше. Я поглядел на проплешину у моих ног, размокшую и мягкую. Я нагнулся и ласково погладил ее, а когда дождевые капли вдруг изменили направление, посмотрел на такую же проплешину в центре поля. Мяча там не было. Через проплешину бежал тигр, только что по нему ударивший. Я прищурился и в густом воздухе на фоне темного пятна охладительных башен увидел небольшой овальный силуэт.
— Твой, Арт! — крикнул Морис позади меня. Мокрый мяч шмякнулся в мои полусогнутые руки, и я инстинктивно ввинтился в тиски окруживших меня игроков. Упал я очень удачно, и меня прижали к земле. Я не двигался и смотрел, как мяч переходит из рук в руки по полю.
— Давай, давай, Артур! — крикнул кто-то, может быть, позади меня, а может быть, с трибун.
Я машинально последовал за мячом, привязанный к нему невидимой бечевкой. Пожалуй, теперь мне машина не нужна. Моя стала слишком старой и слишком разбитой, а купить новую я уже никогда не смогу.
Я взял мяч и ринулся вперед по середине поля. Я увернулся от двух игроков противника и отпасовал. Прорыв кончился ничем.
Во время вбрасывания я сознательно встал там, куда мяч пойти не мог. Я нервно отдыхал, собственно, совсем еще не устав, и чувствовал себя растерянным. Лодыжки ныли — я слишком туго их перебинтовал. Дексадрин, очевидно, переставал действовать. У меня жало в груди. Сырость проникала в самые кости, неся с собой онемение. Черные, незнакомые лица в полосках кожи или крови, медленные черные ноги, непрерывно движущиеся мимо, сплетаясь, покачиваясь, нанося удары, и все в облачках пара, поднимающегося от кожи, оскверненной грязью, растворяющейся в холодном воздухе.
Я вплотную приблизился к месту вбрасывания и принял мяч. Я побежал широким шагом наискось — толпа это любит.
Я выбрал правый край — более знакомый участок поля, где их крайний к тому же был чуть пониже. Он настороженно поджидал меня, нервно пригнувшись, провоцируя меня пробежать между ним и боковой линией. Я чуть замедлил бег, перешел на носки и двинулся прямо на него. Он снова попятился вбок, по-прежнему пропуская меня вдоль боковой линии. Меня затошнило от его подлых штучек. Я рванулся прямо на него, выставив левый кулак. Я увидел внезапный испуг в его глазах, две выставленные вперед защищающиеся руки, отлетающую назад фигуру, две рваные раны, оставленные в дерне скользящими бутсами. И не увидел, а как-то почувствовал бека, бегущего мне наперерез. Я стал вскидывать колени повыше и сосредоточил все свое внимание на линии.
Раздался мальчишеский возглас Арни, готового принять мяч. Стоило только отпасовать ему, и мы получили бы еще три очка. Я выставил ладонь навстречу голове бека и почувствовал, как слабеет его хватка. Я рванулся вперед и кого-то сшиб, перелетел через него и боком выкатился в аут.
Запах земли, травы… Арни помогает мне подняться. Бурая жидкость бежит из моего носа по губе и просачивается в рот. Арни следит за ней как зачарованный.
— Здорово сделано, Арт!.. Здорово! — твердил мне Морис.
Я наклонился в схватке и смотрел, как мяч вошел, как он вышел. Я распрямился. Раздался свисток. Конец тайма.
Игроки, распростертые и скорчившиеся на массажном столе и на скамье. Слышны отрыгивание и стоны. От подъема не осталось и следа.
— Оглоушь этого сукина сына, когда он зазевается. Займись ногами. Ясно? А голова — уж мое дело…
— Ты видел, как он ударил Моргана в живот?..
— Какого черта, что честно, то честно!..
— В Уэльсе, играя в профсоюзной команде, я получал куда больше, чем тут… И я тебе скажу одно: если…
Они успокаивались. Тепло, запах горячей воды в бассейне и одинокий настойчивый голос Дея вводили раздражение в русло. Фрэнк принес бутылку с водой и прислонился ко мне дымящейся тушей. Он отхлебнул из бутылки, ополоснул рот и сплюнул. Когда я брал у него бутылку, я заметил, что из-под его волос сочится кровь. Она засыхала вместе с грязью на лбу, вокруг глаз и вокруг распухшего носа.
— Как ты, ничего? — спросил он. — А я выдохся. Дернуло же меня работать вчера в ночную.
Раздевалка была стойлом взмыленных лошадей. Дей задавал жару и объяснял, что все шло не так, как нужно. Я раздавил в пальцах ампулу с нашатырным спиртом и сунул ее Фрэнку под нос. Он вздрогнул, поперхнулся, откашлялся и ожил.
На поле мы выходили медленно. Наше вторичное появление было встречено нетерпеливыми и не такими бурными криками, а труба осипла. Мы остановились и стали ждать под дождем команду противника. Оттого, что погода ухудшалась, а темнело рано, толпа по краям трибун немного поредела. Теперь она в основном сосредоточилась на главной трибуне и на крытой трибуне напротив. Где-то в этой черной массе был мой отец. И Джонсон.
— Второй тайм передают по радио, — сказал Морис, пробегая мимо. — Не зевай.
— Договорились.
— Вот это правильно, малыш.
Началась игра, тягучая и нудная. Фрэнк никак не мог прийти в себя, и я метался по полю, подбадривая команду. Каждый стремился пробежать с мячом, чтобы его фамилия прозвучала в эфире. В схватке я совеем навалился на Арни, черпая затаенное спокойствие в том, что опираюсь на его спину. Пользуясь тем, что мне приходилось направлять игру, я уклонялся от участия в ней. Когда мяч попадал ко мне и я, щурясь от дождя, всматривался в смутные, кружившие передо мной фигуры, уверенность покидала меня, и я точным движением кисти отпасовывал его. Один раз я повернулся слишком медленно и неуклюже, после чего сразу последовал вопль толпы, и мимо меня мелькнул темный силуэт, разбрызгивая грязь во все стороны. Вокруг поля задернулся занавес рева. Мы выстроились позади ворот. Над головой в низких облаках пророкотал самолет.
— Не повезло, Артур, — рассчитанно сказал Арни.
Я смотрел, как аккуратно устанавливали мяч, как старательно разбегался игрок, как мельтешили его ноги, как небольшое пятно бесшумно взвилось сквозь дождь и по дуге прошло между стойками. Резкий взрыв на трибунах.
Меня начала раздражать кипевшая вокруг энергия. Старинный способ спасения. Я искал взглядом жизнь, не поглощенную бессмыслицей игры, я смотрел на высокую трубу и два кудрявых цилиндра электростанции, полускрытые низкими тучами, на крыши автобусов, проезжающих за стадионом, на зажженные плафоны их вторых этажей, на беззаботных пассажиров за стеклами окон. И дома, медленно спускающиеся в долину, тоже уже были освещены. Я снова направился к центру, подражая фигурам вокруг, чья энергия вдруг начала меня утомлять. Мне было стыдно, что я уже больше не молод.
Нас оттесняли к нашей линии. Морис перехватил мяч и отпасовал его Фрэнку. Фрэнк ринулся на людскую стенку и был опрокинут на землю в облаке пара и грязных брызг. С Арни разделались таким же образом. Они продвинулись на ярд, на два ярда от линии и были отброшены назад ровно на столько же. Фрэнк сделал еще одну попытку, бросив вперед свое мощное тело и подавив болезненное кряканье, когда его швырнули на землю. Он попробовал еще раз и закричал от беспомощной ярости: его схватили, подняли, перевернули, а потом уронили головой вниз. Он хрипел, как побежденная машина, когда его макушка вонзилась в землю.
При виде этого издевательства толпа вскрикнула от удивления и захохотала. «Хоть бы Кенни там не было!» — подумал я.
«На поле ничто не сравнится выносливостью с Фрэнком Майлсом, — часто говорил Джордж почетным посетителям. — В том числе и мяч».
Слева от меня капитан тигров смотрел на возню своих форвардов.
— Мяч! Мяч! — кричал он. — Да бросьте вы его!.. Хватайте чертов мяч! — Он бил себя кулаками от нетерпения.
Мяч шлепнулся в мои протянутые руки. Я ринулся прямо на капитана.
— Давай, Арт! Давай, Арт! — визжал Морис позади меня.
Я наскочил на него, перешагнул через него, растоптал его и кинулся в прорыв. Боль стучала у меня в голове, эхом отдаваясь от ног. Рука ухватила меня поперек живота, соскользнула, снова схватила, и мне на шею опустился кулак. Я потащил нападавшего за собой. Тут еще один ударил меня по глазам и носу: пальцы нащупывали самые чувствительные места, заставляя меня упасть на колени. Арни взял мяч и с мальчишеским торжествующим возгласом кинулся в хаос из грязи и людей — его тело, словно щупальце, выискивало просвет. Он под вой толпы пробежал десять ярдов, а потом рухнул в море из рук и ног.
Я все еще стоял на коленях; поглощенный странным ощущением равнодушной покорности. Мои коренные зубы стучали, когда я, наконец, поднялся, руки дрожали от холода, и я злился на себя за то, что не чувствую ненависти к тому, кто разодрал мне ноздрю. Я уже давно привык ко всему. Десять таких лет — десять лет наедине с толпой — стоит мне сделать одну-единственную ошибку, и вся трагедия жизни, трагедия существования проникнет в глотку толпы и ревом, возвестит о своей муке, как искалеченный зверь. Завыванье, бешенство толпы гремели вокруг, перехлестывали в долину — из сумрака на меня надвинулась фигура.
Под маской из грязи я увидел яростную, пронзительную белизну глаз и стиснутых зубов, блестящих от бесполезной вражды. Он увернулся от меня и проскочил мимо. Я выставил ногу и, когда он споткнулся, ударил его со всего размаха кулаком. Промахнулся и упал под мощный вздох толпы. Он удержался на ногах и побежал дальше. Он пробежал между стойками. Фрэнк помог мне подняться, а грязь спрятала мои слезы. Где этот паршивый бек? Мне хотелось кричать. Но я мог только неверящими глазами смотреть на мои ноги, которые меня предали.
Вода доходила мне до плеч. Она давила мне на грудь, и я, стараясь перевести дух, закашлялся от пара. От тепла все синяки и ушибы заныли. Слева весело болтал Морис — над водой торчала только его голова и тлеющая сигара. Фрэнк, глубоко затягиваясь, подставил мне свою бычью спину. Я намылил знакомые разводы пятен и шрамов. Их я знал лучше, чем свои собственные.
Он опустился под воду, смывая мыло. Когда его лицо вынырнуло, он сказал:
— Кто-то опять насвинячил, — и, оглядев всех с рассеянной усмешкой, добавил: — Наверняка Арни.
— Кто? Я? — мальчишка с обиженным видом указал на себя.
Фрэнк рванулся к нему через соседей. Мы с Морисом бросились на подмогу, а остальные повыпрыгивали наружу. Арни завопил: «Караул!» Мы ухватили скотину и сунули его паршивую голову под холодный кран. Морис принялся щекотать его между ребер. Вода каскадом хлынула на пол. Теперь вопили уже все. Арни изнемог от хохота.
Тут Дей разогнал нас, окатив водой из шланга. Мы встали перед огнем, и нас растерли. Морис, закурив новую сигару, лег на массажный стоя и подставил массажисту колени. Тот нагнулся над ним, покрывая его кожу оранжевой мазью.
Фрэнк, распустив брюхо, медленно вытирал голову полотенцем, и его бицепсы вздувались горой. Я перебинтовал лодыжки, оделся и вставил зубы на место.





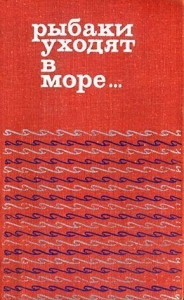

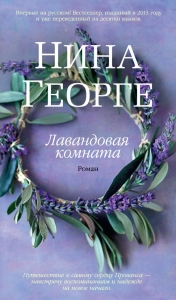

Комментарии к книге «Такова спортивная жизнь», Дэвид Стори
Всего 0 комментариев