Платон Беседин Учитель. Том 1. Роман перемен
Автор благодарит Фонд Рината Ахметова, Андрея Куркова, Веру Балдынюк, Александра Красовицкого, Зою Королькову, Людмилу Мороз, Ленину Берзину, Дмитрия Данилова, Евгения Черемухина, Билли Коргана, Николь Фиорентино, жену, родителей, бабушек, дедушек.
Посвящается Савченковой Марии
По истоптанной траве гуляет коза
1
Костлявая блондинка из катера, идущего от набережной Корнилова до северной стороны бухты, вертела книжку столь рьяно, что у меня начались «вертолеты», тягучие, как отдающая оскоминой на зубах жвачка. Вниз-вверх, влево-вправо, по кругу. Точно джойстик.
Сидя напротив, я пытался не смотреть, не погружаться в транс от ее движений, предпочитая сосредоточиваться на оставленном для кондиционирования пространстве между загорелыми ногами, но проклятый квадрат мезмеризировал.
– Не вертите, пожалуйста! – вспыхнул я, и слова дались мне с заметным усилием.
Она хмыкнула и несколько раз демонстративно махнула книжкой; «Ночной молочник» Андрея Куркова:
– Вот так, да?
Но все-таки отложила, уставилась в окно катера. Я проследил за ее взглядом: Равелин замер у моря пористым пряником.
Однако издевательство не закончилось – оно вступило в новую, аудиальную, фазу. Тонкими настырными пальцами блондинка застучала по выщербленной пластмассе бортика. Звук нарастал, перерастая в шаманский ритм, который, подчиняя, дурманил, и катер, раскачивающийся на волнах, лишь дополнял картину.
Я, словно гладя блондинку, провел взглядом по угловатой руке к плечу с проступающей сеточкой вен, приблизился к горлу. Голова чуть повернута, мышцы напряжены. Вцепиться, нажать, задушить. Обрубить звук.
От блондинки я спасся лишь тогда, когда вернулся в родные Каштаны и, выйдя на обязательную прогулку, рассеял гипноз пивом. Впрочем, и тогда меня терзало послевкусие магической встречи.
Сидя на бетонных трибунах недостроенного стадиона «Спартак», который хотели переименовать в стадион имени Эмиля Ганиева, зарезанного предположительно русскими националистами в селе Штормовое, я силился вспомнить, куда задевалась бабушкина книга «Как защититься от чародеев».
На когда-то футбольном поле, где культями зомби торчали спиленные на металлы обрубки ворот, паслись белые, серые, бурые козы. Большая их часть ленивыми пашами возлежала на голой, как брюхо щенка, земле. Другие медленно, образами из фантазии Стивена Кинга, бродили по стадиону, удобряя его мелкой дробью экскрементов, напоминающих пивные колбаски из сельмага «Огонек».
В «Огоньке» работала Анжела. Анжела давала всем. Бабушка говорила, что у нее бешенство. Но славна Анжела была не этим, – сколько таких на планете? – а тем, что наматывала круги вокруг коробок и пачек, когда принимала товар. Непривычный экспедитор, наблюдая, как блондинка, упакованная в халат пчелиной расцветки, волчком бегает рядом, превращался в безвольную куклу. Опытный же экспедитор – тот, которому Анжела дать успела, – смотрел на вещи спокойнее, но и ему было не по себе.
Вот и пятнистая коза, точно Анжела, наматывала круги у трибун стадиона. Может, и у нее было бешенство. Так что если боднула – наблюдай десять дней, а коль сдохла – секи голову, вези в районную СЭС. На экспертизу. Чтобы тебя спасли.
Там, в кабинете с перхотными стенами и пустыми шкафами, будет сидеть злая баба, взопревшая, с лицом цвета спелого буряка, которая отправит обратно домой, потому что нет финансирования, не до козьих голов, тут хоть бы с иксодовыми клещами справиться.
Мысленно серфингуя подобным образом, я начинал думать, что в пятнистую козу вселилась костлявая блондинка из катера.
Такое бывает. Недаром бабушка рассказывала мне про бесов и ведьм. Ей и самой одна жить не давала.
В ночь на Ивана Купалу ей под спину залез ледяной слизняк. Бабушка заворочалась, думала, чудится, но ощущение было реально. Зверь холодом расползался по спине, будто желе на тарелке. И чем больше и явственнее он становился, тем быстрее у бабушки уходили силы. Она испугалась, хотела перекреститься, но руки не слушались.
Тогда бабушка стала читать «Отче наш», но вместо правильных слов, вроде «Ежи еси на небеси…», гремела богохульная ересь. Но вдруг, – сидя на веранде, под желтыми польскими мухоловками, рассказывала бабушка, – огненными буквами появились шесть слов Иисусовой молитвы: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя грешнаго…»
Через боль, через испарину зашептала их бабушка. В груди полыхнуло. Бабушка вжалась в кровать. Там у нее, под периной, лежали «колючки». Слизняк, попав на металлические шипы массажера, вздрогнул, скукожился и, хлюпнув жабой, нырнул под кровать.
Позже у «Огонька» бабушка встретила Людку Коржикову, с которой они работали на винном заводе.
– А что там соседка твоя – Зинка Козинцева, землячка моя? – спросила бабушка. С Зинкой бабушка переехала в Крым из Брянской области, но после они не общались.
– Лежит твоя Зинка: все лицо исколотое, точно иголками. Повалилась в куст ежевичный. Ты бы к ней, Степанида, зашла, что ли, все-таки землячка твоя…
– Зайду, чего уж там, – перекрестилась бабушка.
Глядя на бегающую козу, я силился вспомнить блондинку в подробностях. Бледная угревая кожа. Холодные рыбьи глаза. Длинные настырные пальцы. И красная ниточка на запястье.
Вот она-то и показалась мне странной. Мы все носили цепочки с названиями музыкальных групп или веревочные бусы, подаренные протестантскими миссионерами, а тут – красная ниточка. Как только я подумал о ней, бешеная коза успокоилась, легла на траву, замерла.
2
Смысл красной ниточки я выяснил на следующий день у особы, которая, видимо, знала все. Звали ее Маргарита Сергеевна, и она заведовала сельской библиотекой.
У нее, похоже, было всего две пары обуви: высокие ботфорты, так густо смазанные кремом, что оставляли следы на полу и стенах, и цветастые туфли на небольшом каблуке – обе совершенно неуместные для сельской местности. Она и сама казалась неуместной, чужой, вставленной из другой реальности, как инородная картинка в паззл: изможденная, вытянутая, с суетной улыбкой и всегда аккуратными ногтями. Они злили окружающих больше всего.
Не знаю, где она доставала книги по эзотерике, каббале – к последней и относилась красная нить, – но библиографом Маргарита Сергеевна была отличным.
Она даже приносила самопальные распечатки, на оборотной стороне которых шли бесконечные таблицы с шести-, семизначными цифрами. В сочетании с текстом о магии чисел смотрелись они убедительно.
В каббале я, безусловно, так ничего и не понял, но решил определиться со священным числом – по наитию, без особой на то причины я выбрал «36». Теперь, сдавая контрольные и рефераты, я наносил шестерку и тройку на уголки листов.
Числа, видимо, задели меня так сильно, что тридцатого декабря, прочитав в «Крымской правде» статью геничевского астролога о том, что 2003 год будет особенно трудным, мистическим, – «число 23 издревле считалось сакральным, отклонение Земли двадцать три градуса…» – я, как сектант, принялся ждать локального апокалипсиса.
Искусство быть смирным
1
Валентина Дмитриевна лишь улыбается, когда и без того наглый Петя Майчук, перекатывая сигарету во рту, изображает дельца, приехавшего покупать южноамериканские рудники. Я, стало быть, изображаю этакого чилийского рудокопа, открывшего месторождение, а теперь желающего продать его, дабы наконец-то отдохнуть где-нибудь в Бахиа.
Сначала я планировал нацепить шахтерскую каску, но у знакомых ее не оказалось. Обещал достать Петя, но, видимо, загулял и даже не вспомнил. Из-за отсутствия каски я играю южноамериканского рудокопа, нацепив оранжевую ветровку.
По сценарию Петя – или Педро, если соблюдать реализм до конца – изображает пронырливого хапугу, а я – застенчивого трудягу. Все как в обыденной жизни. И стараться не надо.
Я потому и волочусь за Петей, у него – крепкого, общительного, уверенного в себе парня – есть то, что у меня никогда не будет: девушки, богатые родители, свобода, а главное – успех во всех его видах и проявлениях. С шуток Пети смеются. Развязность принимают за коммуникабельность. Он может хватать девушек и за коленки, и за груди – стоит лишь захотеть. Во многом потому, что он богат. Не знаю, чем сейчас занимается его отец, но говорят, что начинал он с вывоза песка с пляжей Любимовки и продажи его в качестве стройматериала.
Другому бы ведь не разрешили – пусть и ради чистоты эксперимента – использовать настоящую сигарету, хотя учителя знают, что почти все мы – кроме девочки в извечном синем платочке, на которую наплевать, – курим. Бегаем за пыльные кипарисы, высаженные еще моей мамой, на задний двор школы. Пускаем сигареты по кругу, и если кто-нибудь приносит «Кент» или «Парламент», то становится «весовым», с ударением на последний слог.
Сейчас у доски с нарисованной мелом суммой, которую надо сдать на поездку в Никитский ботанический сад, Петя прогуливается, заложив за спину руки, спрашивает, много ли в руднике железа. Я тыкаю деревянной указкой в карту полезных ископаемых, демонстрируя, где затаились богатства, дожидающиеся алчных, загребущих рук.
Таково наше домашнее задание по географии. Мы не готовились. Я потому, что и так достаточно знаю, а Петя потому, что в графе «Фамилия» ему написали Майчук.
– В общем, железа хватает, – резюмирую я экскурсию по руднику.
– Ну, забились, беру, – скалится Петя.
Жмем руки друг другу. Валентина Дмитриевна довольно кивает, выводя оценки в журнале:
– Бессонов, Майчук, садитесь – «отлично»…
Усаживаемся за первую парту. И у меня, и у Пети плохое зрение.
– Следующий доклад подготовили Вадим Головачев и Алексей Новокрещенцев…
Петя всовывает наушник в левое ухо, набивает смс, тыкая в свой «Самсунг С100». Я же, хоть и нет повода, до сих пор волнуюсь; меня потряхивает, как Чили в 1960 году.
Пухлый, с довольным сальным лицом сын баптистского пастора Вадик Головачев выплывает к доске вразвалочку, «морским волком», сходящим с океанского лайнера на портовый берег, где пабы, выпивка, шлюхи. Рыжий Леха Новокрещенцев, лучший футболист школы, наоборот, торопясь, семенит, как всегда нервничая перед ответом. Он заикается и оттого теряется, отвечая устно, хотя, на самом деле, дисциплины знает неплохо, просто ему легче писать, чем говорить.
Новокрещенцева невзлюбила русичка за то, что, по слухам – эти липкие, несмываемые сельские слухи, – его отец, вдовец, предпочел жить один, а не с ней. Поэтому русичка мучает Леху чтением стихов наизусть. Один раз – на Есенине – она так затерзала его, что он расплакался.
Ничего, зато на футбольном поле Леха Новокрещенцев бог. Ну или полубог, учитывая игру Зидана и Баджо.
Впрочем, сейчас не до них. Надо решить, как пригласить на свидание Раду.
2
Отец хотел, чтобы я стал медиком. Ухогорлоносом. Стоматологом. Или хирургом. «Подыхать буду – спасет, надрез сделает, кровь пустит», – выпив, бубнил отец. Пьяный он клялся мне, что даст денег – «у меня этих купюр навалом» – на репетиторшу. Мол, он даже знает одну, Люську, которая «будет натаскивать по биологии только за то, что ее твой батя прет».
Я всерьез думал, что меня отправят на занятия к этой Люське. И очень переживал. Потому что тогда у меня начались проблемы с желудком. Такие серьезные, что пришлось ехать к гастроэнтерологу в Севастополь.
Врач, бойкий старик с жутким протезом вместо левой руки, поставил мне особую форму дисбактериоза. Выписал на фирменном бланке лекарство, чье название значилось на фирменном бланке.
Мама несколько раз жалостливо поблагодарила его, и мы сунулись в ближайшую аптеку. Солидную, внушающую, из советского прошлого: с деревянными стеллажами выдвижных ящиков и причудливыми растениями в декоративных горшках. Здесь не только продавали, но и готовили лекарства. Таких аптек почти не осталось: в конкурентной бойне их вытеснили либо каморки три на три метра, либо супермаркеты, где продают все, но ничто не помогает. Даже фармацевт за стеклом отличалась монументальностью: не типичная борзоидная писюха, устроившаяся работать по блату, а высокая дородная женщина с прической Елены Малышевой.
Она взяла протянутый бланк, по памяти назвала цену. Мама как-то смущенно заулыбалась, а после выдавила: «Хорошо, хорошо, мы попозже зайдем…» И засобиралась на выход, даже не взяв рецепт.
Дисбактериоз мне лечили народными методами. Ромашкой и зверобоем, сывороткой и земляной грушей. Но он, зараза, не проходил.
Поэтому идти к Люське я боялся. Вдруг не справлюсь с урчанием. Или того хуже – захочу в туалет. А там надо делать либо все очень тихо, либо покашливать, чтобы скрыть предательские позывные желудка.
И все же заниматься биологией мне очень хотелось. Пусть до шести лет я и планировал стать директором леса – окружающие удивлялись, говорили, что такой профессии нет, уверен, они ошибались, – но лет в двенадцать победила основательность. Врач – это серьезно. Он спасает людей. Мне очень хотелось кого-то спасти. Хотя бы себя.
Поэтому в итоге я все же решил заниматься у Люськи.
Но недели шли, а отец молчал. Тогда я дождался, когда он заглянет к маме – более или менее трезвый, – и, подойдя к нему, будто к начальнику за повышением, спросил:
– А, что там с репетитором, пап?
Он допил самогон из жестяной кружки и, вытерев шершавой ладонью рыжие от курева усы, отчеканил:
– А хер его знает!
Мама вспыхнула, стукнула деревянной ложкой – любые другие она не признавала – и, похоже, хотела что-то сказать, но смолчала. Постояла, тяжело опершись о край стола, накрытого клетчатой скатертью, и принялась собирать посуду.
– Слышь, мать, а добавки?
– Дома поешь, – мама сложила тарелки в эмалированный таз, поставила греться воду.
Отец повертел кружку, точно собирая остатки – ничего не нашел, встал и не прощаясь вышел из кухни.
Чтобы не злить мать, я догнал его на улице. У исколотого ежевикой забора.
– Пап, так может мне репетитора поискать, а, пап? – Я как маленький, хотя был почти его роста и комплекции, дернул отца за полосатый рукав. – В Севастополе-то наверняка есть…
– Слушай, отъебись, а? – Он вдруг, замерший, покраснел. Достал пачку «Президента», закурил. – У матери своей спроси. Мне чего мозги компостировать?
– Так ты ж сам, – мне показалось, что я вот-вот заплачу, – предлагал. Хирургом, тебя лечить…
– Не хер меня лечить, – еще больше краснея, отшил отец, – мне помирать скоро! И не реви, чай не конец света!
Развернулся и под лай собак вышел на переулок. Сорвал зеленых слив с соседского дерева и, размахивая загорелыми по локоть руками, зашагал прочь.
Больше он тему репетиторов и медицины не поднимал. Даже пьяный.
В тот вечер, проплакав в сарае, у заготовленных на зиму дров, я поклялся выучиться на медика. Не утирая слез, обещал себе найти деньги на севастопольского репетитора. Клялся поступить в Крымский государственный медицинский университет имени Георгиевского.
Мне казалось это вполне реальным, возможным. Ведь сдавать надо было химию и биологию. Плюс устное собеседование.
Биологию я знал неплохо. Выиграл в школьной олимпиаде, занял третье место на районной (благодаря заученному, точно стиху, вопросу про мейоз и митоз), но на региональной срезался.
А вот химия пугала, вызывала сомнения. Наши валентности не коррелировали.
Правда, на олимпиады по химии я тоже ездил. И позорился там за всех. Тем более, что тестировался сразу на районном уровне. От школьной олимпиады меня, как надежду класса, освободили. На районной же я смог написать лишь один вопрос, и то благодаря рыжей девочке-кнопке с лицом мопса. Когда я обратился к ней за помощью вновь, то она, повернувшись, сделала такое преданное лицо, что меня невольно перекосило. Она видела эту кислую мину раньше и в своей отчужденности все понимала. Да, не красавица, но зато отличница, а вы, раз такие жуткие привереды, ничего не получите!
Наша учительница химии Алевтина Сергеевна, красившая волосы, как и, наверное, все химички, в нежно-фиолетовый цвет, винила в моем олимпийском провале районо, успокаивая меня в кабинете с порванной таблицей Менделеева, которому кто-то очень давно пририсовал синяки под глазами.
– Они, Аркаша, меня давно не любят. Потому что я РХТУ имени Менделеева оканчивала и с Ферсманом работала. А они кто? Никто! Обычные пешки, чиновники средней руки! Не ученые, не изобретатели, не энтузиасты…
С Ферсманом она, безусловно, не работала, но РХТУ и, правда, оканчивала. Оттого ей и было так душно в нашем селе. Она старалась развлечь себя. Рисовала стенгазету. Участвовала в самодеятельности. Сажала не картошку, как все, а пальмы, привезенные внуком из Ялты. Но больше всего она любила загадки.
Например, пятерку за семестр Алевтина Сергеевна поклялась вывести в классном журнале тому, кто ответит ей, где у каждого в доме утка. Версии сыпались, грозя придавить Алевтину Сергеевну очевидностью. Ведь каждый держал дома птицу. Во дворе. В загоне. В пруду. Жестикулируя, гримасничая, кричали мы. Но Алевтина Сергеевна, конечно, была не так проста.
Собственно, тогда, ответив на ее зачетный вопрос, я и заработал прижизненную славу школьного химика и румянощекий позор на олимпиадах.
– Под кроватью, у деда! – перекрикивая одноклассников, выдал я.
– Молодец, Аркадий! – всплеснула руками Алевтина Сергеевна. – Верно мыслишь!
Так я записался в ее любимчики и мог бы пойти к ней на репетиторство, но, думаю, толку бы из этого не вышло, потому что вместо окисления железа и разложения щелочи она бы осыпала меня загадками.
Нужны были деньги – я клялся их заработать. Чтобы стать медиком. Оперировать в морском госпитале, чьи окна выходят на Карантинную бухту, где пенобородые волны накатывают на треугольные волнорезы, похожие на огромные кукурузные хлопья из детских завтраков.
«Аркадий Алексеевич, спасайте больного, пощадите нервы и души родственников». Те подойдут ко мне в длинном, пропахшем хлороформом коридоре, по-собачьи жалостливо заглянут в глаза и, протягивая двести, пятьсот или даже тысячу (когда я стану врачом, такая купюра несомненно появится) гривен, произнесут заветное всеобъясняющее «спасибо». Ничего – я буду монументален, – это моя работа, но деньги, конечно, возьму. Так делают все приличные врачи. А я буду врачом приличным.
Подобные мысли, фантазии будили во мне странное, почти животное, возбуждение. Я упивался им, набирая обороты, раскручиваясь, как маховик.
Но стоило выйти за порог дома, окунувшись в идущую со скотного двора Алимовых гнилостно-терпкую вонь навоза, экзальтация проходила. Улетучивалась. И оставалась пустота, знакомая с детства. Когда счастье – вот оно, протяни руку, ухватись, но нет ни сил, ни желания.
Я вертелся возле «Огонька», где якобы требовался грузчик, но не заходил внутрь, а чаще всего просто стоял, тщетно стараясь поймать то мотивирующее возбуждение, которое все еще пребывало со мной уходящим, неуловимым отблеском светлого будущего.
Так я ходил неделю или, может быть, две, пока наконец не осознал, что ни на какую работу, данную мне без поручения со стороны, полученную исключительно по своей инициативе, я, в принципе, не способен. Позже это чувство мне доводилось испытывать сотню раз, вновь и вновь поражаясь, как менее сообразительные ребята, знакомые по детскому саду и школе, добиваются большего, нежели я, успеха, деловито, словно в вагоне СВ, устраиваясь в жизни без особых на то предпосылок. Полагаю, секрет их заключался в топорной простоте, которой они довольствовались, усваивая основные, примитивные правила существования без желания идти дальше, в иные плоскости бытия.
Мечта стать хирургом, которая еще могла бы превратиться в нечто действенное, материальное, продержалась во мне не больше недели, постепенно, медленно, как застоявшаяся вода в раковине, сходя на нет и в итоге превратившись в отложенное воспоминание, приятное, но бесполезное. Я тешил себя тем, что мои герои Курт Кобейн и Эксл Роуз добились успеха в двадцать четыре и двадцать пять, а мне еще нет двадцати. Так успокаивал я себя. И смирялся.
Я был спокоен и в тот вечер, когда мама вернулась домой хмурая, взъерошенная. Мы на ходу поздоровались. Я, стараясь быстрее исчезнуть из кухни, насыпал в пузатый фарфоровый чайник с отколотой ручкой зверобой, ромашку, бессмертник – все, что спасало от дисбактериоза, плеснул кипятка и убежал в дом.
Но все равно был пойман, когда, проголодавшись, сунулся за куском бородинского хлеба и мясной закаткой.
– Присаживайся, сынок, поговорим, – тихо сказала мама, растирая виски, как всегда при мигрени.
Хлипкий табурет с обмотанной изолентой ножкой заскрипел подо мной.
– Что думаешь с поступлением? – пристальный, немигающий взгляд. Глаза у мамы воспаленные, красные.
Я внутренне съежился, подобрался. Мама смотрела так, будто уже определилась, но хотела, чтобы окончательное решение мы якобы принимали вдвоем. Она говорила о необходимости выживать, об ответственности, о куске хлеба, о старости, о запасном варианте.
В медицину еще успеешь пойти, сынок, а сейчас надо подстраховаться. Ты же понимаешь, репетитора нам не потянуть. И вдруг не поступишь? Ты, конечно, молодец, умница, на золотую медаль идешь, но там же надо взятки давать, а откуда у нас деньги? Согласись, лучше иметь запасной вариант. Вот в соседнем Песчаном севастопольский университет открыл курсы. Раньше только при самом университете были, так это в Севастополь ездить, а тут прямо в Песчаном. По-моему, неплохой вариант. Потом можно пойти куда угодно, но сейчас надо подстраховаться…
Мама старалась говорить уверенно, но страх в глазах – и она сама понимала это – был красноречивее ее, в общем-то, правильных слов.
Возможно, мне надо было оппонировать. Говорить что-то про медицинский университет. Про то, каким великим патофизиологом был Сергей Иванович Георгиевский, раз в его честь назвали вуз, где учатся три тысячи студентов. И я хочу быть одним из них. Все это, безусловно, надо было сказать. Возможно, кто знает, я бы, воодушевленный заразительным спичем, прямо с кухни, заставленной банками с консервацией – сколько же сил уходило на ее приготовление каждое лето! – отправился поступать в университет имени Георгиевского. Но я лишь выдавил, точно предал:
– Не знаю…
Самые глупые, самые фатальные, самые бездарные слова для мужчины. Дело ведь было не в маме, не в ее аргументах. Я сам не хотел рушить предопределенный мне план. Так было легче.
В очередной раз я побоялся (или поленился) взять на себя ответственность. Пусть они решат за меня. Я ведь точно знал, что кто-то неизбежно будет отвечать за результат. В своей правоте уверен я не был, а, значит, существовал реальный шанс ошибиться, встретившись с наказанием.
Потому мне и нравилась школа: расписание, оценки, домашнее задание, сроки, конкретные задачи, ясные цели. Это был рай определенности, против которой можно и нужно было бунтовать, дабы поставить себе галочку несогласия, обязательную для юношеского максимализма. Но, по факту, я наслаждался системой, дышал ею, как соседский токсикоман Славик купленным по знакомству клеем «Момент».
Потому через неделю я сидел в школе Песчаного, на подготовительных курсах Севастопольского национального технического университета.
Рада училась в параллельной группе.
3
Деревня становится особенно тоскливой во время дождя. Вся она как бы расклеивается, размокает, и ноги, чувства утопают в грязи, смешанной с мусором и навозом. И даже редкий, диковинный для каштановского пейзажа асфальт, постеленный, со слов бабушки, еще при Брежневе, превращается в нечто похожее на дешевую гречневую кашу. Вода в прорытых по краям дороги канавах становится хлопчатой, мутной, приобретая темно-зеленый оттенок, каким обычно отливают на солнце зловонные мухи, оккупирующие деревенский сортир.
В Крыму, правда, осадков бывает немного, но в первых числах того октября, когда я записался на курсы, дождь лил всю неделю. Оттого еще больше не хотелось ехать в Песчаное.
Зонтик я по обыкновению не взял, боясь потерять. Чаще зонтов я терял только шапки. Да и нормального – черного или темно-синего – зонтика у нас не было; мама постоянно всучивала мне уродливую, жуткой расцветки каракатицу, из которой торчали ржавые спицы. Поэтому уже на остановке мой аккуратно поставленный польским гелем чуб скуксился и превратился в безвольного слизняка, ползущего на отмеченный мальчишескими угрями лоб. Одежда намокла. Хуже того – тряпичный рюкзак “Nirvana”, который я упросил купить маму на симферопольском рынке, водостойким тоже не оказался, и тетради в нем пропитались влагой. Это был крах. Сколько бы я ни прятался на пустой остановке под разлапистой крымской сосной. Низ ее ствола был основательно побелен, хотя мне казалось, что по правилам белят только фруктовые деревья.
В таком виде идти на подготовительные курсы было, конечно, нелепо. Со стороны, наверное, я выглядел как размокшая в кипятке лапша быстрого приготовления. Только специями забыли присыпать. Но идти всё-таки надо. Потому что на первом занятии, как сказала мама, запишут тех, кого допустят к посещению на весь семестр.
Да, надо было ехать. Это я потом сообразил, что плати деньги и ходи, когда хочешь – капитализм нынче, сынок, – а тогда, накачанный, как футболист перед финалом, мамой-тренером, я втиснулся, оставляя лужи на вспучившейся резине салона, в старый ПАЗ, протянул водителю деньги и, уткнувшись в книжку, поехал в Песчаное.
Подготовительные курсы устроили в школе. Утром и днем здесь преподавали физику, математику, биологию, географию, русский язык, другие предметы, а вечером те же и приглашенные учителя, но под вывеской Севастопольского национального технического университета углубленно рассказывали про физику, математику, русский язык.
Школа мне не понравилась. Хмурое, отделанное серым булыжником здание в два этажа, растянутое по длине, оно казалось приплюснутым, точно кепка кавказца. С левой стороны от входа мостился памятник выдающемуся крымско-татарскому деятелю Мустафе, фамилию которого я так и не смог запомнить, хотя честно старался, а справа плотным рядом шли кусты смарагдовой туи.
Старик-охранник, сидящий в отгороженной пластиком и стеклом будке, на вопросы о курсах не реагировал и вообще делал вид, что здесь оказался случайно. Ориентировался я по людям: куда они – туда и я. Удивляло то, что мелькали преимущественно славянские лица. Группка татар непривычно тихо держалась в сторонке. Уже вечером, анализируя ситуацию, я сообразил, почему их было так мало. Татары отправляли детей на учебу не в Севастополь, а в Симферополь. И это логично, потому что Севастополь – город русских моряков, отчаянно переиначиваемый московскими инвесторами в курортный рай, а Симферополь – административный центр, где, несмотря на украинскую власть, главное влияние имеет Меджлис.
Из Каштан я так никого и не встретил. Зато на ступеньках познакомился с Квасом. Вторым человеком после Рады, как я стал называть его позже.
Он столь активно вертел башкой – на голову это косматое, белобрысое мракобесие не тянуло, – что повалился на меня, идущего сзади. Квас, похоже, и сам испугался, едва не проглотив шариковую ручку, торчащую изо рта.
Это было его страстью – разгрызать в крошево колпачки гривневых шариковых ручек. Грыз он их чаще, чем писал ими. Когда же забывал или окончательно уничтожал колпачок, а другого не было – одалживал материал у меня.
Квас тряхнул белобрысыми космами и спрятал ручку в рюкзак, с которого суженными зрачками смотрел прорезиненный Курт Кобейн. Я невольно взглянул на свой рюкзак – для сравнения. Мой был лучше. Курт сидел с акустической гитарой у микрофонной стойки, среди горящих свечей и белых лилий – кадр с последнего концерта Nirvana на MTV “Unplugged into New York”. Разницу изображений оценил и Квас.
– А таких уже не было, – с сожалением протянул он, глядя на мой рюкзак.
– Ага, – растерялся я, – это мне мама купила…
– Нормальная у тебя мама.
– Это да, – и с особой глубиной чувства я добавил: – Очень!
Он протянул руку:
– Юра Васильев.
– Аркадий Бессонов. – Рука у него была по-мальчишески влажной, холодной.
– По правде сказать, – он улыбнулся, – все называют меня Квасильев. Или Квас…
Я кивнул, но Бесиком, как меня окрестили в школе, представляться не стал.
– Ты из какой группы?
– Из первой.
– Я тоже. Так куда нам?
– Вроде бы на второй этаж.
– Ну тогда двигаем. – Мы вновь зашагали по лестнице. – А тебя, кстати, какой альбом Курта больше всего штырит?
Он говорил именно так – песни, альбомы, концерты Курта. Группы “Nirvana” для него не существовало. Только Курт Кобейн.
Я хотел ответить что-нибудь вычурное, удивить, но от волнения первого общения ляпнул стандартное:
– “Nevermind”.
– Не, ну это понятно, – разочарованно протянул Квас. – А песня?
– “Lithium” и “On a plain”, – с ходу ответил я и даже напел: – “I like it I’m not gonna crack…”
– “I miss you I’m not gonna crack”, – улыбнувшись, подхватил Квас, в отличие от меня попадая в ноты. – Круто! А то все по “Teen spirit” прутся…
– Или по “Come as you are”, хотя она клевая.
– Ага, – Квас достал из рюкзака ручку. – В общем, давай это… будем тусоваться. На занятиях и так.
Я согласился. И мы зашли в класс с портретами Льва Толстого и Ивана Тургенева на обклеенных бледно-синими обоями стенах.
4
Несмотря на присутствие литературных классиков, в кабинете занимались физикой и математикой. Брали интегралы и дифференциалы, высчитывали напряжение по закону Ома и силу тока по законам Кирхгоффа.
Математика мне давалась легко. И слава богу, потому что преподавательница Ирина Викторовна Киреева – рыжеватая, веснушчатая женщина в ярко-красных очках – относилась ко мне не то чтобы с антипатией, но определенно с подозрением. Будто мы встречались до подготовительных курсов, и я провинился в чем-то.
Ирина Викторовна приехала из Севастополя. Летом у нее погибли внучка и сын. Напротив здания университета, где она преподавала радиотехникам и кибернетикам высшую математику.
Сын должен был отвезти внучку в детскую поликлинику. Заказал такси. У института, в Стрелецкой балке, на встречную вылетел черный «паджеро». Протаранил такси «Дэо Матисс». Сталь непрочная, тонкая. «Паджеро» тоже не танк, но массивнее. Все пассажиры «Дэо» – сын, внучка Киреевой, водительница такси – погибли на месте, превратившись в подобие свекольных котлет, которыми нас потчевали в школьной столовой. «Паджеро», как гласит щедрая на эвфемизмы милицейская хроника, скрылся с места преступления. Его водителем оказался сын главного православного священника Севастополя.
С Киреевой пробовали договориться. Но единственным ее желанием – только бы нашлись силы – было задушить и водителя черного джипа, и батюшку. Пусть отмолит грехи на небесах. Но сил не было. И родных не осталось. Никого не осудили.
Ирина Викторовна просила в университете расчет. Хотела уехать на родину, в Алтайский край, но ей не дали. Уговорили, отправили подготавливать абитуриентов в Песчаное. Сняли одноэтажный домик, отделанный розовой плиткой. Странная в своей заботе о людях практика как для института постсоветского времени.
Первый месяц Киреева регулярно вызывала меня к доске. Просила решить задачу. Я нервничал, заикался, точно Леха Новокрещенцев в школе. Решение я знал, но смущали вечно заляпываемые в дороге штаны и ботинки, которые в сочетании со старомодной одеждой стесняли перед оценивающими взглядами одногруппниц.
Выхода было два: либо превратиться в изгоя – “Gramma take me home”, – либо адаптироваться к учительским вызовам. Неожиданно для себя я выбрал второе. В этом мне помог Квас. И его красная спортивная сумка с нашивкой “In Utero”.
Ее он постоянно таскал с собой. Тетрадей, учебников Квас не носил – только запас ручек, – потому я не мог сообразить, для чего ему эта сумка. Пока однажды он ее не раскрыл.
Валил мокрый снег, падающий на лицо слюнявыми поцелуями неопытных семиклассниц. Я в мокрой куртке терся у входа, под ржавыми остовами турников. Квас появился со стороны сточной канавы, злой, насупленный. Спрашивать его о причинах дурного настроения было всегда бесполезно – не отвечал. Но тут он начал говорить сам:
– Ничего, блядь, не замечаешь?
Я присмотрелся:
– Вроде бы нет…
– А боты, блядь, боты! – Квас сокрушенно взмахнул сумкой. – Родственнички презентовали! – цедя эти слова, он как бы соревновался, какое из них ему более отвратительно.
Его ноги были упакованы в нечто похожее на деревянные колодки тошнотворной расцветки.
– Мрак!
– Да ладно, чего ты? – успокаивал я, но хотелось смеяться.
– Хер с ними, – вздохнул Квас. – Давай раз боты, сука, такие, накатим!
Я вздрогнул. Через пятнадцать минут начинались занятия. Да и выпивал я преимущественно один, так как стеснялся употреблять алкоголь при людях. Особенно раздражали домашние посиделки с фразами вроде «А чего это Аркаша не пьет? Лучше уж дома, чем в подворотнях».
– Да мы по чуть-чуть, не ссы…
Прячемся в укреплениях на заднем дворе школы. Укрепления – землянка, стенки, лабиринты из металлических труб, – видимо, предназначены для занятий по допризывной подготовке юношей. Раньше эта дисциплина называлась «Начальная военная подготовка», и так мне нравилось больше. От юношей в укреплениях – битое стекло и сморщенные блямбы высохших экскрементов, от армии – несколько шин, выкрашенных в защитный цвет.
Устраиваемся на каменном выступе с надписью «Артем, я люблю тебя и выйибу в жопу». Надеюсь, это не военрук писал.
Квас ставит сумку, жужжит язычком молнии. Внутри – пузатая бутылочка «Первака», квашеные огурцы в полиэтиленовом пакете и свертки, замотанные в мятую фольгу. В них – влажная, вареная свекла, порезанное сало, горбушка черного хлеба.
– Давай по одной, – Квас достает металлические стопочки, булькает водки, – закусываем…
Вот почему его называют Квас.
С водкой в желудке терпеть Кирееву легче. И даже привычный выход к доске только добавляет позитивных эмоций. Мел движется плавно, слова льются певуче – этакая песня решения интегралов, – и я увлекаюсь настолько, что начинаю красоваться, вводя в ступор не только Кирееву, но и Таню Матковскую, чье лицо напоминает куриную жопку. Квас подмигивает, не выпуская изо рта колпачка ручки.
После столь вдохновленного ответа вызывать меня стали реже. Да и я уже не терялся, а наоборот – пытался фраппировать; слишком забавным казалось лицо Тани.
Физика мне давалась сложнее. Хотя, по словам Кваса, еще не придумали более легкой науки: есть «дано», есть формулы – соединяй, решай. Но не получалось. Может быть, лирик во мне душил физика.
Зато преподавательница – Варвара Петровна Калдаева – относилась с симпатией. А вот Кваса за его манеры третировала. Каждое занятие мы слушали ее сакраментальный вопрос:
– Васильев, где твоя ручка?
Квас тут же вытаскивал ее изо рта, слюнявую, жамканную, и медленно произносил:
– Вот она, Варвара Петровна!
При этом олимпийским факелом он выставлял ручку перед собой, от чего лица впереди сидящих девочек трогала совершеннейшая брезгливость.
– Так не грызи ее, а пиши ею! – припечатывала стол Калдаева.
Все это напоминало скорее детский класс, нежели занятие с абитуриентами, если бы не вульгарные школьницы впереди.
Квас на Калдаеву не злился, говорил, что хорошо бы с ней выпить, но не предлагал, будучи уверенным в том, что она потребляет исключительно шмурдяк, а сам он признавал только водку. На чем основывалась его знание – неизвестно. Но Калдаева и, правда, отличалась похмельной грустью лица.
Потом, вернувшись в село, я встречал ее в нашей церквушке, бьющей поклоны перед старинной иконой Николая Угодника. Выглядела она точно так же, как и на подготовительных курсах.
Сильнее всего я нервничал на коллоквиумах, которые всегда писал хуже Кваса. Это злило, доканывало меня. Ведь большую часть контрольной Квас суровыми взглядами расстреливал давно небеленный потолок, а потом, за пятнадцать-двадцать минут до конца, с видом только что свихнувшегося писателя, начинал быстро-быстро ваять на мятых листах. И всегда получал «отлично».
Метод Кваса так раззадорил меня, что вместо решения собственных задач я под конец сдачи проверял его листы, стараясь понять, где он хитрит. Хитрости не было, сколько я ни цеплялся к вечно мятым влажным листам. Но доверие мое уменьшалось, и все чаще внутри клокотало непонимание.
Квас на подозрения не обижался. Напрягся он только один раз, когда я, выпив много, а закусив мало, булькая хмельным негодованием, заявил, что его родители башляют учителям.
Недели две Квас не общался со мной. Без содержимого красной сумки я стух и на радость Киреевой отвечал у доски в прежней нервно-ипохондрической манере. Извинения Квас принял лишь с третьего или четвертого раза. Я говорил долго, слезно, а он глядел куда-то в сторону, пока не перебил:
– Это ладно, верю, но ответить за базар надо.
– В смысле? – растерялся я.
– Что тебе доверять можно, что ты понял, – хрустнул колпачком Квас.
– Хорошо, – как часто согласие бывает неискренним, – я готов. Что делать?
– Точно готов?
– Точно.
– Хорошо, тогда слушай. Нетопыря ловят ночью…
5
Нетопыря ловят ночью. И я должен помочь в его поимке. Чтобы загладить вину. Так сказал Квас.
Просьба его казалась игрой, забавой, и я согласился, но существовала проблема: из дома меня отпускали максимум до одиннадцати вечера. Под весьма солидные поводы. А тут – сердцевина ночи. И ни одного повода.
Сказать Квасу об этом я, безусловно, не мог. Боялся, что засмеет. Он был другим – свободным, бесстрашным. Его не связывали ограничения: внешние, внутренние. А я всегда чего-то боялся. Тесных автобусов. Близко сидящих одноклассниц. Узких переулков. Хамовитых продавщиц. Рычащих собак. Потому я так и тянулся к Квасу. К Пете Майчуку. К таким, как они. К заменителям выщербленного условностями себя.
– Сходняк ночью, у водоема, – говорил Квас, допивая «Крымское светлое». – Ты хоть знаешь, что Джим Моррисон, Йен Кертис, Джон Бонэм – все они были нетопырями?
Мне, наверное, стоило признаться, что не знаю, да и не верю, но я промолчал. Как это часто бывает, когда хочешь понравиться. Квас был моим единственным другом. Без него я бы окончательно превратился в отщепенца, от которого шарахается даже Таня Матковская. Надо было идти.
Бабушка, закутываясь в байковые одеяла, спала на веранде у входа. Ночью она часто вставала, чтобы выпить дигоксин или тенорик. Спала бабушка чутко.
Мама же устраивалась на ночь в маленькой комнатке, большую часть которой занимала сложенная из глиняных кирпичей русская печка. Пользоваться ей, набивая углем и дровами, перестали, кажется, года три назад, когда установили газовый котел. На него мама заняла денег у коллег. Отдавали натужно и долго.
Еще один угол занимал киот с иконами. Под ним – застеленный черным сукном стол, где мама и бабушка держали святую воду, просфоры и стаканы с пшеном, из которых торчали свечи. Обязательно восковые. Потому что пахнут особенно, благостно, умиротворяюще. Зажги, и свеча будет благоухать, а не чадить.
Еще была мамина кровать. Скрипучая, хлипкая, как и постеленный тридцать лет назад деревянный пол. Идти по нему к выходу, минуя маму и бабушку, значит погубить ночное бегство из дома.
Потому был лишь один вариант отправиться на поимку нетопыря – через окно. Благо, что дом одноэтажный.
Мама вроде бы никогда не заходила ко мне ночью. Только желала приятных снов. Можно было попытаться сбежать и вернуться к утру.
Плохо, что дверь из маминой в мою комнату отсутствовала. Ее заменяла шторка, подвешенная на «крокодильчики». Задернуть с вечера, мол, собираюсь учиться, и чтобы свет маме в глаза не светил – так и оставить. А самому – в окно.
Вечером, после того, как мама и бабушка пожелали мне спокойной ночи, я не выключил свет. Изображая учебу, стал листать книги по русскому языку. Не зря, потому что мама зашла еще раз, сказала, чтобы не напрягался, а быстрее ложился спать.
Я кивнул, но просидел еще час. Правда, уже с «Опавшими листьями» Розанова, чтение которого мне посоветовала Маргарита Сергеевна.
В половину первого я выключил свет. Подошел к шторке. Мама похрапывала. Бабушка не шла за лекарством. Я потушил свет, лег на кровать, намеренно громко скрипнув пружинами. Вновь обождал. Аккуратно встал, подошел к окну. Надел спрятанные за раскидным креслом джинсы, свитер, куртку. Распахнул окно и вылез на улицу, рядом с поставленными на скамье ведрами. Пригибаясь, как вор, засеменил к металлической калитке.
Квас ждал на остановке, под соснами. Не такими, как в горном Крыму: там они вытянутые, куполообразные, похожие на лампочки, а здесь – приземистые, с разлапистыми грибными шляпками крон.
– Здорово, Бес. – Недавно Квас откуда-то узнал мою школьную кличку. Сперва я обижался, но он довольно легко убедил меня, что так даже солиднее. – Полчаса жду, а ты где-то ходишь…
Полчаса он, конечно, не ждал, но я все равно начал оправдываться:
– Ждал, когда мама уснет. По-другому вырваться не получилось бы…
– Ну да, предки, предки…
– А твои как? Спокойно?
Квас напрягся, тряхнул космами, которые всегда зачесывал под Курта Кобейна – хотел отрастить и бородку, но не получалось, сколько бы он ни брил детский пушок, надеясь превратить его в мужскую щетину, – сменил тему:
– К встрече с нетопырем готов?
– Всегда готов. Приманивать чем будем?
– Его не надо приманивать. – Квас подмигнул. – Он сам придет. Главное – идти навстречу. Хотя…
– Что хотя?
– Можно, конечно, водкой. У тебя есть?
– У меня-то нет, но у тебя должна быть.
– Угадал, Бес. – Он сбросил на землю красную спортивную сумку, открыл, достал бутылку водки. – Заодно, давай, накатим для смелости…
Мы выпили из горла. Закусить было нечем. Водка отдавала даже не спиртом, а ацетоном. Я шумно, глубоко задышал. Лицо Кваса не изменилось.
– Хорошо, что накатили. Нетопырь почувствует в нас своих, хотя, – он упаковал водку в сумку, – может, и приревновать. Ничего, мы ему под нос пузырь сунем…
– Странно, как для летучей мыши.
– Что за мышь?
– Ну, нетопырь этот…
Квас замер, пошарил в кармане, вытащил ручку, сунул в рот.
– Какая на хер летучая мышь? Ты ебнулся, что ли? – Я поморщился. Маты всегда раздражали, казались чужеродными паразитами, засевшими в теле русского языка. – Ты что, не знаешь, кто такой нетопырь?!
– Ты не рассказывал…
Глаза его стали пыточно-раскаленными. Он вперился в меня ими, зажав нижнюю губу крупными, лошадиными зубами.
– Так, Бесик, – уменьшительно-ласкательный суффикс Квас использовал, когда был недоволен мной, – тогда растолкуй мне, какого хера ты двинул со мной? Или, по-твоему, нетопыря поймать как два пальца?
Истинной причины я, конечно, сказать Квасу не мог.
– Интересно.
– Не интересно, а любопытно.
– Пускай так.
– А любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Или забыл? А нетопырь тебе еще и хуй оторвет, если голодный будет. Не шутки, бля, шутим…
Оборвав фразу, Квас зашагал вдоль безмолвной дороги. Идти за ним не хотелось. Резало это его «хуй оторвет». Да и мама могла зайти в комнату, обнаружить, что меня нет, и впасть в валидольную истерику. Тем более, что Квас вел себя как сельский дурачок, рассказывающий глупенькие страшилки у потухающего костра. Но вопреки собственному желанию я зашагал следом, позволив себе только один вопрос, хотя надо было задать еще два десятка:
– Так куда мы идем?
– Идем навстречу. К сельскому клубу. – Квас повернулся и, пугая уж совсем как ребенок, прошептал: – Там озеро подходящее.
Когда я был маленьким, каштановский сельский клуб выглядел масштабно, эпично. С фасада он не казался особо массивным, зато цветной герб над металлическими дверями отличался вычурной лепкой, а ступени отделали мрамором. По бокам у клуба было три выхода, к которым вели кипарисовые аллеи с клумбами роз. Отсюда он казался гигантским. Размер задавали колонны, подпирающие массивный свод, и высокие широкие, как из средневековых храмов, окна. С задней стороны на расстоянии нескольких метров отделенное узкой асфальтированной дорожкой примыкало озеро с живописно нависающими над тогда еще чистой водой ивами. Под ними, развалившись, закидывали удочки рыбаки.
Каштановский сельский клуб, несмотря на эклектику названия, впечатление производил солидное, претенциозное даже. И, когда я в первый раз оказался в нем, совсем маленький, на референдуме, мне чудилось, что я попал в древний величественный храм, а низенький плешивый человек, ораторствующий за длинным столом, накрытым красным сукном, виделся мне исполином, служителем высших сил…
Но сейчас в вяжущем мраке ночи – ночь в деревне особенно непроглядна: нет ни работающих фонарей, ни сверкающих вывесок, потушен свет в окнах приземистых хат – клуб больше походил на заброшенный амбар. Металлические двери сменили на деревянные, давно некрашеные, с одной торчащей доской, которую все никак не решались приколотить. Герб облупился, рассыпался по крупицам – остался лишь красный след.
Подходя к этому по-стариковски больному зданию, вспоминаю песню «Короля и Шута» «Проклятый старый дом». Сначала в голове личинкой заседает мелодия, а после она трансформируется в навязчивого песенного червя: «В заросшем парке стоит старинный дом. Забиты окна, и мрак царит извечно в нем. Сказать я пытался, чудовищ нет на земле, но тут же раздался ужасный голос во мгле…»
Квас сосредоточен. Идем молча, так близко друг к другу, что его рюкзак при ходьбе бьется мне о плечо. Рисованный Курт Кобейн целует мою руку.
– Обойдем и пойдем к озеру, – говорит Квас.
Согласно киваю.
– Так, стой, – тормозит Квас, – ведь жопой чувствую, у тебя есть вопросы.
Они и, правда, есть, распирают изнутри, точно те сомнительные беляши из магарачинской «Астры», после которых мне промывали ромашкой желудок.
– Есть, но давай без мата.
– Базара нет, – «зуб дает» Квас. – Хочешь знать про нетопыря?
Единственное, что я хочу – это ничего не хотеть. Но, кивнув, соглашаюсь на историю нетопырей.
Они, говорит Квас, перекатывая в руке сорванные с кипариса ароматные шишки, не летучие мыши, а конченые заблудшие алкаши, чей внутренний мир под «белкой» превратился в мир внешний. Образы, которые видели бухари, оказались настолько реальны, что визуализировались и стали явью для остальных. Они как бы ворвались из алкоголического бреда в наш мир. Что-то типа монстров, пролезающих из параллельной действительности. С галлюцинациями алкобасов та же история. Они плодят реальных демонов, самый мерзкий из которых – Водянка. Она формируется где-то под ключицей, разрастается, крепнет и проникает в мозг, со временем полностью заменяя его. Поэтому у бухарей бледно-голубые глаза. Это и есть Водянка.
Большинство конченых умирают с ней от болезней. Или погибают по дурости. Под колесами. В сугробе. От ножа. Тем же, кому не повезло, Водянка внушает свои мысли, желания. Тогда конченые идут в самый мутный, грязный водоем, какой есть поблизости, и топятся, насильно глотая воду. Лежат на дне сорок дней, превращаясь в нетопырей. А после всплывают, распухшие, синюшные, жуткие. Вылезают на берег, ища, что бы съесть. Далеко от водоема они не отползают; их навсегда привязывала вода. Поэтому жрут они, в основном, отходы и падаль, а если повезет – кошек, собак и птиц. Но больше всего любят младенцев.
Квас говорил все это на фоне забальзамированного трупа клуба в болезненном свете луны. Антураж точно выдернули из грошового фильма ужасов, где решили не тратиться ни на актеров, ни на режиссера, ни на сценарий. Чистое любительство, чистый хардкор.
И все же в рассказе Кваса было нечто такое, что заставляло если не верить, то сомневаться. Не знаю, влияла ли на это атмосфера или та детская непоколебимость, с которой он живописал нетопырей, но эффект был действительный, ощутимый, с морозцем и пупырышками на коже.
– А для чего нам нетопырь?
– Тебе – не знаю, а мне дядю спасать.
– От чего?
– От Водянки! Жрет его, падла!
Обходим клуб справа. Фигурные окна заложены ракушечным камнем, похожим на формовые буханки хлеба. Подпирающие свод колонны облупились. Стены исписаны углем и краской; фразы идиотские в своей нелепости. Ступени завалены мусором, выделяется рваное кресло с вывернутыми пружинами. Запустение, упадок, разруха.
Пространство вокруг клуба – болото призрачных сосен. Протяни руку – утонет в чем-то мглистом и вязком.
Квас дышит хрипло, шагает пружинисто. Глядя на волосы, спадающие ему на плечи, мне вдруг думается: «А что если весь этот бред про нетопырей – правда, и он знает больше, чем я?» И сколько бы я ни гнал этот вопрос логичными, здравыми аргументами, он по-хозяйски обосновывается внутри, не уходит.
Мы у задней стены клуба, обтянутой красной заградительной лентой – не пересекай черту. Наверное, потому, что сыпется штукатурка. Не убьет, но покалечить может. Правда, лента уже на земле. Как мертвый дождевой червь. С озера, превращающегося в болото, тянет затхлостью, сыростью. Так пахнет компостная яма.
Квас прикладывает палец к губам, «молчи», указывает направление. Мы идем к разросшимся кустам, прячемся за ними. Квас устраивается так, чтобы видеть озеро.
Утомительное, яйцесводящее ожидание, но вот – бульканье, тихое, едва различимое. «А вдруг он знает больше, чем я?» Замечаю, что мои пальцы трясутся. Квас поворачивается ко мне, делает лицо из серии «а я тебе говорил».
Вновь бульканье. Уже более отчетливое, явное. Хочу домой!
Третье бултых в закупоренном ночью сосуде молчания звучит почти оглушительно. Квас достает из рюкзака водку, свинчивает крышку, как промоутер с пробником перед местом продажи, машет бутылкой, распространяя ацетоновый запах. Иди сюда, иди, нетопырь…
Шорох сзади. Оборачиваюсь, дергая головой. Темнота. Из нее выбивается освещенный луной прямоугольник задней стены клуба. Что со мной? Брежу ли я?
Но ведь бабушка верит в нечистую силу. И мама верит. Хорошо, пусть это все дурь, но есть же наука – физика и такое понятие как флуктуация. Значит, сохраняется шанс, что нетопыри существуют. Тогда, что я делаю здесь? Для чего ставлю этот бездарный эксперимент?
Хочу уйти. Кладу Квасу на плечо руку. Он сбрасывает, показывает «не сейчас». Но когда же? Достает из рюкзака – зеленый Кобейн в лунном свете напоминает призрака – водяной пистолет, книжечку и странную сетку, похожую на те, что используют для укладки волос, только из стальных прутьев. Ладонью показывает – вперед.
Квас идет пригнувшись, я же ползу на четвереньках. Берег озера топкий, поросший высокой травой. У нее длинные продолговатые стрелы листьев. Из травы доносится невнятное хлюпанье речи. Хватаю Кваса за штанину, тяну назад. Он будто не замечает, вытягивается в полный рост, кричит:
– Гойда! Гойда!
Гойда? Что за хрень? Может, я не вылез из окна своего дома? Может, уснул, начитавшись Розанова? Но на влажной траве холодно так, что морозной дрожью пробирает внутренние органы – явь.
– А, Бесик, вставай, это не нетопырь – это обычный упырь…
У берега озера, матерясь и шатаясь, натягивает штаны мужик в сдвинутой на затылок кепке. Он, видимо, пьян. Рядом валяется клетчатая сумка, из тех, с которыми челноки ездили за товаром в Турцию.
– Убью, суки! – наконец разбираю слова мужика, и мне жаждется послать его к черту, искусному в дьявольских пытках, чтобы не стращал, не шарахал людей. Послать весь этот дурной сумасшедший вечер.
– Да пошел ты, пиздюк! – ору я, выплескивая страх, сублимированный в ярость. – Пошел ты!
И швыряю в алкаша липким комком грязи.
– Валим, Бес, валим!
– Да пошел он! Мудак! Алкаш ебаный! Напугал!
Все-таки слушаюсь Кваса, ухожу.
На остановке допиваем остатки водки. Моя куртка запачкалась, руки липкие, грязные. Я отчаянно злюсь. Из-за того, что пошел охотиться на нетопыря. Но больше всего из-за того, что боялся всерьез.
– Значит, Бесик, не дано тебе видеть нетопырей, раз не нашли. – Квас швыряет бутылку в канаву. – Не дано! Ну и хер с ним! Без тебя выловлю…
И не прощаясь он, словно обидевшись, уходит, закинув сумку за спину.
– Эй, стой, стой! – кричу я вдогонку.
Он отмахивается, но потом все-таки останавливается:
– Чего тебе?
– Ты скажи честно, без шуток, – слова выходят чугунными, – нетопыри существуют?
Он хмыкает так громко, что кажется, будто грузовик выстрелами из выхлопной трубы пробивает дыры в озоновом слое:
– Дурак ты, Бесик. Дурак и Фома!
6
Из абитуриентов подготовительных групп я общался лишь с Квасом. Но после охоты на нетопыря он пропал. Где Квас жил, я не знал. Мобильного телефона у него не было. Я остался один, в изоляции. И мне пришлось общаться с другими. Например, с Таней Матковской.
От нее я узнал, что на курсах существует две подготовительные группы, в одной учатся три «маковых» наркомана, в другой – педераст, у нас же самый подозрительный – Квас. Последнее я хотел опровергнуть, защитить друга, но возражения, изначально выходившие чахлыми, вяли окончательно, когда я вспоминал о нетопыре.
Таня же и пригласила меня на неформальный сбор групп в честь Восьмого марта. Заявилось около тридцати человек, и она с помощью мамы заказала пять столиков на дискотеке «Старый замок». Место выбирали, исходя из того, что ехали со всех сел: Песчаного, Солнечного, Углового, Берегового, Ленино, Табачного, Фруктового, Магарача.
На месте «Старого замка» раньше была площадка, засаженная ореховыми деревьями. Стволы росли могучие, крепкие, а вот плоды – негодные, гнилые.
Летом, когда Франция обыгрывала Италию в финале чемпионата Европы благодаря голам Вильтора и Трезеге, деревья уничтожил пожар; случайно или их подожгли специально – не знаю, но обгоревшие остатки выкопали, и образовался пустырь.
Вскоре на нем появилась будка, сложенная из ракушечника. Маленькая, узкая, похожая на сортир. Затем еще одна. Так крымские татары, возвратившиеся из Турции и Узбекистана, очерчивали территорию для своих домов. Будки лепили тесно, близко друг к другу, наспех, даже не скрепляя пористый ракушечный камень цементным раствором.
После их, наверное, разобрали, и из освободившегося ракушечника сложили одно здание, в котором сначала, завесив стены баннерами с Бартезом и Роналдиньо, воткнув на крышу спутниковую тарелку, организовали спортбар «Аматер», где чаще всего болели за сборную Турции, а затем, под Новый год, переоборудовали его в дискотеку.
Я добирался туда рейсовым автобусом. Можно, конечно, было дойти пешком, но боялся заляпаться придорожной грязью.
Отпускали меня не с боем – с войной. Договариваться с мамой и бабушкой я начал за две недели заранее. Канючить день, канючить второй, канючить на завтрак, канючить на ужин – неделю я таранил просьбами и упреками баррикады домашнего затворничества. И наконец – чудо! – меня отпустили. Правда, с условием быть не позже одиннадцати.
День перед посещением «Старого замка» я помню сумбурно, отрывочно – словно командами из дневника.
Начать приготовления с утра. Надеть черные стретчевые джинсы и голубую пайту со священным числом «36». Прыснуть больше дезодоранта, пусть белые разводы и портят одежду. Нанести гель – смыть. Вновь нанести. И вновь смыть. Светлый чуб в сторону. Или треугольником вверх.
Быть недовольным собой. Обнулиться, переиначить. Фыркать, наспех моясь в бане. Переодеться в ту же одежду, так же поставить чуб. Надушиться, чтобы переть ароматной стеной.
Оказаться на дорожном кольце, увидеть «Старый замок», но не идти, зная, что остается больше, чем час до начала встречи. Оглядываясь, чтобы никто не увидел, посетить магазин «Гирей», купить бутылку светлого пива «Фараон». Выйти, быстро опрокинуть ее в себя за недостроенным баром. Пить обязательно залпом, чтобы быстрее вдарило.
Шататься по заваленной листьями площади с памятником Ленину, металлический нос которого стал зеленым, вступив в реакцию с влагой и воздухом.
Вернуться на кольцо. Купить и выпить светлого пива «Фараон» уже прямо у входа. И наконец идти в «Старый замок».
Как цветок тля
1
У входа в «Старый замок» – «фейсконтроль». Это слово черным маркером выведено на листе А4, приклеенном к двери скотчем. Рядом синей шариковой ручкой приписано – «и дрескод». Контролируют «фейсконтроль и дрескод» три кряжистых татарина: своих, улыбаясь, пропускают, таких, как я, досматривают, иногда щупают, презрительно, нехотя. Это первый эшелон обороны.
Второй – выжатая блондинка с узкими глазенками и широкими полномочиями, лицо хмурое, со следами пережитых страстей. Собирает по десятке за вход. Взамен красной купюры с портретом Мазепы штампует фосфоресцирующую метку на руку.
В предбаннике основного помещения несколько треснувших – замок, видимо, действительно старый – зеркал, у которых вертятся аляповатые девицы. Пахнут дешево, агрессивно – смесью освежителя «Хвойный» и духов “Gevangi”, которыми торгуют на стихийных рынках цыгане. В основном помещении этот запах теряется, смешиваясь с табачным дымом и сигнальными выбросами потовых желез.
Главный ажиотаж – у шеста, где под Мадонну залихватски выплясывают набравшиеся принесенным из дома самогоном и купленным для отвода глаз пивом девицы. Они лезут на вертикальную сталь, отталкивая друг друга локтями, коленями, задницами, пробуют вертеться, упражняясь в предположительно эротических па. Им улюлюкают, хлопают красно-бурые парни с коротко стриженными головами, на которых оставлены торчащие чубчики. Заправляет происходящим нацепивший парик из новогодних дождиков говорун, выкрикивающий в микрофон незамысловатые конструкции вроде «эге-гей, «Старый замок», «а ну веселей» или «с Восьмым марта, девчонки, оторвитесь сегодня». Ему, похоже, верят, потому что отрыв идет, головы теряются на ура.
Встречаю Таню Матковскую. Тянет меня за столики, где сидят наши. Тараторит быстро, язвительно – хорошая замена Андрею Малахову в «Большой стирке».
Садись, садись, не задерживай! Кто эти люди? Наши! Все? Почти, какая разница? Ты садись, пей, у меня дел вагон! Хорошо, только закажу себе пиво! Да-да, о, Надя, сюда-сюда!
Забыв обо мне, Таня машет рукой каланче в белом платье. В наглом свете дискотеки оно просвечивается, но нижнее белье выглядит не сексуальным, а наоборот, отталкивающе нелепым.
Я хочу заказать себе пива, но надо бы познакомиться с теми, с кем мне быть за одним цвета топленого молока столиком.
– Аркадий. Аркадий. Аркадий.
Протягиваю руку. Жму руки. И в этот момент, наверное, всегда бываю смешон. Впрочем, это дело напивное. Поэтому надо идти к барной стойке.
Мне пиво. Вам какое? То, что дешевле. «Черноморское»? Пойдет.
Возвращаюсь обратно за столик. Две девушки болтают о прокладках. «Белла» дешевле, но «Олвейз» качественнее, хотя и то и другое – дрянь; лучше – тряпочки, ха-ха-ха. Девушки как бы секретничают, но так громко перекрикивают музыку, что слышно и мне.
– Выпьем! – грохочет пузан в полосатой бело-зеленой рубашке.
Несколько человек тянут бокалы. Один, с раскрасневшимися ушами, настойчиво лезет с рюмкой.
– А что надо сказать? – Пузан из рода застольных весельчаков. – Респект!
Это слово он тянет на манер комментаторов, объявляющих рестлеров. Через несколько его потягушек я устаю респектовать. Еще пара респектов, пара глотков – и начну говорить с девушками о прокладках.
Но этого не происходит, потому что на танцполе я замечаю ее. И хочу не отводить взгляда, чтобы ублажать, тешить глаза. «And please, say to me, you’ll let me hold your hand».
Сначала мне нравятся ее ноги; очаровывают, пленяют. Обычно ведь говорят что-то в духе: длинные, стройные, эффектные, но тут дело не в этом – они крепкие, точно у легкоатлетки, бегающей марафон. И передвигаются механически точно, уверенно и вместе с тем грациозно, изящно. Амурные ноги, подарок или издевка Эроса. Такие, что непривычно волевым усилием я беру рыжего соседа, который до этого минут тридцать возмущался, почему я не танцую, хотя сам наверняка принадлежит к касте дрочеров, и, заставляя смотреть, говорю:
– Вот с этой девушкой я бы потанцевал!
– С кем? – не понимает рыжий, и вопрос его выглядит святотатством.
Звучит бойкое “I wanna be if you wanna be”, и моя с крепкими ногами танцует рядом с четырьмя девчонками. Видимо, они изображают – вольно или невольно – “Spice girls”. Из них я знаю лишь Джерри Холливелл, но моя скорее похожа на мулатку, которая и поет, и в клипах рисуется меньше других.
Я любуюсь ею, наши идут танцевать, оставляя после себя пустые бутылки. Хотя самое время выпить, отметить чудное мгновенье. Трясу бутылками, тщетно надеясь найти остатки. И официантка не подходит.
Покачиваясь, встаю из-за стола. Нащупываю в кармане мятые купюры. Надо бы прикинуть, сколько денег осталось, но я не прикидываю, конечно. Второе мое столь сильное опьянение в жизни. Хотя сколько там этой жизни было?
– Пятьдесят грамм водки, пожалуйста.
– Думаю, тебе хватит, – чеканит бармен.
Его движения больше не кажутся мне вальяжными, плавными. Теперь они резкие, грубые, да и сам он как будто из дерева. Тушуюсь, вновь мямлю что-то о пятидесяти граммах. Он машет чурбаном – маленькие уши торчат, как сучки, – крепкой головы. Нельзя, значит. Но пиво-то можно? Судя по тому, что он цедит его, пуская облако пены, в пластиковый стакан – можно. Разобрались, ура! Первый глоток, второй, третий – хорошо после респектовой водки. Приваливаюсь к стене, расползаясь толстушкой, снявшей корсет.
– Э, пива дай, на, глотнуть, на!
Ко мне обращается парень в небесно-голубой футболке с округлой красной надписью “CITROEN”. Знакомое сочетание цветов, букв. В такой бегал Мостовой. И Карпин. И Мазиньо. И Хуанфран. Они били, пасовали, делали подкаты. Вот, что они делали. Следовательно, они футболисты.
На парне – футболка клуба «Сельта» из Виго. Недавно канал ICTV показывал, как она обыгрывала «Севилью» из Андалусии, родины Дон Кихота. И визгливый комментатор – ему бы на бойне работать – кричал: «Алекс Мостовой!»
Собственно, из-за Александра Мостового – ну и Валерия Карпина – я и смотрел матч, дождавшись полуночи. Чемпионат Испании по футболу ICTV показывал каждую субботу, но я обычно не выдерживал – засыпал. А тут дождался – и все сошлось: и «Сельта» выиграла, и Мостовой забил, и Карпин пас отдал, и даже навязчивая реклама из прыгающих букв в левом нижнем углу «Лучше гор – только Златогор» раздражала умеренно.
– Угощайся, – протягиваю парню пиво.
– Дякую, братан.
Глотки он делает крупные, частые. Надо бы его попросить развернуться, увидеть, какой номер у него на спине. Вдруг «десятка» или «восьмерка».
– Вы танцуете?
Что за вопрос? Здесь, наверное, все танцуют. Кроме меня. Ну и еще этого парня в футболке «Сельты».
– Простите, вы танцуете?
Вопрос громче, навязчивее, рядом со мной. И задает его – парапарам, марш священных слонов по телу – моя из “Spice girls”, с крепкими, точно у легкоатлетки, ногами.
Как в дурной молодежной кинокомедии, поворачиваюсь вправо, влево, назад, будто зарядку делаю. И наконец хриплю:
– Вы мне?
– Вам, вам, – она улыбается. – Танцуете?
Как там в «Хоббите»? Третий раз за все платит. Раздражать ее тугодумством не стоит. Изобразить решительного умника, героически выдавить:
– Да, да…
И выйти танцевать, оставив парню из «Сельты» пластиковый бокал с пивом.
Есть две песни, под которые танцуют первые «медляки» – “Don’t speak” и “Still loving you”. Мой приходится на вторую. Клаус Майне вкрадчиво поет о любви, а я отдавливаю Раде – наконец у мечты появилось имя – крепкие ноги. Рука сползает по талии вниз, но не от одолевающей меня похоти, а от накатившей – перенервничал – вялости. Рада то ли не хочет поправлять, то ли сочувствует мне. А рука, держащая ее руку, потеет, и я периодически отнимаю ее, чтобы проветрить. Колоколами – “hells bells” – звенит мысль: «Спрашивай ее что-нибудь…»
Какие-то слова все-таки вылетают. Есть даже фразы, несвязные, глупые, но фразы. Рада отвечает с неизменной улыбкой. Тут же забываю сказанное ею, и, как это часто бывает со мной в моменты паники, ледяными клещами выкручивает мошонку. Грех, конечно, молиться в таком случае, но я прошу Господа, чтобы не рухнуть в обморок.
Едва танец заканчивается, разворачиваюсь, не прощаясь, выбегаю из «Старого замка» – ретируюсь, слушая, как грохот дискотеки переходит сначала в гул трассы, а после в стрекотание сверчков. Бегу, опаздывая, домой, и спешка помогает забыть позор уродливого подобия танца с Радой.
Мама, почему ты не отдала меня на танцы? Почему не заставляла развивать координацию движений? Почему не поощряла занятия спортом? Для чего я столько читал? Для чего мне прочитанные книги, когда с ее отдавленных ног смеялись все, даже Клаус Майне?
Да, нацисты были правы, когда сжигали книги. От них одно зло. Они заставляют думать, включают внутренний диалог. Лучше – организовать тысячу танцевальных школ по всей стране. Но в Германии нацисты не сделали этого. Может, в том числе и поэтому они проиграли.
2
Вспоминаю наше знакомство с Радой прежде, чем звонить ей. В нервных, въедливых деталях, переживая ту встречу вновь так подробно и ярко, что не слышу, как, подытоживая выступление Головачева и Новокрещенцева, завершая учебный день, раздается звонок. Быстро набиваю рюкзак “Nirvana” учебниками и тетрадями, репетирую приглашение на свидание, хочу скорее уйти, но Валентина Дмитриевна просит меня задержаться.
Остаемся с ней вдвоем в кабинете. Она листает классный журнал, диктует мои оценки.
У нее интеллигентное лицо, обрамленное кудрями, выкрашенными в насыщенный каштановый цвет, изысканные манеры. Весь ее облик, манера держаться так контрастирует с запахом навоза со двора, с плесенью кабинетных углов, с ветхостью учебников, парт, стен, пособий, что она кажется породистой сукой, оказавшейся в собачьем приемнике в стае бродячих псин – не выбраться, не смириться. И самое мерзкое – за непохожесть ее ненавидят. За то, что она пытается жить честно.
Раньше она преподавала в Горловке. Муж работал на заводе «Стинол». А потом Валентина Дмитриевна оказалась в Каштанах. Ее сразу назначили директором. Остальные учителя заговорщицки переглядывались, ухмылялись, вздыхали – «городская приехала».
Я узнал все это от родной тетки Ольги Филаретовны, работающей в школе завучем и ненавидящей Валентину Дмитриевну по личностным и карьерным причинам.
– Ну что, Аркадий, куда решил поступать?
Глаза у Валентины Дмитриевны миндалевидные, чуть раскосые.
– Пока думаю.
– А что с медицинским?
– Уже нет.
От перспективы декламировать клятву Гиппократа я, действительно, отказался, а новую мечту, пусть краткосрочную, так и не смог отыскать.
– А ведь ты так прекрасно географию знаешь…
Дальше следует эпический, хоть и слегка затянутый, как вступление к “November rain”, монолог о радостях географического будущего. О конференциях и экспедициях. О вулканах и водопадах. О нефти и газе. Наконец, о том, как грешно зарывать свой талант в землю. Фразу «грешно зарывать талант в землю» Валентина Дмитриевна особенно любит и вставляет ее едва ли ни в каждое предложение, и я, правда, начинаю чувствовать себя грешником, которого от ада отделяет лишь самая хрупкая вещь на свете – жизнь; один кирпич, один литр масла на рельсы – и ускорение на highway to hell обеспечено.
– Понимаю, Валентина Дмитриевна, но родители не хотят…
– Я могу поговорить с Марией Филаретовной, – лишний раз убеждаюсь, что звучание имени и отчества мамы не соответствуют ее облику, – она поймет…
– Вы уже говорили, Валентина Дмитриевна, помните?
Она и, правда, беседовала с мамой, специально придя к нам домой. Они сели в кухне на голубых кособоких стульях за столом, покрытым старой, в ножевых порезах клеенкой. Пили чай с мятой, ели галетное печенье «Мария», которое обмазывали персиковым вареньем, извлеченным по случаю из кладовки. Наверное, им было тепло и душевно. Валентина Дмитриевна рассказывала обо мне в географии и географии во мне, убеждала. Но мама не соглашалась. Куда устраиваться? Чем зарабатывать?
Ездить по миру, исследовать, преподавать. Валентина Дмитриевна, искренне – спасибо ей за это – переживавшая за меня, была убедительна, эмоциональна. Но мама не хотела географа в доме.
Хотел ли я? Вновь, как и в случае с поступлением в медицинский университет, я рефлексировал, сомневался, при этом с легкостью принимая решения за других, увещевая их напутствиями и раздавая, как леденцы детям, советы, но за себя определиться не мог. Впрочем, может, именно поэтому я и сам требовал решений за себя от чужих. Чтобы, например, мама четко, безвозвратно, как ломоть отрезала, назвала вуз и специальность, которой мне стоит учиться. Я бы с легкостью согласился. Пусть и, может, страдал потом, но зато сейчас я избавился бы от удавки ответственности.
Но мама – гены, гены – терзалась и блуждала сама. Она ждала конкретики от меня, но при этом воспринимала будто младенца, требующего опеки и заботы, и оттого подсознательно сомневалась в любом моем решении. Мы баловались чудаковатой формой пинг-понга, где каждый перебивал шарик ответственности на чужую сторону, но так, чтобы ни в коем случае не забить гол.
Говоря с мамой на кухне, Валентина Дмитриевна должна была переубеждать и меня. И у нас не осталось бы ни единого шанса возразить ей. Припечатать очевидностью – вот что должна была сделать Валентина Дмитриевна. Скажи она: «Аркадий обязан пойти на географический, потому что он любит, знает этот предмет, а заниматься надо, я говорю вам как человек поживший, тем, в чем действительно имеешь талант», – мы бы покорились ей. Хотя бы потому, что в детстве самым ценным предметом в доме для меня был офицерский атлас, огромный, массивный, похожий на строительную плиту. Не знаю, откуда он взялся, но лежал на запыленном шкафу, рядом с иконами. Маленьким я вставал на стул, чтобы спустить атлас вниз, и листать, листать.
В средних же классах школы, когда я, насмотревшись на Курта Кобейна и Виктора Цоя, решил стать рок-звездой, он тешил фантазию. Чертя синими, красными, зелеными карандашами, я прокладывал на картах маршруты будущих звездных турне.
Мюнхен – Аугсбург – Штутгарт – Нюрнберг – Майнц – Висбаден – Кельн – Менхенгладбаг – Дюссельдорф – Дортмунд.
Лилль – Руан – Париж – Труа – Нанси – Страсбург – Лион – Тулон – Марсель – Монпелье – Тулуза – Бордо – Нант.
Каракас – Джорджтаун – Парамарибо – Богота– Лима – Ла-Пас – Бразилиа – Асунсьон – Буэнос-Айрес – Монтевидео – Сантьяго.
Я катался бы, феерил на рок-шоу, пока не умер бы от передозировки. И фанатки бы рыдали, и носили бы цветы на мою могилу. Ведь «звезда рок-н-ролла должна умереть, без прикола…».
Но тогда Валентина Дмитриевна не нашла аргументов, таранящих цитадель бессоновских, шкаринских фобий, поэтому ее монолог неизбежно разделили на ноль. Не найдет она их и сейчас. Конечно, я пообещаю подумать, да, мы еще побеседуем, но это лишь орнамент, узор, без несущего материала он бесполезен. Географом мне не быть, Валентина Дмитриевна, отпустите…
Выхожу на двор школы, разделенный зелеными линиями кипарисов, тополей и платанов на прямоугольные секторы. Сворачиваю за угол, иду туда, где четыре алычовых дерева создают тень и дают урожай из сине-багровых и ярко-желтых плодов, которые почему-то никто не рвет; они зреют, падают, гниют, оставляя жужжащие сладострастными мухами блямбы. Здесь собираются те, кто смахивает на славян.
Татары же кучкуются с другого угла школы, в беседке рядом с пустырем. Алычи там нет, зато есть приличные скамейки. Но скоро они освободятся, потому что татарам обещали построить отдельную школу.
Подхожу к одноклассникам. Майчук сидит на скамейке, у него на коленях – Люба Петрушкина с самой, как говорят, лучшей среди старшеклассниц грудью. Впрочем, судить об этом я буду, когда Петя – он обещал мне это в брошенном амбаре пьяным от «Каховского» коньяка – продемонстрирует ее фото.
– О, а вот и Бесик, – гнусавит Цапля, Лиза Цаплина, тощая и настолько длинная, словно родители боялись, что она не вырастет, а потому, растягивая, подвешивали ее на турнике и, видимо, перестарались.
– Курить будешь? На – кури!
Петя отрывается от коленки Петрушкиной, лезет в карман, протягивает металлический портсигар сигарилл «Аль Капоне». Ловлю завистливый взгляд Лехи Новокрещенцева. Он вообще из тех, кто взглядами изъясняется лучше, чем словами.
Подкуриваю от бензиновой зажигалки Вадика Головачева. Ничто человеческое баптистам не чуждо.
– Ну ты, красава, сегодня, Бес, – хлопает меня по плечу кучерявый чернявый Артур Тлисов, – вот тут у нас буровая установка…
Он пародирует меня, сбиваясь на фальцет, который прорывается, когда я волнуюсь. Все ржут. Но по-доброму. А вот Цапля, предлагавшая мне две недели назад встретиться, хихикает, кажется, зло.
Жду, когда все разойдутся, дабы позвонить Раде. Сам я, по обыкновению, уйти из компании не могу.
– Ты это, – смахнув Петрушкину с колена, из точки А в точку Б, встает Петя, – давай приходи ко мне – на вечерину. Отрепетируем выпускной. К семи подгребай, и девку свою бери. – Он подмигивает, глаза делаются бесстыжими, как у Люцифера, сорвавшего куш из человеческих душ.
Не спрашиваю его, откуда он знает про Раду. Не стоит швыряться риторическими вопросами. В деревне все про всех знают.
3
После танца с Радой я боялся ходить на подготовительные курсы. Отсиживался дома. Мысль о том, что я могу столкнуться с ней в коридоре, увидеть при свете, а главное – она увидит меня, лихорадкой приковывала к кровати.
Во вторник, когда резко похолодало, как всегда случалось у нас в середине марта, и студеное утро полезло с улицы в дом, мама, заметив испарину на моем лице, сунула градусник мне под мышку. Оказалось тридцать восемь и три.
Бабушка охнула. Мама всплакнула – мои хвори она всегда принимала за вселенскую трагедию – и оставила меня дома, наказав полоскать горло фурацилином, промывать нос солевым раствором и вливать в себя горячее питье, лучше всего малину или черную смородину. За исполнением указаний должна была следить бабушка.
К середине дня она, видимо, перестаралась. Перина, на которую меня уложили, промокла, став, точно стираная, а я, обезвоженный, побледнел и поплыл. Лишь после этого бабушка, распахнув окна, пустила воздух. Стало легче.
Она так пристально опекала меня, что делать приятное – те радости, коими обычно тешатся, когда болеют: сон, телевизор, книги, безделье – не получалось. Я был один на один с образом Рады, и Клаус Майне вкрадчиво шептал “ Time, it needs time to win back your love again”.
В среду я также остался дома, но, к счастью, смог подружиться с кайфом безделья. Бабушка, напуганная вчерашним усердием, заходила ко мне только по зову и ничего, хотя на ее лице читалось непреодолимое желание, не навязывала. Меня отдали на растерзание каналу СТС, который я обычно смотрел лишь днем, после школы, а тут удалось деградировать прямо с утра. Шли в основном повторы сериалов – «Бухта Доусона», «Беверли Хиллз», «Квантовый скачок», «Чудеса науки», – но с учетом пропущенного вчерашнего дня это было весьма кстати.
Я воодушевился настолько, что отправил бабушку в магазин – купить продукты для любимых хот-догов. Получив ингредиенты, встал, прошел в кухню, под переживания – вербальные и невербальные – бабушки включил покрытую слоем липкого жира печку «Харьков», засунул туда булочку, разогрел. Достал ее, разрезал, смазал кетчупом, майонезом, горчицей (жаль, что была только с зернами), положил в желто-розовую массу теплую аллергического цвета сосиску, расплавленный на сковородке сыр, но после запаниковал, не найдя в столе с вечно отваливающейся дверкой, повисшей на расшатанной навеске с торчащими шурупами, которые было все некому закрутить, бабушкиных квашеных огурцов. На поиски ушло десяток неестественно долгих минут и сотня квадратных сантиметров желудка, уничтоженных выделенным в предвкушении чревоугодия соком. Когда же наконец я капитулировал, бабушка принесла из кладовки банку с фирменными огурцами. Я нарезал их длинными полосками и, окаймляя сосиску, с пиететом разложил внутри булочки.
Тупое жевание хот-догов уничтожало воспоминания, переживания о Раде.
Вернувшись с работы, мама сначала получила у бабушки детальный отчет о моих действиях, после сунула градусник, потрогала лоб, проверила горло, нос и постановила, что утром я иду в школу, а затем – на подготовительные курсы.
Идти вечером на занятия, чтобы вжиматься в стены, пытаясь сохранять незаметность, лишь бы не встретиться с Радой – нет, легче было бы запереть себя в «Железной деве». Поэтому, выйдя в Песчаном, вместо курсов я отправился на пляж.
Бетонированный пирс, изъеденный солью волн, пустовал. Работало лишь несколько палаток, и расхристанный мужик, безвольно свесив руки, дрых на скамейке. Я спустился к морю, растирая подошвами мелкий влажный песок, оставляя на нем рельефный след. Резким йодированным запахом отмечались бурые водоросли, выброшенные на берег.
В очередной раз до изнеможения я принялся мотать эпизод нашего знакомства с Радой. Хотел повторить его вновь, учтя предыдущие ошибки. Да, я не стал бы озираться, будто сельский дурачок, удивляться, пунцоветь, нервничать, топтать ноги. Нет, определенно, я был бы спокоен, уверен в себе. И галантен. И очарователен. И монументален. Что там еще полагается?
Так вместо занятий неделями я шлялся по пляжу, прокручивая варианты поведения с Радой, пока на остановке не наткнулся на Таню Матковскую. Мышиное лицо ее пришло в движение, засуетилось, и черты без того хаотичные – возможно, Бог, создавая ее, просто швырнул нос, брови, глаза, губы – окончательно утратили порядок.
– Ты куда делся, Бессонов? Тебя один человек хочет видеть…
Она вцепилась мне в руку. Потащила к песчановской школе. Я хотел вырваться, но Таня держала крепко. Как собачонку, она подтащила меня к входу в школу, и в этот момент из дверей вышла Рада. Улыбнулась Тане. После заметила меня:
– А, тот самый Аркадий. Ну давай, что ли, пройдемся…
Она сказала это так естественно, просто, словно встреча наша была запланированной. Таня расцепила хватку, – пост сдал, пост принял – и под новым конвоем я поплыл по школьному двору.
Если правда, что в состоянии комы человек наблюдает за собой со стороны, то на второй встрече с Радой я пребывал в коме. У ржавеющих турников, теребя браслетик “Nirvana”, я исподлобья, стесняясь, разглядывал смуглую с подвижными чертами лица девушку: ярко-красные губы, кудрявые, будто завитки лапши «Мивина», черные кудри, темно-карие глаза. Похожа на татарку. Или на цыганку. Но не на русскую, точно. Общаясь с ней, я даже принюхивался, вспоминая риторику деда, утверждавшего, что татарские женщины специфически пахнут.
Но запаха не было – только страх и слова, вспыхивавшие огненными буквами, складывавшиеся в пылающие предложения. Огонь распространялся, подбирался ко мне, оцепеневшему от власти женщины.
4
После нашей второй встречи я пробовал стать буддистом в отношениях с Радой. Не спорить, не проявлять инициативы, не раздражаться, не желать – и не будет обид, терзаний, разочарований.
Но достичь равновесия я не мог. Каждая наша встреча – они стали регулярными – обдавала жаром, и я дрожал, отводя глаза, дабы не показывать смущение, страх. Когда же Рады не было рядом, я терзался мыслью, что вскоре мне предстоит поцеловать ее. По-настоящему, не в щеку, не так, как она целовала меня при встрече, наливая капилляры кровью. Нет, я должен буду целовать ее умеючи, мастерски, как знаток и ценитель. Как долбаный мачо.
Конечно, я целовался до этого. Пять, шесть, может быть, семь раз – пьяные воспоминания путались – при игре в «бутылочку». Брать меня в нее стали благодаря Пете. Когда горлышко указывало в мою сторону, я вставал на четвереньки и подбирался к жертве, вытягивал губы трубочкой, лез целоваться, просовывая язык как можно дальше и вращая им, точно перемешивая ингредиенты миксером. Ощущений не было. Лишь много, много слюны. Но это не в счет. Это даже не тренировка. А вот теперь предстоит решающая игра.
Вычитав идиотский, всесоврамши совет, я начал тренироваться на помидорах. Свежие еще не выросли, хотя надо было упражняться на них, поэтому одну за другой я вскрывал банки с консервацией, доставал плоды и впивался в них так, что шаленел от уксусной кислоты маринада. Еще раздражал перец. Черные горошины проваливались в желудок, оставляя неприятный шлейф горечи. Часто после этого у меня начиналась отрыжка, переходившая в изжогу, которой так мучился перед смертью дед. И его стоны «ууу, печет, ууу, дурно мне» снова зазвучали во мне.
Я штудировал книги о любви, выбирать которые мне помогала Маргарита Сергеевна. После моего интереса к каббале она прониклась ко мне не просто дежурной симпатией, а странной, близкой к патологии увлеченностью. Правда, сначала она подсовывала сомнительные книжицы вроде «Месть еврея», которые начинались интригующе: «Стоял чудный солнечный день. Еврей выехал на охоту». Дальше маховик фантазии автора с польской бздящей фамилией раскручивался, и нефритовый стержень пронзал разгоряченное лоно. Я же алкал точных советов по управлению женщиной, потому требовал серьезные книги. Маргарита Сергеевна смотрела взволнованно, теребила массивное серебряное кольцо на большом пальце и шла в подсобку, возвращаясь с ветхой, как правило, обклеенной скотчем книгой.
Толстой, Стендаль, Лермонтов, Кьеркегор, Бунин. Эти авторы препарировали любовь, и она мучилась, терзалась на столах гениальных патологоанатомов. Муки были тем чудовищнее от того, что гении молчали о практической стороне вопроса.
– Маргарита Сергеевна, – злой, взволнованный, а потому готовый быть откровенным суетился я, – мне нужна конкретика!
– Ну так, Аркаша, это все опыт, – улыбалась Маргарита Сергеевна. – Сама жизнь научит…
И я опять убеждался в бесполезности книг, нуждаясь в конкретном практическом руководстве. Особенно тогда, когда Рада вместо стандартной прогулки по набережной вручила мне сложенный вчетверо лист, который надушила так, что даже спрятанный в рюкзак он терроризировал пассажиров рейсового автобуса навязчивым терпким ароматом. Я развернул послание дома, за сараем с дровами и при свете пузатого фонаря с лампой на весь бок и встроенным радио – незаменимая вещь при регулярных отключениях света – читал, пропитываясь парфюмом.
Рада писала грамотные вещи. О том, что мы уже не дети и пора переходить к более серьезным отношениям, а не ходить будто первоклассники, держась за руки. О том, что мне хватит вертеть головой при встречах. О том, что необходимо больше узнать друг о друге.
Я и, правда, знал о ней чуть больше, чем о случайном попутчике в транспорте. Только внешность. Крепкие ноги, смуглая кожа, черные кучерявые волосы, темно-карие глаза, высокая грудь, подчеркиваемая ремешками и поясами. Тело из тех, которые принято называть точеными. Броский маникюр, редкого для села густо-сиреневого цвета. Из недостатков – едва заметные, пугливые в своем появлении усики над верхней губой, которые, возможно, со временем, когда она располнеет, превратившись в тумбообразную матрону, станут отпугивающими усищами.
Да, я тянулся к Раде, как тянутся к эффектным девушкам пубертаты, но общение с ней было тускло, неинтересно, пусто. Музыка, передачи, уроки, учителя, деревня – темы для обсуждения банальны, скупы. Да и музыку она слушала другую. Передачи смотрела иные. А книг вообще не читала. Будь она парнем, я назвал бы ее самым непривлекательным человеком в округе, но, к несчастью, у нее были притягивающие крепкие ноги.
В письме она писала железобетонные вещи. Перейти к более серьезным, взрослым отношениям. Узнать друг друга лучше. Быть мужественнее и увереннее. Набор обязательных банальностей, самых точных вещей на свете. Жаль только, она молчала о том, как реализовать, применить ее пожелания. И оттого, читая ее письмо, я столь болезненно испытывал собственное одиночество, от которого так старательно отбивался все старшие классы, забивая голову, тело, досуг безделицами.
Мне нужно было действие, яркое, решительное. Такое, на которое я был не способен. И вдруг мне повезло.
Кто-то – спасибо ему за это – оставил на сиденье автобуса мужской журнал. На обложке загорелый парень, блестящий от глянца и масла, демонстрировал рельефные кубики на животе. Содержание – в том же ферромонистом духе: чем живет Сильвио Берлускони, как быстро накачать пресс, для чего Брэду Питту Дженнифер Энистон, много пошлого юмора, очень много обнаженных и полуобнаженных девиц. Но во всей этой информационной воронке была одна ценность – статья «Как устроить девушке крышеснос», написанная известным пикапером, чье фото – разжиревший самодовольный мужик, похожий на провинциального участкового, откормленного пугливой женой и заботливой мамкой, – прилагалось.
«Крышеснос – сюрприз, совершаемый парнем для погружения девушки в состояние некого транса, ускоряющего процесс соблазнения». Изучив пикаперские инструкции, я разработал свой крышеснос, памятуя о надухаренном письме Рады.
5
Сегодня в школу я не иду. Готовлюсь к свиданию с Радой. Тщательно, продуманно, наверняка. Но из хаты, конечно, выхожу. Чтобы мама с бабушкой не заподозрили в прогулах. Тетради, учебники, ручки – в рюкзак. Немного – для вида. А вот приготовленных мамой бутербродов с вареной колбасой беру с запасом. Много ходить по селу, еще больше нервничать – два фактора, заставляющих есть больше обычного.
Выхожу из дома, иду вдоль главной трассы, мимо одноэтажных бело-синих домов и развалин бывшего АТП, возле которого на жухлой траве скелетами древних стальных мамонтов ржавеют комбайны, грузовики, прицепы. Стекла выбиты, шины спущены, салоны выпотрошены. Днем в них редко, но играют дети.
Мы с братом тоже вертелись здесь, облюбовав ГАЗ с длинным кузовом и прямоугольной кабиной с неподвижным рулем и торчащими из приборной доски проводами. Витя чаще всего держался за руль, а я, схватив припрятанную для таких случаев доску, отстреливался от воображаемой погони. Мы были налетчиками, ограбившими банк.
За этим занятием мы проводили все выходные, забывая вернуться домой и получая нагоняи от мам. Или приходили в вечер буднего дня; я строго после выполненных уроков, а Витя когда хотел, хотя чаще всего он крутился возле меня, смотрел телевизор и препирался с бабушкой.
А потом наши игры в ограбление прекратились. Вите – я-то мог бы отстреливаться и сейчас – стало неинтересно, он повзрослел. И сначала оборвались наши встречи в ГАЗе, а затем и встречи вообще.
Часто, проходя АТП, я останавливаюсь возле грузовика. Стою, держусь за массивный бампер с ржавыми залысинами отшелушившейся краски. Думаю, вспоминаю те дни, рефлексируя, бередя себя так, что ухожу разочарованный, кислый. Мысли стесняют веригами, давят к земле. Мысли о том, что как руль в салоне не вертится, так и нам ничего не вернуть. И дело не в месте и способе встречи, а в тот чутком единении, когда оба верили, что доска может быть автоматом, а пули могут лететь, избавляя от общих врагов. А теперь что? Стрелять друг в друга?
С этими мыслями я обычно прохожу серое здание пустующего универмага. Большинство теперь закупается на рынке, он тут же, рядом, или в металлических шестигранниках ларьков, где стригут, ремонтируют, торгуют продуктами, инструментом, химией, лекарствами, семенами. Но я сам хожу за покупками в универмаг, чувствую с ним родство. Он, как и я, вырван из этой ларечной жизни. И самое мерзкое – не по своей воле.
Но сегодня мне надо гнать эти мысли. Сегодня надо быть мужчиной, который все может. В частности, крышесносить Раду.
Через сосновую лесопосадку захожу в покосившиеся ворота стадиона «Спартак». Бетонные трибуны, ярусами нависающие над землей, используются как отхожее место. Так активно, что непонятно, как пробираются к стенам трибун те, кто чертит на них странные в своей бессмысленности надписи вроде «Коля – фрик моржовый» или «Аня хабалка и давалка». Больше других умиляют слова и предложения, выведенные белым штрихом, аккуратно, округло, точно ребенок писал; злой ребенок, судя по содержанию.
Несмотря на вонь, подняться на трибуну, сесть в центре – здесь мне нравится больше всего – и, пережидая хождения людей на работу, учебу, еще раз проговорить план крышесноса, отмечая ключевые моменты в тетради для русского языка. Тут главное – символика, неожиданность, романтика.
За символизм будет отвечать дерево. Больший символ представить можно, но незачем. Дерево любви, которое мы посадим на холме с видом на море. Остается его найти. Сначала я хотел выкопать одно из тех, что растет у нас на огороде. Но мама или бабушка, уверен, обязательно бы заметили, начались бы расспросы, подозрения, разрастающиеся нелепыми, жуткими версиями, масштабу которых до черноты завидовал бы автор криминальной хроники в «желтой» газетенке. Поэтому я решил выкопать невысокое стройное деревце, растущее на заднем дворе школы.
Дожидаюсь, когда начинается пятый урок. Десять минут от звонка. Покидаю «спартаковские» трибуны. Миную баптистскую церковь – одноэтажный кирпичный сарайчик, у входа в который висит табличка «Дом молитвы», крыша настелена битым шифером. Однажды мне стало интересно – хотя, скорее, я мстил бабушке за излишнюю религиозную настойчивость и радикальное привитие догмами, – что там у них происходит, и, проходя мимо, спросил, казалось, измученную вечной бессонницей женщину в ситцевом платке: «Когда у вас начинается служба?» Взгляд ее был одинок, затуманен – теленок, которого мы держали до смерти деда, жуя целлофановые пакеты, смотрел точно так же. Говорила она тихо, с надрывом, будто внутренние спайки после операций растягивались и болели.
– Собрание в девять часов.
Видимо, никто не служил – лишь собирался. И я не пошел в баптистскую церковь.
В школу я прихожу к середине пятого урока. Физкультуры на улице нет. По вторникам физрук пьет в подсобке, зажав голову между ободранными локтями влажных распаренных рук. Ученики еще не слишком измучены, чтобы, не слушая преподавателя, пялиться в окна, но и не слишком бодры, чтобы вертеть головами, зондируя обстановку.
Иду по колючему бурьяну. Забор в школе есть лишь со стороны дороги; видимо, чтобы, проезжая, не думали, как хреново мы в Каштанах живем – нормально живем, чего уж там, не жалуемся, да и кому тут, будьте вы городские и районные твари прокляты, пожалуешься. Нераспаханная, поросшая бурьяном местность с полной мусора ямой переходит в задний двор школы.
Давно некрашенные, с пятнами ржавчины турники, брусья, лабиринты, рамы в своей беспорядочности расположения и форме напоминают сваленные в груду выпотрошенные кишки, которые я, когда дед убивал и разделывал свинью, рассовывал по пакетам в сарае, чтобы потом сварить курам и покрошить в комбикорм. На площадке пусто. Под раскидистым кленом мутнеет годами не исчезающая овальная лужа. Из нее торчит бело-зеленый пакет мусора.
Мое дерево растет дальше, нужно обогнуть турники и пройти за ободранный угол школы. Вот оно. Хоть в мыслях и казалось мне больше, зеленее, стройнее.
Достаю из рюкзака специально взятый мастерок – лопата бы насторожила, – копаю землю, стараясь не повредить корни, похожие на паучьи лапки, которые не уходят, а скорее липнут к земле. Не оторвать. Приходится рубить краем мастерка. Наконец освобождаю ствол, закутываю его в тряпку.
Теперь уходить, но не слишком быстро, чтобы не решили, будто я скрываюсь, как вор. Хотя почему как?
Мысль эта останавливает, впечатывает. Ведь только что я украл! Не взял, не одолжил, а именно украл. Пусть деревце, пусть не у кого-то лично (впрочем, по сути, я забрал его сразу у сотни детей), но украл. И совершил грех бессознательно, не задумавшись ни на миг. Как в туалет сходил. Или перекусил купленной в «Огоньке» булкой.
Хотя с детства мне внушали, обрабатывали, чтобы не крал. Помню крики деда Филарета на моего отца, который нес из разваливающегося колхозного автопарка инструменты, крепеж, смазку и складировал это добро в гараже деда. К себе он нести его не решался, потому что моя тетка, Ольга Филаретовна, к которой он перебрался после встреч с матерью, могла все забрать себе.
Дед отца ненавидел. Но обструкцию устраивал редко. Лишь когда выпивал. А выпивал он пять или шесть раз в год, стараясь употреблять то «Столичную» водку, то крымское пиво, то самодельное вино. Не пил он лишь самогонки, хотя несколько лет сам гнал ее. Не на продажу, а, наверное, потому, что все гнали. Дед был тщедушный, молчаливый и добрый.
Тем страннее, что он так злился – вслух, громко, с позицией, точно говорил про татар, которых ненавидел, – когда отец приносил из автопарка «заимствованные» вещи.
– Зарплату не платят, а ты меня, старый козел, – кричал отец, – жизни учишь? Жить, ебана мать, на что?!
– Проживешь, Лешка, – отвечал дед, – а брать чужого не смей…
Отца он, конечно, так и не перевоспитал. Тот продолжал растаскивать колхозное имущество, до сих пор разложенное у нас в гараже: молотки, гвозди, зубила, отвертки, резиновые прокладки, медные провода, моторы.
Я спрашивал деда, почему он так ругает отца. Вор! Вор! Вор! Злился дед, а я отвечал услышанной по телевизору фразой «все воруют».
– Все, – соглашался дед, – ну и что? Бога в душе держать надо…
А я, заводясь, как часто бывало со мной в споре, доказывал, что, не воруя – не проживешь. Доказывал развлечения ради. И однажды я доканывал деда так долго, что он, подняв левую руку, не выдержал, спросил:
– Вишь, двух нет?
У него не было мизинца и безымянного пальца.
– Помню, дед, на станке тебе их оторвало.
– Брехня, – помотал головой дед, – скажу, но ты молчком.
– Я молчком.
– Принеси яблочко, Аркаша.
Я принес ему красное яблоко. Он принялся мять, жать его.
– Каленое больно, зубов жевать нет.
Он домял яблоко, укусил и, жуя, начал рассказ:
– Жили мы в Новоселкино, под Севском. Отца и старшего брата забрали на фронт, а меня двенадцатилетнего оставили. Школы закрыли, и я бегал с остальными пацанами по селу, искал еду, помогал матери. Пока не пришли фрицы.
Напротив меня, через улицу, жил Яшка, на год младше. Его отец, Абрам Савельич, был таким старым, немощным, что больше походил – так все и думали – на деда. Он держал мастерскую, где, сгорбившись, всегда что-то чинил, штопал, правил. Один глаз Абрама Савельича был прикрыт бельмом, а другой косил в сторону. Когда я встречался с ним, то боялся смотреть в лицо, хотя человеком он был отзывчивым, добрым и часто угощал детей круглыми, похожими на медальки, леденцами из жженого сахара.
Мать Яшки видели редко. Она, в основном, сидела дома. Говорили, что харкает кровью – болеет чахоткой. Я иногда видел ее во дворе их дома. Чаще всего с большим алюминиевым тазом, который она с видимым усилием ставила на деревянную скамейку и стирала белье, развешивая его на протянутых вдоль кособокого сарая веревках.
Когда пришли фрицы, то семью Яшки арестовали. Штаб немцев располагался в кирпичном здании сельсовета, возле которого на площадь сгоняли сельчан. Начальником у фрицев был жирный, словно не война шла, краснорожий блондин с протезом вместо левой ноги ниже колена. Но его не боялись. Страшил зам – высокий, наголо бритый фриц со шрамом через все лицо. Вот его боялись по-настоящему. Он всегда и выступал перед собравшимися.
Тогда я тоже стоял на площади – обязали прийти всех, – испуганно уцепившись за костлявую ногу мамы, хотя давно считал себя бесстрашным и взрослым. Переводил фрица бородатый мужик в грязном тулупе. Накрапывал мелкий дождь, и без того размокшая площадь окончательно превращалась в жижу.
Яшка и его родители, голые, лежали в ней. А рядом старательно, точно школьник, выводил слова бритый фриц. И, казалось, чем больше он говорил, тем сильнее темнел его шрам. Из перевода я почти ничего не понял. Уловил лишь то, что семья Яшки – выродки и евреи. Одно следовало из другого, но я не помню, что из чего: то ли евреи, потому что выродки, то ли выродки, потому что евреи.
Затем семью Яшки подняли. Я вздрогнул. Мама закрыла мне ладонью глаза, но я уже и сам зажмурился, кода увидел тела, перепачканные кровью и грязью. Похожие скорее на разделанные туши коров, которые я помогал грузить отцу на бойне, чем на людей. Рты были закрыты обрубками, примотанными колючей проволокой, шипы впивались в грязную кожу, раздирая ее в кровь.
Я жался к ноге матери и сдерживался, чтобы не описаться. Несмотря на зажмуренные глаза я видел окровавленные тела перед собой, помнил, что в паху Абрама Савельича алеет уродливая рана. И нечто внутри меня призывало: «Открой глаза! Посмотри, посмотри!» Ужас отвратителен. И притягателен. Может, еще больше, чем красота.
Злясь на себя, я все-таки приоткрывал глаза и сквозь мамины пальцы косился на площадь. Накинув на шеи веревки, тела волокли по грязной жиже. Левое ухо Яшки висело на кровавых волокнах, похожих на дождевых червей. Когда тела изваляли в грязи, принялись бить ногами. Больше всех старался бритый фриц. Ему заметно нравилось. Тела изгибались в позвоночнике.
А потом – бородатый переводчик повторил это несколько раз своим низким гортанным голосом, после чего украдкой перекрестился – каждый должен был плюнуть в лежащих. Тех, кто откажется, крикнул переводчик, повесят вместе с жидами.
Никто не отказался. Плюнула в жидов и мать. Плюнула в сторону, стараясь не попасть в Абрама Савельича, Сару и Яшку. Я же закрыл глаза, сжимая веки так, что в голове зажгло, зашумело. Мысль помочь, спасти была насколько закономерной, настолько и слабой, несмелой. Будто она сама себя опасалась, прячась в угол сознания. Первый раз я боялся за свою жизнь. И первый раз понимал, что она есть такое.
Их троих повесили на площади. Они болтались неделями. Проходя мимо, люди отворачивались. И фрицы, и русские. Потом трупы сняли. Остались лишь виселицы. И воспоминания.
Но мы все равно бегали у сельсовета, где фрицы глушили шнапс, чистили оружие, курили. Иногда они забывали сигареты. Тогда мы хватали их и мчались прочь. После махорки, которую до этого мы выпрашивали у наших солдат или воровали из дома, фрицевский табак казался истинной благодатью. Курили сигарету гурьбой. Но прежде чем задымить, становились в кружок и пускали по кругу, рассматривая, принюхиваясь. А еще больше хотелось, мечталось достать фрицевскую зажигалку – бензиновую, с фигурным пламенем. Все ребята хотели такую, а я, пожалуй, сильнее других.
Тогда я носил фрицам молоко, оставляя трехлитровую банку на проходной. Но в тот раз постовой, кажется, спал. Он стоял, привалившись к стене, сложив на автомате мохнатые ручищи, похожие на лапы животного: огромные, покрытые жесткими курчавыми волосами. Я рассматривал, изучал их досконально, словно жаждал узнать некий секрет. Потом наконец опустил банку и хотел было идти, но на высоком с глубокой трещиной пне заметил пачку сигарет. А рядом лежала та самая зажигалка – металлическая, блестящая, пахнущая бензином, с колесиком и гравировкой. Мечта! Замерев, я любовался ею.
Фриц спал, каска его свалилась на лоб, переползая от шишковатого носа к до синевы выбритому подбородку. Это был скорее не немец – мадьяр.
Наша соседка, бабушка Груша, у которой фрицы отыскали иконы и хотели вздернуть ее за это, но ограничились тем, что порубили лики Христа, Богородицы, Николая Угодника, советовала, чтобы мы избегали румын и мадьяр. «Немец, он не такой лютый, – шамкала бабушка Груша, – как мадьяр или румын, вот те нелюди истые». Приходя к нам домой, она, сидя у давно нетопленной печки, рассказывала, как была в Дебрецене и видела там мадьяр. Ироды, безбожники, нехристи! Смотрела на них и молилась Богородице, чтобы до нас не дошли. Видать, не услышала грешных молитв Богородица, наказала мадьярами, что колют младенцев прямо во чревах.
При виде спящего постового я невольно вспомнил слова бабушки Груши и захотел уйти. Но желание это соперничало с лютым вожделением зажигалки. Вот она – протяни руку, а после – беги, беги! И мечта твоя сбудется, и навсегда ты самый важный среди новоселкинских пацанов! Будто два человека с разными характерами, устремлениями перетягивали во мне канат. И победил тот, кто был яростнее, наглее, беспринципнее.
Я протянул руку и медленно положил пальцы с полумесяцами грязи под ногтями на сталь зажигалки. Холодная, суровая, важная. Погладил ее, чувствуя гравировку. Провел мизинцем по рельефной стали колесика, нежно, мечтательно. Надо было всего лишь сомкнуть пальцы, схватить зажигалку и бежать прочь – я понимал это, но не мог ничего поделать с убийственной растянутостью момента.
– Киндер!
Лет в шесть, наверное, Сашка Борзыкин, разозлившись, швырнул мне в спину насосный вал. Он ударил в лопатку и опрокинул на землю. Тупой пронзающей болью, но главное – неожиданностью. Крик, раздавшийся позади меня, оказался чем-то сродни удару вала. Я отдернул руку от зажигалки и почему-то рухнул на землю, обхватив голову руками.
Меня тут же саданули по пояснице. Я вспомнил, как таскали на площади Яшку, а потом вздернули на виселице. Вспомнил и обмочился. Рывком меня подняли на ноги. Их было двое. К проснувшемуся мадьяру добавился смуглый здоровяк с воспаленными красными глазами. Он тряс меня за плечи. Я болтался, как тряпочный, неживой.
Мадьяр несколько раз ткнул мохнатым пальцем в зажигалку. Что-то крикнул, но, в целом, вел себя не так яростно, как здоровяк. Тот перевернул меня, заломив руки. Мадьяр сгреб пачку и зажигалку. Отошел. Здоровяк повалил меня головой на освободившийся пень. Он не прекращал кричать, и, дурея от ужаса, я как бы тонул в болоте.
«Хаун» – это слово чаще всего я слышал от здоровяка, прижимавшего меня к пню щекой. Боковым зрением я увидел, как мадьяр поигрывает топором, точно примеряясь к удару. Наверное, я бы обмочился повторно, если бы было чем. Но внутри присутствовал лишь разъедающий необратимостью страх, отнимающий силу и обращающий в прах.
Мадьяр взвесил топор на руке и отошел. Весь я превратился в ожидание, оставляющее сотни морщин.
Закрыл глаза. Единственное движение, на которое оказался способен. Скрученные здоровяком руки выламывало ноющей болью, и она ползла вверх по сухожилиям, мышцам, пронзая плечи, переходя в шею. Извивающаяся змея, стремящаяся отравить, одурманить разум.
И вдруг еще один крик. Этот звучал по-другому. Уверенно, властно. Хватка ослабла. Я смог пошевелить руками.
– Вэйки!
Я встал на затекшие ноги. В дверном проеме серой глыбой нависал огромный белокурый мужчина, накинувший на эсэсовскую форму черный плащ. Я почему-то сразу решил, что это офицер. Он изрыгал крики, точно швырял во врагов гранаты. И врагами, я почувствовал это явно, были два фрица, которые собирались отрубить мне голову за попытку украсть зажигалку. Здоровяк молчал, угрюмо косясь на меня, а мадьяр, наоборот, эмоционально, с огромным количеством слюны и жестов, отбивался от «гранат» офицера. Периодически он тыкал в меня мохнатым пальцем и вертел зажигалкой.
Громкость криков офицера постепенно снижалась, и наконец он, как бы соглашаясь, закивал головой. Мадьяр еще эмоциональнее зажестикулировал. Офицер крикнул на здоровяка, и тот, просветлев, выкрутил мне правую руку. Мадьяр же схватил левую и положил на пень.
Офицер подошел. Лицо крупное, бледное, собранное, будто высеченное из мрамора. Он взял торчащий из влажной земли топор и, не примеряясь, быстро ударил по моей пятерне. Не знаю, метил ли он или бил наугад, но два обрубка – мизинца и безымянного пальца – остались на пне. Мадьяр и здоровяк тут же отпустили меня. Я вскочил, задыхающийся, шаленеющий от боли, а еще больше от вида крови, и заорал, выставив изуродованную руку перед собой. Мадьяр засмеялся. Здоровяк дал мне подзатыльник. А офицер молча развернулся и пошел прочь.
Я заметался, кропя землю кровью, и в этом, наверное, был особенный символизм. Мадьяр закурил, схватил палку и несколько раз ударил ею мне по голове, гоня прочь. Я, кажется, плюнул в него и побежал.
Кровь била из раны. Сначала ярко-красная, затем темная, и, мчась по улице, я решил, что умру. Мысли в голове перемешались, но одна была четкой и ясной – оказаться дома.
Меня поймали на углу Лесной улицы. Две женщины, несущие доски, увидели и бросились останавливать. Я сопротивлялся, отбрыкивался, кусался. Одна тут же бросила меня. Но другая, сбитая, крупная, с мужицкими руками, держала крепко, не реагируя.
Они перевязали рану, обработав ее свекольным соком. И отвели домой.
– Вычухался я, – договорил дед и швырнул яблочный огрызок в канаву. – Жесточее с ворами надо…
Стоя с выкопанным деревом в руках, я вспоминаю историю деда, и воображение, гипертрофированное от чтения книг, на миг пуляет картинку физрука, выбегающего из школы с топором в руках. Оставить дерево. Так будет правильнее. Но мысль о том, что без этого свидание с Радой потеряет смысл, перевешивает, и все-таки я ухожу с деревом, завернув его в мокрую тряпочку. Прячу добычу на «Спартаке».
А затем приговариваю время, шляясь по Абрикосовому переулку. Дома здесь одноэтажные, неказистые. Двухэтажный только один, но в нем никто не живет. Отделанный по углам серой плиткой, он выкрашен в светло-красный. Шторы задернуты. За домом никто не ухаживает, не следит, не латает. Но своего внешнего вида он не меняет. Во дворе – сухие деревья, высокий бурьян, жуткие ржавые качели. Их видно с улицы. В деревне вообще все видно с улицы. Заборы низкие, поднял ногу – перемахнул.
Светло-красный дом опустел, когда я был совсем маленьким. Говорят, в нем доживала век старая бабка, работавшая при Брежневе ветеринаром. При Горбачеве ее выгнали из колхоза. И она возненавидела Михаила Сергеевича. Еще и потому, что любила водку, а при Горбачеве пить стало сложнее. Надо было вертеться, изгаляться, придумывать. Бабка же, говорят, была ленива.
Сначала она сидела на крыльце. Метила проклятиями в проходящих, проезжающих. Но все привыкли. Это ее бесило. И она пошла по селу, бомбардируя проклятиями. Люди терпели, жалели. И это разозлило ее еще больше. Она стала черная, как смола, и заперлась в доме. Рассказывают, что когда маленькие девочки слышали ее вопли, доносящиеся из светло-красного здания, то покрывались черными пятнами.
Соседи терпели ор, а после, не выдержав, застучались в двери, надеясь утихомирить. Но бабка не открывала. Со временем ее вопли перешли в завывания, точно раненый зверь попал в капкан.
Зимой на серой «Волге» с разбитой передней фарой к ней приехало двое: обрюзгший мужчина и молоденькая женщина. Они припарковали машину у раскидистого ореха. Постояли, покурили. И зашли в дом, чтобы пропасть навсегда.
Через неделю кто-то вызвал милицию. Приехал Сема Рогочий; сейчас больше похожий на похмельного бегемота, а тогда еще юный, стройный, белокурый. Он зашел в светло-красный дом и выскочил, говорят, уже полысевший.
Затем приезжали еще два десятка милиционеров. Другие ведомственные. Искали, рыли. Но хоронить – это в селе знают точно – никого не хоронили.
История, конечно, сумрачная, с душком, где на один факт, как на шампур, насажен пяток дурных баек. Но заходить в светло-красный дом – никто не заходит. Вот он и стоит нетронутый, девственный в своей монументальной угрюмости.
Впрочем, весь Абрикосовый переулок – особенно ранней, чавкающей влажным снегом зимой – чудовищен. Похожий на набитую грязью и калом кишку с непереваренными зернами, какие обычно бывают у куриц, он утыкается в заброшенную ферму. За ее бетонным забором, изрисованным угольными надписями и рисунками преимущественно генитальной тематики, еще пасутся несколько дистрофичных коров. Пасутся они всегда молча, будто нет сил, чтобы мычать. Фоном их молчаливому, покорному умиранию – обглоданные украинской независимостью скелеты развалившихся зданий. В дальнем конце фермы, у зеленого строительного вагончика, пошатываясь, бродит сторож – дядя Митя, который «когда трезв, то Муму и Герасим, а так он война и мир».
Он был другим, до развала Союза. Крепким, подтянутым, с подкрученными гусарскими усиками. Мы с дедом Филаретом приезжали к нему на ферму за колхозным зерном на стареньком «москвиче», в салоне которого вечно пахло солярой. Меня одевали в замызганные комбинезоны, которых я очень стеснялся. А от того, что никак не мог освоиться среди деревенских мужиков, я комплексовал еще больше. Суетился, пытался угодить деду, а он злился, потому что, мельтеша, я только вредил.
Зерно падало из металлической трубы на бетонный пол, шебарша, как пчелиный рой. Люди ведрами насыпали его в мешки. Тащили на прямоугольные весы с грузиком на каретке и ругались за каждые десять грамм. У весов стоял дядя Митя. Он, видимо, уважал деда, потому что позволял ему больше других. И вообще вел себя, несмотря на разницу в возрасте, по-дружески.
А после на ферму ездить мы прекратили. Зерно покупали сначала в Бахчисарае, затем на бывшем винзаводе в открывшемся магазине «Корма». Ферму же тем временем растаскивали, грабили, ломая даже бетонные стены, чтобы вытащить из них арматуру.
Но дядю Митю я продолжал встречать. В «Огоньке», в полях, в канаве. Всегда сонный, он сначала лысел, а после худел, напоминая пойманную рыбу, которую, забыв снять с крючка, так и оставили подыхать.
Дяде Мите, наверное, ощутимо тягостно жить. И в этом мы схожи. Но мне семнадцать, и, может, все сложится, а у него уже все сложилось, не переиграть, не перестроить – точка, финал.
Я разглядываю ферму и мысленно шлю дяде Мите приветы. Так долго, что можно возвращаться домой, мандражируя перед крышесносным свиданием.
6
Почти каждое мое появление рядом с бабушкой заканчивается ее мольбами, чтобы я наконец-то поел. Неважно, кушал я перед этим или нет.
Потому что родился я чуть больше двух килограммов. Сначала мама терзалась, выживу ли я после родов, а затем изматывалась, так как я не хотел есть. Отворачивался, не сосал грудь, разрывавшуюся от молока. А мама с бабушкой бегали, суетились, переживали – намаялись, в общем.
Когда я подрос, ситуация не изменилась: губы смыкались, если поблизости была еда. Бабушке с мамой удавалось накормить меня лишь одним способом: завести будильник, поставить рядом, и когда он срабатывал, а я довольно открывал рот, превращаясь в нормального младенца, в меня закидывали еду. Я, психуя, отмахивался. Будильник ломался.
Но потом – случайно – вмешался отец.
После моего рождения он заходил к нам совсем редко. Только, чтобы хорошенько поесть. Пьяным на него всегда нападал жор. Сидя за столом, накрытым не меняющейся тридцать лет клеенкой, он, чавкая, выслушивал жалобы мамы на то, что Аркашенька совсем не ест. Видимо, она так достала его стенаниями, что, когда вышла, он взял кусок черного хлеба, макнул его в говяжий бульон – отец всегда любил рассказывать с подробностями – и, предварительно разжевав, пальцем сунул мне порцию в рот. И я начал есть.
Мама пришла, испугалась, закричала, когда увидела, чем меня кормят. Бросилась на отца. Возможно, даже несколько раз его шлепнула. Но потом замерла, сообразив, что я наконец-таки ем. И стала кормить меня так же.
Я рос. Кабанел. Округлялся. И в первом классе выглядел среди детей-сверстников Гулливером. Меня дразнили, травили даже. Взрослый может пощадить – ребенок нет: добьет, растопчет.
В Севастополе, куда мы переехали, – мама нашла работу бухгалтером, считая, что в городе мне будет лучше, – когда я учился в пятом классе, в школе для одаренных детей легче не стало. Унижали, правда, меньше, но саморефлексия усилилась и отравляла сознание чудовищным самоедством. Иногда на переменах я впадал в почти летаргическое состояние, мечтая уйти из круга, сжимающегося вокруг меня и душащего безысходностью. Десятилетний пацан, мечтающий умереть, – абсолютный zeitgeist.
Помню, тогда мы носили форму: полосатые серо-черные бриджи и белые рубашки. В середине девяностых это было даже на пользу. Потому что деньги обесценились. Горками они валялись на столах и в шкафах. За десятки тысяч карбованцев продавали буханку хлеба, который регулярно заражался спорами картофельной палочки, и длиннющие, как в советское время, очереди стояли у магазинов местного бизнесмена Сергея Кондратевского, где хлеб стоил всего три тысячи. Вообще с едой были проблемы. Помню, дальняя родственница из Иркутска отправила нам в качестве матпомощи крупу, но та пока преодолела коллизии почты, спрессовалась и превратилась в нечто похожее на стройматериалы. В одежде же разделение на богатых и бедных чувствовалось особенно сильно. А тут – форма, не отличить. Тем более покупали мы ее не за свой счет.
Спонсировал наш класс Дуардович. То ли Александр, то ли Алексей Давыдович. Пока не разорился, когда мы были в восьмом классе. Он жил в Москве. Там у него был свой бизнес. Какой – неизвестно. Впрочем, какой в девяностых мог быть бизнес?
Но родился Дуардович в Севастополе. Наверное, поэтому он организовал здесь лицейный класс, куда я и попал. Помимо углубленного изучения стандартных предметов, мы осваивали логику, психологию, этику, религоведение, шахматы, танцы. Из нас растили ценные кадры, сверхчеловеков, которые после окончания школы пойдут на работу к Дуардовичу. Никто не возражал против таких перспектив. Определенность в то смутное, взбалмошное время, наоборот, радовала.
До сих пор не знаю, как мне удалось попасть в специализированный класс. Но думаю, что дело не только в моих способностях.
Учились мы не в здании школы, а в отдельном помещении, под которое оборудовали бывшие складские помещения. Сделали капитальный ремонт. Получилось три комнаты: коридор, игровая, классная. Плюс санузел. Шкафчик в коридоре у каждого был свой. В них мы и хранили форму.
В начале третьей четверти, вернувшись с каникул, я достал бриджи из шкафчика, чтобы переодеться. Вместе с остальными мальчиками из класса. Рядом на ДСПешной скамье под ольху натягивал бриджи щуплый Гриша Кедрук. Его мама, Оксана Платоновна, гаркая по-капральски, привычно командовала процессом переодевания.
Она была дочкой Платона Кедрука, одного из самых богатых людей Севастополя, превратившего крупнейшее рыболовецкое предприятие Европы в фирму-банкрот. Дебет с кредитом не сошелся. Разница пошла на приобретение автомобилей, домов для Кедруков.
Позже Платон Семенович будет рулить севастопольским отделением партии «За единую Украину». И нам, одноклассникам его внука, раздадут сине-белые наклейки «За ЕдУ» с изображением ножа и вилки. С чувством радости, едва ли ни благодарности мы будем расклеивать сине-белые квадраты по городу, ощущая себя частью некой большой и веселой затеи. Добровольный подростковый труд: оказывается, его используют не только «Свидетели Иеговы».
Гриша натянул штаны быстро, а вот мои все никак не сходились. Я и так всегда управлялся с ними неловко, потому что, стесняясь своих толстых ляжек, прячась, использовал для переодевания хитромудрый способ, а тут шло совсем туго, хоть вазелином смазывай. Пришлось идти в туалет, любимое место для переодевания; особенно верхней части: ляшки пусть еще видят, а вот четыре полосы жира на брюхе, переходящие в женскую грудь, – увольте. Я разложил вещи на батарее, унитазе. Выдохнул, успокоился. И попытался натянуть бриджи.
Паника как всегда зашевелилась сначала в мошонке, а затем поползла вверх, вдоль позвоночника. Господи, как я мог так растолстеть?! За две-то недели?! Как?! За что?! Неужели?!
Я плакал, а в дверь стучались:
– Все нормально, сынок?
– Да будьте вы прокляты с вашей жратвой!
– Открой, пожалуйста…
Я распахнул дверь и заорал, не видя лица:
– Хватит меня кормить! Хватит! Я жирный!
Истерично, бессвязно, так, что слышали все. И мама, обескураженная, стояла в дверном проеме. Ей было обидно. Очень обидно. Она плакала. Сухими слезами, этими застывшими гранулами страдания, которые куда болезненнее тех, что текут, размазываются по лицу.
– Дай я помогу. – Она зашла в туалет, дрожащими руками попыталась натянуть бриджи. Тщетно.
– Хватит кормить! Я жирный! – стонал я.
А в коридоре Оксана Платоновна сокрушалась, как похудел ее Гришенька. Бриджи болтались на нем, словно мешок из-под картошки. Он ел слишком мало, я – слишком много. Но бриджи мы перепутали.
Вот только пульсирующая мысль «я жирный, я жирный» никуда не ушла, когда мы разобрались, кому что надевать. Она въелась, осталась со мной. И хотелось умереть. Но у десятилетних пацанов не остановится сердце. И вилку в горло они не воткнут. Поэтому им приходится жить, терпеть.
Я терпел до седьмого класса. До первых внеклассных танцев. Румба, самба, вальс, ча-ча-ча – самые ненавистные слова, преподавательница Виолетта Орлова – самый ненавистный человек того времени. На уроках танцев я обычно сидел в углу. Игнорировал. Но на общие танцы пришлось идти. Было бы легче, если бы я появился один. Но обязали прийти с родителями. И мама, расчесав меня на прямой – «сын булочника» – пробор, облачив в толстящую белую рубашку, нацепив дурацкую бабочку, была рядом.
Мы сидели с ней на диванчике, когда Маша Леонова, единственная девушка, которая со мной общалась и которой мог выдавливать в ответ слова я, проходя мимо, улыбнувшись, поглядела на меня и сказала:
– Какой красивый!
– Спасибо, Машенька, – ответила за меня мама.
И оттого пунцовые пятна обжигающими медузами покрыли мое лицо. Маша прошла и взяла под руку Костлявчика. Я вжался в черный диван с синтетической обивкой. Стараясь исчезнуть. Стараясь не быть.
Да, в тот вечер я истово захотел похудеть. И если Бог, которого я умолял об этом последний год, – Бог, что был для меня бумажными иконками, стоящими на грабовом шкафу в восточном углу комнаты – отказывался помогать, то я решил обратиться к его конкуренту. Бизнес есть бизнес. Никаких контрактов с душою взамен. Только обещание дьяволу похудеть. Стать таким же вытянутым, бледным, как Костлявчик. Так я впустил в себя бесов похудения.
Никаких изменений тогда, на диванчике, я не ощутил. Но летом, между седьмым и восьмым классами, перестал есть. Вообще. Моей суточной нормой стали два пакетика лапши быстрого приготовления и вода из-под крана. Ее я пил в соседнем с футбольной площадкой дворе в перерывах между упражнениями – командными и одиночными – с мячом. Вода отдавала хлоркой, но мне это даже нравилось, потому что терялось удовольствие от вкуса, а там, где он мертв, нет и чревоугодия.
На вторую неделю от хлористой воды и быстрой лапши у меня начались боли в животе. Резкие, колющие, как удары финкой. От желудочных спазмов я мог повалиться на поле, стирая колени в кровь о щебень, прямо во время футбольного матча. Сначала игроки злились, а после смеялись. И дали мне кличку Симулянт. Но я не ныл, не обижался – терпел. Бесы похудения выполняли свою работу.
Не учел я лишь одного фактора – мамы. Она готовила с вечера, а утром рассказывала, что мне есть в течение дня, но, возвращаясь вечером с работы в тесную кухню, где нужно было извиваться, чтобы протиснуться между шкафами, находила блюда нетронутыми.
Тогда мы жили в однокомнатной квартире на улице Острякова. С жильем помогла единственная мамина подруга, Зина Семенова. Мама предлагала ей денег, но та отказалась. Больше у нее подруг не было. Только знакомые из церковного хора в Каштанах.
Квартира оказалась симпатичной. С новой белой сантехникой в крошечной ванной комнате, отделанной бледно-розовой кафельной плиткой. Стиральная машинка и содержимое аккуратных шкафчиков достались нам от тети Зины. Правда, ванная, о которой я так мечтал, живя в деревне, была небольшой, сидячей, не вытянешься. Впрочем, после купальных процедур в деревне она казалась едва ли ни счастьем.
Баня в нашей каштановской хате располагалась в пристройке, сложенной из камней, мусора, кирпичей. Сырое, темное помещение с низким, давящим потолком. Вдоль левой стены тянулся деревянный стол, на котором лежали тазы, ведра, куски мыла, тряпки, мочалки, коробки со стиральным порошком. Справа на печке с ржавой дверкой стоял металлический бак. Чтобы помыться, нужно было разогреть в нем мутную с известняковым осадком воду. Нарубить дров, растопить печку. После чего принести таз с холодной водой, ковшики. И, пыша паром, вдыхая влагу, обливаться, стоя на деревянном поддоне. Все это превращало купание в сложный, напрягающий ритуал. И если летом он доставлял хоть какое-то удовольствие, то промозглой осенью и студеной зимой становился пыткой, когда, завернувшись в банный халат, распаренным, мокрым приходилось бежать через суровую зябкость в теплую хату.
Так что ванную в квартире на Острякова я оценил быстро и научился получать удовольствие от купания, приспособившись закидывать ноги вверх, уперев их в теплый от горячего пара кафель.
Больше ванной мне нравилась лоджия. Десятка сантиметров, наверное, не хватало, чтобы поставить в ней раскладушку, но, когда мамы не было, я растягивался на полу и пялился в обветшалый потолок, отыскивая в пятнах отвалившейся штукатурки контуры стран, чаще всего находя Алжир, Новую Зеландию, Чили. В навесных шкафчиках хранилась консервация, и я особенно любил айвовые компоты и баклажановую икру.
Еще был узкий коридор с двумя продолговатыми шкафами, купленными за смешные, как говорила мама, деньги. И в коридоре, и в комнате, и в кухне стены были обклеены обоями с изображением березовой рощи. На деревянной подставке стоял дисковый телефон.
В школьные дни, примостившись на стульчике рядом, я, приложив к уху пахнущую предыдущими жильцами трубку, играл со своим единственным школьным приятелем Ромчиком в футболистов, как обычно играют в города. Впрочем, это скорее напоминало не подростковую игру, а последнюю битву, жестокое ристалище, где ни в коем случае нельзя было проиграть, уступить. Поэтому фамилии футболистов назывались, а порой выдумывались, до позднего вечера, пока мама ни гнала меня на вечернюю молитву.
Я злился, но становился перед киотом, смиренный ледяной кротостью ее серо-голубых глаз. Мама молилась рядом, спрятав светлые волосы под неизменный бело-голубой платок Антония Печерского, привезенный ей из Киево-Печерской лавры. Но мне было не до молитвы. Вместо Богородицы, Иисуса Христа, Николая Угодника, Ефрема Сирина я думал о Бернаре Лама, Андрее Пятницком, Виталии Косовском, Даворе Шукере, Зазе Джанашии. И даже, укладываясь спать на разложенное кресло-диван, травмирующее спину пространствами между составными частями, я продолжал вспоминать футболистов, хотя, казалось бы, все они уже давно были названы.
Победителей в наших сражениях с Ромчиком никогда не было. Под конец мы чаще всего называли либо выдуманные фамилии, либо те, что уже говорили, поэтому все это действо логично заканчивалось спором, обидами и клятвами – знала бы мама, из-за каких мелочей я грешил, – никогда больше не разговаривать друг с другом. Но проходило максимум двое суток, и мы сходились в пантеоне футбольных божков и полубожков вновь, как два ницшеанца, обреченных повторять ошибки снова и снова.
Играли мы в школьное время, потому что на все лето Ромчик уезжал в Андреевку. Купаться, есть черешню, персики и арбузы.
Наше общение с Ромчиком могло бы стать чудной иллюстрацией к выражению «противоположности притягиваются». Я болел за московский «Спартак», он – за киевское «Динамо»; я – за «Хьюстон Рокетс», он – за «Чикаго Буллс». Мне нравились «Роллинги», а ему – «Битлы». Кажется, единственное, что нас объединяло – это безотцовщина.
При таких отношениях телефонная игра в футболистов оказывалась своего рода интеллигентной сублимацией мордобоя. И то, что притягивало нас с Ромчиком друг к другу, возможно, было уродливой, извращенной формой ненависти.
Но с годами, особенно первое время жизни в Киеве, я ностальгировал по игре в футболистов, хотел встречи с Ромчиком. И при этом мысль о нем рождала ненависть, ярость, на смену которой приходило тягучее, вязкое, беспросветное отчаяние, связанное почему-то с матерью. С ее экономностью, переходящей в скупость.
Когда я учился в седьмом классе, модными стали клетчатые шерстяные рубашки наподобие тех, что носили ковбои в вестернах. У всех мальчиков в классе были такие. Кроме меня.
Я редко просил у мамы купить что-нибудь, но тогда клетчатая рубашка превратилась для меня в страсть. Я выпрашивал ее слезно, упорно. И в четверг – до сих пор где-то валяется календарик с отмеченной мною датой – мы пошли в ателье на улице Геловани. Там располагался трехэтажный Дом быта, в нем постоянно снимали помещения. Арендаторы менялись стремительно: там, где располагался ремонт обуви или часов, вдруг появлялся салон быстрой фотографии или книжный магазин, которые в свою очередь сменялись канцтоварами или сувенирной лавкой. Но ателье на первом этаже было неизменно. Хотя я никогда не видел в нем посетителей.
Вот и тогда в ателье были только сотрудники.
– Мы хотели бы купить сыну рубашку, – по обыкновению тихо сказала мама, и женщина-медуза, орудующая портняцкими ножницами, махнула ими в сторону. Даже не стала спрашивать, за какой именно рубашкой мы пришли. Тогда все покупали шерстяные клетчатые.
Рубашки висели в ряд, и мама сказала:
– Выбирай!
– Любую? – удивился я.
Она кивнула. Я хотел присмотреться, выбрать, но побоялся, что мама передумает, и, суетясь, второпях ткнул пальцем в черно-зеленую рубашку. Ткнул удачно – крупная клетка, некусачая шерсть.
– Уверен?
– Да!
И женщина-медуза отвлеклась, чтобы снять для меня рубашку. В ней я проходил седьмой, восьмой, девятый классы, а после хотел отдать деду, но он умер, и пришлось пустить ее на тряпки.
Пожалуй, это был единственный случай, когда я просил, а мама тратилась. Впрочем, на мне она старалась не экономить – зато жестко урезала себя. Траты для нее были усилием, а траты бессмысленные – подвигом.
В тот вечер, вернувшись с футбола, я застал маму, сидящую за кухонным столом перед горкой крупных тыквенных семечек.
– Привет, – сказал я и сразу попытался уйти в комнату, чтобы выучить составы «Бастии» и «Монако».
– Постой. Подойди-ка сюда, – оборвала мое намерение мама. – Сядь.
Я нехотя сел. Принялся считать семечки, чтобы отвлечься.
– А ну-ка скажи мне, – мама двинулась телом, и кухонный стол заездил на ножках, под которые для равновесия были подложены свернутые осьмушкой газеты, – чем ты питаешься?
– В смысле?
– В смысле, что ты сегодня ел?
– Суп, котлеты из кролика, – я вспомнил утренние наставления.
Мама дернулась назад, бросив с досадой:
– Ну, что ты врешь, а? Суп целый, котлеты нетронутые. Что происходит, Аркаша? Ты ничего не ешь! Весь высох! Зачем ты себя гробишь?
Голос ее дрожал, то ли от строгости, то ли от переживаний, но даже если бы она плакала, я не смог бы разделить ее страданий. «Высох» – этот сладкий, как вата в Комсомольском парке, приговор ублажал меня, подтверждая, что бесы похудения работают качественно. Я был счастлив.
А мама портила мое счастье. Хотела отнять, забрать его. Потому долбила обвинениями, упреками, наставлениями есть, кушать, жрать. И воспринималась как враг.
– Не хочу жрать! Не буду! Будь ты проклята со своей едой!
– Аркаша, да что с тобой, сынок? Ну ведь надо же кушать! Ты же себя угробишь!
– Не буду! Отстань! – кричал я.
Мама меняла тактику – соглашалась, но спустя какое-то время наседала вновь. Мы, плача, спорили. Мама хваталась за бельевую веревку. Несколько раз хлестала меня ей как ремнем, и я вопил еще пронзительнее, а она заливалась валокардином, осознавая, что приносит тому, ради кого живет, боль.
Я сдался, когда маме вызвали «скорую». Старый РАФ приехал, взвизгивая мигалками и тормозами. Остановился у мусорки, закрыв вечно смердящее пятно от вытекающих из урн отходов. Седой уставший врач зашел в коридор, обдав резким табачным запахом. Следом вплыла медсестра – молоденькая, но еще более уставшая, с темными мешками под осоловелыми глазами.
Они прошли в комнату. Расспросили маму, измерили давление, пульс. Поохали, достали аптечку, переругиваясь, сообщили, что надо вколоть лекарство, но на всех не хватает, поэтому только за деньги. Мама – слабая, бледная, расстроенная – вытянула руку. Край ее платья сполз вниз, обнажая красное родимое пятно на внутренней стороне локтя. Я, растолковав ее жест, спросил врача:
– Сколько?
Он назвал цену. Мама выдохнула. Я отсчитал деньги. Медсестра с заиндевевшим выражением лица разбила ампулу, набрала ее содержимое в шприц, вколола.
– Ей надо отдохнуть, завтра все будет хорошо, – не желая уходить, произнес врач в коридоре.
– Хорошо, спасибо вам огромное. – Я взялся за край двери.
Он вышел, гулко стуча каблуками. Из коридора пахнуло вонью кошачьей мочи. Послышалось мяуканье.
Соседка через квартиру напротив держала у себя кошек. Больше десятка, наверное. Впрочем, домашними тварями она не ограничивалась и подкармливала бродячих, расставляя по коридору миски, в качестве которых использовала коробки из-под масла «Рама». К ним стекались мяукающие твари, и подъезд все больше пропитывался монолитной вонью, проникающей в каждую щель здания.
– Аркаша, сынок, иди сюда…
– Иду, иду, мама. – Я зашел в комнату. – Как ты?
– Ты за меня не переживай. – Она провела холодной ладонью по моему лбу. – Главное, будь умницей…
И по измученному лицу потекли слезы. Мне надо было успокоить ее, ответить, и я, давясь словами, как рыбьим жиром в детстве, прошептал:
– Все будет хорошо, мамочка, я начну есть, обещаю…
Почти сразу же она уснула. А я вышел на лоджию, включил свет. Хотел сначала читать «Спорт-экспресс», но, посмотрев на ночной двор, прилип взглядом к звездам и не мог оторваться.
Несмотря на обещание, есть я не стал, зато придумал новую отличную схему – приготовленную с вечера мамой еду скармливал дворовым псам и кошкам, а жидкое – борщи, кисели, супы – выливал в унитаз. Мама возвращалась домой с пакетами, переодевалась в домашнее и, не отдыхая, шла на кухню, проверяла мной якобы съеденное, готовила, а затем допоздна просиживала за столом, занося цифры и буквы в таблицы, которые она заполняла своим прыгающим нервным почерком.
Через несколько месяцев, наблюдая за мной, выжатым, исхудавшим, – я даже заслужил в школе кличку Трофи, сокращенно от дистрофика, чем очень гордился – мама, не понимая, что происходит, ведь оставленная утром еда исчезала из кухни, начала терзаться, расспрашивать, переживать, хотела вести к врачу, но затем, похоже, смирилась. Я же, перетерпев боли, слабость, головокружение, почти радовался своему отражению в зеркале.
К концу лета старый гардероб перестал мне подходить. Перед школой мама купила мне новый: штаны, джинсы, рубашку, футболки, свитера, пайту – самое необходимое. Она отдавала деньги продавцам трясущимися руками, и то ли новые морщины добавлялись на ее бескровном лице, то ли прежние становились глубже.
Первого сентября в школе меня не узнали. Модные дизайнеры могли бы гордиться мной. Мужская версия Кейт Мосс – живой символ анорексии. Учителя смотрели пугливо, с опаской, мальчики прикалывались, а девочки боялись заговорить со мной сильнее прежнего. Но я был доволен. Триумф же случился тогда, когда Маша, увидев нового меня, ахнула, отвернулась, вновь посмотрела и вновь отвернулась. Я торжествовал и еще сильнее втягивал щеки.
Описать мое тогдашнее состояние можно было лишь общим, простецким словом – «хорошо». Потому что испытывал я не счастье, но некое абсолютное ощущение покоя, примиряющее меня с собой, людьми, действительностью.
Довольный я вернулся домой, встал перед зеркалом в ванной. Долго рассматривал себя. Ребер не видно. Живот не прилип к спине. Щеки не вдавлены. Нет, я еще не достиг совершенства. Только сделал крошечный шаг. Надо было идти дальше.
Но то ли бесы исчезли, то ли в организме сработал предохранитель – я оставался в таком же состоянии, как и на первое сентября. Законсервировался. Ни килограмма в плюс, ни килограмма в минус.
И ощущение жира на боках, животе, груди, ляшках развилось во мне с новой чудовищной силой. Переодеваясь, я еще резче отворачивался, прятался от других, а дома, осматривая себя в зеркале, находя жир, до боли сжимал его пальцами, стараясь расплющить, размять, чтобы превратить в сальное пятно, которое можно было бы стереть тряпкой. Это походило на аскезу по усмирению плоти, но дух мой треснул, ослаб.
В восприятии себя я оставался жирным. И мне надо было жить с этим. Чтобы однажды – я думал об этом поступке каждый вечер, когда, помолившись, укладывался спать – не прыгнуть в костер, который мог бы растопить весь мой жир, дабы я наконец стал нормальным.
До сих пор я живу с этим чувством и ненавижу, когда бабушка, или мама, или кто-то еще навязывают мне еду, предлагая поесть.
Сейчас, перед свиданием с Радой, я должен пестовать голод особенно тщательно, чтобы он полностью вытеснил мысли о жире. Но бабушка, причитая, какой я худой, сует мне блинчики с творогом, суп с фрикадельками и компот. Я злюсь, отбиваюсь и убегаю в хату. Отойди, отстань, бабушка! Не лезь, чтобы я не доводил тебя так, как маму тогда, вечером, на улице Острякова. К тебе-то ведь «скорая» не приедет. Лучше дай мне собраться, одеться, взять дерево и мастерок. И успеть на свидание с Радой.
7
Надо приехать на площадь Захарова раньше. Сделать приготовления. Спрятать мастерок, дерево в установленном месте. И ждать Раду у автобусных касс. Нервно, суетливо, волнительно. В ожидании Рады; Беккет выбрал не то название.
Хочется, чтобы рядом со мной был Квас. С его вечной шариковой ручкой в зубах, ухмылкой под Кита Ричардса и спортивной сумкой, в которой он принесет тишину. Но его нет, и я топчусь на месте, устаю и начинаю ходить вдоль берега моря, мимо бетонного забора, украшенного изображениями российского триколора и надписями вроде «Крым – Россия!» или «Севастополь – Черноморский флот – дружба». Бубню вычитанную у Луизы Хей – мама отвергла ее как не православную литературу, а мне понравилась – аффирмацию «я люблю и одобряю себя».
Рада приезжает – пятнадцать минут опоздания разрешается английской королеве, но за сорок восемь разве не отстраняют от престола? – на рейсовом автобусе номер «36». Пахнет от нее так же, как от ее письма – оглушающе терпко. Дышится мне с трудом.
Еще труднее смотреть Раде в глаза, а не в сторону, как обычно. Но смотреть, вспоминая ее письмо, надо. Томный, завлекающий взгляд. Вообще вся она, как подходящее дрожжевое тесто – распаренное, податливое, мягкое, – трогай руками, мни.
Я выталкиваю вперед руку, тянусь к ее ладони – так медленно, что подвисают стрелки часов – и все-таки сцепляю на ней пальцы. Теплая, мягкая, нежная плоть. Ивлин Во ошибался. Рада улыбается, и, обнадежившись, я говорю:
– Пошли!
Правда, на репетициях я произносил «идем». Властно, конкретно, словно Терминатор, протягивающий металлическую лапищу Саре Коннор и монументально чеканящий: «Идем со мной, если хочешь жить».
Держусь справа от Рады, согласно полученной от нее в прошлый раз инструкции: если нападут хулиганы, то так мужчина сможет защитить даму. Хотя мне больше нравится объяснение из «Крокодила»: «Женщина идет с левой стороны от мужчины, чтобы, когда он посмотрел налево, то увидел ее».
Украдкой посматриваю на Раду, фокусируясь на ее груди. Белый топ, надетый под расстегнутый джинсовый пиджак, обтягивает ее и поддерживает снизу, лишь прикрывая соски. Но с высоты своего роста я вижу два трепещущих, поднимающихся от дыхания холма, хотя больше – не знаю почему – меня волнует пространство между ними.
Я вижу женскую грудь, не считая маминой в детстве, столь открытой, так близко первый раз в жизни. И подмышки властными липкими касаниями трогает испарина.
Для кого так оделась Рада? Для меня! Это же очевидно. Больше не для кого.
Эта мысль радостная. И греховная – так пса моего тщеславия еще не кормили. Но более всего эта мысль пугающая – значит, Рада настроена на… Вздрагиваю, не в силах произнести; испарина уже не касается – теперь она и есть я.
Стараюсь, дабы питать разговор, нести так называемую милую околесицу. Правда, заготовленные, точно дрова на зиму, анекдоты, шутки забылись, предательски скрылись в сумраке памяти, и приходится импровизировать. Не слишком удачно.
Я силюсь вспомнить хоть крупицы из того, что заучивал три вечера подряд. На ум приходит лишь один анекдот, папин любимый.
– Знаешь, кто умнее прапорщик или обезьяна? – говорю я.
– В смысле?
– Ну, анекдот такой есть, кто умнее, прапорщик или эта, как ее, обезьяна.
– А, – Рада поправляет круглые серьги, – расскажи.
Я замолкаю. Отдергиваю руку, чтобы Рада не пропитывалась моей паникой.
– Ну, рассказывай…
– А ну да, – надо собраться. – Так вот, решили выяснить, кто умнее прапорщик или обезьяна. Кто, в общем, быстрее сорвет с дерева банан. Обезьяна трясет час, трясет два, наконец замечает палку рядом, берет, сбивает банан. А прапорщик трясет и трясет. Ему говорят: «Товарищ прапорщик, вы, может, подумаете, а?» Он, значит, останавливается, смотрит и говорит: «Чего думать? Трясти надо!»
Рада сдержанно улыбается.
– Не мытьем, так катаньем.
Дальше идем молча, скованно, напряженно. Хорошо, что на лестнице открывается панорама Северной бухты и городской стороны. Севастополь вспыхивает оживающими светлячками, и придорожные фонари, которые отремонтировали полгода назад, реанимировав после коматозной тьмы, тянутся сверкающими диадемами.
– Красиво, – восхищается Рада, и я горд, что наконец-то привел ее – ну или почти привел – туда, где ей нравится.
До этого мы гуляли в странных местах. На немецком кладбище. Среди заброшенных могил, поваленных крестов, в бурьяне надгробий. По невспаханным полям, где поросший желто-зеленым мхом камень воспринимался как достопримечательность, а в ямах валялись обветренные черепа с дырами во лбу. Среди развалин конюшни, по периметру которой ржавела колючая проволока.
Конюшню строил Ярослав Панченко, приятель Эдуарда Балтина, разбогатевший на дележе Черноморского флота, списывая боевые корабли на металлолом в Индию и Китай, отдавая в бессрочную аренду флотские поликлиники, учебные центры, дома культуры. В конце девяностых Панченко застрелили. Он вышел из принадлежавшего ему торгового центра, хотел сесть в «мерседес», но из подъехавшей серой «копейки» выскочили автоматчики и, как пишут в газетах, открыли прицельный огонь. Сначала убили охрану, а затем погнались за самим Панченко, убегавшим по улице Суворова. Автоматчик почему-то не стрелял, а мчал следом. Так они и бежали, мимо витрин с шоколадками и сигаретами, облетающих тополей и предынфарктных людей. Будто решили сыграть в GTA. В газетах писали, что киллер и жертва бежали в абсолютной тишине. Точно все ждали развязки. Пока киллер в упор ни разрядил обойму.
Помню, читая об этом, я все хотел понять, о чем думал Панченко. О миллионах? О конюшне? О торговом центре? О списанных кораблях? О семье? Теперь память о нем в пыльном венке у муниципальной аптеки, а конюшня за несколько лет превратилась в руины.
Но в этот раз место для свидания выбрано четкое – у памятника гвардейцам, форсировавшим Северную сторону.
Через бухту они переправлялись на лодках, плотах, досках. Черные точки, разбросанные по морю. Фашисты располагались на обрыве. Удобно вести огонь. Море окрасилось в красный. Но укрепление захватили. Гвардейцами командовал генерал Захаров, в честь которого и названа площадь, где мы встретились с Радой. Выжившие заложили памятник – пирамидальный обелиск, увенчанный пятиконечной звездой, окруженный четырьмя меньшими обелисками с колосьями на верхушках. «Гвардейцам-героям Севастополя». В темноте кажется, что памятник выполнен в мистической египетской эстетике.
Надпись на обелиске гласит: «В груди великого города будет вечно биться сердце русской славы». К ней добавились новые – уродливые, подчас варварские – письмена, нанесенные уже в независимое от советского прошлого время: «Анархия – мать порядка», «Кабан любит Лелю». Кто-то – самый ловкий, целеустремленный, дурной – ухитрился нарисовать на верхушке, под звездой главного обелиска черную свастику.
Но я привел сюда Раду не из-за памятника, а потому, что с горы, на которой поставили обелиски, открывается лучший вид на ночной Севастополь.
Перейти через ограждение, постелить клетчатый плед, усесться на краю обрыва, глядя, как накатывают волны, а у берега на якорях застыли подсвеченные красными, зелеными желтыми маячками боевые, гражданские корабли. Зрелище расслабляет. Возможно, здесь все может случиться.
Достаю термос, стаканчики, говорю:
– Я на секундочку…
Оставив Раду одну, подхожу к краю обрыва, где в можжевельнике я спрятал мастерок и дерево для сюрприза. Спрятал так надежно, – колотится, беснуется сердце – что ищу их долго, волнительно, измазываясь в грязи. Когда возвращаюсь назад с мастерком, Рада ойкает, отшатывается назад. Мне приходится говорить, успокаивая:
– Это сюрприз.
– Мило…
Помогаю Раде подняться. Она ежится, хоть и апрель удивительно теплый, набухающий почками раньше времени, струящийся умиротворяющим, сладким эфиром. Скидываю пиджак – форменный, черный в тонкую белую полоску, с классическими лацканами и рукавами, он совершенно не подходит к светлым джинсам, – накидываю его Раде на плечи. И начинаю копать. Так усердно, что, боюсь наткнуться на останки гвардейцев. Потрошу землю с пластмассой, полиэтиленом, металлом, кусками линолеума, битума в ней.
Докопав, возношу дерево, точно Прометей факел, – на морском берегу, у советских пирамид выглядит это эпично – и декламирую отрепетированную до судорог скул речь. Настроение игривое, хочется, как мужчине в самом расцвете сил, пошалить. И это настораживает, потому что, когда подобная игривость силком нацепляет маску, случается нечто пакостное. «Вечером смеешься – утром будешь плакать», – так любит повторять мама; не самая обнадеживающая родительская установка.
Рада скучает. На дерево не реагирует. И даже привязанная атласная ленточка, на которой я черным маркером округлыми, дышащими стараниями влюбленного буквами вывел «Аркадий и Рада – вместе навсегда!», не меняет приговаривающей скуки ее лица. Но я обязан держаться плана.
– Теперь это дерево будет расти, символизируя нашу… – осекаюсь.
– …близость, – улыбается Рада, и я понимаю, как должен сейчас поступить, но панический страх, удушая, сковывает.
Ее лицо приближается ко мне, и я неловко, через усилие тыкаюсь в подставленные губы, влажные, сладкие от помады, и тут же, испугавшись собственной решительности, отстраняюсь назад, пряча взгляд. Но Рада грубым, мужским, движением притягивает меня к себе, целует. По-взрослому, с языком.
Помидоры… Вспоминаю тренировки на маринованных помидорах. Впиваюсь в губы так, словно Макс Шрек решил оторваться на съемках у Фридриха Мурнау. Рада вздрагивает, отстраняется, улыбается:
– Не так сильно, сладкий! Расслабься…
Вновь целует меня. Я честно стараюсь расслабиться, но вульгарное «сладкий», словно за пузырь самогона ты подцепил сельскую шлюху, вламывается в сознание, устраивая там дестрой.
Обрываю поцелуй. Глаза Рады закрыты. Она еще инстинктивно тянется ко мне. И это усиливает ощущение вульгарности происходящего.
– Подожди.
– Еще один сюрприз?
Между тремя кипарисами лежит купленная у беззубого татарина красная роза с длинной шипастой ножкой. Это, действительно, еще один сюрприз, но я иду за ней скорее для того, чтобы потянуть время.
Цветок, хоть и стоит в иерархии флоры ниже дерева, воодушевляет Раду. Она улыбается, потупляет глаза, шепчет «мой маленький» и хочет отблагодарить поцелуем.
Мне приходится отвечать, лишний раз чувствуя свою неопытность, ущербность. Женщины взрослеют раньше мужчин. И это отставание, разверзшееся пропастью. Кто я для нее? Подопытный? Цуцик? Ученик? Тимуровские штанишки, белая рубашонка, коротенький галстук – девственник приперся в бордель, чтобы подарить шлюхе коробку любимых барбарисок. Ей надо бы промолчать, проявить деликатность, обучив между делом, легко, ненавязчиво, но она разъясняет искусство любви вслух.
Не стесняйся, будь нежнее. Постарайся расслабиться. Не торопись, не напирай. Играйся со мной, заманивай. Проведи рукой по волосам, коснись мочек ушей. Не зацикливайся на поцелуе.
Безвольно мусолю ей шею; лишь бы не видела моего лица, лишь бы не слышать ее бесконечных избитых фраз.
– Поцелуи не только приятны, но и полезны, – может сказать она с таким видом, словно только этой фразы мне и не хватало, но вот теперь она проговорена, и я сразу успокоюсь, окрепну. Хотя до этого я, готовясь, изучил о поцелуях столько, что можно читать лекции.
Поцелуи уменьшают выработку гистамина, вызывающего сенную лихорадку. Служат прививкой от цитомегаловируса, опасного при беременности, вплоть до церебрального паралича или смерти ребенка. Нормализуют кислотность полости рта. Снимают приступы вегето-сосудистой дистонии. Избавляют от стресса. Повышают тонус и настроение. Стройнят.
Знаю это так же четко, как и то, что при поцелуе легко заразиться герпесом, гепатитом В, сифилисом. Есть даже так называемая «поцелуйная болезнь» – мононуклеоз, вызываемая вирусом Эпштейна – Барра.
Вспоминая о ней, я останавливаюсь, замираю.
– Что-то случилось, милый?
«Милый» лучше, чем «сладкий». Но тоже отдает пошлостью. Где Рада набралась этих фраз? И почему я, будто мне семьдесят девять и пора умирать, так критичен?
Здесь, у моря, на котором отражаются огненные блики ночного города, у кораблей, где спят или несут вахту люди, у берега, который, пройдет месяц, населят шумные, распаренные туристы, все не случится. Я не готов. Мне надо взять передышку. Уйти домой.
– Надо идти. Нам с тобой.
Рада смотрит на меня удивленно, затем насмешливо, и едкая, точно выжженная кислотой, ухмылка перекашивает ее лицо. Стараюсь не смотреть на нее, глядя себе под ноги, на каменистую, поросшую серо-зеленой полынью землю, но даже так, без звуков и взглядов, ощущается ее дьявольское презрение.
– Что такое? Что я сказал смешного, Рада?
– Ничего. Ты ничего, и я ничего, правда, Аркадий?
– Тогда нам пора домой.
– К мамочке, да? Ути-пути…
Слова ее детские, но лицо старчески злое. Надо бы ответить ей по-мужски, так, чтобы поставить на место, но выходит лишь:
– Не твое дело, идем! Опоздаем на автобус!
– Да пошел ты!
Она взмахивает руками, идет от меня прочь, в сторону памятника гвардейцам. Я быстро собираю в пакет термос, плед, хватаю мастерок, бегу за Радой.
Позже, когда я буду встречаться с девушками, разными, но в то же время неуловимо похожими, это мое преследование, хождение по мукам вслед за обидевшейся обидчицей станет нормой, которая вновь и вновь будет напоминать мне о слабости, зависимости моего характера. Все эти девушки навяжут мне свою волю легко, без особых на то усилий, потому что я сам буду искать, алкать их рабства, не способный принимать четких самостоятельных решений.
Волоча мастерок, пакет, я иду за Радой, а внутри рождается странное, извращенное возбуждение, которое поднимается откуда-то из области паха и томными кругами, словно камень швырнули в озеро, расходится по всему телу.
– Подожди, успокойся!
Догоняю ее, хватаю чуть ниже плеча. Разворачиваю.
– Стой!
– Убери руки!
– Да что случилось?
– Ничего, вообще ничего, – она вновь расчехляет пушки сарказма, – притащил меня черт знает куда и ходишь вокруг да около. Рано тебе быть импотентом!
– Я не импотент!
– Ну, так поцелуй меня как мужчина!
Схватив за лацканы пиджака, она притягивает меня к себе. Грубо, бесцеремонно, словно трубку фиброгастроэндоскопии, просовывает язык в рот.
В газетах, которые бабушка с мамой хранят в бане для растопки печки, я больше всего люблю рубрику «Полезные советы». «Как вылечить геморрой жабьими брюшками» – почти Хармс. А рядом что-нибудь адекватное, вроде: «Если взволнованы, дышите животом».
Когда Рада исследует пространство моего рта, я вспоминаю «полезный совет», и живот ходит мехами аккордеона, на котором отец пробовал учить играть меня в детстве. Рада, похоже, принимает это за возбуждение. Хотя я, конечно, с трудом представляю себе, как вживую, в реальном, не телевизионном, мире выглядят сексуально возбужденные девушки.
Она льнет ко мне, прижимается, обволакивает. Мои глаза открыты, и я вижу, как раздуваются ее ноздри. Рада зажимает мою ногу между своими ногами, елозит на ней. Понимание того, что я, безнадежный девственник, могу возбудить взрослую опытную девушку, наливает меня силой, уверенностью. Здоровая крепкая эрекция всего тела.
Правой рукой обхватываю ее бедро, притягиваю к себе. Она испускает нечто вроде стона и еще крепче прижимается ко мне. Кладу левую руку на ее другое бедро. Видимо, приняв мой жест за предложение, она запрыгивает на меня. Держу ее на весу. Точь-в-точь как герой-любовник. Но слабый, хилый герой-любовник. Мне бы книги носить, а не страстных девушек.
Рада спрыгивает, тащит меня к обелиску. Прижимает к окружающему его парапету с красным числом «1944». Девочки хотят быть сверху. А может быть, просто холодны камни. Радины груди, на которые я таращился, поднимаясь к памятнику, передо мной. Кажется, их надо целовать, мять, особенно милуя соски. Неловко тыкаюсь в них, смелея от того, что, в принципе, способен на такое. Руки спускаются вниз, скользят по телу. Останавливаются на плоском животике. Поглаживаю. Не забыть про груди – целовать их. Все по инструкции, вычитанной в потрепанных книгах, найденных на остряковской свалке. Даниэла Стил оказалась полезнее, практичнее Достоевского.
Засовываю ладонь между ног Рады. Там мокро, будто описалась. Это промелькнувшее «описалась» заставляет на мгновение отнять руку. Тут же злюсь на себя за это, возвращаю ладонь, пытаюсь залезть под ткань, но джинсы обтягивают плотно. А с пуговицами не управится. Так же, как и не управится с защелкой бюстгальтера. Но там можно стянуть чашечки вниз, вывалить грудь с темными сосками, а здесь – остается лишь массировать Раду через ткань.
Горячо – оказывается, это не просто образ из книг – она дышит мне в ухо. Моя, моя Рада! Мог ли я допустить, когда ты танцевала под “Spice girls” в «Старом замке», а я, оцепенев, пялился на тебя, что когда-нибудь буду делать с тобой такое? Сильнее возбуждения благодарность тебе. И твоей руке на моей ширинке.
Расстегивает пуговицу, тянет молнию вниз. Ей бы меня этому научить. Ведь, Аристотель, сука, такого не напишет. И Платон, мудак, будет тереть о другом. А главное, вот оно – как, ловко спустив штаны, заполучить пульт управления.
Но касается она его не сразу. Сначала поглаживаниями идет вверх, по лобку – и это приятно. Затем по животу – а вот это уже так себе. Воспоминания – клички, издевки, борьба с мамой, еда в унитаз – вторгаются в сознание, стреляя по еще недавнему воодушевлению. Надо целовать, гладить Раду сильнее, чтобы у нее не осталось сил на исследование моего тела.
Втягиваю живот так, что, кажется, раздавливаю позвонки. Но пальчики лезут вверх. К моей совсем немужественной груди. Вот-вот доберутся, и Рада скажет что-нибудь вроде «да у тебя первый размер».
Вздрагиваю. Рада принимает это за возбуждение; когда она научится понимать меня? Беру ее руки, тяну вниз. К паху. Рада приспускает мои трусы, – только не смотри на них, потому что мама обычно покупает в детской расцветке, с львятами или якорьками – вытаскивает член. Играет с яичками. Отталкиваюсь от камней ягодицами; мне кажется, так член будет казаться больше.
Свободной рукой Рада управляется с молнией у себя на джинсах. Двигаясь, точно играясь, стягивает их вниз. Берет мою руку, кладет себе между ног.
«Как теплый яблочный пирог». Нет, скорее, как свежесваренный, остывающий на плите кисель. Моя рука немеет, растворяясь в этом влажном потоке. А Радина наоборот – ходит вверх, вниз по моему члену. Не знаю, кто бы так смог сыграть ноктюрн на флейте возбужденных труб.
– Поиграй с ней пальчиком, поиграй! – шепчет Рада мне в ухо. – О, сладкий!
И эта фраза, словно вырванная из порно, которое мы, пыхтя и волнуясь, смотрели у Пети Майчука дома, пробуждает меня хлесткими ударами по румяным щекам.
Слышу, чувствую, вижу лишь Раду. Нет памятника, огней, кораблей, моря – все прошло, обратившись в прах. Мы с Радой одни, сконцентрировавшиеся на половых органах друг друга. В ощущении того, что заняты чем-то действительно важным и невообразимо приятным.
Возбуждение еще во мне, но уже без благодарности Раде. Первобытное доминирование плоти навсегда расстается с сентиментальной благодарностью души. Да, они будут соседствовать, периодически здороваясь друг с другом, но отношения их станут настороженными, враждебными; ведь им есть что делить, а уступать никто не захочет. Так они и будут сосуществовать во мне, отравляя отношения с женщинами.
– Эй, вы! Чо вы там жамкаетесь, ебаны в рот?
Крик, раздающийся в темноте, ударяет, как нож безумца из толпы; ты еще пытаешься сообразить, что произошло, а кровь уже капает с лезвия. Рада отшатывается. Торопливо, испуганно поправляет бюстгальтер, застегивает джинсы. Я суетливо натягиваю трусы. И, забыв про мастерок, пакет, тяну Раду прочь от крика.
– А, ну, блядь, стойте!
Мы замираем, дальше – обрыв, из темноты выходят четверо. Их легко сосчитать по огонькам сигарет.
– Я же, бля, сказал, суки, не рыпайтесь! Вы охуевшие что ли?
Говорит тот, кто держится чуть впереди. Он в майке «Гражданская оборона». У него коротко стриженная голова с оставленным белобрысым чубчиком.
– Стоим, стоим, – изображая перемирие, поднимаю руки.
И тут же отсчитываю себя за слабость. Потому что с такими надо бить первому.
– Курить есть?
Ну почему все они начинают с этого вопроса?
– Да, сейчас, – руки трясутся, хоть бы Рада не заметила, когда я лезу в карман за пачкой синего “West”.
– Давай в темпе, – выступает вперед патлатый увалень в майке “The Exploited”. “Punk’s not dead”, а вот у меня такая угроза есть. Изъясняется Увалень так же, как и Чубчик, даже голоса схожи. Наконец достаю сигареты.
– Дай сюда, – Чубчик выхватывает всю пачку. – На, братва, табачок!
Двое оставшихся выходят из темноты. Как и на Чубчике с Увальнем, на них черные майки рок-групп: “Sepultura” и «Сектор Газа». Чубчик раздает сигареты. Пацаны мнут их в руках, подкуривают.
– Бля, сука, легкие! – фыркает парень с ленинской бородкой.
– Да уж, – Чубчик отламывает фильтр, – хуевый табачок. Ты чо нам, пидор, туфту гонишь?
Он напирает на меня, отыскав повод для драки. Остальные страхуют сзади.
Я дрался лишь один раз. Если можно назвать это дракой.
Когда мы жили в Севастополе, друзей у меня не было. Чаще всего я бродил по району один, слоняясь между вечно строящимися пятиэтажками, возле которых крутились несчастные, озабоченные люди, потому что достраивались здания редко. Застройщик обычно брал часть оплаты, выкапывал яму, заливал фундамент, начинал класть стены из белого инкерманского камня, а потом исчезал, оставляя конструкцию в качестве издевки над человеческой доверчивостью. В недостроях селились бомжи; оттуда шел дым костров, слышались крики.
Но в этом бесплодном, сломанном пейзаже, где я знал каждую скамью, каждую лестницу, каждое деревце, я находил свою красоту. Исследуя дворы, подворотни, я заходил в недострои; и битое стекло, мусор, дерьмо, сваленные у стен матрасы казались мне открытиями, подобными тем, что совершали конкистадоры. Пожалуй, именно тогда я полюбил другой Севастополь: не тот, что показывают туристам и отдыхающим – с Приморским бульваром, Диорамой, Панорамой, Херсонесом, Малаховым курганом, – а тот, что пахнущими гнилыми арбузами рынками, уродливыми шестигранниками обмена валют, чернеющими взрывпакетами стенами застыл в атмосфере унылой предвечерней хандры. Я полюбил этот город вопреки, а не благодаря. Так жалеют слепого щенка, появившегося не таким, как все, а после привязываются к нему и любят трепетно, беззаветно. Ведь любовь за достоинства скоротечна, а любовь за недостатки – это уже навсегда.
И город, будто чувствуя доверие, открывался мне все сильнее. Как девушка, которую раньше ты видел лишь на свиданиях накрашенной, благоухающей, подготовленной, но теперь она встает по утрам заспанная, растрепанная, с отлежанной щекой или рукой, идет в туалет, делает там свои дела, и ты слышишь, как она их делает, но вот фокус: ваша любовь, вопреки Анатолю Франсу, не убивается звуком сливного бачка, отнюдь – она крепнет, усиливается, и чувство к девушке становится глубже, нежнее.
“Sometimes I feel like my only friend is the city I live in” – это чувство не было тоскливым или печальным. Наоборот, оно втягивало в себя, питая странным, почти божественным умиротворением. Жаль, что оно умерло тогда, когда меня, возвращающегося домой из хлебного, окликнули пацаны с футбольной площадки.
– Эй, Бес! Хочешь с нами в «квадрат»?
Я инстинктивно замедлил шаг, потому что обычно меня называли не отфамильным Бес, а Жиртрестом.
– Бес, ну давай, а?
Это кричал Пашка Сыч. Он был у дворовых пацанов главным. И никогда раньше не заговаривал со мной. Даже издевки, подколки в мою сторону он считал чем-то вроде снисхождения до уровня кухонного таракана, не смеющего появляться, пока все не легли спать.
И я остановился. Посмотрел на них. На красный мяч с полосой “Nike”. На брошенные в жухлую траву «Тетрис» и бутылку оболоневского «Ситро». На салатовые шорты Сявы «Боруссия Дортмунд». И почему-то согласился. Устал, наверное, быть один; проклятая социализация.
В «квадрат» я играл отвратительно, но, видимо, вдохновленный предложением, феерил так, словно прошел ДЮСШ и пробовался в ФК «Чайка». Пацаны стали приглашать меня на море. Мы прыгали с буев и искали рапаны. Но чтобы присутствовать там, среди них, мне приходилось жить по новым правилам, главным из которых было унижать, чмырить слабого. Того, кто оказался на моем месте.
Макаронина жил на первом этаже, через подъезд от меня. Родителей у него не было. Только бабушка, которую я видел лишь один раз.
Я пинал мяч о шершавую стену домовой управы, когда ко мне подползла сгорбленная старуха в буром тряпье.
– Ты Вадика Лапшина не бачил?
Голос у нее был надломленный, тихий.
– Нет! – испугался я, увидев ее.
Бурое пятно отползло в сторону. То, что это была бабушка Макаронины, Вадика Лапшина, я узнал позже. Передвигалась она на доске, переставляя деревянные уступы. Кажется, Макаронина ее очень стеснялся.
Одно время я общался с ним. Нас связывали компьютерные игры. У меня приставки не было, а Макаронина играл на «Сеге», но не такой, как у всех, а на особой, картриджей для которой в Севастополе было не достать. Поэтому рубился он исключительно в «Дюну» и «Соника». Я не играл ни во что и просто слушал его рассказы. Он приглашал меня к себе домой, но я не шел, придумывая нелепые отмазки, хотя, на самом деле, боялся безногой старухи в буром тряпье.
Наверное, Макаронина был неплохим пацаном, но меня раздражал его запах – запах несчастного человека. Ведь несчастье – заразительная болезнь.
И когда я сдружился с ребятами, мне пришлось чмырить Макаронину. Мы поджидали его у подъезда и начинали дразнить. Без особых придумок. Высокий, худой, бледный он неизменно обижался на Макаронину. Увидев нас, он скрючивался неловко вбитым гвоздем и семенил прочь. Но мы не отставали. Я старался держаться сзади и, видя, как издеваются над Макарониной, думал об Иисусе, поднимающемся на Голгофу. Но кричать, поддакивать все равно приходилось. Я хрюкал, высовываясь из-за спин:
– Макаронина! Макаронина!
И мысленно проговаривал: «Вадик, ну переезжай ты в другой район, а, чего тебе стоит?» Но тут же пугался собственной идее, потому что с исчезновением Макаронины в роли затравленного вновь оказался бы я.
Однажды – скорее всего, это было воскресенье, потому что «Останкино» показывало матч чемпионата России по футболу – Макаронина устал терпеть измывательства. Наверное, он выбрал меня потому, что чувствовал того, с кем мог бы справиться. Бледный, с плотно сжатыми губами он ринулся на меня. Толкнул в грудь. Как-то по-детски замахнулся.
Я ответил. Потому что боялся, потому что не хотел быть героем в толпе злых, скалящихся бешеными собаками пацанов. Не ударить Макаронину в ответ значило взвалить на себя его крест и вместо него ползти на Голгофу. Но легче ни ему, ни мне от такого безрассудства не стало бы.
Ударил я так же, как он, вяло, нелепо, бездарно подражая ребятам, занимавшимся в боксерском кружке, располагавшемся в подвале пятиэтажки с вечно текущей крышей (в конце восьмидесятых ее строили советские военные, бодяжа цемент с детскими колготами и мужскими майками, но после краха СССР украинский ЖЭК отказался принимать ее в эксплуатацию).
Да, мы с Макарониной стоили друг друга. Два нескладных вялых дрыща, неспособных даже нормально сложить руку в кулак. Он, наверное, хотел уйти, жалея, что полез в драку, я тоже мечтал соскочить с рукопашной, но пацаны гнали в бой. Надо было бить, но оказалось, что я не мог просто так ударить человека. Мне виделось в этом нечто дикое, безумное, инородное, не свойственное человеческой природе. И я, провоцируя, стал обзываться:
– Макаронина, Макаронина! – А потом, видя, что кидаю оскорбления впустую, добавил: – Бабка твоя – дура безногая!
Он бросился сразу же, и я, опешивший от собственного ничтожества, пропустил удар костлявого бледного кулака. Пацаны заулюлюкали. Их клич, моя боль толкнули вперед, и я очнулся лишь тогда, когда увидел Макаронину, стоящего на коленях.
Пацаны хлопали меня по плечу. Как победителя. А я стоял, не понимая, для чего махал кулаками. И было до шевеления в животе стыдно от того, что я издевался над бабушкой Макаронины. Я презирал себя в том числе и за это. Наверное, не Макаронина, а я в тот момент стоял на коленях.
А через несколько дней пацаны, издеваясь и хохоча, рассказали мне, почему вдруг позвали играть в «квадрат».
– Маманя твоя подошла. Говорит, типа, что это вы мальчики с моим Аркашенькой не играете, не зовете? Он ведь хороший мальчик. Вы его позовите.
– А мы ей: вы деньги нам дайте, мы позовем…
Вряд ли тот опыт драки, как и связанное с ним воспоминание, помогут мне справиться с четырьмя пацанами в черных футболках. Поэтому придется убалтывать, отвлекать их.
– Нормальные сигареты. Сам курю. «Вест», как на «Макларен», знаете?
Мечу, как рыба икру, бессвязные, неуместные фразы, слова. Лебежу, прогибаюсь. Только бы оставили в покое. Мне, наверное, должно быть стыдно перед Радой. За слабость, за трусость, за малодушие. Но страх, застывший в паху ледяным комом, сильнее любых чувств.
– Завали, бля, хлебало!
Чубчик прерывает мои словоизлияния пощечиной. Лучше бы он ударил. Было бы не так унизительно.
– Чо вы тут третесь, а?
– Ебууууууууутся! – тянет невысокий пацан в майке “Sepultura”. Нос его напоминает – или так мерещится в лунном свете? – кукурузный початок: огромный, толстый, весь в каких-то зернистых пупырышках-гранулах.
– А дома теплее, – скалится Чубчик.
– Да как-то…
– Ну, точно: ебались!
– Аркадий! – вскрикивает Рада. – Пошли отсюда! Сколько можно это терпеть?
Она сбрасывает испуг. Тянет меня за руку, хочет уйти.
– А ну стой, сучка! – хватает ее за плечо Кукурузник.
– Пусти, гад! – отбиваясь, верещит Рада.
– Упертая блядь!
Рада вырывает правую руку и наотмашь бьет Увальня по лицу. Пощечина выходит звонкая, хлесткая.
– Сука! – как-то удивленно выдыхает Увалень.
Толкает Раду двумя руками. Она падает на Кукурузника. Тот хватает ее за руки, держит, не отпускает. Рада, скованная выше пояса, старается ударить пацанов ногами. Истерит. Слов не разобрать. Прическа – только сейчас понимаю, для кого Рада так старалась – растрепывается: кучерявые темные локоны падают на сморщенный лоб.
– Э, пацаны, ну, хватит…
Я должен вмешаться. Решить вопрос. Не может быть, чтобы фильмы, на которых я вырос – с Ван Даммом, Брюсом Ли, Чаком Норрисом, Шварценеггером – ничему меня не научили. Тем более, что я так старался подражать их героям.
Мы ездили с отцом в севастопольские кинотеатры. Смотреть боевики. Больше всего мне нравилась «Москва», напротив памятника летчикам. Отец брал меня, чтобы умаслить бабушку, которая уже тогда начала прикидывать, кому достанется дом после ее смерти. Помню, увидев «Самоволку», я начал одеваться, как герой Жан-Клода Ван Дамма, натягивая на глаза капюшон пайты, и зачем-то – видимо, тренируясь – наматывал круги, раскручивая карусель.
Теперь мое время пришло. Сделать «вертушку». Или лоукик. Или ороси гери. Но в реальности, пахнущей морем и страхом, выходит лишь это жалкое «пацаны, ну, хватит».
– На хуй отсюда съебал, придурок!
– А сисечки-то у нее что надо.
Бюстгальтер, с которым я не мог справиться час назад, падает на полынь, переливающуюся в лунном свете. «Желтая луна встает в камышах; есть такое чувство, будто всем нам шах». А следом – и мат. Кукурузник мнет грудь Рады. Она кричит. Кажется, это их возбуждает. Бесполезный крик смешивается с шумом моря.
– Отпустите!
Мой новый призыв звучит увереннее, емче. Но так же безрезультатно.
– Урод, ты чо, блядь, не понял? Съебись отсюда!
Чубчик подходит ко мне вплотную и резко, кивком головы бьет. Он ниже меня, поэтому удар приходится не в нос, как он, наверное, метил, а в зубы. Тупая боль охватывает сперва челюсть, а после отдается в затылке. Связывает, делает трусливым, молчаливым, покорным. Лишь бы не выбили зубы.
Чубчик отвешивает мне поджопники. В другой раз он старался бы лучше – по физиономии, в живот, – но сейчас предвкушает иной пир.
– Съебался отсюда на хуй!
И я делаю то, что он говорит. Шаг, второй, третий.
– Адик!
Я не хочу смотреть на тебя, Рада! Не зови, не надо! Ведь они выбьют мне зубы! Отобьют почки! Или вообще убьют! Ты ведь сама виновата! Дура! Чтобы удивить тебя – не трахнуть даже, а удивить, – нужно было устроить этот крышеснос, притащить непонятно куда, словно нельзя без этого! На хуй такое кино! На хуй! Как там у Оруэлла? К боли нельзя привыкнуть, только к ней и нельзя. Ты ведь сама ко мне подошла, Рада! Тогда, на дискотеке. Ты! Ты! Ты! Я тебя не просил! Не надо!
– Уебывай! Да побыстрее!
Они, наверное, залезли туда, куда Рада сама клала мне руку. Господи, если Ты не просто печатный образ с бабушкиных икон и бумажек, если Ты создал нас по своему образу и подобию, то для чего дал нам инстинкт самосохранения? Разве это моя вина, что сейчас я трясусь не за Раду, а за себя? Моя? Не Твоя?
Рада, ты уже не выкрикиваешь мое имя. Может, устала, сдалась. А может, тебе заткнули рот. Твари! Которые будут ебать тебя. Раком. В задницу. Разложив, как пасьянс, на земле. Только не в рот. Откусишь.
Но я не повернусь, чтобы взглянуть на тебя. Нет, я буду смотреть в звездное небо, надеясь через него отыскать тот самый нравственный закон внутри себя. И, не найдя там ничего, уткнусь взглядом в землю, наблюдая, как семенит ежик. На миг он останавливается, поворачивает острую мордочку в мою сторону. Глядит, фыркает. И высовывает язычок. Вместо того, чтобы инстинктивно – сколько их погибает под колесами автомобилей? – свернуться в защитный клубок.
– Аааааааааааааа!
Этот крик Рады словно прорывается через шумоизоляцию, созданную отчаянием, страхом, трусостью. Бьет децибелами, раздражая кору головного мозга, и кажется, что ежик потешается надо мной. Смеется.
Чтобы не свихнуться, рефлекторно отворачиваюсь от него и вижу – панорама, как на смотровой площадке – дрочащих пацанов. Кукурузник держит Раду, – грудь обнажена – зажимая ей рот. Вижу бутылку из-под шампанского, валяющуюся от меня в нескольких метрах. Вижу, как стыд заставляет меня нагнуться и поднять ее. Вижу, как ускоряюсь, подбегаю к дрочащим пацанам и опускаю бутылку на коротко стриженную голову Чубчика.
Звон, треск, голоса, крики – все сливается воедино. Будто начался самый чудовищный, самый мощный «вертолет», который не остановить, какое положение ни принимай. Пацаны замирают со спущенными штанами. И я сам не могу пошевелиться. Но вдруг удар по щеке. Еще один. Рада вырвалась и бьет меня. По ее губам я читаю: «Бежим».
Мышечные волокна сокращаются, движения начинаются – новая жизнь. Не оглядываясь, бегу вслед за Радой, к лестнице, ведущей на площадь Захарова. Прочь от места, крестившего не Духом, но миром.
Приравнивается к Курту Кобейну
1
На следующий день я онемел, обездвижел. Вставал лишь в туалет. Еду мне приносила бабушка, дежурившая, словно у постели тяжелобольного. В школу, на подготовительные курсы я не пошел. Телевизор все время работал, но я не помню ни одной передачи, которые по нему смотрел. Нечто похожее я испытывал после знакомства с Радой, но сейчас было тяжелее, болезненнее.
Правда, бабушка рассказывала, что я просил «чтение». Этого я тоже не помню, но возле кровати действительно лежали книги – в основном, из серии «Мировая фантастика», которую я упросил купить маму в симферопольском «Букинисте»: Гаррисон, Шекли, Азимов, Хайнлайн, Нортон. Среди них валялась еще одна – в красной мятой обложке: Федор Достоевский «Повести». Тираж 100 000 экземпляров. Издание 1989 года, Кишинев. Подписано в печать 11.12.1988. Я, по обыкновению, проштудировал – в этом была моя чудаковатая радость – выходные данные прежде, чем днем третьего дня мучений взялся непосредственно за текст. В книге было три повести – «Село Степанчиково и его обитатели», «Записки из подполья»», «Игрок».
Я начал чтение по порядку, с воплей Видоплясова. На третьей главе меня скрутило. Я старался отвлечься книгой, но боль не унималась – наоборот, разрасталась, словно тело отходило от действия обезболивающего. Но стоило отложить книгу, и наступало облегчение. Это напоминало дьявольски сладострастную пытку с тридцати шестью оттенками мазохизма. Когда, например, у тебя вызревает фурункул, ты трогаешь его, проверяя, не стало ли лучше, и постепенно втягиваешься, привыкаешь, начинаешь получать от этого специфическое удовольствие.
Когда полковник пытался откупиться от Фомы Фомича, я вспомнил о Раде. Вспомнил, будто очнулся. Пробудился от того забытья, в котором находился последние трое суток. Я должен был найти Раду и… Что «и»? Поговорить? Извиниться? Что?
Лучше всего, конечно, было оставить события у памятника гвардейцам в прошлом, отбросить, вычеркнуть их за ненадобностью. Но вряд ли Рада забыла о том, как четверо ублюдков, зажав рот и заломив руки, дрочат на нее, оголенную, а ее парень – наверное, так она идентифицировала меня – сжавшись, точно сфинктер при диарее, наблюдает за происходящим, не находя сил, воли, решительности, дабы вмешаться. Кем я стал для нее после этого?
В ту ночь – изнуряющий марафон до утра, до рассвета – я алкал милосердия, которое казалось мне превыше чести и справедливости, но сознание жужжащей пилорамой превращало деревья надежды в опилки, которыми, похоже, была набита моя дурная, безмозглая голова. Я мечтал бросить подготовительные курсы, уехать в Севастополь, или в Донецк, или в Харьков, куда угодно. Подальше от обелиска с цифрами «1944», ставшего памятником не только гвардейской армии, но и моей трусости.
2
Спасаясь от проблем, я использовал проверенный метод – не ходить на подготовительные курсы. Но на этот раз, чтобы ни на кого не нарваться, как тогда на Таню Матковскую, я решил в принципе не ездить в Песчаное.
Выходя за шелушащиеся краской ворота, пахнущими навозом улочками я шел мимо взошедших овсом и рожью полей к развалинам автопарка. Его директор ухитрился распродать не только детали и технику, но и стены, раскрошив их на строительные материалы, после чего мотнул к любовнице в Белгород. Российское гражданство он получил раньше, в девяносто четвертом, когда Россия раздавала крымчанам паспорта с двуглавым орлом.
Мы с братом перелезали через ракушечный забор, ограждавший автопарк, прыгали на шиферную крышу, оставляя на рельефных листах узоры трещинок, и спускались вниз. Двор стоял пустой, заброшенный. Бурьян разросся так сильно, что пробил и бетонные плиты, и сваленные покрышки. Здания, из которых голодными до навара псами драли кирпичи, дерево, камень, зияли дырами. И только уцелевший – действительно чудом – остов трактора напоминал, что когда-то здесь ремонтировалась сельхозтехника, на которой работали вечно хмельные и бравые советские люди. Это заброшенное, увядшее место мы с братом Витей предпочитали стадиону «Спартак», где роились, шумели остальные дети.
Но теперь брат в армии, а дети не роятся ни в автопарке, ни на стадионе. Порой мне вообще кажется, что в Каштанах детей не осталось. Эта градация человеческого онтогенеза как бы перестала существовать. Младенцы в Каштанах сразу становятся взрослыми и быстро старятся от нищеты, безработицы, дешевого табака и отсутствия электричества. И мальчишки больше похожи на мужичков, озабоченных не игрой в казаков-разбойников, а мыслями о том, где пробить скважину и пасти корову.
Приходя в автопарк вновь, уже без брата, я прятался в остове трактора от учебы и встреч с Радой. И, высидев положенные три часа, – чтение скрашивало ожидание – полями шел на песчановское кольцо, откуда дорога уходила на Евпаторию, и садился в автобус, делая вид, что возвращаюсь с подготовительных курсов.
Я стал привыкать к такому распорядку вторника и четверга, понимая Канта с его прогулками, всегда начинавшимся в одно время. Мне казалось, что размеренность, определенность создают некое сытое довольство жизнью, которое важнее, весомее счастья.
Но идиллия продлилась недолго – около трех недель. И виной тому – нарушение распорядка. В тот четверг от автопарка я пошел не через поля, а сунулся на стадион «Спартак», зачитался там «Королевой солнца» и решил не идти – да уже и не успевал – на песчановское кольцо, а сесть на ближайшей остановке. И у трассы наткнулся на маму.
Она вышла из новенькой пятиэтажки, единственной в Каштанах. Лепили ее всем селом, хотя строить был должен колхоз, но ему, менявшему бездушные личины ЗАО, ОАО, ЧП, ФОП, было не до того. Не знаю, что мама делала в пятиэтажке. Может, заходила к знакомой из церковного хора. Я не думал об этом тогда под взглядом ее ледяных рыбьих глаз. Мама злилась тихой яростью и смотрела безжизненно, в одну точку.
– Ты что тут делаешь, Аркадий?
– С курсов, – я старался не дышать выпитым пивом, – иду…
– А почему ты здесь?
Ее взгляд выжигал на моем лбу метку. Лгать у меня – тем более матери – никогда не получалось.
Хотя родительский контроль всегда казался мне лишь условностью. Некоей договоренностью, которую люди без возражений с детства принимают на веру. Им говорят слушаться, и они подчиняются. Но, наблюдая, как родитель кричит своему ребенку «иди сюда» или «брось это», я не мог понять – и до сих пор не понимаю, – что движет этим ребенком, что заставляет его слушаться. Разве в этом не присутствует нечто звериное? Так дрессируют собаку, человека же приучают транзакциями. Вот только со временем они перестают быть эффективными, своевременными, а потому детский бунт неизбежен. Оттого страх перед родителями лжив, бесполезен.
Меня же останавливал, смирял иной страх – страх за родителей. Что будет с ними, если я их расстрою? Выдержит ли их здоровье? Я боялся причинить им боль, разочаровать. И эта разновидность страха была самой прочной цепью, стягивающей все мое естество.
– Я не был на курсах, мам, – говорю, точно сдаю кровь, а она, жидкая, бледно-красная, все никак не идет, и потому руки в стерильных перчатках мнут, давят палец.
– Как не был?
Мама уже не сверлит взглядом мой лоб. В ней становится больше жизни, но жизнь эта неправильная, злокачественная, как водоросли-паразиты, разрастающиеся в озере от жары и превращающие когда-то чистый водоем в болото.
– Почему не был?
Левая щека мамы дергается. Но все-таки она – маленькая, худенькая, больше похожая на беззащитную девочку, нежели на взрослую женщину, кое-как, но воспитавшую сына – сдерживает себя:
– Дома поговорим, идем…
Мы едем в рейсовом автобусе молча. И эта тишина, невидимая звукоизоляция между нами, по закону противодействия рождает во мне ярость, протест, непонимание.
Ну, не пошел я на курсы, и что? Почему я вообще должен ходить туда? Это ведь не моя инициатива! Это ты, мама, хотела! Ты! Так сама и ходи туда!
Я злюсь так искренне, глубоко, что стоящий рядом горбоносый татарин с лицом человека волевого, но не определившегося, отшатывается.
Бабушка, увидев меня и маму, радуется, что поспели аккурат к свежеприготовленному борщу. Еще горячему. Бабушкин борщ мне неприятен. Когда ешь эту вязкую красную массу, кажется, что облизываешь сковородку с растопленным смальцем, который бабушка, несмотря на мои протесты, добавляет в выпечку. Впрочем, сейчас я готов есть и это. Лишь бы не говорить с мамой!
Но она, отвергая борщ, сразу же зовет меня в комнату, где густым черным дымом чадит лампада. Мама тушит ее и говорит, вычерпывая душу:
– Ты понимаешь, чего нам стоило отправить тебя на курсы, сынок?
Это ее «сынок» похоже на котенка, мяукающего под холодным ноябрьским дождем. Решительность, аргументация, претензии, которые я гневно манифестировал про себя в автобусе – все то, на чем хотел возводить оборонительные стены, за которыми мечтал укрыться, рушится. Жалостливые интонации в мамином голосе мощнее иерихонской трубы.
– Я заняла денег у подруг…
– У тебя нет подруг! – выплевываю я нарочито грубо. И сразу тушуюсь.
– У Зины Семеновой, у Лены Бородавкиной, у Светы Пономаревой, – она для чего-то, словно переубеждая меня, перечисляет тех, с кем поет в хоре, этих несчастных, замученных Божьим устроением женщин, – только бы ты учился…
Мама всхлипывает. Наверное, хотела устроить разнос, но не смогла. Так велика ее обида. Удушливая, едкая, стойкая, как запах польского дихлофоса, которым мы травили муравьев в хате, а после три недели держали открытыми окна.
– Мам, ну, просто не пошел. Ну чего ты?
– С кем ты связался, сынок?
– Да ни с кем, мам, просто… – ищу слова, хочу успокоить, но в столь нужный момент они разбегаются по самым дальним углам.
– Просто – что? Ведь мы с бабушкой все делаем, чтобы тебе хорошо было…
И вдруг я взрываюсь – запоздалый эффект автобусной подготовки, – переходя на отчаянный в своем клокочущем бессилии крик:
– А мне не хорошо! Я недоволен! Мне не нравятся ваши курсы! Ваши предметы! Ваша учеба! Вы мне с отцом, – от его упоминания мама вздрагивает, – другое обещали! Не хочу, не хочу!
– Но ведь мы… вместе… думали, как тебе будет лучше…
– Вы думали! Ненавижу! Проклятая жизнь! Проклятая!
С восьми лет, наверное, это фраза превратилась в подобие моей мантры. Тысячи грамотных и не слишком психологов учат позитивным установкам вроде «я люблю и одобряю себя» или «моя жизнь прекрасна». Что ж, я придумал им достойный ответ. Стоит ли удивляться тому, что со мной происходит?
– Не говори так, сынок! Это большой грех! Не говори!
– А не грех отправлять сына туда, куда он не хочет? Это не грех?!
– Мы же ради тебя, ради твоего будущего…
– Нет у меня будущего!
Выкрикиваю уже не без манерничанья. И для острастки, питаемый дьявольским куражом, рисуюсь перед иконами; Христос кажется мне измученным стариком:
– Проклятая жизнь, проклятая!
Лицо мамы сереет. Верный признак того, что ей плохо с сердцем. Она протягивает руку. Больная старая женщина, которая, будто в плохих сериалах, хочет достать лекарство, но не может. И вся моя инфернальная бравада, совершенная здесь и сейчас с вулканизирующим провинциальным апломбом, вдруг кажется мне дурной, неуместной пустышкой. Тпру, лошадка, погодь! На5 тебе по хребту вожжами!
«Не предавайся греху и не будь безумен; ибо для чего тебе умирать не в свое время?» Тебе, мама, я верю даже больше, чем Соломону.
Ищу корвалол. Его резкий запах – и еще вонь навоза – преследует меня с детства. Вечные сорок капель. Симпатичное название для повести, которую я когда-нибудь напишу, мама. И ты будешь гордиться мной. Ведь только для того ты и живешь. Даже отец, наведывающийся выпить, опохмелиться, пожрать, прихватить железяку, из той же когорты верящих в меня.
Это давит, гнетет. Потому что богом стать просто. А вот быть им куда сложнее. Я знаю, что говорю. Ведь с детства вы обожествили меня. Вознесли на алтарь, принесли подношения. Все ради, все для, все во имя Меня. Но каково мне жить с этим? Вы подумали?
– Если хочешь, то давай пробовать в медицинский, сынок. – Помогаю маме перебраться на кровать. Хочу накрыть простыней, но в этом движении есть что-то из морга.
– Нет, мама, я буду ходить на курсы, все будет хорошо. Ты не переживай! Да и деньги заплачены, мам.
– Бог с ними – с деньгами, – старается улыбнуться. Получается жутко – как судорогой пробило.
В ней столько жертвенности, готовности жить ради меня. Наверное, поэтому я должен называться счастливым человеком, но, по правде, мне тошно от подобных проявлений маминых чувств. Слишком обязывают.
Я никогда не был близок, доверителен с матерью. Сколько бы она ни старалась. Возможно, женщина и, правда, дает лишь тело, а отец – душу. В таком случае я уродился в Алексея Савельича Бессонова с его развязной веселостью, чередующейся с приступами черной депрессии, во время которой он и зачал меня.
– Я доучусь, мама!
Говорю эти слова не для себя – для нее; внутренне содрогаясь, корчась. Хотя, возможно, это лишь реакция на корвалольный запах.
3
Связанный обещанием, пропитанный решимостью, я ехал на автобусе в Песчаное. Шел от остановки. Поднимался на второй этаж школы. И внутренне подбирался в ожидании Рады.
Но ее не было: ни в коридоре, ни в кабинетах. Странно, я так боялся встретить ее, смотреть в глаза, беседовать с ней, но когда не увидел – расстроился, сник. Наверное, проблема заключалась в том, что я хотел услышать приговор сразу, а не растягивать его.
Математику, физику я отсидел в мыслях о Раде, предугадывая ее будущие слова, репетируя свои ответы. Видимо, тяжкие, грузные мысли проецировались на лицо, потому что учителя смотрели на меня с жалостью и не вызывали к доске, хоть я и пропустил занятия. Калдаева даже оставила меня после физики и спросила, не слишком умело, может ли она чем-то помочь.
А на выходе из школы меня ждал Квас. Я узнал его по футболке с бледно-зеленым портретом Курта. Под героиновой тоской глаз, переходящей в суицидальную улыбку, значились даты: 1967–1994. Я подумал о том, что, в сущности, Курт прожил достаточно. Двадцать семь – почти бесконечность. Не факт, что я дотяну.
Да, я узнал Кваса, мы не отметили с ним день гибели Курта, именно по футболке – то, что было выше и называлось лицом, мутировало, трансформировалось, будто он, как Итан Хант, натянул на себя маску другого человека. Квас отстриг светлые до плеч локоны – он считал их под Курта, но в них скорее было нечто девчачье – и оставил миллиметровый ежик, почти незаметный на его бледной коже. Зато теперь на его лице путалась, вилась, топорщилась растительность, похожая на прибитые к земле ливнем сорняки. Это была совсем юношеская, даже мальчишеская поросль настоящего фрика, поверх которой блестели, как стразики в летних шлепанцах, воспаленные глаза, устремленные поверх или сквозь того, на кого они рассеяно устремлялись.
Вместе с этой чудаковатой рассеянностью лицо Кваса приобрело сумбурное, нервное беспокойство. Казалось, что за время нашего расставания он окончательно уяснил для себя базовые вещи, определился с целями и теперь боялся не успеть жить.
Квас не узнал меня, но когда я подошел, обрадовался и полез обниматься.
– Аркада, Аркада, – он придумал мне новую кличку, – где ты был, друг?
– Квас, да это как бы, – я ошалел от его вопроса, но еще больше от поведения, – тебя не было.
– Ладно, чего уж там. Как дела, братан? Ну, рассказывай, чо да как…
Он болтал нетерпеливо, жадно и еще более нетерпеливо подталкивал меня то в плечо, то в спину, то в бок. Я не мог привыкнуть к этому новому взбудораженному Квасу, хотя ждал, надеялся на встречу с ним. Многое надо было рассказать, поделиться, выплеснуть. Но он, обычно вдумчивый, молчаливый, не давал мне вставить и слова. Точно никакой это не Квас, а лукавый бесенок, прикинувшийся им.
Успокоился, поверил я лишь тогда, когда он привычно нагрузил зубы работой. Правда, грыз он уже не шариковые ручки с синими колпачками, а желтый карандаш с надписью “KOH-I-NOR”. На его кончике раньше, видимо, была резинка, но Квас свернул ее, как пробку с бутылки водки, и осталось лишь металлическое основание, царапающее эмаль зубов.
– Что делал? – отвечал Квас на мои дежурные для подобной сумбурной встречи вопросы. – Читал, много читал. А еще думал. О женщинах, в основном. Как у тебя с ними, а?
– Да не особо, но вот, знаешь, я как раз… – не ожидавший столь резкого перехода, но желавший спросить совета о Раде, я стушевался.
– Ну вот и хорошо, что не особо. Все женщины – ведьмы! Знаешь, как ведьму отличить? У нее есть пятно. Размером со сливу примерно. Я тут, кстати, пока тебя ждал, видел одну. – Квас закуривает. Зажигалка у него новая – бензиновая, “Marlboro”. – Чистая ведьма!
– Это кто?
– Кучерявая такая, смуглая. То ли цыганка, то ли татарка. Те сволочи, знаешь какие? Правильно их Сталин в сорок четвертом выслал.
Квас отпускал подобные замечания о крымских татарах и раньше, но сейчас у него выходит особенно зло. И я вспоминаю покойного деда, который тоже очень любил дискутировать с соседом, Филиппом Макаровичем – разбитым артритом, расшатанным стариком, изо рта которого торчали редкие, в поставленных при советской власти золотых коронках зубы – о крымско-татарском вопросе. Больше татар Квас не любил, пожалуй, лишь панк, сколько бы я ни доказывал, что “Nirvana” вышла из панк-рок идеологии, и Курт, например, очень ценил “Black flag”, хотя и считал Генри Роллинза слишком мачо.
– Ну, так вернулись, и толку?
– Что толку?
– Толку выселять было, – меня раздражает эта дискуссия. – Если народ хочет жить на земле, то он будет жить на ней. Ты смотри, сколько они боролись, чтобы вернуться сюда: голодали, поджигали себя…
– Молодцы какие, еб твою мать!
– Кстати, – я по памяти цитирую Филиппа Макаровича, – протест их всегда был внутренний, направленный исключительно на себя, а не во вне. Они уничтожали себя, а не окружающих.
– Флаг им в жопу за это! – Квас останавливается, злится.
– Да при чем тут? Просто русские, – я говорю это, чтобы позлить его, – никогда бы так не боролись за свое возвращение, а татары боролись.
– И на хуй они нам тут нужны? Это что их земля? Тут храмы находят православные средних веков, которые они, суки, разрушили! – Щетина его топорщится еще сильнее, будто наэлектризованная. – Какого хуя ты их защищаешь?
– Я их не защищаю, – хочется курить, но просить сигарету у такого Кваса боязно.
– Они знаешь, – он будто и не слышит меня, – что в сорок третьем хотели сделать? Всех русских вырезать на хуй за одну ночь. Гитлеру предложили. А он им – нет, ни хуя. Типа на хер они такие нужны, если своих предали, то завтра и его предадут. Вот какие они, – Квас сплевывает, – твои друзья блядские!
Нет смысла возражать. Не знаю, что он читал, раз так проникся, но лучше смолчать.
Возможно, нелюбовь Кваса к татарам чисто бытового свойства. Он рассказывал, как жил в Чистеньком, под Симферополем, в частном многоквартирном доме. Туалет был на улице, но соседи-татары испражнялись прямо в ведро и вываливали его во двор, в яму.
– Ладно, хуй с ними, – не выдерживает Квас. Помню, в детстве была такая игра: «Кошка сдохла, хвост облез – получился Анкл Бенс. Кто первым заговорит – тот и съест». Так вот знай, Квас, ты проиграл. – У тебя-то как?
– Да, в общем-то, – я вновь теряюсь, путаюсь в словах, – как всегда. Все думал, куда ты пропал после нашей охоты на нетопыря…
– Рассказываю же – читал. Копил знания, силы. А нетопырь – это не мое…
Он взмахивает рукой, точно прощается с прошлым. Усаживается на бетонный парапет возле ржавой сетки, за которой начинается пустырь детского лагеря. Готовые декорации для съемок «Пятница 13-е». Кто нацепит хоккейную маску? Деревянные треугольники летних домиков шелушатся вспучившейся краской, зияют дырами отошедших трухлявых досок, а между ними в зарослях вездесущего бурьяна и в грудах поваленных веток все никак не сгниют пластиковые бутылки, стеклянные банки, полиэтиленовые пакеты, брошенные год, два, три, а может, больше назад. У ближайшего к нам домика, напротив которого, едва не у выхода, разросся орех, на стенке висят разбитое зеркало и дырявый умывальник. Лагерь пустует. Сельские дети и в лучшие годы отдыхали здесь по путевкам, а сейчас, когда профсоюзы, колхозы распались, их нет.
– Ладно, давай сначала за встречу, а дальше про нетопырей…
Соглашаюсь охотно. Но не вижу у Кваса культовой красной сумки. Он, будто читая мысли, ухмыляется:
– Не, Аркада, я сейчас водяру не пью. Вот, – достает из кармана пластиковую пол-литровую бутылку из-под «Крымской» минералки. В ней – мутная, с зеленоватым оттенком жидкость. – Эта штука получше будет.
Квас взбалтывает, открывает крышку, делает глоток. Протягивает мне.
– А что это?
По запаху – ацетон с травами.
– Это самогон, – я морщусь, – но, – Квас лекторски поднимает указательный палец, – особый самогон! На полыни, мой друг! Пей, в общем, не выебывайся. Иди навстречу.
Делаю глоток. Спиртового привкуса нет. Собственно, вкуса вообще нет. Но вот резкий, специфический запах – так пахнет в маминых шкафчиках на кухне – невыносим: сначала ударяет в нос, а после заполняет все нутро так, что хочется проломить в себе дыры лишь бы пустить воздух, проветрить. Широко, жадно, рыбой на берегу, глотаю воздух.
– А я тебе что говорил. – Квас, похоже, видит ситуацию иначе: – Прелесть! Только с таким и можно ходить на курву.
Он по-собачьи щелкает челюстями и для полноты картины привывает.
– Курва дикая, но мы справимся!
Его «мы» действует на меня сильнее, чем запах полыневого самогона. Вспоминаю нашу охоту на нетопыря. Глупую, нелепую, но вместе с тем жуткую.
– Что за курва?!
– Курва – это ведьма. Курвы оживают ночью. Как оборотни. Но это не оборотни. Нет, блядь, это хуже…
Он рассказывает, но я не слушаю. А когда замолкает, то глаза его сразу же потухают, не блестят – апатичны, безжизненны. Как две пуговицы у дешевой игрушки.
В сериалах вроде «Беверли Хиллз 90210» друзья помогают друг другу. Если Дэвид Сильвер или Дилан МакКей – сериал-то американский – вляпались в дерьмо (fucking shit), то Брендон Уолш и Стив Сандерс обязаны их спасти. Вот и я должен помочь Квасу. Он сломан, испорчен. Все эти истории про нетопырей и курв точно паразиты мозга в его голове.
– Аркада, просто я не за тем охотился! Нетопырь – он же хоть и оно, как у Стивена Кинга, но изначально мужского рода. А я больше по бабам. Слышишь? Аркада!
– Подышишь, – меня начинает трясти от его бреда. – Квас, что ты несешь? Господи, где ты всего этого набрался?
– Чего всего? – он произносит это по слогам. Как бы не понимая. Или не как бы? – Я думал, тебе будет интересно. Думал, мы, блядь, одна команда…
Я так ждал, когда мы встретимся. Поговорим о “Nirvana”, “Queen”, “Scorpions”, разопьем бутылку «Первака», которую Квас достанет из красной сумки, а после я расскажу ему про то, что случилось со мной, пока его не было. Но это другой Квас, превратившийся в того, кого он хотел поймать. Общаясь с ним, приходится бороться с чувством, какое обычно испытываешь, когда на улице или в транспорте к тебе пристает юродивый («Покайтесь, грешники! Дьявол идет за вами!»), проповедующий о жидомасонах, апокалипсисе, Содоме и Гоморре. От него отвратительно – так, что рядом с ним не переживаю, как пахну я, – смердит мочой, перегаром, ливерной колбасой. Яростная физиономия либо изможденно-костлявая, либо распухшая, водянистая, а руки с ногтями вурдалака покрыты гнойничками и ссадинами.
– Ты не вдупляешь! Это курва!
Как я мог сойтись с этим человеком? Но ведь он был другим. Да, аутичным, замкнутым, чудаковатым, но относительно – на моем-то фоне – адекватным. Без очевидных патологий. Он решал на контрольных математические задачи, не уделяя им времени и внимания, решал блестяще, легко, но теперь кишит бреднями о курвах и нетопырях, как больная свинья червями, и они выедают, уничтожают его изнутри.
– Я думал, мы друзья…
На десять его шизоидных фраз – одна нормальная. Пусть. Но в этом он прав: мы друзья! Хотя бы потому, что он считает меня таковым. Уже за это я должен быть ему благодарен. Да, мы друзья. Как Брендон и Стив в «Беверли Хиллз».
Друзья не бросают друг друга. Эта мысль песнью победителя разносится по моему сознанию. Клокочет, бьет в колокола, изгоняя бесов сомнения и уныния, делает сильным. Я испытываю к Квасу чувство даже более сильное, нежели привязанность или дружба, – ответственность.
– Да, мы друзья, Квас. Объясни, чего ты хочешь.
– Конечно, конечно, – он пунцовеет, – вечером, сегодня, да-да, все объясню. Мы же идем сегодня вечером? На курву. В Угловое. Ты со мной?
Я знаю правильный ответ, но говорю, как всегда, иное.
4
Отпрашивался я долго, но не так нервно как обычно (успокаивал вариант с исчезновением через окно). Бабушка – мама неожиданно уехала в командировку, – реагируя на мою просьбу, смотрела цепко, но в этой цепкости присутствовала не агрессия, вызванная извечной паникой за меня, а естественное желание понять, разобраться, почему ее внук хочет прийти домой позже обычного. Она улыбнулась, и ощущение было такое, словно ее глубоко прочерченные морщины подмигнули мне.
– Что, Аркаша, подружку нашел?
Этот ее вопрос, в котором не было ни грубости, ни вульгарности, а лишь участливость, интерес, вдруг родил во мне отторжение, столь мощное и яростное, что я вместо привычной застенчивой увертливости сорвался на раздражительный крик:
– Нет! А тебе какая разница?! – крикнув, я и сам испугался, но следующая фраза – скорее всего, подсознательная – объяснила мою реакцию. – С вами разве найдешь?!
Бабушка всплеснула руками, но что сказать дальше, похоже, не знала и лишь кивнула, соглашаясь то ли со мной, то ли с отсутствием у себя аргументации, подводя итог нашему экспресс-диалогу из тех, что бесцельно возникают между детьми и отцами вот уже много лет.
Меня отпускали на вечер. Злость рассеялась. Я ощутил благодарность, после которой охота на курву уже не казалась столь бессмысленной, потому что в ситуации, ей предшествующей, было нечто, ухваченное от взрослой жизни, еще не прочувствованное, чужое, но уже перспективное, обнадеживающее, с намеком на перемены. И я начал готовиться.
Нашел, по совету Кваса, самый дешевый одеколон. С как можно более резким запахом. На такие запахи, объяснял Квас, и сбегаются курвы. Они видят в этом нечто дикое, концентрированно мужское. На пыльном флакончике, найденном в гараже на полке с шурупами, алела пятиконечная звезда и размашистые витиеватые буквы складывались в название «Офицерский» (дед выговаривал «ф» как «хф», и я решил называть одеколон на его манер – «Ахфицерский»). Свинтил крышку, понюхал. Неудивительно, что офицеров у нас уважают все меньше.
Вооруженный одеколоном и шишковатым кабачком, – о его функции в охоте на курв Квас умолчал – я погрузился в рейсовый автобус на Угловое. Тот шел порожняком, и я составил компанию водителю, рыжеватому Арсену, у которого около месяца назад – об этом судачила вся деревня, сплетая домыслы в шипящий клубок, – убили жену.
Ее звали Эльвира. Она торговала люстрами, бра, осветительными приборами. В павильоне «Светлый дом», воткнутом между ларечными будками «Мясо» и «Хозтовары». Ржавые ставни «Хозтоваров» всегда были закрыты (хозяин то ли уехал в Симферополь, то ли повесился), а вот мясом – говядиной, бараниной, птицей, свининой, соевыми монстрами – торговали исправно, раскладывая особо аппетитные, по версии продавцов, куски на сосновых досках у входа. У Эльвиры же покупателей в павильоне не было; кому в деревнях нужны бра?
Не было у Эльвиры и того, что принято называть семейным счастьем. Она всегда была слабым звеном – голос Марии Киселевой обязателен – в их с Арсеном паре. После того как ее нашли растерзанной, изнасилованной, проползшей несколько сотен метров и добитой в овраге, сочувствовали все равно мужу: он работящий, не пьющий, а она – алкоголичка, шалава, дрянь.
Эльвира и, правда, выпивала. Несколько раз я сам видел ее, глупо ухмыляющуюся, в автобусах и маршрутках. Сонные глазки, широкий, чуть ли не до безобразия, рот и крашенные в темно-каштановый волосы, собранные в так называемый конский хвостик.
Говорят, она возвращалась с севастопольской дискотеки в бухте Омега; этот район стал в городе чем-то вроде нового «Хребта беззакония», располагавшимся до революции на Центральном холме города. Кругом – заросли, недострои, кабаки, пляж, на который за ночь море наносило липкие водоросли, а гуляки – презервативы, бутылки, шприцы, окурки. В кабаке «Тройка» Эльвира познакомилась с матросами-срочниками. И согласилась – так говорят – прогуляться с ними до ближайшего недостроя. Но уже там, видимо, передумала и хотела уйти, а вот матросы из Военно-морского флота России своих эрегированных намерений не оставили. Изнасиловали и, проломив череп, бросили умирать. Наверное, в полной уверенности, что татарская блядь не выживет.
Но она выжила. Выбралась из недостроя и стала ползти. По репейникам, по стеклу, по камням. Чтобы наткнуться на бомжей, ночевавших в заброшенном строительном вагончике. Те действовали надежнее, чем матросы. Эльвиру нашли в овраге, раскинувшейся у пыльных кустов ежевики. Между ее ног торчала водочная бутылка.
Впрочем, последний факт взят из газет, вышедших со статьями о том, как российские военные насилуют крымских татарок. Так что, может быть, историю приукрасили, paint it black.
«Всего бы этого не было, – сказал мусульманский деятель, – если бы семья Исмаиловых, Арсен и Эльвира, жила по религиозным, а не по светским законам. С правоверными, – продолжил мулла, похожий бородкой и взглядом на Керри Кинга из “Slayer”, – такого не случается».
Возможно, сейчас Арсен исправился. И стал молиться Аллаху. Не знаю. Я вижу лишь одно изменение, внешнее – у него больше нет безымянного пальца на правой руке.
5
Квас опаздывает – редкость, – и мне видится в этом недобрый, как пишут в классических романах, знак. К тому же я забываю купить сигареты, а в пачке красного «Веста» осталась только одна – сломанная. Пытаюсь склеить ее. Наконец Квас появляется – собранный, напряженный. И, кивнув, молча ведет куда-то. Со стороны, наверное, мы выглядим, как два революционера, встретившихся, чтобы метать в царя гранаты.
Идем дворами, садами. Небеленными, заброшенными. По размокшим после вчерашнего ливня дорожкам, заваленным мусором и листвой. Сворачиваем на узкую тропинку, втиснувшуюся между деревянным забором и заболоченным ставком. Пахнет залежалыми, взопревшими листьями; пытаюсь вспомнить что-нибудь из Розанова.
– Блядь! – вдруг кричит Квас, и вроде бы пойманная цитата вырывается из моих, выходит, не слишком цепких мысленных лап.
– Что случилось?
Вопрос поспешный – ведь ответ очевиден: из левого плеча Кваса течет кровь. Военная, под брезент рубашка с нашивками “Dead Kennedys” и “Soundgarden” разодрана. Края дыры влажнеют, окрашиваясь в красный.
– Ебаны в рот!
– Гвоздь!
– Охуеть, ты следопыт! Я-то, сука, не понял…
Из трухлявой доски забора, что, как переваренное мясо, рассыпается на волокна, торчит ржавый гвоздь. Острием наружу.
– Надо смазать йодом.
– У тебя есть? – Он зажимает рану. Я машу головой. – Ну так чего предлагаешь?
– Найдем аптеку.
– Где тут найдешь?
– Давай вернемся, – меня начинает злить это его «отрицаю, но не предлагаю».
– Времени нет – курва. Да и, – он задумывается, – уже ладно. Пошли!
Я злюсь на его беспечность. Злюсь на свою неубедительность. Но иду. И делаю это как никогда осторожно. Тропинка выводит в очередной сад.
– Миндаль, советую, – Квас по-плантаторски обводит местность рукой. – И никто не собирает.
– Значит, мы соберем. Когда?
– Во второй половине лета, – он вдруг морщится.
Через миндалевый сад выходим к непаханному полю. За ним – вереница низких бело-голубеньких домишек. Слышно, как лает хриплая псина. Тянет запахом гари.
– Нам тот, что с краю, – Квас говорит отрывисто, деловито, глядишь, вот-вот натянет на голову черную маску, – идти будем по одному. Сначала я, потом ты. Забор невысокий, металлический, с дырами, так что удобно ногу поставить и перелезть.
– Хорошо.
– Собаку я беру на себя.
– Хорошо, – вновь соглашаюсь я. И тут до меня доходит. – Стой! Какая на хер собака? Мы что в дом полезем? Ты сдурел, что ли?
– А что? – взгляд Кваса устремлен в сторону дома, с которого начнется моя карьера взломщика (возможно, Лоренс Блок про это напишет).
– Да ничего! Кроме того, что это преступление!
– А ты, Аркада, думал, что мы тут клопов травим? Это курва, понимаешь?
Я вновь киваю. И вновь кляну себя за бесхребетность. Курва мне видится все более и более реальной, словно по мере нашего приближения она материализуется, как суккуб.
– Хочешь, – глаза Кваса нехорошо, совсем нехорошо блестят, – уходи!
– Да куда тут…
Досада в моем голосе кажется слишком явной, и я стараюсь придать ему уверенности:
– Не обоссусь!
– Ну, смотри, – Квас первый раз смотрит на меня, а не куда-то в сторону, – тогда двигаем по моей команде.
Я не успеваю спросить, по какой именно команде – он уже, пригибаясь, бежит к дому. Заигрался парниша. А я ему – в помощь, бирюльки двигать. Еще не стемнело, только наползают первые сумерки.
– А собака? – на месте для чего-то решаю уточнить я.
– Была докторская – стала любительская, – смеется Квас, и в его искреннем, обычном для подростка, смехе я узнаю того парня, с которым мы, идя на подготовительные курсы, познакомились на ступеньках песчановской школы.
Вернись, друг, не бросай меня, но он ставит ногу в дыру на заборе – необычную: в форме растянутой звезды – и перемахивает на ту сторону, в грядки с редиской, торчащей длинными зубчатыми листьями. Я лезу следом. Не так резво, но с тем же эффектом.
Двор небольшой, с правой стороны – огород, с левой – бетонированная площадка. Из собачьей будки торчит кусок ржавой цепи, но собаки не видно.
– К окну спальни!
Слова Квас подтверждает движением пальцев. И вопрос, конечно: откуда он знает, где в этом свежепобеленном доме спальня. Но тем не менее безошибочно определяет.
Глядя на то, что происходит внутри комнаты, обставленной старой, громоздкой мебелью, с узорчатыми коврами, развешанными, по советской традиции, на стенах, я выдаю:
– Подгадали!
– Нет, – ухмыляется Квас и тыкает себя в лоб, – все тут. Шли навстречу.
Предпочитаю не комментировать его телепатические способности. Тем более, что наблюдаемая картина – в этом молчании большая подмога. На разложенном диване, застеленном бежевой простынею с узором разбросанных зеленых долларов, сидит взрослая, несколько перезревшая женщина в нижнем белье, которое принято называть сексуальным. Впрочем, это лишь бесполезный ярлык, реальности не отражающий, потому что смуглое тело ее обрюзгло, слежалось жировыми складками, видными даже отсюда, через окно. Черные волосы коротко, по-мальчишески стрижены, и узенькие полоски висков ползут вниз.
Но когда она встает – я вижу, за что ее все еще можно хотеть: крепкие мускулистые ноги. Мышцы играют под смуглой кожей, когда она тянется, разминая спину, стоя в черных туфлях на длинной стальной шпильке.
Дыхание Кваса учащается. Боковым взглядом смотрю на него. Челюсти стиснуты, и я понимаю, что его напряжение иного, не сексуального, рода.
Курва – это же она? – гуляет по комнате. От дивана в долларовой простыне к покосившемуся шкафу, на полках которого за стеклом стоит посуда: хрустальная, фарфоровая, керамическая. Так, во всяком случае, мне кажется. Я вижу фото в золотистых рамках, затесавшиеся между бокалами, салатницами, тарелками, рюмками, но рассмотреть, кто, что на них, не могу. Стекло, в которое я по-щенячьи тыкаюсь, липкое, мутное, с желтым налетом по краям, у него точками дуреет первая мошкара.
Женщина выходит из комнаты. Дверь не закрывает.
– Готовься, – шипит Квас, – начинается.
Курва возвращается. Не одна. За ней на поводках ползут двое. Первый – худой, безволосый, с будто неживой кожей. Второй – жирный, с отвисающими боками и волосатой спиной. Женщина держит крупную ярко-оранжевую морковь. Держит над собой, будто Фернандо Йерро Кубок чемпионов. Руки ее задраны, и на бритой подмышке чернеет пятно размером с крупную сливу.
– Ты видел?
– Ага, – понимаю, что Квас говорит про пятно.
– Я тебе что говорил? Курва!
Слава богу, темнеет. Луна робкая, чахоточная. Слава бездействию сельсовета, фонари на улочке не горят. Теперь нас не так просто заметить. Впрочем, пройди кто по дорожке у дома, и обязательно увидит. Но сказать: «Валим, Квас», – схватив его за руку, утащив прочь – на это смелости определенно нет.
Курва загоняет мужиков на диван. Задницами в свою, а, значит, и в нашу сторону. На лысом – черные плавки, на жирном – клетчатые трусы. Поворачивается – так резко, что мы едва успеваем пригнуться, – идет к столу. Что делает дальше – не видно. Мы сидим, насилуя позвоночник, изображая рыболовные крючки. Наконец жестом Квас показывает мне – посмотри, проверь, что там. Я гримасами отвечаю – сам посмотри. Он хмыкает, медленно поднимается, кивает – порядок. Курва, видимо, подходила к столу, чтобы зажечь две коптящих свечи.
– Пошли, – глухо доношу Квасу единственно верную мысль.
Но он не понимает ее смысла:
– Рано, залезем, когда она усыпит их, чтобы оплести паутиной.
– Паутиной?
– Липкая сеть…
– Блядь, – перебиваю, – я знаю, что такое паутина. Что за херня?
– Ты читал рассказ, как один мужик наблюдал за самкой паука в человеческом обличье, живущей напротив?
– Нет.
– Так вот…
– У нас есть время говорить об этом?
Не сдерживаюсь, говоря эту фразу, кричу. Женщина поворачивается. Мы вновь успеваем пригнуться. Вдавливаемся в траву. Сейчас курва подойдет, высунется из окна и – сначала мы отхватим по физиономии от лысого и жирного, а после – сядем на пятнадцать суток в участок к Семе Рогочему. Но в затянувшейся паузе длиною в дробь, где в знаменателе ноль, разоблачительный лик женщины так и не появляется. И мы снова возвышаемся над укрытием.
Морковка погружается в задницу одного из мужиков. Отвратительно смотреть на это. Но еще отвратительнее наблюдать за тем, как происходящее воспринимает Квас. Бредящий, воспаленный.
– Идем, Юра!
Первый раз называю его по имени. Как ребенок отца, тяну за рукав военной рубашки. На этот раз Квас понимает меня правильно.
– Зассал перед курвой-то?
– Какая курва, Юра? Ты совсем ебнулся? Это обычная блядь! Ебаная-переебанная!
– Курва и есть блядь, – Квас вдруг начинает объяснять, – в переводе с польского. Но она же и есть ведьма. Иначе для чего ей вот этот череп?
На нижней полке длинного шкафа – я-то заметил исключительно посуду, вот оно, женское воспитание – и, правда, лежит отполированный, как мне кажется, череп. Лежит небрежно, словно его кинули, не придав значения.
Квас достает из рюкзака шприц-двадцатку. В нем ярко-желтая жидкость.
– Что это?
– Фурацилин с формидроном.
– Юра, – мне надо не просто подбирать, а селекционировать слова, – не может быть все это абсолютно всерьез. Нетопырь – да, но эта женщина…
– Курва!
– Хер с ней с курвой, – наконец собираюсь я, дабы адекватно, логично мыслить, – но что мы будем делать с двумя мужиками?!
– Слушай меня, Аркада, – руки Кваса дрожат, – и слушай внимательно. Ты мне друг, но если ссышь, то уебывай! Хуй с тобой, но я должен поймать курву! Я должен идти навстречу.
Это похоже на монолог из дешевого фильма, чей сценарий наваял юный писатель, на которого всем плевать, вот он и решил сменить жанр. Но в этой вопиющей банальности есть проступающий каплями страха, стучащийся из погреба воспоминаний смысл. Который необходимо понять, точно проговоренную сотни раз историю, и для этого надо быть рядом.
– Я не уйду, Квас. – Определенно, мы смотрели слишком много фильмов, притом не самых хороших фильмов.
– Ладно.
– Как ты собираешься ловить курву?
– Не могу рассказать, иначе магия пропадет.
Господи, он так и говорит – «магия». Надо бы и мне сказать в ответ что-нибудь вроде «это все сон, просто сон». Голливуд по нам плачет. Впрочем, мне все больше думается, что рядовой ужас сугубой жизни, изматывающий, как бесконечное вешанье штор на карнизы, проявляется именно так – в нарочитостях и неправдоподобиях. Он точно сон, точно морок, и тем сильнее вера в то, что ты в любой момент сможешь проснуться, соскочить, рассеять, избавиться от него. Вера эта убийственна, потому что заводит все дальше, превращая самого тебя, заблудшего, но все еще уверенного в положительном исходе борьбы, в одно из порождений наползающей тьмы.
И я знаю, что будет дальше. Страх уйдет. Останется безвольное соучастие. И я буду наблюдать за происходящим из центральной ложи: Я-критик морщится, Я-актер строит рожи, Я-режиссер волнуется. Где настоящий Я в этом безумии наблюдателя?
А люди в комнате продолжают развлекаться. Курва подходит к телевизору. Давит на кнопку, включает. На экране – черно-белые кадры: белое пламя, и в нем черные пятна, напоминающие перекошенные криком лица.
– Сейчас она будет делать раствор – самое время…
В голосе Кваса знакомые интонации. Пытаюсь сообразить, где я слышал их раньше, и вспоминаю киевского мага, приезжавшего в каштановский Дом культуры. Полный зал, люди сидят даже в проходах. Пахнет соломой, потом и дегтем. Сцена драпирована черными шторами, по краям стоит тара с колодезной водой: банки, ведра, тазы, бутылки. Маленький сухенький человек в сером костюме, из-за которого он похож на крысу, вставшую на задние лапки в поисках, чем бы ей поживиться, стоит, низко склонившись у микрофона. Голова свесилась вниз, и он одержимо бормочет, резонируя голосом.
Но у него не было отвертки. А у Кваса есть. Он достает ее из кармана, демонстрируя мне – боится, чтобы я не забрал? – на расстоянии. Кажется, такая – с грязно-оранжевой ручкой – до сих пор валяется у нас в гараже. Разница между ней и той, что у Кваса, – на ручке последней выбиты крестики и цифры (замечаю двойку, четверку, семерку), а жало заточено, как шило.
Глаза Кваса становятся белесо-голубыми, цвета воды в бассейне. Точно хлора засыпали, и он уничтожил все живое. Квас сжимает отвертку в руке, до покраснения напрягая пальцы. Я вижу, что на его мизинце по центру треснул ноготь, и тоненькая, похожая на упавший волосок линия ползет от заусеничного основания к черному ободку подногтевой грязи.
– Сейчас, – командует Квас и тянет раму окна.
Та не поддается. Люди в комнате слишком заняты друг другом и, к счастью, не замечают двух сумасшедших под окнами.
– Сука! Блядь! Не работает! – лютует Квас. – Попробуй ты!
Можно подумать, я ел больше каши. Но, вцепившись, дергаю раму. Не слишком рьяно – для вида. Она намертво зафиксирована. Радуюсь тому, что наше безумие по ловле курв закончилось вот так, нелепо. Не будет же Квас бить окно? Но он находит иной вариант:
– Через дверь!
Без апелляций. Без комментариев. Словно нечто само собой разумеющееся. Уже не пригибаясь, он бежит к входной двери с пузырящейся желтой обивкой. Дергает ручку, хлоп-хлоп – закрыто. Самое время спеть «Уходим, уходим, наступят времена почище». Но Квас – тупой, упертый баран, – прицениваясь перед решающим ударом, толкает дверь плечом.
– Сломаем и внутрь!
Мне надо возражать, говорить что-то. Я слишком молод и рефлексивен, чтобы сидеть в тюрьме.
– Они нас услышат. Нам не справиться с двумя мужиками.
– Не услышат, – отбивается Квас, но его решимость, как пенка, сделай огонь потише, сходит на нет.
– А вдруг? И курва успеет вызвать ментов.
– Курва этого не сделает. Она… может сама разобраться. Курва не так проста, как тебе кажется, – несмотря на смятение, он делает акцент на «тебе».
– Тем более. Два здоровых мужика и курва с паранормальными, – надо меньше смотреть телевизор, – способностями. А мы?
– Ссышь, пиздюк, ссышь?
Он выкрикивает слова как можно грубее, и я вздрагиваю, думая, что передо мной прежний агрессивный, решительный Квас. Но успокаиваюсь, когда вижу его безвольно повисшие, развернутые ладонями ко мне руки.
– Наша задача – поймать курву. Если мы вломимся к ней, то есть шанс облажаться. Стоит ли рисковать?
– Сука!
Квас хлопает себя по карманам, достает шариковую ручку. Лишь сейчас понимаю, что все это время он держался без любимого развлечения. Видимо, так соскучился, что одним движением – звук хоть и едва слышный, но весьма мерзкий, точно крысиная возня под половицами – разгрызает колпачок.
– Предлагаешь забить?
Мне надо четко и внятно ответить. Утилизовать конфликт. Но я не успеваю. Вдруг слышатся приближающиеся шаги, и мы рефлекторно двумя тараканами в кухне, где включили свет, суетливо мечемся, ища, куда бы приткнуться.
– Блядь, ты чего встал, идиот?! – юркнув в кусты, шипит Квас.
Но я замер, всецело поглощенный наблюдением того, как механически точно, уверенно и вместе с тем грациозно, изящно передвигаются крепкие мускулистые ноги. Пусть и не без обескураженности; впрочем, она с ней быстро справляется.
– Аркадий?!
Когда мы начали встречаться, я хотел взять Кваса с собой. Для подстраховки, для уверенности. Потому что голова моя радиолокационным радаром вертелась в стороны. Я боялся, что Рада увидит обреченность цуцика, оставшегося без мамки. И на этом – между нами все. Меня пугало даже не то, что мы больше не увидимся, а то, что она будет думать обо мне неказисто, с презрением и, не дай бог, расскажет знакомым. Да, меня страшила будущая репутация, которая так много значит в селе, напоминающем стеклянную банку, где жуки ползут по, казалось бы, идеально ровной поверхности стенок, чтобы в итоге рухнуть вверх брюхом, шевеля крошечными щетинистыми лапками…
И вот мое желание исполнилось – Квас здесь. Но я все равно застенчив, пуглив.
– Что ты здесь делаешь?
Хороший вопрос. Заезженный вопрос. А универсального ответа так и не придумали. Слава богу, Рада сама меня выручает:
– Пришел извиниться?
Киваю, не на что не способный больше.
– Я не обижаюсь. Правда.
Она говорит те слова, которые необходимы. Идеально правильные слова. Я бы не сказал лучше. Никогда. А сейчас – особенно. Потому что воспоминание о том, как бутылка из-под шампанского опускается на белобрысую голову парня в майке «Гражданская оборона», перед глазами, отчетливо, панорамно – наслаждайся, ублюдок.
– Он жив? – мои слова непроизвольны.
– Кто?
– Тот парень, которого я ударил. Чубчик.
– Да.
– Откуда?
– Что откуда?
– Откуда ты знаешь это?
– Я обернулась, – она морщится, – когда мы убегали.
– Точно?
– Ага, – до нее, видимо, наконец доходит, чего я боюсь. – Он жив, Аркадий, все хорошо.
Мы молчим. А потом она напоминает:
– Ты, кажется, хотел извиниться.
– Да, – искать нужные слова; если она смогла, то и я могу, – хотел. Но ты не была на курсах в Песчаном.
– Я болела, – она улыбается. – Мой маленький, ты переживал за меня.
– Почему маленький?
– Ты что обиделся, глупенький?
– Отлично, теперь я еще и глупенький.
– Я любя. – Она говорит это естественно, но я вздрагиваю. – Ты лучше расскажи, как ты нашел мой дом?
– Дом? – Судя по ее реакции, я мог бы с легкостью подменять Тома Круза в «Человеке дождя».
– Извини, что не приглашаю зайти. Я и так вернулась раньше обычного. Боюсь, мама не готова встречать гостей.
– Мама?
– Ага. – Том Круз в «Человеке дождя» ей уже не нравится.
– Да, мама. – Вспоминаю курву, лысого, жирного, морковь. – Ты с ней живешь. Здесь. Да, живешь.
Говорю, будто сам себя уверяю. Хотя есть в чем. Но некогда изумляться. Квас в зарослях. С безумием и отверткой. Еще недавно он ломился в дом. А сейчас, когда входная дверь откроется, он может повторить попытку. Чтобы разобраться с курвой. И – ведь так получается? – с ее дочерью.
Вот она, передо мной. С темно-карими глазами, кудрями повзрослевшей Сью и крепкими мускулистыми ногами. Мгновение – я, пожалуй, действительно верю в это, – и заточенная отвертка с грязно-оранжевой рукояткой, на которой вырезаны кресты – египетские, тевтонские, православные, – будет торчать из нее, как шприц из Мии Уоллес. Помню, когда увидел «Чтиво» воскресным вечером – «Останкино» всегда показывало хорошие фильмы только в это время, – я не спал всю оставшуюся ночь, а наутро пикировался с одноклассниками о величии фильма.
Первый мой импульс – развернуться, уйти, сбежать. Чтобы не отвечать за финал истории с курвой. Но все эти слова – «маленький», «любя», «не обижаюсь» – держат якорями благодарности и не дают исчезнуть. Трусость, конечно, осталась, рожденная непоколебимым инстинктом самосохранения, но как бы законсервировалась, уснула, и на ее месте освоилось нечто новое, смутно напоминающее желание защитить другого – в общем-то, близкого мне – человека. Главное сейчас – быстрее избавиться от Рады, чтобы Квас не успел покинуть свое убежище, “gimme, gimme schelter or I’m gonna fade away”.
– Ну, до встречи! Раз тебе пора, то иди! Увидимся на курсах! У тебя есть ключи? Откроешь?
Я так хочу спровадить Раду, что даже целую ее в щеку, и мой неожиданный напор обескураживает. Она рефлекторно лезет в кожзамовскую сумочку, достает ключи, подходит к двери. Шурудит в замке. Удивляется.
– Закрыто!
«Еще бы, закрыто, мамочка-то развлекается», – думаю я. И принимаюсь барабанить в дверь.
– Ты чего возбудился, маленький? – Похоже, ярлык прилип ко мне. – Можно ведь позвонить.
Рада несколько раз нажимает грязно-белый квадрат рядом с дверью. Я добавляю очередь следом. Но за дверью – тишина, долгая, предвосхищающая.
– Что это мама…
В зарослях слышится шорох. Мне видится – дарю кадр, Квентин – Квас, выскакивающий из смородиновых кустов с отверткой в руках. Он бросается на Раду. Была докторская – стала любительская. Был российский – стал швейцарский. Не допустить! Отчаянно принимаюсь сыпать удары, не обращая внимания на слова успокоения. Наконец дверь распахивается, на пороге стоит запыхавшаяся смуглая женщина, которая так любит морковь.
– Рада, как на пожар. – Увидев меня, не проявляет чудеса такта: – А это кто?
– Аркадий, – смущается, первый раз за все наши встречи, Рада.
– Звучит интригующе. – Женщина улыбается, обнажая ровные крупные зубы цвета ракушечного камня. Черты ее сухого смуглого лица с навязчивой аллюзией на чернослив становятся мягче, и появляется нечто будоражащее, объясняющее, почему к ней ходят сразу два мужика. – А я Эльвина. Зайдете, Аркадий?
Она отстраняется, пропуская внутрь. Голос у нее властный, почти гипнотический.
– Нет-нет. Я тороплюсь, спасибо, в другой раз, меня ждут, простите…
Кажется, успеваю протараторить все уместные и неуместные отговорки. Но курва, похоже, и сама передумала. Если вообще думала.
– Значит, в другой раз.
– Да-да, обязательно!
Рада тянется ко мне, хочет что-то сказать, но я сбегаю по ступенькам с крыльца:
– Пока, Рада! Поговорим на курсах.
Эльвина – хоть бы отчество сказала, так нет, все молодится, – закрывает дверь. Дамба, сдерживающая мое напряжение, прорывается, и, выйдя за ворота дома, я оседаю.
– Ну что, сука?
Голос, доносящийся сбоку, звучит угрожающе, но нет сил реагировать, и я ложусь на землю, вперившись в повисшие надо мной звезды.
5
– Чего, блядь, молчишь?
Не поднимаясь, так и лежа на спине, поворачиваюсь. Квас вышел из смородиновых кустов, подошел ко мне. Стоит всклокоченный, озверевший. На лице – растерянность, удивление.
– Блядь, я тебя сейчас ебану, если будешь молчать!
– Чего ты хочешь?
Слова звучат глухо. Будто я никак не отойду от забега на сто метров, который я так ненавидел сдавать в школе. Правда, в Севастополе от уроков физры мне удалось отмазаться. Знакомая отцовская докторша выписала справки, документально подтвердив выдуманные диагнозы. Но в Каштанах после возвращения (бабушке стало плохо с сердцем, понадобился уход, и мы переехали обратно) я встретился с Николаем Ивановичем, учителем физкультуры. Он весь как бы состоял из домашнего смальца: лоснящийся, жирный, белый.
Николай Иванович хотел сделать нас сильными, уроки шли на износ. Разминка, канаты, брусья, турники, бег. Я не справлялся ни с одним упражнением, стыдился, краснел. Пока другие мальчишки делали «офицерские выходы», я агонизировал червяком на крючке.
Сильнее брусьев и турников я ненавидел бег. С тремя километрами еще как-то справлялся, хотя после – не останавливаться, продолжать движение – корчился от пульсирующих болей в спине, но на ста метрах оказывался совсем плох. Начинать движение надо было – Николай Иванович требовал делать все по науке – с низкого старта, и я всегда тормозил – спотыкался, путался – неуклюже, грузно толкая тело вперед. А после под хриплый мат тщетно старался нагнать впереди бегущих.
Я умолял Николая Ивановича избавить меня от беговых пыток, сулил деньги, молоко, удобрения (то, что обещала дать бабушка), но он возвышался над моим малодушием непоколебимой скалой, которая не сдвинется с места, пусть и литосфера даст трещину.
Но в конце десятого класса Николай Иванович пропал. Никто не знал куда и зачем. Только одна сельская юродивая, сидя в заросшем чистотелом огороде, свидетельствовала, что Кольку пустили на органы.
Возле дома Рады я, похоже, вернулся на урок физкультуры, а в Кваса, судя по частоте мата, вселился дух Николая Ивановича.
– Так ты с курвой шашни водил? – Кожа его сереет, съеживается. – Ты поэтому, блядь, не пускал?
Он валится на меня, схватив за грудки.
– Ты, сука, с ними? Да, с ними?
Фразы его путаются, становятся кашей. И вдруг я понимаю, что он плачет:
– Это курва… важно быть… охотиться… не могу… блядь…
Квас выплевывает мертворожденные слова. Я сбивчиво пробую объясняться:
– Мы не знакомы. Курва и я. Ты же слышал: она спросила, как меня зовут. Я не мудак. Правда. А это та девушка, о которой я хотел тебе рассказать…
Но он не слышит: всхлипывает, матерится. Я переворачиваюсь, валю Кваса на землю. Прижимаюсь всем телом. Хочу, чтобы он меня выслушал. Здесь и сейчас. Потому что если он не поймет, как тогда с нетопырем, то я вновь потеряю его.
Но если он сумасшедший, как мне говорить с ним? Особенно, если со мной та же история обыкновенного безумия? Здоровые люди еще могут понять друг друга, сумасшедшие – никогда.
– Ее зовут Рада. Мы познакомились, – пробую говорить, не подбирая слова, – на дискотеке, а потом нас познакомили. Пытались встречаться. Хотя… нормальными эти встречи не назовешь. Недавно мы поругались. Из-за меня. Потому что я трус. А здесь я первый раз, ты же слышал…
Лимит объяснений. Тик-так, тик-так.
– Слезь с меня!
Перекатываюсь на землю. Усаживаюсь, вытянув перед собой ноги.
– Ты трахался с ней?
– С кем? – Квас хмыкает. Да, глупое уточнение. – Нет.
– И не трахайся. Это же курва!
– Но Рада…
– Татарва ебаная!
Наверное, на его слова я должен обидеться. Так бы поступил любой условно нормальный парень. Но у меня нет обиды – разве что на самого себя. Куда важнее – наладить отношения с Квасом.
– Пора идти!
– Мамочка заждалась?
Его стандартная подколка успокаивает. Я понимаю, что мы оба вновь стараемся изображать из себя прежних.
6
Обратно возвращаемся по другому пути. По траншеям бывшей воинской части. Раньше, в советское время, здесь располагались системы ПВО. Солдаты из благополучных и не очень регионов Советского Союза несли воинскую службу, присягнув на верность родине. А потом родины не стало. Появились ее наследницы. И пришлось выбирать. Украина обещала больше. Говорила вкуснее. Кормила сытнее. И потому многие выбрали.
Но прошло время, и обещания прогорели, не дав тепла – нищета, криминал, озлобленность. Тысячи украинских военных, ищущих, куда бы приткнуться. Большинство перло в преступность. Но были и те, кто остался на службе: одних в бандформирования не взяли, другим не позволила пресловутая совесть.
Наверное, и в этой части кто-то остался. Или, как говорят по-украински, залышывся. Стал лишним. Точное слово.
Сейчас часть – одна из мертвых отметин Углового. Зияет траншеями, ямами. В них когда-то размещались системы ПВО, проводились учения. Но все сдали в утиль, на металлолом. И людей – туда же; как роботов, у которых закончился срок эксплуатации. Остались лишь развалины зданий – древние исполины с пробитыми в боках дырами, обглоданные, одинокие. Свидетельства прошлой эпохи. Эпохи, которая, казалось, никогда не закончится.
Не люблю этого места. Хотя пацаны часто тусуются здесь: водят девчонок, бухают, пыхают, курят. Ищут кайфа. Ищут себя.
Луна закрыта навалившимся облаком. Виден лишь маленький треугольный клочок. Покорно тащусь вслед за молчаливым Квасом, вслушиваясь в аспидовую черноту сельской ночи. В книгах обычно пишут, что она звучит стрекотом, кваканьем, воем, но есть лишь шипение, грозное, предупреждающее. Хотя темной ночью подобные открытия неизбежны. Все кажется особенно зловещим, мистическим.
– Слушай, а передохнуть нельзя?
– Сам гнал, а теперь бухтишь. Ну, давай, что ли, покурим…
Квас достает пачку красного «Бонда». Беру сигарету, подкуриваю, дымлю. Но то, что принято называть душою, бурлит, клокочет. Хочется искать примирения с Квасом, настоящего, без условностей.
– Все нормально?
– Ага, – он кивает. – Тебе же с этой курвой ебаться…
– Она не курва!
– Ну, маманя-то ее точно курва. Ладно, хер с ними…
У высоченного, с пятиэтажку, тополя – про такие обычно говорят аварийный – дорога разветвляется, и мы сворачиваем в сторону школы. Идем к футбольному полю, вдоль забора которого высажены каштаны, перемежающиеся с низкорослым шиповником. Раньше здесь играл «Черноморец», футбольная команда из Углового. До тех пор, пока председателя колхоза не зарубили топором у его дома. Убийцу не нашли (говорят, и не искали), а футбольная команда снялась с районного чемпионата. Теперь на стадионе тренируются дети.
У входа в школу натыкаемся на двух пухлых блондинок в джинсовых костюмах. Похожие, точно близняшки, – правда, у одной иксообразные ноги – они пьют пиво из пластиковых баклажек. Квас тормозит, поворачивается. Борода – дурной знак – снова взъерошена:
– Вот эти чем плохи? – Не понимаю вопроса. – Смотри, нормальные соски. А ты на курву полез. Познакомимся, а?
– Да как-то…
– Аркада, ну чего ты? Нормальные соски!
Он говорит это громко, не стесняясь. Блондинки слышат его, поворачиваются в нашу сторону. Возможно, что они, действительно, сестры, судя по одинаковому хитроватому прищуру глаз. У кого же такой был? Не вспомнить.
– Девушки, вашим мамам нужен зять? – Квас с ухмылкой подходит к блондинкам. – Как насчет познакомиться, а?
Он старается пародировать развязность; «нууу, где же вы, бляди, – выручайте дядю». Надменное поведение, подчеркнутое разболтанными, шарнирными движениями.
– А шо, у вас сиги и бухло есть?
Вспоминаю, где видел этот хитроватый прищур – у Солохи в советской киноэкранизации «Ночи перед Рождеством»; той, что черно-белая, той, что удалась. В поросячьих физиономиях и, правда, есть что-то от ведьм.
– Сиги у нас есть. А вот с бухлом напряги.
– Ну можно купить, если лавэ есть, да, Леля?
– Ага. Тут типа магаз работает…
– Может к нам?
– Ты шо такой быстрый?
– Мы тебе шо, бляди какие?
Блондинки почти одновременно сплевывают. За такую густоту мы называли слюну харчой.
– А что нет? – Квас уже не скрывает за стебом агрессии. – Чего выебываться-то?
– Слушай, пошли, а, Квас? – Он завелся. Это чувствуется. Как тогда, у дома курвы. – Правда, идем.
– Нет, а чем тебе эти бабы не угодили, Аркада? Лучше бляди, чем курва. Эти и выебываться не будут.
– Да вы шо – охуели? – взвизгивает Леля. – Пошли на хуй отсюда!
– А отсосать напоследок не хочешь?
Та, что с иксообразными ногами, берет Лелю за руку, отводит в сторону.
– Ладно, Аркада, пошли. Пусть эти пиздой торгуют…
– Ты чего к ним прикопался? – отойдя, говорю я.
Квас замирает. Напротив спортивной площадки с наклоненными баскетбольными щитами, похожими на шеи жирафов. Колец давно нет. Нет даже досок, образующих щит – только металлические каркасы. По периметру площадки блоками, крепящимися к металлическим столбам, натянута ржавая сетка.
– Эти пидорасы Хемингуэя электричеством правили! Думали, он ебанутый, как и ты про меня думаешь, а за ним реально цэрэушники бегали, пока его родня током хуярила. Он, сука, был прав! И я прав: эта курва тебя погубит! Убьет, как Курта убила Кортни!
Я не понимаю, при чем здесь Хемингуэй, тексты которого, кстати, мне никогда – за исключением сборника «Снега Килиманджаро» – не нравились, но общий посыл ясен.
– Идем домой, Квас!
– Алло, пацаны, курить есть?
Вздрагиваю. Ночь, улица, школа. И вопрос, который в это время суток никогда не бывает просто так, для проформы. Я-то научен полынным опытом у памятника гвардейцам. Все очевидно донельзя. И оттого еще страшнее.
Но Квас будто и не понимает, что происходит. Не обращает внимания на подходящую компанию. Их четверо: два высоких, худых и два коренастых, низких. Пячусь назад, глазами показывая Квасу, что надо уходить. Он не реагирует. Продолжает бормотать что-то невнятное, судорожное.
– Вы шо морозитесь?
Подходят вплотную. Впереди – наголо бритый пацан в найковском спортивном костюме. Голова по-бычьи наклонена, и виден переползающий с темечка на лоб шрам. До Кваса, похоже, доходит, что мы не одни.
– Чего вам? – Интонация спокойная, ровная, удивляющая двух высоких парней.
– Курить нам.
Квас лезет в карман. Только сейчас замечаю, что ладони у него крошечные, детские, и пальцы маленькие, пухлые; мамаше дай – зацелует. И в этот момент Найковский Костюм, размахнувшись, бьет. Так ловкачи сшибают мух ладонями. Удар приходится Квасу в ухо.
«Инстинкт самосохранения – это врожденная форма поведения живых существ в случае возникновения опасности, действия по спасению себя от этой опасности». Я буду перечитывать эти строки столь часто, что выучу их наизусть. Но они, хотя я так этого жаждал, не станут моим оправданием. Трусость как рецидив душевного сифилиса будет проявляться снова и снова, убийственная, действительно, прежде всего для самого труса. И пусть логически я понимал, что разобрался в ситуации верно, но нечто другое – душа, совесть, как это назвать, чтобы не показаться старомодным, смешным? – менторским тоном зачитывало приговор. В зале суда, уместившемся в моей черепной коробке.
В шестом или, может быть, в седьмом классе – точно не помню, но это произошло в севастопольской школе, – когда мы убирались в кабинете географии, наполняя его шумом передвигаемой мебели и вонью половых тряпок, с учительского шкафа слетел глобус. Он падал, кажется, издевательски медленно. На бантики Ксении Левенталь. И я, наверное, должен был броситься, чтобы закрыть или оттолкнуть Ксюшу, какое бы отвращение ни испытывал к ее фарисейским повадкам, но я лишь пригнулся, обхватив голову руками, словно глобус падал на меня. Я капитулировал. Так же, как у памятника гвардейцам.
Но и тогда, и сейчас я смалодушничал не из злого умысла, не из подленькой сущности своей натуры. Нет, это был только импульс, рефлекс, доставшийся мне, видимо, от животных (империя – живые организмы, надцарство – эукариоты, царство – животные, подцарство – многоклеточные).
Я крикнул Квасу: «Беги!» – и побежал сам. Мозг навигатором прокладывал маршрут по закоулкам школы. Я помнил, что если пересечь спортивную площадку, то за баскетбольными кольцами, между стеной и трансформаторной будкой, где все ссут, будет проход, который, изгибаясь, выведет к центральному входу.
У него, глядя на два кипариса-любовника, переплетенных лампочкообразными кронами, я и очнулся (или, правильнее сказать, «отключился», ведь до этого мозг работал исправно?). Шаманы били в бубны верхнего и нижнего мира – казалось, так пульсирует сердце. Сначала я всерьез пытался сообразить, где я. А после вспомнил о Квасе. О том, что бросил его. Хотя он должен был мчать следом за мной, а значит, стоять здесь, сейчас, рядом, но его не было.
Я для чего-то еще раз осмотрелся, а после едва не разрыдался. Квас, похоже, остался там, на спортплощадке. И наверное, сейчас его бьют вчетвером, пока я трусливо здесь умираю. Вернуться! Я должен вернуться! Но, Господи, как страшно это сделать! Меня ведь никогда не били. Так, чтобы до крови. Невозможно ударить человека. Но еще страшнее отхватить самому.
Когда я окончил девятый класс, а брат – одиннадцатый, меня отпустили с ним на дискотеку. В первый раз. И мы поехали в Севастополь.
Ночная набережная. С моря пахнет водорослями и мазутом. Берег осыпан ягодами фонарей. Девушки, действительно, разные: черные, белые, красные. Но все недоступные. Брат пьет массандровский «Херес», а я стою, опершись о парапет, наблюдая, как в Артиллерийской бухте швартуется катер «Норд», идущий с Радиогорки, названной так потому, что Александр Попов испытывал там первую радиосвязь. Из катера выскакивает человек в бушлате, морскими узлами обматывает кнехты канатом, открывает двери. Люди выходят на берег важно, точно утки на водопой.
А потом мы идем в ночной клуб «Театральный», расположенный сразу под городским театром имени Луначарского. Накурено, душно. На сцене змеятся высушенные севастопольской духотой танцовщицы. Серебряные топы и юбки блестят. Но внимание не на них, а на двух целующихся девиц в центре зала. Та, что слева, настырнее, или пьянее, лезет второй под юбку большой, мужской пятерней.
Я хочу наблюдать за ними, потому что раньше видел такое лишь на видео, у Пети дома, но брат, кажется, равнодушный к лесбийскому зрелищу, тащит меня за столик. Официантка с белой угревой сыпью на пухлых щеках, особенно заметной в освещении дискотеки, появляется сразу. На меня она не смотрит, а вот брату, поправляя темные кудри, вовсю улыбается.
Он заказывает бутылку водки «Союз-Виктан», рассказывая, что название означает союз Виктора и Татьяны. Официантка удивляется так, словно брат сообщил ей о воскрешении Элвиса Пресли. Подмигнув, она уходит, и мы остаемся одни. Разговаривать не о чем. Оно и к лучшему, потому что переорать насилующие барабанные перепонки децибелы – «твой приятель возле школы покупает героин» – проблематично. Разглядываем девчонок, курящих, танцующих, выпивающих; брат – откровенно, нагло, я – украдкой, стеснительно.
Официантка приносит заказ. Успеваем опрокинуть по рюмке, запив пивом, когда диджей включает медляк, «от Стэпа – Катюхе, с днем рождения, детка». И растерянный мужской голос, плохо попадая в ноты, напевает: «В этот серый скучный вечер я тебя случайно встретил…»
– Иди, пригласи кого-нибудь, Арик, не тупи.
До армии брат всегда называл меня Арик. На еврейский манер. Успеваю ответить скорченной миной, когда к нашему столику подходит грудастая рыжая девка.
– Танцуете?
Спиной ко мне, лицом к брату. И хорошо: могу рассматривать ее приподнятую задницу, обтянутую «вареными» джинсами в сине-голубых разводах.
– Можно.
Брат встает, обнимает грудастую. На танцполе прижимает ее к себе, засунув бедро между длинных за счет шпилек ног, и кружит в такт музыке, чуть наклоняя назад и тем самым как бы зависая над ней. Наблюдаю за ними, а потом теряю из вида.
Апатично сижу. Рассматривать девчонок уже не хочется. Музыка идет фоном, стихает. Я наливаю себе рюмку, другую. Проглатываю водку, морщась, но ясно понимаю, что сегодня мне не напиться. Быть трезвым, дабы ощущать всю полноту одиночества. Хотя не одиночества даже, а осколочности существования, неспособности быть такими, как мой брат, как эти девушки на танцполе.
Толстой, «Исповедь» которого я читал по рекомендации Маргариты Сергеевны, писал, что желание быть как все есть величайшая гордыня, потому что ты изначально такой, как все, сколько бы ни убеждал себя в обратном. Но Лев Николаевич лукавил. Потому что сам оказался другим, лишним, хотя, как и антихрист, владел всем миром. И в то же время он был чудаковатым старцем, так и не обуздавшим свою похоть, не нашедшим понимания ни у коллег, ни у последователей, ни у близких.
Толстого в Севастополе логично много. В честь него названы улица и центральная библиотека, на круглой башне которой висит его портрет времен первой обороны города. В наружной нише уникального музея-панорамы, собственно, представляющего эту оборону тысячами квадратных метров восстановленного полотна работы Франца Рубо, тот же образ Льва Николаевича, но уже в виде бюста (есть и другие: Нахимова, Истомина, Пирогова, Хрулева, Кошки). И при всем этом особого единения Толстого и Севастополя не чувствуется. Например, если судить по школьному образованию, где на уроках литературы в большей любви севастопольцы признаются Грину и Пушкину.
В моем ощущении осколочности – кто будет, сидя в «Театральном» или тысячи ему подобных шалманов, генделиков, кабаков, дискотек размышлять о Толстом? – нет предмета для гордости; наоборот – впечатывающее в перегной обыденности понимание своей ущербности. Я испытывал это чувство и раньше. Много-много раз. Переживал его, как переживают инфлюэнцию или грипп.
Я сидел в «Театральном», не замечая людей-жуков вокруг. Полчаса, может, час. Пока официантка не принесла счет.
– Рассчитайтесь, пожалуйста.
Все они говорят одинаково. Используют стандартный, с чаевыми впитанный арсенал фраз. Но тогда я был в кабаке первый раз, и то, как она обозначила необходимость платить, привело меня в замешательство. Я нырнул в реальность из матрицы своего мира и шлепнулся больно, обескураживающе.
– Сейчас, сейчас…
Но денег нет. Выворачиваю карманы наружу. Двадцать гривен, данные бабушкой на всякий случай. Ведь за все обещал заплатить брат. Кладу двадцатку с портретом Ивана Франко на стол, продолжаю поиски.
– Боюсь, этого мало, – слепок вежливого лица официантки идет трещинами, крошится, проступает раздражение, злоба.
– Да, я понимаю, конечно, – больше денег определенно нет, – но все у брата. Помните, вы улыбались ему?
– И? – «Улыбалась» качает маятник ее раздражения в зону «бесится».
– У него все деньги. А где он я не знаю.
– Кинуть меня решил? – недобро хмыкает официантка.
Нам приносил заказ другой человек. Сейчас передо мной пиранья, доедающая остатки моего самоуважения.
– Нет, я… брат ушел… вот с той девушкой… – Я замечаю грудастую в «варенках». – Эй, эй!
Кричу ей, но она не реагирует. Встаю, продираясь между ногами и столиками, подбегаю к ней.
– Вы видели моего брата? Где мой брат Виктор?
– Чо?
Грудастая в неадеквате. Залита под завязку. Глаза влажные, красные. Веки полуприкрыты.
– Где мой брат? Вы с ним танцевали!
– Тебе чего надо, парень? – К грудастой подходит долговязый пацан в адидасовской кепке и желтой майке без рукавов. – Ирка, он что к тебе клеится?
– По ходу…
Чтобы не упасть, грудастая держится за упакованную в пластик колонну.
– Пошел на хуй отсюда! – Долговязый толкает меня в грудь.
– Охрана! – подбегает официантка. Долговязый стоит, ждет, обнимая грудастую. Она пьяно улыбается.
– Что случилось, Людок?
Охранник в обтягивающей черной футболке смотрится внушительно, мускулисто.
– Вот этот, – официантка тыкает в меня блокнотом, – вроде как пришел с братом. Тот свалил, и этот, не заплатив, решил повторить фокус.
– Я ничего не решал, я сидел, брата ждал, – надуваюсь, как маленький мальчик.
– Плати и проваливай.
– Я же дал двадцать гривен, все деньги у брата…
– Сколько он должен?
Официантка смотрит в блокнот:
– Пятьдесят семь гривен.
– Значит, еще, – охранник подвисает, – еще тридцать семь гривен.
– Никакой двадцатки у него не было!
– Как? Я положил на стол!
От возмущения и бессилия – ведь ничего не доказать – чувство такое, словно на квадратный сантиметр тела давят шестнадцать тонн паники.
– Вот видишь, Юрка, – официантка качает головой, – брешет.
– Вижу, Людок, – кивает охранник. И поворачивается ко мне. Лицо у него широкое, плохо выбритое, напоминающее котлету. – В общем, так. Сейчас я либо ментов вызываю, либо сам разбираюсь. Уяснил?
– Я дал двадцать гривен, честное слово!
Чем больше я говорю, тем нелепее выгляжу. Значит, тем меньше они верят.
– Я второй раз повторяю. Третий не буду. Уяснил?
– Уяснил.
– Либо плати, либо менты. Выбирай.
– Других вариантов нет?
– Нет.
Он, в общем-то, не агрессивный ублюдок. Этот охранник. Наверное, с ним можно договориться. Но наедине, а не в присутствии официантки.
– Надо ждать брата. Или я могу… что-то дать.
– Первый вариант отпадает как фантастический, – рассматривает меня охранник, – а вот часы, – показывает он на запястье, – можешь отдать. Пока не появится брат и не вернет деньги.
– Угу, появится, – хмыкает официантка.
Часы, на которые показывает охранник, подарил мне дед. Серебристый металл, бледно-зеленые стрелки, окошко для текущей даты, ребристый ободок вокруг циферблата. Часы «Слава». Ничего особенного. Если бы не подарок деда. Если бы не моя привязанность к вещам.
– Давай часы – ищи брата.
Охранник, наверное, справедлив. Открываю защелку, снимаю часы. Рука, тянущаяся, чтобы отдать их, коченеет.
– Давай сюда, – охранник сам вырывает часы, рассматривает. – Дерьмо, конечно, но за полтину можно загнать.
– И что мне с этим барахлом делать? – злится официантка. – На «тучу» идти толкать?
– Людок, не суетись. Сейчас этот… как тебя звать?
– Аркадий.
– Сейчас этот Аркадий найдет брата, и всем нам будет хорошо, правда?
Я киваю. От потери часов хочется разрыдаться.
– Ну, так иди – ищи брата.
Нашел я его, пройдя темную коробку театра Луначарского, потрескавшийся асфальт набережной, подсвеченный Памятник затопленным кораблям. Нашел по крикам у «Ракушки», летней концертной площадки. Брат лежал между зрительскими скамейками. Над ним нависало трое парней, крепких, бугрящихся мышцами. Самый здоровый – бицепс такой, что казалось, надутые вены вот-вот лопнут, а он только будет смеяться, любуясь, с каким напором бьет кровь – пинал брата в живот. Я хотел крикнуть, позвать помощь, но, присмотревшись, увидел, что переживать надо за парней, а не за Виктора.
Брат лишь хохотал, когда его трамбовали. Со звуком, с каким чавкают по лужам расклеившиеся кроссовки, когда едва вышел и сразу попадал в ливень, тут же промок, но быстро смирился. Когда же парни, смятенные, обескураженные, испуганными ягнятами толпились рядом, брат улыбался. Это была улыбка палача, которому нравится сама жуть процесса, и оттого он готов участвовать в нем, исполняя любую роль, лишь бы участвовать.
Увидев его довольное лицо, услышав чавкающий хохот, мне подумалось, что никогда больше я не смогу ударить человека. Но все-таки смог – у памятника гвардейцам. Вот только, как повторить это снова?
Вернуться, чтобы помочь Квасу, – невозможно. Трус! Сука! Тварь! Я выплевывал оскорбления, провоцировал злость, вспоминая, как издевались надо мной во дворах из-за жира, хлестал по щекам и вискам, но все же не мог разъярить себя так, чтобы влезть в драку. Но и уйти я не мог. Прикованный к забетонированной площадке, точно должник, которого вот-вот должны сбросить в залив гангстеры, я стоял, врезаясь в ночь. А она застыла, обволакивая предметы вдруг ставшего разжиженным мира. Нервная, онемевшая ночь. И в ее вязкой тишине – ни шелеста листьев, ни вскриков людей, ни стрекота насекомых – выкристаллизовалась невидимая, но явная угроза. Хотелось, чтобы пошел дождь, залаял пес, закричал человек – что угодно, лишь бы нарушить эту мертвую тишину.
– Эй! Эй! Эй! – закричал я, гоня страх. И вдруг из темноты кто-то рявкнул в ответ:
– Чого галакаєш?
То, что говорили на мове, поразило меня даже больше, чем сам факт ответа. Первый раз – если не считать занятий украинского языка и литературы, которые начались у нас в восьмом классе, и вела их Оксана Тимофеевна Жога, румяная, нарядная, выбиравшая платья с немыслимым количеством розочек – я слышал мову живьем. Да, она казалась мне странноватой, чужой, но не вызывала отвращения, как у большинства земляков, а наоборот – увлекала.
Об изучении украинского языка в крымских школах спорили много, яро, до мордобоя и сначала ввели его как дисциплину по выбору. Но выбирать никто не захотел. Родители, в том числе и мои, видели в этом, как, наверное, и во всем украинском, что-то нелепое, чудаковатое, позорное даже, точно не нам было жить в Украине. Судя по разговорам, людям казалось, что незалежность – явление временное, случайное, и вскоре оно сойдет, как гнойничковый прыщ, выскочивший на подбородке.
Ведь мы говорили на русском, смотрели российские телеканалы, жили российскими интересами – не представляли себя вне России. Сознание наше было дикарским, потому что надежды связывались с российской манной, которой Москва вот-вот осыплет нас, и все наконец заживут хорошо. Для чего только Хрущев отдал Крым Украине?
День Победы и День Военно-морского флота России считались у нас главными праздниками. Особенно ярко, масштабно отмечали их в Севастополе: на площади Нахимова, напротив «Дома Москвы», бывшей ранее гостиницей «Кист», устанавливали сцену, где выступали «Руки вверх», «Отпетые мошенники», «Русский размер», а народ радостно махал российскими триколорами и затягивал «Славься Отечество». В бухте же флот во главе с ракетным крейсером «Москва» устраивал военное представление, и, помню, дед Филарет восхищался мощью России, а украинцев клеймил рвачами, которым подфартило отхватить кусок торта с серпом и молотом на верхушке.
И когда телеканал «Бриз» или «Крым», имевший сразу семь редакций (крымско-татарскую, армянскую, русскую, украинскую, немецкую, болгарскую, греческую), сообщал о том, что фрегат «Гетман Сагайдачный» или корвет «Луцк» примут участие в совместных с НАТО учениях, дед забавлялся и раздражался. Забавлялся потому, что у Черноморского флота Украины больше никаких кораблей и не было, если не считать ржавеющей в Балаклаве подлодки «Запорожье», для которой все никак не могли приобрести аккумуляторные батареи, а раздражался потому, что НАТО – «оно нам надо?» – представлялось вселенским злом.
Мы ругали за сотрудничество с ним сначала Кравчука, а после Кучму. И очень радовались, когда слышали – а слышали до оскомины часто, – что украинский президент обсудит с российской властью возможные условия сотрудничества. «Российская власть» звучало солидно, оптимистично, внушающе; особенно когда ее стал олицетворять Путин. И нас даже возили в Севастополь на День Флота, чтобы специально посмотреть на «приехавшего с официальным визитом» Владимира Владимировича, которого до этого я, что называется, видел лишь по телевизору.
Его – а раньше Ельцина – новогоднее поздравление было обязательной, если не ключевой частью новогодней программы, после которой выступление Кучмы считалось чем-то вроде факультатива; так, поржать – ха-ха, что он там скажет? И стреляли после него, взрывая петарды и пуская салюты, не так рьяно, как после путинской речи.
Но еще до Путина постепенно ситуация изменилась, жовто-блакитное кольцо сжалось. Вкладыши к лекарствам перевели на украинский язык, и бабушка очень ругалась, когда пыталась разобраться с противопоказаниями и способом применения кардиомагнила и дигоксина. Фильмы в кинотеатрах стали демонстрироваться на украинском, и те стремительно, хотя только начали подыматься после нищенских девяностых, опустели. Улицы переименовывались (была Коминтерна – стала Петлюры), дела ветеранов пересматривались, на месте училища Пушкина открыли топлесс-бар «Украиночка», и весь этот курс, выраженный в названии книги президента Кучмы «Украина – не Россия», рождал в Крыму сопротивление и агрессию, принимавшие бессмысленные, нелепые формы.
Плодились пророссийские издания. Формировались бесконечные русские блоки. Политики, СМИ паразитировали на москалях и бандеровцах, деля Украину аккурат по линии Днепра. Но хуже всего было то, что сами украинцы пропитались этими русофобскими или пророссийскими настроениями, забыв и о родной стране, и о том, что, собственно, им в ней делать.
Это разделение особенно четко проявилось в девяносто девятом году, во время футбольного «матча смерти» (будто и не было настоящего «матча смерти», но «так писали газеты, а газеты всегда правы») между Россией и Украиной. Одни верещали об имперском прошлом и жаждали отмщения, другие – требовали наказать предателей.
Помню, меня жутко раздражала вся эта мелочная, суетливая пикировка с выяснением правоты сторон, но еще сильнее бесило наличие этих сторон в принципе. Отвратительной казалась сама мысль о разделении. И в качестве протеста – в школе все, кроме татар, мечтали о победе России – перед матчем я решил поддержать украинцев.
Но болел все-таки за сборную России; скорее всего из-за того, что в ней было так много «спартаковцев», а тренировал Олег Романцев. И когда Филимонов, до этого казавшийся – перед матчем я, смакуя, вспоминал его вратарские подвиги со «Спортингом» и «Арсеналом» – синонимом слова «надежность», вдруг взял и пропустил тот самый гол от Шевченко, я швырнул любимую мамину вазу из хрусталя в окно. Дед, скандировавший вместе с «Лужниками», Россией и частью Украины «бей хохлов – спасай Россию», траурно замолчал.
Впрочем, за Украину на чемпионате Европы поболеть мне тоже не удалось. Видимо, сработал ломоносовский принцип: «Если где-то прибудет, то где-то убудет». И Ачимович пустил Шовковскому похожую по своему валидольному шлейфу на гол Шевченко пакость.
Потому, услышав в сельской ночи украинскую речь, кстати, выученную мной благодаря футбольным комментаторам, я так удивился. И, наверное, оттого вопрос показался мне спасением, а не угрозой.
Двое выходят из темноты, здоровые, хмурые, в заляпанной краской робе. С прищуром на меня смотрят.
– То чого галакаєш, непевний?
Я хочу рассказать им всю историю, но, как Филимонов во время удара Шевченко, запутываюсь в мыслях, намерениях.
– Дивний шмарок, – говорит один из них, тот, у которого волосы светлее.
– Эге ж. – И уже мне: – Будь здоровий…
Они хотят уйти, и тут меня наконец прорывает. Я бурно – с гримасами, жестами, криками – объясняю, что произошло. И, закончив, понимаю, что сейчас публично, еще и столь пламенно, расписался в собственной трусости. Теперь будут унижать, издеваться. Но нет – они задумываются, переглядываются.
– Це у школі? Ми нікого не бачили, еге ж? – Светлый кивает. – Подивимось…
Он говорит это просто, легко. И эта его естественность, с которой он готов спешить на помощь, – хренов Чип и Дейл в одном лице – контрастирует с моей трусостью, настраивая против него, хотя должно быть совсем не так. Но я все равно плетусь следом. К спортплощадке, на которой угрозами застыла предвещающая события тишина.
– Тут?
Я не успеваю ответить – слышится шорох. Идем на него. Украинец достает фонарик, пускает голубоватый луч света.
У стены, за металлическим лабиринтом брусьев, полусидит-полулежит Квас. Три нападавших пацана безвольно, точно израсходовали весь заряд батареи, стоят рядом. Зато Найковский Костюм мечется по спортплощадке кроликом Энерджайзером, периодически восклицая: «Где второй? Где, еб вашу мать, второй?» И я – надеюсь, что только я – понимаю, о ком он.
– Чого ви, хлопці?
Найковский Костюм замирает:
– Шо?
– Не поделили чего? – переходит на русский светлый украинец.
– А тебе не по хую? – подходит Костюм. Не обращая внимания на меня, он рассматривает украинцев. Видимо, делает правильные выводы. – А, тут такие рамсы. Приебались, бля, к нашим девахам. Пришлось уебать одного на хуй. А второй, блядь, съебался!
– Так может хватит?
– Та, без базара, хуй с ними, – легко соглашается Найковский Костюм, – второй же уебал на хуй. Ребзя, пошли отсюда!
Трое отходят от Кваса. Я осторожно – в тревожном ожидании его реакции – подхожу к нему. Взгляд рассеян, безжизненен.
– Доведеш хоч?
– Доведу, – я смотрю то в сторону, то в землю, но все равно успеваю разглядеть лицо светлого украинца: с массивным скособоченным носом, колкими глазами и шрамом на левой щеке. Такие не приходят на помощь ночью. Но он помог. И мне кажется, совершенно безосновательно, что дело в моем знании украинского языка.
– Звідки будете?
– Он из Берегового, а я из Каштан.
– А в Угловом що шукаєте?
– Курву! – вдруг говорит Квас.
Он стряхивает мои руки с плеч. Ощупывает лицо, как только что очнувшийся бухарь. Морщится.
– Непевний…
Украинцы протягивают нам руки – ладони у них шершавые, пальцы цепкие – и, попрощавшись, уходят. Будто лишь для того и приходили – чтобы помочь.
Из Углового возвращаемся молча. Автобусная остановка пуста. Согласно приклеенному расписанию с оторванным нижним углом, последний транспорт ушел два часа назад. Ожидание, размышление тянутся разбитой дорогой, по которой нам, видимо, брести и брести домой.
– Как будем ехать? – наконец решаюсь заговорить я.
– Не ссы. Тачку поймаем. Бабло есть.
Вдоль виноградников доходим до трассы. Недолго ждем. Тормозит первая же машина – белая «Волга» с задранным передом. Водитель – усатый, с землистым лицом татарин – на разбитую физиономию Кваса реагирует обыденно.
– Куда?
– До поворота на Береговое. Сколько?
– Двадцатка.
– Много.
– Ну, извиняй.
Квас морщится. Трогает окровавленные губы, висок.
– Ладно, поехали.
Усаживается на заднее сиденье. Я рядом. Сиденье застелено колючим теплым пледом с изображением борющихся львов. Ткань, похоже, синтетическая, и спину, задницу, бедра тут же покрывает нездоровая испарина. Водитель давит на газ, и «Волга», кашлянув, набирает скорость.
Я должен поговорить с Квасом. Объясниться. Но что сказать? Как начать?
– Били?
– Как видишь. – Да уж, не самое удачное начало.
Но вскоре он сам помогает мне сконструировать беседу, говоря так, словно вычерпывает накопившееся неблагополучие.
– Ты когда шуранул, я не понял…
– Я же крикнул «бежим»!
– Да, я слышал, но не вдуплил. Вот же блядь! И не увидел, куда ты побежал.
– Сзади был проход.
– Был, наверное, но я не знал. Просто бегал по площадке от этих придурков. А лысый мне говорит – типа иди сюда, не ссы. Я и подошел…
– На хера?
– Хуй его знает. А он бутылкой.
– Как?
– Но не попал ни хера. Пидорас! Промазал. Я попятился и как наебнулся! Там, оказывается, дырка перед подвальными окнами. В ней они меня и месили.
– Я думал, ты бежишь следом…
Трус! И мерзавец! Потому что даже сейчас, когда слушаю, как избивали моего друга, ищу оправдания – «он ведь сам начал клеиться к девкам» – и паникую даже не из-за того, что струсил, а потому, что все возвращается и, не дай бог, мне прилетит ответочка.
– На, кстати, держи. – Квас лезет в карман, достает две кассеты. Пластиковые коробки – в трещинах. Как в напоминаниях.
– Спасибо, – беру кассеты. – Это что?
– Два альбома “Foo fighters”. Мой тебе, – он печально так ухмыляется, – подарок.
– “Foo fighters”?
– Да, новая группа Дэйва Грола. Не “Nirvana”, – он едва ли ни в первый раз не ограничивается только Куртом, – но достойно.
Отворачивается, замолкает. Пробую расшевелить его вопросами, но они скорее похожи на оправдания. Квас не отвечает. Молча, отстраненно смотрит в окно на измельчавшую Альму; сколько русских, французов, англичан полегло здесь. Видимо, теперь в могилу-копилку добавилась еще одна душа. Моя.
7
Квас убил себя двадцать седьмого апреля. Но я узнал об этом позже – третьего мая. После двух праздничных выходных. Узнал мерзко, нелепо. От Тани Матковской, которая хуже старух знала все и про всех.
– Васильев удавился, – шептала она у закрытых дверей в класс.
Математичка Ирина Викторовна опаздывала, и кабинет никто не открывал. Группа толпилась в коридоре, а Матковская, пуча глаза, надувая губы, шепталась с Толоконниковой и Алехиной.
Последнее время только они с ней и общались. Матковскую вдруг все и сразу перестали уважать. Не любили ее и раньше, но как-то умеренно, терпимо. А тут – откровенная ненависть. Конопатый Стас Бойко даже пообещал набить ей «залупастую физиономию, если она еще хоть раз до него доебется», а девочки при появлении Матковской обрывали разговоры и умолкали. Видимых причин для подобного отношения не было, но так получилось.
Первое время Матковская положение старалась исправить, но потом, словно внутренне фыркнув, болтливым клещом присосалась к двум вечным изгоям – Толоконниковой и Алехиной.
Алехину, молчаливую равнодушную девочку, никто никогда не замечал. Ее не вызывали к доске, и учителя, раздавая контрольные или объявляя оценки, вечно спрашивали: «Так, Алехиной опять нет?» Хотя она всегда, без пропусков, сидела за четвертой у стены партой, разложив тетради, обложки которых она заклеивала белой ораколовской пленкой, а после рисовала на них черной гелевой ручкой упырей и скелетов.
Толоконникова появилась в классе позже. На втором семестре подготовительных курсов. Хорошо, даже эффектно, как для села, одевалась, шутила, смеялась. Но ее отчаянно избегали. Наверное, из-за взгляда, который обычно сонный, блуждающий, казалось, в одно мгновение фокусировался на собеседнике и точно пронзал его. Становилось неуютно, и наваливалось явное, непреодолимое чувство близящегося несчастья.
– Васильев удавился, – шептала Матковская. А Толоконникова эхом подхватывала:
– Удавился? Как удавился?
– В яблоневом саду, – повышала голос Матковская. – И записку оставил. Кровью.
– Не может быть! – Толоконникова злилась. – Да он трус! Какая кровь?
Алехина молча смотрела куда-то в сторону. Ребята из группы слушали их разговор настороженно, с недоверием, но все же, не в силах игнорировать, подходили ближе. От чего Матковская, торжествуя, сыпала новыми подробностями.
Я стоял у лестницы. В голове пульсировало «Васильев удавился, Васильев удавился». Я начал повторять это вслух. Слова были тяжелыми. Как удары.
Наконец подошла Ирина Викторовна. Скомканно поздоровалась. Открыла дверь, пуская учеников в класс.
Но я не мог сидеть на уроке, решать задачи, считать логарифмы. Ведь Квас удавился! Да, Матковская часто лгала, выдумывала, клеветала, но это было бы чересчур, слишком. И я, перескакивая через ступеньки, бросился вниз по лестнице. В директорский кабинет, где по вечерам сидела руководительница подготовительных курсов – Евгения Федоровна, грузная, будто осевшая под собственной тяжестью женщина.
Когда я ворвался, без предупреждения, возбужденный, хлопнувший дверью, она была не одна. Рядом разливала коньяк ярко-накрашенная блондинка в синем брючном костюме. Увидев меня, она убрала, будто смахнула, рюмки под стол, а Евгения Федоровна, пунцовея, крикнула:
– Ты кто такой?
Я почему-то обратил внимания на ее руки. Не преподавательские, а какие-то мужицкие – огромные, узловатые, красные. И вид этих креветочных рук сделал меня решительно-агрессивным.
– Правда, что Васильев удавился?!
Евгения Федоровна ахнула. Но лицо блондинки в густом слое пудры не изменилось:
– Тебя спросили: ты кто такой!
– Я его друг!
– Васильева?
– Васильева! – И громко, с надрывом, крикнул: – Он удавился?!
– Не ори! – Блондинка поморщилась. – Сядь!
Она указала на стул. Я подумал, что лучше сесть. Но для верности еще раз крикнул:
– Где Васильев? Почему он не на занятиях?
Кваса не было две недели. Все это время я ждал его, и воспоминания о моем бегстве, как орел к Прометею, – мне очень нравился этот миф, вычитанный в серой книжке с изображением античных колонн – прилетали ночью, чтобы терзать и без того воспаленный совестью мозг.
– Молодой человек, успокойтесь. Меня зовут Светлана Анатольевна, я директор школы. Евгению Федоровну, полагаю, вы знаете. Теперь представьтесь, пожалуйста, вы.
Я вздохнул. Злость, а вместе с ней и уверенность, иссякли, кончились. Я вновь был испуган, раним, уязвим.
– Аркадий Бессонов, группа ФМ-11.
– Хорошо, спасибо. У вас, кажется, сейчас идет математика, Аркадий?
– Идет.
– А почему вы не на ней?
– Потому что… – Я запнулся, не зная, что и как говорить. Фразы, мгновение назад вырывавшиеся с такой легкостью, застряли вдруг глубоко внутри. – Я… я… там говорят, что Васильев умер!
– А вы, простите, ему кто будете?
– Я… друг.
– Да, да, Васильев общался с Бессоновым, – вставила Евгения Федоровна.
– Вот как, – блондинка ухитрилась растянуть два этих коротких слова. – И ты бы хотел узнать, что случилось с Васильевым, Аркадий?
– Да. – От ее «случилось с Васильевым» заныло в правом боку.
– Что именно?
– Он удавился?
– Кто это сказал?
– Матковская.
– У, сплетница! – разозлилась Евгения Федоровна. – Язык без костей!
– Он не удавился…
– Слава богу!
Я так обрадовался, что вскочил со стула. Мне хотелось сперва обнять блондинку, развенчавшую матковскую глупость, а после, выпросив адрес Кваса, ехать к нему.
– Но…
– Света! – вскрикнула, точно одергивая, Евгения Федоровна.
– Что? – Блондинка постучала об оргстекло, по советской традиции накрывавшем стол. – Они ведь друзья…
Я замер, импульсивно прижался к стене.
– Но его… больше нет с нами, Аркадий. – Блондинка по-птичьи дернула головой.
– Нет?
– Нет! – уже тверже кивнула блондинка.
Евгения Федоровна встала из-за стола, подошла ко мне:
– Сегодня не ходи на занятия – езжай домой.
– Да…
Это говорил, стоял, качался не я. Кто-то другой. В моей оболочке. А тот я, прежний, повседневный, был там – на спортивной площадке со сломанными баскетбольными щитами.
– Давай мы позвоним твоим родителям.
– Мама и бабушка на работе, – механически ответил я.
– А папа?
– Нет папы.
– Тогда… – Евгения Федоровна запнулась.
– Надо позвонить…
– Не надо!
Мысли, точно позвонки от ударов мануальщика, встали на место. Я почувствовал, как во мне родилось и укрепилось вязкое апатичное спокойствие.
– Не надо звонить. Дайте мне его адрес.
– Васильева?
Я кивнул. Евгения Федоровна вздернулась:
– Мы не можем этого сделать! Надо отвезти тебя домой!
– Евгения Федоровна! – Блондинка подняла руку.
Взгляд ее изучал, искал меня. И я ответил на инспектирующий запрос. Первый раз столь решительно, не отводя взгляда, я смотрел в глаза другому человеку. Не моргая, не паникуя – убедительно, цельно. Блондинка без слов допрашивала меня. И я понимал, чего она боится.
– Хорошо, мы скажем, но все будет хорошо, да?
– Да. Обещаю.
– Светлана Анатольевна, мы не можем…
– Под мою ответственность! Ему это надо.
– Мне это надо, – глухо повторил я.
– Хорошо. Он живет… жил, – она неловко поправилась, – в Береговом…
И продиктовала адрес.
К остановке как раз подошел рейсовый автобус. Сев в него, я подумал, что буду прокручивать моменты знакомства с Квасом снова и снова, но этого не случилось. Я тут же отключился, погребенный под неподъемной плитой дурного сна.
Квас жил в деревянном домике на улице Гайдара. Во дворе, густо поросшем бурьяном, с неизбежностью века боролись за существование ветхий дощатый сарай и несколько вишневых и сливовых деревьев. Огорода, курятника, загона для скота вопреки сельской логике не было. Но в безысходной запущенности, казалось, присутствовала своя гармония. Чужим, инородным – будто НЛО приземлился – в этом бледном, тоскливом пейзаже выглядел лишь синий пластиковый бак для воды.
Я толкнул деревянную калитку с нарисованным суриком числом «27». Она легко подалась, не закрытая ни на крючок, ни на засов. К домику вела вытоптанная тропинка. От усилившегося дождя она размокла, и я, меся грязь, добрался до входной двери, вымазавшись. Постучал. Так, чтобы не слишком громко – деликатно, не нарушая тишины горя.
– Кто?!
Агрессивный крик, прозвучавший из-за двери, прилипал и вызывал досаду. Настолько сильную, что я захотел уйти. Но, от чего-то вспомнив блондинку и Евгению Федоровну, сдержался.
– Это друг Юры.
– Кто?!
Еще злее, напористее. И я решил не уступать этому крикливому созданию, прячущемуся за дверью.
– Друг Юры! Откройте!
Тишина. «Не откроет», – подумалось мне, но раздался шорох, и дверь, обтянутая белой полиэтиленовой пленкой, какую обычно используют для парников, распахнулась. На пороге стоял расхристанный мужик в грязной тельняшке. Во всем его облике – растрепанном, взбалмошном, озлобившемся – присутствовало нечто пёсье: старый кудлатый кобель, лающий надрывисто, хрипло, по поводу и без.
– Ну, заходи, друг Юры…
Он посторонился, обдавая меня кисловатым запахом, точно вскрыл задохшуюся банку из-под солений. По захламленному коридору с низкими, давно беленными потолками провел в квадратное помещение с желтыми, раскольниковскими, обоями, усиливающими эффект комнаты-шкафа. Из мебели – деревянный стол темного цвета, три синих стула с выгнутыми спинками и старое советское трюмо с треснувшей правой створкой. В углу, в глиняном горшке, ютился изогнутый дугой зеленый монстр с жухлыми лапами-листьями.
– Располагайся, – человек отодвинул стул. – Борис.
Руки не протянул. Закурил, пододвинул к себе консервную банку из-под сайры, чтобы стряхивать пепел.
– Аркадий.
– Аркаша, стало быть? Ну, чего прискакал, Аркаша?
Я растерялся, не зная, что отвечать. Он сидел передо мной – кудлатый, ухмыляющийся из-под рыжих гуцульских усов, повисших двумя сосульками. Весь его облик, несмотря на расхристанность, как бы говорил: «Эй, пацан, не суетись», заявлял, что никакой трагедии не произошло. Точнее, она была, но не сейчас, не из-за Кваса, а давно, много десятков лет назад. И эта манера держать себя убеждала его и окружающих в том, что он давно смирился, подстроился и теперь, в общем-то, живет нормально.
– Накатишь?
Выпить мне и, правда, хотелось. По его цепким глазам я видел, что он чувствует это, и оттого, внутренне насмехаясь, валяет дурку.
– Нет, нет, спасибо.
– Зря…
Он достал из-под стола трехлитровую банку с бордовой жидкостью. Снял пластиковую крышку и отпил, глотая так, что его неприлично большой кадык заходил лифтом. Пахнуло чем-то спиртовым, виноградным, удушливым. Как из давно непроветриваемых погребов.
– Шустрее давай, Аркаша, не в масть нынче трепаться, – выдохнул Борис. Развязный тон его провоцировал, задирал, и я, ощетинившись переживаниями, быстро заговорил:
– Я друг Юры. Мы вместе учились на подготовительных курсах в Песчаном. Я хочу знать, что с ним произошло.
– Умер он, – ровно, без эмоций сказал Борис. И эта его апатичность словно инфицировала меня.
– Да, но… – вновь пауза, вновь запнулся, – как он умер? Из-за чего?
– Тебе не по херу ли? Чужой колпак ведь на голову не натянешь. – Он вновь отхлебнул из банки.
– Я же говорю: мы дружили, учились вместе на курсах…
– Хуйня – эти ваши курсы! Я ему говорил, Юрчик, на хер они тебе? А он загорелся, хоть до учебы и жадным не был, – Борис замолчал, подумал: – Тугриков я ему выделил, а он пошарахался и охладел. Посербаешь, а, бражки?
– Нет, спасибо. Юра жил здесь?
– Ну да, со мной. Я ему вроде как дядя.
– Ясно…
Вопросы мои застряли в глотке. Не извлечешь. И я подумал, что напрасно затеял это, в сущности, сериальное разбирательство. Впрочем, уж если затеял, то надо идти до конца.
– Можно… можно посмотреть комнату Юры?
Борис хмыкнул, пуская винные запахи, но согласился.
Судя по обстановке, Квас мебель не жаловал. Кровать, стул, шкаф – все расшатанное, скрипящее, из ДСП. Стены обклеены черно-белыми, цветными плакатами: – у меня дома тоже были такие, но приходилось хранить их в ящиках письменного стола; мама боялась испортить обои – Кобейн, на сцене и в жизни, с гитарой и без. На каждой – пронзительный, отчаявшийся взгляд Курта. Похоже, он знал, что с ним будет.
Знал ли он, что произойдет с другими? С теми, кто пойдет следом за ним? Веря, ища. Мне так и не сказали, что произошло с Квасом. Но в его комнате все стало ясно. Он умер, потому что сам того захотел.
– Он отравился.
Голос, раздавшийся за спиной, заставляет вздрогнуть. Так резко, что простреливает чуть ниже левой лопатки. В дверях стоит Борис. Мнет треснувшими губами окурок. Кудлатость его пропала. Он кажется другим – собранным.
– Я зашел, а он лежит. Жмурик. Мы их в Афгане вот так навидались. Врачиха сказала, таблеток балбес наглотался. А он, видать, знал каких. Теперь лежит на кладбище, в Береговом. И записку оставил…
– Как?!
– Да там малехо. «Лучше сгореть…
– …чем раствориться».
– Ты, я смотрю, – ухмыляется Борис, – из тех же. Так что лучше иди. И глаза не мозоль. Мне племянника вот так, – ребром ладони он вновь упирается в свой неприлично большой кадык, – хватило…
Борис закрывает дверь молча. Без прощаний. Звук поворота ключа в замке кажется неестественно громким.
Говорят, что у каждого человека есть своя миссия. Возможно, у Кваса она заключалась в том, чтобы донести до меня некие вещи. Мысль эта, наверное, с моей стороны глупая, эгоистичная, но ведь в таком случае жизнь Кваса, как и его смерть, не случайны. Я думаю об этом до самого дома, где, мечась по чисто убранной хате, истерит мама:
– Где ты был, где ты был?!
На этот раз волнение ее не тихое, в себя направленное, а бурное, экзальтированное, расплескиваемое на окружающих. И я понимаю, что уже давно должен был вернуться с подготовительных курсов.
Мама волнуется, ждет. Не спросишь, не позвонишь. Пюре, фаршированный перец стынут. Но меня нет. Час опоздания, два. Где сын?
Наверное, я должен был приучить ее относиться к своему отсутствию проще. Наверняка должен был. Но теперь – что? Вычерпывать ложками ее океан волнений. Пусть и так жаждется поделиться с ней: рассказать и о Квасе, и о Раде, и о курве, и о нетопыре – обо всем, что съедало мою жизнь последние месяцы. Но мама конечно же не поймет, хоть и сделает вид – это, наверное, будет особенно неприятно, – что якобы все понимает.
– Может, купить телефон? – тяну я, словно измученный надоедливым внуком дед. – Так тебе будет легче…
Говорю это без особой надежды, просто, чтобы не приставала, но мама вдруг заинтересовывается, начинает расспросы, подробные, точно исследование проводит. Я терпеливо объясняю, хотя и сам путаюсь в силу скудости знаний. Мама же злится, принимая мою терпеливость за надменность, и я боюсь, что еще чуть-чуть, и она пустит по хате корвалольный запах. Но наконец мы договариваемся.
Возвращаюсь в комнату почти стариком. Весь этот истеричный, дурной разговор как логическое завершение изматывающего, перемалывающего безысходностью и нелепостью дня. Расстелив постель, усаживаюсь на нее, стараясь упорядочить произошедшее, но по зябким коридорам души издевательски победоносно шагает запоздалый стыд.
Мальчик, которого я любил, – мужчина, которого я боюсь
1
Первым человеком, кому я рассказал о смерти Кваса, стала Рада. Мы стояли на остановке, напротив места Альминского сражения, о котором сейчас напоминал лишь небольшой, в полуметр высотой, обелиск. Надписи на нем стерлись, остался лишь безмолвный камень.
– Ничего, ты справишься, – сказала Рада, когда я закончил.
Только это она и сказала. Хотя я ждал облегчающих слов, ждал утешения.
– Запиши мой номер, – тут же переключилась с темы Кваса она.
Я достал огромный, с торчащей антенной мобильный телефон “Motorola”. Мама купила его удивительно быстро – на следующий после моего предложения день, – выбрав самый дешевый и самый надежный вариант. Я, правда, его очень стеснялся, потому что даже в деревне он казался безвкусным в своей архаике; может быть, по такому еще Ти-Рекс назначал свидание своей хищной подружке.
Рада чмокнула меня в щеку, села в автобус, помахала из-за стекла, изрисованного угольными анархиями. И я остался один. С рафинированным пониманием того, что со смертью Кваса мне совершенно не с кем общаться. Некому признаться в страхах. Не у кого просить совета. Наконец, не с кем обсудить самостоятельные, записанные вне “Nirvana”, альбомы Дейва Гроля. И этот недостаток общения душит, как отсутствие кислорода, вынуждая заново учиться жить в липком безвоздушном пространстве; колышущемся, пульсирующем, но безвоздушном.
Мама, как бы она ни старалась, в силу возраста и, прежде всего, конституции никогда бы не поняла меня. А Рада? Что Рада? Я верил, будто женщина должна жить интересами мужчины, разделить его участь. В нулевых это окончательно назовут шовинизмом. И сама жизнь усилиями женщин, с которыми я свяжу тело, быт и неловко попытаюсь всучить душу, станет переучивать меня, заставляя считать иначе. Она привьет хандрой одиночества, рождая тоску по близким. И самое мерзкое будет заключаться в том, что печаль эта окажется не по людям даже, а по самому себе, по тому, каким, отразившись, ты был в них и каким уже никогда не станешь. Оттого будешь хандрить, точно перелистывать некролог детям, со смертью которых навсегда утрачен шанс на спасение.
Но это будет позже, а тогда я лишь музыкально переучивался, походя на торчка, спрыгивающего с героина в поисках адекватного заменителя. После самоубийства Кваса я ни разу намеренно не слушал “Nirvana”. И, на самом деле, это значило для меня куда больше, чем кажется. Потому что с новой музыкой вызревал – или так мне казалось? – новый я.
Рада подарила мне аудиокассету с десятком песен, но из них мне нравилась только “Don’t speak”. Впрочем, этого было достаточно. За сакральным «молчи» скрывалось могучее тайное знание, которое воспринималось сердцем, не разумом; ведь стоило узнать перевод, и волшебство, как в клипе “A kind of magic”, исчезало, рассеивалось, потому что откровение, если понимать текст, оказывалось примитивной, банальной соплей о несчастной любви. “Yesterday” – почти «Отче наш», если не знать английского языка.
Настраиваясь, я подпитывался “Don’t speak” перед важными событиями. Вот и перед тем, как пригласить Раду к Пете домой, я прослушал балладу “No doubt” не меньше десятка раз.
– Хочу. Пригласить. Тебя. На. Встречу. Мы. Репетируем. Окончание. Учебы…
Рада без проблем согласилась. Она, собственно, и не могла не согласиться. Потому что сверлила, бурила во мне дыры из-за того, что мы не посещаем кино, дискотеки, кафе, а таскаемся – чаще всего в качестве гиблого места она приводила руины конюшни – черт знает где. Я, подтягивая самоуважение, как раненая собака поврежденную ногу, внутренне лютовал от того, что так не ведут себя девицы из сельской халупы, где курва-мать обслуживает извращенцев.
Не понимаю, что держало нас вместе. Точнее, что заставляло Раду быть со мной. Отвечать на судорожные звонки. Писать редкие смс. Целовать и по-прежнему хотеть секса. Я пытался разобраться в этом странном ее желании, найти логику, а, значит, и смысл, выгоду, но не находил. Я не был богат. Так себе выглядел: не то, чтобы распугивал окружающих, но и не выделялся – посредственный. Может быть, – гипотетически – я бы феерил в сексе, но проверить это не представлялось возможным.
Тогда что Рада находила во мне? Или это была автоматическая привязанность? Почему она все еще рядом?
В своих «почему», я започемукивал себя так, что был готов разорвать наши отношения. И оттого все чаще сам провоцировал скандалы, искал пресловутого выхода эмоций. Стучался то в одну, то в другую дверь. Они были заперты, а когда распахивались, содержимое помещений, в которые я попадал, вызывало отвращение. Запахами, видами, звуками. Мне казалось, что я очутился в склепе, под который переоборудовали дом престарелых. И в роли когда-то передвигающихся, а теперь неподвижно лежащих стариков были разные версии моего Я. Разные с точки зрения возраста, обстоятельств, возможностей.
Рада реагировала спокойно. Достойно, как мне казалось. И оттого я злился еще больше, не в силах обуздать себя, каждый раз свирепея перед ее появлением.
– Привет.
– Привет.
Она тянется, чтобы поцеловать. Отшатываюсь.
– Что опять не так?
Рада вздыхает, совсем как уставшая тетка, только что отпахавшая смену.
– Ничего, все нормально.
– Ну да, как всегда…
Оставшийся путь – по переулкам улицы Ягодной, мимо сосен, высаженных у дощатых заборов, – идем молча. Петя Майчук собирает нас в одном из своих домов. Узнаем его сразу. Дом трехэтажный, кирпичный, с детской площадкой у входа. Стоит чуть дальше от остальных хат, точно обозначая место в табели о рангах, ближе к виноградникам, наваливающимся зазеленевшими рядами. Двор пуст, бетонированная площадка очерчена дубками.
– Мило, очень мило, – говорит Рада. И это единственное, что она произносит за, наверное, последние двадцать минут.
В беседке, увитой лозами винограда, на деревянной резной мебели сидят две татарки. Здороваемся – не отвечают. Из распахнутых окон слышится музыка, и бойкий голос спрашивает студента, где же тот девчонку новую нашел.
Замечаем Петю. На нем светлые джинсы и кремовая рубашка. Он почему-то держит в руках кусок сырокопченой колбасы с крупными зернышками жира:
– А, Бесик! Да не один…
Колбасный дух дышит, где хочет, но чаще всего на нас. Рада сдержанно улыбается.
– Петя, это, – запинаюсь, – Рада.
– Да я понял, чувак, заходьте!
Он ведет нас в полуподвальное помещение, из шкафа достает пузатую черно-белую бутылку. Содержимое в ней тоже черно-белое; причем светлая жидкость льется из одного горлышка, а темная – из другого. Красиво, но вкус у этого пойла – будто ванильное мороженое облили валерьянкой.
Рада чуть отпивает, вытягивая губы так, что вспоминаю крышеснос у памятника гвардейцам, его хоть и волнительную, но приятную, без эксцессов, часть. Я же проглатываю всю порцию.
– Вы тусуйте, а я на связи. Жду, когда все подчалят…
Всякий раз, когда остаюсь с Радой наедине, мне кажется, что ее правильные губы складываются в «уверена, ты справишься». Артикуляция четкая, убийственная.
Но есть вероятность, что я не справлюсь. Потому что Рада – взрослая женщина. Знает, чего хочет. Знает, как это взять. А я ребенок, неспособный принять решение. Несмышленый теленок, которого и к водопою-то вести надо, иначе помрет от жажды.
– Долго еще?
– В смысле?
– Долго еще издеваться будешь?
– Не понимаю…
– Не понимаешь? Мне, блин, прямым текстом сказать?
– Хорошо бы. – Вдруг становится все равно. Жалею, что пришел к Пете. Жалею, что взял с собой Раду.
– Придурок!
Она отворачивается. Я боюсь, что вот-вот расплачется. Очень боюсь. Потому что не выношу женских слез. Они делают слабым, больным, мягким.
– Рада, я, правда, не знаю, о чем ты…
– О том, что мы не трахаемся, идиот!
Она поворачивается резко, стремительно. Губы плотно сжаты, глаза влажно блестят. Несколько раз бьет меня в грудь, выкрикивая:
– Придурок! Придурок!
А я смотрю на бутылку с ликером, хочу выпить, нажраться, чтобы уйти от всего, но, не зная, как лить из двух горлышек, боюсь к ней притронуться.
– Все… будет.
– Это одолжение?
Не быть вдвоем с Радой. Отвлечь ее от себя людьми. Избавиться от навязчивых разговоров.
Мы поднимаемся на первый этаж. В большую просторную комнату, такие обычно принято называть гостиными. Много мягкой мебели, обтянутой пестрой искусственной тканью. Какие-то низенькие столики, похожие на грибы. И полупрозрачные шторы морских тонов.
По гостиной задиристыми мухами вьются подростки. Жужжа, общаются, перекрикивая друг друга. Низкий белобрысый парень с выгнутыми ногами всадника, зажав бутылку «Немирофф», пристает ко всем с предложением выпить. Жду, когда он дойдет до меня. Но парень зависает рядом с двумя девчонками в оранжевых комбинезонах. Странный наряд, потому что все остальные девушки в платьях. Рада, например, в красном. С обязывающим декольте. Хотя, по идее, оно должно не обязывать, а увлекать.
Все обыденно, душно. А ведь раньше я мечтал попасть на нечто подобное. В духе вечеринок из «Американского пирога». Мне казалось, что здесь мальчики обнимаются с девочками. И они танцуют, раздевая друг друга. В общем, что-то такое, в похотливо-развратном духе. Но атмосфера весьма скромная. Только Петя пристает то к одной, то к другой девчонке. Трогает за грудь, попу – ему можно. Остальным нельзя? Или рано?
Рада встречает свою знакомую, Ангелину. Это имя совершенно не подходит к ее коровьей внешности. Она пьет «отвертку» из пластикового стаканчика. Хорошо, что можно оставить их двоих – пообщаться.
Выхожу на улицу, к виноградной беседке. К татаркам присоединились трое молодых татар. Один, жирный, в бирюзовой пайте с вышитой буквой “W” что-то громко рассказывает. Наверное, анекдот. Судя по тому, что татарки смеются. Проходящий рядом рыжий пацан зачем-то останавливается и начинает хохотать вместе с ними. Татары зло на него смотрят.
На заднем дворе нет парников, грядок. Здесь мир цветочных клумб, хвойных деревьев, необычных камней. Между всем этим изяществом, точно и не Каштаны вовсе, змейками вьются выложенные блестящей мозаикой дорожки.
Иду по ним, шатаясь без цели. Вдруг слышу шум, стоны, пыхтение. И сразу же становится ясно, что происходит. Живое порно! Взбудораживает, хочется подсмотреть, увидеть. Ведь интереснее, чем «Дневники Красной Туфельки», серий которой, если бабушка с мамой уснут, приходится ждать субботней ночью.
Впервые я познакомился с порнографией в двенадцать лет. Бабушка ушла то ли в церковь, то ли к подруге, а мама, несмотря на христианские заветы, все-таки работала в воскресенье, и тут завалился пьяный отец. Дико улыбнувшись, он полез в холодильник, достал жирный борщ и принялся хлебать его прямо из общей кастрюли деревянной расписной ложкой, которую мама держала для красоты, повесив у газовой плиты на гвоздь. Жрал отец, громко чавкая и смокча. А потом, выматерившись, завалился на скрипучую, с провисшим матрасом кровать в конце кухни, рядом с киотом и столиком, на котором бабушка держала свечи, просфоры, агиасму.
Проснувшись, отец напился воды из стоящего на кухонной скамье ведра и убежал, не прощаясь. Кастрюля с борщом осталась на столе, облепленном малахитовыми мухами. Мы так и не убрали ее в холодильник «Минск», хотя он, вибрируя и жужжа, вовсю напоминал о своем присутствии.
Я подошел к кровати, где дрых отец. На зеленой махровой простыне валялась смятая, жамканная газета. Я взял ее, развернул и увидел полногрудую девицу в средневековом платье. Глаза побежали по строчкам, сначала лениво, а затем жадно, настойчиво, приклеиваясь к округлости «о», ягодичности «в» и распальцовке «ш».
Племянник навестил тетушку в ее провансальском имении. Разговоры, потчевания, перемещаются в сад – прогуляться. Утомившись, тетушка за приятной беседой располагается под дубом, но засыпает, обнажив «ноги в чулках с подвязками». Их вид так возбуждает племянника, что он, не сдержавшись, прикасается к «мерзкой плоти». И тут же кончает.
После будут развлечения в спальне тетушки, но я прочту о них невнимательно, бегло, потому что секундою ранее коснусь головки члена ладонью. Так случится моя первая осознанная эякуляция, и похоть, которая, если верить святым отцам и бабушке, цитировавшей их, привязывает к земле больше другого, завладеет мной, взяв в рабство. Порнография станет обыденностью, и оттого утратит смысл, превратившись в наркотик: больше, больше извращений – или I can’t get no satisfaction.
Автором истории про тетушку и племянника значился Дмитрий Волколак. Я ненавидел его и за идиотскую фамилию, и за то, что он изуродовал мою будущую сексуальную жизнь.
Но подсмотренное на вечеринке у Пети – натурпродукт, не пропущенный через мониторы и объективы. Двое прячутся за орехами. Стоны громче, откровеннее. Разохотились. Я же, налившись возбуждением, подхожу осторожно, тихо.
Девушка, подняв по-цыгански аляповатую юбку, облокотилась о ствол дерева. Голова свешена, ягодицы молочно-белые, тощие. Парень двигается, не сняв клетчатых брюк. Руки его повисли вдоль туловища, длинные, узловатые. И оттого кажется, что двигаются лишь ноги, а все, что выше – атрофировалось, увяло. Две половины человеческого организма, существующие обособленно друг от друга.
И я понимаю, что должен поступать с Радой именно так. Возможно, в такой же позе. И руки мои, неловкие, ненаученные, так же свесятся плетьми. Только ягодицы у Рады, наверное, не тощие и не бледные. Но это не успокаивает, наоборот – повышает степень ответственности.
От реализма представленного я то ли кашляю, то ли хриплю. Девушка продолжает двигаться, а вот парень находит стоп-кран – оборачивается испуганно, резко. Лицо у него изможденное, но скорее не физически, а морально; есть такие, с печатью вселенской скорби. Он смотрит молча, не реагируя. Оттого вся ситуация кажется фантасмагорической, дикой. Парень будто сигнализирует мне: «Надо сделать все по-нормальному! Раз я не ору, то давай ты! Давай!»
Девица вскрикивает «ты чего замер?», бьет любовника по бедру. Он издает странный звук наподобие растянутой буквы «ш», только с присвистом. И девица останавливается, грозя травмой пещеристых тел, слезает, одергивает юбку.
Рассматриваем друг друга. Лицо у девушки, в общем-то, симпатичное, если бы не верхняя губа – раскатанная, пухлая.
– Тебе чего?
Слова она тянет на гопнический манер. И вообще вся агрессивная, готовая броситься, но трусящая, пока ни прощупает наверняка.
– Да вот…
– Пялишься?
Юбку она одернула плохо.
– Нет, поссать зашел, – наконец соображаю я.
– Поссать, блядь. – Девка тормошит парня. – А ты чо, Немой, бакланишь?
– А чо я?
– Да ничо!
И вдруг – быстро, как-то разом – боевитость ее стихает, трансформируясь в грусть. Взгляд уже не с напором, а в поиске утешения, понимания.
– Извините, я тогда пойду… до свиданья…
Забираюсь обратно в ореховые деревья, выхожу на мозаичную дорожку – и скорее в дом, искать Раду. Она все еще треплется с Ангелиной, но теперь и у нее в руках пластиковый стаканчик.
– Будешь? – Протягивает мне «отвертку». Желтая вода с пузырьками отдает спиртом.
– Ага.
– Ну не все же, – тянет Рада, глядя на опустевший стаканчик.
– На, держи мой, – Ангелина, недовольно косится на меня.
Рада берет стаканчик, выпивает – дурной пример заразителен; хороший слоган для фильма о зомби – до дна. Сминает, берет за руку, тянет к себе:
– Идем!
Впервые от нее не пахнет вяжущей терпкостью духов. Сейчас иной запах – человеческий: пот и спирт. И я вдыхаю его в надежде выделить подлинный аромат Рады, который она все время забивает другими, наносными, флюидами. А ведь все дело в запахах. Так говорят. Возможно, я не хочу Раду из-за ее аромата. Возможно, дед был прав насчет специфики татарского тела, и Рада – кстати, почему так и не выяснил? – на самом деле татарка. Тогда у меня есть отговорка, алиби. Пусть и неадекватная, но так и я не образец.
Рада затягивает меня в комнату. Закрывает дверь. Шторы задернуты. Иду к ним, чтобы распахнуть, но Рада толкает меня на диван. Ворсистая поверхность. Такая, как я не люблю. До аллергии.
Почему в такие моменты я всегда думаю об ахинее? Ведь Рада – вот она, трепещущая горящей свечою: проведи рукой, поиграйся, ощути пламя, обожгись, пока она лезет с пьяными, влажными поцелуями. Хочет отдаться. И даже я в своей преступной закостенелости понимаю, что Рада может подарить мне такую страсть, какая редко достается мужчинам. О, счастливчик! Но нет радости – только апатия, страх. Хотя, может, именно от того, что я не заслуживаю подобного отношения, и рождается мое безволие пугливой амебы.
Рада лезет мне под футболку; не трогай, не гладь – это мой жир, да-да, мне надо худеть. Лезет в штаны; не щупай – он слишком маленький, я измерял его линейкой “Nirvana”. Извиваюсь, еложу под Радой. Один большой жирный комплекс. «Трахни меня, Рада, трахни!» – должно быть так, а на деле: «Выпотроши меня, Рада, выпотроши!» Чтобы, очищая, извлечь наружу все обиды, фобии, травмы. И я изучу их позже, вместо пошлых анекдотов и любовных стихов, но сейчас они придавят меня к дивану без права опротестовывать происходящее.
Смешно? Печалиться, убиваться под девушкой, на которую так легко навесить истертый сальными пятернями ярлык «сексуальная»? Все так. А толку?
Думаю, проблема в том, что принято называть женским воспитанием, отупляющим, как барбитураты (не знаю точно, как действуют барбитураты, не пробовал, но, судя по книгам Берроуза, именно так; да и мне нравится само слово). «Эта курва погубит тебя!» – вспоминаю реплику Кваса. Возможно. Но ведь и я курва, на свой манер. Потому что заблудился между манией величия и комплексом неполноценности. Слишком хороша для меня. И слишком настойчива, как дичь, сама насаживающаяся на вертел. А я ведь охотник. Где-то там, очень глубоко внутри. Просто охотиться не научили.
В «Старом замке» я не мог подойти к Раде. И клял себя за это. Но то, что она подошла сама, не упростило задачи. Наоборот – создало новые трудности.
И, похоже, Рада принимает мои судороги, извивания за возбуждение. Заводится еще сильнее. Или все понимает, но сама возбуждается от сопротивления. Не суть важно. Главное – результат. А он липкий, влажный, горячий. Ее рука двигается вверх-вниз, отводя крайнюю плоть. Наслаждается. И я должен, наверное. Но не выходит.
Руками – в упругую грудь. Хочу оттолкнуть Раду, но силы пропадают, точно утренняя дымка на ставке, куда я ходил рыбачить с братом, а он насмехался над моей неуклюжестью. И как тогда, на ставке, я не способен противиться, возражать, сопротивляться. А Рада влажно, горячо дышит в ухо, обдавая запахом алкоголя:
– Мой сладкий…
Нет, определенно, надо было напиться. И все случилось бы идеально. Ну или просто случилось.
Вдруг что-то ударяется в дверь. Тяжело, глухо. Так, что Рада больше не увлечена мной. Сексуальное возбуждение, кажется, сменяется волнением. И впечатление, что бьют не кулаками, не ногой даже, а чем-то вроде тарана. Толпа уродливых, разъяренных орков – недавно я закончил читать Толкиена – ломает ворота замка, где принц спрятался с принцессой.
Рада вскакивает с дивана, кивком головы указывает на дверь. Женская привычка – гнать мужчину разбираться с опасностью. Дань традициям. Но идти мне не хочется. Рада будто разогрела меня, вскипятила в котле любви, и я, бурля, вылился на плиту, оставляя следы капитуляции. Поэтому лежать на зеленом диване с ягодичной полосой посередине, прилипать к нему кожей, раздражая ее, чтобы ощущать себя живым, цельным.
– Открой!
– Хорошо, – отвечаю я, но продолжаю липнуть к дивану.
Она смотрит волчицей, и лютость, которую я всегда идентифицирую по ее карим глазам, еще более темнеющим в такие моменты, переходит в решительность. Рада подходит к двери, быстро, уверенно распахивает ее и тут же, вскрикнув, отшатывается. Вскакиваю с дивана (мне кажется, стремительно, но, на самом деле, чудовищно медленно).
На двери – пятна крови. Они впитываются в дерево. А на полосатом линолеуме мордой в пол лежит рыжий парень. По его голове ясно, откуда на двери кровь. Над парнем – от него прет блевотиной и алкоголем – нависают шестеро татар. Троих я видел в беседке с татарками, которые тоже стоят чуть дальше. Ищу глазами Петю – его нет.
Рада подскакивает к окровавленному парню. Опускается на колени.
– Господи, что с тобой?
В момент, когда она кричит это, я неожиданно испытываю к ней подобие возбуждения, замешанного, как мне видится, на том, что Рада, оказывается, может не только пылать, течь, целоваться, требовать, но и сострадать.
Вейнингер, которого я буду штудировать на старших курсах, делил женщин на проституток и матерей. Я был обречен на выбор материнского типа, потому что мама и бабушка пестовали меня в лоне докучливой заботы, напоминающей теплое коровье вымя, но проститутки манили по-своему, иными страстями. Они напоминали пламя свечи, над которым нужно было держать палец, терпя, пропекая его так, чтобы в итоге ощутить палево мяса, пахнущего – ради этого все и затевалось – точь-в-точь, как мясные вырезки, разложенные на рыночных рядах в Магараче, куда мы ездили на ярмарку за покупками.
Подобными упражнениями со свечой я развлекал себя вечерами, когда в девяностых с пяти до одиннадцати, а иногда дольше отключали электричество. В деревне это было еще не так страшно, потому что печка топилась углем и дровами. Но в севастопольской квартирке на Острякова, где мама каждый вечер тщетно трогала ледяные батареи, отсутствие света зимой представлялось едва ли не катастрофой: обогреватель не включишь, и мы, надев зимние шапки, куртки, несколько пар шерстяных носков, кутались под одеялами, а за стеной, трезвея от холода, плюгавый сосед орал: «Будь проклята ваша блядская независимость!»
Рада просит йод, вату, перекись – что-нибудь, лишь бы обработать рану. Но стоящие не двигаются. Хотя и взглядов не отводят. Впитывают происходящее, ждут, что будет дальше.
Боров принимается орать на Раду. Так, что брызжет слюной, точно капитан Смоллет из советского мультика «Остров сокровищ». Не понимаю, чего он хочет, потому что изъясняется боров на татарском. Глаза у него на выкате – два яйца с красноватыми прожилками. Рада поднимается с колен, встает напротив и вдруг резко отвечает ему по-татарски. Я, ошалев, держусь сзади. Напор Рады так силен, что боров неожиданно отступает. Сипя, засовывает руки в карманы, уходит.
К Раде подбегает Ангелина, протягивает бинт, пузырек с перекисью водорода. Помогает обработать рану на голове парня. Тот, постанывая, встает сначала на четвереньки, а затем – на ноги. На конопатое лицо его – узнаю рыжего, подходившего в беседке к татаркам, как Джим Левенстайн к Наде, похохотать за компанию – падает окровавленная липкая прядь. Над верхней губой парня – белая полоса, точно след, какой бывает после того, как напьешься молока из кувшина. Рада тянется, чтобы вытереть его, но парень отводит руку – это шрам – и вдруг улыбается. То ли улыбка у него дикая, то ли неуместность ситуации сказывается, но эффект выходит пронзительный.
– Ну их девка, и хули? Не по голове же хуярить? Татары ебучие!
Я и Ангелина рефлекторно пожимаем плечами, а Рада с настойчивостью квочки лезет к парню с бинтом, смоченным в перекиси. Кто-то приносит зеленку. Ангелина неудачно поддевает ногтем пробку, и зеленка под вскрики проливается на линолеум.
– Что за херня?
Это наконец появляется Петя. Заметив рыжего парня, он суетливо, по-рыночному кричит:
– А, ну пошел на хер отсюда!
Петя напирает, вот-вот ударит. Но парень ящерицей ныряет в какой-то проход. Петя, кажется, хочет бежать за ним, но, увидев пятна зеленки и крови, верещит:
– Охуели?!
Развернувшись, ища, кого бы призвать к ответу, он почему-то утыкается своими забавными глазами в меня:
– Это что за херня, Бес?
Забавные они потому, что Петя весь десятый класс страдал конъюнктивитом и, леча его, мазал ресницы все той же зеленкой. Смотрелось это нелепо и весело. Конъюнктивит прошел, зеленка отмылась, но впечатление осталось. Вместе с Петей на меня зыркают остальные – те, кто так спокойно, неторопливо дожидался развязки. Будто я таранил двери чужой головой. Ищу поддержки у Рады: выходит жалостливо, а главное – безрезультатно.
– Ну, хули молчишь?
– Это… татары. Они били.
– Какие татары? – Петя остывает. Чуть фантазии, и увидишь дымок, поднимающийся от него.
– Здоровый такой… боров…
– Зенур, – вмешивается в разговор Рада. – Это Зенур с приятелями били рыжего.
Сейчас Петя вспыхнет, кликнет охрану (у Майчуков она должна быть), чтобы та разобралась с татарами. И это не агрессия, не желание мести – нет, это всего лишь попытка уравнять людей в деревне, где последнее время стало чересчур много прогибов и перекосов и одни возвысились над другими.
Татары всегда держались обособленно. С самого начала, когда приехали из Турции и Узбекистана в Каштаны. Я часто слышу разговоры, что они ютились в халупах, но видел другое: по-муравьиному бойко татары возводили аккуратные двухэтажные дома с полумесяцами на крышах, а после строили парники и теплицы, где выращивали для себя и на продажу капусту, перец, огурцы, редис, помидоры.
Сначала торговали они, в основном, у дороги. Машины неслись, водители замечали ящики с овощами и фруктами, тормозили, выходили, как бы нехотя, торговались. Особенно любили сбивать цену те, на чьих автомобилях были российские номера. Но обмануть татар им не удавалось. Те, если и скидывали цену, то мутили с весами.
Отстроившись, татары начинали скупать окружающие участки. Айдер, наш сосед, сперва на освободившемся пустыре возвел треугольный дом, а после купил землю у стариков Бородавкиных, с которыми общалась бабушка.
Те не ходили и ничего не выращивали, жили на пенсию. Ее нерегулярно приносила высокая женщина в бежевом плаще, который она таскала зимой и летом. С той разницей, что летом он висел мешком, а зимой надувался, и его хозяйка укрупнялась, распухала, точно игрушка набитая ватой или поролоном. За продуктами старикам Бородавкиным ходила бабушка. Покупала даже тогда, когда ни у них, ни у нас не было денег.
Помню, летом мы спешно резали кур, потому что не стало комбикорма. Тогда Айдер и купил дом Бородавкиных, а через день они умерли. Сердце. Айдер убрал заборы, присоединив бородавкинскую землю к своей. Разбил теплицы, засадил их капустой. И так удачно возил ее на продажу в Харьков, что рядом со старой треугольной хатой начал строить новую – из газобетона.
Мой отец, вдохновившись примером, тоже решил фермерствовать. Уговорил деда – тогда он еще был жив, хоть и почти не ходил, а, в основном, лежал на тахте в веранде и сквозь надрывно-хлюпающий кашель стонал «дурно мне» – дать ему кусок земли. Засадил редиской. И даже что-то вырастил.
Но с продажей оказалось труднее. От дороги отца погнали прочь – из-за конкуренции и склонности к пространным речам, которые понимала разве что моя мать (мне всегда казалось, что по этой причине он и стал ходить к ней). Редиска начала пропадать, и тогда отец решил везти ее в Севастополь.
Помочь в торговле он уговорил своего единственного друга – Валерку Рябыкина. Сошлись они, наверное, потому, что оба, по словам бабушки, были с причудами. Валерка – он просил называть его именно так, а я все время скатывался на «дядя Валера», из-за чего он обижался, и лицо его словно высыхало, сморщивалось и замирало в ожидании слез, единственной влаги, которая могла бы оживить эту пустыню, – как и отец, работал в автопарке, но был честен настолько (ни болта, ни гайки), что заслужил погоняло «мудак». Ему так и кричали:
– Эй, мудак, иди сюда!
Или:
– Ты чо охуел, мудак, что ли?
Но чаще всего:
– Займи на пол-литру, мудак!
Он никогда не отказывал – занимал. Потому на тему «где дядя Валера берет деньги» – слово «зарплата» превратилось в издевку – я очень любил фантазировать, часто сбиваясь на патологические версии вроде торгует маком или делает фарш из людей. Второй вариант казался более реалистичным, потому что в «Крымских известиях» я прочитал статью о приехавшем из Кутаиси грузине, который под торговой маркой «Добров» выпускал котлеты, тефтели, пельмени, фарш из человечины. Стоили они, как писали в заметке, копейки, и у фирменных ларьков всегда толпились люди. Интересно, покупатели расстроились, когда торговую сеть прикрыли, или готовы были покупать дальше?
Собственно, Валерка и настоял на том, чтобы взять меня торговать. У пацана купят из жалости. Так говорил Валерка. И отец проникся его идеей.
Мы ехали в Севастополь на валеркиной «копейке». Пахло бензином, прелостью и мочой. Эти запахи смешивались, и я, укачиваясь на заднем сиденье, одуревал от них и все время дергал ручку окна, но она не работала, и казалось, что меня душат.
Когда приехали, начался дождь. Валерка почему-то смеялся. Отец, наоборот, хмурился, злился. Лицо его – обычно веселое, маслянистое – потускнело, осунулось, и на нем, коль была бы такая задача, можно было бы считать оттенки серого.
Мы стояли на площади Пятидесятилетия Октябрьской революции. Справа бетонным саркофагом высился кинотеатр «Россия», пустующий, мертвый. Работал в нем – это я проверил позже, когда, пылая от стыда кумачовыми щеками, просился пописать – лишь буфет, над барной стойкой которого повесили баннер с голливудскими звездами: Брюс Уиллис, Арнольд Шварценеггер, Джеки Чан, Сильвестр Сталлоне. Отливая в туалете, выедающем ноздри и легкие резким запахом хлорки, я мечтал вклиниться в этот пантеон божеств видеомагнитофонов.
Напротив «России» лилипутами, повалившимися перед Гулливером, ютились торговые палатки, одна на одной, как изголодавшиеся по встречам свингеры. Они наседали друг на друга, подталкивали, подпирали, дабы втиснуться, пробраться, занять местечко.
Отец почему-то не выходил из машины. Ждал, курил, сплевывая в окно. И тут Валерка, отойдя от приступа смеха, медленно, внятно, как-то по-учительски проговорил:
– Иди, Леха. Или сгниет редис…
Он сказал это так, что проникся даже я, изнывающий на заднем сиденье с накинутым на него байковым одеялом. Отец открыл дверь, кивнул мне. Я молчаливым, покорным солдатом вышел. Отец взвалил на плечо пакет с редиской, проступающей сквозь пластик выпукло, вкусно.
Рынок готовился к торговле. Продавцы, матерясь, распаковывали картонные коробки, деревянные ящики, полиэтиленовые пакеты, вываливали товар на металлические прилавки. Другие – те, кто не имел постоянного места – сиротливыми родственниками мостились рядом: можно здесь встать, у меня немного, ну, пожалуйста, очень надо. Им тут же отказывали, гнали прочь, и отец, сообразив, что торговать у нас не получится, родил новый, даже лучший, для меня так точно, план – сдать редис оптом.
Сунулся к продавцам. Говорил, открывал пакет, демонстрировал товар. Но продавцы лишь качали головой, и с каждым таким качанием отец, будто старое кресло, проседал. Никто не хотел брать нашу редиску, часть суммы от продаж которой сулили и мне. Я планировал купить на нее альбом-биографию “Queen” с цветными фотографиями и мелованными страницами. На обложке, задрав микрофон к софитовому небу, красовался Фредди Меркьюри в белых штанах и желтой куртке. Но чем больше отец тыкался, мыкался, тем дальше уходил от меня урожденный Фарух Булсара.
Все кончилось у только что открывшегося ларька «Виноводка». Из окошка, словно живая, высунулась бутылка. Отец взял ее и, скрутив крышку, глотнул из горла. Серые тени его лица ушли, и он точно помолодел. Повернулся ко мне, вновь блеснув маслянистыми глазами:
– Пизда с этой редиской, пизда…
Потом как будто осекся, приложился к бутылке еще раз и договорил:
– Одни татары на рынке. Друг друга суки кроют…
На рынке, действительно, торговали одни лишь татары, переговаривавшиеся на своем кхекающем языке, словно ограждаясь, защищаясь от нежелательных слушателей. И в этом был свой код, секрет, тайна. Мы с отцом не знали пароля, отмычки. Поэтому дверь в торговлю оставалась закрытой. Мы были не их и не с ними – чужие, пытающиеся влезть туда, куда нас не приглашали.
Возвращались домой ни с чем. Выгружали редиску в гараж, и хвостатые головки смотрелись издевкой. А за ржавой сеткой забора ходил довольный сытый Айдер, приговаривающий «Ватан киби ер олмаз», собирающий урожай и уже знающий, где и как его реализовать.
Наверное, моя нынешняя жажда справедливости (похоже, такой эвфемизм я использую для определения мести) – Петя, зови охрану, пусть вломит татарам! – отчасти связана с воспоминанием о рынке. На него накладывается злая обида на тех татар и татарчат, которые разгуливают по селу группками по семь-восемь человек, уверенные, борзые, наглые. Пристают к девчонкам, задирают парней. Каждый их жест, действие сигнализируют: «Это наша земля! Убирайтесь отсюда!» Но стоит компании распасться – хотя даже за хлебом стараются выходить по двое, по трое, – и они становятся тихими, покладистыми. Некоторые даже здороваются. И ненависть моя только крепнет от того, что у крымских татар есть своя правда: делать то, что должно, плодиться и обустраиваться на родной земле, пока русские и украинцы взирают на их триумф так, будто уже навсегда проиграли битву за «остров Крым».
Но Петя, узнав про татар, никого не зовет, не кричит даже. Да-да, понимаю, ничего страшного, не суетитесь. А потом и вовсе разгоняет собравшихся.
Остаюсь вдвоем с Радой. И впервые вижу в ее взгляде презрение, которого не было даже тогда, у памятника гвардейцам, когда ее лапали выблядки в черных футболках, а я, униженный, оскорбленный, лежал на земле не в силах преодолеть страх.
– Ну?
Она вцепляется в меня глазами-челюстями, и вопрос ее без того риторический кажется еще более беспощадно точным. Что ей ответить? Да и смысл отвечать, если любая реплика– лишь неудачное оправдание?
– Это твой друг? – вопросом на вопрос. «Лучшая защита – это нападение» – фраза, неизменно произносимая голосом Виктора Гусева.
– Кто?
– Этот жирный татарин. Боров.
– Нет, с чего ты взял? – Она подходит ближе. – Но кто-то должен решить вопрос, если, – она делает паузу, надрывную, затяжную, садистскую, из тех, что удаются лишь женщинам, – другие не хотят… или не могут…
«Другие» звучит как налитое: придавливает, гнетет.
– Ты про меня, да?
Устаю от игры. В такие моменты мне всегда хочется как можно быстрее решить вопрос, разобраться, спихнуть ношу. Но Рада предпочитает иную тактику – холодную недосказанность, похожую на муравьев, сбегающихся на бездвижного человека, чтобы медленно, миллиметр за миллиметром, выедать в нем дырочки, дыры, дырища.
– Ты, кажется, совсем не способен на поступки.
Она говорит это не зло и не грустно, а как бы отстраненно, точно про чужого человека. Или скорее – про животное.
– Они остановились, когда я вышел. Ты видела. Остановились, – начав оправдываться, я уже проиграл. Тем более, если делать это так, не умеючи. – А потом я решил, что это твои знакомые…
– Я не о них – я о себе.
– А что с тобой?
– Со мной что-то не так?
– Нет, нет, с тобой все отлично, Рада, – наконец понимаю, о чем она. Даже я понимаю. – Это со мной. Не так. Я… я боюсь…
– Чего?
Она рассматривает меня то ли с жалостью, то ли с насмешкой.
– Не знаю.
– Скажи…
– Себя. Что буду хуже, чем ты думаешь…
От напряжения закрываю глаза. Этот разговор прост, и слова элементарны. Но они камни, летящие вниз. А я вместе с ними.
– Я не думаю, ведь ты девственник…
Могла бы и не говорить этого. Или хотя бы не говорить так – с интонацией, уничтожающей в своей естественности.
– Но это легче, чем тебе кажется, глупенький…
И, замолчав, она делает то, что получаться у нее лучше всего – целует. Я должен подчиниться. Но ее губы точно разряд. Пусть я и стараюсь. Я должен стараться. Продираться сквозь горячую влажную панику. Терпеть шок-терапию изголодавшимися угрями.
Рада подталкивает меня. Обратно в комнату. Для, как говорят, самого естественного, что может быть. Но тогда откуда берутся такие, как я?
– Не могу!
Господи, ведь и правда – не могу! Даже если бы очень хотел – не могу. Чисто физически. Хотя после буду мастурбировать на Раду сотни раз.
– Придурок!
Будто муху прихлопнула. И, развернувшись, она уходит.
Я, по идее, должен переживать, терзаться, но чувствую лишь облегчение. Не надо действовать, можно жалеть себя, ища ответы на свои же вопросы. И поиск, несомненно, будет важнее самих ответов. А дальше – разберемся. Сколько было уже таких размолвок?
Короткими писками звонит мобильник. И представляется – больное, больное воображение, изуродованное чтением умных и так себе книг, – мышеловка, к которой маршируют – идущие на смерть приветствуют меня – крысы Кириллова (есть же собаки Павлова), салютующие прощальным писком.
Мама не говорит – кричит в трубку. Связь отвратительная, и ее перепуганные вопли сопровождает треск. Все это похоже на выступление какой-нибудь евпаторийской поган-блэк-дес-металл группы. Припев бессмысленной вакханалии звуков, которую они назовут песней, звучит как «ты где». С годами я все сильнее захочу ответить – «в пизде», но пока во мне еще есть готовность объяснять местонахождение своего тела.
– Едь домой! Поздно уже! Едь домой, сынок! – Маме объяснения не нужны.
По мере взросления это неправильное «едь домой» проникнет в меня настолько, что, синтезировавшись с аминокислотами ДНК, изменит сам генотип Бессоновых, дабы отравить весь следующий род. Отложит личинки вины, поселив в организме вечную панику, регулярное ожидание беды – «что-то случится», «что-то страшное должно произойти». Наверное, потому оно и происходило, но не большими жизненными трагедиями, а мелкими и средними бедами, словно дробясь на дозы, коими жизнь впрыскивала в меня неприятности, научая уму-разуму. «Едь домой» стало заговором, родовым проклятием сродни тому, что нашептывают ведьмы, которых так страшится бабушка, но в моем случае это была не враждебная ведьма, а, пожалуй, самый близкий и любящий человек на свете.
Я по школьной привычке искал ответы в книгах, более всего успокаиваясь Екклесиастом и Достоевским. И, наверное, терапия чтением пусть и отчасти, но помогала. Скорее всего потому, что я, прошедший советскую школу – система образования досталась независимой Украине от СССР и долго, пока я ни стал учителем, не менялась, – воспитывался на биографиях писателей, пребывая в священном трепете перед книгами.
– Еду, мам, еду!
– Ты где?!
– В Каштанах я, тут рядом! – сдерживаю раздражение, оно просится наружу, но не находя выхода, забивается в мышцы болезненными узлами.
– Едь быстрее!
И я еду. Чтобы выслушать мамины и бабушкины причитания, а после, лежа в постели, строчить сообщения Раде, но их будет немного, всего четыре, потому что деньги на телефоне быстро закончатся. Как и остальные, необходимые для нормальной жизнедеятельности вещи.
2
Новости в семье я всегда узнаю последним. Так, видимо, будет всегда. Вот и с возвращением брата из армии я оказался в хвосте информационной очереди. Поэтому, когда Витя, как в детстве, ворвался ко мне в комнату с иерихонским криком «подъем, Бесогон!», я, действительно, – не врут писаки – потерял дар речи. Лежа в постели, закутанный в махровую простыню, я тупо смотрел на него, пуча заспанные глаза. Он стал худее, меньше в объемах, но не потому, что сдал, а потому, что подсушил мышцы, теперь очерченные, как на музейных изваяниях, четкими, рельефными линиями.
– Вставай, Бесогон! Харэ дрыхнуть!
Он скинул простыню. И мне стало неприятно от того, каким я предстал перед ним: в безразмерных семейных трусах, с пухлыми ногами, кудрявившимися светлыми, почти выбеленными волосами – сонный, вялый, расползшийся холодец.
– Да, сейчас, ты откуда?
– От верблюда, – засмеялся Витя, – из армии, брат! Дембельнулся! Ты не в курсах, что ли? – Я помахал головой. – Ну, вы тут совсем охренели!
Он обвел взглядом полки, на которых за мутным стеклом – его никак не могла отмыть бабушка – по-солдатски ровно стояли книги.
– Хотя ты и не спрашивал. Все книжки читаешь…
– Да где там! – Я разозлился. Книги книгами, но мне, правда, никто ничего не сказал: ни Ольга Филаретовна, ни бабушка, ни мама, точно это меня не касалось. – Всем по фигу!
В ответ Витя шутливо приподнял руки, хотя взгляд его, всегда немного прищуренный, стал настороженнее, злее.
– Ну, давай, одевайся, Бесюк! В обед дембель праздновать будем!
3
Когда прихожу к Шкариным, гости собираются за длинным столом, составленным аж из шести частей; исключительный случай. Вместо табуреток и стульев используются доски, настеленные на абрикосовые чурки. Распоряжается Ольга Филаретовна, шныряющая туда-сюда и делающая это легко, не без грации, хотя, казалось бы, ее тумбообразная фигура пресекает всяческую мобильность. Тем не менее, ей удается и суетиться самой, и отдавать команды-рекомендации другим. Профессиональная, наверное, привычка, выработанная на должности школьного завуча. Когда же к ней подходят, она отвечает так, будто разгоняет тяжелый грузовик, и он прет, не зная препятствий, пробивая, тараня любую стену.
Бабушка встречает гостей, а мама разносит тарелки с холодцом, как инеем, подернутым белым жиром. Я хочу накинуться на нее с обвинениями, почему мне никто не сказал, что из армии возвращается Витя, но вид у нее и без того замученный, так что я обращаюсь к бабушке:
– Трудно было сказать, что Витя приходит?
– Ты бы меньше валандался невесть где…
Хочу отрицать поклеп, но приближается Ольга Филаретовна:
– Здравствуй, Аркадий.
– Здравствуйте, тетя Оля, – в разговоре называю ее так, по-родственному, но мысленно всегда выдаю солидное, тяжеловесное «Ольга Филаретовна».
– Готовишься к экзаменам?
– Ага.
– Ну, смотри, – с профессиональной строгостью встряхивает Ольга Филаретовна, – на «золотую» идешь. – И уже маме: – Давай холодец, Маша, гости ждут!
Гости и, правда, стекаются в шкаринский двор; не только через калитку, но и через дыры, лазы в деревянном заборе, обращенном к дороге. Гостей, на самом деле, немного, но интенсивность их появления создает эффект массовости. Все они одинаковые, похожие друг на друга – атака клонов, made in Каштаны.
Мужики – высохшие, морщинистые, почти черные от вино-водочного загара, с большими подвижными кадыками и выбеленными глазами, всегда то ли хитро, то ли настороженно прищуренными. Говорят медленно, с увесистыми паузами. У кого-то получается солидно, многозначительно, но большинство скорее подтормаживает, виснет. Пахнут размеренностью и апатичностью. Но когда злятся, в ноздри собеседнику бьет запах спирта, и мужики из просветленных дервишей превращаются в похмельных бухарей. Впрочем, злятся они редко, хотя агрессию – в словах, жестах – выказывают постоянно, но она, растворенная в зыбкости бытия, смотрится естественно, органично.
Сельские бабы, наоборот, бегают, суетятся, все время куда-то спешат, взмокшие, раскрасневшиеся, словно тесто, замешанное на молоке, что накрытое пленкой, исходит липкой испариной. Говорят крикливо, напористо, пестро. И под этим русско-украинским ответом цыганскому табору невольно тушуешься, куксишься, чувствуя неловкость за децибелы. О чем бы бабы ни говорили: о ценах, продуктах, огороде, мужьях, детях – они неизбежно ругаются, спорят. Причем, спорят из-за того, что еще недавно в один голос поносили, возмущаясь, что так жить нельзя, но приходится. Спор зачинается с несогласия одной из баб – «да что вы все о грустном да о грустном» – с упадническими настроениями подруг, и она отчаянно принимается возражать. Примирение же наступает тогда, когда базар переходит в критику мужиков, из которых больше всего достается «непутевому Лешке», моему отцу. Бабы костерят его и при мне, усердствуя, кажется, даже сильнее обычного, словно провоцируя на защитную реакцию, чтобы я не был себе на уме.
«Быть себе на уме» – деревенская «черная метка», позор, от которого не отскоблиться. Ум, индивидуальность вообще не слишком котируются в селе, ибо предполагают несогласие с происходящим, а это настораживает, пугает. Страх маскируют за смехуечками, загоняющими несогласного в отстойник, к местным юродивым, где, наверное, и для меня припасено местечко.
Когда я вернулся из Севастополя, те, кто так раздражал, от кого я бежал, пуская сквозняки, полезли в душу, и ей стало зябко. Люди подходили, смотрели и пихали свою никчемность. На, держи – пригодится…
Блядские промоутеры несчастья! Я отбивался от них, как мог, но мог слабо, отвечая лишь взглядом – подавленным, смятым. И от моей скрытой агрессии, и от надменного, как им казалось, молчания они приходили в ярость, запасались обидой прежде всего потому, что в этой пассивности чувствовали декларацию моего различия с ними.
Они сбили клетку, запихнули меня в нее, повесив табличку «Осторожно, чужой!», и я обрадовался, решив, что сейчас наконец-то оставят в покое, но они не отстали – начали водить экскурсии, демонстрируя меня как диковинного урода. В ответ я плевался отвращением (жаль, что не иглами с ядом кураре), особенно усердствуя на уроках. Но учителя прощали: одни потому, что я хорошо знал предметы, другие потому, что связывали мое, как они говорили, вызывающее поведение со смертью деда.
Своей лояльностью они оказали мне дурную услугу. Потому что скажи кто: «Эй, парень, спокойно, а ну-ка веди себя достойно», пригрози наказанием, урезонь – и я бы, как Маугли, вернулся к людям, ассимилировался, пусть и периодически зыркал бы на окружающих волчонком. Но они этого не сделали, нет – они предпочли скормить жалость: еще горяченькая, кушай, не подавись!
Когда я устал дерзить, то свернулся в углу клетки, замкнутый, отчужденный, с единственной просьбой – не троньте! Но они продолжали расспрашивать, бомбардируя одними и теми же вопросами. Что думаешь о будущем? Как собираешься жить? Определился ли в жизни? И самое чудовищное было в том, что они не ждали ответов, потому что сами предвидели, знали исход.
Почему я оказался среди них? Ведь я не давал согласия. Мне просто скомандовали: «Ты живешь здесь и сейчас! Не спорь! Так делают все!» И это «делают все» гнобило, пожалуй, больше всего. Да, сто, двести, триста, пятьсот тысяч моих сверстников испытывали и испытывают нечто подобное, и что? Прикажете этим утешиться?
Не получается, особенно если рядом малознакомый старик в бейсболке “USA”, которую он считает основным предметом своего праздничного гардероба.
– Ну чаво у тебя, Аркадий?
– Все хорошо, Егор Семеныч.
– В армию скоро?
– Нет, в институт.
– Это зачем?
– Учиться.
– Ну ты это… смотри… но портянок-то нюхнуть надо…
Сколько предстоит таких бессмысленных в своем однообразии диалогов прежде, чем я повалюсь с простреленной раздражением головой? Скольких собеседников я должен убедить в своей инородности прежде, чем все Каштаны примут меня за юродивого?
Да, я никогда не принадлежал к деревенским. Моя природа была иного свойства. Оттого я мечтал жить в городе. И, слава богу, мама туда меня забрала. Хотя бабушка была против.
Конечно, в Севастополе я тоже не испытывал счастья, но там, среди улиц, коих оказалось больше, чем пять, можно было затеряться. Уйти от ощущения того, что все повторяется снова и снова, день за днем. Сбежать от дежавю, пахнущего навозом. И пусть внутри городского меня все по-прежнему повторялось, но зато декорации менялись. И это стало иллюзией развития, воспринятой мной с радостью и благодарностью.
Но пришлось – бабушка не отпускала, бабушка и вернула – возвратиться в деревню, в пять улиц, где из нового – только нежно-желтого цвета мечеть, выросшая у ставка, напротив Дома быта.
Глядя на запустение и разруху, съедаемый гордыней, я уверял себя, точно хлестал по щекам, что не может человек, подобный мне, здесь остаться, и в то же время ощущал, как деревня поглощает, растворяет меня. Особенно острым это чувство было во время общения с людьми, невольно – а может, и вольно, не знаю – убеждающими меня в том, что либо придется стать таким, как они, либо погибнуть. Вот только к смерти здесь давно все привыкли; она вечна, как та не высыхающая лужа у нашей школы, она повсюду, и мы, жители Каштан, законсервировались в ней, обреченные на формальное присутствие.
Но и у подобного забвения есть надежда – она в таких, как мой брат, своих, затхлых, и в то же время чужих, глотнувших свежего воздуха. Они не меняют направления, но дуют иначе. Не уехали в город – остались в Каштанах, чтобы возродить деревню, став ее новым строительным материалом.
Вот он стоит – крепкий, ухмыляющийся, всем довольный. Одет в светлые штаны и клетчатую рубашку. И если мои глаза широко раскрыты, то его, как у настоящего каштановского мужика, слегка прищурены. Да, он свой деревенский парень.
Его будут расспрашивать об армии. Что да как. Будут закидывать вопросами, как рок-звезду женским бельем. Но ему, в отличие от меня, они понравятся. Отвечая, брат будет коллекционировать, складировать их. Нормальный здоровый парень. Без мозгоебства. Или, выражаясь языком Маргариты Сергеевны, без «экзистенциальной пустоты».
– Аркадий, садись за стол! Долго еще тебя ждать?
Ольга Филаретовна. Она и у нас дома (хотя это, безусловно, и ее дом) всегда говорит вот так, даже если ты уже сидишь за столом. Просто сама мысль о том, что придется кого-нибудь ждать, претит ей.
Плетусь за стол. Усаживаюсь рядом с мамой. Справа от нее – Ольга Филаретовна и брат. Доски подо мной, хоть и застелены одеялами, негостеприимные, жесткие. И я ерзаю, от чего Ольга Филаретовна смотрит на меня хмуро, предупредительно.
Гости не дожидаются тостов – сами наливают, сами раскладывают угощения по тарелкам.
– Тебе положить салатов, Аркаша? – спрашивает мама, держа тарелку с оливье.
– Не стесняйся, Аркадий! Чего стесняться?
От этих слов Ольги Филаретовны я, конечно же, начинаю стесняться еще больше.
– Брат у него пришел, а он сидит… как обрубок!
Это строгая тетя Зина, чьи руки всегда удивляли и пугали меня – шишковатые, с длинными паучьими пальцами они пахнут чем-то резким, изгоняющим и людей, и бесов, и ангелов. Муж тети Зины умер в прошлом году от печеночных лямблий. И это лишний повод не реагировать на нее, в очередной раз проводящей сравнительный анализ меня и брата. Не в мою пользу, конечно. Витьке-то палец в рот не клади, а я растяпа. Так будет всегда. Пора бы привыкнуть. Но не выходит.
Я вырос с именем брата на устах. Меня привили им. Нет, даже не так – закодировали, вшив ампулу с текстом «Виктор Шкарин лучше тебя, Аркадий». Не знаю, сравнивали ли Каина с Авелем. И в чью пользу. Но если развязке в поле предшествовала ситуация, похожая на ту, что сложилась у нас с Виктором, то Каина понять можно.
Мне накладывают салат оливье. Яблочный салат. Салат из свежей редиски и зелени. Наши застолья – это прежде всего салаты. Они не в тарелках – в бадьях. Не надо ложек и вилок – засунь голову, жри из корыта.
– Ну, Витек, за тебя! Теперь ты мужик, чего уж там, еб твою мать!
Это поднялся дядя Жора Авдеев, увалень с перекошенным после инсульта лицом. Накатил он еще до того, как прийти к нам. Но, сев за стол, принялся одергивать других. Ты по сколько льешь, дятел? Это кто без тоста синярит? Чего поперед всех жрешь?
Никогда не привыкну к застольям. И в семнадцать, и в двадцать, и в тридцать лет они будут казаться мне чем-то сродни пыточной камере, где экзекуторы собрались, чтобы понаблюдать за мучениями. Пьющие, галдящие, жрущие люди будто облапывают лицо сальными пятернями.
Ольга Филаретовна улыбается, присматривая за гостями, предлагает отведать то одно, то другое блюдо, но больше всего расхваливает щи. В нашем семействе на праздники всегда готовят щи по-брянски: из кислых помидор и капусты, на бульоне из домашних куриц. Получившаяся жирная, наваристая масса словно испытывает на прочность: ну что, едок, сможешь переварить меня, или поджелудочная выбросит белый флаг?
Деревенская привычка: наблюдать, кто сколько съест. Сперва навернуть отменного борщечка с салом и чесночком, заесть свежениной и холодцом, добавить пирожков с кислой капустой. Ну и самогоночки – куда без нее? Наверное, я не мог переносить застолья еще и поэтому: не для моего желудка такие яства.
Ольга Филаретовна – радушная хозяйка. Гости пьют и верят в это. Без первого нет второго. Ведь, по правде, она презирает всех их, презирает и ждет лишь одного: «когда все это пьяное скотское быдло уберется к себе домой». Но говорить такого вслух Ольга Филаретовна, конечно, не станет. Потому что главное для нее – произвести впечатление, уважить. Хотя если кто задержится дольше отведенного срока и начнет мазать на хмель откровенность, то будет проклят. И все сидящие за столом, какие бы пьяные они ни были, понимают это. Но, как и Ольга Филаретовна, соблюдают условности, подыгрывая, может, и не слишком мастерски, но хотя бы так.
Больше неискренности во время застолий раздражают только прокрученные сотни раз беседы об одном и том же. Люди общаются не голосами даже, а животными звуками. И как только, за столько-то лет, им не осточертела эта бессмысленная, уродливая трепология, словно вырванная из «Дня сурка»?
О брате давно забыли. Говорят о своем. На дальнем правом конце стола, там, где поставили больше всего домашнего вина, но меньше всего самогона и водки, спор между Кутиковым и Зацепиным высекает искры. Кутиков, коренастый угрюмый мужик с лицом цвета перепаханного чернозема, наверное, опять полез к чужой бабе. А Зацепин, дохляк с бельмом на правом глазу, возмутился.
Он поднимается, нависая над оппонентом. Кутиков вскакивает следом. Ростом он меньше, зато плотнее и основательнее. Кто-то должен ударить. Но то ли соперники побаиваются друг друга, то ли выпили недостаточно. Поэтому стоят, петушатся, словами-удавками накидываясь друг на друга. Я поворачиваюсь к Ольге Филаретовне, жду от нее реакции. В такие моменты ее одутловатое лицо как бы подбирается, прилипая к костям, превращаясь в безжизненную маску, какую использовали гаитянские – я видел это по телевизору – шаманы во время похоронных церемоний.
Но вмешивается, разруливает ситуацию не она, а брат. Виктор подходит к спорщикам, говорит быстро, отрывисто:
– Дома бузить будете. Здесь или культурно, или никак…
Зацепин оседает сразу же, а Кутиков сначала поворачивается к брату, чернозем его лица темнеет, но, встретившись взглядами, усаживается. Зацепин протягивает ему руку, и он пожимает ее в ответ. Брат, смеясь, выпивает с ними.
И меняется атмосфера за всем столом. Оживляются разговоры, но не хмельным гомоном, какой бывает, когда нетерпеливо слушаешь, дабы высказаться самому, а здравыми, размеренными беседами. Даже я, прибитый к доске молчания гвоздями стеснительности, раскрепощаюсь, легчаю и проявляю инициативу, обратившись к мужчине с удивительно тонкими линиями сизых губ. Слова, как и размышления, не мои: я невольно копирую манеру говорить бабушки, встретившую кого-нибудь из знакомых на улице. Для начала – затравочка о погоде, а после – стенания о высоких ценах. Получается, на удивление, органично: мол, дожди, дожди, сколько можно, урожая не будет, попробуй потом что-нибудь купи.
Реакция мужика меня не волнует. Да ее и нет. Он просто находится рядом, глаза полуприкрыты. Вообще в нем есть что-то от человека, оказавшегося в жизни случайно, раз позвали – пришлось согласиться.
Да, не идеальный, но слушатель. И я распаляюсь все больше, как “Lithium”, переходящая из мелодичного проигрыша в отчаянный рев. Говорить, говорить – не останавливаться. Пулять, швырять, метать слова. Ведь молчание – смерть. Слово же есть исток жизни.
– Да помолчи ты! Разбалакался! Словесный понос у тебя, что ли?
Это вновь тетя Зина. Неужели ей не надоело изничтожать меня? Лучше бы она, а не ее муж, встретилась с лямблиями. Ведь и без нее еще будут могильщики, затыкающие кляпами рты. С руками, смердящими поликлиниками и склепами. Те, кто возведет в Абсолют культ молчания, культ забвения. Но это позже, а сейчас, когда во мне столько витальной энергии, направленной на тонкогубое изваяние, ты, тетя Зина, поступаешь бесчеловечно!
– Брат воротился из армии, а он языком черти что мелет…
Родившись, я сразу угодил в матрицу сравнения с братом. Правда, он уже говорил, когда я появился. Фора, отыграть которую невозможно. Мои попытки влезть в разговор принимали за плаксивость, капризность и трудный характер. Опять Аркаша раскричался! Тихо, Адик, тихо! Я должен был ждать своей очереди, не лезть вперед брата. Но когда мой черед наступал, все уже были слишком измотаны, чтобы слушать.
Нет, безусловно, мама всегда находилась рядом, заботилась, оберегала, но ее радость от моих первых слов перекрывалась испугом, не дай бог, сглазить. Она всего боялась, переживала за каждую мелочь. Ее терзало и плохое, и хорошее, случавшееся со мной. Нерешительная, замкнутая, она часто молилась по ночам маленькой желтой иконке Казанской Божьей Матери с темным пятном от свечи в правом нижнем углу.
Когда мое настроение, обычно нервозное, хмурое, вдруг поднималось, чаще всего беспричинно, как у шизофреников, переходя в активное, непоседливое возбуждение, и мне хотелось высказаться, мама никогда не выслушивала меня. Общение наше ограничивалось фразами, заточенными под школу, еду, здоровье. Ты поел? Ты не замерз? Ты сделал уроки? Я чувствовал себя животным, у которого есть лишь стандартные, примитивные потребности.
Правда, главную из них, сексуальную, мы никогда не обсуждали. Я не видел маму с мужчинами. Не слышал о них. Даже в подслушанных разговорах. Был лишь отец, но он присутствовал краткосрочно, случайно. Мама словно превратилась в мирскую монахиню. И, может быть, того же хотела от меня. Думала ли она о том, что у меня могут быть девочки, о том, что я могу желать их, терзаемый центрифугой томления в низу живота? Не знаю. Вполне возможно, что нет. Наверное, считала меня слишком маленьким, слишком ребенком. Таким, каким она кормила меня, усадив на старенький детский стульчик с нарисованной обезьянкой в забавных синих штанишках.
Оттого и близкие, знакомые, друзья, родственники воспринимали меня как ребенка. Что он может сказать толкового? Тем более, когда говорят взрослые. Я вырос в регламентированной системе отношений, где младшие молчат в тряпочку, когда беседуют старшие. И неважно, что младшие давно уже выросли, заработав взрослые проблемы, которыми бы они хотели поделиться, дабы отыскать правильное решение, но им не давали ни малейшего шанса выговориться.
В семье слушали только брата. Внимали ему. Виктор был вторым, после Ольги Филаретовны, авторитетом. Слово его воспринималось как удар волевого, рассудительного мужчины кулаком по столу.
От такого почитания брата я раздражался, выходил из себя, и это, действительно, был выход, в прямом смысле слова, потому что я наблюдал за собой со стороны, кричащим, обиженным, раскрасневшимся. Обида моя была тем сильнее от того, что брат повторял вещи, которые я говорил ранее. И я принимался объяснять, что это мои, а не его слова, но меня игнорировали или просили замолчать.
Нет, тетя Зина, я не хочу слушать брата! Вряд ли он скажет интересные, полезные вещи! Пусть эгоизм, пусть капризность – повесьте нужный ярлык, у вас это хорошо получается, – но «говорящий не знает, знающий не говорит…»
Резко встаю из-за стола. Так резко, что задеваю скатерть. Тарелка с картофельными варениками падает на бетон. Звон, и белые осколки впиваются в пышные вареничные бока.
Я вздрагиваю, поджимаюсь. Сейчас все уставятся, подумают: ай, какой недотепа! Но реакции нет. Гости за столом продолжают либо переговариваться, либо слушать брата.
И хочется бить, крушить тарелки с салатами, хлебом, нарезками, кастрюли с пюре и курицей, сотейники с варениками и пельменями, чашки, бокалы, рюмки с вином, чаем, водкой – крушить, бить, уничтожать! Чтобы привлечь внимание. Как Герострат, поджигающий храм Артемиды. Вот же я! Ау, суки! Но… даже, если я разнесу здесь все, никто не заметит.
Потому выйти через дом – во внешний двор. И на улицу, через синюю с пятнами ржавчины калитку. Трасса – вот она. По ней машины – бух-бух выхлопными газами. Может, наглотаться да умереть? Тогда вспомнят, мол, был такой. Поплачут. А кто-нибудь – бывают же чудеса – скажет: «Эх, какого мы человека потеряли…»
Господи, о чем я? Нелепо, смешно! Неспособный даже вымолвить слова, заставить слушать себя, привлечь внимание – какое тут самоубийство? Это ведь либо безумие, либо смелость. У меня нет ни того, ни другого. Я всего лишь мальчик, состарившийся раньше, чем успел повзрослеть. Мой выбор – это мой голос, что еще остается мне? Но выбирать, похоже, я не способен, оттого всем и кажется, что молчу, хотя только и делаю, что кричу.
Бегу вдоль трассы. Мимо канавы с извечной зловонной жижей. Мимо бетонного забора Айдера. Мимо трех татар, пристающих к незнакомке. Не обращают на меня внимания. И хорошо.
Значит, быстрее попаду домой. Расстелю постель, зароюсь под одеяло. Включу телевизор, канал СТС. И буду смотреть, как сначала Геркулес, а после Зена спасают древний мир от коварной нечисти. Для этого их и создали, а меня, видимо, для чего-то другого. Для чего? Вся жизнь впереди. Есть шанс разобраться.
Когда Зена в очередной раз уделывает Ареса, похожего на испанского порноактера, от Шкариных возвращается мама. Шебуршит у печки. Пуская ненавистный корвалольный запах, подходит ко мне.
«Брат вернулся из армии, а ты выделываешься. Разве я тебя так воспитывала?» – «Уйди, не надо, не хочу слушать!» – «Но брат…» – «Что брат? Сколько можно о брате? Не хочу слышать! Не хочу! Не хочу!» – «Да что с тобой, сынок? Может, воды?» – «Не надо воды! Отстаньте! Брат, брат, брат! Сколько можно?»
Мама, вздохнув, уходит. Завтра молчание поглотит нас. Я буду чувствовать стыд и досаду, а мама станет терзаться от того, что ее сыну плохо. Обоюдная вина пресечет любые наши попытки идти навстречу друг к другу.
4
Шопенгауэр – после КВНовской сценки про канат эта фамилия неизменно вызывает улыбку – писал, что утро есть молодость дня. Для меня это действительно так, в том смысле, что как в юные годы неизбежно посещают откровения, по факту являющиеся простыми истинами, так и ранним утром, еще в полудреме, между бодрствованием и сном, испытываешь нечто похожее на озарение, порождающее немедленное желание действовать: куда-то бежать, что-то делать, кого-то встречать – менять жизнь в поисках лучшего себя. Так случилось и на следующий после возвращения брата из армии день.
Проснулся я засветло. Рассвет только осваивался в наступающем дне, и солнце вываливалось из-за линии горизонта ярко-красным шаром. Мама похрапывала, отвернувшись к стене. Бабушка, наоборот, спала ровно, сложив крестом на груди руки так убедительно, что хотелось немедленно расцепить их. Толком не проснувшийся, сонный, зевающий, я вышел во двор, под ржавый навес, увитый виноградными лозами. Хотелось по-маленькому, но десяток метров до сортира казался долгой прогулкой, в которой Стивен Кинг пощадит не всех.
Я прочапал к огороду, и справил нужду на разопревшую землю. От нее поднималась дымка, и то ли спросонья, то ли от воспаленной вчерашней обидой фантазии мне показалось, что разводы ее складываются в туманные, но, в общем-то, узнаваемые образы. Я видел отца, маму, себя, но чаще всего брата. Его хамоватую, самоуверенную улыбку, которая теперь – я знал это твердо, наверняка – будет преследовать, терзать меня.
И голос внутри – отчетливый, дикторский – принялся вдалбливать, что вчера стартовал отсчет новой жизни, вектором которой станет мой брат. Мальчик, которого я любил, превратился в мужчину, которого я боюсь. И вместе с неконтролируемым страхом нарастало привычное желание сменить обстановку, убежать от происходящего. Но в то же время я знал, что бегство есть лишь полумера, бесполезная в своей сущности, ибо она только усугубляет болезнь, и вирус, ее вызывающий, становится крепче, устойчивее, адаптируясь к лекарствам, которые я применял все чаще и хаотичнее.
Во мне сидел образ брата как модель того, каким на самом деле должен быть я. Он пускал корни, разрастался, высасывал соки, и плод страха, отчаяния, вызванного неизбежным сравнением меня с ним, увеличивался в размерах, как злобный младенец, давя на внутренние органы и в итоге вытесняя само мое естество.
Ранним утром, глядя на созревающую редиску, на бело-голубой дом Шкариных, на укрепляющийся в своих теплых красках рассвет, я клялся себе, что вырвусь из плена деревни, рожденной, управляемой мамой, бабушкой, Ольгой Филаретовной, женской сущностью как таковой, – недаром Крым назывался Тавридой, ибо алтарь богини Девы на мысе Фиолент обагряли кровью людей и быков (тавров) – потому что бунт давно уже вызрел, а теперь свербел и кровоточил: пора, пора разбивать тюрьмы! И если подобное исцеляется подобным, то я должен был обрести власть над женщиной.
Я вернулся в дом. Досыпать. Но прежде чем заснуть, пообещал себе встретиться с Радой: сделать то единственное верное, что только и можно совершать с женщинами, не нарушая издревле установленного порядка. Мне казалось, что теперь я, а не она, алкаю первого соития больше, потому что отныне в нем – оттого и нельзя было определять его, как «секс» или «перепех» – виделось нечто мистическое, воспринимаемое как ритуал, как инициация.
5
У нового водителя рейсового автобуса, сменившего рыжеватого Арсена (тот, говорят, переехал в Керчь), движения нервные, суетливые; крутя руль, он психует и матерится. Фигурка далматинца, прилепленная к «торпеде», бешено дергается, грозя разорвать клееное соединение. Оттого и в салоне боязно, нервно. Я третий или четвертый раз пытаюсь сосредоточиться на тексте, пляшущем в книге с голубой свиньей на обложке, но никак не могу уловить: то ли Сталин анально пользует Хрущева, то ли наоборот. Зато у нового водителя в салоне играет хорошая музыка, и Юрий Шевчук заряжает «Ты не один».
Позитивно, настраивает на результат. Это важно сегодня, когда нужно действовать… нужно действовать… нужно действовать… Главные и, пожалуй, самые ненавистные для меня слова.
Прошу остановить у поворота на Угловое. Но водитель, разогнавшись под «Что нам ветер да на это ответит», скорость не сбавляет, проносится мимо, не обращая внимания не только на мою просьбу, но и на голосующую женщину в шляпе. Злюсь, что меня не слышат, но радуюсь, потому что женщина похожа на демона из «Джипперса Клипперса», просмотренного вчера по «Жисе».
Выхожу у склада стройматериалов. Раньше здесь было зернохранилище с амбарами, напоминающими брюха гиппопотамов. Управлял этим хозяйством Алимов Рустем Решатович.
В середине девяностых он активно поддерживал первого президента Автономной Республики Крым Юрия Мешкова и жутко ненавидел татар, возвращающихся на полуостров. «Отец погиб из-за таких, как они, предателей – сто двадцать из ста тридцати двух, призванных в моем родном Коуше, дезертировали из армии, – своих гады уничтожали!» – так, швыряясь названиями, цифрами бурчал Рустем Решатович на складе, у склада, в конторе и магазине, проходя, проползая – он любил выпить и, напившись, орал, сотрясая волосатым кулаком грудь: «Я русский, блядь!» – мимо татарских домов, казалось, появляющихся за одну-две ночи.
Первого президента Крыма Рустем Решатович уважал, знал лично и ждал, что «Юра разгонит татарскую кодлу», а в самых смелых пьяных мечтах, наверное, представлял, как Мешков – «усы-то есть, только трубку дай» – депортирует всех татар. Дед Филарет то ли шутя, то ли всерьез говорил, что у Алимова вместо сердца – наколка Сталина.
Рустема Решатовича убили, когда он вышел из ворот склада. Зарезали, всадив нож в живот. А потом, как выражаются судмедэксперты, нанесли еще несколько ножевых ранений в шейную и паховую области. Неделей раньше Юрий Мешков отбивался от киевских представителей, требовавших вернуть Крым Украине.
Зернохранилища очень скоро не стало. И собранное с полей гнило, прорастало в деревенских сараях. Долгое время территория пустовала, но года три назад там открыли склад стройматериалов. К его новому функционалу я так и не привык и каждый раз, проезжая мимо, вспоминал Рустема Решатовича.
От зернохранилища до поворота на Угловое идти пятнадцать-двадцать минут, а после еще столько же до самого села. Но можно сократить, пройдя вдоль озера, где был рыбхоз, куда приезжали рыбачить, жарить шашлыки, выпивать, щупать девиц партийные шишки, которых недолюбливала бабушка, отправляя в них проклятия тяжелыми, наспех упакованными бандеролями, добавляя при этом «прости, Господи».
В девяностых партийных шишек не стало, а в рабице, которой была обнесена территория, начали появляться дыры, и местные пацаны повадились ходить на озеро ловить рыбу. Несколько раз я составлял им компанию, держась всегда сбоку, пытаясь быть незаметным, но в то же время своим. Правда, удочку я закидывать не умел и в рыбе не разбирался. Объяснить мне подобные вещи никто не мог, а спрашивать у пацанов западло было. Оттого, наблюдая, я просто стоял рядом.
Но рыбачить все же хотелось, потому я выпросил у соседа (так, чтобы мама с бабушкой не узнали) детскую удочку, яркую, пластмассовую, – тогда постсоветский рынок начал захламливаться турецкими товарами – и отправился на рыбалку один. Вот только дыры, через которую мы обычно пролазили к озеру, в сетке-рабице не оказалось. Место было то же самое, уверен, потому что рядом валялась приметная шина от КАМАЗа.
Я пошел вдоль рабицы, хотел проверить обстановку. Казалось, что трава стала ниже, покладистее. И наткнулся на двух верзил в черно-белых спортивных костюмах с тремя адидасовскими полосами на рукавах. Верзилы курили, гоготали, и один, сказав какую-нибудь фразу, по-клоунски высовывал язык. Но меня смешить он не собирался и, заметив, крикнул:
– Ты чо тут трешься?
– Тормози, Фарш, – примирительно сказал второй, – это ж пацан.
– Чо ему, бля, надо?
– Ты, мелкий, иди домой, – сказал мне второй. Точь-в-точь добрый и злой полицейский.
Так я познакомился с серьезными пацанами, захватившими озеро вместо партийных. В отличие от них, пацаны не ловили рыбу удочками, а глушили динамитом, возили девок ПАЗиками и любили пострелять ночью. Сами они приезжали на «восьмерках» и «девятках», ходили в спортивных костюмах и коротко стриглись. Сельские мальчики смотрели на них с завистью, девочки – с вожделением. Старушки крестились, взрослые прижимались к земле.
Но и серьезные пацаны ушли в конце девяностых. Говорят, скидывали их прямо в озеро. Чтобы не заморачиваться.
Сейчас на озере в Угловом безлюдно. Порой здесь ловят рыбу, но не для еды, а скорее ради самого процесса. Озеро измельчало, вода отошла от берегов. Это видно по сохранившимся вымосткам, уходящими теперь не в воду, а в галечный берег.
Проходя, едва не спотыкаюсь о торчащий из земли ржавый столбик с квадратной табличкой: «Рыбу удить запрещено. Штраф – удар ломом по голове». Поднялся суховей, и с озера тянет гнилью, будто умер кто и разлагается, очень-очень долго.
Помню, так пахло из-под моста в Солнечном, на который я попал вместе с отцом и Валеркой Рябыкиным. Мы заехали туда по дороге из Севастополя. Остановились, чтобы выпить на мосту – отцу почему-то очень хотелось выпить на каком-нибудь мосту, его порой одолевали такие причуды, – но, выйдя из «копейки», забитой пакетами с редиской, тут же засобирались обратно. Вонь смрадным чудовищем лезла из-под моста, обвивая миазмами-щупальцами. Позже я узнал, что к Солнечному мосту приходили умирать животные.
Озеро в Угловом, конечно, смердит не столь жутко, но определенное сходство есть. От былой роскоши остались лишь трухлявые домики, возле которых чернеют пепелища костров и зияют ямы для мусора, геморроем вываливающегося из них. В домиках обычно справляют нужду, и я не исключение.
Облегчившись, иду бодрее, но постепенно страх перед будущим объяснением с Радой сковывает, замедляет. И последние сотни метров по захламленной ветошью улице Герцена я едва ли не ползу, переставляя вериги отекших волнением ног. Но лай шавки с влажной розовой челюстью – где была, когда мы с Квасом ломились в дом? – сигнал к действию. Теперь не убежишь – стыдно.
Стучусь в дверь, как мне кажется, уверенными отрывистыми тычками. Хотя, наверное, никакой уверенности в них нет, а, наоборот, они выдают человека нервного, сомневающегося. Неуверенность же, если верить «Энциклопедии для мальчиков», была у меня такая, худшая черта мужчины.
Для чего писать подобное? Для чего издеваться? Если и так ясно, что никакой уверенности в действиях мальчика не может быть в принципе. Откуда ей взяться, когда сомнения жрут, как моль шерстяное пальто? Если девушки не дают и не знаешь, как к ним подступиться. Если учишься курить, стараясь не выдать отвращения к дымящей погани. Если строишь из себя существо высшего порядка, но, по факту, едва от низов оторвался, да и то на цыпочках долго не простоять.
Вот и сейчас, стучась в такт перепуганного сердца, я нервничаю, волнуюсь, потею и развиваю худшую черту мужчины, еще не успев стать им. Мой страх липок. Он пристал к коже и наполнил черепную коробку, заменив мозг клейкой массой, наподобие той, что образуется на деревьях. В детстве – самая вкусная была на вишнях и абрикосах – я очень любил лакомиться ею.
– Кто там?
– Это… это… Аркадий…
Запинаясь, хочу добавить еще и фамилию, но это, пожалуй, лишнее, и я умолкаю. Тут же корю себя за это, потому что без фамилии Радина мама, Эльвина, может и не сообразить, кто пришел. Судя по специфике ее развлечений, Аркадиев, как и Сергеев, Рустемов, Степанов, Айдеров, Викторов, она может знать сколько угодно. Я хочу исправиться, назвать себя полностью, но дверь открывается.
Эльвина передо мной. В бирюзовом халатике. Он, как пишут в дамских романах, небрежно наброшен, но ничего такого, что могло бы возбудить меня, потому что из-под халатика выглядывает черная обтягивающая водолазка, прикрывающая грудь и шею. А вот гладкую кожу ног рассмотреть можно. И я позволяю себе это на несколько минут. Эльвина замечает мое любопытство. Взгляд ее становится удивленным и в то же время заинтересованным.
– Аркадий…
– Да, я помню. – Улыбка Эльвины, будто ракушечный камень, сложенный в ряд. – Рады нет дома…
Разваливаюсь, точно охапка дров, которую нес-нес и вдруг запнулся. Надо было позвонить, назначить встречу, а не делать этот нелепый, фанфаронский сюрприз. Я ведь даже цветы не купил! О чем думал, на что рассчитывал?
– Уехала.
– А когда будет?
– Через… месяц.
Эльвина врет. Это очевидно. Но раздражает не сама ложь, а то, что она какая-то убогая, мелкая, насекомоподобная. И наверное, что-то в моем лице – жалостливое, пронзительное, потому что Эльвина, делаясь еще более похожей на чернослив, морщится, добавляет:
– Да не переживай. Ты хороший парень. Лучше других…
Ее «другие» как джэб, от которого не увернешься. Рассчитывал на Гагарина, а надо было – максимум на Титова. Ведь несмотря на то что я считал Раду взрослой, опытной женщиной, никогда не думал, что она встречалась (сколько кроется за этим словом!) с другими. Она была моей Йоко, а я мечтал быть ее Джоном. Похотливость, вульгарность Рады я объяснял общей порочностью женщин. Да, я не видел ее проявлений в бабушке или маме, но это, собственно, и забрасывало – исключение, лишь подтверждающее правило – в мой лагерь хитроумного врага, шептавшего: не поддавайся на обман, будь умнее, они просто тщательно скрывают свою распутность. Я ведь жил с уверенностью, которой опять же был обязан проповедям мамы и бабушки, что все люди греховны, а, значит, порок не изжить, можно только прикрыть, а лучше всего скрываешь те, низменные и мерзкие, вещи, в которых боишься сознаться прежде всего самому себе.
– Аркадий?
Слова Эльвины далеко. Их не доставит почта. Пути сообщения с моим Я блокированы «другими». Они перекрыли все доступы – их так много. И каждый хохочет надо мной: смотрите – дурачок, наивный, убогий.
За их красным смехом не разобрать слов Эльвины. Что-то насчет терзаний и слез, новых шагов и понимания, хотя так, конечно, не делается, она сама должна была поговорить, но теперь, что уже – поздно…
Да, она должна была. И я должен был. Но с нее не спросить, а вот с себя – нужно. До крови, до боли, до понимания.
Мама, забери мое ружье
1
Как заведенный, я напевал “Somebody saw you at the station. You had your suitcase in your hand”. Песня Элиса Купера “Love is loaded gun” пристала ко мне, вцепилась питбулем, не отпускала. Девушка и, правда, стояла на автобусной остановке. Без чемоданчика, но с черной сумочкой. Одетая в сиреневое платье и бледно-синие туфли на высоком каблуке.
Последнее время я только и делал, что в ювелирных подробностях – настолько микроскопических, что, казалось, воспроизводя их, можно было ослепнуть – вспоминал наши встречи с Радой. Анализировал, препарировал их, думая, как должен был поступить в том или ином случае, чтобы вышло иначе, а не так, как сейчас. Больше всего я размышлял о встречах у памятника гвардейцам и у Пети дома. В альтернативной версии я целовал, мял, ласкал, трахал Раду. Трахал так, как читал в украденных у отца газетах.
Это начинало походить на патологию, превращающую в маньяка. Но тот неизбежно попытался бы материализовать фантазии, а у меня не было и намека на то, что когда-нибудь я совершу воображаемое не только с Радой, но и с любой женщиной в принципе. Хотя впереди простиралась бесконечная, точно степь, жизнь. Разгуляешься. Но от того, что она, несомненно, предоставила бы возможности, я терзался еще сильнее и хотел забиться в нору, переждав, переспав жизнь. Точно во мне нарушился, сломался ключевой механизм первичных инстинктов. И я должен был вернуться назад, дабы его исправить.
Говорят, те, кого мы любим, кто нас любит, уходя, забирают с собой частичку нашего Я, и мне, правда, казалось, что моя целостность – пусть доселе хрупкая, разбалансированная, но целостность – нарушилась.
И я жаждал реверса, чтобы вырваться из закольцованности ситуации, превратившей меня в героя дурной мелодрамы, инфицированного стереотипами и банальностями. Вернуть, поменять, исправить!
Сколько было, есть, будет мыслящих так же? Не понявших ранее? Сообразивших столь поздно? Начавших ценить, когда потеряли? Тысячи, миллионы. Но если их так чудовищно много, то почему жертвы банальностей, превращающих человека в насмешку, появляются снова и снова? Будто не вопросы для человека, а человек для вопросов, и ты знаешь, для чего они существуют лишь в детстве.
Общество штампов. Мир штампов. Вселенная штампов. Штамп рождается. Штамп развивается. Штамп эякулирует. Штамп рождает штампа. Штамп умирает.
Все так, но разве мне или тем, кто был до меня, кто будет после меня, от этого легче? Да, миллион жертв – это статистика, да, горе – это штучный товар, но каждая единица из этого миллиона чувствовала, терзалась, агонизировала. Потому что страдания либо облагораживают, либо превращают в животное.
Девушка стоит на автобусной остановке. В сиреневом платье и бледно-синих туфлях на высоком каблуке. С черной сумочкой в руках. На зацементированной площадке с тремя стенами. Из одной торчат ржавые металлические остовы скамеек; деревянные планки оторваны. К левой стене примыкает небольшое здание. Еще сохранилась желтая вывеска с массивными красными буквами «Продукты». Но никаких продуктов там нет. Стекло за металлическими прутьями разбито.
Автобус останавливается, плюхая ржавым пузом в мутную лужу. Но девушка в сиреневом платье не садится. И водитель, швырнув на дорогу окурок, вдавливает педаль газа. Автобус – в движение, в скрип.
Я стою на другой стороне дороги. Под разлапистыми соснами. На прелом ковре упавшей хвои, через который ощущается твердость камня. Сзади меня – бетонная будка. К ней червяком подползает дорожка. Туалет типа сортир, обозначенный буквами «Мэ» и «Жо».
У остановки тормозит баклажановая «пятерка», номер АР0315КР. Цифры, буквы отпечатываются во мне. Девушка в сиреневом платье подходит к «пятерке». Улыбается, помахивая черной сумочкой. Дверь открывается. И я знаю того, кто сидит внутри. Девушка, оправив платье, подсаживается к нему, и «пятерка», раскрыв веер брызг, отъезжает.
Водитель не будет сомневаться, терзаться, бояться. Он сразу возьмет свое.
Повернет у пустующей фермы, где зомбированный алкоголем и советским прошлым охраняет то ли себя, то ли священную пустоту дядя Митя. Для понту проедет под аркой и помчит, стуча колесами по бетонным плитам, дальше, мимо кладбища, утопающего в аромате цветущей сирени. Наконец затормозит у виноградников, где собирают, а чаще воруют «Молдову» с мелкими, сладкими до приторности ягодами.
Тогда все и произойдет. На капоте, в салоне. Как ему будет угодно.
Или он привезет ее домой. Скрипнет голубой калиткой. Пригни голову, не зацепи виноград. Заведет в комнату. В углу на столе – компьютер, чтобы рубать в “Quake” и “Half-Life”. В центре – кровать полуторка. Да, удобнее, чем на капоте. Делай, что хочешь, как хочешь. Дай волю фантазии, вспомни те фильмы, что смотрел, наливаясь истомой. И плевать, если мама зайдет. Хотя она не зайдет – уважает. Его все уважают. И теперь она в числе этих «всех».
Наверное, Бог – или кто там вместо него, а, мама? – решил прикольнуться: мне – корешки, а брату – вершки. Чтобы затем приговаривать: нет, рабики вы мои, нельзя так судить – хорошее или плохое; ведь мои пути неисповедимы и нет испытания не по силам.
С братом-то – ладно, все понятно: он победитель. Но что за идентификация у меня? Аркадий. Бесполезное, пустое имя. А надо давать правильные, точные имена. Наподобие тех, что носили гномы, жившие с Белоснежкой: Скромник, Весельчак, Чихоня, Молчун. Как бы в таком случае назвали меня? Тормоз? Ущерб? Трус?
Так что, какие тут претензии к Богу? Не Он – или не только Он – покрывался липким страхом у Пети дома или у памятника гвардейцам. Нет. Рада ушла к брату, потому что я предал ее.
И для предателя я знаю лучшую, чем повешение, смерть. Развернуться. Пройти по червяку дорожки к туалету типа сортир. Протиснуться сквозь залежи дерьма, стекла, шприцов. Отыскать дырку, окаймленную засохшими экскрементами. Встать на колени, точно для молитвы Вельзевулу. Засунуть голову. И хлебать, хлебать. Под жужжание дьявольских мух.
Тогда заряженное ружье выстрелит.
2
Первые дни после возвращения из армии брат не появлялся. И я нервничал, точно перед экзаменами. Настраиваешься, готовишься, переживаешь, но экзаменатора нет, и чем дольше его ожидание, тем волнительнее. Потому что ощущение новой жизни, испытанное мной тем ранним утром, на следующий после застолья у Шкариных день, успело по-хозяйски обосноваться внутри, подведя итог прежней эпохи. Той, что я со свойственной мне впечатлительностью принимал за ад. Но теперь, глядя на нее со стороны, спустя время, я замечал очевидные черты если не рая, то чистилища, где еще присутствовала благодатная возможность выбора.
И вот – все. Без «Квантового скачка» и «Беверли Хиллз 90210». Без чтения на веранде. Без игры в футболистов по телефону. Без ласк и оправданий. Пришло время ответственности.
Противостоять этому невозможно. Можно лишь попытаться сохранить память о том времени, недооцененном, оболганном. Сохранить, чтобы не повторить ошибок прошлого.
В таких случаях говорят что-нибудь вроде: «Я прозрел». Но мое чувство скорее напоминает не прозрение или пробуждение, а холод смерти, накрывший, будто лавина. И человек, ходивший в моей коже, забравший мою тень, умер. Временщик, исполнивший предназначение. На его место пришел новый Я. Временный? Или подлинный? Есть ли вообще разница?
Если кто-нибудь из американских военнопленных в японских лагерях начинал хандрить и стучаться в двери небес, то остальные избивали его, чтобы активизировать инстинкт самосохранения, стимулировать защитные силы организма. Появление брата, потеря Рады – нечто похожее.
– Подъем, Бесогон!
Брат заделался будильником. Неудивительно. Он поднимается засветло, а я обычно дрыхну до десяти, до одиннадцати, несмотря на упреки бабушки. Впрочем, в субботу – это не преступление. Но брат, видимо, так не думает. Отодвигает шторы, пускает свет. Я, защищаясь от солнечных лучей, будто вампир, натягиваю одеяло. Он сбрасывает его, крича:
– Широка страна моя родная, много в ней лесов, полей и рек! – И тут же: – Перемен, мы ждем перемен!
– Витя, что такое?
Я продолжаю закрываться одеялом, но скорее уже автоматически. С осознанием проигрыша.
– Рота подъем!
– Встаю, встаю…
– Пять минут на сборы, салага!
Он, хохоча, выходит из комнаты.
Поднимаюсь не сразу, растягиваю шлейф неги. Закрыться бы одеялом, поспать еще десять, двадцать минут. Но не с Виктором – этот не даст покоя.
Встаю, разглядывая себя в зеркалах трюмо. На боковых створках – наклейки с трансформерами из мультсериала, мы смотрели его вместе с братом. Я симпатизировал автоботам, а Виктор – десептиконам. Побеждали всегда автоботы, и брат, как бы мстя их сторонникам, набрасывался на меня – конечно, шутя, балуясь, но тумаки его выходили увесистыми. От того я заводился, и Виктор, наверное, довольный тем, что в жизни все не так, как в мультике, хохотал, глядя на меня, шумно сопящего, пыхтящего и неуклюже машущего руками.
Иногда он поддавался мне, и мы принимались кататься по желто-коричневому ковру, рискуя получить нагоняй от бабушки или мамы. Потому что ковер оберегали как главную семейную реликвию.
Бабушка купила его в Москве, в конце сороковых. Время было голодное, нищее. Бабушка, тогда еще незамужняя девушка, жила с матерью – отец погиб в первые дни войны, когда их невооруженную роту погнали на немецкие танки – и двумя сестрами в деревеньке Новоселкино Брянской области.
Чтобы заработать, бабушка, набив сумки яблоками, десяток километров топала к железнодорожной станции, штурмовала крыши поездов, добираясь в Москву. С Киевского вокзала, пахнувшего копченой рыбой, она шла к театру, возле которого продавала яблоки гулявшим парочкам. И так каждые выходные.
На заработанные с яблок деньги бабушка и купила ковер, привезенный сначала в Новоселкино, а после, в шестьдесят третьем, когда они с Филаретом переезжали из Брянской области в Крым, и в Каштаны.
В том числе и поэтому – я вспоминал, какими усилиями заработан ковер; наваливалась тоска, но не та, что с чашкой малинового чая под одеялом, а промозглая, зябкая – наши с братом сражения длились недолго. Виктор всегда побеждал. Я лежал под ним, чувствуя сладковатый запах пота, скопившегося между соединением таза и ног.
Вот и сейчас, перед новой встречей с братом, этот запах как признак близящегося разгрома преследует, допекает меня. Точно свидетельствует, с чего начинается та самая, новая, жизнь. И, не в силах избавиться от него, я захожу в кухню грустный.
– Чего такой хмурый, Бесидзе? Ба, дай ему поесть, что ли…
Бабушка, и без того суетная, когда дело касается кормежки, ускоряется еще больше. Пихает в меня пшенную кашу, заправленную сливочным маслом, салат из крабовых палочек, едва ли ни плавающих в майонезе, пузатые пирожки с лоснящимися – их смазали взбитым яйцом перед тем, как ставить в духовку «Харьков» – боками.
– Да куда столько? – После такого количества жирной пищи буду чувствовать тяжесть, апатию.
Я и в детстве часто хворал, но этой весной окончательно сник. И примеры слабых здоровьем Льюиса Кэррола и Блеза Паскаля, которых я, ища утешения, вспоминал в качестве подсказанных Маргаритой Сергеевной образцов, уже не успокаивали. Страдания, может, и были причиной разума, но от присутствия этого разума делалось только хуже.
– Лопай давай! – прикрикивает бабушка. – Брат вона какой…
– Он еще подтянется, ба…
– Да уж, подтянется. Витенька, куда вы сегодня? – Брат сообщает ей план нашего досуга. – Пораньше будьте. Ему еще уроки учить.
Бабушка произносит это так, будто сама участвует в процессе. Хотя учился я всегда сам, и никаких проблем не возникало. Но тешить себя – благодарное дело.
Из пунктов, названных Виктором, в список наших реальных действий входит лишь поход на турники. Они – за фермой, у заваленного сарая: ржавые брусья и рама. Виктор делает три-четыре подхода по десять-пятнадцать раз, сняв перед упражнениями майку, хотя на улице не слишком жарко. Видимо, просто дразнит меня: мышцы ходят под кожей, точно монстры из «Дрожи земли» – устрашает и в то же время притягивает.
Ублажив Нарцисса в себе, Виктор гонит на турник и меня. Вялой чурчхелой я болтаюсь на перекладине, дрожа и пуча глаза. Жалкое зрелище. Но Виктор смеется. Для того, похоже, и брал. Чтоб насмехаться.
– Давай подтягивайся, не болтайся кишкой!
– Не могу!
– А ну давай!
– Да не могу же! Пошли, а?
– Три раза!
– Ни одного!
Разнимаю пальцы, чтобы спрыгнуть с перекладины. Брат тут же прерывает мое намерение:
– Не вздумай соскочить! Пробуй! Бабы любят сильных мужиков. Так и помрешь девственником.
– Я не девственник!
– Трахался?
– Да!
– С рукой?
– Да пошел ты!
– Это ты, блядь, пошел! Не ебать тебе баб! А я такое местечко в виноградниках знаю, ух!
– Да по хер! Что с бабами делать?
– Телиться, тупить, херней всякой заниматься – это в твоем случае…
К пресловутым бабам мы ходили не реже, чем на турники. Точнее, Виктор ходил, а я, вяло сопротивляясь, полз следом. Мои возражения казались тем нелепее и смешнее, что и мне, и Виктору, и бабам – всем было очевидно, что я до коликов в животе боюсь женщин. И после Рады этот страх только усилился. Но я, конечно, бравировал, отрицал, принимая движение черепахи, на сантиметр высунувшую голову из панциря, за могучий прыжок льва.
Вот только в присутствии девушек я вибрировал как трансформатор, молчал, глотал слова, давил эмоции. Мечтал уйти, сбежать, скрыться. А Витя убалтывал, соблазнял. И, глядя на девочек, которые верили его жестам, словам, уловкам, я понимал, насколько они ведомы, зависимы, предсказуемы, как легко убедить, подчинить их; при условии, что тебе плевать, но стоит проявить интерес, нежность, заботу или, не дай боже, влюбиться – контроль потерян, и теперь удавка на твоей шее. Девушки, как алкоголь, усиливают то, что в тебе есть.
Понимание это – ими так легко управлять, так почему я угодил в кабалу? – рождало ненависть, злость на самого себя. Девушки бесстрастными реагентами проявляли мою зависимую, слабую, никакую сущность – маленький человек: дома, в школе, на курсах. Оттого меня всегда и сравнивали с кем-то, проецировали чужую жизнь на мою, потому что моя-то была пуста, неинтересна, и делали выводы, больше похожие на приговоры.
Я мог оставаться собой, вызывающе подчеркивая это. Или, наоборот, подражать другим, лепя из себя их ухудшенные копии. Странным образом я умудрялся, точно по линиям передач, идти двумя этими путями, а голоса сверху твердили, что жизнь лишь начинается. Смешные. Неужели они думали, что я сам не понимаю этого? Впрочем, свои жизнеутверждающие прокламации они произносили не для меня, а для самих себя, убеждая если не в возможности счастья, то в надежде избежать несчастья. Потому что, как и я, боялись.
Брат же, общаясь с девушками, чувствовал себя легко, свободно. И, наверное, вывали я ему в одном из учащающихся приступов отчаяния свои размышления, он бы рассмеялся и сказал: «Не еби мозг!» А затем, снизойдя, добавил бы:
– А ну взбодрись, овощ! Не заморачивайся!
Мне твердили, чтобы я стал проще, не заморачивался, и тогда люди потянутся. Я по-своему любил человека рядом и человека в себе и очень хотел, чтобы они встретились, нашли, оценили друг друга, но проще быть не получалось, потому что «не заморачивайся» раздражало, отвращало на клеточном уровне.
Мерсо, герой повести Камю «Посторонний», прочтенной мной на первом курсе университета, видел спасение в приспособленчестве к изменениям внешнего мира, константами которого оставались лишь человеческие страсти. Скорее всего, он был прав, но я, хоть и пытался, не мог принять подобную правоту.
Не мог не заморачиваться, глядя, как стареет, болеет мама, съедаемая извечным страхом. Глядя, как разрушается, разграбливается ферма. Глядя, как брошенная мельница, где мы с дедом мололи зерно, наполняется бутылками и шприцами. Глядя, как улицы и души заваливаются мусором. Глядя, как скитаются пьяные, опустившиеся люди, еще недавно считавшиеся гордостью района. Глядя, как сплетаются татарская месть и русская злоба. Нет, я не мог воспитать, натренировать в себе равнодушие, не мог вытравить из себя персональную и коллективную совесть.
Но и действовать толком я не мог, неспособный на конкретные поступки. Потому мой бунт оказался молчалив, пассивен, направлен, как у татар в борьбе за возвращение на крымскую землю, на самого себя. Внутри меня шла война, внутри меня разгорался огонь. И это не образ, не метафора, а сугубая реальность, потому что, впустив окружающее зло в свое тело и душу, я физически ощущал болезнь.
Подобное чувство называют хандрой, депрессией – не суть. Так или иначе, это прежде всего стереотип реагирования, острое, болезненное восприятие патологии мира и, как следствие, появление патологии внутри себя.
И правы были те каштановские мужики и бабы, которые, выкорчевывая из себя любые заботы, размышления о так называемой жизни, использовали алкоголь, табак, рабский труд, телевидение для отупления, превращения себя в пассивных созданий наподобие коз, слоняющихся по стадиону «Спартак». Адаптация; без нее не спастись, не выжить. И рабское согласие с неприятием высших ценностей высвобождало энергию для максимальной концентрации на первичных потребностях, замкнутых на быт и межличностные отношения. Бабы отстаивали власть, а мужики бунтовали, хотя внешне ситуация казалась обратной. И едва ли не каждый житель Каштан, Песчаного, Берегового, Углового, других сел участвовал в этом гендерном побоище, становившемся особенно беспощадным в присутствии зрителей, посторонних.
Поэтому брат и таскал меня за собой к бабам. Я исполнял роль публики, мотивировал, давал стимул. При мне Виктор не мог проиграть. Не по-пацански это – проигрывать. И он старался сделать представление как можно более ярким, откровенным, шокирующим, чтобы, принизив, возвыситься самому.
Помню, Виктор соблазнил девушку прямо при мне. Это случилось еще до его встречи с Радой. Мы выбрались в Севастополь. Всю дорогу брат рассказывал о пользе армии. Он вообще любил переносить армейские привычки в обыденную жизнь. Это полностью отключало его и без того не слишком живой внутренний диалог и позволяло действовать решительно, четко, не сомневаясь. И как война по-своему полезна, мобилизируя лучшие (впрочем, и худшие) качества, так и постоянное пребывание Виктора в условиях, приближенных к боевым, стимулировало, заряжало его.
Это было особенно ценно в тот вечер, рассыпающийся, будто котлеты, в которые положили мало хлеба. Виктор хотел, чтобы мы переночевали у его армейского друга, но мама с бабушкой, истеря, не отпускали. И пришлось обещать, что вернемся на последнем автобусе, в одиннадцать вечера, хотя, на самом деле, планировали ловить попутку.
На Графской пристани, пахнущей солярой и йодом, у рафинадных колонн мы купили две баклажки «Крым» светлого. Виктор спросил что-нибудь пожевать, но золотозубая продавщица в не по-майски шерстяном свитере хмыкнула и захлопнула окошко так, что оно обиженно задребезжало. Похоже, в ларьке торговали исключительно пивом: бутылки стояли на ДСПешных полках, тесно прижавшись друг к другу, и казалось, что двухлитровые баклажки, как старшеклассники, обижают маленьких.
Мы двинулись к Морскому торговому порту, основанному, о чем сообщала табличка с выпиской из Манифеста, Екатериной II, мимо российской комендатуры, невысокий черный забор которой всегда был вымазан солидолом. Чтобы не лазили. Уселись под камуфляжными платанами на единственную уцелевшую от рук, ног пубертатных злодеев скамейку. И тут нас приняли.
Милицейские серые мыши точно вынырнули из бьющегося о пирс Черного моря; других объяснений их бесшумного, стремительного появления не было. И началась извечная пьеса.
– Молодые люди, пройдемте…
– Куда пройдемте?
– В опорный пункт.
– В честь чего?
– «Распитие алкогольных напитков в общественном месте», статья 178.
– Это же пиво.
– А пиво разве не алкогольный напиток?
– Нет. Вот смотрите, – брат повел пальцем по этикетке, – «Пивобезалкогольный комбинат “Крым”».
– Изучите действующее украинское законодательство. Пиво считается алкогольным напитком. Предъявите содержимое карманов.
У Виктора – кошелек, мобильный, сигареты, эспандер. У меня – кошелек, мобильный, ключи, салфетки, платок, конфеты, капли в нос.
– Опа, а это что? – Первый мент берет в руки «Нафтизин», вертит. – В глазки закапываем, чтоб не палиться?
Различать ментов можно исключительно либо как первый-второй, либо как правый-левый, настолько они – невысокие, носатые, хлюпкие – похожи.
Виктор хмыкает:
– Куда ему такому? «Траву» курить…
– А вы, стало быть, в курсе того, что курят…
Досматривают тщательнее. Проверяют носки, ищут «пятки». Ничего не находят. Светят в глаза фонариком.
– У меня насморк, правда, – оправдываюсь я, хлюпая носом. – Не могу без «Нафтизина».
– Так, собираемся, идем в опорный пункт.
– Никуда мы не пойдем.
– Статья 185, «Сопротивление требованиям работникам милиции». Мне вызвать подкрепление?
– Мы вообще-то еще не сопротивлялись. – Викторовское «еще» звучит не без угрозы.
Второй мент лезет за рацией. Тычет в кнопку. Хотя и мы, и они понимают, для чего это нужно. Но надо поторговаться, сбить цену. Тут главное – не говорить лишних слов. Не умничать, не запугивать, но и не лебезить, не заискивать. Быть равноудаленным и равноприближенным. Тогда все будет, как любит повторять Таня Матковская, чики-пуки (пусть в этом и есть что-то от несварения желудка).
Сходимся на двадцатке. Менты забирают деньги, салютуют, просят не нарушать.
Отбрехались. Денег ушло немного, но настроение – в минус. Как просроченные сардельки, которые, если проварить, в принципе, есть можно, но выступившая на оболочке липкая влага смущает.
Повышать настроение – стандартным способом. Покупаем баклажки «Крым крепкое» – то пиво менты изъяли – и пачку синего «Честера». Три хихикающих девочки – лет двенадцать, на одной пайта «Король и шут» – повторяют заказ. Виктор тут же тестирует их, как он выражается, на ебабельность – отбраковывает. И не из-за юности и неопытности (второе под рыболовным крючком вопроса), а из-за внешних данных.
Цеплять баб (терминология брата) идем на площадь Нахимова. Памятник Павлу Степановичу обращен к морю спиной, лицом – к городу, и это причина для нескончаемых споров историков, краеведов, маринистов, неравнодушных: как все-таки правильно, к морю или от моря? Но Павлу Степановичу, наверное, все равно, хотя смерть прилетела к нему с моря.
Рядом с памятником, посылая приветы травматологии, пытаются оседлать гравитацию скейтеры. Их немного – человек пять-шесть, но шумового фона хватит на приличные соревнования. То ли от упражнений на скейтах, то ли от недобросовестности укладчиков асфальт вздулся. Хотя, возможно, это его реакция на оцепление площади ларьками, будками, домиками с пирожками, слойками, напитками, хот-догами, точно попал в город не морской, а фастфудовской славы.
«На Нахимова телочек нет», и мы идем в сторону Приморского бульвара, к летней концертной площадке, прозванной за форму «Ракушкой». Тут я увидел, как бьют Виктора, и тут понял, что никогда не смогу ударить сам.
Май в преддверии туристического сезона расчехляет точки сбора гуляк. «Сегодня водка не во вред, мне сегодня тридцать лет», – подпрыгивая, орет в караоке сальный мужик с рыжей копной волос, обрамляющих лысину. У входа на «Ракушку», линолеум сцены которой, как треники, пошел пузырями, две старухи в строительных ватниках торгуют цветами, судя по виду – и старух, и цветов – собранными с могил. Суют их парочкам настойчиво, нагло, требуя, чтобы кавалер не жадничал. Кавалеры либо шлют старух эротичными маршрутами, либо растерянно соглашаются.
У «Ракушки» брат вытягивается, расцветает. Улыбка самодовольная, многообещающая. Но «клеить шмар» здесь не вариант, слишком шумно.
Памятник затопленным кораблям насуплен и хмур. Ему сыро, промозгло в море. Даже в мае. У него насморк и простатит из-за вечно мокрых ног. Каждый раз, когда я смотрю на это гранитное основание с торчащей диоритовой колонной, мне видится питерский интеллигент, бредущий под дождем с раскрытыми зонтиком и книгой в руках.
Девушки гуляют вдоль набережной парами. Если подойти к ним, то одни скажут, что давно не виделись, поболтать вышли, а другие будут честнее: уделят время, но при этом станут глупо улыбаться, хихикать, и от их малолетства пропадет всякая как бы страсть.
Виктор находит третий вариант. Останавливает, растопырив руки, ладонями вперед. Что-то говорит, трогает. Сначала едва заметно, неуловимо, а потом откровеннее, наглее. И девушки соглашаются прогуляться с нами.
Работающие кафе в майском Севастополе – нонсенс. Еще не душно, раскалено, как летом, но уже и не прохладно, влажно, как в апреле и марте. Благоухание цветущих ленкоранских акаций струится над Приморским бульваром. Кто станет дохнуть в помещении?
Лучше взять бутылочку «Муската» – хорошо массандровского, но он дороже, а потому сойдет коктебелевский – и расположиться под акациями на Матросском бульваре, начинающегося с памятника, первого в городе, капитан-лейтенанту Александру Казарскому. Похожий на корабль аргонавтов бриг «Меркурий», потопивший два турецких линейных корабля, установлен на постаменте, украшенном мечами, секирами и надписью «Казарскому потомству в пример». Судя по тому, как отдыхают на бульваре, потомство восприняло завет по-своему. И то, что фонари не работают, сегодня вечером только лучше: темнота – друг молодежи. К ней привыкли. Она, как лотерея: можно выиграть путевку в челюстно-лицевое, а можно запустить в перспективное или не очень путешествие миллион сперматозоидов.
Наладить городское освещение – обещание всех севастопольских мэров. Но жениться на лампочках они не спешат. Впрочем, у мэров – свои прогулочные маршруты. Да и назначают их в Киеве – севастопольцы бы таких не избрали.
Девушек зовут Ульяна и Маша. Маша – блестящие, цвета мазута волосы, спелая слива аккуратного рта с удивленно приоткрытыми губами – симпатичнее, поэтому мне достается Ульяна – мелкие, точно вдавленные, глаза, П-образное лицо со смазанным подбородком, усеянным красноватыми прыщиками. И пока я стараюсь отыскать нужные слова, Виктор разводит девушек, точно убаюкивает грудничка в люльке.
Про таких, как он, говорят: «Не прочитал ни одной книги…» И это должно звучать осуждающе, резко. Но по факту им, викторам шкариным, не нужны книги. Они пишут свои истории, в начале которых не Слово, а Дело. Пока такие, как я, начитанные, насмотренные, намоленные, жуют фразы-сопли, чувствуя гнилостный привкус бессмысленности стараний.
– Ульяна, э, чем занимаешься?
– Да так… учусь… тусуюсь…
– Тусишь?
– Типа, по дискотекам.
– А там, кстати, есть дискотека «Кают-компания». Мы были… там круто…
– Так она год не работает. Да и вообще – для детей местечко.
– Работала… мы когда были… нормально…
Врать – не умею. Говорить – не умею. Флиртовать – не умею. Дисциплина «Соблазнение девушек» – незачет, без права пересдачи.
А рука Виктора прячется под складками джинсовой юбки Маши. Ноги, выглядывающие из-под нее, – мясистые, полные – дергаются и чуть раздвигаются. Сижу, наблюдаю, молчу. Из темноты слышится журчание. Чуть дальше, за кипарисами, советская власть сделала площадку, откуда, если влезть на парапет, можно любоваться видом на море и Графскую пристань. Но с тех пор как ушли коммунисты, если кто и любовался видом с площадки, то неизменно справляя при этом нужду. И во время Дней города, Победы или Военно-морского флота России, когда любующихся было особенно много, запах мочи наползал на бульвар.
Витя, развернув Машу задом, ухватив за светлые волосы, входит в нее. Ульяна встает, скрывается за ширмой темноты. Я должен идти следом, проделать то же, что Виктор с Машей, но остаюсь на скамейке с попыткой убедить себя в том, что поступаю логично, порядочно даже. Отсутствие интереса к Ульяне я малодушно оправдываю уродливым подобием верности Раде, пусть и не видел ее несколько недель, но все еще надеясь быть вместе.
В романах пишут, она по-прежнему жила в моем сердце, но месторасположение, назовем это так, Рады во мне было иным. Когда я вспоминал, думал о ней, воображая, как совершаю то, чего она желала, вяжущее, томное чувство рождалось в паху и просилось наружу, не отпуская, заставляя испытывать непрерывное сексуальное возбуждение. Я снимал его излюбленным методом (ему предавался не выходивший из комнаты, обитой пробкой, Марсель Пруст, в затворничестве, отторжении которого я находил похожие, близкие черты, что, в общем-то, было свойственно мне, любившему подмечать – а точнее, выдавать за таковые – сходства с известными людьми), но оно сразу же появлялось вновь. Может, нечто похожее чувствовал Курт Кобейн, набиравший в шприц дозу. Ощущение присутствия чего-то большего, нежели ты сам, грозящего подавить, изменить тебя.
Глядя на брата, трахающего случайную машу из племени маш, я старался вытеснить это чувство, но с каждым стоном, выдохом оно входило в меня, прицепом таща за собой зависть.
– Может, пройдемся?
Моя фраза звучит комично. Хотя что в данной ситуации могло бы звучать нормально, уместно? Давай присоединимся? Давай тоже трахнемся? Но Ульяне, похоже, и самой нужно сменить обстановку.
– Можно…
Хочу взять Ульяну за руку, но как всегда только хочу. Впрочем, когда-нибудь я сделаю это. И мы будем идти по крутой лестнице с выщербленными ступенями. Будем покупать в ларьке пиво, не боясь ментов. Будем рассматривать синий цветок Вечного огня, у которого школьники, переодетые в курсантскую форму, сменяя друг друга, вот уже тридцать лет несут почетный караул.
Я тоже хотел быть караульным, записаться в Пост № 1. Нас, сельских, отбирали из пяти деревень. Мои шансы изначально не густо намазали на перспективы. Подкрашивающий хной жидкие волосы военрук, переименованный Украиной в преподавателя «Допризывной подготовки юношей», выстреливал колкостями столь часто, что я, казалось, начинал кровоточить. Форменная кремовая рубашка топорщилась на мне, принимая вид то одной, то иной горной системы. Неволевой подбородок тянулся вниз и с упертостью трудного подростка не желал подниматься. Руки и ноги при маршировке разлетались в стороны, точно бухой вытанцовывал на сельской дискотеке, хотя, как и все бухие, я был уверен в отточенности своих движений.
Но это был один из немногих случаев, когда я не отступился. Уж не знаю, где я черпал мотивацию, но в итоге мне удалось надеть пахнущую затхлостью тельняшку и влажную курсантскую форму. В руки сунули автомат Калашникова, подаренный Посту № 1 самим создателем. Да, возможно, я, марширующий по улице Нахимова, был одним из самых гордых и ответственных школьников, когда-либо заступавших в караул.
И эти воспоминания придают уверенности, когда у Вечного огня мы читаем с Ульяной названия полков и дивизий, защищавших Севастополь, имена героев Советского Союза, удостоившихся этого звания при обороне города, выбитые на мемориальной доске из красного и черного мрамора. Сейчас про них говорят «брал Сапун-гору» или «сражался на 35-й батарее». Произносят эти чудовищные в своей изничтожающей неполноте слова, не отражающие ни единого отблеска того ада, в коем никто не хотел убивать и не хотел быть убитым, но погибал и лил кровь. Сухое, безжизненное, как гербарий – «брал Сапун-гору».
Потому мемориальная доска – недосказанность. И присутствие Ульяны тоже. Но в этом ощущении недосказанности зарождается особый механизм, срабатывающий без сбоев, точно, наверняка. Механизм самоуспокоения, обретаемого через самоуничтожение, которое паче гордости.
Когда понимаешь, что ты на своем месте – неудобном, темном, позорном, но своем, – становится безразличнее, а оттого легче. И люди рядом – просто люди, а не ограничивающие знаки.
Ульяна, ты видишь, чувствуешь, я не тот, кто тебе нужен. Ищи другого. Пока мой брат трахает твою подругу. Но вдруг этот майский вечер – «Мускат», акации, Матросский бульвар, холодное пиво на деревянном пирсе Графской – лучшее из того, что с тобой было? Согласен, мелко, неинтересно, но вдруг? И, представь, оно не повторится. Конечно, ты само собой веришь – или, уж прости за слово, мечтаешь, – что все впереди, все обязательно будет лучше. Нет, «лучше» – слишком общее слово. Давай определимся: ярче, вкуснее, роскошнее, здоровее, сексуальнее? Впрочем, не суть – главное, что ты веришь, мечтаешь. А оно – пшик! – не случится.
И я не о том – нет, Ульяна, я не настолько банален и прозаичен, – что необходимо ценить каждый момент. Я о другом. О том, что необходима идентификация лучшего момента. Чтобы не отпускать, не потерять его, а продлить, растянуть. Как прогулку по вечерним улицам, когда нет шума, людей, и ты абсолютно свободен. Как мороженое, коим все не пресытишься. Как книгу, которую хочется читать медленнее, дабы оттянуть встречу с последней страницей.
Но мы, Ульяна, конечно, развернемся, уйдем. Не сообразим, не растянем. Вернемся к твоей пьяной, довольной подруге; ведь и уходили, наверное, только чтоб ей не мешать. А после навсегда разойдемся, “say goodbye on a night like this”, оставив лишь татуировки – быстро сходящие, точно в летний сезон хной сделанные – номеров телефонов. Но я, дурачок, вдруг подумаю в катере, ползущем через ночную бухту, а что если… мы упустили момент…
Но ведь так не бывает? Да? Как не бывает, чтобы эта девушка в сиреневом платье и бледно-синих туфлях, которую я увижу после тебя, садящаяся в салатовую «пятерку с номером АР0315КР – лучшее, что было со мной. И что чувствую я при этом? Зная, что, как ту случайную машу из племени маш, он будет трахать ее. В общем-то, так же – при мне.
Ведь я наблюдатель. Фантазер. Создатель нелепых теорий, разбивающихся о простой, как уступ, факт – брат Виктор, не я, будет с Радой, будет в Раде.
Опереться о платан
1
Неделю я избегал общения с Виктором, гнал его, непонимающего причины такого моего поведения. И даже упреки мамы, корящей меня за это, не отрезвляли. Брат заходил три раза. Всегда утром. На нем была зеленая рубашка и клетчатые штаны. А после те же клетчатые штаны, но голубая пайта с порезами, как от когтей, и нашитыми цифрами «36» и «27». Едва Виктор появлялся в моей комнате, я принимался орать на него, безрассудно осмелев от обиды.
Но теперь мы встретились. Потому что общения в деревне не избежать – и надо смириться. Сидим у хмурого здания универмага. На единственной сохранившейся скамейке у деревянного столика. На нем крупными буквами вырезано «Стася».
Помню ее. Стася переехала из Алушты. Только о ней и болтала: о набережной и домах отдыха, вспоминая, как возле одного из них, «Золотого колоса», три рэперских девки избили ее ногами в живот, чтобы не шлялась, где не ее территория. Свои истории Стася запивала крепким «Орлом», смешанным с димедролом. После пяти-шести бутылок лицо ее становилось темно-зеленым, под цвет этикетки. И Стася оседала на столик. Ее поднимал какой-нибудь парень, брал под руки и зигзагами вел в сосновую посадку.
Стасю считали шлюхой, хотя чтобы так ее называли вслух – не помню. Мнение о себе она, наверное, знала, но не обижалась. Только больше сыпала димедрола, только яростнее накачивалась «Орлом». Один на один мы разговаривали с ней всего раз – о Грине, и Стася обижалась, когда я называл его Гриневским. Этот разговор диссонировал с вечными деревенскими пересудами, кто кого трахнул и кто сколько выпил, так, будто из Чужого вылез не монстр, а улыбающийся розовощекий младенец.
А потом пришел Исмаил. Худощавый, вечно взволнованный, с лицом, точно при рождении испугали. Ему было лет восемнадцать, но голову уже облепили медузы плеши. Руки же, наоборот, курчавились темными завитками, и когда я случайно прикоснулся к ним, чуть ниже локтя, меня ударило электричеством. Собственно, весь он казался наэлектризованным, юрким, ищущим, где бы спрятаться. Наши пацаны звали его Смалец, а татары не принимали. Жил он один, без родителей, в единственной каштановской пятиэтажке, и на балконе его квартиры на третьем этаже всегда висела зеленая тряпка. По пятницам и субботам Смалец приходил на скамейки, куда меня таскал брат, усаживался и молчал.
Заговорил он лишь раз. Когда Леха Новокрещенцев, напившись домашнего крепленого вина, украденного кем-то у деда, начал приставать к Стасе. Так нагло, развязно, что все удивились. Леха не говорил – вещал, и привычная робость его, заикание исчезли.
Но Стася вдруг заартачилась, отвечая дурным, пьяным смехом на все Лехины уговоры. Казалось, он лезет в фонтан за монетками – вот они, совсем близко, – но дотянуться никак не может; то ли усилие слабое, то ли глубина больше, чем думается. Леха уламывал, психовал и наконец не сдержался:
– Ш-ш-ш, – тут на него навалилось привычное заикание, – ш-ш-шлюха!
Из-за растянутого шипения получилось особенно зло, едко. Так, что самому Лехе, похоже, стало противно. Стася вздрогнула, поставила бутылку «Орла» на стол, закрыла глаза.
И тут Смалец прыгнул на Леху, ударил по-бычьи: плешивой головой в нос. Леха вскрикнул, повалился назад. Смалец вопреки деревенским правилам не стал добивать, а застыл, повторяя: «Не сметь ее так называть!» И во всем его облике, подаче мне виделась достоевщина. Беспросветная, вязкая, мрачная – очень человеческая, слишком человеческая. И за такое проявление чувств – полнокровное, дышащее – я зауважал Смальца. Даже Леха, наверное, зауважал.
И кто-то сзади – может, косоглазый Фима или кучерявый Пельмень – бросил: «Ты еще в любви ей, защитничек, объяснись». Так и сказал, усиливая достоевщину: «Объяснись». Наверное, все-таки Фима, потому что Пельмень таких слов не знал.
Смалец взглянул хмуро, но с осознанием, как человек, наконец-то решившийся, произнес:
– Объяснюсь. – Развернулся к Стасе: – Люблю тебя.
И ничего ведь не предвещало. Сидели, пили, курили, бакланили, ломали спички, тушили окурки – пребывали в обыденности. А тут вспышка, явление, сцена. Абсолютно дикая, неестественная. Особенно на фоне серости лиц, универмага, быта.
Стася открыла глаза, посмотрела, точно прося. Смалец повторил свое признание. А Фима – на этот раз точно он – продолжал разжигать:
– Да бакланить мы все мастаки, а на деле-то – ссыкотно!
– Заткнись! – не поворачиваясь, бросил Смалец.
– Ссыкло! – шепелявой змеей засипел Фима. – Ссыкло! Был бы смелый – руку бы отрубил!
Знаю, почему он сказал так. В тот день на уроке английского нам рассказывали о вождях двух кланов, отправившихся в плавание в поисках новых территорий. Когда они наконец увидели берег, то решили добираться к нему на лодках: чья рука первой коснется земли – тому она и достанется. Когда один из вождей увидел, что его лодка отстает, то отрубил себе руку и бросил ее на берег. И стал королем Ольстера.
– Дрочить меньше будешь, – вставил кто-то, и смешок Фимы перешел в общее пьяное ржание.
Смалец опустил голову, отошел, не смотря на Стасю, и зашагал в сторону пятиэтажки, в которой никто не хотел жить; ведь ни огорода, ни печки.
– Зассал Смалец, – удовлетворенно протянул Фима.
– Меньше выебываться будет…
Стася молчала, не трогала бутылку «Орла». Зелень сходила с ее лица. Я наблюдал за Стасей исподлобья, дабы не привлекать внимания. Брат ушел в сосны с Любой Петрушкиной, у которой к девятому классу выросли груди на зависть всем конкуренткам, и школьным, и взрослым.
Пельмень достал карты, стали играть в подкидного. Реанимировали повседневность, и Смальца тут же забыли, но он вернулся. Лицо бледное, сосредоточенное. Фима, обернувшись, крикнул:
– Ссыкло, ты вернулось?
Смалец, не отвечая, подошел к нам, с заметным усилием выдернул руку из кармана широких, на размер больше, вельветовых брюк. Кисть перемотана болотного цвета тряпкой. На ней, как щеки наливаются жаром, проступают красные пятна. Король Ольстера вернулся. И швырнул на стол обрубок. Пошевелил оставшимися пальцами.
Говорил Смалец рассеянно, мутно, непонятно чему улыбаясь. И я вдруг понял, что в холодной, темной квартирке на третьем этаже горемычной пятиэтажки ум Смальца мутировал, изменился. Он принял безумие, как принимают веру в Спасителя, и оно, прорвав полотно обыденности, сунуло в мир свою пожелтевшую морду. Произошло это столь неожиданно и беспричинно, что никто не поверил в реальность случившегося. Будто Джим Моррисон воскрес и спел «Любите девушки простых романтиков, отважных летчиков и моряков…».
Цель неясна, средства туманны. И непонимание, незнание – ведь до этого мир казался сплетением, в общем-то, адекватных причинно-следственных связей – природы события захлестнуло меня. Не знаешь плешивого паренька из пятиэтажки. Не знаешь девчонку, глушащую димедрол с пивом. Не знаешь блядовитую продавщицу из «Огонька». Не знаешь докучливых родственников. Не знаешь себя. Вообще ничего не знаешь. Сколько ни придумывай описания, все равно безопасности не снискать.
И сейчас, когда мы с братом усаживаемся за столик с бутылками «Жигулевского», я не знаю, чего ждать от предстоящего разговора. Не знаю, какое чувство достать из-за пазухи: обиду, разочарование, ненависть, страх?
– Здорово, Бесогон! Поди оклемался?
– В смысле?
– В смысле с хуя ли обкладывал меня хуями последние дни?
Количество хуев с приставками-окончаниями в его фразе создает ощущение репортажа с соревнований азиатских волейболистов. Но, несмотря на это, мне есть, что сказать. Я записал вопросы на лист, вырванный из тетрадки с Алессандро Дель Пьеро. Много вопросов. Но почему-то ограничиваюсь лишь одним:
– Сколько ты с ней?
Оказывается, могу, когда захочу, переходить непосредственно к сути. Нормальный пацан, конкретный, без бэ.
– С кем?
Он мог бы сказать, что угодно. Но не это. Бушевать, отмазываться, смущаться, посылать – но понимать. А он, позевывая, не въезжает, хотя я уже под колесами:
– С ней!
– Блядь, ты о чем?
Ему все равно. Потому что с ним вереница глупых, влюбленных, податливых. Самое время напеть: «Где же ты, студент, девчонку новую нашел…» Да, похоже, я на днище, раз цитирую «Руки вверх». Что дальше – копрофилия, суицид, «Иванушки International»?
Ответные слова в предложения строятся долго. Притираются, ищут пустоты. Хотя мне жаждется доесть этот разговор, как бабушкин борщ, побыстрее. Достать точки, спешно раскидать их над буквами, не оставляя никаких «или».
– Ты был с ней… Подъехал к остановке…
Брат распаковывает пачку синего «Честерфилда». Я обычно рву пленку зубами, а он справляется пальцами, ловко, умело.
– Не еби мозг, а.
– Рада, ее зовут Рада.
Судя по тому, как я произношу это, должна заиграть тревожная музыка. Чем не триллер? Но брат – не актер; брат – простой сельский экзекутор, “it’s only sadomasochism but I like it…”
– А, цыганочка…
Так не татарка? Нет? Я-то думал. Интересно, как дед относился к цыганам? Говорил ли про них: «Четыреста тысяч предателей»?
– Не помню, – нет, временные сроки брат называть не станет; вполне возможно, он их просто не помнит. – А тебе что? Понравилась?
– Мне?! Нет! – И в этом тоже есть своя правда.
– Хули тогда суетишься?
Отличный вопрос. Вообще прямо-таки день отличных – точных, нужных – вопросов. Жаль, что с ответами не задалось. Хотя, наверное, можно сказать: «Мы с ней встречались». Но «встречались» подразумевает определенный процесс: знакомство, конфетно-букетный период, ухаживания, поцелуи, секс. А у нас присутствовало лишь изнывающее томление; мое бессилие сцепилось с ее желанием – две шестеренки, которые не разъединить.
И под взглядом брата, хрустящего костяшками пальцев, которые, словно телеграфируют: «Он за несколько дней успел с Радой сделать то, на что ты не мог сподобиться месяцами», я выдаю, претендуя:
– Мы были вместе.
– Да? – Сомнение усиливается насмешкой. – Так ты трахался?
– Блин, не в том смысле!
– А есть какой-то другой смысл?
Для него, наверное, и, правда, нет. А для меня? Чем закончится этот поиск иного? Как в сериале «Полтергейст», который в будние вечера мы смотрели, чтобы ночью бояться, а утром рассказывать в школе, мол, вовсе не страшно.
– Ну…
– Баранки гну. Так ты трахался с ней или нет?
– Нет.
– А, ну на нет, – брат швыряет окурок в коробку, исполняющую роль урны, – и суда нет. Какие ко мне предъявы? Ебался бы – другой базар, а так – звыняйте.
– Я… я не о том…
Вот что беспокоит его – обойтись без предъяв. Но какое мне дело – должно ли быть оно в принципе, – спит Витя с Радой или нет? Мои шансы упущены.
– А о чем? И как ты вообще с ней встречался? Рядом стоял?
Ха-ха-ха, истина, конечно, но верная. Потому что именно так – рядом стоял. Сопли вытирал, мямлил, боялся. Для чего? Чтобы теперь изображать оскорбленные чувства?
Ведь не одумался, не изменился. Скажи Витя: «Прости, брат», отойди в сторону, что я буду делать с Радой? Наматывать вокруг нее, словно Анжела из «Огонька», круги?
– Неважно…
– Слушай, брат, – Витя подсаживается ближе, – если она тебе нужна – забирай.
– Нет, нет, ты что? Я просто…
Что – просто? Если все так сложно. Выросшее из трусости, малодушия, слабости и превратившееся в натирающее до кровавых подтеков ярмо.
И это викторовское «забирай» – точно вещь. С того самого, барского, плеча. А я – жук, слизняк, мечтающий заползти под скамейку. Тварь дрожащая, тварь безвольная. И фоном моему унынию – вопль золотозубого продавца-татарина «Русская тварь, воровка!» Он орет на женщину, несмотря на майскую теплынь, перемотанную шерстяными платками.
Да уж, все на своих местах – и в том числе я – порядок. А ведь сколько людей мечтают о том, чтобы определиться, найти свое место в жизни. Я же решил задачу. Ура! Так где моя радость? Нет ее. Но она будет, обязательно будет. Когда-нибудь. Я знаю. Верю. Должен же я во что-то верить.
2
Я думал, что буду страдать из-за Рады. Но того, что принято называть душевными муками, не случилось. Они проскакали мимо, зашугав перекошенными мордами, но беспощадные копыта минули, не растоптав. Произошло это не потому, что я был равнодушен к Раде – хотя ощущение своего места, испытанное на скамейке с братом, рождало апатию, – а потому, что нарисовались проблемы, жадно, как прима, соскучившаяся по ролям, перетащившие внимание на себя.
При поступлении в институт – вскоре мне предстояло это нейроносжигающее событие, и мама с бабушкой непрерывно твердили о нем – требовалась медицинская справка 086У. Большинство моих одноклассников получило ее через знакомых, но у мамы с бабушкой таковых не нашлось. Они, конечно, имелись у отца, но он перестал заходить и к нам, и к Шкариным из-за того, что презирал – чувство было взаимным – вернувшегося из армии Виктора за отказ от его фамилии. И я гордо отправился в Бахчисарайскую поликлинику сам.
Гордость моя основывалась на удачном – едва ли не первом в жизни – сопротивлении: я отстоял право идти в поликлинику без мамы. Она порывалась бежать следом, грозилась не отпускать, хотела установить присмотр, но попасть с ней, причитающей, к людям, значило выжечь себя напалмом стыда. Пусть и мама, безусловно, хотела помочь, но помощь ее обращалась в беготню, суету, трепотню нервов. Рядом с ней я становился тем, кем был на самом деле: беззащитным дитятей, выпрашивающим сиську. И я отбился от ее больничного участия.
Неровные из-за пристроек края поликлиники бессистемно ползут в стороны, отчего вся конструкция будто растягивается, расплывается, и из этой хаотической массы высовываются корявые кирпичные трубы. Большая часть помещений с зарешеченными, чтобы не лазили пить-ссать-трахаться, окнами пустует, коллекционируя атрибуты разрухи: битые стекла, обрывки бумаг, сваленный мусор, отпавшую штукатурку. Эти пустоты, появившиеся из-за невозможности оплачивать коммунальные услуги, злокачественными образованиями наползают на поликлинику, отвоевывая обжитые территории.
Толкаю дверь с плакатом о необходимости вакцинации против гриппа. Плакат – их в поликлинике много – нарисован от руки, этакий больничный hand-made. Правда, человек, его создававший, видимо, такого слова не знает, потому что фонтанирует грамматическими, орфографическими, пунктуационными ошибками. Впрочем, «халера» мне даже нравится – в правильном «холера» есть что-то от “Hole” и Кортни Лав.
На стойке регистратуры медсестра с грудью, столь плотно обтянутой халатиком, что белая ткань превращает ее в альбиноса, говорит: «Ждите». Интонация выдает извечную подковырку медработников: мол, не суетись, остыньте. Но деморализовать меня не удастся, потому что я вооружился «Записками юного врача» Булгакова. В поликлинике – самое то; все конгруэнтно. Слово это я услышал в «Я сама». Юлия Меньшова, произнося его, так сексуально округляла губы, что заставляла гормоны плясать ча-ча-ча. Да, умей я соответствующе говорить подобные слова – Рада бы не ушла от меня.
Ожидание измеряется шелестом страниц, усладой ноздрей. С книгами та же история, что и с людьми: выбираешь по запаху.
Появляется вторая медсестра. С чересчур большой головой. Указывает на меня.
– Этому что надо?
– Тебе что надо?
– Справку 086У.
– Это куда?
– В институт.
– Ой, бозе ты мой, ученый…
– Это тебе врачей проходить надо.
– Я для того и пришел.
– А чего не сказал?
– Я говорил.
– Ну, иди сюда…
Та, что с большой головой, пишет на листике номера кабинетов врачей. Все они сосредоточены в одном коридоре, пахнущем половыми тряпками.
Сперва иду к невропатологу. Очереди нет. Точно и не в поликлинике вовсе. Невропатолог седовлас и пуглив. Бубнит в воротник рубашки, нуждающейся в стирке. Бьет молоточком. Просит встать. Смотрит осанку. Находит кифоз, сколиоз:
– Плохо, да, плохо. Много сидите, да? Не занимаетесь, нет? К тридцати годам, к тридцати будете инвалидом. Да, надо делать, что-то делать. Думаете делать, нет?
Впечатление, что он снял мерки, подобрал доски.
– Что простите?
– Запущено все, да. Не понимаете, нет? И что делать? Надо бы делать, да. А вы планируете, нет?
– Я…
– Вы на лечение, да?
– Я за справкой 086У.
– А, не на лечение, нет. Справка – это хорошо. Выпишу, выпишу. Но вы думайте, дело такое, молодое, да…
Отоларинголог находит тонзиллит, говорит об угрозе сердцу. Находит искривленную перегородку, говорит о повышенном давлении. Находит хронический вазомоторный ринит, говорит о больных почках. Он только и делает, что находит. Только и делает, что говорит. Маленькие аккуратные ручки его бегают по ободранному столу. Взгляд косится на медицинские инструменты, разложенные на двухъярусном столике. Обещает болезни, обещает страдания. И каждая его следующая фраза беспощаднее предыдущей.
История повторяется и с другими врачами. Шумы в сердце, повышенное артериальное давление, проблемы с желудком. Мне семнадцать лет, а внутри я старик. И физически, и морально – связь очевидна. Идеальный пример для книг вроде «Сила мысли».
Передвигаюсь по кабинетам. В таких случаях говорят, пишут – «как во сне». Но это неправда. Потому что во сне частью себя ты понимаешь, что еще можешь вынырнуть, изменить, перестроить реальность, а здесь все очевидно. Не проснуться. И слова медсестер не туманные образы, а физические плевки, удары.
– Что это он?
– Да заблудился мальчик.
– Так что там у вас с редиской? Продали?
– Этот хер разве продаст? Только бухать и может.
– А малой?
– А малому по фигу. Шляется где ни попадя. Но хоть за коровой смотрит…
Медсестры забывают обо мне. Костерят мужиков. А мне необходимы слова. Слова постороннего человека. В идеале я и сам бы хотел стать посторонним человеком.
Выхожу на платановую аллею, полный беспокойных, смурных мыслей, с неугасаемым желанием отбросить все происходящее, как бессмысленное, не имеющее ко мне отношения. Но оно со мной. Во мне. Не избавиться, не удавить. Впрочем, ведь живут люди. С шумами, давлением, тонзиллитом, ринитом, еще чем-то к смерти приближающим. Ходят по бабам, трудятся на огороде, рожают детей. Тем, наверное, и спасаются. Вот и я должен быть, как они, но, бултыхнувшись, утонул в оправданиях. Дело не в хворях, а в причинах их вызывающих, из которых цветами зла – хорошее название, правда – они распускаются. Сила мысли, воображение, извращенные природной мнительностью, подкожным страхом, гипертрофированных женским воспитанием и чтением книг, убивают. И это даже не мудрость, в коей много печали, а дурная библиотека, разрастающаяся свалка бесполезных знаний.
Рассказать о своих проблемах. Выговориться. Поделиться. Но кому? Скажут в ответ: нам бы твои проблемы. У тебя шумы? А у нас инфаркт. У тебя давление? А у нас инсульт. Ты молод. А мы стары; мы, чтоб ты знал, ближе к смерти. И в такие моменты отсутствие Кваса – лезвие, приставленное к горлу.
Может, вот этот шатающийся бородатый мужик, который хотел бы опираться о платан, станет моим психотерапевтом? Взять его в плен как собеседника. Ведь говорят, что хмельные разговоры – самые задушевные. И, накатив, я спущусь до его уровня, возвышусь до его градуса.
Мужик, я не считал себя здоровым, но и не думал, что настолько болен. А сейчас меня, словно бусами, увесили диагнозами. Это не конец света, как любит повторять отец, но мне только семнадцать, понимаешь? Я мямля и боюсь, малодушие не позволит нормально перенести даже самые плевые испытания. Не хочу превращаться в отчаявшегося фрика. Вроде Тоньо-Лунатика.
Мне почему-то запомнился Тоньо-Лунатик. Помнишь, этот сериал «Секрет тропиканки», мужик? Когда я был в младших и средних классах, а ты, судя по виду, в начальной стадии алкоголизма, «Останкино» кормило нас бразильскими сериалами, а мы жадно ели, глотая, не разжевывая, как утки: «Новая жертва», «Тропиканка», «Секрет тропиканки», «Дикая роза». А начиналось все – помнишь? – с «Богатые тоже плачут». У них еще была жесточайшая, до выеденных эфиром глаз конкуренция с «Санта-Барбарой», которую показывали по РТР.
Я не хочу быть Тоньо-Лунатиком, мужик. Но что мне делать? Пить, как ты? Не позволит здоровье. Смириться и жить? Да, ты прав – если, допустим, ответишь так – но не получается. Это же, знаешь, как совет от того внимательного – (Вы знакомы? Если нет, то, судя по твоему лицу, познакомитесь.) – терапевта, говорящего: «Вам нельзя нервничать. Не нервничайте». Будто ты сам хочешь нервничать и делаешь это намеренно.
Мужик, ты слышишь меня? Эй, чем ты так занят, опершись о платан? Что за журчание? Фу, и эта лужа. Нет, я не готов беседовать с тобой.
Отхожу от бородатого, иду по платановой аллее дальше. На стене заброшенного дома – синяя надпись «Марина, я тебя люблю». Последнее слово перечеркнуто. Вместо него черной краской из пульверизатора выведено «убью».
Ответы повсюду. Раскиданы пригоршнями. Будь внимательнее, и не придется терзаться. Деревней, братом, Радой, болезнями. Они в цепи событий, что будут сменять, вытеснять друг друга, несмотря ни на что – ни на меня, ни на маму, ни на брата, ни на падения самолетов, ни на войны, ни на геополитические катастрофы – они будут. И это по-своему странная, но панацея.
3
Я не стал рассказывать маме и бабушке о диагнозах; «все хорошо, здоров». И постарался забыть о них сам. Вычеркнуть. Хотя они и напирали, скреблись в двери сознания, но это, пожалуй, только шло в плюс: становилось меньше пустот для мыслей о Раде. Если же и оставались свободные пространства, то они заполнялись предстоящими на подготовительных курсах экзаменами по физике и математике.
Воспитанный в преклонении перед образованием, с расписанной наперед жизнью – золотая медаль, красный диплом, работа – я был обречен отнестись к ним всерьез, запершись в комнате для занятий, куда бабушка, выполняя директиву мамы, не подпускала никого, даже брата. Наверное, единственным человеком, против которого рухнул бы ее заслон, могла стать Ольга Филаретовна, но ей никогда не было до меня дела.
– Бабушка, не мешай! – кричал я, когда она, отдернув дверь-шторку, заглядывала в комнату.
– Учись, Аркашенька! На тебя вся надежда…
– Бабушка, ну, уйди…
– Может быть, чаю с пирожками?
– Нет, бабушка!
– Ну, хорошо, занимайся. Я там, если что, картох отварила…
– Нет, бабушка, нет!
На самом деле, я маялся суетой. Утром, для фона, включал телевизор, но втягивался и бросал занятия. «Бухта Доусона», «Квантовый скачок», «Беверли Хиллз», «Чудеса науки», «Мелроуз Плейс» – враги тригонометрии, алгебры, физики и моя давняя услада. Но это был не тот просмотр, сидение у телевизора, что раньше – нет, сейчас я, казалось, отчаянно цеплялся за уходящую беззаботную жизнь, превращающуюся в воспоминания, точно прощался с «бабьим летом», еще шептавшим теплые слова и приятности, но приходила литая ночь и говорила на языке холодных стальных ветров.
На третий день подготовки к экзаменам бабушка, заметив, что я увлечен скорее Уайтом, Гари и Супер-Лизой, а не Зивом, Яворским и Детлафом, разобралась с моей телезависимостью быстро и эффективно – вынесла телевизор, который на ночь, точно ребенка, укрывали простынкой, в веранду. Антенна с торчащим кабелем – этой иглой, больше не находившей вены, – сиротливо повисла у подоконника.
Перемен никто не почувствовал: мама в принципе не смотрела телевизор, а бабушка ограничивалась вечерними новостями с Екатериной Андреевой, но ради благого дела могла обойтись и без них, «здоровее буду».
Отключение меня от теленаркоты произошло так буднично, что я безболезненно перестроился на другой заменитель – учебу. Утром и днем я зубрил материал, а вечером писал по нему шпоры. Я даже выработал свою, так мне казалось, методику учебы, представляя заучиваемую информацию в виде груза, который надо было максимально компактно, доступно разложить на складе.
Выпускной экзамен по математике на подготовительных курсах – он же считался вступительным в университет – я сдал на «отлично». Нам выдали специальные листы-бланки с университетскими печатями. Лишних пометок делать было нельзя, поэтому я интегрировал свое тотемное число «36» в общий цифровой ряд. И в итоге получил 47 из 50 баллов. Для автоматического зачисления в университет осталось обзавестись золотой медалью.
В ее получении я не сомневался. Как любил повторять отец, по-прежнему не появляющийся у нас, «если что и умеет Аркадий, то это учиться». Но мама с бабушкой подобных настроений не разделяли. И разжигали панику.
– Как там, сынок, подготовка к школьным экзаменам?
– В процессе.
– Ты же смотри – золотая медаль, поступление автоматом…
– Да, да…
– Внучок, ты бы кушал, а то желудок испортишь.
– Кушаю, кушаю…
Они так долго, упорно выедали меня, что я и сам начал бояться: сомнения проделали лаз в редутах уверенности, пробрались за них – от чего перед первым школьным экзаменом по биологии я аки мантру волнительно бубнил: «Экзамен для меня – всегда праздник, профессор». И казалось, что единственного амулета в виде числа «36» на этом пиршестве крестоцветных и голосеменных, земноводных и пресмыкающихся, ДНК и РНК не хватит. Требовались новые обереги.
Я нашел их в ларьке на проспекте Победы, где покупал книжечку с экзаменационными билетами по биологии. Странно, но эти книжечки, которые, по идее, должны были продаваться везде, достать оказалось непросто. Пришлось ехать в отдаленный район Севастополя «седьмым» троллейбусом, разглядывая в мутные, исписанные кликухами и погонялами, стекла выжившие после чистки девяностых корабли у Минной стенки.
Книжка продавалась в ларьке «Учебная литература». К нему липла еще одна металлическая будка – «Жанна». Я сунулся в одну, за билетами, а в другую – за сигаретами.
– Нет «Бонда5», – опустив голову, увлеченно грызя ногти, ответила худая рыжая женщина.
– А «Вест»?
– Нет «Веста5».
Произнося названия марок сигарет, рыжая делала ударение на последний слог, и выходили звучные старославянские имена.
– А что есть?
– «Соверен».
Она оторвалась от ногтей, взглянула на меня. Зрачки у нее были разные: один – голубой, другой – карий. И хотелось верить, что все дело, как у Мэрилина Мэнсона, исключительно в линзах.
– Тогда «Соверен».
Рыжая выложила на прилавок светло-сиреневую пачку, большую часть которой занимало изображение монеты. Сверху забористыми буквами шла надпись – SOVEREIGN. Я положил купленные экзаменационные книжечки на прилавок, полез в кошелек за гривнами.
– К экзаменам готовитесь?
– Да. – Ее зрачки нервировали.
– Мы раньше, знаешь, как на «отлично» сдавали? – Я пожал плечами, мол, не знаю. – Засовывали в обувь пятачки. Под пятки.
– Пятачки?
– Монеты.
– Вы серьезно?
– Вполне, – продавщица кивнула, сгребла деньги и, опустив голову, снова принялась грызть ногти.
Уже отойдя, я решил уточнить, действуют ли только пятикопеечные монеты, да и вообще, откуда ей, продавщице из ларька на конечной троллейбуса, знать об отличной учебе, но, развернувшись, увидел лишь закрытое окно «Жанны», залепленное листом А4, на котором чернели буквы, складывающиеся в слово «Гадаю».
На экзамен я шел волнительно, нервно. Привычное начертание на себе числа «36» не успокаивало. У кабинета биологии, трясясь и потея, я, вспомнив слова продавщицы, принялся искать пятачки. Они нашлись у Лехи Новокрещенцева. Монетки были холодные, и, зажав в кулаках, я для чего-то пытался согреть их, а потом наконец сунул под пятки, между носком и подошвой.
Сдал я блестяще. Мне попался вопрос о законах Менделя и его опытах с горохом. Отвечая, я будто читал слова с выплывающих проекторных картинок – точь-в-точь, как в экзаменационной книжечке. Ольга Филаретовна, находящаяся в комиссии, уважительно – это была высшая похвала – покачивала головой. Районный же наблюдатель, требуя продолжения банкета ботаников, спросил про разницу мейоза и митоза и, выслушав подробный ответ про дочерние и материнские клетки, аж причмокнул.
Но мама радовалась моей пятерке сдержанно, будто и не могло быть иначе. А бабушка, выдохнув «слава тебе, Господи», пошла молиться. Их реакция меня подавила, сделала вялым, ведь я шел с экзамена триумфатором, но, не в силах радоваться собственным успехам, жаждал праздника от других, тешил себя иллюзией растущей значимости в семье. А родственники приняли мой экзаменационный успех как должное. И если бы не новый секрет с «Совереном» и пятачками, которые я хранил в трюмо рядом с черно-белой фотографией деда и бабушки – широкие, скуластые лица, – то я мог бы закрыться от окружающих пеленой обиды, а так любопытство, исследовательский интерес перевесили.
Перед каждым следующим экзаменом я просыпался засветло. Распахивал настежь окна, пуская сырой утренний воздух, пахнущий мятой. И когда, надрываясь, кукарекал петух, я, уже выпив две чашки кофе, штудировал экзаменационную книжечку. Знания перли в меня фурами, и это было настоящее вознесение «ботаника». Я знал, что способен ответить на все вопросы. Знал, что сдам на «отлично». Но при этом самоуверенность не душила меня, не делала уязвимым. Нет, я испытывал почти священный трепет перед экзаменом, как перед сакральным действом, торжеством. В этом чувстве силы, уверенности я точно искал компенсации за все то ничтожество, что воспитали во мне отношения с Радой и братом. Они остались там, за чертой, отделенные тетрадями и учебниками, за баррикадами терминов и формул.
Во мне развилось по-вампирски мощное, непреодолимое желание отвечать на экзаменах, и я обижался, когда учителя останавливали, прерывали мои выступления.
На географии мне попался вопрос «Легкая промышленность Украины». Один из тех, что я помнил лучше всего. Я был книгой. Я читал из нее. Пер мчащимся к победе – мне бы такую уверенность в жизни – бронепоездом, наподобие того, что стоял у севастопольского автовокзала с надписью «Смерть фашизму!» на клепаных боках.
Валентина Дмитриевна, наш директор и учительница географии, улыбалась, слушая мой ответ. Взвешенный, продуманный, увлеченный. Казалось, он доставляет ей почти физическое удовольствие. Но вдруг она перебила меня, когда я не добрался и до середины билета. Произнесла, точно секирой махнула: «Спасибо, Аркадий, блестяще».
Я открыл рот, хотел возразить, продолжить, досказать. Я знал все о легкой промышленности Украины, – может, только о ней и знал – но Валентина Дмитриевна показала – иди. И пришлось выйти, уняв тщеславие. Раздраженный, я перебрался на улицу, туда, где за канавой с перекинутым бетонным мостиком начиналось поле с ленивыми, замученными коровами.
Затягиваясь «Совереном», нащупывая пятачки в туфлях, я терзался от того, что мне так и не сказали оценку. Конечно, я отвечал на «отлично», но вдруг? Это «вдруг» свербело, изматывало, не давало и намека на покой.
Возвращаюсь в школу, взвинченный, бледный. Утыкаюсь в дверь кабинета географии. За ней Валентина Дмитриевна спрашивает мямлящих, блеющих учеников. На их месте должен быть я: рассказывать про страны Азии, Латинской Америки, Восточной и Западной Европы. Живописать, наслаждаться.
Но дверь закрыта. Меня не вызывают. И никто не выходит. Я стою. Дверь как бы разделена на квадраты, и я пересчитываю их. По вертикали, по горизонтали, по диагонали. Наконец, появляется испуганный Леха Новокрещенцев. За ним – Валентина Дмитриевна. Бросаюсь к ней:
– Так я сдал, сдал, Валентина Дмитриевна?
Она удивленно смотрит:
– Ну, конечно, Аркадий.
– На пять, на пять сдал?
– Да что с тобой?
И от того, что она не может ответить, мне хочется кинуться на нее: то ли умолять, то ли душить. И не так, чтобы просто сказала, а похвалила, привела в пример – перед комиссией, перед классом. «Определенно, тщеславие – мой самый любимый грех». От неопределенности мышцы выкручивает узлами, и нездоровый жар плавит тело; растекаешься, словно жидкий терминатор, но, в отличие от него, тебя не собрать.
Когда я был младше, то любил плавить. Особенно пластмассу. Разжигал костер и подносил к нему разнообразные предметы. Лучше всего подходил детский меч: длинный, плотный, с рукояткой. Языки пламени лизали бледно-красную пластмассу, и она покрывалась сначала черным налетом, а после сморщивалась, расплавлялась и наконец стекала в костер густым, клеевым потоком. И валил черный дым. Глядя на него, я думал, это – то плохое во мне, что вышло и никогда не вернется.
Но оно осталось. Здесь, сейчас – одолевает. Так муторно, что хватаюсь за стену – не упасть! Она вымазана в чем-то липком. Взволнованный голос Лехи Новокрещенцева. Но я не разбираю слов. Слышу лишь отбойный молоток, дробящий мое естество одним словом:
– Придурок!
Перед глазами – круги, толкаются, скачут. Стоит опустить веки – и появляется смуглое лицо Рады. Это ее слово – «придурок». Им она пригвоздила меня на прощание. Почему я вспомнил ее сейчас? В школьном коридоре, после экзамена по географии.
Ведь теперь она с братом. Он не боится быть хуже. Он и не будет. Он лучше, сильнее, чем я. Не думает, не терзается – берет свое. Рада же сняла мой образ, как пыльные шторы. Скрутила, упаковала, засунула на антресоли.
А я, мечтавший избавиться от нее, мутировал в отверженного ревнителя, не знающего, что делать, если она вернется, но все равно страстно алкающего ее. В этом чувстве, безусловно, присутствовало нечто литературное – «литература литературовна», как говорит Маргарита Сергеевна, – но и моя жизнь все чаще представлялась историей, написанной окружением, родственниками, генами, страстями. И Радой. Но, пожалуй, лишь она была страницей, на которой я мог если не писать, то делать пометки. И страницу вырвали.
Вместо того чтобы приобрести новую книгу или переписать строки, я блохой заметался по другим, читанным-перечитанным, главам, но прошлое только сильнее подчеркивало безнадежность настоящего. Попытка спастись, забыться учебой оказалась смешна. Она на время вытеснила проблему, но лишь затем, чтобы та, вызрев, лопнула и отравила весь организм.
«Придурок, придуууууроок, прииииидууууурооооооооок!» – звук нарастает, делается беспощаднее, злее, и я хочу зажать голову руками, пусть лопнет, как гнилой арбуз, чтобы не слышать, не рефлексировать. Прижимаю ладони к ушам и, утратив опору, лечу на серый пол школьного коридора.
Вадик Головачев, ведя меня домой, посмеивался, рассказывая, как я рухнул в обморок, но смешки его были нервные, от испуга. Леха Новокрещенцев, идущий справа, напротив, был серьезен. Мне казалось, что он хочет вставить в рассказ Вадика нечто важное, значимое, но, не решаясь, отмалчивается.
Я падал назад столбом, не отнимая от головы рук. Раздался будто звон, и усиленный эхом он разнесся по коридору. Из кабинетов выскочили люди. Крикнули школьную медсестру, она же завхоз. Тряся рыжими, завитыми плойкой кудрями, – Вадику заметно нравилось слово «плойка», и он желейной конфетой раскатывал его на языке, – медсестра бранилась, Валентина Дмитриевна шикала на нее, но та продолжала ругаться, долго пытаясь отломить кончик ампулы с нашатырным спиртом. Наконец справилась.
Очнувшись от резкого запаха, боюсь увидеть смуглое лицо Рады, но вместо нее меня разглядывает Ольга Филаретовна. Разглядывает, так мне кажется, с отвращением.
– Что с тобой, Аркадий?
Мне надо отвечать. Но лица вокруг: испуганные, серьезные, издевательские, насмешливые – деморализуют. Все они концентрируются на мне, а я утратил всякую концентрацию, безвольным студнем распластавшись на полу, холод которого проникает через одежду.
– Ну? – Ольга Филаретовна спрашивает, как не родная; и в данном случае это не просто штамп.
– Все нормально.
Хрюкающий смех толстого Лени Комарова из параллельного 11-Б. Странно, я никогда раньше не обращал внимания на его внешний вид, а он так напоминает тролля.
Мне вдруг хочется знать о Комарове все. Именно сейчас, именно здесь. Чем увлекается? Какую музыку предпочитает? Кто его родители? Узнать Комарова, отвлечься. Может, это и есть спасение – интересоваться другими людьми, меньше фокусируясь на себе.
Остаться на полу, разобраться в этом вопросе, но отзывчивые, добрые одноклассники – где же вы, суки, были раньше? – поднимают, подтягивая за руки, как пьяного. Ставят напротив Ольги Филаретовны. В школе она все решает, пусть и формально директор – Валентина Дмитриевна.
– Иди домой, – говорит она, – я позвоню твоей маме.
Произносит «твоей маме» так, будто это не ее родная сестра. Я покоряюсь. Иду, ведомый под руки Новокрещенцевым и Головачевым. До самого дома, где – чудеса! – никого нет.
Мама с бабушкой, не предупредив (их срочно забрала мамина подруга Света Пономарева), уехали в Севастополь, на праздничную службу в Херсонес. Я остался один; уже и не вспомнить, когда такое случалось: без директив, советов, вопросов, реплик, заглядываний, приглашений к столу. Наконец можно отключиться, укрыться от суеты, от усталости, от забот, от определений – изъять себя из чужого бытия, забравшись в теплую раковину спасения, наслаждаясь своим личным маем.
Господи, как же давно я не был один! Как же давно я не был никому ничего должным! Всегда в ожидании перемены – чаще всего пустяковой, но перемены, – а, значит, и в постоянном стрессе. Маленький зашлакованный трус. Который не в силах, как в том анекдоте, расслабиться и получать удовольствие. Вечно сомневающийся, борющийся, ожидающий. Засыпающий в невозможности спасительного, расслабляющего забытья.
Вот и сейчас я вижу сон, образ: падаю на грязный, липкий пол школы. Хочу встать, но не могу оторваться, лежу, по-паучьи раскинув руки. И постепенно смиряюсь – попытки оторваться все реже, – и я начинаю получать удовольствие.
4
Они были молчаливы. Как никогда. Бабушка с мамой. Сдержанные, отстраненные. В их взглядах читались беспокойство, тревога. Наверняка Ольга Филаретовна им все рассказала, сервировав историю моего обморока смачными подробностями.
Но нет – она смолчала. Причина же тревог мамы с бабушкой выяснилась позднее, когда отец, неожиданно завалившись в гости, злой и хмельной, чавкая макаронами с сыром, принялся расписывать бесчинства татар в Симферополе. Через предложение он вставлял «ебать татар», и получалось что-то вроде уличного гангста-рэпа. Правда, дослушать его не удалось, потому что мама почти сразу отправила меня в комнату и начала выпроваживать отца, дабы не баламутил.
Она и сама была в курсе татарских выступлений. После того как мама с бабушкой отстояли во Владимирском соборе службу, Света Пономарева повезла их в Симферополь на вещевой рынок, где они наткнулись на демонстрацию крымских татар. Очевидного повода не было: ни дня депортации (его поминали недавно), ни Дня Победы, ни дня рождения Мустафы Джемилева. Но что-то сподвигло, раз татары жгли сначала манифест Екатерины II, русские и советские флаги, а затем предметы, не имеющие отношения к сути вопроса.
Бабушка с мамой оказались свидетелями. И наверное, вспомнили разговоры деда, которого регулярно затыкали, как только он и Филипп Макарович начинали вещать о близящемся крымско-татарском аде.
Правда, такого рода бесед и пророчеств избегали не только бабушка с мамой, но и большинство жителей Каштан. То ли не хотели задумываться, то ли верить. Хотя обработка велась с двух сторон, лили белое и черное, как ликер из бутылки у Пети дома. Причем, варево явно было не первой свежести, так как обсуждали не настоящее и не будущее – прошлое.
– Мы пережили две депортации – в сороковых и семидесятых. Я не помню, маленькая была, но бабушка рассказывала, как врывалась милиция, – говорила учительница истории Белла Юнусовна, и я видел в ее глазах оживающее уродливыми тенями горе, – ничего взять не разрешили. Везли в товарняках. Сколько людей погибло! Я помню ташкентский кошмар. В Магараче отец работал на винном заводе, был на хорошем счету, а в Узбекистане его нигде не брали, хотя рук не хватало…
– Ну, не просто же так вас всех выселили, – оппонировала учительница химии Алевтина Сергеевна, вклинивающаяся в эту нескончаемую дискуссию скорее от скуки, нежели от желания отыскать правду.
– Как это?! – взвивалась Белла Юнусовна.
– Потому что предатели…
– Весь народ?!
– Сорок тысяч крымско-татарских добровольцев в военных формированиях фашистов. Этого мало? Что там про вас Манштейн писал? «Татары сразу же стали на нашу сторону, видели в нас освободителей. Ко мне прибыла татарская делегация, принесла фрукты и красивые ткани для освободителя Адольфа Эфенди». Фашистские пешки!
– Что, что? – задыхалась Белла Юнусовна. – Да за такие слова…
– Что? Сожжете, повесите, как русских людей в сорок втором?
– Сволочь! А сколько нашей крови за победу пролито?
– Иди в «Голос Крыма» – статеечку напиши!
Мы, порой случайно наблюдавшие эти споры, все ждали, когда учителя подерутся, но этого не происходило, и кто-то пустил слух, что драка случится на выпускном, от которого я, даже несмотря на обещанный fight Алевтины Сергеевны и Беллы Юнусовны (боже, какие имена!), отнекивался.
Причин было много, но прежде всего смущало, до хандры и бессонницы, место проведения – «Старый замок». Два этих слова вздувались язвами. Равнодушные, ледяные, как руки садиста-анатома, воспоминания. Так было в том фильме, который я смотрел по «России». «Сердце ангела». Но Микки Рурк мог выйти из кадра, а я нет.
Чтобы не идти, я хотел сломать ногу. Я сломал бы ее, если бы не был патологическим трусом. Потому оставалось лишь уговаривать, умолять маму:
– Ну, пожалуйста, я не хочу идти на выпускной!
– Как так, сынок?
– Не хочу!
– Но весь класс будет…
Быть не как все – самый гнусный проступок. В деревне. Стране. Мире.
Пришлось идти. Влезть в смирительную рубашку отцовского костюма, пахнущего затхлостью. Во внутреннем кармане я нашел клетчатый листик с номером телефона и припиской «Анжела». Я подумал о продавщице из «Огонька» и решил позвонить ей; если не встретиться, то хотя бы фантазировать на ее голос. Интересно, у предания, как и у рыбы, только одна свежесть?
Если бы не этот листик, меня бы парализовало смущением еще раньше, до входа в «Старый замок», а так накрыло уже внутри. Пока гости танцевали – родители веселее, задорнее, раскованнее, чем их дети, – я жался к стене, скорчившись на пластиковом стуле. Хотелось курить, но при маме делать этого было нельзя. Оттого мое лицо становилось еще более страдальческим. Некоторые подходили, интересовались моим состоянием. Я отвечал, что все нормально. Наливал в стакан сока, выпивал. Так много, что мочевой, казалось, заполняет всего меня, давит на стенки сосудов, и я вот-вот лопну. Но сковывающая слабость, рожденная страхом попасть под расстрел чужими взглядами, приковывала к месту. Пластик стула, ты мой единственный друг. Пойми, поддержи. Не отпускай!
– Все хорошо, сынок? – мама оказалась внимательнее, настойчивее всех. Впрочем, и ей было тяжело в этой пьяной, душной обстановке. Танцевать она не умела, алкоголь не пила, пустословить не собиралась. А они, веселящиеся, если вдруг и обращали внимание на нее, то, наверное, удивлялись, что делает здесь эта печальная, взволнованная женщина в дешевой бижутерии и старомодном платье.
– Все хорошо.
– А почему ты не со всеми, сынок? Не танцуешь?
– Не хочу!
– Ты не груби! Отвечай нормально!
И она, надувшись, отворачивалась. Я чувствовал неловкость, досаду. Ведь нисколько не боялся, а больше жалел ее, по-своему стыдясь, особенно, когда попадал на люди. Мама была слишком простой, незамысловатой человеческой конструкцией.
– Ну, прости, – я делал вялые попытки примириться.
– Я тебе не девочка, чтобы так со мной разговаривать, – чеканила мама и продолжала дуться. Она любила повторять эту фразу, когда ей казалось, что я груб и невежлив. А казалось ей часто.
И мы сидели. В двух коконах тихого гнева.
Скоро мне исполнится восемнадцать. И я достигну того, что принято называть совершеннолетием. Избавлюсь ли я от сотни вагонов, груженных воспоминаниями, обидами, упреками, разочарованиями, чтобы обзавестись новыми? И будет ли мама, как сейчас, вдалбливать мне правила поведения?
Будто есть резон, как-то по-особенному вести себя среди людей, участвующих в конкурсах, который проводит вышколенный говорун с острым треугольником кадыка, готовым пронзить того, кто попытается задушить его владельца. А душить рано или поздно захочется. За тосты из книги – я видел такую в киосках «Союзпечати» – «100 лучших тостов на любой праздник», за конкурсы из книги – видел там же – «100 лучших конкурсов для веселой компании».
«Дорогие выпускники, вы отправляетесь во взрослую жизнь…» А какая жизнь была до этого? Что я упустил, если дальше исключительно взрослая? Как я пойму, что она все-таки наступила? Где переломный момент, после которого все, нет дороги назад?
«Поддержим аплодисментами…» Родители соглашаются участвовать в конкурсах охотнее детей. Даже «наше все» Александр Григорьевич Майчук – как он вообще оказался в деревне? – вышел для участия в конкурсе. Вальяжно, снисходительно. И смотрит, будто тешит: когда вы меня еще увидите?
Перекатить апельсин без использования рук. Свежо, ничего не скажешь.
Вообще целая феерия оригинальных находок. Перетащить школьные предметы в рюкзак. С завязанными глазами поставить автограф. Чтение мыслей, в качестве которых используются нарезки из песен.
Наверное, что-то еще. Очень веселое. И радость дарящее. Но я помню смутно. Даже не как в тумане, а словно попав в настоящую русскую метель. Белые хлопья – жизнь распалась на них – пристают к лицу, не соскрести. Меня нет в «Старом замке»; тело, да, есть, а меня нет. Так что, орущие, пьющие, не кантовать, не спрашивать. Пусть я и буду с вами, когда, поддерживая традицию, выйду встречать рассвет. Он – такой же, как тогда, на следующее утро после возвращения брата из армии, – багровым шаром наползает из-за линии горизонта. Обещает новую жизнь.
Стоим на берегу крохотного озерца, в которое впадает почти пересохшая Альма, и под кваканье лягушек наблюдаем за символом нового прекрасного мира. Мы и сами символы, прозрачные, ясные. И кто-то – возможно, «наше все» Майчук – декламирует:
– Ну вот, ребята, вы на рубеже, а дальше – бездна!
Он говорит это так, будто в душу лезет, и я вдруг проникаюсь. Рубеж-то на самом деле преодолен; я уже думал об этом. Но я не хочу – сейчас особенно! – терять сериалы, старые газеты, книги из серии «Мастера фантастики», отпрашивания на дискотеку, сидение на трибунах «Спартака», фантазии об Анжеле, пиво «Черномор», подготовку к экзаменам, Раду, спортивную сумку Кваса. Да, со стороны кажется обыденным, простецким, никчемным, но ведь это мое, бесконечно родное, то, без чего я не в силах идентифицировать себя.
Расставание назовут процессом естественным, необходимым. Переход на новый уровень озвучен, глас обязывает, но надо постараться сохранить прежнего себя, упаковать и поставить на полку, как заспиртованные экспонаты в кабинете биологии.
Отхожу, стараюсь не воспринимать вылетающие пробки шампанского, крики «ура», тосты и поцелуи. Ноги ведут сами, пока меня ни окликает истеричный крик мамы:
– Сынок, ты куда?
Разворачиваюсь, говорю:
– Я хочу пройтись. Мне очень надо. На час, может быть, два.
Не знаю, что в моем лице, голосе, но мама неожиданно разрешает. Впрочем, и без ее разрешения – первый раз в жизни – я бы ушел с не моего праздника. Собственно, наверное, эта решимость, непослушание и перебарывают извечное мамино беспокойство.
И вот я иду мимо деревянных заборов и разлапистых сосен, отделяющих от трассы, пробудившейся несущимися машинами. Иду, точно балансирую между двумя мирами.
5
Не знаю, почему только сейчас отправился на могилу Кваса. «Времени совсем в обрез, а ты опять спешишь на Пер-Лашез». Я ведь мог – обязан – был сделать это раньше. Например, тогда, когда приходил к Квасу. Сидел в беспорядке его комнаты. Вдыхал пыльные запахи. Но не решился. Или не захотел.
Квас похоронен на кладбище в Береговом. Дорога к нему ведет через посадку миндаля. Земля еще влажная от утренней росы. Деревья, в основном, сухие, безжизненные, но есть и живые, цветущие. Стоят тихие, мирные, благоухающие.
Ржавые ворота открыты. Впрочем, многие посетители заходят на кладбище не через них, а через дыры в заборе, вдоль которого растет шиповник и мята.
Рядом с этим находится другое кладбище – татарское. Свежевыкрашенные ворота, вставленные между двумя башенками с полумесяцами, наглухо закрыты. Но через решетчатый забор видно, что татарское кладбище чистое, ухоженное, засаженное цветами. Оно выглядит как намек на то, каким должна быть наша обитель упокоения, где у входа свалена груда мусора: кресты, венки, сухая трава, картон, бутылки со следами краски. Поверх всего этого замечаю книжицу в черной обложке. Десять строгих букв складываются в два разделенных пробелом слова (сложи два числа и получишь двенадцать, пробелом – Иисус Христос; Маргарита Сергеевна и шапочная каббала извратили мой мозг) – «НОВЫЙ ЗАВЕТ».
Наклоняюсь, чувствуя запах сухой травы – поднеси спичку, вспыхнет вместе с крестами, – беру книгу, листаю. Нижний угол смят гармошкой. Листы – из тонкой, папиросной бумаги. Шрифт мелкий, компактный, на последних страницах – карты. Текст не на старославянском – на русском.
Жалею, что взял книжицу в руки. Я не слишком религиозен, но швырнуть «Новый Завет» обратно в мусорную кучу боязно. А вдруг? Потому сую книжицу в карман отцовского пиджака.
Могилка Кваса находится в стороне от других, на пригорке. Рядом с ней – раскопанная яма. Видимо, отсюда берут сухую желтоватую землю, поросшую бледно-серой полынью. Ни оградки, ни заборчика, ни памятника. Только свежее земляное возвышение и деревянный крест, сбитый из трех голубых досок. По центру конструкции приделана жестяная табличка: Юрий Васильев, 1985–2003.
Нет ни месяца, ни дня рождения. Лишь годы. Умер ли он несовершеннолетним? Или ему успело исполниться восемнадцать? “Eighteen, I just don’t know what to say. Eighteen, I gotta get away”. Говорят, все дети попадают в рай. Может, и Квасу, если он не достиг совершеннолетия, повезет. Ведь мы, в сущности, остались детьми.
Граненый стакан, поставленный по христианскому обычаю на тарелку, перевернут. Расстраиваюсь, что не взял воду. Осматриваюсь. Кресты, оградки, могилы, кусты, деревья, трава – ни намека на то, что можно налить в стакан. По дороге, еще до миндалевой посадки, есть мутная речушка, но вода в ней слишком грязная, зловонная. Такую нельзя. Ни живым, ни мертвым. Хотя кто знает, может, на другом берегу все очищается, в том числе и вода?
И все же, друг, я не рискну. Извини, не принесу тебе той воды. Поэтому, если можно, то давай просто поговорим. Как раньше. Ну или почти как раньше. Прости, что я без воды, без еды, без настроения. Но с эгоистичными помыслами.
Есть, знаешь, в американских фильмах такие эпизоды, когда герой ходит, терзаясь, у реки или у моря, или по ночному городу, размышляет, упаковывает жизнь по конвертам. Так и я, насмотревшись, брожу. И вроде бы как страдаю. Но ты же знаешь, Квас, – да и я знаю – это лишь способ убить время. Мазохистская игра в жертву.
Но все же я очень хочу, чтобы моя жизнь стала правильной. Да, ты бы, наверное, сказал, что «правильно-неправильно» – категории размытые, пространные, но мне кажется, есть некое зерно, соль. Мне кажется, существуют люди, которые живут правильно. Размеренно, четко. Не так разбалансированно, сумбурно, как я. Не так мелко, глупо, трусливо.
Вот и сейчас: для чего пришел? Без мыслей, без целей. Неспособный формулировать, стоять, жить. Для чего буду приходить после? Для кого? Не для тебя же.
От тяжести ночи, вобравшей в себя столько открытий, оседаю на влажную землю. Ощущение, как тогда у кабинета географии, когда потерял сознание. Но дальше-то, если правы те, кто считает, что жизнь развивается по синусоиде, будет легче.
– Эй, все добре?
По пригорку, дымя сигаретой, идет сутулый, рыжий мужик, обутый в высокие, массивные, не по погоде сапоги. Поднимаюсь, отряхивая с колен желто-коричневую грязь.
– Ты шо робиш?
Лицо у мужика бледное, влажное, точно перепачканное слизью; глаза безжизненные, цвета выгоревшего неба с обоев. Пахнет мужик, как песчановская набережная – водорослями.
– К другу пришел.
– А я тут, того, могилы копаю. Бачу, ты повалился. Думаю, шо таке.
– Все хорошо.
– Курить нема?
– Есть, да. – Достаю пачку красной «Магны».
– Парочку можно?
– Да, да…
Протягиваю ему пачку. Беря ее, он нечаянно касается моей руки, и я вздрагиваю – как ледяным скальпелем полоснули.
– Друг твой, бачу, молодым помер.
Голос у мужика булькающий, словно воду льют. Холод от его касания ползет по сухожилиям, коже, мышцам, подбирается к сердцу.
– Юра-то Васильев…
Запах водорослей все сильнее. Бульканье в голосе гипнотизирует, вялит. И я понимаю, кто передо мной – нетопырь. Пырь-пырь-пырь-пырь-пырь.
Мы не смогли поймать его. И он свел с ума Кваса. А теперь пришел за мной.
Слышу гул, как от приближения поезда. И кажется, что я на рельсах. Рука нетопыря, держащая пачку «Магны», тянется ко мне. Наверное, чтобы заморозить окончательно. И я, вскрикнув, не глядя, отталкиваю его. Тараща глаза, бегу прочь, мимо заброшенных могил, к ржавым воротам.
Гул в ушах стихает. Я останавливаюсь. Рядом никого нет. Сутулый рыжий мужик по-прежнему стоит на пригорке, что-то кричит. Смятенный, я делаю несколько шагов ему навстречу, но, вспомнив слизкое лицо, холод, замираю. Пячусь назад. Мужик отмахивается, мол, что с идиотом делать. Закуривает; наверное, мою «Магну». И вообще все больше напоминает обычного колхозника.
Но верить ему нельзя. Как любит говорить мамина подруга Света Пономарева, величайшая хитрость дьявола заключается в том, что он убедил людей, будто его не существует.
6
Преображенный в обычного колхозника нетопырь преследовал меня еще десяток сумрачных, нервных дней. Идя по вечерним улицам или оставаясь в темной комнате, я испытывал вяжущий страх, по обыкновению зарождавшийся в паху и сетью распространявшийся по всему телу. Воображение вьетнамским рабочим штамповало ужасы, щедро приправленные моим участием в них, и приходилось либо ускорять шаг, либо бросаться к выключателям. Порой я различал бульканье, и ноздри бередил запах водорослей. Хотелось, спасаясь, как в детстве, укрыться в маминой постельке.
Активная фаза сменилась редкими, но яркими приступами, напоминавшими визионерские видения, которые я, не будь лентяем, мог бы записать и загнать Джорджу Ромеро или Джону Карпентеру в качестве кассотрясущего сценария.
Этот страх, упакованный еще тогда, у каштановского Дома культуры, остался со мной навсегда, вроде язвочки, появляющейся на теле, как только переешь сладкого или переберешь с алкоголем.
Но, мучаемый нетопырем, я перестал вспоминать Раду. И брат, забегавший в перерывах работы на автосервисе и начинавший болтать о девушках, – он встречался не только с Радой, и от этой мысли делалось приятно, как от маленькой мести ей – не раздражал, не бесил, ибо страх оказывался сильнее.
Пустота забивалась более мощным, отупляющим чувством. И это смахивало на универсальный рецепт.
– Зрение не порть! – наставлял дед, глядя, как я зачитываюсь книгами. – Ближе к земле-матушке будь!
– Ну, ты всю жизнь пахал, а толку? – намеренно грубо, чтобы не приставал, отбивался я.
– Успокаивает перед смертью…
Эти слова, выдавленные через неизменный кашель, вспоминались мне теперь все чаще.
После смерти деда (я так и не смог воспринять его как по-настоящему близкого, родного мне человека: он представлялся стариком, жившим с нами, лежавшим на скрипучей кровати, хлебавшим воду из алюминиевой кружки, ему я говорил «доброе утро», «спокойной ночи», но при этом не знал, как подойти, обратиться, поговорить доверительно, напуганный резкостью, прямотой) то, что создавалось им: курятник, крытый линолеумом, с прибитыми трухлявыми досками; кособокие кроличьи клетки с ржавыми дверками, закрывающимися на изогнутые крючки; парники с латанной скотчем пленкой, изорванной ветром, присыпанной снизу землей, которую перед поливом нужно было раскапывать, отчего руки мерзли, шелушились, трескались – осталось либо в мертвом прошлом, либо в дряхлом, обреченном настоящем. Но при жизни у деда был тот самый пресловутый смысл, о котором только и разговоров. Он жил по правде и умер в правде, не терзаясь, не сомневаясь. Делал, что любил. Поступал, как был должен.
Я подумал о своих симпатиях, о своем долге и вспомнил слова отца: «Если что и умеет Аркадий, то это учиться».
Волен петь свою песню
1
Справочники вузов – удивительно скучные, бесполезные книги. Составляют их то ли библиотекари на пенсии, то ли трудовики, всю жизнь мечтавшие стать учителями русского языка. Сухая информация идет сплошным, бездушным текстом. Ощущение такое, будто пришел на рынок, в мясной павильон, под конец рабочего дня, и осталось лишь подлежавшее, обветренное, серое; не из чего выбирать.
Среди этого текстового однообразия пестротой выделяются разве что рекламные объявления не поскупившихся подчеркнуть свою уникальность. Наверное, рекламодатели тешили себя именно такими формулировками, но на убогом братском кладбище вузов их щедрость выглядит, как Филипп Киркоров, зашедший тяпнуть пивка в привокзальный буфет.
Я листал справочник и засыпал. Буквы расползались в стороны, уводя внимание за собой. После получаса изучения справочника я решил, что руководствоваться им в выборе вуза может лишь до патологии адекватный человек. А я таковым не был. Или не хотел быть. Поэтому, собрав документы в бумажную папку с надписью «Папка для документов», завязав ее на тесемки – почти музейный экспонат советского прошлого, – я отправился в Севастополь, записавшись в секту Великого Русского Авось.
И, стоя на открытой корме катера, где обычно собираются любители табака и нелюбители замкнутых помещений, вслушивался в разговоры, ища подсказку.
Высокая женщина в развевающемся цветастом платье кормила вечно голодных чаек кусками «Симферопольского» батона. Хлеб плюхался в воду, и птицы бросались к нему, впиваясь в мякиш щипцами-клювами. Женщина радовалась и швыряла куски все активнее. На ее ногтях были нарисованы сердечки, полумесяцы, звезды – веселенький маникюр.
– В стране людям жрать нечего, а вы птиц кормите, – проскрипел лысый дед, прислонившийся к белому борту катера. – Вот смотрите, что пишут…
Он развернул «Славу Севастополя», несколько раз дернул ею, словно вытряхнул грязный коврик. Подкурил жалкую папироску в черном мундштуке.
– Рубрика «Дожились!». Одинокие пенсионеры с улицы Горпищенко просят утром и вечером передавать по радио число и день недели, а также текущее время. Люди, – точно химическим оружием, пыхнул ядовитым дымом лысый дед, – не могут позволить себе выписывать газеты или оплачивать телевидение. Часы сломались, а денег для того, чтобы отдать их в починку, нет…
Дед стряхнул пепел, закрыл газету.
– Это где такое? – спросил внимательно слушавший мужчина в кремовой офицерской рубашке, но без погон.
– Рубрика «Дожились!», – в ударении дед напирал на последний слог, – одинокие пенсионеры с улицы Горпищенко…
– А, на Горпищенко, – кивнул мужчина в офицерской рубашке, но без погон, – жил я на Горпищенко. Мрачное место.
– Так и Горпищенко был еще тот мудак, – встрял в разговор худенький парень в черной майке “Led Zeppelin”, такой засаленной, что вместо лица Джона Бонэма образовалось грязно-серое пятно.
– Тебе-то откуда знать? – встрепенулся дед.
– Коммуняки – все мудаки! – харкнул в воду парень.
– Коммуняки? Да при коммуняках хлеб людям давали, а не чайкам! Как вот эта… мадам! – Дед тыкнул мундштуком в сторону женщины в цветастом платье.
– И правда, чего их кормить? – поддержал деда мужчина в офицерской рубашке, но без погон. – Вас как зовут, уважаемая?
– Света.
– Знаете, Света, как во Франции чаек называют? Летучие крысы. Потому что всякую заразу разносят…
И все они – мужик, дед, женщина, парень – принялись обсуждать достоинства и недостатки чаек. В винегрете их слов я вдруг расслышал одно, наиболее важное, ради которого и воспринимал весь этот бред – «МГУ». Его произнес то ли дед, то ли парень в футболке “Led Zeppelin” – неважно.
МГУ в справочнике вузов не значился. Я убедился в этом, повторно перелистав страницы. Но точно помнил, что в «Крымской правде» и «Голосе Крыма» читал об открытии при поддержке Лужкова филиала Московского государственного университета. «Правда» радовалась, мол, наконец крымские и не только молодые люди смогут получить достойное образование. «Голос», наоборот, возмущался, усматривая в открытии севастопольского филиала имперскую политику России.
Да, МГУ существовал. Осталось только найти его, спросив подсказку.
Площадь Нахимова, окруженная платанами, в народе называемыми бесстыдницами, полнилась туристическими палатками. Но их не замечали, люди спешили, двигаясь векторами из точки А в точку Б, и я отчаялся получить хоть какой-нибудь ответ, но вдруг милая – только это незамысловатое определение и могло характеризовать ее – девушка остановилась, подробно рассказав, как добраться к МГУ. Она, улыбаясь, болтала о чем-то еще, но я, стушевавшись от такой общительности, ничего не разбирал и тупо кивал, повторяя «спасибо». А после поплелся за ней на остановку.
В Севастополе я всегда езжу троллейбусом. Особенно летом. В закупоренных маршрутках душно, и на сиденьях остаются влажные пятна. В троллейбусе же – благодать. Дует из всех щелей. Можно читать, расположившись на задней площадке, между стеклом и ступеньками. Или рассматривать, точно на экскурсии, севастопольские улицы, пока скрипящий троллейбус медленно пробирается по центральному кольцу города. Так в свое время шел броневик «Антихрист», первым пущенный большевиками в Севастополь.
Троллейбус выезжает на площадь Лазарева с разросшимся ливанским кедром посредине. Но большинство почему-то обращает внимание на красно-желтый «Макдональдс». На день его открытия люди выстроились в две очереди: первая спускалась по дорожке к Центральному рынку, на которой обычно просили милостыню и продавали щенков, а вторая – по улице Маяковского с редакцией «Славы Севастополя», магазинами одежды, белья и закусочными. Сейчас очереди в «Макдональдсе», если и есть, то исключительно внутри, потому что это единственный бесплатный туалет в центре Севастополя.
Рассматриваю Покровский собор, где по приказу Ковпака отпевали лейтенанта Шмидта, похороненного на кладбище коммунаров, все больше прирастающий церковными лавками. Я был здесь несколько раз с мамой на службах. Не мог выстоять и двадцати минут. Меня постоянно кидало в разные стороны, и я злился на удушливый запах, толпящихся людей, потного священника, горящие свечи. Злился и просил уйти. Но мама шикала: «Тихо, Евангелие читают!» или «Дождись хотя бы Символа Веры!» Но я никогда не дожидался и выходил во двор, к кедрам.
По Большой Морской – магазины, кафе, магазины – троллейбус выползает на площадь Ушакова. У кинотеатра «Дружба» толпятся люди с плакатами, требующими вернуть севастопольским католикам костел. Протестующих аккуратно, почти нежно теснит милиция, но в ее движениях чувствуется твердость, и, похоже, бывший костел так и останется, как задумали коммунисты, действующим кинотеатром.
На спуске по улице Пушкина невольно считаю пришвартованные к берегу корабли. Их все меньше, и это вызывает странное, зудящее беспокойство. А вот металлолома, который грузят на огромные плоские баржи жирафообразные краны, все больше.
Море тянется почти до самого здания МГУ, которое будто не строили, а лепили кондитеры – белое, свежее, в кремовых завитках. И от его вида становится радостно.
Но вероятность счастья обрывается на тучной женщине в кабинете «приемной комиссии». Блестящий костюм делает ее похожей на краба, и выпученные глаза усиливают это сходство. Она тычет в аттестат пухлым пальцем с массивным золотым кольцом:
– Здесь все на украинском, а мы российский вуз!
– Но мы… в Украине, – удивленно говорю я и вспоминаю школьную учительницу украинского языка и литературы Оксану Тимофеевну Жогу с ее немыслимым количеством розочек на платьях.
Она приехала в Севастополь из Хмельницкого. И ей, конечно, было тяжело. Даже не потому, что все называли ее Изжога (физрук и тот оговаривался), и не потому, что родители фыркали при виде ее – все было сложнее: она представлялась окружающим не просто бесполезным, а чужеродным, едва ли ни вражеским элементом. Ведь большинство севастопольцев презирали украинский язык и отрицали саму возможность существования украинской культуры.
Это было странно, нелепо, как и разговоры – в духе «заграница нам поможет» – о Великой Российской империи. Я знал персонажей, которые, отправляя детей в школу, увещевали их: «Смотри, не учи собачью мову». Это походило на агонию, потому что канат, соединяющий украинский материк и остров Крым, подтягивался, сколько бы ни грезили прошлым, которое, подретушировав, хотели выдать за будущее.
Оттого, смотря телевизор, я впитывал украинский язык, желая понимать, знать его. Не ради киевской власти, которую чаще всего называли бандеровской, но вопреки неврозам имперцев, оставшихся без своей империи.
– Но вуз-то у нас российский, молодой человек, – тучная женщина-краб с сомнением посмотрела на меня. – Вы вообще в курсе, где находитесь?
– Да, конечно.
И она принялась объяснять мне, что делать, пока я непонимающе вертел в руках пластиковый аттестат, улавливая лишь некоторые слова: «перевод», «нотариально заверенный», «печать».
Решил поступать сам, ничего не сказав маме, и вот – промахнулся. Да, надо было взять ее с собой. Конечно, мама бы нервничала, переживала, суетилась, а я бы стеснялся ее блеклого платочка, разбитых босоножек, синтетического платья – всей ее маленькой испуганной сущности, так неподходящей этому большому кремовому зданию, но зато с ней бы я не испытывал проблем с документами.
– Чего у вас такой испуганный вид, молодой человек?
Вздрагиваю, возвращаюсь в мир. Тучная женщина – за длинным столом. Массивное золотое кольцо – на пальце.
– Простите…
– Вид у вас какой-то испуганный.
– А, – не говорить же о маме, – да просто…
– Вы не переживайте, – она сканирует мои мысли, – нотариус тут, рядом…
И она детально – помедленнее, я записываю – рассказывает, куда идти и что делать.
Нотариус – апатичная женщина с лицом цвета вареной капусты – множит бумажки, и я обзавожусь тем самым нотариально заверенным переводом. Довольный, что управился сам, без мамы, мчусь назад, в МГУ, но в приемной комиссии перерыв, и я слоняюсь по зданию университета, химически пахнущему свежим ремонтом: краской, мастикой, тряпками. Коридоры пустуют. Кабинеты заперты. Удается попасть лишь в один: с широкой зеленой доской и узким портретом Путина. Пахнет мелом, он лежит крупными аппетитными – был бы беременной, грыз – кусками в картонной коробке. Путин на стене какой-то лукавый и рыжий, будто Иуда. Подхожу к окну, открываю створки, пускаю морской воздух, радостный от того, что можно вот так просто хозяйничать в одном из лучших учебных заведений мира. И ощущение легкости, пойманное мной в кабинете, усиливается, когда в прохладной университетской столовой, сидя за новеньким деревянным столиком, я пью оболоневскую колу из жестяной банки.
У меня есть молодость, знания и, главное, нотариально заверенный перевод. Сам выбрал вуз, сам доехал, сам нашел комиссию. Более того – сам разобрался с оформлением документов. Наслаждаюсь, оперируя категориями восьмилетнего пацана, оставшегося в гастрономе без мамы, но от сбитых координат социализации радость не убавляется.
Тучная женщина возвращается. Плюхается на офисный стул с выгнутой спинкой. Берет мои документы, но, словно мстя за глупые вопросы, долго не притрагивается к ним. Заваривает чай, хрустит обертками от конфет – я сижу в углу на таком же, как и у нее, офисном стуле, но с ровной спинкой – и вдруг резко спрашивает:
– Факультет?
Я то ли поперхнулся, то ли вздрогнул. Такой молодой, а уже невротик.
– Что?
– Вы не указали, на какой факультет подаете документы, Аркадий Алексеевич.
– Я?
– Вы Аркадий Алексеевич?
– Я.
– Отлично. – Особенно громкий хруст конфетной обертки. – Так на какой факультет?
А я и не выбрал. Всецело доверившись случаю, я не хотел никакой конкретики. Может быть, первый раз в жизни – со всеми этими школами, деревнями, курсами, мамами, бабушками – избавился от всякой определенности. Таков был мой тихий, молчаливый протест. Теперь его играючи подавили.
– Так что писать, Аркадий Алексеевич?
Я схватился за сумку, точно ища в ней ответы, понимая, что выгляжу ужасно глупо: пришедший поступать абитуриент, не определившийся со специальностью. Через тряпочную ткань выступал острый край. Сигналил, что в сумке у меня лежит «Подросток», «классический психологический роман Ф. М. Достоевского…».
Психологический роман – завораживающее сочетание. Правда, вторая часть мне нравится меньше, потому что чаще всего используется в связке со словом «любовный» и напоминает о Раде, из-за которой я и пришел сюда. А вот «психологический» – это хорошо, это релакс, как написано на обложке журнала «Натали», который, видимо, – раз он лежит у нее на столе – читает тучная женщина-краб. Психология – это о людях. А у меня с ними проблемы. С собой проблемы. Да и вообще с психикой нелады. А тут пять лет в попытках разобраться. Пять лет на то, чтобы анатомировать душу. Удивительная возможность.
– Психология, – едва слышно прошептал я. И, сжав книгу Достоевского, уже громче добавил: – Психология! У вас есть?
– У нас-то есть, – тучная женщина ухмыльнулась, – но ведь еще и поступить надо.
2
Маме с бабушкой я рассказал о подаче документов в МГУ вечером. Не без гордости от того, что справился сам. И был понят. Хоть и с вопросами, хоть и с сомнениями, но главное – понят.
Правда, нарисовалась иная проблема: мама с бабушкой распереживались за мою подготовку. И если первая, не докучая, горбатилась на бухгалтерской каторге, то вторая регулярно кидала на меня зоркие взгляды, следя, как я занимаюсь.
Впрочем, я все равно пребывал в рае безделья, нарушаемом лишь сомнительными непрошеными гостями, на беду состоявшими со мной в достаточно близком родстве. Но очень скоро я приспособился и к ревизорским визитам бабушки, прося ее захватить с собой что-нибудь вкусненькое. Она возвращалась с яблочными пирожками, или конфетами «Барбарис», или вафлями «Артек». Иногда в ее руках появлялась тарелка борща или картофельного пюре, но тогда я просил ее принести что-нибудь более адекватное.
Наверное, в то время во мне и зародилась будущая патологическая страсть к вредной, а оттого еще более соблазнительной пище. Живя в Каштанах, Киеве, Севастополе, Москве я отыскивал самый дьявольский, самый беспощадный фастфуд, греша с холестерином, забивающим сосуды, издевающимся над сердцем, но вызывающим какое-то животное упоение.
Для маскировки я всегда держал рядом с собой три учебника – по русскому языку, математике и биологии, – и, когда бабушка заходила с инспекторской проверкой («учишься, унучок?»), акцентировал на них внимание («учусь, ясное дело, как не учиться?»), и она, успокаиваясь, выходила. Я же вновь принимался листать пожелтевший номер «Спорт-экспресса», выученный вплоть до данных о тираже на последней странице, наполненной информацией о ничего не значащих соревнованиях по гандболу и хоккею с мячом. По страницам спортивной прессы я подкрадывался к умиротворению. А затем хватал его, переключаясь на чтение Муркока или Гоголя. Так я отрекался от реальности, забивая ее, как алкоголь жвачкой, чужими фантазиями и собственными иллюзиями.
Когда же бабушка переходила на огород, где зеленели первые помидоры, сжираемые загадочными – «видать, американцы подкинули» – бурыми жуками, которых, опрыскивая из паманаса (надев его, бабушка напоминала охотника за приведениями), уничтожала разведенной в десяти литрах воды химией, я включал возвращенный телевизор. И Зена спасала не только мир, но и мой досуг. Спасибо, Люси Лоулесс.
Меня к работам на огороде привлекали редко – берегли. Главным образом потому, что «к труду не способен; городской». Я не печалился, не обижался; наоборот, видел в своей антагонистичности преимущество, напичканный киношными баснями об American dream, верил, что рано или поздно вырвусь из навозного бытия, стану известнее, успешнее, весомее односельчан.
Иногда, правда, бабушка просила меня собрать колорадских жуков. Полосатым десантом они балдели на картофельной ботве, попутно делая свою мерзкую работенку – жрали, точили, грызли. Бабушка называла жуков фашистами и костерила американцев, заславших их к нам. Кого она не любила сильнее: жуков или американцев – вопрос. Я отрывал колорадского паразита от ботвы, швырял в банку. В ней должна была плескаться соляра, но ее не хватало, и жук летел в пустоту. Пристеклялся, судорожно дрыгая лапками, переворачивался и полз вверх, борясь с конкурентом. Неизбежно падал и еще яростнее повторял путешествие на край банки.
Вспоминаю то время подготовки к экзаменам в МГУ как одно из лучших в своей жизни. И часто стараюсь понять, от чего так. Ведь все было просто, топорно даже. Но, может, именно в этом ломовом примитиве и крылся весь фокус, в ходе которого я доставал белого кролика счастья и следовал за ним, ища прежде всего мира. В семье. В увлечениях. В пище. В общении. Жаждал умиротворения как благодати. Потому что, несмотря на свой амебный, рефлексирующий облик, внутри меня рвались бомбы, свистели пули, умирали личины – погибал я и каждый раз для нескончаемой пытки обыденностью воскресал снова. Огонь Вавилона испепелял меня: пунцовый, распаренный, я пылал жаром. «Не нервничайте», – советовали врачи, будто я хотел нервничать. И в эскулапских словах проскальзывала насмешливая издевка. Ведь я алкал, умолял затушить огонь. Потому столь болезненно воспринимал существование в деревне. Дело было не в грубости, не в разрухе, не в серости – будь здесь нормальные ванны, в которые можно было бы лечь, чтобы вода забрала боль, успокоила нервы, и жизнь моя оказалась бы сносной, терпимой. Да, дело было в ванне, в простой вместительной ванне. Которой не отыскалось.
Но тогда, во время поступления в МГУ, я справлялся и без нее. Подготовка к экзаменам, превратившаяся в разгильдяйство и поглощение одной и той же, запущенной по кругу, информации, отупляла, одурманивала, а сидение взаперти окончательно довершало мое превращение в овоща. Жизнь без терзаний, без забот, без ответственности. Эволюция похлеще дарвиновской: не от животного – от растительного мира; вверх, к небу в алмазах.
Тупое безосновательное счастье. Непринципиально, сдам ли экзамены, расстроятся ли мама с бабушкой – плевать на то, что случится дальше. На профессию, на статус, на судьбу, на мнения. Плевать! Я избавился от обязательств, которые навесили на меня веригами еще при рождении, невольно внушив мысль, что придется учиться, работать, жениться. Придется тосковать, грустить, печалиться, страдать. Потому что в этом вроде как и кроется человеческое развитие. Иисус и Богоматерь, взирающие на меня с бабушкиных икон, так устроили – если это были все же они – нашу жизнь. Заслужить рай, пройдя ад на земле.
Но я хочу билет сразу, здесь, на руки; выдайте его мне. Я не хочу идти по долгой трудной дороге из ада вместе со всеми. Пусть они, несчастные, жалкие, бредут по буеракам, а я не хочу.
И вдруг меня освободили от жизненной повинности. Пусть и на время, но я стал просветленным овощем.
3
Моя умиротворенная радость во время поступления в МГУ объяснялась еще и отстраненностью. Я никогда не любил, не ценил одиночество, но еще болезненнее воспринимал присутствие людей рядом. Особенно незнакомых людей, тех, к которым еще надо привыкнуть.
Наверное, поэтому, когда я пришел на первый экзамен с монетами под пятками и пачкой «Соверена» в кармане, ощущение тупого безосновательного счастья исчезло. Появились основания для «внутреннего диалога» – не самое лучшее занятие для человека с подорванной самооценкой.
В кабинете, где мы сдавали математику, обстановка была не та, что в классах, в которых я занимался ранее. Здесь парты шли длинными сплошными рядами.
– И шпору не спрячешь, – простодушно выдохнул конопатый парень в черных очках под Нео.
– А ты у себя спрячь, – посоветовала крупная девушка в зеленых, не под стать мероприятию, колготах.
– Эх, спрячешь тут, – обреченно махнул рукой конопатый.
Я сел с краю. Не потому, что видел в этом преимущества для списывания, а скорее пытаясь держать дистанцию с остальными абитуриентами. Очень худой человек с мефистофелевской бородкой пожелал всем удачи. Экзамен стартовал, и тут в кабинет ворвалась взлохмаченная, раскрасневшаяся девушка. Милая девушка. Я узнал ее сразу. На площади Нахимова она рассказала мне, как доехать к МГУ.
Девушка, механически извинившись за опоздание, плюхнулась рядом со мной. Достала гелевую ручку с пузырьками воздуха в черной пасте. Убористым почерком набросала на экзаменационном листке имя, фамилию – Анастасия Омельяненко.
Я хотел поздороваться, но тут же решил, что она может и не вспомнить нашей встречи и придется объясняться, кто я и где мы виделись, а это, определенно, смутит и меня, и ее. Поэтому я так и сидел, улиткой, боящейся отправиться в путь, наблюдая за милой девушкой.
Круглые часы тикали на чистой белой стене, казалось, не тронутой даже пылью. Люди решали задачи, чертили графики, а я, видимо, по обыкновению дожидался момента, когда панически сведет яйца, и тогда суетливо, впопыхах начну разбираться с экзаменационными трудностями. Неотвратимость рождала стресс, и он активизировал. Казалось, что на пределе думается иначе – яснее, острее, четче, быстрее.
Но не на этот раз. С задачами из МГУ не помогли бы, если бы вообще не грохнули сердце, справиться и десять стрессов. Другой уровень. В каштановской школе, на подготовительных курсах я был одним из лучших, часто насмехавшимся над теми, кто был не в силах разобраться с элементарными вещами. И вот на экзамене по математике в МГУ я сам оказался на их месте. Встал в загон для неудачников. И та девушка с лицом сонного барсука, и этот парень в надпупочном галстуке, наверное, похохатывают надо мной.
– Приперлось сельское дурачье…
– Ты глянь, как он одет!
– Навоз на ботинках…
– Фу!
Крыть было бы нечем. Внешность моя не являлась сильным аргументом в спорах, и давить интеллектуально я не мог: задачи не решались, а в данный момент только они и оставались реальным мерилом умственных способностей. Никаких оправданий, никакой софистики – все просто: задача перед тобой – решай.
Еще недавно мне было плевать на происходящее, но теперь я волновался, паниковал даже. То ли от того, что безосновательно оказался слишком высокого мнения о себе, то ли от постепенного удаления возможности быть в МГУ. Другой уровень, другой город. Может быть, поездка в Москву. Идеальная возможность убраться из Каштан.
И машущая белым платочком «поездка в Москву» сподвигла меня на самое отвратительное из всех занятий – коммуникацию (словом «общение» это боязливое, переходящее в агрессивно-настойчивое, поведение, не назовешь).
Я обратился сначала к мятому соседу слева. Затем – к взбудораженной соседке, сидящей на задней парте. Наверное, действительно что-то было в выражении моего лица – жалкое, обреченное (то, что заставило Эльвину оправдывать Раду), – раз незнакомые люди делились информацией, которая могла бы помочь мне обставить их. Я развил столь бурную деятельность, что, не задумываясь, обратился и к милой девушке Насте. Она посмотрела заинтересованно, мило – она все, абсолютно все делала мило! – приподняв тоненькие, аккуратные брови:
– Мы, кажется, знакомы?
Я быстро рассказал ей о встрече на площади Нахимова. Она помнила, она улыбалась. И похоже, вообще была из тех, кто ходит в туалет бабочками.
– Сложные задачи, – выдавил я.
Преподаватель, – или кто он там? – присматривающий за ходом экзамена, прикрикнул на нас извечным учительским: «Тише! Не вертитесь!» – но контакт уже был установлен. «Контакт с внеземными цивилизациями», как любили писать в газетах, которые иногда удавалось приобрести: «Тайны прошлого», «Совершенно секретно». И в нашем случае это был действительно контакт инопланетян, потому что мужчины и женщины с разных планет, это понятно, но такие мужчины, как я, и женщины, как Настя Омельяненко, похоже, вообще из разных галактик. И то, что она, милая девушка Настя, улыбнувшись, сделала дальше, передав мне листы с решениями, стало матпомощью галактикам третьего (или тридцать шестого) мира.
У меня, наверное, имелись все предпосылки, чтобы проводить ее после экзамена до остановки, но я как всегда, засмущавшись, зардевшись, испугался – видимо, моя коммуникабельность проявлялась лишь при наличии четкой цели, – сделав вид, что еще решать, еще дописывать, хотя преподаватель – или кто он там? – уже подгонял нас сдавать экзаменационные листы. Милая Настя улыбнулась, шепнула «удачи» и ушла.
А я вместо разборок с задачами пытался сообразить, что же делает ее настолько милой, и наконец, не найдя адекватного объяснения, постарался думать, что фокус в милых ямочках на ее щечках. Они – а ну, не выпендривайся, считай так, как решил, – они делают ее милой. Той, к которой я подойду завтра. Той, которая будет лучше Рады. А главное – той, с которой я буду лучше себя прежнего.
Но утром Настя стала другой. Ямочки на щеках пропали. Она не улыбалась. Сидела в холле на деревянном парапете. Отстраненно смотрела в сторону. Вертела в руках бутылку оболоневской колы.
Рядом с ней маячили другие абитуриенты, молчаливые, собранные. Но большая часть толпилась у стенда посреди холла. Обсуждали, спорили, кто-то матерился. Смешно, как-то по-детски, матерился.
На стенде вывесили листы с результатами за первый экзамен. Они ползли бездушными матричными столбцами: ФИО и напротив оценка. Я, дождавшись, когда несколько человек отойдут в сторону, протиснулся вперед и хотел найти себя. Но тут же запутался, потому что списки были не по алфавиту, как в севастопольском вузе. Здесь разбивка шла по оценкам: четверке, тройке, двойке. Я, дернувшись, начал искать себя среди троечников. Не нашел. Не было меня и в двоечниках. Тогда неуверенно, пугливо, как девочка-сирота, я поднял глаза и увидел, что тех, кто сдал на четверку, всего трое и моя фамилия значится первой.
Не веря, я даже оттолкнул лохматого кучерявого парня, чтобы продвинуться к стенду вплотную. Провел пальцем по бумаге, прочерчивая линию от первой буквы «Б» в фамилии до невообразимой «4» в конце строки.
– А, так вот они какие – хорошисты, – пробубнил кто-то, а другой голос добавил:
– Как это им так, а?
Я и сам не понимал «как это мне так». Долго стоял, рассматривал чудотворный стенд, пока меня не оттолкнули. И тогда я вновь обратил внимание на переставшую быть милой девушку.
– Привет.
– А, – она подняла глаза, сминая бутылку, – привет. Ну как первый экзамен?
Спрашивала она волнительно, нервно. И я сначала решил, что это вызвано ее оценкой, но после сообразил, что Настя переживает за меня. И я решил обрадовать:
– Четверка!
Она улыбнулась так, что ямочки на щечках вновь появились. И показался румянец. Но буквально через миг лицо ее вдруг посерело, сморщилось, в нем промелькнула злоба. Наверное, не будь она все время такой милой, не было бы столь резкой перемены, но тут контраст между нею прежней и нею настоящей оказался чудовищен.
– Четверка? – переспросила она. Я кивнул уже не слишком оптимистично:
– А у тебя?
– У меня? – В глазах ее промелькнула злоба. – У меня? А ты как думаешь?
Она встала, расправила плечи, размяла запястья. Четверки у нее быть не могло. В списках значилось всего трое «хорошистов», и среди них не одной женской фамилии.
– Три?
Бывшая когда-то милой девушка хмыкнула и пинком загнала бутылку под парапет, развернулась, уходя прочь. Но вдруг остановилась, взглянула на меня:
– А у тебя, правда, четверка?
– Да, но…
– А ведь ты у меня списал. – Она как-то странно кивнула головой, и этот легкий, вроде бы ничего не значащий жест вновь сделал ее милой. Той, о которой я всегда буду мечтать.
Она гулко зашагала по коридору. Я не хотел бежать за ней, провожать, говорить, потому что момент был не лучший; даже я понимал. Надо было выждать паузу, а не, как обычно, суетиться, эмоционировать, и тогда это решение казалось мне взвешенным, мудрым. Я ощущал некую взрослость, коей после лишь горько ухмылялся.
Потому что больше я милую девушку не видел. После математики всех «двоечников» отсеяли.
На экзамене по биологии длинные ряды парт зияли пустотами, приглашая расположиться комфортно, вольготно, с размахом. И лишь тогда я понял, что больше не увижу милую девушку Настю Омельяненко. Она ушла. Я остался. В этом году ей не поступить в МГУ, а у меня есть шансы. Пусть три из шести задач я списал у нее. Одну решил сам. Еще одну позаимствовал. У меня – четыре, у милой девушки – два. Мистика. Или халатность. Или случайность. Но гадать над объяснениями – бесполезно. Важнее сделать выводы. А они твердили, что я поступил подло. Выехал на доброте милой девушки.
Я думал об этом и не мог сосредоточиться на экзамене. Извращенное раскаяние дергало, нервировало, сбивало меня, и я, отложив экзаменационный лист, хотел встать, уйти, крикнуть что-нибудь бесполезное, жутко пафосное, но продолжал сидеть. И это неделание, в свою очередь, продуцировало поиск оправданий. Вызревала новая мысль о том, что как раз мое непоступление в МГУ станет предательством. Ведь экзаменационная работа по математике милой девушки Анастасии Омельяненко переселилась в мою. Просто в имени и фамилии ошиблись. Значит, надо идти дальше, словно в эстафетном беге, когда передают палочку; теперь она у меня – беги, Бесик, беги. За себя и, как говорят комментаторы, за того парня (в моем случае – девушку). Так я переубеждал себя, медленно, сантиметр за сантиметром, приближая лист со специальной печатью.
Написать биологию оказалось легче, чем математику. То ли задания были проще, то ли усердие в школьных занятиях, спровоцированное грезами о медицинском, способствовало. К тому же несколько раз, выйдя в туалет, я изучил «шпоры» по биологии, найдя ответы о хитиновом покрове ракообразных и функциях частей головного мозга (сложность возникла лишь с мозжечком). Ознакомившись с информацией, перекурив, я возвращался в экзаменационную аудиторию и подозрительно быстро писал ответы на бледно-сером листе А4. Такая прыть, появлявшаяся аккурат после туалета, наблюдателя заметно смущала, но было плевать. Внутри приятным, хоть и волнительным теплом разлилась абсолютная уверенность, что все будет, как надо: добегу, финиширую, а после…
Что будет после, я не знал. Не представлял. Но мысль о том, что все это – аудитории с портретами рыжеватого Путина, сложные вопросы, суетливая писанина, нервное волнение, оболоневская кола – закончится, казалась тоскливой. Я предпочитал натравливать на нее злых псов инакомыслия, чтобы и не пыталась соваться на территорию моего спокойствия, но ей, заразе, похоже, достаточно было лишь издалека показать лицо – настроение ухудшалось, тревожность подскакивала.
С желанием растянуть – или, выражаясь терминологией отцовских газет, пролонгировать – удовольствие я трансформировал в буквы знания о митохондриях и кутикулах, о крестоцветных и нуцеллусе, о рибонуклеиновых кислотах и цитоплазме, а утром, двигаясь в университет, чтобы узнать оценку, испытывал редкую для себя уверенность.
Моя фамилия и, правда, вновь шла в списке первой. И вновь отсутствовали пятерки – только четверки, тройки и двойки.
Неестественная девушка, похожая на ту, что снималась в рекламе «Спрайта», с прямыми выбеленными волосами и ярко-голубыми зрачками – казалось, она пользуется контактными линзами, – говорила страшноватой, с оспинками на лице подруге о том, что, судя по общему низкому уровню оценок, все решится на экзамене по русскому языку; достаточно получить пятерку или даже четверку. И последние станут первыми, добавлял я, удивляясь неестественной девушке и жалея ее подругу.
Коренастый парень с лицом юного Николая Баскова в полосатой кепке, будто магически извлеченной им из прошлого века, наматывал круги вдоль стенда с оценками, лютуя – он изъяснялся на гуцульском суржике, растягивая слова, – что все куплено и украинцам в москальском вузе делать нечего. Я все ждал, когда он крикнет «Слава Украине!», а кто-нибудь ответит «Героям слава!», но клон юного Баскова ограничивался бледными общими словами, был скучен, и несколько парней из Керчи для острастки старались раззадорить его, закидывая в омут возмущения наживку с фразами о русском Крыме. На парня действовало слабо, а вот я возвращался в детство.
Российскими триколорами, двуглавыми орлами, Андреевскими флагами пестрели стены в Каштанах, Песчаном, Береговом. Особенно много их было на подъезде к Севастополю. Рисовали подчас на самых неподходящих местах, вроде пришвартованной в Инкермане баржи, на мачте которой реял украинский флаг. Яркие, не без колорита рисунки – особенно запомнился похожий на зажаренного поросенка Хрущев со свастикой и трезубцем на лбу – соседствовали с чопорными, едва ли не траурными надписями, сделанными либо черной, либо темно-бордовой краской, призывавшими отдать Крым и Севастополь России.
Но двигайся в сторону Симферополя и увидишь, что направленность, окрас художеств, лозунгов станут иными. Правда, настенные тексты я понимал не всегда, так как не знал крымско-татарского языка, хотя, по уверениям Беллы Юнусовны, многие русские слова – например «деньги» – заимствованы из тюркского языка. А вот рисунки казались яснее: они преимущественно утверждали татарский Крым, и некоторые призывали для этого уничтожать других, не татар; чаще всего под «другими» понимались русские. К украинцам же, так мне казалось, татары относились терпимее. Может, и правду говорил Филипп Макарович, рассказывая, что во время войны крымско-татарские полицаи контачили с бандеровцами. «Да и сейчас они вместе проходят боевую подготовку в тренировочных лагерях, – слыхал я наверняка про тот, что на Ай-Петри, – чтобы однажды, когда придет час, истребить всех русских и захватить власть на полуострове», – так вещал Филипп Макарович.
И казалось, что речь идет о каких-то других татарах, потому что те, с кем доводилось встречаться мне, отличались от героев кровавых историй: они были не то чтобы хорошими или добродушными, отзывчивыми или приветливыми – нет, безусловно, проблем хватало, но все они так или иначе не проявляли активности. Для чего ждать им нужного часа, если можно подмять пусть не весь Крым, но отдельно взятые Каштаны прямо сейчас? Ведь татары моложе, крепче, а главное – их больше.
Пожалуй, какого-нибудь татарчонка и не хватало в холле МГУ. Для полного – лебедь, рак и щука – комплекта. Встретились бы, потянули перегруженный Крым.
Так чего юный гуцульский Басков сунулся поступать в москальский вуз? Как планировал сдавать имперский экзамен по русскому языку? Ведь клятые москали наверняка бы завалили его.
Горите, кацапские суки, в путинском аду! Так бы кричал парень в кепке. Дал бы щирым патриотизмом по керченским провокаторам в дурацких хлопчатобумажных шортах, какими обычно торгуют цыгане на стихийных рынках. Или смолчал бы?
Ничего, за него отомстят другие. Let it be. Не всем же мужичкам в кепках быть революционерами.
Я и сам шел на экзамен по русскому языку с подпорченным настроением. Мама с бабушкой продолжали воспринимать мои успехи как должное. И не то чтобы они были равнодушны ко мне – нет, их чувства, устремления, мысли по-прежнему концентрировались исключительно на Аркадии Бессонове, но, видимо, существовали сферы, в которых не требовалась родительского участия, потому что и без него будет все хорошо: Аркаша умница, справится. Оттого мама с бабушкой не переживали за результат, а, значит, и не ценили его.
Такая предопределенность раздражала. И невольно, в силу извечного подросткового бунта, хотелось ломать, кроить жизнь. Грубо, варварски, не думая о последствиях.
Я заходил в аудиторию с желанием неудачи. Чтобы мама с бабушкой наконец задумались, обратили внимание. Так мне казалось, но пятачки в туфлях и пачка «Соверена» – собственно, то, что я пришел в принципе – твердили обратное. Ломать хребет судьбы – не идти на экзамен. Вот это был бы куда более честный, решительный шаг.
Абитуриентов стало еще меньше. На длинных партах можно было раскладывать спальники, устраивать пикники. Остались самые крепкие, боевитые, зубастые разгрызатели гранита. Но главное – удачливые. И я был среди них. Первый раз мне везло.
Это было, действительно, именно везение. То хорошее, что случалось со мной раньше, заслуживалось трудом, оказывалось логическим завершением проделанной работы, а происходящее в МГУ отличалось легкостью; судьба баловала, тешила меня.
И когда очень худой человек с мефистофелевской бородкой зашел в аудиторию, я был расслаблен. Когда же он, распаковав конверт, написал на зеленой доске три темы экзаменационного сочинения, я был обрадован.
Между Есениным и Грибоедовым значилось: «Женские образы в романе Ф. М. Достоевского “Преступление и наказание”». Да, не напиши я про Соню, Дуню, Лизавета Ивановну – меня бы осудили, приговорили прямо там, в просторной светлой – не под стать комнате-шкафу – аудитории. По stairway to heaven, купленной упертой леди, спустился бы нахмуренный бородатый ангел с окровавленным топором, чтобы, верша суд, принести в жертву литературным богам недоросля Бессонова.
О, нет, на такой бы позор я не решился! Сколько бы, мечтательно подпевая Цою, ни бравировал жаждой перемен.
Потому я был лучшим тогда, на экзамене по русскому языку в аудитории с длинными партами и белыми стенами. Я пировал, и свежевыжатый сок удачи тек по моему подбородку, точно у захмелевшего работяги, пропивающего со шлюхами всю получку.
Рядом со мной сидел узкоглазый паренек в белой рубашке с арабской вязью на рукавах и не знал, не догадывался, что писать, с чего начинать. Он, кажется, сперва хотел взяться за Есенина, а после за Грибоедова, но тушевался, сбивался и терпел поражение. А я весело поглядывал на него, тщеславясь. Ай да, Бессонов, ай да, сукин сын!
Я поступил с высшим среди всех абитуриентов баллом. Мои фамилия, имя, отчество значились в списках, вывешенных на стендах в еще пахнущем стройматериалами холле, первыми, на самом верху перечня счастливчиков. Нас было тринадцать – венчик из роз, выходит, достался мне, – поступивших на факультет психологии Московского государственного университета. Да, теперь я не говорил МГУ, а только так – полно, солидно, весомо: Московский государственный университет. И тщеславие мое разрослось настолько, что я достал из кармана пахнущий спиртом маркер и салатовым цветом выделил себя на общем листе.
И, наверное, такому поведению можно было отыскать оправдание. Ведь я сделал все сам, от и до. Для хлопчика, привыкшего исполнять директивы мамы с бабушкой, советоваться по каждому поводу, искать одобрения, боясь порицания, недовольства, это было сродни выигранной войне. Теперь я обрел выбор: Московский государственный университет и психология – или севастопольский вуз и что-то там техническое.
Выбирать. Мучительно, но приятно. И я алкал, чтобы принятие решения откладывалось, мелькая подернутым сахарной ватой берегом – любоваться, но не причаливать, покачиваясь на волнах перспектив.
Обе они – женского рода
1
Той ночью я проснулся от терпкого запаха. Казалось, у него были руки. Они тянулись ко мне: вначале гладили, а после душили. Я вскочил, распахнул окно, пустил воздух, а вместе с ним шипение ночной деревни.
Стало легче, свободнее, но в комнате все еще царил терпкий запах. Он казался знакомым в своей настойчивости. Я несколько раз осторожно втянул воздух, точно сомелье, пытаясь разобрать его на составляющие. И вспомнил.
Так пахла записка Рады, первая и единственная, в которой она говорила, что мы уже не маленькие дети. Тогда я спрятал его в ящик стола, и, заходя в комнату, мама неизменно ругалась, что у нее аллергия, а воняет грошовыми, дрянными духами. Я оправдывался, смущался, не знал, что делать, но вскоре запах исчез. А письмо?
Я бросился к ящикам, вывалил их содержимое на пол. И первое, что увидел – клетчатые листы с нарисованными мускулистыми, брутальными амбалами. Гладиаторы. Я играл в них – во что я только ни играл – в детстве. Это походило на синтез легкой физкультуры и воображаемого турнира – моя версия телевизионных «Боев гладиаторов».
Тогда в квартирке на улице Острякова была только стандартная городская антенна: «Севастопольское», «Крым», ОРТ, «Россия», УТ-1 – не слишком большой выбор телеканалов. Так что «Бои гладиаторов» я увидел у соседей, к которым мы случайно зашли с мамой (странно, конечно, потому что она избегала людей). Меня оставили в комнате, включили телевизор, и я смотрел, как косматый негр в звездно-полосатых лосинах пытается оббежать двух огромных мужиков в красных трико, гладиаторов. Первого звали Динамит, второго – Спартак. Оба они были из России.
В тот день я больше всего не хотел, чтобы меня отрывали от телевизора. Но мама потащила домой, и я всхлипывал, как отличница, получившая первую двойку. Соседка – полная женщина с родимым пятном на щеке – смущалась, хоть и делала вид, что все нормально, а мама, побледнев, шептала извинения. Кажется, после того случая она стала не любить посторонних еще больше.
В реальных «Боях гладиаторов» я подсмотрел всего пару идей, а остальное домыслил сам – простые, незамысловатые конкурсы. Например, десять раз кинуть прыгуна – тогда все мы баловались этим цветным каучуковым мячиком, который из-за цвета, текстуры хотелось помять, укусить, точно маленький затвердевший цитрус, – в потолок и, соответственно, поймать. Ловил я не каждый раз. И не только потому, что не отличался блестящей координацией – часто прыгун выдавал непредсказуемые отскоки, – но и потому, что кто-то из гладиаторов должен был выиграть. Победа, на самом деле, не ковалась во время конкурсов, а создавалась преимущественно в моей голове фантазией, ведь самой интересной была творческая составляющая: придумывать образы участников, их историю, внешний вид, привычки. Я рисовал гладиаторов на клетчатых листах: рыжий детина из Ирландии с непомерно раскачанными голенями, русский верзила с окладистой бородой и гигант с надписью “Made in USA” на груди, в донельзя коротких, будто у Эксла Роуза, шортиках.
Они были частью моей жизни. И, возможно, одной из лучших ее частей. Я перебирал рисунки и хотел вернуться туда, в севастопольскую квартирку. Ночь за окном, вваливающаяся в комнату через открытое окно, усиливала это желание, делая его настойчивее, резче.
И, перебирая рисунки, я наткнулся на письмо Рады. Оно лежало в тетрадке по истории за седьмой класс, на задней стороне которой черной шариковой ручкой было выведено “Dead Kennedys”, хотя я никогда не любил Джелло Биафру, и впервые увиденный мной постер “Frankenchrist” заставил испытать стыд за происходящее на третьей от Солнца планете. Сложенное осьмушкой, письмо не источало запаха и вообще казалось остывшим, как покойница. Я взял его в руки, еще раз принюхался. Безжизненно. Но в комнате, так и не выветрившись, по-прежнему стоял терпкий запах. Пахло духами Рады. Будто на самом деле письмо лишь притворялось мертвым.
Я вертел его в руках, нюхал, пробовал краешек на вкус, вчитывался в буквы, в эти колонны марширующих людоедов, взывающих к тому, чтобы я был смелее, напористее, мужественнее. И, перечитывая письмо, я думал о том, на какое, в общем-то, унижение должна была пойти Рада, чтобы написать это. Или она испытывала иное чувство – возбуждение от оголенности себя, своих чувств?
Ответить на письмо Рады. Вот что твердил ночной терпкий запах. Я обязан замкнуть круг. И выбрать адресатом даже не Раду, а самого себя. Письмо как психотерапевтический метод. Недаром Толстые общались письмами. Возможно, они и не преследовали цели, примирившись, понять, отыскать друг друга, а жаждали лишь выговориться, сбросить, точно сходить в туалет, все лишнее, наносное.
И как только я принял это решение, запах в комнате пропал, рассеялся. Так резко, что я вздрогнул, словно письмо должно было обратиться в пепел. Да, ночью все кажется особо мистичным.
2
Я начал письмо Раде той же ночью, как только упорядочил мысли, разложив их на буквы, слова, предложения. Определенным образом они должны были соединиться в цепочку, ставшую бы основой будущей – несомненно, свободной, прекрасной – жизни. Я верил в это, и решимость моя, питаемая свежим прохладным воздухом ночи, казалось, должна была породить нечто абсолютное, всеобъясняющее и мне, и Раде.
Но эмоции: тоска, гнев, отчаяние – не превращались в нужные, правильные слова, а шли мимо, как пенальти, вроде бы пробиваемые наверняка, но – перекладины, штанги. Я не мог нащупать основу, выделить в результате особой химической реакции ключевое зерно, которое можно было бы вырастить в древо жизни, древо свободы.
Да, именно так, натужно, пафосно, как сейчас, я писал тот текст, и ощущение было, словно проковырял в пальце дырку и через нее сцеживаешь кровь в ведро. Надо бы получить литра два, три, но выходит в лучшем случае грамм девяносто, да и то весьма сомнительного качества.
Я промаялся с посланием Раде, превратившемся в исповедь, всю ночь и на рассвете, когда прокукарекал петух, который жил у нас неприлично долго, его почему-то все не пускали на суп, уснул, повалившись на рисунки гладиаторов и листки с вариантами письма.
Проснулся я разбитый, больной от неожиданных упреков бабушки: «Сколько можно? Пора бы и по огороду помочь!» Я несмело возражал, мол, всегда готов, вы сами меня не пускали, но бабушка не слушала, была шумна, решительна и даже не предложила завтрак, сразу погнав на огород. Я долго срезал огурцы и кабачки, сваливая плоды в большие жестяные ведра. Бабушка периодически заходила с проверкой, следила, как я работаю, прикрикивая, чтобы не ломал веток, а я и, правда, двигался, аки медведь.
После меня отправили на горище – поднимать старые дедовские ватники и пальто. Они лежали в свинарнике и, хотя мы давно не держали скотину, пахли дерьмом и соломой, похожие на бесформенные туши обезглавленных монстров, и, затаскивая их наверх, я думал, что, наверное, именно так выглядят поверженные нетопыри. На пятой или шестой ходке – лестница была старая, сбитая-перебитая из принесенных с развалин автопарка досок – вспомнилась фраза, которую любил, особенно во время коллоквиумов и контрольных, повторять Квас: «Идти навстречу».
Да, я хотел бы сделать нечто подобное. Вылезти из раковины, в которую после сдачи экзаменов загнал себя сам. Странно, даже брат не появлялся, не тревожил меня – только мама и бабушка. Звуки стали тише, образы туманнее. Я не мог вспомнить, что смотрел по телевизору, что читал, что придумывал – тупое многочасовое оцепенение. Под прессом воспоминаний. Сколько их еще будет? Сколько накопится за время, что предстоит существовать? И вроде бы все нормально: ни онкологии, ни инвалидности, ни голода, ни насилия – тогда отчего так душно? Отчего живу столь бессмысленно? Отчего вновь и вновь призываю себя к порядку? Да и что такое «порядок»? Вот есть брат – у него порядок: армия, «гражданка», обыкновенные радости; все упорядоченно, все естественно, все примитивно и просто. А у меня? Что у меня?
Идти навстречу. Если есть путь, то он в той ночи, пахнущей терпкими духами. Я проснулся. И вышел навстречу, чтобы дописать свой ответ.
С оставшимися делами я разобрался быстро. Так быстро, что бабушка хвалила меня на редкость искренне. И наконец покормила яичницей, жаренной с домашним салом и ялтинским луком. Я, памятуя наставления врача, одного из тех, что обещал мою смерть к сорока годам, отнекивался, а после, все-таки покорившись бабушкиному напору, ел осторожно, по чуть-чуть, но яичница все равно сделала тяжелым, больным, и в левом боку заныла поджелудочная. Но ни она, ни горечь во рту не помешали идти навстречу.
Наверное, со стороны моя прогулка казалась бесцельной маетой, но внутри ясно присутствовало ощущение – я называл его чуйкой – неотвратимости важного события, которое вот-вот должно произойти, только делай, что должен – иди навстречу. Шагая, я словно проговаривал то, что не смог зафиксировать на листе ночью. Ходьба, лучший способ медитации, собственно, и была тем письмом. Шаги – буквы, расстояния – фразы. Я шел, позволяя мыслям самим роиться в моей голове, обрывая любые логические и причинно-следственные связи. Вновь, как и перед поступлением в Московский государственный университет, я доверился генератору случайных решений.
У автосервиса припарковался старенький «Форд Сиеста». Водитель, крепкий мужчина в оранжевых вьетнамках, открыл дверь, вылез. Из салона раздалось: «Маргарита, Маргарита, ведь ты не забыла? Маргарита, ты же помнишь, как все это было?»
И я вспомнил Маргариту Сергеевну. Ее страсть к винограду. Темные ягоды постоянно лежали в хрустальной вазочке на оцарапанном библиотечном столе. В августе и сентябре достать виноград было не проблемой – ленивые местные продавали его за бесценок перекупщикам, а более предприимчивые ездили торговать в Севастополь, Симферополь, Харьков, Днепропетровск, – но где Маргарита Сергеевна, предпочитавшая крупную несколько перезревшую «Молдову», брала любимый сорт в иное время, не знаю.
– Плодитесь коровы, ибо жизнь скоротечна, – декламировала она, отправляя виноградинки в чересчур большой, как у Стивена Тайлера, рот, – писал южноамериканский классик магического реализма, переиначивая первоисточник, в котором, помимо прочего, сказано: «Жена твоя, как лоза виноградная плодоносная…»
– Ага, – кивал я, не понимая, к чему мне знать это.
– Священный плод, подаренный нам богами. Символ плодородия, изобилия, богатства, а в христианстве – символ духовной жизни…
Тогда я слушал Маргариту Сергеевну невнимательно, между делом, листая библиотечные книги, но сейчас, идя навстречу решению, мне вдруг отчетливо вспомнились ее слова, и, видимо, не случайно.
Я свернул к виноградникам, прошел мимо тополиной рощи и бывшего винзавода, одно из помещений которого переделали под склад кормов. Здесь продавали овес, пшено, ячмень, комбикорм. Чаще всего мы приходили сюда с мамой, и я, жутко стесняясь, тащил за собой древнюю коляску с оторванными планками и расшатанными колесами. Ведь большинство приезжало на машинах; да и мы сами, когда был жив дед, поступали так же. Два беззубых татарина в замусоленных желтых комбинезонах взваливали на скрипящую тележку мешок комбикорма, и я брел назад, думая, что лучше бы пер его на себе, чем на этой древней жалкой развалине.
Сразу за винзаводом начинались виноградники, большую часть которых вырубили при Горбачеве. Дело последнего генсека завершили возвратившиеся из Турции и Узбекистана татары, уничтожавшие виноградники и захватавшие освободившуюся землю. На ней они лепили уродливые конструкции из ракушечного камня, похожие на туалетные будки, становившиеся затем полноценными домами.
Но кое-где – в основном, на склонах – виноградники уцелели. Они стояли дикие, бесхозные, никому ненужные. Изредка сюда приходили люди, собирали урожай, пуская его на вино. Но преимущественно гуляли, выпивали, курили щедро растущую в Бахчисарайском районе коноплю, пыхали клеем, бензином, ширялись.
Отец рассказывал, что в виноградниках – тех, что ближе к заброшенной конюшне, – нашли четыре трупа: «ширнулись дерьмом». «Наверное, – выпивая, размышлял отец, – цыгане дрянь продали». В то время через село и, правда, шли цыгане, стояли лагерем в пойме. Их не любили. И в итоге русские и украинцы, объединившись с татарами, разогнали табор.
Впрочем, в Магараче были и другие цыгане, но те вели себя, как считалось, пристойно и торговали у серого здания универмага дешевыми шмотками. После таких распродаж сельчане ходили в одном и том же, и я сам помню немнущиеся хлопковые штаны, похожие из-за клетчатой ткани на вафли; их носили и я, и отец, и дед.
Вдоль виноградников, разрастающихся в своем диком беспутстве, ползла земляная автомобильная дорога, и мои единственные приличные сандалии покрывались на ней желтоватой глинистой пылью. По другую же сторону расстилалась крымская степь, поросшая сизой полынью и карликовыми кустами шиповника. Дорога казалась заброшенной, но пустые бутылки уродливыми метками свидетельствовали о том, что здесь все же бывают люди.
Я свернул в виноградники, пошел между линиями посадок, образованными бетонными столбиками, некоторые из них еще хранили следы побелки. Когда-то лозы крепились к натянутым металлическим прутьям, но сейчас большинство из них проржавело, опало на землю, поросшую кусачим бурьяном, обжигающим ноги. Периодически я останавливался, расчесывал голени, делая это столь яростно, что оставались белесые следы, которые потом, спасаясь от чесотки, приходилось мазать слюной.
В виноградниках действительно валялись бутылки, окурки, пакеты, шприцы, но больше всего раздражали презервативы. Они служили напоминанием того, почему я оказался здесь. Из своей мутно-белесой латексной плоти они вопили: «Ты хуже всех этих бухарей и торчков, Бесик! Те ведь делают то, что им нравится, как им нравится, а ты – ханжа, трус, неудачник!» Я, морщась, брезгливо обходил презервативы, боясь наступить на них, но они словно визжали мне вслед:
– Неудачник…
– Смешной дурачок!
– Идиотик!
– Для чего ты здесь?
– Уходи…
И вдруг за всеми этими параноидальными голосами раздаются стоны. Виноградники прореживаются, и открывается вид на земляную площадку; наверное, про нее как про идеальное место для свиданий рассказывал брат. На ней стоит салатовая «пятерка», номер АР0315КР. Милующиеся в ней не замечают меня. Его бледность контрастирует с ее смуглостью.
Хорошо бы взять дробовик – плохо представляю себе, что это такое, но звучит красиво – и расстрелять всю обойму. И лицо будет, как у Майкла Дугласа в «С меня хватит!». Впрочем, разве там обойма? Кажется, отдельные пули; вставлять поочередно. Хотя так даже лучше: одна – в него, другая – в нее.
И чувство – виноградное, мертвое – похоже на то, что испытывал, когда она впервые садилась к нему в «пятерку». Но этот приход от увиденного сильнее: сбивает, валит на землю, молотит. Корчишься, корчишься. Hey-ho, let’s go на дно! Привет, Джоуи Рамон!
История, действительно, повторяется. Все масштабнее, все горче, все злее. Жгутовая ударная машина. Бьет, научает жизни. Смирись, покорись! Ведь ты тварь дрожащая, тварь безвольная.
3
Наверное, в том, как я отреагировал на увиденное, присутствовала некая патология. Нормальный человек – если допустить, что подобная категория все-таки существует – скорее бы испытал гнев, ревность. Но я, увидев, как брат трахает Раду – ягодичные мышцы то надуваются, то сдуваются, оставляя ямочки, которых у меня никогда не будет, не та мышечная структура, – пережив сначала отчаяние, боль, затем испытал острое чувство свободы, какое бывает, когда долго, нудно ругаешься в душной комнате, а после наконец выходишь на свежий воздух, и легкий морской бриз, приятно обдувая лицо, словно шепчет: «Все нормально, это пройдет, будь спокоен». Свобода. С примесью сексуального возбуждения.
Первый раз я видел Раду голой. Да, некоторые фрагменты ее тела представали передо мной и раньше – преимущественно, конечно, в фантазиях, в которых я был гораздо смелее, чем в жизни, – но то случалось в темноте, полной или частичной. А здесь – ясный день, не очень ясные мысли, и возможность максимально фокусироваться на колыхающейся в такт движениям брата груди с шоколадными сосками, на приоткрытом стоном возбуждения рте, на змее выбритой лобковой полоски, на крепких мускулистых ногах, рельеф мышц которых идеален, двигайся по совершенным линиям, получай удовольствие. Но теперь все это – не мне.
И все же я был не в силах, или не в праве, подсматривая за происходящим, смаковать, упиваться им. Испуг или стыдливость мешали мне. Оттого я блуждал взглядом то по виноградникам, застывшим в ожидании хозяйской руки, то по двум милующимся, распластавшимся на капоте салатовых «Жигулей».
Любовники сменят положение. Брат обопрется о капот, Рада встанет перед ним на колени. Я захочу увидеть ее лицо. Впрочем, все как обычно, ничего нового. Да, вяжущее сладострастие в лобке, жаром поднимающееся выше, но это будоражащее чувство – лишь на фоне непрекращающегося сравнительного анализа меня с братом. Я бы не смог так двигаться. Так держать ее голову. Так целовать. Так мять груди. Не мог бы стать тем, кого она представляла. И характеры, эмоции, лица в сущности не имеют значения: они только сменные картриджи в безотказном механизме плотской любви.
Брат, пойми, в виноградниках, у салатовой «пятерки», номер АР0315КР, ты больше не Виктор Шкарин, нет. Ты лишь набор функций, запрограммированных Радой. Запустила и легла, раскинув ноги. Брат, думаешь, что ведешь, управляешь, властвуешь, как ветхозаветный патриарх-осеменитель, но для Рады ты лишь иллюзия, несмотря на твердость плоти, которой ты так гордишься. Рада больше, ее чрево – смерть для тебя.
Помню, когда я пришел в библиотеку, взять «Черный обелиск» Ремарка в беспонтовой, как начали говорить тогда, коричневатой обложке, Маргарита Сергеевна, улыбаясь особенно суетно, принесла другую книгу.
– Обелиск. Что интересного? – Кажется, от нее пахло алкоголем. Она раскрыла толстенный фолиант, ткнула пальцем с белым полумесяцем французского маникюра, который так злил сельских, в мелованную страницу. – Черная Богоматерь. Куда интереснее…
На цветной картинке изображалась скульптура женщины: лицо черное властное, глаза закрыты. И мне подумалось, что, собственно, так и должна выглядеть la femme fatale, о которой только и разговоров, лакомящаяся – «сожрала Толяна» – мужиками.
Смуглость Рады еще больше роднила ее с древним культовым образом, увиденным мной в толстенной книге Маргариты Сергеевны.
Да, брат, я не должен винить тебя, наоборот – благодарить. Ты встал на мое место, освободил из плена. Рада твоя. Вся твоя. Спасибо тебе, брат, за это.
4
Неделю после увиденного в виноградниках я ходил, ел, спал, трудился с острым чувством свободы. Оно не покидало меня, когда я сносил ботву в парник. Или возил комбикорм на разбитой тележке. Или чистил курятник, отбивая засохшее говно цапкой, а под верхним, твердокаменным, слоем открывался еще один – свежий, рыхлый, пахнущий. И – как же давно не случалось подобного! – я ждал брата. По-настоящему ждал. С предвкушением, с чувством. Не так, как из армии – обреченно, покорно. И не так, как в последние недели – агрессивно, нервно. Нет, это было иное ожидание – сильное, трепетное, с верой в успех: все разрешится.
Брат появился в четверг днем. Я выкапывал оставшиеся от срезанных кукурузных стеблей початки, чтобы свалить их в кучу и сжечь, а золу пустить на удобрение. Но лопата затупилась – после смерти деда точить инструмент стало некому – и не входила в закостеневшую от крымской духоты и жары землю. Я вставал одной ногой, приподнимал вторую, надавливая всем весом, и так подкапывал кукурузные початки, из-за обилия мелких ветвящихся корней напоминавших мультяшных пришельцев.
– Здорово, Бессонов! – Я затряс руку в ответ так бодро, что он удивился. – Хорошее настроение?
– Да, Витя, – улыбнулся я, отставляя лопату. – Лето же!
– Так ты, ученик, – он достал пачку синего «Честера», закурил, – разобрался с учебой?
– Да, все посдавал.
– И как?
– Порядок. – Я не хотел говорить об экзаменах, поступлениях, оценках.
– Ну а чего не проставился? – ухмыльнулся брат. Я растерялся: и, правда, чего?
– Так надо, да, но…
– Беги за бутылкой, Бесидзе! – засмеялся он и, похоже, увидев, что я действительно сорвался, охладил. – Да ладно, шучу…
– А, – выдохнул я. Хотелось сказать важное, сокровенное, дабы установить то, что принято называть братскими отношениями. Но, несмотря на острое чувство свободы, привычная душевная немота все еще оставалась со мной.
– Но отметить-то, брательник, надо! Сечешь?
– Секу.
– Ну так чего откладывать? Давай завтра вечером – на дэнсняк!
Я согласно кивнул. И тут же скуксился. Брат понял причину.
– Не ссы, Аркаша, победа будет наша. С тетей Машей я поговорю. Пустит!
– Да я…
– Завтра идем!
– Идем.
Я подумал, что именно такое – предположительно хмельное, разбитное – времяпровождение и может объединить нас.
– Только ничего, если я с бабой? – Странно, что он вообще об этом спрашивал. Тем более, с виноватой, как мне показалось, миной.
– Ничего, конечно.
– Ну лады, – сплюнул он, – это, в общем, Рада, ну ты помнишь. Она, кстати, про тебя спрашивала…
Скажи он эту фразу две, три недели назад, и я бы напрягся, может быть, даже вспыхнул, но сейчас она звучала обыденно, просто и даже как-то радостно, точно брат сообщал о том, что сделает нечто важное за меня, и сделает хорошо, качественно. Я улыбнулся:
– Помню, конечно…
5
На дискотеку мама, действительно, отпустила меня без проблем; выходит, и на нее распространяется влияние брата.
Собираюсь тщательно, по-девичьи придирчиво. Как на ту первую встречу в «Старом замке». И думаю, что, возможно, Рада, увидев меня, решит, будто все эти приготовления для нее. Или не будто? Да и как она сама вырядится? То, что эффектно – оно понятно, но какова будет степень эффектности?
Надеваю черные джинсы, черную футболку – скрыть недостатки фигуры. И бледно-розовые туфли. Мою радость и гордость. Не знаю, что заставило маму купить их у цыган на распродаже. Может быть, цена. Качества они паршивого, а мама всегда обращает внимание только на качество; «эта вещь надежная, качественная». Угадывает с размером, но не с привлекательностью. Туфли – исключение: модные, заметные, яркие.
Несколько раз прохожусь в них перед зеркалами трюмо. И – редкость – нравлюсь себе. А, может быть, и смотрящим с наклеек трансформерам. Хорошо бы спросить кого-нибудь о своем внешнем виде, удостовериться, но где найти ответчиков? Один раз – в восьмом классе – я задал подобный вопрос однокласснице Анне Козловой, специально позвонив ей. Она несколько раз уточнила, чего я хочу, и коротко, не по делу ответила. На следующий день весь класс хохотал и дразнил меня «красавчиком», а Козлова делала это громче, злее всех.
Отражению в зеркале не хватает лишь одного – адекватной прически. Поэкспериментировав, останавливаюсь на варианте с зализанными, как у повзрослевшего Макколея Калкина, волосами.
Готово! Пора и на выход.
Салатовая «пятерка» тормозит у ворот, которые я все никак – «сколько можно валандаться?» – не покрашу. Брат появляется довольный, курящий, в обтягивающей белой майке. Мама с бабушкой, несмотря на то, что отпустили легко, караульными выстраиваются у машины, сопровождая отъезд волнительным инструктажем – что делать нужно и что делать нельзя, и все больше кажется, будто иду не на дискотеку, а на воскресную службу, и девочки все в платочках, и мальчики богобоязненные, и благоухает ладаном.
– Осторожнее будьте!
– Никуда не лезьте!
Мама с бабушкой стоят возле ворот, точно на войну провожая.
– Конечно, тетя Маша!
– И смотри, Витя, Аркадия от себя не отпускай!
«Мама, разница в возрасте между мной и братом – два года. Для чего ты вот так – тяжелой артиллерией по самооценке? Понятно, что любишь, но большая любовь вредна. Не веришь? Посмотри на меня, мама».
И все-таки мы уезжаем. Наконец-то. Брат курит в окно, а я, откинувшись, смотрю на дорогу.
– Ну тетя Маша пиндец шухерная.
– Есть немного. Дай сигарету.
– А ты куришь? Кури.
Брат знает, что я курю, но каждый раз, когда речь заходит об этом, он слегка удивляется, то ли издеваясь, то ли действительно забывая.
– Сейчас Раду на кольце подхватим и в клуб!
Это его «клуб» забавляет, потому что в лучшем случае нам достанется удушливая, блевотная дискотека с разбавленным пивом, ацетоновой водкой и быдловатыми охранниками. Контингент посетителей будет под стать: табуны гопников с «розочками», не подаренными дамам сердца, и отары писюх, бухенвальдно-дистрофичных или угревато-сальных, с животами, переваливающимися – ну, для чего этот костюм под Жанну Фриске? – через ремни. Всем этим прогорклым бедламом станет заправлять балоболистый пройдоха, по закону пародийно-капиталистического времени называющийся диджеем. «Можно заказать песенку?» – «Да, какую?» – “Pretty fly for a white guy”. Или “It’s my life”. Или «Мужики не танцуют». «Да идите вы на хуй с вашим однообразным выбором!» – подумает диджей, но в микрофон скажет: «А эта композиция звучит специально для…»
Вот и я говорю:
– А что за клуб?
– «Экстази». В Табачном.
И название какое придумали. Может, даже наркоту завезли. Что-то кроме баклофена, трамадола и феназепама из соседних аптек.
– Ты там был?
– Нет, откуда?
– Там заебись! Времени у нас, правда, мало…
Мне так не кажется.
– Быть к трем вечера, не позже! – отчеканила мама, и я ошалел от столь позднего срока. Вот она – свобода!
– Будем, тетя Маша! – кивал Виктор. – Вы не переживайте, все в порядке!
– Да я за него, – мама тыкнула в меня пальцем, – переживаю, неприученный ведь…
И так плохо, и этак. Когда всем нам, Бессоновым, хорошо станет?
Рада стоит на кольце, у стилизованной мельницы ресторана «Альминская битва». Короткая черная юбка, декольте сиреневой блузы, алые губы – полная боеготовность. Эту созревшую девушку, в отличие от героини песни Земфиры, ждут многие. Но не я. Потому что мое тело в другом событийно-возрастном измерении. Я змея, спрятавшаяся под камень.
– Привет, милый!
По привычке хочу отозваться, но вовремя соображаю, что это не мне. Рада садится в машину, наполняя салон запахом, который будил ночью, заставлял терзаться, надеяться, лютовать.
– Привет, киска!
Обращение – то, что надо: пошлое и смешное. Нет, я ее так не называл. И не буду.
– Привет, Адик! – Улыбка у нее виноватая и в то же время отсутствующая.
– Здравствуй, Рада!
Мое «здравствуй», наверное, выглядит слишком чинно, официозно, и я тут же хочу исправиться, но Рада опережает меня:
– Представляете, вчера мама поехала в Бахчисарай менять доллары, и ей всунули фальшивые сотки?
Кстати, брат, не хочешь знать, откуда у ее мамаши «зеленые»? Я-то знаю – видел. Курва, мать ее так. И в данном случае это не присказка.
– Как фальшивые?
– Вот так! Она поменяла не в шестиграннике, а по дороге, у какого-то парня.
– На улице?
– На улице.
– Еб твою мать, – записывайся в очередь, брат, – кто ж так делает? Надо в пунктах менять, а не у кидал…
«Пятерка» набирает скорость. Их разговор тоже. Я, пересев на заднее сиденье, молчу. Созерцаю. Подобными словами, обозначающим мифические высокопарные действия, я обычно успокаиваюсь, когда чувствую себя лишним. Не можешь быть одним из них, сделай вид, что ты лучше. У меня получается слабо.
– Бесошвили, чего увял?
– Да, Адик, что-то ты замолчал…
Рада поворачивается, смотрит на меня. Наши взгляды – что там должно высечься: разряд молнии, искры огня? – пересекаются. Ее – равнодушный, спокойный, мой – воспаленный, болезненный (и никакое острое чувство свободы его не исправит). Кажется, отведи я взгляд, и это будет слабостью, трусостью, доказательством бездарных танцев на месте – «не научился смотреть в глаза, не стал мужчиной», – потому я пялюсь на Раду так, что роль юного Ганнибала Лектора мне обеспечена.
– Все нормально, Адик?
Что за новая привычка – называть меня «Адик»? Будто подчеркивая вечное состояние ребенка, у которого нет шансов стать взрослым. Если Гитлера называли именно так, то неудивительно, откуда эта его ненависть к людям.
– Просто… не выспался.
– Сейчас музычку врубим – и порядок.
Брат ставит кассету в магнитолу. Под «Утекай» выезжаем на центральную площадь Табачного. На сером постаменте стоит темно-красный бюст Ленина. То ли корректировка времени, то ли издевка архитектора, но лоб у Ильича непомерно большой, выпуклый, как у олигофрена. Пять букв на постаменте стерлись, вместо них белой краской нарисовано сердце. Памятник окружен так называемыми зелеными насаждениями в виде нечесаных лампочек пыльных кустов. По периметру площади липнут друг к другу здания сельсовета, «Ощадбанка», магазинов «Белла», «Алсу», «Южная ночь».
Выгружаемся из машины. Витя открывает багажник, достает литровую баклажку «Арсенал крепкое». Свинчивает крышку. Пьет большими глотками.
– Фу! Это пойло обязательно? – морщится Рада.
– Дай мне! – Отчего-то я хочу сделать ей неприятно.
Пиво горькое, с привкусом этилового спирта. Пить мерзко, но меня не оторвать.
– Э, полегче, Бесштейн, – останавливает брат, – нам еще заправляться. А у меня, – он лезет в багажник, откидывает клетчатый синий плед, – всего две бутылки.
Рядом с баклажками «Арсенала» замечаю биту. Точнее, это не бита в классическом понимании, какая продается, например, в севастопольском магазине спорттоваров на набережной Корнилова, а скорее ее уродливое подобие.
– Что это?
– А, это, – брат гладит биту, – чтобы всякая хуетень не лезла.
– Витя! – одергивает его Рада.
– Ну и татар перевоспитывать…
Судя по тому, как реагирует на фразу Рада, она и, правда, ничего общего с крымскими татарами, с которыми все чаще обещает разобраться брат (он то ли собирается, то ли уже записался в русскую боевую дружину), не имеет.
– Может, уже пойдем, а?
Двумя глотками брат допивает пиво, швыряет пустую бутылку в кусты. Идем к ночному клубу «Экстази», мерцающему тошнотворной зеленой вывеской. У входа – два охранника в черных футболках, но у одного – поло, а у второго – стандартная, без воротничка. Вход – пятнадцать гривен. Судя по цене, и, правда, клуб. Брат отсчитывает девять синих купюр с изображением Богдана Хмельницкого.
Первое, что вижу, зайдя в «Экстази» – объявление: «Уважаемые посетители! Вывод нетрезвых людей осуществляется вооруженной охраной». Слово «вооруженной» выделено жирными красными буквами. Но, в целом, обстановка приличная как для гопотеки с таким названием – пластик столов, дым сигарет, судороги танцев. Огнестрелов нет, и слава богу. Но Раде не до восторгов.
– Фу, Витя, куда ты нас притащил? – перекрикивает задорный голос, по-пионерски рапортующий, что солнышко в руках, а венок из звезд – в облаках.
– Да все нормально, – но брат – такое бывает? – похоже, и сам смущен.
Появляется официантка. Рыжие волосы на темечке собраны в антенну аля Жанна Агузарова, так плотно, что, кажется, сделай девица неосторожное движение и кожа порвется.
– Заказано, – говорит брат, и я едва не выдаю: «Даже так?»
Поводырем в наползающей дымовой завесе официантка ведет нас к темному столику. На нем белым треугольником лежит салфетка, всего одна, но очень гордая, очень нужная.
– Принесите, пожалуйста, салфетки. – Официантка кивает, и выражение ее лица такое, словно только что она продала дом, а вырученные деньги оказались фальшивыми. Уходит. – Ну и… местечко.
Рада морщится, делая мне приятно от того, что ей неприятно.
– Да что не так?
– Все не так!
Официантка приносит салфетки.
– Что будете пить? Может быть, желаете кушать?
– Дайте подумать, – говорит Рада, но официантка, не обращая внимания, тараторит:
– Пиво «Черниговское» – 7 гривен, «Оболонь» – 8 гривен, чипсы, орешки – 5 гривен, сухарики – 3 гривны…
Данные из гастрологического ада можно перечислять долго – тем более, что официантка, кажется, получает от этого удовольствие, скатываясь в бездну вкусов сухариков: с дымком, с хреном, с томатами, с аджикой и шашлыком, с беконом, с сыром и семгой – но Рада грубо прерывает ее:
– Помолчите!
Официантка затихает, но не уходит, хотя, наверное, ей надо быть шустрой, обслуживать как можно больше клиентов. Рада цокает – мол, что за дура – делает заказ. Виктор добавляет к нему два бокала «Черниговского». Хочет водки, но Рада одергивает – ты за рулем. Официантка уточняет:
– Может, к пиву сухарики?
– Давайте уже ваши сухарики!
– У нас есть с… – официантка, рискуя быть задушенной, вновь хочет повторить вкусы.
– Без разницы с чем! Идите уже!
Я хочу возразить против «Черниговского», которым только накипь в чайнике снимать, но, глядя на возбужденного брата, измученную официантку, надменную Раду, предпочитаю смолчать.
Песня о солнышке заканчивается. Из динамика слышится бодрый в своей отрепетированной наглости голос:
– А сейчас специально по заявочке Шевкета для Ирочки звучит композиция в исполнении группы “Scorpions” – “Still loving you”.
– О, моя любимая песня, – улыбается Рада, и брат тащит ее танцевать.
Что это? Издевка? Ирония судьбы? Злобное дежавю? Или на вывеске написано «Старый замок», и на самом деле я сижу на встрече одногруппников? Невольно прокручиваю гипотетический – пригласи она меня, а не брата – танец с Радой. На этот раз я бы… впрочем, никого нет – смысл врать?
Официантка приносит заказ. Выставляет на стол два стеклянных – уровень, чего уж там! – бокала с «Черниговским», порезанные неровными дольками лимоны и апельсины, бокал «Бастардо» (название произносит так, что думается не о вине, а об альбоме “The Exploited”), мороженое. Оно тает в креманке двумя шарами. Но и с такими Рада справится. Ей не впервой.
Начинается еще один медляк. «Люби меня, люби» «Отпетых мошенников». Аморалов – красавец, Гарик и Том-Хаос – нищеброды, так говорили в школе. Но теперь все – не скажут. Потому что школа закончилась. Дзинь-дзинь последним звонком. Перестала существовать, умерла. И одноклассники с учителями тоже остались в прошлом. И тоже по-своему умерли.
Вот и люди в «Экстази» танцуют, выпивают, целуются, перекусывают, лезут в разборки, лезут под юбки, но что бы они ни делали – только изображают жизнь. Наверное, они могли бы провести вечер толковее: воспитывая детей, сажая деревья, готовя борщ, убирая мусор, создавая шедевр, спасая планету – но, в сущности, это вопрос оценки, вопрос сравнения, и, возможно, обнажение филейных частей на танцполе ничуть не бесполезнее рождения и воспитания двух, трех, четырех прекрасных детей. Ибо, как писал старый мудрый еврей, все тлен. Хотя, кто знает, попади он в «Экстази», усядься за пластиковый стол с черными родинками затушенных сигарет, может быть, сразу бы понял, что все стенания и философствования во дворце среди наложниц – следствие излишек жира. «Все суета сует и всяческая суета, но даже суета бывает та или не та».
Впрочем, в изображении жизни есть своя прелесть: оно вытесняет мысли о смерти, закрывает их, как повязка, под которой гниет рана. Болит, кровоточит, усугубляется, но зато окружающим не видно. И почти у каждого – повязка, так что ничего особенного, странного, примечательного.
Наверное, Рада с Виктором понимают это. Оттанцевавшие под «Люби меня, люби», нацеловавшиеся под “Don’t speak”. Издевательская подборка. Диджей ненавидит меня.
– О, Бесовский, да ты все пиво вылакал! – смеясь, возвращается брат.
– А где, – не могу вслух называть ее по имени, – подруга?
– В туалете, – брат откидывается на спинку, закуривает. – Ты это, скажи, в поряде, что я с ней? По чесноку только!
Хочу ответить так, чтобы не было и тени, и капли, и шороха, и привкуса, и мелька сомнения:
– Слышишь!
– Подышишь! Ты базарь, как есть, Бесогон, не цеди!
– Все нормально, – чокаюсь о его бокал, чтобы не говорить, но он неумолим:
– Вижу, смурной, потухший. Ты маякуй, если чо – решим.
Он подмигивает. И я вспоминаю фразу, брошенную им у серого здания универмага: «Если она тебе нужна – забирай». Подарок твари дрожащей, твари безвольной. «Решим» – из той же барско-холопской серии. Нет, спасибо, достаточно.
– Все… нормально, да.
– Ну, смотри.
– Я, – встаю из-за стола, пошатываясь, – выйду… в туалет… мне надо, да…
Пропихиваюсь к выходу. Кучерявая девушка в белом просвечивающемся платье с закатившимися то ли от таблеток, то ли от алкоголя зрачками пытается обнять меня, лезет к ширинке. Физическое, до судорог отвращение. Перед глазами кадр: Миледи, соблазняющая д’Артаньяна. В школе это казалось сексуальным. А теперь неприятно. И, глядя на кучерявую девушку, вспоминаю распаренного от жары и алкоголя татарина, прицепившегося ко мне в полупустом катере:
– Знаешь, почему мы вас, выродков русских, уничтожим, и резать не надо?
– Не знаю, – отвечал я, прикидывая, что делать, если полезет в драку.
– Наши женщины, как ваши русские бляди, на обочинах не стоят…
Татарин сплевывал на металлический пол катера, растирал пенящуюся харчу по швам сварки, поправлял массивные часы на запястье. И не трогал меня. Просто говорил, надрезая: крестиками, ноликами, зигзагами, полумесяцами – как душе маньяка угодно.
А я, наплевав на патриотизм, соглашался. То ли из-за боязни схлопотать в щи, то ли вспоминая слова Виктора:
– Пиздец, бляди наши за чипсы и пиво татарам отсасывают!
Брат продолжал возмущаться дальше, но я отключился, остановившись на «за чипсы и пиво», расстроенный тем, что в таких историях обходятся без конкретики. Где искать, к кому обращаться, сколько пива и чипсов выставлять.
– Прошмандовочные!
Брат и сам пользовал сельских дурех, но, видимо, злился от того, что они связались не только с ним, но и с татарами.
– Это кто?
– Да никишинская сеструха – блядь! За полем, у школы ебалась. Там, где хуй этот торчит…
Под «хуем» брат подразумевал громоотвод на крыше каштановского Дома быта, превратившегося в полузаброшенное здание с кощунственной в своей бесполезности вывеской «Фотография» и фотографом, рыжим дурачком, слушающим «Кровосток» и приторговывающим бахчисарайской «травкой».
Я думал о никишинской сестре, представляя ее в голубом платье – собственно, только в нем я ее и видел, и то это было всего один раз, – сидящей на школьном стуле, чуть раздвинувшей смуглые ножки, а перед ней – пиво и чипсы. Пиво – «Крым», а чипсы – любые. И поза, выражение лица, глаз, пространство между смуглыми ножками притягивали, несмотря на отвращение к чипсам.
Мама не разрешала мне есть их, но однажды принесла четыре или пять упаковок. Выдала одну, со вкусом бекона, а остальные спрятала. Но я нашел тайник и съел все. А после, казалось, блевал, отрыгивал, пах, добавками Е-951, Е-471, регуляторами кислотности, глутаматом натрия.
Никишинская сестра была из той же, чипсовой, серии – привлекательна лишь на расстоянии, в фантазиях. В реальности же, при близком контакте, она пугала, отвращала, до тошноты. Как и эта кучерявая девушка с закатившимися глазами. Как, наверное, и все девушки для меня в принципе.
Выйти на свежий воздух. Кислород опьяняет, притупляет страх. Тем и спастись. В этот странный вечер, когда зарубцевавшиеся раны вновь начали кровоточить.
6
Ночь – густая, маслянистая, жирная, как чернозем, – навалилась, укрыла деревню, и жизнь остановилась, законсервировалась до рассвета. Шагни в темноту – пропадешь, сгинешь. Есть лишь один хорошо освещенный участок, справа от «Экстази». В нем стоит крупный парень. Он кажется мне знакомым. Делаю пару шагов навстречу и узнаю татарского борова с Петиной вечеринки. Он одет в просторную футболку цвета винных дрожжей.
В сарае, в темном углу, дед поставил двадцатилитровые бутыли, в которых бродила срезанная в сентябре «Молдова». Бабушка ворчала, мол, для чего они, а отец, заглядывая, прикидывал, получится ли доброе вино или нет. В январе дед сливал перебродившую жидкость в новую, пустую, бутыль, а в старой оставался винный осадок – дрожжи и камень. Его вываливали на парник, и яркими пурпурными пятнами он покрывал блеклый мусор. Футболка борова такого же насыщенного винного цвета.
Рядом с боровом, за прямоугольником света, стоит Рада. Руки ее сложены на груди, лица не разглядеть. Общаясь с ней, боров много, размашисто жестикулирует.
– Бесогон, ты чо обиделся?
За мной вышел брат. С каких пор его интересует мое психологическое состояние? Впрочем, не лучшее время думать об этом. Надо увести его, чтобы не увидел борова и Раду. Или наоборот – рассказать? Но пока я решаю, как обычно натужно, долго, Виктор прослеживает мой взгляд.
– Эй, какого хуя?
Идет к ним. По обыкновению хвостиком тянусь следом.
– Что за хуйня?
– Витя!
– Это что за пацан?
– Ты про меня, блять?
– Видишь еще кого-то? – Боров словно не замечает меня. Темные волосы гелем зализаны назад, жирное лицо кажется еще шире; дотронься – и пойдет ходуном, влево-вправо, как студенистый маятник.
– На хуя тебе знать?
– Ты чо самый умный?
– Хули ручонки к ней тянешь?
– А хули ты вообще здесь оказался? Ты ничо не попутал, не?
– Я-то нет, а вот ты, кажись, да.
Они говорят быстро, резко, грубо, не разобрать, где чья реплика – единый фронт оскорблений. Будто в Верховной Раде.
– Так, мальчики, успокойтесь! – вмешивается Рада. Наконец-то.
– Это кто вообще, киска?
– Киска? Какого хуя?
– Так, тихо! – вскрикивает Рада. И даже музыка, доносящаяся из «Экстази», умолкает. – Это Зенур, мой знакомый.
– Знакомый? – Боров сплевывает. – Я твой парень!
– Бывший парень.
– Парень? – брат, похоже, начинает веселиться от происходящего.
– Я же говорю – бывший парень.
– Насколько бывший?
– Насовсем.
– Неделю назад был с тобой.
– Что?! – Рада разворачивается к борову. – Что ты сказал?!
– Да так…
Но брату, кажется, все равно. Потому что так, может быть, даже лучше. Есть повод – разобраться с ней, с ним. А мне дать попользовать.
– Ты, еблан, за базар отвечай!
– Ты лучше свой борзометр контролируй!
– Попизди у меня еще тут!
И брат делает то, ради чего вступился – коротко, без замаха бьет борова по лицу. Удар приходится в щеку. Боров отмахивается.
– Эй, вы что тут устроили?!
Из «Экстази» вываливается, подбегает охранник – тот, что в футболке с воротничком.
– Зенур, что тут такое? – Знает борова, это нам в минус.
– Да дикие гастролеры рамсят.
– Сейчас еще по ебалу схлопочешь!
– Так, тихо, парень! – Охранник встает между Витей и боровом. – Разбираться будете в другом месте! Здесь разборки нам не нужны!
– Ну, давай, отойдем – побазарим, – вдруг ухмыляется боров.
– Да не хуй делать. – Брат едва ли не пританцовывает в ожидании драки.
– Вдвоем покумекаем.
Зенур говорит уверенно, с сальной ухмылочкой, будто не получал по лицу.
– Мы отойдем на секундочку.
– Нет, Виктор, не надо! – Рада хватает брата за руку.
– Да чего ты?
– Зассал, бля?
– Что, сука? – Брат отдергивает руку. – А ну пошли, блядь, баклан!
Останавливается, кидает Раде ключи от «пятерки»:
– На, держи!
Толкает борова. Тот лишь ухмыляется. Они выходят из прямоугольника света, идут в сторону не по-крымски густых высоких сосен. Рада дышит – за меня бы она так не переживала – волнительно, тяжело. Грудь, подчеркнутая декольте сиреневой – под цвет футболки борова, хоть сейчас в пару – блузы, вздымается и опускается. Видна лишь ее часть, обнаженная, смуглая, которую мять, целовать, кусать хочется, но и этого достаточно, чтобы домыслить, дофантазировать остальное. Тем более, что Рада, стонущая под братом на капоте салатовой «пятерки», до сих пор перед глазами, и шоколадные соски аккуратны, точно знаки отличия.
Мы остались вдвоем – охранник в футболке с воротничком не в счет, он декорация, – и я понимаю, что, натаскивая себя, лукавил, когда благодарил Виктора за уведенную Раду. Глупые мыслишки о Черной Богоматери, истерия воспаленного сознания лечатся быстро – видом соблазнительной женской груди.
И к страху, вызванному разборкой с боровом (Как его? Зенур? Что за мудацкое имя? Или имя нормальное, просто сам он мудак?), примешивается сексуальное возбуждение. Оно тянет низ живота, как напряженные, загруженные однообразной работой мышцы. И хочется, наплевав на брата, повернуть Раду к себе, по-вампирски, до окровавленных губ, впиться в них поцелуем, мять грудь по кругу, вверх-вниз, подступаясь к соскам, чтобы оттягивать, сосать их, наливаясь истомой, как тогда, в кухне, при чтении забытой отцом «Интересной» газеты, блок B – вот оно подлинное возвращение в детство, к материнской груди, прыжок во времени, такой, что Марти и доктор Браун нервно курят в сторонке – а после задрать, грубо, резко, черную юбку, войти в Раду, двигаться так, чтобы книжное «пронзать лоно» не казалось пародийным, нелепым, а выглядело самым точным, самым верным описанием на планете, где люди только и делают, что занимаются тем, чего я так боялся. И это леденящее выкручивание яиц, испытываемое мной бонусом к панике, зарождается в мошонке потому, что имеет сексуальную природу. Эротика и насилие – две спевшихся суки, прирожденные убийцы, не поссорить, не расцепить.
– Ну что? – Рада смотрит на меня, требуя решения, а, значит, и принятия за него ответственности. Охранник уходит в «Экстази», напоследок хмыкнув так, будто одним звуком собрался растоптать и без того издыхающую самооценку. – Что будем делать?
– Я думаю, – и в лучшем бы состоянии не ответил на ее вопрос, а тут еще накатившее сексуальное возбуждение, эрегирующее даже волоски на коже, – будем ждать.
– Ждать? Надо помочь!
А вы помогли мне, когда я кричал внутренним Джоном: “Help me if you can, I’m feeling down?” Или наблюдали за страданиями со стороны? Но дело не в мести, нет – впрочем, секундную озлобленность, больше походящую на оплошность, и местью-то не назовешь, – просто ты не к тому обратилась, Рада. Вспомни апрельский вечер, памятник гвардейцам. Еще будут вопросы?
– Они ушли говорить вдвоем. Он сказал нам ждать здесь. Если мы пойдем туда, это будет… не по-пацански.
Наверное, мое последнее слово звучит комично. Потому что вербалика должна органично подчеркиваться невербаликой, а не как у меня – разброд и шатание.
– А это, – охранник заразил Раду вирусом презрительности, – по-пацански?
Что предлагаешь, Рада? Биться за брата? Да и кто ты вообще? Девушка, которая бросила меня и ушла к брату? Ладно, спишем на «и горче смерти женщина». Тем более, что в итоге я поступлю так, как ты хочешь, утешая себя нафталиновыми разговорами о чести и справедливости, о взаимовыручке и порядочности. И все же, Рада, не считай меня дурачком: я ведь знаю, добродетель не актуальна. Ее злоключения не прекращаются, а испытания, случающиеся с ней, несмотря на все оправдания очищением через страдания, бесполезны и от того еще более жестоки. Те, кто следует добродетели, заранее проиграли. Привитые ею – точно сброшенные с обрыва.
Будь я умнее, адаптированнее, то и разговаривать бы не стал. Обошелся бы без дискуссий. Но мне с детства внушили, что я должен быть хорошим, жить по Божьей правде. Вот только никто не объяснял, что, собственно, есть эта Божья правда. Когда я допытывался, меня отправляли то к одному, то к другому источнику. «Новый завет», «Луг духовный», «Закон Божий» – прочти. Иоанн Златоуст, Григорий Богослов, Иоанн Кронштадтский, Феофан Затворник – пойми. Но слова оставались только словами, ничего конкретного, практического, животворного.
Поэтому, Рада, что ответить тебе? “Losing my religion, trying to keep up with you”. Не знаю, слышала ли ты эту песню, но поступаешь со мной точь-в-точь, как пел задумчивый лысый дядька.
– Он просил не вмешиваться.
Кого я убеждаю? Ее? Себя?
– Неужели ты и, правда, такой, а? – Рада морщится. – Он там не один! Как ты не понимаешь?
– Что я не понимаю?
– Я же знаю Зенура, – у Пети дома, Рада, ты говорила другое, – он позвал дружков. Вите надо помочь!
Это приглашение на боевой гопак. И крутые парни все-таки должны танцевать. Да и не крутые тоже.
– Да иди ты уже!
Столько эмоций! Еще немного, и Рада вытянет руки, как Маргарита Терехова перед казнью в «Трех мушкетерах».
Импульс разворачивает меня в сторону сосен. Выводит на протоптанную дорожку, присыпанную влажной хвоей. Готов идти на помощь брату, – где же мой черный плащ? – но одергивает крик:
– Стой!
Скажи что-нибудь витальное, ободряющее, а лучше обними, Рада!
– Подожди! Стой здесь! Я сейчас!
Ожидание – в усилиях не растерять решимость. Словно порванный пакет с яблоками на руках несу. Рада возвращается с битой из багажника «пятерки».
– На, держи!
– Зачем?
– Пригодится.
Вздрагиваю. Если и, правда, пригодится, значит, все будет серьезно, по-взрослому. И, несмотря на то что биту принес я, использовать ее станут против меня. Потому что воин из меня плохенький. Так, мясо для тренировок.
– Возьми, говорю!
Автоматически сцепляю на бите пальцы. Дерево шлифовано не идеально: заноза впивается в подушечку указательного пальца. Вспоминаю сцену на «Ракушке», когда брата прессовали трое, а он лишь смеялся. Обнадеживает. Рядом с таким, если он за тебя, не страшно.
– Я с тобой!
Пробует вернуть биту, но не отдаю. Не определить, чего боюсь сильнее: того, что Рада может пострадать, или того, чтобы не опозориться при ней в драке.
– Будь здесь! Не суйся!
И быстро, дабы не сообразила, не отошла от мужского, которое при должных факторах всегда подчиняет женщину, бегу в сосны. Ускоряюсь, не оборачиваюсь. Ведь и не глядя ясно, что недвижный кто-то людей считает в тишине.
7
Сосны в посадке для чего-то помечены одной, двумя, тремя чертами, нанесенными белой краской. Смысл обозначений мне не ясен. Да и в темноте, в которую редкой дымкой пробивается лунный свет, толком не рассмотреть. Дорожка одна, не собьешься.
Темп, взятый мной после перебранки с Радой, замедлился, и я ступаю осторожно, нехотя, думая то ли вернуться, то ли переждать. Страха драки нет. Иду без мыслей, эмоций, образов. Чистый, пустой я. И на это выбеленное полотно нервными мазками ложится ночь, что подмяла, сделала безмолвной, управляемой частью себя.
Левая нога вдруг попадает на что-то скользкое, едет. Потеряв равновесие, падаю. Лежалая хвоя смягчает удар, но рогом торчащий камень попадает в копчик. Вскрикиваю от боли. Матерясь, перекатываюсь на бок, потирая ушибленное место.
Сосновые стволы, уходящие вверх ногами огромных молчаливых существ, грозят затоптать, раздавить. В пространствах между ними клочьями, словно натянутое для сушки белье, повисла тьма. И, кажется, из-под земли слышится могучее, пыхтящее дыхание, выносящее на поверхность запах прели, хвои, перегноя. Из сосен доносятся шуршание, писк, шипение и даже гуканье.
Что со мной? Откуда все это? Какое гуканье здесь, в крымском селе, в сотнях метров от клуба с дурацким названием «Экстази»? Встряхиваю головой, избавляясь от наваждения. Поднимаюсь. И на влажном ковре хвои замечаю кровь. Сначала думаю, что это моя – от удара. Ощупываю голову, поясницу, но, присмотревшись, вижу, что это не просто пятно, а нечто похожее на окровавленную тушку.
Курица со свернутой головой, с выпотрошенным нутром. Точно ее убили прямо здесь. Но не для того, чтобы разделать, ощипать, пустить на еду – нет, а просто так, без веской причины, без практической пользы. Ради удовольствия. Или в приступе гнева.
Наваждение, страх, испытанные мной после падения, возвращаются. Звуки вновь крадутся в уши, лезут по слуховым проходам, стучатся в барабанные перепонки. Один, в темноте, среди будто оживших сосен. И убитая курица под ногами.
Мне и самому приходилось убивать несушек. Хорошо, что не бройлерных кур, потому что с ними – крупными, сильными – я бы не справился.
Курицы – существа беспокойные. Дерутся не часто, но видимость создают регулярно, опрокидывая кастрюли с водой и кормушки. Нужно периодически заходить, ставить обратно. Пальцы измазываются жидким дерьмом, и вонь от него крадется к ноздрям. Летом понос у кур случается чаще. Зимой говно кристаллизуется, превращается в корочку, а в жару, не застывая, смердит, пачкается.
К чистке курятника привыкаешь быстро. Выгоняешь птиц на огород, но так, чтобы не клевали огурцы, помидоры, перец, берешь цапку и соскребаешь с земли засохший слой, спрыснутый свежими выделениями, ощетинившийся застрявшими перьями и соломой, под ним открывается другой – не засохший. Впрочем, курятник – не свинарник, от вони которого не отмыться, сколько ни выливай на себя мыла, шампуней. Так что терпимо.
Пока был жив дед, куриц убивал он. А затем пришлось мне. И в то лето убивать особенно много. Потому что ни комбикорма, ни денег на покупку зерна не было, и бабушка решила бить кур. Мама тогда заболела. Лежала в комнате, у киота, с четками в руках, хрипя и сморкаясь. Температура, испарина, взгляд помутненный. Помогать бабушке должен был я.
Сама она бить кур не могла. Топор не держался в ее шишковатых, скрюченных пальцах, и, попробовав, бабушка рассекла себе руку. Я, державший курицу, выпустил крылья, и птица с пробитой, сломанной шеей побежала к своим, шарахавшимся от нее.
– Хопай, хопай! – закричала бабушка.
Но я застыл, отключился. Она крикнула что-то еще. Потом схватила лежащую на парнике тряпку, зажала рану и бросилась за курицей. Та завалилась у виноградника, окруженная кошками. Шея свернута набок, кровоточит. Бабушка схватила птицу за лапы, поволокла обратно к пню:
– Держи!
Я, давя тошноту, ухватил курицу за лапу – она бы, конечно, вырвалась, если бы не пробитая шея, – бабушка несколько раз ударила топором. Куриная голова отделилась, заливая пень кровью, уже темной. Осталось лишь тонкое волокно; я потянул, и оно оборвалось.
Бабушка привалилась к деревянной стене сарая. Глаза закрыты, грудь ходуном.
В такие моменты я жалел, что родился мужчиной. Стандартное «мужик в доме» звучало издевкой. Ведь этот мужик, особенно деревенский, не мог быть трусливым, малахольным – решительный, хозяйственный малый, вот каким он должен был быть. А я не был.
Но рубить куриные шеи все равно мне. Брать птицу под крылья, ощущая щетину розового брюха. Нести к пню. Держа за крыло и лапу, прижимать голову к дереву. И перерубать шею одним ударом. Одним!
А я, терзаемый не страхом даже, а отвращением, нервничал так, что бил несколько раз. Агонизируя, мучаясь, курица оставалась жива. Харкала, дергала ногами, обагряя кровью пень, топор, землю, меня. Из перебитой шеи торчали наружу сухожилия, позвонки. Как провода из развороченной коробки электропитания. Только живые.
Брошенная в ведро – у нас было черное капроновое на двадцать литров – обезглавленная курица дергалась еще несколько минут. Гремя, билась о стенки.
И когда я, выдохнув, старался унять пульсацию в висках, в мечтах о натопленной бане, радуясь, что наконец отложил топор в сторону, бабушка говорила:
– Вода вскипела – неси сюда.
Я покорно шел в кухню, брал с газовой плиты алюминиевую кастрюлю, в которой булькала вода, и, зажав ручки полотенцами, тащил ее на улицу. Осторожно, как ценность, не разлить, не обжечься.
– Лей в ведро! – командовала бабушка.
Приоткрыв крышку, я наливал кипяток в капроновое ведро с затихшей курицей. И поднимался запах. Из тех, что не забываются. Из тех, что можно лишь попробовать описать словами: едкий, сладковато-затхлый, похожий на тот, что издает брошенная на горячую батарею ни разу не стиранная половая тряпка.
Бабушка общипывала ошпаренную плоть ловко, быстро. Раз перышко, два, три – в пакет. Я же, давя отвращение, тянул перья медленно, вяло, и так же вяло, медленно оно ползло вслед за моим усилием, натягивая розовую куриную кожу. Старался работать быстрее, ловчее, но запах нейтрализовал любые мои попытки. Бабушка злилась, прикрикивала:
– Ходи отсюда!
В такие моменты, но в других ситуациях, я, как правило, раздражался и назло утраивал усилия – доказать, переубедить, что могу, что способен. С курицей же прощался радостно, быстро. Отходил в сторону, стоял, прислонившись к летнему столику, над которым висели половники, дуршлаги, тряпки.
– Мух пугай!
– Газ зажигай!
Бабушка командовала отрывисто, успевая общипывать курицу и отгонять кошек. Наглее их была только рыжеватая курица, накидывающаяся на убитого сородича прямо в ведре, не боясь меня, бабушки. Я бежал на кухню, стягивал крышку, прикрывающую одну из газовых конфорок, и, крутанув липкую от приставшего жира ручку, подносил зажженную спичку. Газ вырывался наружу и поднимался вверх желто-синим пламенем, точно сигнализируя о начале нового, еще более отвратительного, этапа разборок с птицей.
Бабушка приносила курицу, тушка жутко напоминала обезглавленного грудничка. Держа за желтые когтистые лапы, подносила к пламени.
– Вот так смали, – демонстрировала она, – а я другую щипать буду…
Я перехватывал курицу. Смалил.
– Переворачивай! Спалишь!
Злилась бабушка, и я судорожно вертел тушку с ощущением, что еще чуть-чуть – и лапы отвалятся.
– Да не так быстро! Волоски обсмаль!
– Иди, бабушка, щипай! Справлюсь!
Бабушка вздыхала, но уходила, шаркая стоптанными тапочками. А я оставался тщательно обсмаливать волоски, оставшиеся после щипания. Умеренно, чтобы не опалить, чтобы не обнажить бледно-розовое мясо под слезшей пупырчатой кожей.
Неудобнее всего – из-за обилия волосков, торчащих трещоткой, и конституции куриной тушки – было обсмаливать жопу. Приходилось насаживать ей птицу на пламя, держа под основание крыльев. Теплая, будто живая плоть, создающая навязчивую аллюзию на младенца, казалось, вот-вот брыкнется, вырвется и ринется прочь. Я никак не мог привыкнуть к этому чувству и, чтобы отвлечься, мысленно, а порой вслух, перебирал составы московского «Спартака» и киевского «Динамо».
– Обсмалил? Да кто же так смалит?
Бабушка возвращалась, забирала курицу, доделывала работу. Мне оставались лапы, их, отрезав, смалили отдельно. Желтые хрящи становились черными, и утолщения на стопах превращались в корку, которая пахла копченостями из мясных рядов. Ее срезали, скармливали кошкам и курицам, вертевшимся поблизости. Четыре острых треугольных когтя тоже срезали, но выкидывали в парник. Куриные лапы напоминали морщинистые руки молодящихся городских старух, блестящие из-за втертых кремов.
После мы потрошили тушки, вытягивали кишки и прятали разделанные куры в морозильник.
Возможно, сегодня мне придется вспомнить опыт убийства куриц. И отвращение от воспоминаний прошлого, от зрелища настоящего толкает вперед, прочь от окровавленной тушки. Туда, где дышащий сыростью бор заканчивается, переходя в редкие, как бороденка у малолетнего фаната “Metallica”, сосны. За ними открывается небольшая равнина. Небо, беззвездное, черное, пытающееся затянуть луну, все же дымится бледным светом. И в нем, как впаянное, светлеет озеро.
На его берегу схватились трое: двое – на одного. На брата. Бросаются, как псы, только вместо клыков, лап – доски. Брат отбивается ногами, попадает одному в живот – страшный, кислорода лишающий удар, – но боров, подобравшись сзади, валит Витю на землю.
Вновь слышу гуканье, и вдруг явственно кажется, что передо мной не озеро и не осокой поросший берег, а море, обрыв, блестящий в лунном свете полынью, и на борове не винного, а черного цвета футболка с пляшущими словами «Гражданская оборона». И мистический звук исходит из обелиска гвардейцам, который и не обелиск вовсе, а древняя пирамида, спрятавшаяся – или спрятанная – на дне озера.
Я по-прежнему там. Не вернулся. Не было никакого бегства. И того, что происходило с Радой, тоже не было. Потому она, вооружив битой, и отправила меня за Виктором. Довершить начатое.
Но пока я размышляю, мистифицирую, лежащего брата избивают досками. Он не сопротивляется. Отключился.
И я, минутами ранее готовый действовать, потухаю. Потому что надежды мои были на Виктора. А теперь он на земле, и боров со своим дружком может забить его до смерти. Так бывает. Дима Воронов – в Береговом; Коля Стариков, Витя Ларин – в Магараче; Леша Мороз – в Каштанах. Сколько их было? Погибших зазря. Собрался, надушился, оделся, сунул презерватив в кошелек – и на дискотеку. А там – не тот шаг, не то слово, и вот уже – выйдем, поговорим. Кто-то не рассчитал, ударил сильнее обычного, а другой ел мало творога, рыбы, череп слабый, и – все: опознание проведено успешно. Или неуспешно. Глупая, бездарная смерть.
Но за них, стариковых и вороновых, я не переживал; не знал обстоятельств. А за Виктора переживать буду. И не только потому, что брат, а прежде всего потому, что здесь я наблюдатель и вся эта история – как в наглядном пособии. Картинки из него воспоминаниями застучатся в будущее, вежливо, но настойчиво, точно «Свидетели Иеговы». Возьмите, пожалуйста, наши брошюрки, почитайте. Да, это вы на картинках. Наблюдающий, как убивают вашего брата. Простите, что вы сказали?
Я, помнящий глобус, летящий на Ксению Левенталь, оскорбление бабушки Макаронины, крик Рады у памятника гвардейцам – что будет со мной, когда увижу, как убивают брата?
Мелко, подло, трусливо так размышлять, но иначе не получается. Я должен хотя бы изображать, имитировать помощь. Может, тогда, со временем, истинные мотивы забудутся, а образ меня, спасающего брата, останется. Я размножу его и буду демонстрировать для самоуспокоения вновь и вновь.
Иначе – брат не поднимется, не придет, не ухмыльнется, не исковеркает мою фамилию. Перестанет существовать. С ним погибнет и часть меня. Под рыдания Ольги Филаретовны, бабушки, мамы. Окончательная деструкция. Еще не осознаю ее, но уже подбираюсь.
Хотя, Господи, какие тут могут быть имитации? Картинки? Ведь живой человек! Брат! А я – со своими мелочными, подлыми оправданиями – ничтожество!
Ярость, обида на ущербную сущность своей натуры застилает трусливый страх и, заставляя крепче сжимать биту, гонит к дерущимся. Хочу кричать, вопить – для устрашения их, для воодушевления себя, – но обхожусь без клича. Стесняюсь. Боюсь выглядеть нелепо, комично. Боюсь даже сейчас. Оттого бегу молча, как идиотик, наклеенный на полотно мира.
Но это мое дурацкое стеснение помогает. Двое, увлеченные избиением брата, не замечают меня, и я приближаюсь к ним, не готовым к сопротивлению. На расстоянии нескольких метров вспыхивает сопляческая мысль: «Как я ударю? Куда ударю? Ведь это человек! Человек!» И тут же – поездом, мчащим на встречу: «Должен ударить, должен ударить! Бей!»
Бью, толком не попадая. Трусость, замаскированная под гуманизм, ослабляет удар, и он выходит не концентрированным, смазанным.
Боров разворачивается ко мне первым. Удивленный, непонимающий. Секунду назад он контролировал происходящее, а тут – агрессивный придурок с битой. Метя в голову, стараюсь максимально вложиться в удар, но уже на замахе понимаю, что надо было бить без амплитуды, коротким, резким тычком. Боров, несмотря на габариты, легко уворачивается. А второй, крашенный в блондина татарин – давно не модный вельветовый костюм, длинные горилльи руки, сросшиеся брови, перекошенный, точно сшитый, рот – сотрясает мою челюсть. Вот уж, действительно, velvet underground. Удар – точно фура въехала. И следом – еще одна.
Падаю на влажный песок, пристающий к джинсам, футболке. Все – геройство закончилось. Так же бесславно, как и началось. Я в привычном положении, на нулевом уровне. В опасной близости от предков, упакованных в транспортировочные контейнеры фирмы «Харон». Дергающиеся ноги, тяжелое дыхание, лунный свет – все смешивается в одно, суетливое, болезненное, меня разрывающее. Но прежнего страха, подбиравшегося маньяком с удавкой, нет. Он остался там – в ожидании, в предвкушении беды, которую неизменно, день за днем, пророчили мне бабушка с мамой. Случилось. Вы довольны?
Я ведь думал, что брат притащил меня на озеро, что Рада спровоцировала драку, но корень не в них – во мне. Это я приволок с собой мешок бед, черный шлейф несчастий, который виден издалека. Похоже, за это меня и накажут.
Но боли, ударов нет. Отнимаю руки от головы, которую так закрывал от ударов. Ощущаю сырость песка, пахнущего болотной тиной. Вижу подсвеченную лунным светом пластиковую бутылку из-под «Крымской» минералки. Слышу крик брата:
– Что, сука, выблядок, пидор татарский, думал все, на хуй, все?
– Аааа! – орут ему в ответ.
По-прежнему наблюдаю ограниченную по высоте картинку, но и без визуальной свободы ясно: ветер переменился, и теперь он будет добрым, ласковым для нас с братом. А для татар станет уничтожающим, кровопускающим, недобрые вести несущим.
– На, сука ебучая! Получай, блядь!
Брат однообразен, скуп на слова. И в то же время емок. Как герой Виктора Сухорукова, чеканящий: «Вы у меня, суки, еще за Севастополь ответите!» И пусть там – бандеровцы, а здесь – татары, но посыл тот же. Люди будут мстить, убивать друг друга. Словно у них нет иных развлечений.
– Аджы! Аджы! – стонет боров.
– Блядь! – взвизгивает татарин в вельветовом костюме.
Но брат не прекращает раздавать удары. Так косматый поп на Пасху кропил прихожан, выстраивавшихся у храма в Береговом, под который оборудовали бывшую ремонтную мастерскую, установив на шиферной крыше крест, развесив внутри иконы. Большинство приходило с колбасой, сыром, водкой, салом. А у нас в корзинке были только соль, куличи, яйца. Так правильно, объясняла мама, но я все равно очень стеснялся, переживал, что решат, будто мы, Бессоновы-Шкарины, совсем бедные.
На брате нет креста, рясы, но из доски, которую он отобрал у татар, торчит гвоздь, так что, может быть, действо, совершаемое Виктором, еще глубже, сакральнее; ведь в нем присутствует кровь, много крови. Гвоздь – не уверен, что в нем девять дюймов, но происходящее идеально подходит для клипа Трента Резнора – входит в еще недавно торжествовавших, упивавшихся безнаказанностью татар.
– Ааааааааа! – особенно надрывно кричит один из них.
Так, что мне хочется его пожалеть. Видимо, отчаянный крик действует и на брата: на мгновение Виктор застывает. И этого достаточно, чтобы татарин в вельветовом костюме перекатился по озерному песку к камышам, вскочил и бросился прочь. Может, и правда, не преувеличивал Рустем Решатович, когда говорил о ста двадцати из ста тридцати двух коушских татар, дезертировавших из Красной армии?
– Алим! – ошалев, кричит ему вслед боров.
Он на земле. Припечатываемый ударами палки, из которой торчит гвоздь. Как же быстро все переменилось! И первые стали последними. Происходящее, еще недавно казавшееся адом, превращается – ведь бьют уже не меня – в нечто похожее на просмотр боевичка: «Резня в Табачном» или «Татарская кровь» – над названием еще нужно подумать. И актер подходящий – подкачанный русский парень, вернувшийся из армии, чтобы навести порядок в родном селе, а может, и во всем Крыму. Да, это будет покруче «Бригады».
Студеной бодростью наливается тело. Вскакиваю, чтобы мстить. За ложь Рады. За пробитую голову рыжего парня у Пети дома. За унижение меня. Мстить с позиции силы. Так легко, так приятно. Это ведь чисто мужское, да? Охотник, самец с высоким потенциалом агрессии. Надо соответствовать внушаемому образу. Я ведь нормальный пацан. Не Саша Белый, но, как вариант, Пчела. Или Пчела в итоге оказался мудаком? Не знаю, не смотрел «Бригаду». Мой удел – «Беверли Хиллз 90210». Интереснее, человечнее, а главное – больше похоже на рай.
И, глядя, как брат возвышается над поверженным татарским боровом, я думаю, что дело не в Шкариных или Бессоновых, армии или «гражданке», физике или лирике, а в том, какие сериалы, фильмы мы обожали. Дело в одном нажатии кнопки, остановить которое невозможно.
Подбираюсь к тому, чтобы стать похожим на брата. Модель «Виктор Алексеевич Шкарин 13-09-83» идет в серийное производство. Будь им, стань им! Ударь! Шепчет голос, доносящийся откуда-то слева. Интересно, как выглядит его обладательница? Как Элизабет Херли в «Ослепленном желаниями»? Тогда у нее есть шансы.
Или я подхожу, чтобы остановить Виктора? Выкинуть палку, увести его домой? Прекратить избиение? Помочь татарскому борову?
Я и сам не знаю. Планирование – доставшаяся мне от древнего грека пята с болезненной сухой мозолью. Он плохо кончил, да и я не счастливчик.
Но брат наконец откидывает палку с торчащим гвоздем. Тяжело дыша, опирается ладонями о бедра. Разбитые губы опухли, глаз затекает гематомой, из левой брови сочится кровь.
– Татарские долбоебы, блядь!
Он сплевывает. И в этот момент свернувшийся эмбрионом боров взвизгивает, точно оправдывая данную мной кличку, и бьет брата. Виктор вскрикивает, хватается за ногу, валится назад.
– Бляяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяяядь!
Голова борова окровавлена. Зализанные волосы растрепались, повисли слипшимися локонами. В его руке нож. Боров хочет подняться, добить.
С опозданием опускаю биту на его большую липкую голову. Боров разжимает пальцы и в мгновение обмякает, будто выключатель нажали.
Луна становится ярче, полнее. Смотри, торжествуй, герой. Или – плачь, паникуй, жертва. Луне ведь без разницы, хотя и мне теперь тоже.
8
Брат поднимается, зажав рану рукой, не переставая говорить «сукаблядь», в одно слово. То ли мне, то ли борову. Наверное, борову, потому что, ковыляя, Виктор подходит к нему, бьет ногой в шею. Боров, кажется, дергает рукой, точно Кит Ричардс, кайфующий от игры на гитаре. Слава богу, живой, спасибо! Открываю рот, дабы остановить брата, но он опережает меня и бьет еще раз. Вырывается запоздалый, отставший от группы атаки крик:
– Тормози, Витя!
Но брат, видимо, и сам все понимает. Как-то сразу, в миг становится ясно. Озарение, просветление – и тут же мрак.
– Мне хуево…
Брат говорит это непривычно тихо, рассеянно. Боюсь подойти к нему, боюсь притронуться, одно касание – и проклятие настигнет тебя. Рана Виктора кровоточит.
– Надо перевязать – оторви кусок футболки.
Думаю, о чьей футболке он говорит, но рву свою.
– Пидор татарский, блядь!
Брат перевязывает рану. Когда он финальным движением затягивает узел, окончательно понимаю, что случилось у озера. Изображение фокусируется. Картинка четкая, ясная, без помех. Паники нет. Пока что нет. Она расчищает место для торжественного своего появления, наваливаясь покорностью и оцепенением.
– Блядь, кажется, мы его захуярили, Бес! Ебать, блядь! – Брат, склонившись, осматривает татарского борова.
– Но…
– На хуй ты его со всей дури?
Брат говорит это напористо, борзо, как само собой разумеющееся, и начинаю верить, что я, действительно, убийца. Еще полчаса, час и вера моя станет окончательной, бесповоротной, приговаривающей.
Пахнет хвоей и тиной. Кровь на голове татарского борова. Господи, да какой он боров? Человек! Его зовут Зенур. Жаль, что не Лазарь.
Наверное, когда его найдут, кровь, запекшись, утратит красный оттенок, а вот футболка по-прежнему будет цвета винных дрожжей. И, глядя на нее, я хочу убедить себя, что передо мной все же не человек, а дрожжевое пятно, и я не у озера в Табачном, а дома, у парника, в безопасности.
– Сука, блядь!
Нет, сука не здесь. Она – там, у дискотеки. Дышит воздухом, отдыхает. Пока самцы убивают друг друга. Оказывается, это легче, чем зарезать курицу. Достаточно простой случайности.
– Нужно сбросить его в озеро!
Телевидение и кино делают из нас преступников. Лицо брата уже не бледно, не рассеяно – прищур такой, как обычно, ни миллиметра в плюс, ни миллиметра в минус. Да, Виктор Шкарин решителен, убедителен, но его слова для меня – пустышки, как флаера, которые раздавала у «Макдональдса» девушка с щечками, похожими на половинки яблока: взял, посмотрел, выкинул.
А вот крик души, совести на манер тех, что издают безумцы, юродивые, «мы пролили кровь» реален. Оглушительными ударами он рихтует черепную коробку, чтобы, достав мозг, вставить на его место новый – еще более мощный – генератор вины. Мучайся, тварь! И если захочешь смерти как искупления, то она ничего не изменит: слишком ты разбух от обиды и страха – не пролезть в игольное ушко. Поэтому для тебя – деревенская закоптелая банька и по всем углам пауки. Попробуй отмыться.
Бежать от нее! Прочь, прочь!
– Эй, Аркадий, ты куда?
Не оборачиваться, не возвращаться! Я должен учиться этому. Надо, надо утешить внутреннего ребенка в себе. И повзрослеть.

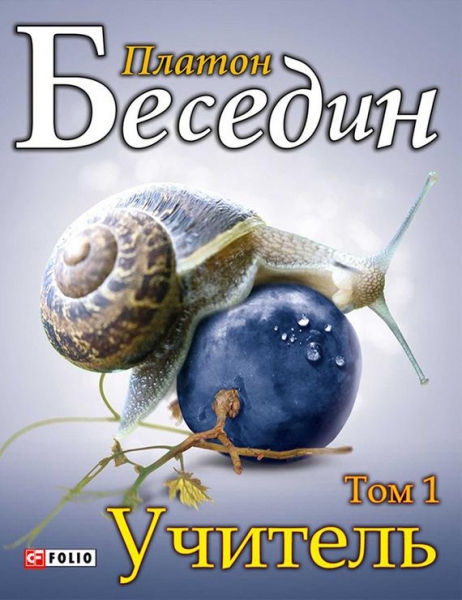

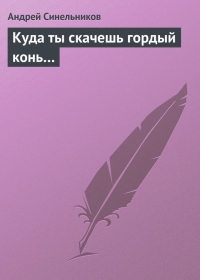
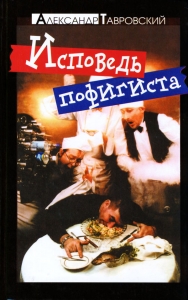


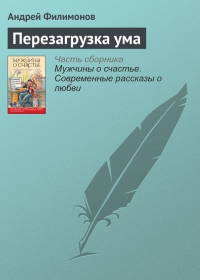




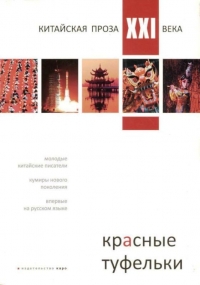
Комментарии к книге «Учитель. Том 1. Роман перемен», Платон Беседин
Всего 0 комментариев