Мёртвое море памяти Елена Кузьмичёва
© Елена Кузьмичёва, 2015
© Максим Кузнецов, дизайн обложки, 2015
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Пролог
Снаружи занимается лиловый рассвет, готовый взлететь над горизонтом и смелыми лучами заструиться – сквозь окна, занавеси – в спящие дома. Обхватив руками колени, я сижу на широком подоконнике в комнате с белыми обоями и измеряю глазами толщину оконных стекол, между которыми лежит мёртвая бабочка, сложив за спиной потрепанные, полупрозрачные светлые крылья. Уже вторую ночь я не могу заснуть, но мне радостно смотреть на этот, ещё безлюдный, ветреный двор, предрассветную уличную тишь. На первые отсветы прохладного осеннего солнца над красной охрой кирпичных домов, где сейчас неохотно открываются чьи-то сонные глаза, готовясь изжить ещё один день и отбросить его прочь, ещё раз променяв его на следующий. В комнате колышутся батистовые шторы. Внутри меня бархатный покой.
Я должен закончить начатое. Я буду писать, как раньше, простым карандашом – как пишут обо всем сомнительном – чтобы всегда был шанс стереть всё и начать заново. И может быть, будет не так пусто вокруг меня, если однажды я буду держать в руках свою наполовину выдуманную жизнь. Она будет существовать за пределами меня.
Она будет существовать.
Страница 1 Исчезновение
Глухой треск старых часов, охрипших от времени, заполнял пустоту гостиной. Стены оглушительно струились вниз шалым потоком осколков и пепельной пыли. Секунды и доли секунд, не отложенные впрок, роняли тяжелые камни на останки снов и планов на завтра.
Не замечая у себя за спиной взметнувшегося пыльного тумана, на вокзале появился человек, разделивший свою жизнь на страницы. Его карманные часы хранили свои стрелки за прозрачным циферблатом из толстого стекла, а стрелки хранили своё время, застыв между двух секунд, отмеченных чёрными прочерками.
Приехав туда задолго до прибытия поезда, он едва успел к его отправлению, потому что его глаза вечно смотрели внутрь, даже если были широко раскрыты, – он хотел разглядеть на дне себя ядро жизни, агонию лавы в бурлящем кратере вулкана. Взлетая на гребне волны провожающих, – не его провожающих, – он запрыгнул в вагон и исчез из вида, как исчезает в ночи погасший фонарь или корабль уплывает вдаль, плавно минуя черту горизонта.
Этим человеком был я. Меня зовут Альберт – хотя это не совсем правда – меня так никто не зовет, – я сам придумал себе это имя. То, что дали мне родители, я не принимал с детства, оно казалось мне чересчур грубым, прямолинейным, посредственным. Я редко отзывался, когда меня звали, и уже тогда давал себе новые имена. Родители думали, что я привыкну, но этого не случилось: привыкли все, кроме меня. Поэтому я зову себя Альберт. Своё посредственное имя я оставил другим людям – почти всем, с кем был знаком.
Железнодорожный билет согревал мне ладони предчувствием дальних дорог, я внимательно вглядывался в цифры. Содрогался, думая о том, сколько лет, месяцев, дней и часов прожил здесь, среди невозмутимого порядка улиц, сходящихся в одну точку на центральной площади города, – как легко, стремительно я теряю целые года.
Мне хотелось остановить временной поток усилием мысли. Уверенным актом воли навсегда забыть о часах, и погрузиться в дивную, безвременную жизнь. Когда в моем присутствии называли время или дату, навязчивая мысль о собственном исчезновении прожигала дыру в сознании. Незадолго до выхода из дома я собрал в большой черный пакет стальные панцири часов, ледяные от неприкосновенности будильники, бумажные дни календарей, и почувствовал, как спадает с жизни тяжелый груз, когда сбросил их с балкона. Я оставил себе только карманные часы, из которых вынул батарейку. Стрелки остекленели, замерли, – с тех пор они показывают одно и то же время. 9.28. В эту минуту остановилась моя жизнь, я выпал из реальности, возрос до бесконечности, пожелав новых горизонтов.
Дата отправления: 19 ноября 2011 года.
Время отправления: 22.45.
Больше всего на свете я бы хотел, чтобы это была последняя дата в моей жизни. Меньше всего на свете я в это верил.
Одно я знал точно. Сегодня вечером я сяду в поезд и с первым рывком вагонного состава оставлю свою жизнь позади под невнятные разговоры засыпающих пассажиров. Найдется ещё много людей, которые в этот вечер придут на вокзал. Они протянут проводнику такой же железнодорожный билет, рассядутся по вагонам, – поезда готовы принять каждого, – и, прикорнув на твердых полках, задремлют в ожидании своей станции. Они спешат в пункт назначения, и потому знают, куда направятся, очутившись в километрах от дома, сколько времени будут длить поездку, кого навестят по пути. Ничего этого я не знал: с немой яростью стихийного порыва я спешил в путь. Мне было безразлично, что будет дальше. Внезапным откровением родилась мысль, что я буду чувствовать себя счастливым только между «там» и «здесь», в бездонном пространстве расстояния от одного решения до другого, в промежутке между двумя смыслами. Нет ничего бесценней, чем путь, который люди хотят скорее преодолеть, – я хотел длить его до бесконечности, раствориться в километрах.
Уже давно я боролся со жгучим желанием сесть в самый пустой вагон случайного поезда и ехать прочь, дальше, быстрее всех встречных ветров. Я мечтал уехать в то время, когда на улице будет моросить вялый осенний дождь, чтобы по внешней стороне оконного стекла стекали торопливые капли, чтобы выходя на коротких станциях, ощущать, как влажный воздух освежает лицо. Чтобы больше никогда не быть «там», чтобы никогда больше не быть «здесь». Чтобы больше никогда не знать людей, которые врывались в мою жизнь зудящим, инородным потоком тел, неосмысленным молчанием и разбитыми стеклами. Я хотел выдумать себе другой маршрут. Неважно, где будет пролегать мой путь, лишь бы на полметра выше, чем их опущенные вниз головы, их головы, вбирающие в себя всё внешнее безнадежно слепыми ко всему прочему глазами. Да, тогда я презирал людей, я хотел извлечь себя из их поля зрения, чтобы они не рассматривали, как я одет, чтобы не рассуждали о том, насколько аккуратно выбрит мой подбородок, не скользили по коже внимательными, цепкими до изъянов глазами. Когда-то я был слишком откровенен с теми, кого считал близкими. Но с должным ли тщанием я выбирал себе близких? Не слишком ли быстро сокращал расстояния? Я был легкомыслен, беспечно даря себя непонимающим. Теперь я решил хранить себя в себе, как морскую глубь, как драгоценную тайну – как тысячу тайн – чтобы они взвились каменной высью между мной и другими, я решил длить молчание и километры, чтобы выросла до неба глухая, непробиваемая стена.
Я долго боролся с желанием сбежать, но однажды я устал бороться с собой. Я хотел остаться один, чтобы никто не стучал в мою дверь, не переминался у порога с ноги на ногу, ожидая – напрасно ожидая – разрешения войти. Я любил лес, где между верхушками деревьев небо находило для себя серую фигуру с рваными краями, и оставалось в её пределах, скрывающих бесконечность. Я любил дождь за пустоту улиц и за спокойное потрескивание проводов. Я сбежал. И остался один – за чертой памяти. На краю света. На краю жизни.
Страница 2 Разбитые стекла
Казалось бы, совсем недавно календарь кричал мне о том, что было 8 ноября. Тогда я проснулся раньше, чем прозвенел будильник, и сразу отключил его, стараясь уберечь от резких звуков чувствительный утренний слух. Моя пожилая соседка уже оглушительно слушала выпуск новостей, где быстрый женский голос торопливо втискивал слова в минуты. Я не разбирал этих слов: в новостях всегда рассказывают об одном и том же.
Было 7:38 по моим часам, в тот день ещё не отвергнутым, которые безумно спешили, словно предчувствуя свою скорую смерть. За окном повисло блеклое, молочно-пасмурное небо, воздух был тяжелым и теплым. Я накинул халат и вышел на балкон, ожидая грозовых туч на горизонте. В раскрытом окне ветер раскачивал полупрозрачную вуаль занавесок медлительными, плавными волнами. Я поджег сигарету, глубоко вдохнул дым и взглянул сверху на людей, которые всегда казались мне опаздывающими. На лице у меня была улыбка человека, проснувшегося впервые за много дней в мирном настроении, снисходительном к насущным проблемам, непредвзятом к жизни. Однако эта эмоция была обречена.
Утреннее затишье оборвалось нервным звуком бьющегося стекла. В доме напротив на балконе стоял человек. Я разглядел тусклую седину его волос и синюю рубашку, которая распахнулась, обнажая грудь. Он разбивал руками стекла и что-то громко и неразборчиво кричал. Я слепо наблюдал за ним в припадке бессильного предчувствия. Мне представились его кровоточащие пальцы, не понимающие боли. Когда все стекла были разбиты, он перевалился через подоконник и выпал из окна.
Мой взгляд застыл в точке соприкосновения тела с асфальтом, я чувствовал, как напряженно замерли мышцы рук, выронивших сигарету и вцепившихся в деревянный брус балконной рамы. Мне казалось, что он падал бесконечно, хотя на самом деле не прошло и секунды, как он ударился об асфальт и застыл в искривленной смертью позе. В припадке бессилия я смотрел вниз. Было 7:40, когда кто-то спасительно позвонил в мою дверь. Не внимая дверному звонку, я бросился к кровати. Руки ощупали складки одеяла и, отыскав телефон, набрали номер скорой помощи. Но помощь не понадобилась.
Чуть позже, в очереди продуктового магазина, я непреднамеренно подслушал разговор двух сплетниц, живших по соседству. Одна из них доставала из корзинки бисквиты, другая держала толстыми руками, крепко прижав к животу, коробку молока. Из её возбужденной, захлебывающейся речи я узнал, что мужчина жил один. Его жена умерла ещё год назад, но он до сих пор не мог поверить в её смерть. Я сразу вспомнил, что часто видел их на улице, пьяных и одетых как попало, видел ту же клетчатую рубашку, небрежно оголявшую грудь. Они всюду были вместе. Она умерла в грязной, всеми забытой комнате, под умоляющим, блестящим, пьяным взглядом мужа, а он стал пить ещё больше. Чтобы помнить ещё меньше. Дочь хладнокровно запирала его на ключ, чтобы он не мог ходить в магазин за портвейном. В день разбитых стекол он звал свою жену по имени, и крик его с молчаливым соучастием, с ленивым бездействием слушали все соседи. Потом он упал на асфальт, так и не узнав о смерти своей жены. Я не знал, была ли это история любви или алкоголизма. Я не знал. Мне хотелось думать, что это была любовь, и я поверил в это.
День был зачеркнут траекторией полета. Из дома я так и не вышел. До вечера я лежал на диване и смотрел на пустое небо, которое измерял проёмом окна, на полупрозрачные занавески, которые колыхались и колыхались, как тихие и неизбежные волны. Пейзаж за окном плавно перетекал в другие, вечерние картины. Стремительно сгущалась темнота. Сначала ещё виднелись тёмные силуэты зданий на фоне холодного сапфирового неба, но потом и они исчезли. Осталось только чёрное небо, чёрный город и оранжевый свет фонарей, окон, мигающих светофоров.
Я смотрел на мерцающее полотно города сквозь оконное стекло. Сквозь стекло я смотрел на всё, наблюдая задумчивые глаза друзей, чужие лица, вызывающие чувство брезгливости, злые глаза, смотрящие в сторону, чужие поступки, свои ошибки. В стекле отражалась обстановка комнаты, – весь мир был покрыт снегом моих иллюзий. Скорректированные памятью воспоминания о прошлом, выдуманные картины благополучного будущего, в которое я не верил, распростертое передо мной жалкое и пустое настоящее.
Я берег свой стеклянный мир, хотя и понимал, что это нечестно – жить в замкнутом пространстве себя, когда другие живут в обыкновенном, бесцветном – предметном – мире.
Это не могло продолжаться бесконечно.
Стекло разбилось.
Тот мужчина, прежде чем спрыгнуть с балкона, разбивал руками стекла. Я не смог уберечь хрупкие стены, которые возвел вокруг себя. Стекло растрескалось и разлетелось, как замерзшие брызги воды. Было больно, но я выдержал. Мужчина упал на асфальт. Я остался стоять на балконе.
С тех пор мир стал бесцветным и для меня. Серые лица. Серое небо. Чёрные складки на серой одежде. Белое солнце. Серый дождь. Серые движения и чёрные взгляды исподлобья. На асфальте лежал серый труп. Из разбитого черепа вытекала чёрная кровь. Я мыл свои чёрные руки под холодной белой водой, но они не становились от этого даже на полтона белее. Белые часы отсчитывали чёрные секунды.
Есть люди, которые живут настоящим, воображая каждое мимолетное мгновение единственным. Они счастливы каждой секунде, потому что думают, что кроме этой неповторимой секунды у них ничего нет, – они так бедны, обладая лишь одним мгновением, хотя порой я не могу удержаться от зависти к ним. Я отвратительно богат, храня в своём сундуке целые годы. Прошлое падало на мою непокрытую голову тяжелым, почти свинцовым снегом, который кроме холода вовсе ничего не приносил. Каждая секунда уносила с собой часть меня. Каждый час приближал меня к смерти. Каждый вечер я ложился спать с сознанием того, что многое потерял. По крайней мере, один день своей жизни. Я потерял столько минут, часов и лет, что пора было что-то приобрести. Но время приобрести нельзя. Оно утекает минутами сквозь пальцы, словами сквозь губы. Бороться с ним всё равно, что бороться с ветром. Но я решил попробовать. Невесомые секунды были слишком тяжелы для меня, а жить только в одной из них я не умел. Тогда я впервые решил остановить время. Хотя бы в своих часах. Этим вечером я вынул из них батарейку. А следующим утром купил свой первый билет в бегство. На здании вокзала проступали серые вертикальные подтеки дождя.
Страница 3 Шахматист
– Ну что, сыграем? – услышал я вслед за коротким гулким стуком в металлическую дверь. На пороге стоял сосед с третьего этажа, приятный старичок с белоснежной сединой, редеющей на висках. Можно было признать в нём шахматиста, лишь мельком глянув на клетчатый жилет, застегнутый на все пуговицы, глянцевую оправу прямоугольных очков, узловатые пальцы аккуратных, всегда чистых рук, экономию движений, паузы стратегических раздумий в разговоре.
Последнее время мы встречались каждый день, разыгрывая по одной партии. Меня успокаивала его рассудительная седина, придававшая иллюзию логики моей собственной жизни. Его же просто развлекала моя легкомысленная молодость, чуждая шахматному расчету. Его обезоруживали мои хаотичные блуждания сквозь ряды и диагонали квадратов, которые внезапно складывались в шах и мат, рожденный сплавом восхитительных случайностей.
Но сегодня я не хотел играть. Мимо сознания прошли все первые ходы, которые механически исполняла правая рука. Мы почти никогда не разговаривали, отыграв партию, он вставал и выходил в раскрытую мною дверь, произнося «До свидания». Иногда это было «Прекрасно сегодня играли». На вопрос «как дела?» он всегда отвечал «хорошо». У него всегда всё было хорошо, а я всё же каждый раз спрашивал, в глубине души надеясь, что однажды он выразится иначе. Но сегодня я не спросил. В меня проник туман оцепенения, вязкая апатия, которые не давали хаосу восторжествовать над стратегией в пределах шахматной доски. Лениво переведя взгляд от ладьи к ферзю, я признался, что не могу играть и опрокинул короля. Не сказав ни слова, старик вышел, неуютно пошаркивая домашними тапками. «До встречи» – на всякий случай произнес я, не двигаясь с места. Он захлопнул дверь.
Сжав руками ручки кресла, я сказал себе, что больше не стану играть в шахматы. Зачем мне шахматы? Всё, что осталось мне от некогда бесценной жизни, потерянной между прошлым и настоящим, обернулось ласкающей пустотой и заполнило невидимым морем пространство между полом и потолком. Зябким утром, спускаясь с кровати, я осторожно прикоснулся к пустоте, боясь беззвучного плеска её холодных волн. Шевеля замерзшими пальцами, я хотел добраться до окна до тех пор, пока серые кулисы туч не заслонят собой небо, но не успел, и потому вернулся в кровать и накрыл себя белым одеялом, как погребальным саваном.
Пустота подкралась к изголовью и просила меня лишь открыть глаза. Открыть для того, чтобы признать её существование. Чтобы окинуть усталым взглядом просторы своей жизни, сквозь голубизну неба проникнуть в чёрные высоты космоса, и сказать себе: «Да, здесь совершенно пусто».
Я упрямо не открывал глаза и думал о том, как ещё недавно им был открыт смысл каждой секунды, ещё недавно руки не пытались отчаянно схватиться за воздух, распуская лепестки пальцев и увядая, бессильно падая поверх белой простыни, столь похожей на саван. Совсем недавно мои руки были теплыми, а теперь они лишь мёртвые цветы, которые спустя несколько часов или дней станут ещё на пол тона белее и на несколько градусов холоднее. Спустя несколько часов или дней пустота сделает медленный и тяжелый вдох, опустившись рядом со мной на край кровати, и я начну исчезать. Я не знаю, когда это произойдет, но что произойдет – знаю точно.
Я буду пропадать в Ничто не спеша, как самый длинный и бесподобный реквием музыканта, имени которого никто так никогда и не узнал. Первыми сойдут на нет ледяные кончики пальцев, затем кисти рук и предплечья. Закрытые веки скроют собой исчезновение глаз. Я исчезну подобно всем мечтам, которые не умели сбываться и лежали, как траурные венки, на могилах чьих-то надежд. Я исчезну, как исчезают из памяти сны, едва успеешь встать с постели, как исчезают с плеч чьи-то теплые руки. Я исчезну, как исчезают слезы, высыхая на чьих-то нежно-персиковых щеках. Я исчезну, и вместе со мной исчезнут мои воспоминания. Воспоминания о том, что ещё не произошло и уже никогда не произойдет.
Я мечтал пропасть для всех вокруг и для себя самого. Сойти на нет, подобно разбросанным шахматам, которые я раздраженно сбросил со стола. Деревянная коробка жалобно скрипнула, ударившись о пол.
На самом деле я любил шахматы, но до тех пор, пока не появился мой сосед, мне не с кем было играть. Мы познакомились по вине его глупой пушистой кошки, которая однажды перебралась через два балкона ко мне домой и беззастенчиво принялась за мой завтрак, пока я приводил себя в порядок, собираясь на работу. Я постучал к нему в дверь, держа кошку двумя руками, она яростно царапалась, вокруг летела серая шерсть. Сосед удивленно отворил дверь: к нему никогда не приходили гости. Я думал, что он станет извиняться, но он сдержанно рассмеялся и взял кошку. У него на руках она сразу присмирела.
– Как вам нравится моя Матильда? – Просто спросил он, пока я пытался очистить пиджак от шерсти.
После отъезда я часто вспоминал о нём и скучал по его шахматной рассудительности, по молчаливому пониманию, по строгости, которую он неизменно так же молчаливо выказывал, если я был несдержан и неразумен.
Я и теперь по нему скучаю.
Страница 4 Алла
Когда-то меня мучили ночные кошмары: будучи нервным ребенком, я прятался с головой под одеяло, долго и тщетно пытаясь заснуть, – тогда я верил, что души умерших обитают в домах, где заканчивается их телесная жизнь. Они разговаривают между собой, бродят из комнаты в комнату, мы не замечаем их, но два наших одинаково мертвых мира накладываются друг на друга, как две плоскости, сведенные в одну. Я всегда боялся мира мертвецов: мне казалось, будто я вижу его слишком отчетливо. Разумеется, потом я перестал бояться, но вязкая вечерняя тревога не покидает меня и теперь, как последствия тяжелой болезни остаются надолго после выздоровления слабостью рук, бледностью лица…
Но однажды вечером я вдруг почувствовал себя поразительно спокойным. Вокруг была темнота, но я не видел в ней ничего, кроме привычных предметов. На стенах я видел обои, а не чудовищные образы моего истерического воображения. Я искал их привыкшими к темноте глазами, но нет – пустые обои, серые стены, каприз бессонницы. Меня охватил страх, это был страх спокойствия, будто бы тишина и покой дарили сознанию лишь смертельно опасный обрыв, и провал в топкую бесчувственность, сонную бездумность. Я спешил уснуть. Это случилось несколькими днями раньше моего внезапного бегства, дата и время которого до последней минуты были тайной не только для всех, кто меня знал, но и для меня самого.
Она впервые снилась мне этой спокойной ночью – Алла. Я боялся утратить этот призрачный, муаровый сон и утром проснулся лишь на последнем звонке телефона, по которому кто-то искал моего голоса, но так и не нашёл. В тот же день я выдернул телефонный провод из розетки, внезапно обнаружив, что он существует.
В моём сне мы молча лежали на чёрном шелке одеяла в комнате с выключенным светом. Там было единственное окно, в которое заглядывал рыжий фонарь, высвечивая округлые капли дождя, застывшие с обратной стороны стекла и дожидающиеся лишь солнца, чтобы умереть. Я слышал, как она дышит, ровно, с сонной медлительностью. Ветер уютно постукивал ветвями о крышу дома. Проснувшись, я долго не мог избавиться от этого сна. Я начал думать о ней и думал, и думал, пока в комнате не посветлело, и в утренние сумерки ворвалось бесцеремонное солнце, быстро осушив капли дождя на совсем другом оконном стекле.
В тот же день, благодаря изысканной игре случая, я встретил её близкую приятельницу, которая проходила мимо.
– Как дела у Аллы? Я не видел её очень давно.
– Она изменилась.
– Как?
– Смотрит на мир по-другому. Это сложно объяснить. Я не видела её несколько месяцев, а когда мы встретились, просто почувствовала это. Так бывает, знаешь..
Я сменил тему разговора, продлив его ещё на минуту, после чего ушёл в неизвестном для себя направлении, сказав, что тороплюсь.
Знаю. Я знаю, как легко рождается и метко терзает это чувство: человек стал другим. Но я не хотел испытывать этого по отношению к ней. Мы слишком понимали друг друга. Порой мы до рассвета просиживали на ночных крышах и балконах, не замечая времени и согреваясь красным вином, которое пили прямо из коробки, оторвав её картонный уголок. Эти часы бестелесной близости сложно уместить в слово «понимали». В них было что-то большее, что никак не обозначить определенным словом из n-ого количества букв, расположенных в строгой последовательности.
Эти слова не давали мне покоя. Она изменилась. Что, если мы встретимся вновь, и я найду вместо неё другого человека? У этого человека будут такие же длинные каштановые волосы, шелковые наощупь, такие же глаза цвета мирта, тёмно-зелёные с серыми, как бы серебряными, прожилками, которые появлялись в моих снах и искали смысла под моими ресницами, те же мягкие руки, которые я забыл и был обречен вспомнить, чтобы никогда больше не забывать. Все будет так же, только человек будет другим. Мы обменяемся парой слов без смысла и, когда она поймает мой настойчивый взгляд, то не ответит на него, а просто спросит громко, чтобы было слышно всем, кто стоит вокруг: «Почему ты так странно смотришь?» Я сделаю вид, что не понимаю, о чем она говорит. Мы обменяемся недоумевающими взглядами и навсегда утратим друг друга под звон бокалов и всеобщий смех, не замечающий чужих потерь.
Весь день я не находил себе места. Желание увидеть мгновенно возникло, как только я испугался потерять её навсегда. Желание увидеть и убедиться, напрасны или оправданы были мои страхи. Страхи, эти вечные инстинктивные страхи быть непризнанным, остаться непонятным, – стать для всех чужим. Увидеть её взгляд, который исчерпает все мои сомнения. Весь день я не находил себе места. Она изменилась. Эти два слова вобрали в себя суть каждого страха, и я выбежал из дома.
О, как я боялся реальности! Я выбежал из дома вовсе не для того, чтобы увидеть её, нет – чтобы никогда больше не встречаться с ней. Чтобы оставить для себя возможность думать, что она осталась прежней. Чувство, что Алла изменилась, для меня было бы непереносимо, – так я думал. Я хотел продолжать верить, что, даже засыпая в разных комнатах, мы смотрим одни и те же сны. Я хотел верить, что не только мне снилось, как мы лежим на черном шелке под пронзительным светом фонаря. Хотел верить, что, когда я очнулся от странного сна и застал её в своих мыслях, она тоже вспомнила меня.
Временами я понимал, что в своей вере зашел слишком далеко. В такие дни я разочарованно следил за прохожими из распахнутого окна, стараясь побороть в себе тошноту, томился бездействием и задергивал шторы, едва в них заглядывало солнце. Я становился всё более настойчивым в своём одиночестве.
Я отделил сон от реальности, и теперь проживал две жизни одновременно. Однако я знал, что обладая ею во снах, я теряю её в реальности. И я гнал её из снов. Она вновь приходила в них и, нахально дублируя жизнь, сжимала мои пальцы, произнося: «Я помню твои холодные руки». Я кричал на неё во сне и ломал её нежные пальцы, смотрел на её слёзы, которые были солонее Мертвого моря.
Мертвое море родилось внутри меня и растекалось всё шире и шире, иссушая моё существование. Я тонул в Мёртвом море, захлебываясь в волнах любви и ненависти, но не называя их своими именами. Я бессовестно лгал себе и тщательно скрывал от себя то, что всегда ищу возможности нашей встречи.
Мой старый знакомый пригласил нас обоих на день рождения. Я сказал ему, что в этот день я очень занят, но всё же пришел. Я пришёл туда, тщательно побрившись, надев чистую рубашку, и держа в голове тысячу вопросов, которые родились как бы случайно, но были созданы лишь для того, чтобы задать их ей. Однако их пришлось задать самому себе. За большим столом в кафе пустовало ровно одно место. Простенький бордовый стул с округлой металлической спинкой, на изгибе которого застыл матовый блик. Я пытался заполнить пустоту внутри, но снаружи стул всё равно оставался пустым. Я был весел и разговорчив, как всегда, много пил и смеялся, говорил о чём-то неважном, я любил своих друзей, как любят всё близкое, духовно родственное. Но внутри разрасталась пустота, я прерывался на полуслове, умолкал, проводил рукой по лбу, сжимал в руке стакан, наблюдая, как белеют кончики пальцев, я все чаще смотрел в окно, за которым ничего не было видно, кроме чёрной пропасти пространства и силуэтов, которые то и дело выныривали из темноты, приближаясь к входу. По правде сказать, я знал, что будет так, ещё до этой встречи, – до этой невстречи, – но я все же надеялся, что ошибаюсь, закадрово осознавая всю непригодность – даже унизительность – чувства надежды.
Вернувшись домой, я утонул в голубой комнатной прохладе, лелея твёрдое намерение выбросить Аллу из головы. Ведь, по правде сказать, я вовсе не любил её. Я не искал определений для своих чувств, я не искал границ, отмахиваясь от избитых клише, придуманных не мной. В конце концов, я захотел увидеть её, лишь вспомнив поутру сон, всё шелковое очарование которого не смогло бы помочь ему стать реальностью. Я вовсе не любил её. Знать это было вполне достаточно, – думаю я теперь. Но тогда я повторял эти пять слов слишком много раз на дню и в конце концов не оставил себе ни единого шанса избежать чувств, которых я вовсе не хотел испытывать.
Страница 5 Её смерть
Я больше не видел Аллу. Я не знал, что придумать, и придумал её смерть. Лучше всего на свете я умел придумывать смерть. Я смирился с тем, что она – человек, потерянный для меня навсегда. Погребенный в ту самую январскую ночь, о которой я столько раз вспоминал, повторяя про себя каждое слово, жест и взгляд.
Мы долго кружили по городу, рассекая шагами безлюдные заснеженные площади, выдыхая пар изо рта, бежали вдоль низкого чугунного забора набережной, чтобы согреться. Она положила замерзшую руку ко мне в карман, прижав её к моей, но не сплетая пальцев. Мы говорили о чем-то личном, но я до сих пор не знаю о ней ничего, кроме прочитанных ею книг, меланхоличного темперамента, любимых ею городских улиц. Но разве мало?
Её тётя сдавала квартиру в доме на углу двух улиц. В тот вечер обе улицы казались бесконечными, утопая короткой перспективой дорожных столбов в снежной пелене. Квартира пустовала, и мы отправились туда, чтобы согреться. Замок поддался не сразу, но вот ключ дрогнул, совпав с рельефом скважины, и дверь уступила. В единственной комнате были белые обои и минимум мебели, только старый, плоский от времени, бесцветный диван, пыльный телевизор с выпуклым серым экраном и бесполезная настольная лампа, затерянная на подоконнике. Ночью мы пили крепкий кофе и курили, стоя на балконе, контрастно ощущая теплоту и холод.
– Сегодня я чувствовал оцепенение.
Алла, о чем-то задумавшись, молчала.
– Как будто перед глазами полупрозрачная белая ткань, отделяющая от мира. Кокон, из которого не хочется выбираться.
– Я испытываю нечто обратное. – Наконец ответила она, – Утром я смотрела в зеркало и видела отвратительно ровный овал лица, сломанный на мизинце ноготь, лохмотья бесснежных туч в окне за моей спиной, розовые мочки ушей, пыль на поверхности зеркала. Тоска. Кошка скреблась за диваном. Невыносимо. Предметы обременяют своей сущностью.
Одеяло было шерстяным, неуютным, коротким и беспомощно оставляющим мерзнуть ноги. Кое-как укрывшись им, мы ещё долго не спали, обратив глаза к потолку.
– Хочется разделить себя на две части, чтобы какая-то из них всегда была одна. – Произнесла она медленным шепотом.
– Я понимаю, – сказал я.
– Утром я разозлилась и выпустила на улицу кошку, которая всё вокруг портила. Она убежала, а на душе стало ещё тоскливей. Как будто что-то важное навсегда ушло. У неё был черный влажный нос. Хочется ее вернуть… Но я не знаю, где искать.
– Завтра я могу помочь тебе найти её, – предложил я. – она вряд ли ушла далеко. К тому же, кошки легко находят дорогу домой.
Вздохнув шумно и как-то безнадежно, она сказала шепотом:
– Она не вернется.
Эти три слова были последними в нашем разговоре. Она уснула, повернувшись лицом ко мне. Я чувствовал кожей её теплое, бесшумное дыхание, как нежный, уютный ветер. Спать не хотелось. Мне казалось, что я вижу перед собой сон. С этих пор я очутился вне реальности, в каком-то умопомрачительном сновидении, не желая и не имея сил покинуть его ни на секунду. Между тремя и четырьмя часами утра она вдруг проснулась и сказала, что я единственный, кому она может позволить видеть себя спящей. Я отвернулся к стене и закрыл глаза, чтобы она не успела разглядеть всплеска эмоций на моем лице. И она вновь уснула, и я провел рукой по её волосам, и мне захотелось защитить её, заслонить собой пошлое лицо мира, и быть ближе, неудержимо ближе. Тогда она была ещё жива, но на утро её уже не стало.
Выходя из дома, я сжимал в руке серебряный браслет, который ещё вечером разорвался на её запястье, зацепившись за дверную ручку, когда мы заходили в дом. Боясь потерять, она положила его в мой карман на молнии и попросила отдать утром. Я перебирал пальцами его крупные звенья и мечтал, чтобы она забыла про него. Для нашей следующей встречи был бы драгоценный предлог, что могло быть лучше? Я хотел, чтобы следующая встреча была, но чувствовал, что на утро Аллы уже не стало. Я ощущал резкое, порывистое отчуждение, которое возникало тотчас вслед за каждой близостью. Я не мог найти для него причин, случившееся просто пропадало – не как отвергнутое, но как неоцененное.
– Ты забыл про браслет, – прозвучало в хрустальном утреннем воздухе звонким приговором, и я покорно разжал пальцы, ничего не ответив.
Она протянула мне руку ладонью вверх, линия ума легкой тенью отделяла треть ладони. Не прикасаясь к ней, я торопливо положил (мягко бросил) на её бархатную руку браслет, словно для меня это ничего не значило, так же быстро развернулся и ушел, не оглядываясь, чтобы она не успела ничего прочитать на моем лице.
С тех пор её не стало. На её месте появился кто-то другой, с кем я был как будто вовсе не знаком. Мы больше не разговаривали, и там, где я мог с ней увидеться, я её никогда не встречал.
В конце концов, я поверил в её смерть. В её смерти меня убедил пустующий стул в кафе, наши невстречи и непрощания, наши неразговоры и неоткрытые коробки вина. Во мне остались воспоминания, но я знал, что со временем они перестанут мучить меня. Я смирился с её смертью и уже не хотел увидеть человека, который будет сидеть в кафе на её стуле, говорить что-то её голосом и смотреть вокруг её незабвенным взглядом, который так часто я видел во сне. Больше того – я боялся этого.
Я сбежал прочь из этого города, где люди так непринужденно умирают за одну ночь.
Страница 6 Анна
Она просила, чтобы её называли только полным именем, – Анна. Девушка, с которой меня связывали многие годы одиночества, разделенного на двоих. Всё начиналось довольно скучно, но всё же счастливо, только очень, очень давно. Я был ещё несерьёзным, смешливым и хитроватым подростком, которому хотелось завораживающего общества женщины, столь нового, вдруг ставшего достижимым. Я вглядывался в лица хорошеньких девушек на улицах и в автобусах, вглядывался в прошлое, задаваясь вопросом, не там ли осталось моё счастье (о, счастье уже тогда было мне не доступно!). Своё счастье я всегда раскладывал на составляющие и взвешивал на весах сомнения и недоверия, я препарировал его в поисках грязных внутренностей, предательского подвоха. И всегда находил этот подвох, вдруг обнаружив, что каждое чувство – лишь изощренный самообман.
Иногда я спал со своим прошлым в одной постели, не чувствуя и тени угрызений совести. У моего прошлого были по-цыгански чёрные локоны, карие раскосые глаза и тонкие, всегда как бы поджатые губы. Следуя неоговоренной закономерности, на утро я всегда возвращался обратно в настоящее, словно с рассветом прошлое теряло свои права на существование.
С каждым месяцем мы становились всё ближе. Я и Анна. Порой едва ощутимо мелькало чувство, будто мы стали одним существом, она стала мной, а я стал ею, – это подавляющее чувство идентичности. Но между нами всегда были мысли, которых она не понимала. Я был легкомысленно счастлив этой непохожестью и хотел сохранить непонимание, как сокровище наших отношений, заметное мне одному. Тогда я не знал, что это вовсе не сокровище. Моим единственным желанием стало сделать так, чтобы она никогда не поняла. Моего безвольного прошлого, моих слабостей, вечных колебаний между «да» и «нет». Чтобы не поняла моего желания всё стереть и сбежать (оно всегда было незримым для других фоном моей жизни). Чтобы не поняла тяжести моего времени. Я мечтал, чтобы она не поняла.
Однако Анна не разделяла моих надежд и с каждым днём понимала всё больше. Не то что бы она понимала меня – она как будто переняла у меня изжившее себя бессилие, болезненную нерешительность, слабость. Она изменила мне, а после пришла поздней ночью и, застыв в проеме двери, сказала, что всё поняла. Конечно, она поняла не всё, но этого было достаточно, чтобы сломать и без того хрупкую связь. Я не знал, что делать с этим пониманием. Если бы оно было камнем, я бы разбил им оконное стекло. Если бы понимание было домом, я бы поджег его и проследил, чтобы он сгорел дотла.
– Как это было?
– Мы лежали на кровати, над нами горела перламутровая люстра…
– Ещё?
– Синее одеяло и подушки. Сквозняк… Я думала о тебе.
– Обо мне? Смешно. – И я действительно рассмеялся, коротко и жестко, ничего веселого не было в этом смехе. – Ты просто дура.
Мы оба обманули друг друга и были обмануты в ответ. Наши поступки, наши поцелуи, слезы и фразы – всё между нами превратилось в замкнутую геометрическую фигуру, из которой мы искали выход. Или делали вид, что искали, – трудно сказать.
«Я люблю тебя». – Хитрый, прищуренный взгляд.
«Я тебя тоже». – Спокойная необходимость.
«Хочу всю жизнь быть рядом с тобой». – Обман, сладкий обман.
«Мне так не хватает тебя. Ты самый лучший». – Хватит, прекрати.
«Я люблю тебя». – Нет.
«А я люблю тебя больше». – Это произношу я? Невозможно.
«Нет, я». – Только два слова. Слишком мало букв, чтобы считать это ложью. Но как быть с запятой?
«Единственная моя. Я безумно скучаю». – Спустя несколько недель наших отношений я мог набирать это сообщение, не глядя на клавиатуру.
«Что бы я без тебя делала?» – Всё, что угодно.
Круг слов замыкался, и мы вновь вступали в этот круг, опять и опять позволяя друг другу повторять одно и то же. Слова оставались теми же, но мы выжали из них весь смысл. Пошло, избито…
Мы наконец-то полностью поняли поступки – проступки – друг друга. Каждый неверный шаг, каждое неосторожное слово и каждую боль. Всё стало ясно, как прозрачная гладь придорожной лужицы, когда вся муть оседает на дно. Все было очевидно, кроме одного – я не знал, что делать с этим пониманием. Тем поздним вечером я попросил её уйти. И она ушла. Ни один мускул не дрогнул на моём лице.
Это было глупое время, время безнадежных пауз в разговоре, во время которых я уносился мыслями слишком далеко, чтобы помнить о ней, а она считала секунды и скучала, терпеливо скучала рядом со мной. Но теперь всё закончилось.
Я вгляделся в прошлое, но оно уже давно стало пустой комнатой с замурованной дверью. Сломать дверь и войти, чтобы найти там голые стены, было бы глупо. Я оставил прошлое. Настоящее плакало в моей прихожей, утирая запоздалые слезы колючим шерстяным шарфом. Я сбежал. Мне пришлось расстаться с ней. Всё, во что я верил, была она. Я любил её за то, что она не такая, как я. За то, что весь её мир мог уложиться в любовь, за то, что она была глуха и слепа ко всему, кроме отношений. За то, что она возвращала меня к жизни из тех кругов ада, в которые я сам себя замуровывал. Теперь я понимаю, как глупо любить «за что-то».
Но однажды она пришла ко мне и, не переступая порога, произнесла: «Теперь я тебя поняла», и я знал, что это не правда. Тем поздним вечером передо мной стоял мой мёртвый бог и перебирал пальцами свой колючий шерстяной шарф. Её руки то и дело тянулись к моим плечам, каждым прикосновением прося прощения и понимания. Напрасно.
Я простил ей измену, но своего разрушенного Олимпа я простить не мог. Я всё меньше мог противиться своему желанию сбежать.
Страница 7 Воображаемая любовь
В своем воображении я часто писал историю про нас. Под музыку, которую слышал в своем плеере, под музыку, которая раздавалась на праздничных площадях, под музыку в торговых центрах и парках. Под любую музыку я снимал фильм про нас.
Кадр первый. Я сижу на лавочке жарким летним днём с банкой газировки, и ко мне подходит она. Анна. В замедленном действии, как бывает в кино во время самых захватывающих событий. Она подходит ко мне в легком пестром платье и улыбается, всё время улыбается. Нет ничего заурядней, но в наших отношениях не было ничего счастливее, чем эти бессмысленные моменты.
На самом деле начинать нужно было с другого: с того момента, как я впервые увидел её. Впрочем, мы с детства жили в соседних подъездах и были хорошо знакомы. Но однажды я увидел её под каким-то непостижимым углом зрения, который свел меня с ума. В тот момент она смеялась в объятиях другого и прошла мимо, не взглянув на меня. А я долго смотрел им вслед, стараясь удержать то мимолетное ощущение легкости и игры, которое я почувствовал, глядя в её лицо. Второй раз я увидел её беспомощно бледной. На загорелых щеках едва подсохли беспомощные слезы. Когда я подошел, она безнадежно подняла на меня глаза и не произнесла ни слова.
– Что случилось? – Спросил я, не зная, как её утешить.
– Я не знаю, что делать. – Это было первое, что я от неё услышал. На самом деле не случилось ничего, стоящего таких безнадежных слез. Просто объятия разомкнулись, и ей было непривычно проживать дни в одиночестве. Я купил ей мороженого и стер с её лица темные разводы носовым платком.
Тогда мы были хорошо знакомы. В третий раз я увидел её многими днями позже в толстом пуховике и вязаной шапочке, чуть свисающей набок, наподобие берета. Она пригласила меня на прогулку и стала рассказывать о каких-то приятных мелочах её повседневной жизни: ничего другого в ней не случалось. Мы всё ещё были хорошо знакомы. Я мог прекратить разговор, сбежать домой, сославшись на срочные дела, молчать всю дорогу, чтобы она подумала, что нам не о чем поговорить. Я мог бы вообще не пойти на встречу. Но мне захотелось пойти, и я пришёл. И в какую-то ничтожную минуту я вдруг понял, что мы стали близки. Я упустил тот самый момент. Я всегда упускаю моменты. Но мы стали близки, вот и всё. Мы больше не были хорошо знакомы. Я больше не мог сбежать домой, сославшись на срочные дела. Все эти моменты в моем воображаемом фильме отдавали какой-то горечью, безысходностью, и, что ещё хуже, – безвозвратностью. Когда я увидел её с другим, мне было горько упускать её из виду. Момент безысходных слез стал началом нашей близости. Когда мы стали близки, всё стало безвозвратным. Поэтому я вырезал эти моменты из моего воображаемого фильма, и начал с того, как почувствовал себя счастливым, забывшим вкус безвозвратности и потерявшим счет времени.
Кадр второй. В том же пестром платье с босоножками в руках она идёт по мокрым камням вдоль берега реки, держась за мою руку, чтобы не поскользнуться.
Мой фильм до омерзения напоминал мне глупую рекламу. Рекламу газировки, кефира, обуви, магазина женской одежды, увидев которую телезрители сразу переключают канал. В своем воображении я изображал безупречный мир сомнительного совершенства, с которым никогда не столкнусь в действительности. Я рисовал идеальный мир и закрывал глаза на реальный, погружаясь в свою фантазию с чувством, которое доходило в одно и то же время до счастливой улыбки и до гримасы отвращения на лице. Тогда я ещё не знал, что такое спасительно банальное счастье мне не по плечу.
Кадр третий. Мы занимаемся любовью. В окне потерялось звездное небо. Потолок стал небом. Пустым, беззвездным, но закрытым для всех, кроме нас. Глазами я рисовал на нём звёзды и планеты. Мои мечты проносились кометами по этому небу и падали к моим ногам, к нашим ногам. После я понял, что это был только потолок. Всего лишь бетон, покрытый пластиком. Но в моём фильме нет места для всего, что было «потом».
Под любую музыку я снимал фильм про нас, который начинался не сначала и заканчивался не концом.
В конце она изменила мне. Я не мог простить ей разрушенного Олимпа, и попробовал любить в ней человека, легкомысленного и замкнутого в неглубоких нюансах чувств. Но с тех пор моей любви нечем было дышать. И вскоре я понял, почему.
Со страстью утопающего она хотела постоянства. Чтобы в жизни было спокойно, как в могиле. Она никогда не признавалась мне, но её заветным желанием было выйти замуж, завести детей и похоронить себя в мелких радостях быта. Лениво и далеко не блестяще окончив факультет музеологии, она без энтузиазма различала монеты разных времен и государств и приходила мне на помощь, когда я нуждался в исторических примерах. Она стала экскурсоводом, но работала лишь для того, чтобы, вернувшись домой, поцеловать моё лицо, приготовить ужин и начать жить.
Но постоянство было нарушено, я больше не мог сносить такой жизни. Ради её хрустального спокойствия я перестал жить в нашей квартире. Я устраивал маленькие побеги, чтобы не мучить её своей нелюбовью. Ради её хрустального спокойствия я читал, ел, пил и спал под пьяные песни своих неугомонных друзей, у которых в то время я спасался бегством. Ради её спокойствия всё, что я писал, я прятал подальше от чужих глаз. Я прятал подальше то, о чём я думал, то, что меня мучило, что терзало день изо дня. Ради её спокойствия я взращивал молчание между нами. Я долго молчал. Но с ней я молчать не мог.
В конце концов, я не выдержал. Я вернулся и заговорил, я рассказал ей о каждом шаге, о каждом дне, прошедшем в постоянно расширяющемся пространстве расстояния между нами, о каждой недописанной строке, о каждой не до конца обдуманной и в результате пропавшей без вести мысли. Я рассказал ей, как рисовал не нас на запотевших стеклах, а потом стирал, стирал, потому что мне было стыдно рисовать не нас. Рассказал, как писал ей самые длинные на свете письма, а потом оставлял их на почте без адреса и марки, чтобы не пугать её видом изуродованного трупа своей жалкой любви, которая и при жизни имела от любви лишь название.
Она долго молчала. Я знал, что она хочет сказать. Я всё про нас знал. Она хотела спокойного постоянства, а я – постоянного беспокойства. В этом вся моя жизнь.
Я вернулся и всё ей рассказал. А когда я увидел, что она не поняла меня, сел на электричку и надолго уехал из города, смеясь над собой и будучи уверен, что снова вернусь и снова всё ей расскажу. Но этого не случилось.
Страница 8 Бегство в снег и неизбежный конец
Когда-то я принимал за любовь то, что чувствовал к Анне, – только из-за того, что её отсутствие отзывалось во мне невыносимой тоской. Мне становилось дурно, когда она часами пропадала где-то с друзьями. Это доказывало, что она легко может обойтись без меня.
Я болезненно переживал каждый её уход, сам же редко выходил из дома куда-нибудь, кроме работы, иногда целыми месяцами предпочитая друзьям пустую комнату. Бессознательно я хотел навязать ей свой образ жизни. Я содрогался, когда чужие люди здоровались с ней за руку, касались её плеч, когда я видел, как её кто-то обнимает на фотографии. Я злился, когда кто-то подолгу задерживал взгляд на её фигуре, я приходил в ярость, если она предпочитала провести время с другими, вместо того, чтобы остаться со мной. Я ненавидел находить в её альбомах фотографии других мужчин, – живое доказательство того, что они возможны в её жизни так же естественно, как существую в ней я, что кто-то мне незнакомый мимолетно, но настойчиво обитает в её сознании.
Я бы хотел быть с ней где угодно, пусть даже в пустой комнате, где нет ничего, кроме стен, лишь бы нашей жизни не касались чужие. Она бы заменила собой все на свете окна и двери, я бы умер, зная, что она не может принадлежать никому, кроме меня. Мне почему-то казалось, что я был бы счастлив, захлебываясь в жадном чувстве обладания. А в это время она сидела за столом на расстоянии полушага от каждого из своих друзей. Кто-то заглядывал ей в глаза, кто-то придвигал свой стул поближе. Эти мысли не давали мне покоя.
Теперь я знаю, что все мои чувства имели мало общего с любовью. Но всё же я любил её, – бессмысленным, простым, изжившим себя чувством.
Я не мог любить иначе тогда. Я не мог любить иначе её.
Моё окончательное бегство предопределили частые маленькие побеги. В очередной раз, рассерженный тем, что Анна вернулась домой за полночь, с мокрыми от снега волосами и смеющимся лицом, я сбежал из дома. Она даже не заметила, что со мной что-то не так: поцеловав меня и бегло скользнув ладонью по щеке, она прямо в прихожей зажгла сигарету и пошла на кухню, по дороге снимая куртку. Я смотрел на неё, и мне казалось, что я впервые вижу её. Она даже не взглянула больше в мою сторону.
– Как прошёл вечер? – спросила, наконец, но в этот момент я уже был за порогом.
Закружилась голова. Я бежал по неглубоким сугробам – в темноте я не мог разглядеть тропинку – на мое лицо и одежду падали белые хлопья. Я мечтал, чтобы снег накрыл меня с головой, но небо в ту ночь пожалело снега. Я бежал – и мне некуда было бежать. Но я бежал в снег и к снегу. Снега было мало, мне хотелось утонуть в нём, заснуть навечно в его холодных объятиях, но он только чуть припорошил грязь на дорогах. Телефон молчал – я не включал его с прошлой недели. Весь мир молчал. Молчали прохожие, которых я встречал в пути. Молчали машины, потому что был поздний час. Где-то вдалеке я услышал громкий смех и музыку, но сразу же поспешил в другую сторону.
С Анной мы окончательно расстались после нескольких месяцев бегства друг от друга и взаимного непонимания, которое кричало о себе на фоне слов, накопленных годами и в один день выброшенных в воздух.
Последнее, что она сделала, – передала мне коротенькую записку, написанную торопливым, рваным почерком на нескольких разноцветных листках, вырванных из блокнота.
«Всё сломалось. Не сейчас, но неделями раньше. Всё сломалось. Я представляю, как ты смахиваешь рукой со стола мои открытки и вещи, представляю, как вычеркиваешь меня из списка своих желаний, как злишься на меня и взвешиваешь на сломанных весах каждое моё слово, мои слова-камни в твоих мыслях растворяются, как кубик сахара в кипятке. Всё сломалось. Эти приступы неуважения, злости, которых не было раньше, и которые переходят все границы… Я не знаю, что думать. Неужели всё сломалось? И если ещё не до конца, то неужели конец неминуем? Я ничего не вижу в тумане, но я держу в ладонях сломанные часы и думаю, где бы мне найти лучшего в мире часовщика, если я не в силах разобраться сама в этом непонятном механизме. Неужели ты ничего не скажешь на прощание?».
Мне нечего было ответить. Да, всё сломано, если только можно сравнить любовь с неисправным механизмом. Но я предпочел бы почтить память умерших чувств вечным молчанием, а не беспорядочным потоком слов, смешанных со слезами. Я выбросил на помойку охладевший труп нашей любви и задумался над своей опустевшей жизнью.
Чего же я хотел? Уехать в дикие, необитаемые края? Сидя на полу, рассматривать старые фотографии? Хотел ли я бежать в неизвестность или, остановившись, внимать впечатлению секунды? Хотел бы я брести дождливым утром по незнакомым улицам или томиться в тесной комнате жарким полднем? Хотел бы я стать художником, рисовать уходящее время, или, став палеонтологом, преодолевать временные слои почвы? Может быть, я хотел бы как романтичный обыватель встречать рассветы на берегу моря и засыпать под шум его волн? Я не знал ответы на все эти вопросы. Я долгое время не знал себя – не знал, что мне нужно. Но всё изменилось с нахлынувшими обстоятельствами, и я узнал ответ на свой вопрос. Я спрашивал себя, хочу ли я убежать отсюда? и с легким сердцем отвечал: да, я хочу. И если это первый вопрос, на который я знаю ответ, то почему бы не последовать самому себе. Уехать. Да, уехать отсюда. Эта мысль засела в моей голове новорожденной мечтой, ещё не испорченной неудачными попытками осуществления. Я мечтал о невозмутимом ритме колес, о ночных станциях, проникающих в вагоны шёпотом пассажиров и шуршанием дорожных сумок, о случайных попутчиках и неизвестных пространствах. Я мечтал, – но не спешил претворять свою мечту в жизнь: я малодушно боялся оставить все, чем жил до сих пор.
Раньше я любил, находя в календаре значимую дату, каждое утро зачеркивать предыдущий день, безжалостно убитый, прожитый ради другого, ещё не наступившего события. Я считал дни, годы, измерял время в шагах, в страницах, в разговорах – я умел мерить время в любых единицах измерения. Я вел счет времени и мечтал о будущем, в которое когда-то верил, говорил себе, что всё придет ко мне завтра, но, как причина предваряет следствие, так из каждого прожитого дня прорастал новый бездейственный отрезок жизни.
Всё изменилось, когда я услышал шум времени – тиканье своих карманных часов. В какой-то момент я понял, что в день моего рождения начался обратный отсчет.
Неумолимые миллиметры секундной стрелки превращаются в километры жизни. Я выбросил в окно все часы. Я уже говорил? Это оказалось бесполезно. Теперь время бежало внутри меня самого.
Страница 9 Падая вниз
Люди разбивают стекла. Люди падают на асфальт.
Воспоминания падают на дно памяти.
Обессиленные птицы падают в море.
Беззащитный первый снег падает на землю и тут же растворяется в грязных лужах.
Я падал в себя, словно в чёрную пропасть.
Страница 10 Репетиция смерти и взгляды, скользящие мимо
В толпе людей, которые ждали от меня каких-то объяснений, я не смог извлечь из себя ни слова. Я написал на листке «прощайте», повесил его на дверь с внутренней стороны и спрятался от них в темной комнате своего одиночества. Свое отчаяние я измерял в ненавистных минутах. Я наполнял себя горечью бессилия, шел по шоссе с закрытыми глазами, а на нём, как назло, не было ни одной машины. Потом я приходил в себя и шел по тротуару, я смотрел в лица людей, усталые, равнодушные, поникшие.
Каждый день я репетировал свою смерть, выходя на улицу и примеряя себя к колесам каждого проезжающего автомобиля. Я видел людей насквозь. Скользящие мимо взгляды остались бы столь же скользящими, даже если бы я вышел на тротуар с рваной кровоточащей раной в груди, даже если бы застыл над их головами не долетевшим до асфальта телом самоубийцы. Даже если бы упал им под ноги. Потрясающее, ничего не замечающее равнодушие – но я был равнодушен не меньше. Порой мне казалось, что меня не должно было существовать. В своей полупустой комнате я всегда сидел лишь там, куда падала тень. Я сам был – и остался – только тенью. Но разве я хотел быть кем-то другим?
Репетируя изо дня в день свою бесценную смерть, которая никем не будет замечена, я перестал оставлять людям воспоминания о себе. Я больше ни о чем их не спрашивал, не просил у них ни громких слов, ни шепота, не рассказывал им о себе – что я мог рассказать? события мелки. Они не упрекали меня за это, вовсе не потому, что поняли меня. Быть понятым слишком большая роскошь для человека, который умеет лишь запирать двери на ключ и придумывать варианты несчастных случаев. Что касается моих намерений, то я лишь заботился о том, чтобы их взгляды всегда оставались скользящими мимо. Я не хотел быть для кого-то близким, поэтому не заводил новых знакомств и только скупо поддерживал старые. Я не хотел закрывать за собой двери чужой жизни. Я не хотел погибать там, полный иллюзий и прежней неотвратимой константы одиночества.
Я медленно скользил в Ничто, как услышанные краем уха бессвязные обрывки чужих речей и потускневшие от скуки глаза. Как взгляды людей, которые скользили мимо лишь потому, что это всё, на что они способны. Потому что это всё, что я способен от них принять. Мне даже пришла в голову мысль, что если бы хоть один взгляд потерявшегося в толпе человека остановился на мне, я бы свои окончил репетиции. Я бы принял свою бесценную смерть под единственным взглядом случайного прохожего, чтобы не дать ему возможности стать мне близким, – безнадежная гипербола.
Словом, я научился проходить мимо. Я не просил ни любви, ни ненависти. Я просил только, чтобы меня не замечали. Чтобы не замечали моих глаз, моих вечно написанных на лице эмоций, которых больше нечем было вызвать, моего отсутствия и присутствия. Чтобы меня не искали, чтобы не думали обо мне.
Как-то вечером ко мне зашли приятели, раскатами бойких рук ударяя в мою дверь. Я курил, развалившись на старом кресле, сбрасывая пепел в кружку из-под кофе. Они не прекращали стучать. На стук вышла соседка.
– Ну, сколько можно? Разве не понятно – никого нет дома!
Я утопил окурок в кофейной гуще и открыл дверь. Из подъезда повеяло холодом. Я застегнул молнию на толстовке.
– Наконец-то! Куда ты пропал?
– Привет. Я вас не ждал.
– Мы собирались в бар, поедешь с нами?
– Не сегодня.
– Может, мы тогда зайдем к тебе вечерком?
– Не сегодня, – повторил я ещё раз.
Я попросил, чтобы они оставили меня. И они оставили. Я захлопнул дверь, слышал, как их шаги бегут вниз по ступеням, слышал свой вдох и выдох, слышал, как зашуршала кофта, когда я прислонился спиной к двери и стал медленно оседать на пол. Ко мне никто не приходил, и на пороге с внутренней стороны дверей было чисто – ни песчинки. Я чувствовал, как замерзают пальцы на моих босых ногах.
Приходила Анна и беспрерывно стучала в дверь, которую я забыл запереть, вернувшись домой из магазина. Ключ торчал в замке с внутренней стороны. Она стояла снаружи, необъяснимо уверенная в трех оборотах дверного ключа, и, воруя из моей комнаты тишину, беспорядочно стучала в дверь. Я считал удары в дверь, как врач измеряет пульс безнадежного больного. Я знал, что дверь открыта и не понимал, как можно длить этот стук чуть ли не до бесконечности, ни разу не проверив дверную ручку. Я молча лежал на полу, устремив равнодушный взгляд в белую пропасть потолка. Вскоре стук прекратился, и в комнату вернулась тишина. Через пару минут я повернул ключ в двери на три оборота и снова лег на пол. Как будто бы ничего не изменилось.
Всё ли я сделал правильно? – бесполезный вопрос к самому себе. К чему рефлексия над очевидным? Но, хотя одиночество не тяготило меня, меня тяготило пространство, в котором никого, кроме меня, не было (эта тяжкая жажда присутствия). Я терялся в просторной и пустой комнате, искал ключей, чтобы открыть мною же запертую дверь, за которой уже никого, – никого! – не было.
Я отделил мысль от жизни и сотворил свою силу из бессилия. Я создал нерушимое душевное спокойствие из дисгармонии. Я построил свой уютный мир на фундаменте полного разлада между собой и действительностью.
В своем уютном мире я беззвучно кричал о себе и никогда не был услышан. В моем уютном мире все, кого я любил, оставили меня (или я оставил их сам?). В моем уютном мире я никому не был нужен, но и сам ни в ком не нуждался. В моём уютном, до тошноты уютном мире, я исписал горы листов, мелким почерком втискивая слова между уже написанных строк, и больше никто не мог прочитать написанное, кроме меня самого. В своем уютном и пустом мире я спрятался от людей. Я молча закрыл за ними двери, потому что боялся, что, оставив их приоткрытыми, я простужусь на сквозняке. Я не хлопал дверями от злости и обиды. Я тихо закрыл за ними дверь.
Я не рассказал им, как люди падают на асфальт и как проходят мимо. Ведь им это тоже предстоит.
Страница 11 Продуктивность забвения
Уехать нужно было, во что бы то ни стало – последним усилием воли сбросить всю жизнь с вагонных ступеней. Если я и выходил из дома, то лишь для того, чтобы ощутить, как мало хочу видеть всё, что меня окружает. Однако и это был только новый предлог, чтобы выстроить стену.
Я хотел выбросить из жизни людей – до сих пор они лишь отвлекали меня – от меня самого. Я хотел стереть из памяти покатую крышу своего дома, исхоженные проспекты пропахшего дымом города. Я хотел забыть нервный звук разлетающихся по полу осколков кружки, которую я шальным, безответственным жестом смахнул со стола во время ссоры с Анной, зная, как она ценит подаренные мной вещи. Я смеялся каким-то чужим смехом – высоким, хриплым, – с запрокинутой назад головой. Я хотел стереть из памяти пустой, невесёлый двор, в котором прошло моё детство. Тогда он был шумным, зеленым, солнечным. Я хотел выбросить свои письма, которые писал с мыслью когда-нибудь отправить. Стереть с лица свою надуманную улыбку, свои безнадежные эмоции и свои поверхностные, меланхоличные мысли, быть глубже, яснее видеть жизнь, – безнадежно хотел я. В своем исступленном бессилии я хотел стереть из жизни себя. К счастью (или наоборот), это оказалось невозможно. Поэтому я начал стирать всё остальное.
Мне патологически нравилось растягивать вечерние минуты, ломаной линией вписав себя в квадрат окна, вести нескончаемые беседы с самим собой и вдумчиво рассматривать вписанные в прямоугольник просторы неровного потолка, мысленно расчерчивая на них доказательства неведомых теорем.
У меня было всё, чтобы навсегда забыть о том, что было в моей жизни. Дождь, который музыкально стучал в мои окна, дальние города, в которых я ещё не был, новые лица, которых я ещё не видел, время, которое все ещё продолжало по инерции двигаться вперед. И у меня было всё, чтобы всегда об этом помнить.
Я выбрал «забыть», и забыл. Забыл?
Страница 12 Синонимы
Забыть можно всё, что угодно. Но стоит только сказать себе «я хочу забыть это», как эта возможность оказывается утерянной навсегда. Мы всегда будем помнить особенно отчетливо, потрясающе внятно – именно то, о чем хотим забыть. Этот механизм работает по принципу записок с напоминаниями. Если бы на памятных бумажках вместо «Выключи свет!», «Закрой дверь!», «Купи молоко!» писали «Забудь выключить свет!», «Забудь дома ключи и кошелёк!», «Забудь зайти в магазин!», ничего бы не изменилось. Никто бы всё равно не забыл ключи, не забыл о том, что нужно купить молоко и выключить свет перед уходом. В этом смысле слова «забудь» и «помни» не более чем синонимы, поскольку вызывают одну и ту же реакцию. Помнить.
Как только я решил всё забыть, в моей памяти встрепенулись тысячи тысяч происшествий из самых разных отрезков жизни. Они терзали меня, умоляя помнить. Впрочем, зачем забывать солнечные блики детства, которое прошло, как один счастливый, нескончаемо ясный день. Когда-то я бродил с мамой по тихой хвойной тропинке в сосновом лесу. Конечно, я не раз бывал там, но избирательность памяти берет своё. Млел последний жаркий день позднего лета, но в лесу было покойно. Пронзительные лучи изрешетили колючие сосновые ветви, но лучи не жгли, а мягким светом падали на тропинку под нашими беззвучно ступающими ногами. Я шел не торопясь, положив руки в карман выцветшей красной толстовки с темно-синими полосками на рукавах, джинсы были велики, края штанин волочились по земле. Всё это я помню словно со стороны, как будто смотрю с первых рядов кинозала фильм о своей жизни. Я совершенно не помню, был ли я рад этой прогулке, о чем я думал, о чём разговаривал с мамой. Только основных действующих лиц, экспозицию и фактуру сюжета. Было уютно, тихо, тонко пахла хвоя. Так было почти во всех картинах детства, которые мне удается воссоздать в памяти.
То, что было ещё раньше, я помню как непрерывную цепь ощущений. Трава в поле, через которое я однажды шел с родителями, доходила мне до груди. Она то и дело щекотала лицо, пыльца попадала в нос, и я звонко чихал. Потом мы выбрались на колеи из твердой, засохшей глины, оставленные проезжим трактором. Я быстро перебирал ногами между мамой и папой, еле успевая за ними, а потом всё-таки не успел – и упал в колею, содрав кожу о твердую землю. Теперь я держал их за руки. Мамина рука была влажная и прохладная, папина – горячая и широкая, с тёмной подушечкой родинки на фаланге большого пальца. Своих рук я не помню. Только правую – ладонь долго щипало после падения.
По пути мы переходили через мутную реку по дряхлому деревянному мосту, провисшему почти до самой воды. Он раскачивался от каждого шага. Я испугался. Страх запоминается так же отчетливо, как запоминаются не восполненные утраты, острая боль и несправедливость. Помнить хорошее не хватает памяти.
Несмотря на то, что я любил своих родителей беспредельно, мы так никогда и не узнали друг друга. Мы не разговаривали ни о чем, что выбросило бы нас хоть на минуту за пределы двух комнат, кухни и ванной – за пределы быта, в котором мы погрязли.
– Ты зайдешь в магазин по дороге?
– Хорошо. Что купить?
– Рис, чёрный хлеб, апельсины. – Протягивает в руки список. – Я ведь знаю, что ты забудешь.
И я забывал, я выбрасывал списки, только бы со мной поговорили, только бы спросили меня, о чём я думаю. Но меня так и не спросили, и я похоронил себя в себе.
– Как дела в школе?
– Нормально.
– Как дела в университете?
– Нормально.
– Как дела на работе?
– Нормально.
Я больше не мог отвечать. Я просто не знал, что ответить. И я говорил то, что обычно говорят все, даже не задумываясь о том, правда ли это.
– Во сколько тебя ждать?
– В двенадцать. – Сначала я называл время. Потом стал избегать этого вопроса или отвечать уклончиво, чтобы не связывать себя числами и обязательствами.
– Где ты был?
– У друга.
Я всегда был у друга.
– Ты куришь?
– Нет, конечно.
– У тебя есть девушка?
– Да. – Я сказал «да», когда уже не мог говорить «нет», это могло вызвать новые вопросы.
– Расскажешь о ней?
– Не сейчас.
Не сейчас. Это всё, что звучало между нами. Я не знал, как измерить, насколько это мало. Не знал, достаточно ли только воспроизвести в памяти все наши разговоры, чтобы сказать «мы не знали друг друга». Теперь я знаю, что слова ничего не значат, но это уже не так важно.
Мои родители живут в разных городах, а я изредка приезжаю к ним в гости. Они разошлись неожиданно для меня, я никогда не знал, что творится между ними. Они разъехались по городам, как поссорившиеся дети расходятся по своим комнатам. Я не мог оставить кого-то из них и поэтому оставил обоих. Сам же остался жить в нашей квартире, в тишине которой я сразу начал чуять угрозу. Но я привык к этому, потому что знал о том, что привыкнуть можно ко всему.
Ещё одной причиной того, что я отделил себя от своей семьи, были мамины глаза. Это очень старое воспоминание. Субботним утром я собирался в школу, когда родители ещё спали, лениво растрачивая выходные впустую. Я уже хотел было запереть за собой входную дверь, когда мама приподнялась на кровати и посмотрела на меня своими заспанными глазами. «Не забудь прийти пообедать» – медленным не проснувшимся голосом произнесла она, подождала моего утвердительного ответа и снова легла. Я не любил эту излишнюю заботу, но я любил маму. Когда в то утро я смотрел в её заспанные глаза, мне представилась её внезапная болезнь и смерть. Я в ужасе попытался бороться с потоком образов и мыслей, но мне не удалось. Она лежит на кровати много дней подряд. Бледная, похудевшая, истаявшая, в воздухе витает тяжкий запах болезни. Она смотрит на меня этими же глазами, но они только кажутся заспанными, она говорит слабым голосом, который только кажется не проснувшимся. «Не забудь прийти пообедать». Сомкнутые веки. За её смертью следовал чёрный провал, словно я вдруг лишился глаз. Страх захватил меня в плен. Пули образов летели сквозь меня.
С тех пор я часто видел её смерть в своем воображении. Я не мог изгладить этот случайный страх перед её смертью, даже перед мыслью о смерти. Он остался во мне, как угол преткновения всех чувств и эмоций. Поэтому я боялся своей любви, которая выражалась в неосязаемой, внутренней слитности с семьей – в невыносимом страхе утраты. Я захотел разрушить эту слитность, чтобы каждый день не придумывать смерть. Я отделил себя от своей семьи. Каждый из нас троих отделил себя от своей семьи. Быть может, этим мы были похожи? Я стал приезжать к ним, как в гости, и мне стало намного легче.
Прежде чем отчалить от родного вокзала, я позвонил маме. Я не мог рисковать её спокойствием.
– Я уезжаю.
– Куда?
– К другу. – Я не мог рисковать её спокойствием.
– Надолго?
– Не знаю. – Я на самом деле не знал.
– Звони. – На секунду мне показалось, что я должен быть сейчас рядом с ней, но секунда закончилась слишком быстро.
– Ладно. Пока.
Страница 13 Жизнь, летящая мимо и тысяча вопросов
Я ждал звука приближающегося поезда и сентиментально представлял, как в последний момент Алла приходит на перрон и смотрит на меня своими незабвенными глазами, в которых я тону, как рыба, не умеющая плавать. За полчаса до прибытия поезда мне пришло в голову, что с ней произошло что-то непоправимое, и поэтому её здесь нет, и поэтому я прощаюсь с пустотой, и всё на свете только поэтому… Но её не было потому, что она не хотела там быть. Потому что и без меня её жизнь была полна. Какими простыми и ясными кажутся события, когда оцениваешь их с высоты прожитых часов и дней.
Прокручивая в голове нашу воображаемую прощальную встречу, я вспомнил о времени только за пять минут до отправления поезда. Чересчур быстрым шагом я пересек квадратное помещение вокзала – боялся, что всё сорвется, и я останусь в прежней жизни – задохнусь, погребенный заживо. Я мог бы разглядеть, что у девушки, проходившей мимо, были ломкие темные волосы и задумчивые светлые глаза. Что мужчина отстраненно покачивает ногой в такт музыке, которая громко звучит из наушников пухлого мальчика с розовыми щеками. Что у маленькой девочки, которая ест эскимо, свежая царапинка на руке, а шоколадная глазурь стекла на пальцы. Что лицо пожилой дамы в траурном шёлковом платке навевает на мысли о поэзии, и что дыхание замирает, когда она опускает ресницы. Но я видел только безликие вещи – бордовые туфли, берет из чёрного бархата, запачканный зелёный рукав пальто, протертые на коленках джинсы и тёмно-коричневый саквояж, о который я в спешке запнулся.
– Поезд дальнего следования №435 отправляется с платформы один, четвертый путь… – говорил вокзальный голос, возвещающий дороги, убедительным звуком летящий над головами.
Я запрыгнул в тронувшийся состав и, прислонившись к стене вагонного тамбура, перевел дыхание. Я хотел запечатлеть в памяти свой последний взгляд на город, который я покидал надолго. Быть может, навсегда? Но я ощутил, как нечто важное ускользнуло от меня. От меня всегда ускользает важное, выскальзывает из рук испуганной рыбой, разбивается хрустальной вазой под ногами, и уплывает, распадается, тлеет.
Минуты истекли, и я запрыгнул в поезд, мысленно проведя параллель с утопающим, который запрыгивает в спасательную шлюпку, не зная однако же, что за участь его ожидает на неизвестном корабле. Я уехал, оставив вокзал считать минуты без меня, и ждать всего, чего я дождаться не смог. Поезд благополучно отбыл и, покинув город во время ультрамариновых сумерек, застучал колесами в ночь.
Моя жизнь летела мимо меня в окнах, летели мимо незнакомые люди, опустевшие станции, редкие машины, сгибающиеся от ветра силуэты деревьев, похожие друг на друга города, холодные, как снег, облака, опаленные солнцем придорожные столбы, омытые дождями суровые памятники.
Я погрузился в упоительное одиночество. «Дальше, дальше», – звучало в голове. Чем дальше я уезжал, тем меньше мне хотелось вернуться. Попутчики, случайные знакомые, первые встречные не были опасны для меня. Они не могли ничего у меня отнять, я мог говорить с ними, как будто никогда не знал молчания. Эти ежедневные люди ежедневно забывали меня, едва закрывались за ними двери поезда, и я прощал им это с великодушием равнодушного сердца.
Короткая память первых встречных даже радовала меня. Я не хотел оставлять отпечатков на чужих жизнях и ещё больше не хотел позволять людям запятнать следами всё, что я так бережно хранил внутри, но с такой ненавистью хотел оставить. Я делил себя надвое, думая, что одним только билетом на поезд преодолел все свои противоречия. Я читал книги, чтобы жить только тем, что внутри. Я разделил свою жизнь на страницы, чтобы сотворив что-то за пределами своего тела, заставить мысли покинуть меня.
Я распускал на волокна ткань памяти и не мог понять, как работает этот поврежденный временем механизм. Я не помню, что чувствовал, когда впервые, ослепленный миром, распахнул глаза. Не помню первого дня в школе и детском саду, – когда явились в мою жизнь люди. Я не помню ни одного своего дня рождения, помню лишь горящие свечи в тортах, переполненные воздухом легкие и запах гари, и дымную тьму, до тех пор, пока не включат свет.
Я помню свои ребячества. Однажды я позвонил Алле и молчал, – в последний момент, когда она уже взяла трубку, я понял, что мне нечего ей сказать, мне хотелось просто запомнить её голос. Я помню её номер телефона, хотя набирая его теперь, я слышу «набранный вами номер не существует». Она переехала. Я звонил ей и молчал в трубку, а она злилась и раздраженно требовала: «Хватит молчать!». Хватит. Как бы мне хотелось сказать ей это сейчас. Я помню солнечное озеро, яркие блики на прозрачной воде, сквозь которую виднелись заросшие водорослями камни, и деревянную лодку, взятую напрокат у местного рыбака, в которой сидели мы друг напротив друга. Вокруг купались незнакомые люди, а мы плыли по озеру, к самой глубине, где вода была чёрной, куда никто не осмеливался заплывать. И я был счастлив, и я думал о том, что всё как в книге, как в доброй сказке, что так просто не может быть. Но из доброй сказки была только видимость. И всё испытанное испытывал я один.
Я помню, – и именно эти воспоминания не дают мне покоя. Как будто в арсенале памяти нет другого оружия против меня. Я вызывал другие образы, но они были поблекшими и высохшими, как сухие осенние листья, по которым ступали грязные подошвы, по которым текли грязные воды разлившихся луж. Я тяготился этой избирательностью воспоминаний и мечтал – бесполезный максимализм чувств – либо вспомнить всё, либо всё забыть.
Разбросать на безлюдных улицах незнакомых городов запылившиеся в глубине памяти эскизы жизни, карты событий и, запрыгнув в первую скорую электричку, спастись бегством от их навязчивого преследования. Я это смог. Теперь – дальше, дальше. Прочь.
Но кто скажет мне, что будет дальше? Где я окажусь по воле железных дорог? Как избавить свою жизнь от власти случайностей? Как понять память? Что мне ещё предстоит прожить и забыть? Как остановить девятый вал обстоятельств, выстоять, не согнувшись? Как держать себя в руках? Нужно ли всё – забыть? В чем найти стержень, хребет жизни? Как не замечать времени? Как ценить каждую секунду, не замечая времени? Как любить людей? За что мне любить людей? Нужно ли их – любить? Как поступить с собой? Как верить словам, как научиться открывать их смысл, отшелушивая лишнее? Зачем говорить с людьми? Как не страшиться реальной жизни, дальнейшей жизни, смерти? Как забить гвоздями все запасные выходы, чтобы умереть, когда в доме случится пожар? Как выдержать свою собственную эмоцию? Как не бояться пожара?
Если бы я только знал.
Если бы я только мог остановить время. Остановить человека, летящего из окна, и аккуратно опустить на асфальт, чтобы он встал и поднялся домой – ставить на балкон новые стекла. Остановить неминуемо разрушающийся мир и расставить всё по своим местам, чтобы выросла свежая зеленая трава, распустились полевые цветы, чтобы стало тепло, и всё замерзшее истаяло. Чтобы мир ожил.
Но я этого не мог. Я мог только тушить сигареты о старые шрамы и наблюдать, как исчезают рубцы и на их месте появляются свежие раны. А берега забвения недостижимы.
Страница 14 Туманы прошлого
Мне хотелось сделать отчуждение от своей жизни насколько возможно постепенным. Первую короткую пристань я нашел в городе, где жили бабушка и дедушка.
Бабушка встретила меня, сидя в бордовом драповом кресле, на котором виднелись белые завитки кошачьей шерсти. Зажав между губами невидимку, она готовилась поправить прическу. Дедушка медленно преодолевал зеленый линолеум коридора, шурша по полу тапками. Старая пушистая кошка играла со своей тенью: крадучись пробираясь вдоль стены, она то и дело бросалась на своего серого двойника, когти царапали обои, а она всё продолжала ползти, извиваться, подпрыгивать.
– Кого я вижу! – высоким с хрипотцой голосом произнесла бабушка, закалывая седую прядь за ухом. – Иди, обниму!
Как ни ненавидел я объятия с родственниками, на прощание заставил себя подчиниться.
– Как вы?
Дедушка опустился в соседнее кресло и, улыбаясь, расспрашивал о доме, о маме, о моей работе. Я отвечал, стараясь быть многословным.
Когда все уснули, я уселся в кресло и смотрел из темноты в большое окно, которое почти полностью занимало противоположную стену. Я видел верхние этажи соседних домов и несколько окон, за шторами которых виднелись горящие люстры, несмотря на поздний час. Я тонул в тишине. Её нарушали только часы, которым не было числа в этой просторной, но уютной комнате, где стоял книжно-газетный запах, знакомый с детства.
Бездействие этой одинокой темноты напомнило мне о другой ночи, не столь одинокой, но столь же бездейственной. Безликое серое небо перед рассветом и балкон с большими окнами, затуманенный серой вуалью табачного дыма. В дыму разлетались слова, как дым рассеивались, исчезали бесследно и вновь кружились в воздухе, общие мысли сплетались в близость. Пепел летел на бетонный пол. В разбитое балконное стекло летел снежный ночной ветер.
Вся моя жизнь пропиталась табачным дымом и резким вкусом несладкого кофе той ночи, когда на кухне не нашлось сахара. Когда у Аллы на кухне не нашлось сахара.
Возможно, я хотел бы поведать ей обо всём том, что тревожило меня все эти годы. Но она стала бы искать во всем скрытых смыслов, тогда как всё просто – как на ладони. Хотя, быть может, она не вспомнила бы того, что помнил я – с такой обреченной точностью.
Я не мог дождаться утра и оставил этот дом глубокой ночью. Обилие часовых механизмов не давало покоя моим опущенным векам. Хотелось сбежать окончательно. Я оставил записку, где соврал, что только сейчас вспомнил о ночной электричке и предупредил, что уехал надолго. Звук захлопнувшейся двери фальшивой нотой прозвучал в спящей тиши подъезда.
Страница 15 Бездействие вокзала
Ощущения – постскриптум решительного отъезда – бросали меня из крайности в крайность. Во время ночных поисков вокзала я почувствовал внезапный порыв вернуться. Оставить мечту о дорогах и новой жизни. Оставить надежду сбежать от времени, жажду обрести долгожданное спокойствие в размеренном движении вагонного состава. И вернуться. Просто вернуться. Это был лишь порыв, от которого к рассвету не осталось и следа.
Ночной электрички не было. Я сидел на многолюдном вокзале, и смотрел, как вокруг снуют люди со стаканчиками кофе из автомата, с сумками, с газетами. Спать не хотелось. Я мог бы думать о том, что мне поесть или о том, как скоротать время до утренней электрички. Но я думал о том, зачем я здесь, и затем ли, чтобы позже поддаться случайному порыву и просто повернуть обратно? Я ответил себе: «Вовсе нет» и задумался о другом.
Ко мне подошла пожилая женщина в очках, отодвинутых на лоб, и, зачем-то спросив разрешения, села рядом. Я не обращал на неё внимания, но понял, что она пришла, чтобы поговорить. Всячески оттягивая этот момент, я опустил голову и прикрыл глаза, изображая сон. Но это только приблизило разговор: вероятно, она испугалась, что я усну, и тогда обращаться ко мне будет совсем бестактно.
– Неслыханное дело! 58 человек! – качая головой, произнесла она, словно между нами уже состоялась беседа, и она только поддерживает её своим восклицанием.
«Что за люди!» – раздраженно подумал я.
– О чем вы?
– Как? Вы ещё не слышали? – возбужденно заговорила она, чуть повысив голос, предвкушая собственный рассказ. – Все они погибли при обрушении подъезда, но следствие до сих пор не может установить причины. А случилось всё ночью, люди спали… Весь день этот дом показывали по всем телеканалам, я…
– Я не смотрю телевизор, – прервал её я.
– Вам не интересно?
Пожав плечами, я ответил, что не очень, но из инстинктивной вежливости спросил, где это произошло. Она назвала мой город. «От этого города невозможно спрятаться», – подумал я и больше ничего спрашивать не стал. Пробурчав что-то на прощание, я ушел в другой зал ожидания, где оказалось намного спокойнее. Многие спали.
Я мог бы пойти купить себе кофе или познакомиться со скучающей рядом девушкой с разноцветным журналом в полупрозрачных руках, сквозь кожу которых болезненно просвечивала фиолетовая паутинка сосудов. Но я сидел, положив ногу на ногу и скрестив руки на груди, и думал о том, что, если бы сейчас прыгнул с платформы под поезд, после меня не осталось бы ничего, кроме растаявшего в воздухе вскрика случайной женщины, проходившей мимо. Поэтому я не бросился под поезд. Поэтому я просто сидел. Положив ногу на ногу и скрестив руки на груди.
Этот город всё же не был для меня абсолютно чужим, я много раз бывал здесь, и я поспешил уехать туда, где среди тысяч следов на асфальте отпечатков моих ног ещё не было. Я хотел подарить отпечатки своих подошв всем городам, в которых я не был. Оставить свой непрочный, осторожный след, который исчезнет с первым дождем.
Страница 16 Никогда не улыбайтесь
Первый город, который я посетил, был слишком велик для меня. Я приехал туда в солнечный день и до ночи шатался по улицам, которые не переставали быть многолюдными и шумными. Это был город в стиле барокко, город фонтанов и цветов. Отказываясь внимать ноябрю, в клумбах всё ещё распускались новые бутоны, добродушные люди ходили в футболках, смеющиеся дети плескались в фонтанах, словно стояла середина знойного лета. Я был чужд такому беззаботному веселью, но легкое дыхание этого города всё же овевало меня. Я прожил в нём несколько теплых дней, но так и не ощутил этой легкой радости, которую город, казалось, хотел внушить.
Однажды утром я уселся на желтую лавочку, которая так не походила на ту, что стояла в моем дворе, и задумался о своей жизни с холодностью и равнодушием постороннего человека. Разделяя её на «там» и «здесь», я решил, что моё «здесь» осталось далеко позади. Ту жизнь я принять не смог, и мне осталось лишь начать её снова. Где-то там.
Там я ходил по улице и не видел ничего, что бы напоминало мне о моей жизни. Не было знакомых лавочек, набережных, двориков, где мы с Анной проводили вместе долгие летние дни. Не было там дома Аллы, где я провел ночь, в которой смешались слова, дым и близость. Не было ничего. Ничто не напоминало мне о том мире, где я жил.
Новый город открывал новый мир, я думал, это рай, но сразу вышло наоборот. Пустота убивала меня день за днем. Именно пустота, потому что там, где вымер мой мир, была пустота. И там, где не было и не могло быть моего мира, как, например, здесь, тоже была пустота. Ад был там, где я жил раньше. Но быть вдали от своей жизни значило с периферии адского пекла сползти в самый эпицентр. Я привык к своему аду и всё-таки любил его, насколько позволяло мне моё сердце. В этом лучшем из возможных миров границы ада расширялись прямо пропорционально движению стрелок, танцующих на циферблате городских часов. Я раньше говорил всем при встрече «улыбнитесь». Теперь я хотел бы говорить «никогда не улыбайтесь». Только говорить теперь некому. Я никого не встречал, и никто не встречал меня. Потому что теперь я вальяжно сидел на желтой лавочке неподалеку от чужой набережной, в нескольких сотнях километров от своей жизни.
В моём городе остался асфальт, изученный вплоть до самой незаметной трещинки, исхоженные вдоль и поперек уютные улочки. Девушка, без которой я когда-то не мог представить своей жизни. Анна. Девушка, без которой я прожил всю свою жизнь. Алла. Работа, которую я, кажется, когда-то любил. Стопка писем, которые я, кажется, когда-то писал.
Ну что ж, добро пожаловать. Я силился улыбнуться, но не мог. Никогда не улыбайтесь. Я в десятый раз огляделся вокруг. Этот город был приятен для глаз, но не более того. Я раньше говорил всем «улыбнитесь». А теперь я предпочитаю молчать. Я закрыл глаза. Я представил себя там, в один из тёплых весенних дней, на желтой лавочке и на ветру, и с улыбкой в глазах рядом. Я поймал себя на том, что в своём воображении увидел улыбку в тёмно-зелёных глазах с серебристыми прожилками.
Поддавшись беззаботности этого города, который и поздней осенью веселился, как на летнем курорте, я подумал, что без труда найду здесь похожие глаза, после чего немедленно покинул злополучную лавочку и пошел в неизвестном для себя направлении. «Никогда не улыбайтесь» – подумал я и улыбнулся. Границы ада продолжали расширяться.
Страница 17 Ложь видимости
Летний пейзаж действовал мне на нервы. Мне казалось, что на самом деле в городе невидимо вздымает листья ледяной ветер, балансируя на грани между проливным дождем и сухим, обнажающим дрожь снегом. Но кто-то нарочно повесил перед моими глазами солнце, вырезанное из пластика тупым лезвием, и синий плакат безоблачного неба, чтобы убедить меня в том, что на улице солнечно и тепло. Ложь видимости. Эти люди меня обманывают, лицемерно купаясь в фонтанах, разгуливая в солнечных очках и летних безрукавках.
Я увидел красивую девушку, которая внешне напомнила мне Аллу. Злость разбирала меня от того, что кто-то другой может напоминать мне Аллу своим упругим, загорелым телом, изгибами тонких рук, хрупкостью узких плеч. Это было похоже на неумелую пародию, карикатуру, которая удивляла внешним сходством и внутренним абсурдом. Мне казалось, что она лишь декорация, которую выставили на сцену как напоминание о моём погибшем прошлом. Но она никогда, никогда бы не поняла…
– Пойдем, выпьем что-нибудь вместе? – Я вовсе не хотел с ней знакомиться, и тем более выпивать, просто я хотел проверить, насколько был прав.
– Нет, – Она окинула меня презрительно-снисходительным взглядом и скрылась в подземном переходе, постукивая металлическими набойками каблуков по бетонным плитам.
Я был прав. Она бы не поняла. Да и глаза её были совсем другими, маленькими и черными, как можно найти смысл в таких глазах, как эти? Я улыбнулся. Конечно, я был прав.
Глядя в глаза, я всегда чувствую, до какой степени человек может меня понять. Если он может, то ему неважно, что я скажу, потому что слова ничего не значат. Скажу ли я «сегодня прекрасный день» или «у вас красивые глаза», или «меня зовут Альберт», эти слова будут только символами, которые обозначат связь между нами, не более того. Я никогда не говорю ничего значительного при первых встречах. Я говорю только для того, чтобы не молчать, потому что сложно найти человека, с которым можно молчать с первой секунды. Я начинаю говорить словами гораздо позже, когда чувствую, что понимающего взгляда становится мало. Я рассказываю о себе для того, чтобы потом вновь замолчать и иметь возможность понимать друг друга без слов.
Девушка из перехода, конечно, этого не подозревала. Меня это нисколько не беспокоило. Я знал, что мне нигде не отыскать второй Аллы, сколько бы городов я не объездил и сколько бы подземных переходов не исходил. Я и не искал вторую Аллу, я знал, что она ни на кого не похожа, я просто хотел найти в ком-нибудь хоть сотую долю того понимания, которое существовало между нами, как безбрежный океан слов, которые не нужно произносить вслух. Сотую долю. Смешно.
Неподалеку от перехода я увидел мужчину в зеленом пальто, которое было похоже на то, в котором был однажды дедушка, когда забирал меня из школы. Я увидел миниатюрную женщину с татуировкой на правом плече, как у Анны, только чуть бледнее. Я увидел бездомного пса, точь-в-точь такого же, как тот, которого всегда кормил своим обедом после учебы в начальной школе. Я увидел перекресток, который был как две капли воды похож на другой перекресток, который я видел из окна своего дома. Я столько всего увидел, что мне захотелось закрыть глаза.
Всё вокруг казалось искусственным. Казалось только напоминанием о том, что было, реминисценцией уже пережитого и оставленного позади. Это выглядело, как декорации для несмешной комедии, как уличный театр, созданный для того, чтобы терзать мою память, подбрасывая в нужную минуту полузабытые образы, отброшенные в прошлое на километры минут и секунд.
Мой взгляд скользил по чужим жизням, которые проходили мимо меня в парках, на мостах, проезжали мимо в автомобилях, бросая беглый взгляд из-за стекла, я отводил глаза, чтобы не видеть глубже, чем внешнюю оболочку, но потом я решил, что только в чужих жизнях я могу найти спасение. Узнавая и проживая их, я бы излечил себя от болезни памяти. От Аллиных глаз. От сомнений. От колебаний маятника – от утверждения к отрицанию, и обратно, обратно… От разочарований. От смерти. От всего, что невозможно, но необходимо забыть.
Страница 18 Счастливы друг без друга
Покинув шумный город фонтанов на скоростной электричке, я томился в душном, переполненном вагоне и, чтобы скоротать это людное время, разглядывал бездеятельные лица пассажиров.
У окна сидела изящная женщина, губы которой нежно покоились в полуулыбке. Она выглядела явно моложе своего возраста, который выдавали морщинки в уголках глаз. Быть может, улыбка делала её моложе, но в гуще черных волос поблескивали несколько серебряных. Она держала в руках телефон, иногда посматривая на экран, словно ожидая звонка или сообщения. Она не обращала внимания на сидящих рядом, отстраненно-счастливый взгляд плыл к горизонту желтых полей и возвращался к экрану телефона, взмахивая чёрными парусами ресниц.
Наблюдать за счастьем было приятно, но скучно. Я напряженно отвел глаза. Вагон, в котором мы ехали, был полон людей.
Напротив меня сидел мужчина. Его правый локоть едва заметно соприкасался с рукавом женщины, губы которой застыли в полуулыбке. У мужчины была смугловатая и удивительно ровная кожа, густые волосы цвета тёмного шоколада и большие руки с выпуклыми коротко остриженными ногтями. Он держал в руках скрученную в трубу газету, а глаза его разбегались по вагону. На каждого он, казалось, взглянул по нескольку раз. Когда мы встретились глазами, я едва не опустил свои. Его глаза ослепляли. В них светилась неподдельная радость. Меня это ужаснуло. Неужели я, только я, не умею испытывать ничего подобного.
Стало тоскливо. Эта хорошенькая женщина и смуглый мужчина. Как они, должно быть, счастливы. Они никогда не встречались друг с другом. Не гуляли среди пылающих романтикой осенних парков, не сидели в благоухающих и уютных летних беседках. Не держались за руки на лавочках под накрапывающим промозглым дождём, не встречались губами в ночном бархате постели и не пили чай на светлой, прохладной утренней кухне. Не возвращались вместе с работы. Не сидели вместе в кафе за углом. Не катились по кругу на смешных детских каруселях. Не ходили в кино. Он не уступал ей места в автобусе, не носил её сумок, не путался пальцами в густых волосах, а она никогда не готовила ему ужин, не гладила рубашек, свежо пахнущих стиральным порошком, не засыпала на его плече. Они не встречались ни в метро, ни на площадях, ни под каменными монументами памятников. Они никогда не встречались. Никогда. И они счастливы, бесконечно счастливы друг без друга. Они никогда не знали друг друга и до сих пор ни разу не встретились глазами. Боже, как они счастливы.
Я погрузился в унылое оцепенение. Точь-в-точь как тогда. Мне казалось, что я смотрю вокруг сквозь тонкую белую ткань, мир словно остановился на одной из стадий ускользания, и я с беспечной апатией ждал полного исчезновения.
На предпоследней станции смуглый мужчина вдруг повернулся к улыбчивой даме и они, осторожно, почти невесомо взявшись за руки, исчезли в привокзальной толпе.
Вот оно что – они были счастливы друг с другом.
Стало ещё тоскливей. Белая ткань стала ещё непроницаемей, желтые поля уплывали прочь, не замеченные замкнутым взором.
Страница 19 Горький шоколад, цвет глаз и отсутствие слов
Оказавшись в плену цепкой апатии, я вспоминал друг за другом череду неприятных мелочей, опавшую хвою памяти. Я был ещё ребенком, и едва доставал рукой до дверного звонка. Залаяла собака и с лаем бросилась на дверь. Затрещал замок.
– Я купила тебе кое-что. – Мама стояла в дверях и, не сняв ещё мокрой от талого снега куртки, торопливо искала что-то в квадратной бежевой сумке. Она достала плитку горького шоколада и протянула мне, явно ожидая счастливой, благодарной улыбки.
– Твой любимый.
Я сделал вид, что рад, но долго не мог понять, почему она думает, что я люблю горький шоколад. Я терпеть его не мог, и никогда не знал детей, которые бы любили горький шоколад.
Если бы сейчас я спросил, какой у меня рост, мама бы сказала «максимум 170 см», Анна – «не меньше 180». Обе оказались бы неправы. Я бы спросил о цвете своих глаз, Анна бы назвала их голубоватыми, мама бы сказала, что они серые, «как у папы». Они видят во мне то, что хотят видеть, находят для меня приятный образец, вплоть до мягкости волос, длины пальцев, вредных привычек и выражения лица, – вплоть до всего внешнего, очевидного. Почему они никогда не видели, каков я на самом деле? Каков я изнутри.
На один из праздников Анна подарила мне кофемолку.
– Ты же любишь готовить кофе. – Я едва сумел скрыть своё недоумение. Но уже тогда узнал это женское свойство – безжалостно подстраивать человека под собственную жизнь, даже не замечая этого. Я всегда покупал молотый кофе. И я варил его только по её настойчивым утренним просьбам. Из крохотных деталей быта складывался грандиозный самообман каждого.
Мне вспомнились шоколадки, глаза и кофемолка, на самом же деле каждый день скрывал в себе десятки ошибочных восприятий, невысказанных, незамеченных или сразу же забытых.
Почему он думают, что лучше меня знают, что мне нравится? С чего они взяли, что знают обо мне больше, чем я сам? Как пришло им в голову, что они могут наперед знать, что я сделаю? Только сейчас я увидел, что они всегда считали меня изученным – заученным наизусть, вплоть до самой неуловимой черты. Смешно, ведь они даже не догадывались о моем имени.
– Анна. Я уезжаю.
– На этот раз на сколько? На две недели?
– Я ещё не думал о возвращении. – Смех на другом конце провода.
– Хватит разыгрывать прощание навечно. Ты занимаешься глупостями.
Я не хотел ничего разыгрывать. Быть может, позже она это поняла? Я предпочитал думать, что так и случилось.
– Пока.
Я повесил трубку первым и почувствовал злую радость мелкого превосходства.
Я позвонил Алле. Мне казалось, что она будет беспокоиться обо мне, если не узнает об отъезде. Впрочем, может быть, мне просто хотелось побеспокоить её – поговорить с ней, прежде чем покинуть всё, что было здесь моим. Но было ли что-то действительно моим? Она не взяла трубку. Я написал ей «я уезжаю, надеюсь, встретимся ещё когда-нибудь». Она не ответила, я не ждал от неё ответа. Что можно ответить на эти шесть слов? Я знал, что можно многое ответить даже на одно слово. Но я знал и то, что отсутствие слов – тоже ответ.
Страница 20 Бронзовая девушка и мёртвые люди на фотографиях
– Приехали! Мама, мы приехали! – кричали близнецы в расстегнутых, запачканных завтраком рубашках. Родители в спешке надевали на них одинаковые бирюзовые свитера. Я включил музыку, но перебранка молодой четы раздражала зрение даже немой сценой. Я вышел из вагона первым. Тело заскулило от ветра.
Я назвал это место городом памятников. Первое, что бросилось в глаза, едва я покинул свой вагон и привык к солнечному свету, был огромный монумент, украшавший площадь перед вокзалом. Скульптурная композиция состояла из каменных людей, застывших лицом к вокзалу, словно памятник всем тем, кто обречен вечно ждать своего поезда. Позже, куда бы я ни направился, я везде встречал памятники самых разных форм и масштабов. На улицах было мало людей живых, зато бронзовых было с избытком. Во всём сквозило какое-то монументальное, каменное спокойствие. Мне понравился этот город, принимающий память как должное. Он успокаивал меня. Благодаря скульптурным и архитектурным композициям, разбросанным по его паркам и площадям в удивительно стройном порядке, он помнил всё. Я подумал, что моим воспоминаниям стоило бы тоже поставить памятники, но для этого понабилось бы бессчетное количество городов и скульпторов, и бессчетное количество людей, которые бы жили в этих городах. Было неправильно заставлять их жить среди чужих воспоминаний, чужих образов и смыслов.
Я признал свою идею воплощением эгоизма и присел на лавочку зеленого цвета рядом с довольно невзрачным фонтаном в виде стройной девушки с мячом в руках. На лицо попадали крошечные брызги воды. Светило солнце, на светлых джинсах ярко высвечивалось грязное пятно. На соседней лавочке сидела девушка и что-то говорила телефонной трубке. Мимо пробежал мальчик лет пяти в желтом комбинезоне и синей водолазке. Он с размаху кинул стае грачей кусок недоеденной булки, так что птицы шумно вспорхнули. Мальчик побежал дальше.
– Стой! – кричали ему вслед родители, – нам в другую сторону!
Он не слышал, не слушал. Он бежал вглубь аллеи, обегая деревья по извилистой синусоиде.
Девушка вскочила с лавочки и застучала каблуками по асфальту, громко выкрикивая короткие фразы невидимому собеседнику.
– Где ты был? Я ждала тебя два часа. Конечно, я ушла. Где я? Да нигде!
Обойдя вокруг фонтана, она вновь села на ту же самую лавку и запустила пальцы в русые волосы, и устало склонила голову, и поникла, как цветок припадает к земле под властными порывами ветра.
Мимо проходила бабушка с двумя тяжелыми пакетами из супермаркета. Она присела на лавку отдохнуть, поставив пакеты на землю, отерла пот со лба тыльной стороной ладони. В ясной синеве неба летали грачи, отнимая друг у друга кусок хлеба. С придорожных тополей на мозаичную шестиугольную плитку, на темную землю падали желтые листья. По двухполосной трассе проезжали автомобили – навстречу и мимо друг друга. Из-под их колес летели желтые листья, взмывали над автомобилями, и, отлетев, оседали на обочину.
Вскоре девушка ушла быстрым, судорожным шагом в сторону остановки. Бабушка подхватила пакеты и продолжила свой путь. Мимо прошёл мальчик, боязливо держась за руку сердитой мамы. Грачи перестали летать в небе и спрятались в ветвях, среди остатков листвы. Я снова был один.
Закрыв лицо руками, я представил, как бронзовая девушка с мячом – скульптура из фонтана – положила на землю свой тяжелый шар и легкой поступью подошла ко мне. Я убрал руку от лица, чтобы погладить её по влажным бронзовым волосам и посмотреть в огромные бронзовые глаза. В глубокие, бронзовые глаза с серыми прожилками. Но она так и осталась фонтаном. Я поехал в неизвестном направлении, надеясь как-нибудь невзначай найти себе квартиру на несколько дней.
В автобусе пахло грязью и дешёвыми приторными духами. Напротив меня сидела морщинистая старушка с ласковым и открытым лицом в пестром платке. Её больные, влажные глаза были, казалось, до краев наполнены слезами. Она умрет. Рядом с ней сидел мужчина средних лет с кожаным портмоне в нежных, почти женских руках и белоснежным воротом шелковой рубашки, видневшимся из-под пальто. Он умрет. Рядом со мной сидела девушка в черных колготках с узором и коричневых замшевых туфлях. Она умрет. Я сидел, прислонившись к стеклу с равнодушным лицом и предательски закрывающимися глазами. Я тоже умру.
Мне хотелось резко встать и спросить их, для чего они здесь сидят и устало смотрят в стекла, если всё равно скоро сгниют в земле. Но я задал этот вопрос себе и не нашел ответа, кроме неопределенной фразы «в этом должен быть какой-то смысл». Неправда. Смысл ничего не должен. Тем более – быть.
Я вспомнил, как однажды моя бабушка показывала мне старый альбом с чёрно-белыми фотографиями. Она медленно перелистывала пожелтевшие картонные страницы и показывала мне моих умерших родственников, с умилением перебирая старые воспоминания. Статный мужчина с уверенным взглядом держал руки в карманах на фотографии, а потом повесился в деревенском сарае тёплым летним днём. Его сын спрыгнул с двадцатого этажа. На фотографии ему всего несколько месяцев и он завернут в клетчатое одеяло. На соседней фотографии красивая девушка с матовой кожей и огромными грустными глазами, которая пару десятков лет назад умерла от рака. Обаятельный брюнет в чёрном пиджаке, который нежно обнял её за талию, пропал без вести.
Мне хотелось захлопнуть альбом и убежать на улицу, чтобы увидеть пока ещё живых людей, но из уважения к бабушке я остался и глотал чужие смерти, как горькую настойку из трав, которую она заваривала, когда у меня начинался кашель.
Теперь я наблюдал в грязном автобусе пока ещё живых людей, и мне хотелось выскочить на ближайшей остановке и найти свою бабушку, чтобы увидеть чёрно-белые потускневшие снимки мертвых. Но моя бабушка мертва.
Мужчина с белым воротником посмотрел мне в глаза и тут же отвернулся к окну. Больше всего я не люблю, когда чужие люди сидят напротив и смотрят в глаза. Ещё больше я не люблю, когда они отводят взгляд. Но это не так уж важно. Он всё равно умрет.
Мне хотелось сказать ему, что он умрет, не оставив после себя даже пыли с подошв на полу автобуса, потому что каждый вечер автобусы моют на стоянке. Мне хотелось сказать, что некоторые оставляют после себя бронзовые памятники или фонтаны в виде стройных девушек с мячами. Но подле них подолгу сидят только просто одетые люди, и они только лениво курят дешевые сигареты. Люди садятся на зеленые лавочки или проходят мимо с покупками, видя в памятнике не более чем просто камень или металл. Они думают, что так и должно быть.
– Молодой человек, это конечная остановка! Выходите из автобуса! – старая кондукторша в синей форме трясла меня за плечи. Автобус был пуст.
Я покинул город памятников довольно быстро, устремившись вперёд с любопытством человека, тоскующего по всему, что ещё не успело произойти.
Страница 21 Больные жизнью
Я знал, как рискованно тосковать по всему, что ещё не успело произойти, но мало волновался об этом, ведь меня ждали города, где я ещё никогда не был. Я верил, что где-то там осталась моя новая жизнь, готовая начаться, стоит мне только выйти из поезда. На какой почве укоренилась эта фанатичная, слепая вера? Как глупо думать, что жизнь начнется сама собой, как если бы среди холодной зимы речные воды вольным размахом течения разбили бы лед и потекли бы вдаль, и вширь, – прочь из русла.
Я прибыл в новый город рано утром. Он приветствовал меня серым небом и серыми улицами, под стать сокращенному до серого спектру моего мира. Серые заводские трубы выдыхали серый дым в серые облака, которые были лишь на тон светлее серого неба, в котором летали серые птицы. На серых лавочках, серых сиденьях в автобусах, серых бордюрах и парапетах сидели люди, и даже их лица были (или казались мне) серыми. Большинство из них разговаривали негромко, словно в больнице или зале заседаний.
Под благодатным серым небом этого города выросло и моё отчаяние. Я впервые вспомнил о том, что я болен. Всё вокруг выглядело больным, от всего веяло немощью, увяданием, – как пахнут гниющие листья. Каждый встречавшийся мне походил на истощенного пациента этого госпиталя с серыми стенами, от одного вида их можно было заболеть. Бледные лица смотрели мимо меня безжизненными глазами. Мимо прошел мужчина, он толкал перед собой пустую инвалидную коляску. Прямо на тротуаре лежало грязное тело, я не мог понять, пьян этот человек или мертв, и решил, что лучше мне этого не знать. Дорогу мне перебежала облезлая чёрная кошка, хромающая на заднюю лапу.
Не этого я ждал от новых мест, сколько раз я упрекал себя в ожиданиях, которые рождались внутри, как новые звезды, но скоропостижно падали с неба и разбивались о несчастные случаи моей жизни. Чем меньше ожиданий, тем лучше. Никогда ничего не ждите. Никогда не стройте планов.
Я никогда не думал о будущем. Мне всегда были больше по душе пепел прошлого и ветер настоящего. Я знал, что строить планы бесполезно. Реальность не ломает ожиданий, нет, она не нарушает планы. Просто она не знает таких слов и живет сама по себе, не замечая людей, которые возлагают на мир весь пыл своих неоправданных надежд. Иногда её закономерности совпадают с нашими устремлениями, чаще всего – нет.
Однажды мне пришлось признать, что мир оказался сильнее, – сильнее меня. Это началось с внезапного головокружения. Перед глазами стали расплываться желтые круги, я почувствовал, что теряю реальность из вида. С каждым днём становилось немного хуже, головокружения повторялись всё чаще. Я не обращал внимания, столь ничтожны были эти изменения в моем здоровье, на которое я не привык расходовать запасы своего времени. К тому же я любил свою болезнь самой искренней любовью. Она иллюстрировала меня, как разбитое зеркало, о котором я расскажу позже. Не сокровенная ли моя сущность – время от времени терять реальность из вида? Но позже я уже не мог жить жизнью теряющего сознание.
Изо дня в день я приходил в кабинет с грязными стенами и коричневой дверью, к женщине в белом халате с короткими чёрными волосами. Каждый раз в моей медицинской книжке прибавлялась страница, а дома на письменном столе рос ворох рецептов и груда лекарств, каждое из которых не приближало меня к выздоровлению. Сначала врачи предположили, что у меня психогенное головокружение, связанное со стрессом. Лечение не помогло мне, и они решили, что у меня мигрень, о чём я знал с детства. Мигрень нельзя вылечить, можно только облегчить. Но легче не становилось. Выздоровления не было, и я перестал в него верить, как подросшие дети перестают верить сказкам и чудесам. Выздоровления не было, мир оказался сильнее.
В один из новых дней страниц и лекарств мне сказали, что у меня болезнь Меньера, и вполне возможно, я буду медленно терять слух до полной глухоты. Зачем-то мне рассказали, что Меньер – это французский врач, зачем-то погладили по руке, – что уже само по себе внушало опасения – а после заверили, что такая болезнь вовсе не редкость. Поверить в это, разумеется, было уже немыслимо, а в рецепте я не мог разобрать ни слова. Позже я узнал, что и здесь полное выздоровление невозможно, в медицинских силах лишь смягчать болезненные приступы шума в ушах, головокружений, тошноты, которые наступают предательски внезапно, как удар в спину.
Когда я закрыл за собой коричневую дверь и покинул мрачное серое здание с умирающими людьми, на улице шёл дождь. Ветер срывал с деревьев желтые листья и швырял их на дорогу, мне под ноги. Насквозь промокнув, я пришёл домой и упал на диван.
Я упал на диван, чтобы забыть, что мир оказался сильнее. Чтобы забыть о том, что мир убивает меня. Что мир убивает каждого. Те, кто не лежал в одной палате с больными раком на последних стадиях, те, кто не наливал себе шесть раз в день стакан воды, чтобы запить очередную горсть таблеток, ещё хранят светлую иллюзию о том, что мир – это праздник жизни. Однажды, совершенно случайно, не будучи безнадежно больным, я попал в палату полумертвых людей и пробыл там неделю, чувствуя, что ещё не много, и я не выдержу, – и сбежал оттуда, не предупредив врачей. Мир – это похороны. Мрачное серое здание с умирающими людьми, которые больны жизнью. Неизлечимо.
Я взял мусорное ведро и одним широким движением руки сгреб в него все свои лекарства. Я спустил их в мусоропровод, и они гулко провалились вниз. Вслед за этим, по сути, чисто символическим действом, впервые за много дней я ощутил в себе прилив сил, словно это таблетки делали меня больным. Таблетки созданы, чтобы отдалить человека от смерти на сколь возможно большое расстояние. Расширить горизонты будущего. Но я не верил в будущее. Таблетки делали меня зависимым от того, во что я не верил. Они стали просто бесполезным обрядом, связанным с горечью во рту и вкусом холодной воды. Это всё равно, что три раза в день читать молитвы, не веря в бога. Я выбросил этот молитвенник будущего. Все мои молитвы летели вслед всему, что давно прошло. Всему, к чему было тем сложнее вернуться, чем дальше я уезжал. Я хотел уничтожить свое прошлое. Не потому ли, что больше всего им дорожил?
Я выбросил лекарства и оставил себе возможность балансировать на грани между реальностью и небытием, – я не мог найти для себя места ни там, ни здесь. К тому же, я всегда думал, что, только балансируя между этими двумя безднами, можно почувствовать, что существуешь. Это вовсе не значит, что я проживал каждый день, как последний. Что вообще значит это выражение, так воодушевляющее всех живых? Почему перед тем, как умереть, я должен делать что-то другое? Сказать всё, что не мог сказать раньше? Зачем говорить, если я привык ни о чем не рассказывать? В предсмертной спешке осуществлять мечты? Но зачем, если вот-вот меня не станет, и я даже не успею обрадоваться их исполнению? Ещё раз сказать всем близким слово «люблю»? Чем больше повторяешь одно и то же слово, тем меньше оно значит. Остро чувствовать свое существование значит всегда рисковать его утратить, – и от этого ощутить смысл в каждой детали хрупкого бытия. Понять жизнь до конца, – вот чего я хотел бы перед смертью – а не разбрасывать слова и не бежать на морской берег. Сколь бы сильно не любил я морские горизонты.
Страница 22 Там, за лесом
Я часто думаю о том, где же взяла начало моя любовь к прошедшему и безразличие к тому, что последует за настоящим. Быть может, из моего детства? Оно было полно мечтами, осуществления которых я ждал «чуть позже». Я подозревал, что будущего нет, но пытался верить в него изо всех сил. Напрасно. Будущее оказалось лишь выдумкой. Выдумкой людей, которые привыкли жить завтрашним днём, словно этот завтрашний день задолжал им всё счастье, которое они не сумели ощутить в настоящем.
Будучи ребенком, я, как и все обыкновенные дети, часто гостил в деревне у бабушки. Её просторный бревенчатый домик словно создан был для того, чтобы играть в прятки, и каждый день открывать новые потайные уголки, отыскивать чудные сокровища. Однажды я нашёл на чердаке старую оловянную машинку, которой играл ещё мой дедушка, когда был маленьким. Я очень гордился этой находкой и долго хранил её в ящике письменного стола.
Сколько увлекательного встречал я на пути, стоило только выбежать из дома, с трудом открыв тяжелую дубовую дверь. Неподалеку лениво паслись коровы. За низким забором цвели нескошенные луга, где пахло ромашкой, зверобоем и полынью. Кристально чистый пруд поодаль, где с веселым смехом и громкими криками когда-то плескались мы большой гурьбой. Потом в этом пруду утонул теленок, и с тех пор боялись к нему подходить.
Вдоволь наигравшись, я, довольный и уставший, прибегал домой, когда бабушка звала обедать. Садился на деревянный стул, – его дедушка смастерил специально для меня – резной и на высоких ножках. Стол неизменно покрывала расшитая узорами белоснежная скатерть. Он стоял вплотную к окошку, и я любил, облокотившись на руку, глядеть за окно, вдаль. Деревушка была совсем маленькая. С одной стороны дорога из неё уводила в соседний посёлок, а с другой стороны открывался вид на поля, которые тянулись далеко вперед, раскинувшись как лоскутное одеяло. Поля, засеянные рожью, пшеницей, овсом, или не засеянные вовсе и пестревшие гвоздиками, ромашками, дикими васильками, сурепкой. А за полями виднелась высокая непроходимая стена – настоящий дремучий лес.
Однажды я спросил у бабушки:
– А что там, за лесом?
– Никто не знает – обманывала меня бабушка, – Никто из местных не бывал на той стороне. Были изучены звериные тропки, протоптаны дорожки до родников, замечены грибные места, но вот на ту сторону леса никто не ходил: лес немаленький, да и незачем.
С тех пор я мечтал разгадать эту загадку. Всё свое детство я провел с мечтой побывать там, за лесом.
Там, за лесом…
Иногда я думал, что там – большой город с необыкновенной красоты садами и парками, где люди разъезжают по улицам на позолоченных каретах, запряженных в собачьи упряжки, или ходят на головах – в общем, там меня должно было ожидать что-то совершенно из ряда вон выходящее.
Там, за лесом…
А что, если там стоит древний, мрачный замок, где живёт коварный злодей, который вот-вот захватит мир? И только мы, жители нашей маленькой деревушки, можем помешать его планам осуществиться. Я взывал к активным действиям, но мне никто не верил, и под конец я смирился с тем, что наш мир окажется под властью этого злодея.
Но злодей не спешил захватывать мир, и я строил всё новые и новые догадки. Там живут привидения, или растут волшебные цветы, и порхают над этими цветами невероятной величины разноцветные бабочки.
Там, за лесом…
Каждый день в своих мечтах я разгуливал там. На той стороне.
Время догадок, смелых мечтаний и фантазий, почерпнутых из прочитанных сказок.
Повзрослев, я отправился ну ту сторону, захватив с собой походный рюкзак, компас и собаку. Расстояния оказались не такими большими, какими рисовало их воображение и бабушкины рассказы. Я шёл не так уж долго, когда впереди между раскидистых еловых ветвей замелькали солнечные блики. По краю леса рос плотный кустарник, пробраться через который оказалось непростой задачей. Но вот, наконец, путь был проложен. Отодвинув рукой последнюю ветвь куста, я вышел на опушку. Я вышел на опушку и замер на месте.
Там за лесом…
Там, за лесом – ничего нет.
Страница 23 Крик о помощи кричащему о помощи
Я не мог избавиться от одиночества в этом сером городе больных жизнью. Я чувствовал себя навсегда потерянным для мира и людей, но не мог уехать. Отчаяние властвовало надо мной. Оно не было для меня разрушительным чувством. Я имел к нему привычку, похожую на привычку к курению. Я никогда не мог долго наслаждаться счастьем, беззаботным, как вечное лето в городе фонтанов. Я начинал скучать по грусти, и с возрастающим нетерпением ожидал её прихода. Я редко признавался себе в этом и всегда наигранно (или так кажется только теперь?) сокрушался перед самим собой, что безутешно мечтаю о счастье, а судьба преподносит мне новые и новые удары.
Но правда состояла в том, что слишком долгое спокойствие неизменно рождало тоску по отчаянию, я не находил себе места, я ждал прихода отчаяния, как заядлый курильщик ждет новой сигареты. Эта плохая привычка, но труднее всего искореняемая, потому что она порабощает душу, а не тело. Отчаяние предсказуемо, как волна, которая ритмично, раз за разом набегает на тихий песчаный берег мыслей. Я знал, что мне не избежать этой волны. Я знал, что буду счастлив, когда эта волна накроет меня с головой. Я знал всё это и ждал, что волна вот-вот набежит на берег.
Почти с наслаждением позволив отчаянию завладеть мной, я отправился в вечернее путешествие по улицам, которые в этом городе никогда не становились чёрными, а лишь приобретали более глубокие оттенки серого цвета.
На одной из центральных улиц перед большим супермаркетом сидел калека без ног и рук и приговаривал: «Помогите, пожалуйста! Помоги-и-ите, пожа-а-алуйста!»
Я высыпал ему в сумку всю мелочь из кошелька и сел рядом с ним на остывшие бетонные плиты. У него были только наполовину поседевшие волосы, но морщины на обветренном лице и глубокая усталость во впалых глазах, цвета которых я не мог разглядеть в сумерках. Мне хотелось спасти себя от одиночества, я готов был кричать о помощи, и я выбрал его для своего тихого крика, сам не зная почему.
– Кем вы были раньше?
– Экспедитором.
– Где вы побывали?
– В Баренцевом море.
– У вас никого нет?
– Жена.
– Тогда почему вы здесь?
– Пенсии не хватает.
– Что с вами случилось?
– Я попал в автокатастрофу.
– Давно?
– Пятнадцать лет назад.
– Давайте поговорим, – попросил я, с нескрываемым отчаянием глядя в его лицо, которое не выражало никаких эмоций. Это был мой первый крик о помощи, который услышали люди. Первый и последний. Боль душила меня. Я упивался отчаянием.
– О чем?
– О чем угодно.
Несколько секунд молчания. Это было новое молчание. Молчание ожидающее. «Помоги-и-ите, пожа-а-алуйста!» – успел крикнуть он, пока я ждал, а потом, наконец, коротко и строго, но без тени злости, произнес:
– Ты лучше отойди. Когда ты рядом, все проходят мимо.
Одиночество душило меня. Внутри себя я захлебывался в рыданиях. Я молча встал и пошёл прочь. «Помоги-и-ите, пожа-а-луйста!» ещё долго раздавалось в воздухе позади меня.
На самом деле я понимал, что сам причинил себе боль. Глупо было просить о помощи у того, кто нуждался в ней больше, чем я сам. Я заговорил именно с ним, потому что почувствовал в нём более глубокое и продолжительное одиночество, чем моё, но его одиночество было иным. Он спрятался в нём, как в толстой скорлупе, ему не было дела до других людей, ему было всё равно, унижаться перед ними или делать что-то ещё, он не нуждался в людях, он нуждался в деньгах.
Его волосы стали наполовину серыми, зарубцевались огромные раны на месте рук и ног, его кожа стала грубой ещё под холодными ветрами Баренцева моря, но сердце его зачерствело многими годами позже. Я понял это и простил ему равнодушие к чужому одиночеству.
Мне даже захотелось побыть одному, и я пошел домой, пить кофе и смотреть через холодное оконное стекло на все, что происходит снаружи. Только снаружи ничего не происходит. Ходят по тротуарам люди – одни и те же люди, по одинаковым тротуарам. Большинству из них жизнь кажется выносимой, потому что думать о ней у них нет времени. Но однажды кто-нибудь из них подумает, – и идеальная конструкция обыденности рухнет к чертям.
Излечившись за долгую бессонную ночь от лихорадки отчаяния, я вскоре исчез из этого города, оставив его жителей просить милостыню у торговых центров и запоздало искать лекарства от привычки к одиночеству.
Страница 24 Размытые краски чужой жизни
Оставшись наедине с городами, вагонами и рельсами, я терял свою жизнь на горизонте памяти, но приобретал новые и новые мысли о ней. Бесполезные мысли о прошлом, которое напоминало пыльный старый фотоальбом. Альбом, где можно увидеть каждый нюанс канувших в Лету чувств и событий. Можно увидеть, как я веселился с друзьями, как был счастлив с Анной, как выражал свою нежность, убирая прядь волос ей за ухо, можно всё увидеть, но почувствовать это вновь – никогда.
Как-то раз, направляясь в магазин через небольшой лес, я оказался на отлично вытоптанной, но испорченной дождем тропинке. Бездомные жители города заботливо разложили вдоль дороги свои спальные места из телогреек, старых матрасов или сдутых резиновых лодок. Вокруг валялись пустые бутылки. Из-под пива, водки, настойки боярышника и портвейна. Вдалеке, как путеводная звезда, виднелся яркий экран с видеорекламой возле магазина. Небо было серое. Уже повеяло вечерней прохладой. Моросил дождь.
Я взглянул себе под ноги, споткнувшись о кочку, и увидел там размокший и грязный альбом с фотографиями. Бережно подняв, я унес его с собой. Я не мог не поднять. Расплывшиеся краски, фрагменты лиц, жестов, мимики цепляли, как разбитое зеркало. В моих руках оказалась шумная свадьба. Девушка – красивая блондинка с пронизывающим взглядом. Я не знал, был ли он таким в реальности или таким его сделала дождевая вода.
Я погрузился в размытые краски чужой жизни. Мне представилась шумная свадьба, на которой все были счастливы. Белоснежное платье невесты. Насыщенно черный костюм жениха. Кто из них больше ждал этого дня? Он надевает кольцо, касаясь её чуть дрожащих нежных рук с длинными пальцами. Она смотрит на выражение его лица с чувством, близким к восторгу. Они танцуют в центре ярко освещенного зала. Боясь быть услышанным, он произносит, приблизив губы к её уху: «Теперь – навсегда». Её лицо озаряет улыбка женщины, которая знает, что она единственная. «Я люблю тебя». «Горько!» Никогда не любил традицию кричать «Горько» на свадьбах. Сколько часов они были счастливы? По его лицу пробежала тень, когда он увидел усталость в её глазах. Или он не заметил усталости? Я подумал, что, должно быть, она была с ним несчастна. В альбоме этот момент ещё не наступил, но предчувствие его сквозило в каждой фотографии. Хотя, быть может, я выдумал это предчувствие, или его выдумал дождь, размыв очертания и краски и оставив от изображений лишь фрагменты.
Я затосковал по утерянному прошлому. Стало холоднее. Счастливая свадьба лежала на грязной дороге и промокала под немилосердным дождем. Кто оставил эти воспоминания здесь, не пожелав хранить их при себе? Жест ли это равнодушной руки с длинными пальцами или неизбывное горе пронзительных глаз? Я вглядывался в светлое лицо девушки, ища ответов на все свои вопросы. Она не отвечала. Лица мужчины не было отчетливо видно ни на одном из снимков.
Склеенные друг с другом фотографии в моих руках истекали каплями дождя и позабытым прошлым. Слипшиеся друг с другом впечатления, склеившиеся дни, которые едва возможно отличить один от другого. Краски прошлого стекали по моим пальцам, я смыл его остатки под краном и сберег чужое время, высушив и сохранив всё то, что осталось от фотографий. Сделал гербарий из чужого прошлого. Не глупость ли?
Я бы создал музей испорченных фотографий, если бы мог. Точнее, если бы сильнее хотел. Музей всего, что не удалось ни сохранить, ни полностью утратить.
Страница 25 Эй, куда ты
Если бы сильнее хотел, я бы сбежал из своего города раньше. Но я берег исполнение своей единственной непротиворечивой мечты для особого случая. Однако жить там становилось все невыносимей. Иногда я впадал в отчаяние, потому что понимал, что никуда мне не деться. Некуда. Всё будет так же, совершенно так же, как у всех людей вокруг, по алгоритму, отработанному веками. Детский сад, школа, университет или техникум, работа. Работа с утра до вечера, мечтать и видеть сны можно только по воскресеньям. Пирамида из лекарств на письменном столе. Любовь, одиночество, счастье, скука. Рутина, тоска, постоянство. Смерть. Я мечтал вычеркнуть себя из этой схемы. Жить иначе. Выбрать что-то другое.
Теперь я жил иначе. Я всегда знал, что мечта о постоянстве гораздо приятнее, чем само постоянство. Однако чем дольше я лавировал между городами, нигде не оставаясь более чем на месяц, моя жизнь превращалась в новое постоянство. Постоянное непостоянство места пребывания, только и всего. Постоянство неизбежно.
Раньше я в это не верил, особенно в то время, когда готовил свой окончательный побег из города. Я работал в литературном журнале. Я любил свою работу, но не любил обязательства, которые отнимали всё моё время. Поэтому однажды сбежал из редакции и больше ни разу там не появился. Мне хотелось иметь время, чтобы разделить свою жизнь на страницы.
Во время своего последнего рабочего дня я молча сидел за компьютером, опустив руки и чуть наклонив голову, чтобы спрятать свой обо всём рассказывающий взгляд. Это была напрасная предосторожность, потому что никто не обращал на меня внимания. На столе стояла недопитая кружка кофе. В нескольких сантиметрах от меня сидел с ноутбуком мой друг. Из-под его бегающих по клавиатуре пальцев рождалась новая статья. Другие люди сновали туда-сюда по своим делам. За окном шёл снег с дождем. В голове было пусто. Мои мысли запорошил снег. Я сорвался с места и побежал? Нет. Я встал со стула, неторопливо собрал свои вещи и, не поднимая головы, вышел из комнаты. Кружка так и осталась стоять на столе. Ни одни глаза не проводили меня до дверей директора. Ни одни глаза не проводили меня до выхода.
Я спускался по лестнице, медленно отсчитывая ступени. Я всё ещё ждал, что кто-нибудь хватится меня, откроет дверь и крикнет: «Эй, ты куда?». Но я слышал только звук своих шагов. На самом деле я боялся оставить всё. Я хотел, чтобы реальность дала мне повод остаться. Но за сто ступеней никто не вспомнил обо мне. К чему было ждать дольше? Я ускорил шаг и вышел без шапки под снег с дождем. Ветер немилосердно трепал волосы, пробрался под шерстяной шарф и оставил на моей груди холод поздней осени. Пальто промокло насквозь. По лицу стекал талый снег, смешанный с каплями дождя. Вскоре я перестал чувствовать всё, кроме дрожи, которая пронизывала тело, и опустошенности, которая расползалась внутри. Но вскоре и их смыло водой.
Так у меня не осталось никаких обязанностей, которые могли заставить меня не купить билет на поезд и не уехать насколько возможно дальше от того, что я называл своим домом. Так, я не нашел повода остаться и сто ступеней ожидания стали лишь поводом, чтобы уйти. Никто и подумать не мог, что я спускаюсь по этой лестнице последний раз, все были заняты своим делом и думали, что я занят своим. Я действительно был занят, но я был занят собой.
Я хотел сломать своё постоянство.
Мне был нужен лишь повод, ничтожная причина, я сам хотел остаться незамеченным, а потом разыграть перед самим собой трагедию всеми забытого героя-неудачника, жалея себя с болезненным самообожанием. Какой же беспросветный эгоизм в каждом моем поступке, даже отчаяние пропитано самовлюбленностью Нарцисса, увидевшего своё отражение в мутной воде. Но тогда я любил свой эгоизм, считая, что хроническая мигрень и болезнь Меньера искупают его, – это была моя наивная теория уравновешивающей справедливости. Теперь я знаю, что справедливости нет.
Страница 26 Зима, мосты и холодные руки
Я хорошо помню холодный город, где встретил позднюю одинокую зиму, скупую на снег и слова.
В то время я жил в крохотной комнатке – из окна была видна изумрудная полоса соснового леса и синий горизонт. За шкафом поселилась серая крыса с лысым, нежно розовым хвостом. Вечером, когда я ложился спать, сквозь сонную тишь всегда слышался шорох её движений. Я кормил её, и она привыкла к моему присутствию.
Проснувшись однажды утром от холода, я ощутил свежий запах наступающей зимы, который проник в комнату через открытое на ночь окно. Я вышел навстречу возлюбленному холоду ещё до рассвета, и морозный воздух сразу обжег ноздри. На краю леса сквозь редкие деревья было видно, как трепетал алый рассвет, постепенно набирая силу и разрывая узкую полосу туч настойчивыми лучами. Над моей головой плыло молчаливое ночное небо, изящные фигуры деревьев приобретали яркую черноту в свету контражура. Перейдя на бег, я стремительно миновал деревья и, шумно дыша, остановился в поле. Пожухлая, но кое-где ещё зеленеющая трава, искрилась инеем, я вслушивался в свои осторожные, хрустящие шаги. Воздух ожил, изо рта шёл пар. Предвестие зимы принесло такую не похожую на меня лёгкость. Я дождался, пока солнце чуть поднимется над горизонтом, и повернул назад. Когда я вернулся в город, лучи уже касались верхних этажей. Было такое прекрасное утро.
Было и прошло…
Но зима близилась. Больше других времен года я любил это тёмное, студеное время и всегда предпочитал сугробы и ледяные ветры невыносимо жаркому солнцу лета. Я любил зиму не за то, что её морозы дают отчетливее ощутить радость тепла, я любил её за то, что в это время холод снаружи вступает в резонанс с внутренним холодом, который боязливо прятался всё лето в ледяных кончиках пальцев. Зимы жаждали мои холодные руки, которые не имели ничего родственного ни с чем, кроме снега.
Но снег заставил себя ждать. Не было снегопада даже в новый год. Я встретил его в этом же городе. Больше всего я любил там мосты: их было так много на замерзшей реке, что казалось, будто противоположные берега нарочно крепко привязали друг к другу прочными металлическими нитями. Словно без них стороны реки могли в любую минуту оттолкнуться друг от друга и разъехаться в разные стороны на непреодолимо большое расстояние.
Много дней подряд я разгуливал по мостам до тех пор, пока не переставал чувствовать пальцев от мороза. Если не обращать внимания на проезжающие машины, мосты почти всегда безлюдны. Только один раз я увидел на мосту девушку. Она сидела на парапете, свесив ноги над рекой, и смотрела вниз, на лёд. Я инстинктивно испугался, вспомнив мужчину, выпавшего из окна. Но не знал, что делать, и, остановившись неподалеку, сделал вид, что смотрю вдаль. Немного погодя она слезла с парапета и ушла в противоположную от меня сторону.
На одном из этих мостов я встретил новый год. На моих остановившихся часах он не наступил, но я узнал о его приходе по громким крикам и залпам тысячи салютов. Я поймал себя на том, что чувствую праздничную торжественность и упрекнул себя: празднуя новый год, я отдавал дань времени. Я упрекал себя в непоследовательности, ведь я садился в свою первую электричку для того, чтобы убежать от времени. Но, преодолев тысячи километров, я сбежал пока лишь от привычного пространства, от своей жизни, которую продолжал мысленно проживать, будто никуда не уехал. А время по-прежнему текло шумным потоком мимо меня, сквозь меня, через меня, невзирая на меня. Я решил, что справлюсь, и всё-таки одолею его. Когда-нибудь все часы мира падут ниц перед моим безвременьем.
Обычно я встречал новый год, окруженный голосами друзей и ликующим звоном бокалов. Но, вопреки нарушенной привычке, мне было вовсе не тягостно одному. Я открыл коробку красного вина, такого же, что мы пили с Аллой на крыше, сделал холодный глоток и выдохнул пар. Хотелось снега. Но небо было чистым. В нём смешались звёзды и салюты.
– С новым годом! Как ты? – Родной голос в телефонной трубке.
– С новым годом. Всё нормально.
– Как дела? С кем ты отмечаешь?
– Мам..
– Ладно.
Молчание.
– Доброй ночи.
– Звони.
По дороге домой я слушал, как на улицах шумят праздничные компании. В подъезде, на лестничной клетке, спал, закутавшись в несколько старых курток, неизвестный мне мужчина. В его неподвижной руке покоилась опустошенная бутылка виски, которая никак не сочеталась с его грязным небритым лицом, одеялом из старых курток и потертыми башмаками. Услышав, как хлопнула входная дверь, он медленно приподнялся и уставился на меня непонимающим взглядом.
– Новый год уже наступил? – озадаченно пробормотал он, обращаясь не ко мне, а куда-то в пространство, открытое лишь для него.
– Несколько часов назад, – подтвердил я и не спеша поднялся по лестнице на свой этаж, думая о том, что времени не замечает лишь тот, кто о нём не думает. Этот мужчина не слышал ни грохота салютов, ни звона бокалов, ни радостных криков по случаю праздника. Я проникся к нему искренним уважением. Что бы я ни делал, я не был способен полностью отречься от времени и не замечать минут, которые тихо ускользали от меня, лицемерно желая быть незамеченными, но в то же время крича о своём существовании.
Я уснул лишь на рассвете под приглушенный кирпичными стенами прощальный грохот последних салютов. Крыса перебирала лапками по полу в поисках еды.
Страница 27 Появление Августы и вещи, которые сближают
Спустя пару дней, сидя в купе и прислонившись головой к холодному стеклу, я воображал себе вожделенный снегопад. Попутчиков не было. Мысли покинули меня, вмерзнув в зимний день. Рассеянный взгляд искал опоры, но всё, что было вокруг, я видел много, слишком много раз. Казалось, когда-то я узнал всё наперед и теперь скучающим взглядом искал трещины в изученном до слёз трафарете.
Одна из станций подарила мне попутчицу. Признаться, я был рад её появлению. А она, резко и звучно сбросив с плеч тяжелую сумку, достала книгу и села к окну, даже не взглянув в мою сторону. Я простил ей это, потому что был рад её появлению. Я поймал себя на том, что был слишком рад.
Её несколько небрежная красота рождалась из необычных черт лица, так не похожего на лица, в которые я глядел и тут же забывал, когда они переставали мелькать перед глазами. У неё были тёмно-зелёные глаза с серыми прожилками, похожие на глаза Аллы, излишне белая кожа, тёмная родинка над верхней губой, небольшой узкий нос и развитые скулы. Красные волосы беспорядочно разлетелись в стороны.
Пожалев о том, что её поведение не располагает к разговору, я внимательно изучал её, пользуясь тем, что она вовсе не отрывала глаз от книги, лишь изредка поглядывая в окно, в момент движения руки в поисках новой страницы. На ней было карминового цвета пальто с чёрными, глянцевыми пуговицами, ажурный белый свитер, браслет из чёрной кожи, плотно облегающий тонкое запястье. Я заметил нежный шрам на подбородке. Такой же, только более явный, я видел у знакомого скрипача. Мне почему-то пришло в голову, что её могут звать только Вера, хотя я не знал никого с таким именем. Желая проверить свои догадки, я бесцеремонно нарушил молчание.
– Давно ты играешь на скрипке? – Спросил я наудачу, думая, что, если окажусь прав, то расположу её к себе.
Она удивленно подняла на меня глаза, будто впервые заметила моё присутствие. Но удивление длилось лишь секунду. Она равнодушно сказала:
– Всю жизнь. – И тут же опустила глаза на страницы. Такое равнодушие к моей наблюдательности задело моё самолюбие, но я на этот раз не жалел его.
– Как тебя зовут?
– Августа.
Я недоверчиво улыбнулся.
– Не может быть. Мне кажется, что тебя зовут Вера.
– А мне кажется, что ты идиот. – Сказала она с неестественной, напряженной заносчивостью.
Меня рассмешила её грубость. Это резкое, внезапное раздражение совпадало с её беспорядочно разбросанными по плечам волосами, но противоречило мечтательному, почти нежному выражению глаз. Я понял, что беседовать она совсем не расположена, и вновь прислонился головой к стеклу, притворившись безразличным.
Она то и дело поглядывала в мою сторону несколько удивленно и тут же отводила глаза. Однако к вечеру мы неожиданно разговорились. Мне показалось, что я впервые за время своего путешествия встретил человека, который был готов говорить со мной не так, как обычно разговаривают случайные попутчики, а говорить, каждым новым словом выстраивая мосты.
Я рассказал ей о своём друге, воспоминания о котором вопреки моему желанию необратимо оседали на дно памяти, каждый день рискуя упасть в чёрную дыру и там окончательно пропасть.
– Это был странный человек, мой друг… – Произнес я задумчиво, не зная, с чего начать.
– Но не более странный, чем ты? – улыбнулась Августа.
– Во мне нет ничего странного.
– Ты не отвечаешь, когда тебе задает вопросы человек, который тебе не приятен, пусть даже у него всего лишь распухшее красное лицо, как у того мужчины, который спросил полчаса назад название станции. У меня на глазах ты зачеркивал строки в абсолютно новой книге, а потом вырвал из неё три страницы.
– Но это была отвратительная книга!
– В твоей сумке больше книг, чем вещей. Это видно сразу. Ты постоянно достаешь из кармана часы, но никогда не открываешь их, чтобы посмотреть время.
– Ну, всё, хватит. – Прервал её я. – В этом нет ничего необычного, если вдуматься.
– Если вдуматься, вообще не существует ничего необычного. Не будем об этом. Расскажи мне про своего друга.
– Его звали Тимур, – Начал я, пытаясь уместить всё в ясную фразу, но чувствуя потребность в телепатической, бессловесной связи – Мы познакомились в детстве, но однажды я перестал понимать его. Теперь я всё понял, но его уже нет в пределах досягаемости… Когда-то мы почти всюду были вместе. Вместе учились, вместе путешествовали, читали одни и те же книги. Потом я поступил в университет и уехал в другой город. И он уехал – тоже учиться, но в другую сторону. Как всегда бывает, мы очень неохотно прощались… решили друг другу звонить и хотя бы раз в год приезжать в гости.
– Как всегда бывает, обещаний вы не сдержали? – с некоторой иронией спросила она.
– Да. Вскоре мы потеряли друг друга из вида. Я не слишком сожалел о нём. Меня увлекли новые люди и новые места, я не чувствовал прошлого, которое тянуло бы меня назад. Прошли годы, и я прочувствовал прошлое. Бросил учебу на полпути к диплому и вернулся обратно. Но было поздно.
Мне было больно вспоминать об этом, – я сожалел о своем легкомыслии, бездействии и невнимании. Некоторое время мы молчали под стук колёс и негромкие голоса с другого конца вагона. Меня удивило, что с ней я хочу говорить, хотя обычно мне хочется молчать, но я оставил эту мысль на потом, а «потом» так и не наступило.
– Он поступил умнее меня – бросил учебу, окончив первый курс. Я ушел из университета двумя годами позже. Наши общие знакомые рассказали мне, что он влюбился в какую-то эксцентричную даму, которая была старше его на семь лет, но не прошло и нескольких месяцев, как он её бросил.
– Что я рассказываю? Я ведь ничего о нём не знаю! – прервал я сам себя, но тут же продолжил. – Когда-то давно он сказал мне: «Что-то сломалось внутри. Я больше не могу понимать и быть понятым». Я напрасно не придал этому значения. Подумал, что это лишь признак непродолжительной депрессии, – тогда мне было это не знакомо, я думал, что умею чувствовать людей с первого взгляда. Вернувшись в наш город, он стал жить с больной матерью, которая уже не могла вставать с кровати. Каждый день ей нужно было пить шесть таблеток, просто для того, чтобы дышать. Вскоре она умерла, а он исчез. Просто исчез, никому ничего не сказав. Когда настал мой черед возвращаться, я вспомнил о нем, но застал в его квартире незнакомых людей. Мне открыла женщина в банной шапочке и, вытаращив на меня глаза, пробубнила что-то вроде «Вы кто такой?» и захлопнула дверь. Сосед Тимура по лестничной клетке рассказал мне, что он продал квартиру, сжег на заднем дворе все свои вещи и ушел. Старик спрашивал, куда он направляется. Но он отмахнулся и произнес: «Скажите всем, что я не вернусь». Больше я ничего о нем не слышал.
Я отвел взгляд от своих воспоминаний и поднял глаза на свою спутницу. Она сидела, положив голову на руки, и не моргая смотрела на меня. На нижнем веке правого глаза застыла слеза, словно в нерешительности – остаться или скатиться вниз.
– Я знаю, что тебе тяжело думать об этом, – произнесла она тихо, и слеза скатилась вниз. Надеюсь, ей было жаль не меня.
– Теперь я думаю, что, возможно, никогда не понимал его полностью. С таким детским восторгом бросившись на пару лет в новую жизнь, я почти забыл о нём. Я бы хотел остановить время, чтобы не позволить себе забыть ещё больше.
Я открыл часы и протянул ей. Она стала первой, кто увидел, когда остановилось моё время.
– Такие люди обычно всегда живут сами по себе. Зачем же ты винишь себя и время в его исчезновении?
– Я не могу винить что-то другое.
– Но зачем обязательно искать чью-то вину? Он ещё вернется, я уверена.
– Быть может, он умер… – говорил я, не слушая её, – вчера я слышал историю про неизвестного парня, который спрыгнул с моста на глазах у прохожих.
– Ты придумываешь.
Да, я придумываю. А что мне ещё остается? – эту мысль я оставил невысказанной. Мы долго говорили. Около двух я всё же уснул. Проснувшись от того, что стук колес прекратился, и в окно слепящим потоком летело солнце, я взглянул на нижнюю полку в поисках своей попутчицы. Там было пусто. Это меня огорчило. После долгих часов самого откровенного разговора за последний год моей жизни она вышла на своей станции, даже не попрощавшись со мной. Я забыл, что перед этим самым разговором она вошла, не поздоровавшись.
Мне стало холодно. Из-за того ли, что я впервые так явственно почувствовал одиночество в пути, или от того, что в вагоне был сквозняк – я не знал. Но тут же накинул своё пальто и, погрузившись в бессвязные утренние мысли, погрузил руки в прохладный атлас карманов. Холодные руки нащупали ещё более холодный металл тех остановившихся часов.
Я достал их и подумал о том, как странно сближают людей вещи. Если бы вчера вечером моя невежливая спутница не достала из сумки такие же часы, я бы не заговорил с ней первым, я привык быть один. Если бы не наши часы, я бы ни за что не отважился бы на этот откровенный разговор, который позволил мне ночью спокойно спать. Она ничего не рассказала о себе. Я не настаивал, – так было легче.
Я открыл часы и замер. Стрелки указывали 12.35. Прежде чем уйти, она оставила мне батарейку от своих часов. Из часов мне в руки выпал скомканный клочок бумаги. На нём ничего не было написано, только прочерк, рассекающий лист на две неравные части. Лучше бы она разбудила меня и попрощалась. Она думала, что может что-то во мне изменить. Напрасно. Всё во мне восстало против чужой воли – случайной попутчицы, которая посчитала себя вправе навязывать мне своё время. Я вытащил батарейку, но отчего-то не выбросил, а спрятал во внутреннем кармане пальто и перевел стрелки обратно. 9.28. В это время поезд тронулся. Я вздохнул спокойно и, прислонившись головой к стеклу, наблюдал, как исчезает за поворотом вокзал чужого города, где в это время мог быть Тимур.
Страница 28 Тимур
Мы познакомились очень давно. Неуверенно глядя вокруг себя, я впервые вошел в класс и увидел единственное свободное место – за предпоследней партой у окна, где и сидел Тимур, подперев голову рукой и глядя в окно. Он повернулся, когда мой учебник звучно упал на парту. Он был невнимателен и задумчив. Мы привыкали друг к другу несколько недель – медленно, молча, вынужденно терпеливо – но с тех пор как мы стали друзьями, уже никто больше не мог проникнуть в замкнутое пространство нашего укромного, обособленного мира. Где мы наблюдали за воробьем на подоконнике вместо того, чтобы слушать учителя, придумывали истории про одноклассников, сбегали с уроков просто так, ради самого бегства.
Мы любили вместе сидеть на болотистом берегу пруда и кормить хлебом уток, и всегда скучали, когда поздней осенью они улетали. Однажды мы пришли на берег и нашли мертвую птицу. Её тело было в воде, и только голова и приоткрытый клюв лежали на песке, словно она погибла лишь потому, что не успела выбраться на берег. Других птиц не было. Они улетели. Ветер сорвал с Тимура кепку, и она улетела в воду.
Следующая вспышка памяти освещает тёплую августовскую ночь, которую мы провели, лежа на пледе посреди покрытого росой ночного поля и разговаривая о будущем. Тогда я ещё верил в будущее. Тогда я мог быть счастлив, когда меня не понимают, тогда я мог думать о будущем, тогда я был другим. Но Тимур меня понимал. А с неба падали звезды.
– Сегодня звездопад. Пойдешь со мной смотреть? – просто сказал он, позвонив в мою дверь. Он стоял передо мной, улыбающийся и одновременно серьезный, как будто нам предстояла тяжелая многодневная экспедиция.
– Сейчас оденусь.
Город исчез в сумерках. Звезды падали с неба, как снег, как мечты, которые сбылись. Мы придумывали и придумали новые желания, смеялись и считали, кто заметит больше упавших звёзд. Я помню, что отставал от него на несколько десятков желаний. Мне казалось, что желать вовсе нечего. Я был счастлив, но ему уже тогда было сложно быть счастливым. Я не забуду это беззаботное время, когда мы ещё умели мечтать. Умели верить в то, что мечты наши сбудутся, стоит только загадать желание и увидеть, как в ночном небе сгорает комета. Умели верить, что сбывшиеся мечты приносят радость. Но собака Тимура умерла, он так и не полетал на воздушном шаре, а я совсем забыл, чего просил у звезд.
Теперь от упавших звезд остались только воспоминания, которые тоже сгорали, как кометы, пущенные в тёмную пропасть прошлого. С каждым днем я забывал все больше деталей, память пустела, превращая в пыль то, что казалось бесценным. Я исписал страницу за страницей, чтобы сохранить всё, что ещё осталось во мне, – хрупкое царство ускользающего – чтобы всегда помнить запах ночного поля, число упавших звезд и Тимура. Моего единственного друга, с которым я всегда говорю внутри себя.
У меня больше не было друзей, Тимур заранее затмил всех, кого я позже встречал на пути. Хотя то, что связь между нами была потеряна, вероятно, было неизбежным. Последние месяцы перед моим отъездом на учебу, он стал нелюдим и перестал выходить из квартиры. Порой я заходил к нему, зная, что он дома, но он не открывал дверей, а потом являлся, как ни в чем не бывало, и начинался долгий спор о какой-нибудь прочитанной нами книге. Потом я уехал и несколько лет бездумно проживал дни, растрачивая себя на новых, совершенно беззаботных людей, в которых никогда не углублялся и которым никогда не открывал своих мыслей. Быть может, ещё тогда во мне родился этот инстинкт бегства, который теперь вновь увлек меня неизвестно куда. Прошлое затаилось где-то внутри, ожидая своего часа. Но когда его час настал, возвращение оказалось несвоевременным. Я ничего не мог изменить и начал новую жизнь, начал читать новые книги, воображая, что Тимур их тоже прочитал.
Страница 29 Дрожь снаружи и ожог внутри
Я соврал, что больше никогда не видел её и просто смирился с её смертью. Перед тем, как уехать я встретил ещё один раз свою Аллу, смерть которой так отчаянно придумал и принял, как горькое, но бесполезное лекарство от новых встреч. Я соврал себе, чтобы думать, что этой «ещё одной встречи» не было, – я всегда хотел развить в себе это чувство меры, глубокого жизненного вкуса – умение остановиться вовремя. Но я не остановился, и теперь я решил написать об этой встрече, потому что нужно быть честным, разделяя свою жизнь на страницы, потому что тогда появилось на свет моё молчание, которое с тех пор каждый день будет следовать за мной по пятам.
Спасаясь от вечерней меланхолии, я решил встретиться со старыми знакомыми и вдруг увидел среди них её. Потом я узнал, что Аллу пригласил мой приятель, с которым они раньше вместе учились. Я увидел её издалека. Мысль убежать и мысль подойти столкнулись друг с другом.
Так бывало всегда: во мне непрерывно сталкивались исключающие друг друга решения. Самое глупое, что я ничего не выбирал, – я только бездействовал, колеблясь между всеми возможными вариантами. Обстоятельства всегда приходили на помощь и делали выбор за меня: я называл это судьбой, чтобы не назвать бессилием.
Поэтому я остановился и беспомощно ждал, пока Алла не подошла ко мне сама. Когда она подошла, я подумал, что мне стоило убежать, чтобы не выдумывать её смерть заново.
Я взглянул ей в глаза и нашел прежнюю Аллу, на секунду мне показалось, что она никогда не умирала. Но мне нужно было поговорить с ней, чтобы убедиться в этом.
– Привет, – просто сказала она.
– Рад тебя видеть, – ответил я.
Я сел за стол. Она сидела рядом, так близко, что мы то и дело касались друг друга плечами. Она сидела рядом, но говорила со всеми, кроме меня. Я молчал. Молчание нахлынуло на меня, оно навалилось, как тяжелая волна из глубин моего Мёртвого моря, и я уже не мог произнести ни слова до тех пор, пока не остался один. Я не слушал, о чем говорили вокруг меня, и смотрел попеременно – на Аллу и в окно. Глаза её смотрели не на меня. На меня смотрела ночь из окна.
Я говорил с Аллой в мыслях. Я столько всего сказал внутри себя, я был полон словами, но не мог произнести вслух ни звука. Было холодно. Я грел свои окоченевшие пальцы о кружку горячего чая, разглядывая заварку и остатки сахара на дне. Я поймал себя на том, что отвел глаза, когда Алла взглянула на меня. Я боялся увидеть в её глазах непонимание, но увидел его. Вернее, так мне показалось. Я не знал, о чем говорить. Вокруг было так много людей и они имели так мало отношения к нам, что я не находил в голове ничего подходящего.
Теперь я знаю, в чем моя вина. Слишком много смысла я видел в каждом движении рук, в каждом постукивании пальцев по столу, в каждом случайно брошенном слове, сказанном не мною и не мне. Моё молчание говорило так много, оно рассказывало все по порядку, но оно говорило само с собой. Алла была слишком занята, чтобы читать в нем. Вокруг было слишком много людей, чтобы я мог нарушить тишину между нами, и я был занят заваркой и сахаром, а она – другими людьми. Она пришла не для того, чтобы поговорить со мной или со мной помолчать. Она не задала мне ни одного вопроса. Она задавала вопросы кому-то другому, это казалось мне абсурдом, я знал (или я только хотел знать?), что эти люди только персонажи. Она раздала все свои слова другим, помешивая в кружке чайной ложкой, а я слишком не любил других людей этим вечером, чтобы подарить им хоть одну синтаксическую конструкцию.
Мне было холодно, я закутался в шарф и сделал неосторожно большой глоток только что вскипевшего чая. Чай обжег мои внутренности, как будто я вдохнул огонь. Меня бросало в дрожь от холода снаружи, а внутри ещё долго не заживал ожог.
Я весь был молчание. Солёное морское молчание, в котором смешивались горечь и непонятое мной самим чувство свободы. Молчание моё состояло из слов, тысячи слов, которые не могли сделаться звуками, не могли приобрести громкость, тембр, интонацию, ритм. Обессиленные слова падали на дно мыслей и медленно плавились, становясь лавой всего несказанного.
Многие удивились, почему я веду себя так тихо. Я сказал, что заболел и, сославшись на плохое самочувствие, ушел, удивляясь себе самому и всему вокруг. Я ушел, так и не сказав ей ни слова. Не сказав ни слова, я оставил себе крохотную, почти несуществующую возможность сомневаться в смерти Аллы. В то время я всегда оставлял себе возможности, трусливо избегая сожженных мостов.
И в то же время я усложнял все внутри себя, в угоду своим неспокойным мыслям я придавал огромное значение каждой мелочи, и уже не мог отделить придуманный смысл от реальности, он лип ко всему, извращал все до неузнаваемости. На пустом месте я выдумал несуществующие факты и отношения, знакомые только мне, облекся в ризу молчания и глядел в глаза тьме из окна, я выдумал незабвенные глаза Аллы, её густые длинные волосы и связь между нами. У неё были обыкновенные зелёные глаза, обыкновенные волосы, нас не связывал даже взгляд. Порой я сомневался, что именно я придумал. Придумал близость или отчужденность, обыкновенность или незабвенность? Но сомнения так и оставались сомнениями.
Я столько всего выдумал. Время от времени я осознавал это, и тогда мне хотелось лишить себя этих выдумок, но один раз облаченные в мысль, они уже существовали независимо от моего желания. Я не мог отделить реальность от домыслов, я разучился видеть реальность, мои глаза смотрели внутрь меня, всё внешнее они отражали подобно разбитому зеркалу, где одна мысль дробилась на множество ей подобных, умножалась до бесконечности, дублировала сама себя. Одна мысль наводняла меня и смывала все остальные безвозвратно, бесследно.
Я не любил Аллу. Но, мысленно назвав её глаза незабвенными, я всерьёз задумался, не придумал ли я ещё и любовь. Я хотел погладить её по волосам, но я говорил себе, что это лишь следствие внутренней близости, жаждущей всё большего сближения, в то время как мудрый разум приказывал остановиться. Я не любил Аллу. Это было какое-то новое чувство, для которого я ещё не придумал названия.
Я упрекал себя в слабости, в чувствах, которые я выдумал как сиюминутный каприз. Мне казалось, что я чувствую слишком мало, чтобы нарушить границу между нами. Позже мне казалось, что я чувствую слишком много. Правда же состояла в том, что я не знал, что чувствую, так это было не похоже на все, что я испытывал раньше. Я охранял границу между нами так, словно нарушить её было равносильно мучительной смерти. Возможно, так оно и было – мы были слишком похожи. Но я знал, что когда-нибудь это случится: победит несовместимость или незаменимость. Что-то одно. Тогда я ещё не осознал, что победителя может не быть вовсе.
Страница 30 Прогулка в неизвестности
Сложив все преодоленные расстояния, я испугался той дали, что пролегла между двумя моими жизнями, которые я отделял друг от друга быстрыми стрелами поездов. В голову лезли ничтожные и спасительные мысли о том, что моя настоящая жизнь осталась там, а здесь я проживаю чужую.
Правда, однажды я всё же признал свои заблуждения. Я прогуливался по тенистому и изрядно заброшенному парку незнакомого города, названия которого преднамеренно не посмотрел. Мне нравилась неизвестность. Нравилось, что я не знаю названия этого города точно так же, как город не знает моего имени. Мы были с ним взаимнонезнакомы, хотя мои подошвы касались его асфальта, а его деревья отбрасывали на моё лицо замысловатые тени от потерявших свои листья ветвей.
Идя по узкой тропинке вдоль кирпичного, поросшего мхом забора, я неохотно признал, что жизнь, которую я прожил вдали от дома, уже давным-давно стала моей. Причиной всего, что произошло в моей жизни, был я сам. Я испытывал чудовищное чувство вины, которое не с кем разделить. Мне не на кого было возложить вину. Своими руками я разорвал обратный билет, который однажды купил в припадке одиночества. Своими глазами смотрел из окна поезда, который каждый раз уносил меня всё дальше и дальше. Своими руками я сегодня утром размешивал сахар в кофе. И сколько всего ещё я сделал своими руками, но не хотел признаться себе в этом? Я сам решил убежать, и воплотил своё решение в жизнь как нельзя лучше.
Моё возвращение не повернуло бы время вспять, оно бы стало лишь подтверждением гипотезы о том, что нельзя дважды войти в одну реку. Я не хотел этого подтверждения. Мне приятней было верить, что подтверждения нет. Знать, что всё можно вернуть, но никогда этого не делать. Мне просто не хватало смелости сделать этот естественный шаг – вернуться и принять как данность всё, что осталось от прошлого.
Впервые за много дней на небе появилось солнце, и впервые за много дней оно приносило мне радость. Однако вскоре от его лучей остались только блики в окнах верхних этажей. Пришлось признать, что ещё один день был безвозвратно потерян, бессовестно потрачен на то, что никогда не станет важным. И я ещё раз смирился с этой ежедневной потерей.
Название города я увидел на вывеске ближайшего магазина, и с этого момента он перестал для меня существовать. Я вновь углубился в память.
Страница 31 Чёрный котенок и всё ускользающее
Наши отношения с Аллой всегда были полны недосказанности. Но ни одна наша встреча не повторилась, мы не вступили в этот неизбежный круг извечных слов, ссор, действий, которые со временем превращаются в ритуал и сохраняют лишь форму, незаметно теряя содержание. Наши отношения были лишены повторений, потому что все в них случалось единожды.
Один раз мы гуляли по зимним улицам, замерзая наедине друг с другом и сплетая холодные пальцы, чтобы согреться. Однажды я подарил ей цветок, белую лилию, которая тут же замерзла под белым снегом в тридцатиградусный мороз. Только раз мы поссорились, но я не умел на неё обижаться, как не умею до сих пор, и вскоре забыл, что меня разозлило. «Ты не думаешь ни о ком, кроме себя», – говорила она и была права. А я всё шутил в ответ. Один раз мы провели вместе ночь.
Был светлый день с неярким солнечным светом, смягченным полупрозрачной серостью туч, когда мы вместе ездили электричкой в другой город, чтобы купить ей ту самую кошку, которую она потом выгнала на улицу. Тогда это был крошечный ласковый котенок, который глядел по сторонам испуганными голубыми глазами.
На обратном пути мы сидели в пустом вагоне напротив друг друга. В открытые окна дул ветер, и тонкие пряди её каштановых волос взлетали, переливаясь золотистыми бликами. Её взгляд отрывался от пейзажа за окном лишь для того, чтобы обратиться ко мне. Иногда она щурилась от солнца и улыбалась своим мыслям, словно была одна. Я видел, что она счастлива – а это случалось так редко! – и льстил себе, считая, что этим счастьем она хоть немного обязана мне. Мы молчали, словно это был необходимый ритуал, предваряющий разговор. Но, миновав половину обратного пути, мы начали говорить, и мне показалось, что весь мир исчез за горизонтом нашего разговора. Я не слышал ничего, кроме звука её голоса и не видел ни одного лица вокруг. Все мое зрение и весь мой слух обратились к ней.
У неё на коленях мирно спал чёрный котенок, быстро привыкнув к новым ласковым рукам.
Я поймал себя на том, что не хочу, чтобы наша электричка приехала в пункт назначения. Я впервые почувствовал тоску по всему ускользающему. Я посмотрел на часы и заметил, что до прибытия осталось лишь полчаса, а затем мы разойдемся в разные стороны, и всё будет безвозвратно потеряно. Полчаса, которые всё теряли и теряли свои минуты, стремительно сокращаясь и ускользая, несмотря на все мои отчаянные попытки удержать их в руках.
Я думал только об одном. Хоть бы оставшиеся нам двадцать километров растянулись на тысячу. Хоть бы тридцать минут растянулись на тридцать часов, а лучше дней или месяцев. Хоть бы в электричке обнаружили какую-нибудь маленькую, но значительную неисправность, из-за которой нам бы пришлось задержаться в пути. Хоть бы время остановилось. Пожалуйста, просил я, сам не зная, у кого, пусть сейчас остановится время. Но просьбы мои лишь стали прошлым, а время продолжало идти, не сбавляя скорости.
Мы вернулись в наш город, и это путешествие никогда больше не повторилось. Мы разошлись по домам, сказав друг другу несколько простых слов, которые обычно говорят на прощание, словно завтра днём нас снова ждала та же самая электричка, те же открытые окна и то же солнце, оставляющее блики на её волосах.
Наши редкие и неповторимые встречи растянулись на много лет, порой мне кажется, что я знал Аллу всю свою жизнь.
О, теперь я могу позволить себе быть совершенно честным: в наших отношениях с Аллой не было повторений, с которыми сталкиваются все любящие друг друга, потому что мы не любили друг друга. Наши отношения были лишены повторений, потому что у нас не было отношений.
Я придумал их, как придумал свою жизнь, словно книгу, от корки до корки. Я хотел лишь верить, что не придумал саму Аллу. Хотел думать, что для наших чувств просто нет подходящего слова, которое дало бы им название. Я хотел изобрести это слово, но каждое из возможных было неправильным. Иногда я отказывался от своих попыток, потому что нет ничего, что можно было бы ограничить одним словом. Иногда я начинал искать вновь. Порой я думаю, что это самая главная выдумка моей жизни. Порой я думаю, что это лучшее, что мне пришлось пережить. Порой я задаюсь вопросом, не синонимы ли эти два слова выдумал и пережил?
Страница 32 Ошибка творца
Выдумки распускались на поверхности моей жизни полевыми цветами, прорастали вглубь жадными до воды корнями, я придумал целый мир, надстройку над действительностью, и проживал в этом мире едва ли не самые лучшие минуты своей жизни.
В поисках смыслов я открыл книгу по философии, уже давно найденную на верхней полке бабушкиного шкафа, полуразвалившегося от тяжести чужих воплощенных мыслей, и читал целый день.
Я вспомнил, как Тимур говорил мне о Шопенгауэре, когда пришел ко мне в гости перед самым нашим отъездом в разные стороны.
– Он прав, бесконечно прав! – убежденно заключил он, окончив длинную тираду. – Сегодня под утро я закончил читать его главную работу.
– И что ты там нашел? Что у жизни нет цели, что счастье недостижимо? – Спросил я тоном скучающего скептика. Я собирал вещи, через час отправлялся мой поезд.
– Ну, скажи мне, зачем ты так любишь сводить великие идеи к банальным, ничего не говорящим словам! Тебе бы наверняка понравилась его мысль о том, что невзгоды держат человека в непрерывном напряжении, но, тем не менее, они не могут прикрыть всей пустоты и пошлости бытия, не могут изгнать скуку, которая всегда готова заполнить каждую паузу. Поэтому люди создают себе воображаемые миры и расточают себя на выдумки.
И мне понравилась эта мысль. Вообще, философия всегда действовала на меня благотворно, впрочем, может быть, и здесь всё дело в избавлении от скуки… Человек не вполне устоявшихся взглядов, я всё же питал некоторую интеллектуальную симпатию к философии Альбера Камю. Моим любимым литературным – и философским персонажем – долгое время был счастливый Сизиф, победивший абсурд признанием его данности.
Но сегодня я чувствовал потребность в академическом нагромождении философий, – мне хотелось утонуть в словах, потерять опору, чтобы обрести её заново.
В этот день я был трансцендентальным субъектом познания. Я был единством апперцепции. Я был абсолютной идеей, душой мира и, в качестве комплимента самому себе, сверхчеловеком. Я был иррациональной, рациональной и божественной свободой. Я был каждым – Артуром Шопенгауэром, Фридрихом Ницше, Эдмундом Спенсером, Иммануилом Кантом и Альбером Камю, и многими другими. Я был иррационализмом, позитивизмом, скептицизмом, софизмом, рационализмом, эмпиризмом, стоицизмом и схоластикой. В моей голове всё смешалось в гармоничный хаос. Большего мне было и не нужно.
В моих глазах, как в монадах, отражалась вся вселенная. Мои глаза – окна. Монады. Лейбниц сказал, что монады не имеют окон. Он солгал. Монад не существует. Сартр сказал, что наш ад – это другие, и каждый – палач другого. Он был оптимистичней меня. На самом деле наш ад – это мы сами. Каждый сам выбирает людей, которым разрешает себя убить. Каждый сам выбирает себе людей, над которыми будет стоять как палач, ждущий последнего слова. Каждый сам выбирает, перед кем быть уязвимым. Я наслаждался своими бездоказательными возражениями всем философам мира.
Стоики считали, что человеку следует делать то, что для него полезно. Право, это справедливая мысль, однако я убедился на собственном опыте, что человек не может знать наверняка, что пойдет ему на пользу.
Аврелий Августин сказал, что человек обладает всей полнотой истины, но постичь её не в состоянии. Было бы одновременно утешительно и мучительно согласиться с этим. Гегель выдумал изящную спираль, по которой развивается мир. Аврелий Августин сформулировал концепцию линейного времени, где ни одно событие не повторяется. Ницше был уверен, что всё уже когда-то было, и боялся повторения уже однажды прожитого. Он замкнул мир в круг – идеальную, мучительную фигуру вечного повтора.
Аврелий Августин говорил, что Бог находится в душе каждого человека, а Декарт предполагал, что Бог создал мир, подобно огромному часовому механизму, и больше в его дела не вмешивается. Ницше утверждал, что люди убили сверхъестественную реальность, и Бог умер вместе с ней. Порой мне близка эта мысль, но я думаю, что все было иначе. Наблюдая свысока за нашим убогим миром, Бог покончил жизнь самоубийством, как бальзаковский разочарованный творец из «Неведомого шедевра». Вскрыл себе вены или добровольно задохнулся в космическом вакууме. Прочувствовав всю силу постигшего Бога разочарования, я захлопнул книгу до более благоприятного случая, который больше не наступил: уезжая в следующий город, я забыл этот учебник, и был этим очень доволен. Рюкзак стал легче.
Этой же ночью мне приснился сон, о котором я не могу не вспоминать время от времени. Начался он весьма необычно: в пустоте. Я обнаружил себя в туманном, сером пространстве, которому не было предела. Некоторое время я был в замешательстве, потому что действие сна совсем не развивалось. Я ходил туда-сюда, размахивал руками, но вокруг по-прежнему было пусто. Но мало-помалу замешательство моё прошло, и совершенно неожиданно для себя я понял – вместо этого серого полотна может существовать всё, что угодно. Даже больше: всё, что я захочу. В моих силах было одним движением мысли создать мир вместо этой пустоты. И, перестав размахивать руками, я принялся за дело.
Сначала я сконструировал завораживающий глаз пейзаж. На изумрудной зелени лужаек плавно лавировали бабочки с широкими белоснежными крыльями, деревья вросли в землю извилистыми корнями, блистало солнце, как в красивой сказке не для меня. Ни для кого. Этот придуманный наспех безлюдный рай я окружил со всех сторон высокими горными вершинами. Почти все горы были вулканами, спящими в ожидании извержения. Меня завораживал беспокойный контраст красоты и опасности.
Немного погодя, мне пришла в голову мысль заселить этот мир людьми, и я занялся обустройством пространства жизни. Ограда была не нужно. Мой будущий город-сказка со всех сторон был окружен стеной из горных пород. Поэтому я сразу взялся за планировку. В центре я установил белоснежный, как саван, замок. От него по спирали закручивались линии улиц с невысокими домиками из разноцветного кирпича. Около каждого дома цвели в естественном беспорядке полевые цветы. У подножия гор лежал фруктовый сад, где в любой сезон цвела вишня, созревали апельсины, груши и дыни. Я населил этот город добрыми и незаурядными людьми, которые, по моим расчетам, не могли превратить свою сказку в ад.
Обустроив всё таким образом, я остался доволен собой и проснулся в замечательном расположении духа.
По обыкновению, я отправился на кухню, чтобы заварить чай. Но сделав первый глоток из дымящейся кружки, я вдруг осознал свою ошибку. Я населил этот город добрыми и незаурядными людьми, которые, по моим расчетам, не могли превратить свою сказку в ад. Но ад создал для них я сам. Когда я водрузил на цветущих полях вулканы, мне и в голову не приходила мысль заселять долину людьми. Когда эта мысль родилась, я уже совершенно забыл про вулканы, и даже не подумал охладить их пыл, превратив в безобидные снежные вершины. Теперь мой мир сгорит при первом же извержении. Потоки лавы превратят сказку в кипящее месиво человеческих тел, полевых цветов и предсмертных криков.
Я долго не мог простить себе этой ошибки. Создав город идеальных людей, я обрек их на смерть, достойную восьмого круга ада Данте Алигьери, где мучаются льстецы и взяточники. Что, если кто-нибудь выдумал наш мир во сне, и мы медленно умираем, забытые и бессмысленные, по божественной случайности обреченные на ад?
Я многое бы отдал за то, чтобы вернуться в сон и всё исправить.
Но с тех пор этот город мне никогда не снился.
Страница 33 Красное вино и чувство неловкости
Мне часто снился снег. За пределами сна он пошёл лишь в январе, в ту минуту, когда я шёл по очередному незнакомому перрону. В эту минуту я был счастлив. Я любил снег за то, что он холодный, как мои руки и за то, что он делает светлее мой обесцвеченный мир. Этот первый январский снег сводил меня с ума. Я искал простора для того, чтобы быть наедине со снегом, как тогда, во время короткого зимнего бегства. Тридцатью минутами позже я стоял посреди поля, подставив лицо холодным снежным прикосновениям. Снежная стена отделяла меня от мира. Вокруг меня была пустота. Я улегся на свежий белоснежный ковер и стал смотреть на небо. Снег пошёл медленнее. Надо мной было серое небо. Надо мной была пустота, разлинованная проводами, как тетрадный лист. Но писать в этой тетради я не мог. Я только постоянно жмурился от снега, летящего в раскрытые глаза.
Совсем другие чувства одолевали меня, когда я убежал в снег из дома, где жил с Анной. Теперь же я искал своих чувств к ней, но находил на их месте чёрную дыру, куда проваливались все мысли о ней и пропадали навсегда. Это началось ещё в тот момент, когда она вернулась и всё мне рассказала, – я сейчас расскажу об этом. Сначала исчезло всё незначительное, мелочи, вроде случайных улыбок. Затем дыра беспамятства стала расти, она поглощала, уничтожала тонкие оттенки чувств, градацию эмоций, редкие моменты понимания. Я надеялся, что смогу всё простить и начать любить её иначе, но внутри росла чёрная дыра.
Я упустил момент, когда Анна захотела исчезнуть, и мне пришлось просто ждать, когда она вернется и расскажет, что приобрела за время своего отсутствия. Она уходила, чтобы вернуться и предстать передо мной мертвым Богом. Я ждал её, я искал причины, находил их, опровергал и искал снова.
Но вскоре я решил избавиться от нашей истории. Вырывал из тетради по листку каждый день в надежде, что она спасет наши тетради, что она успеет. Я ещё любил её. Или думал, что любил. Только думал, увы. От первой тетради остались одни корочки, их я выбросил в окно.
Если бы я мог говорить с ней, я бы попросил сохранить обрывки моих мыслей, оставить в голове каждый мой вопрос, даже если он остался без ответа. Но я знал, что давно выветрился из её памяти. И я знал, что в моих обрывках мыслей она ценила не мысли, а меня, чувствовала меня, но не понимала.
Проходили дни, которые я пытался заполнить каким-нибудь смыслом, проходили часы, минуты, недели, секунды, прошли месяцы. Когда она захотела вернуться, я снова упустил момент, поэтому я просто отпер дверь и впустил её, забыв про только что налитый чай с земляникой.
Мы сняли с себя одежду торопливо, будто боясь опоздать на поезд. Мы были из тех людей, для которых часы всегда идут быстрее. На несколько секунд мне показалось, что всё вернулось назад. Как будто те дни, которые прошли без неё, внезапно стерлись из памяти.
Но время истекло и напомнило о себе. Я так привык вырывать листы из тетради, что уже не мог остановиться. Она достала из шкафа нашу старую фотографию в рамке и поставила на мой письменный стол, записала в мой мобильник свой новый номер телефона. Я сидел на подоконнике, прислонившись головой к стеклу. На столе стоял остывший чай. Мои мысли были ещё холоднее чая. Я включил обогреватель, достал тетрадь и вырвал оттуда ещё один лист.
Всю ночь я не мог уснуть. Девушка, которая лежала сегодня на моей кровати, когда-то была для меня целым миром, хотя теперь значила не больше, чем самый незнакомый человек в утреннем троллейбусе. Я любил её грустный взгляд и короткие, прямые и всегда блестящие волосы, но, по правде сказать, уже давно я не любил её саму. Раскутанная и погруженная в сон, она на долю секунды показалась мне самым красивым существом на свете. На долю секунды. Я накрыл её одеялом и прилег на самый край измятой простыни. Спать не хотелось. Она что-то пробормотала во сне и свернулась клубочком, как спящая кошка. Меня это не тронуло.
Я встал, накинул свой старый махровый халат и вышел на кухню. Было пять часов утра. На стеклянном столе были небрежно рассыпаны шоколадные конфеты из набора и уже почти высохли красные капли пролитого вина. На подоконнике стояла недопитая бутылка и пепельница с тонкими сигаретами, на которых остались вишневого цвета отпечатки её губ. Стрелки на кухонных часах еле ползли, растягивая время. В голове, в такт стрелкам, еле ползли мысли.
Я подумал, что мои любимые перчатки разорвались в прошлом году. Других таких я больше нигде не видел. Моя любимая девушка – та, которой со мной нет. Эта девушка была со мной этой ночью, и уже поэтому она не была любимой. Больше всего я ценил то, что навсегда потерял или никогда не имел. Я подошел к подоконнику и залпом опорожнил бутылку. Теперь это было моё любимое красное вино.
Анна почувствовала, что меня нет на измятой простыне рядом с ней, и проснулась. Её босые ноги зашлепали по холодному полу коридора. Она вошла в кухню сонная, улыбающаяся, на ней не было ничего, кроме моей старой, растянутой футболки с высохшим желтым пятном от пролитого чая.
Я стоял на той же самой кухне и думал о том, что стоял здесь и год, и два, и три, и семь назад. Напротив меня стояла та же женщина. Девушка. Девочка. Анна. Но я ничего не чувствовал, кроме неловкости. Мне было неприятно, что приходится стоять и просить прощения за то, что вчера открыл ей дверь, и смотреть в эти глаза, готовые в любую минуту заплакать. Мне было стыдно, что в этот момент, когда она с беспокойством перебирала пальцами прядь волос, я ничего не чувствовал. Ничегошеньки. Ни головной боли, ни лёгкого угрызения совести, ни тени любви, ни следа ненависти, ровным счетом ничего.
Чтобы отдалить решительный миг, я поплелся провожать её до поворота. Я весь превратился в слово. В слово «прощай». Я молчал. В этот момент это было легче, чем прощаться, но труднее, чем просто говорить. Я думал, что не смогу произнести это слово и просто уйти. Но я смог.
Вино вместо поцелуев согрело мне губы. Секунды стремительно утекали сквозь пальцы. Я не находил себе места рядом с ней. Слёзы нелюбви душили меня. Я отвернулся и пошёл прочь. За что мне было её жаль? За то, что она не такая, как я, за то, что она умеет чувствовать? Но ведь это счастье – быть ни в чем на меня не похожей. За что я жалел её? За то, что я не ответил на её чувства? Но было бы стократ хуже, если бы я ответил. Всё для неё сложилось хорошо. Просто она этого не понимает. Ещё не понимает.
Успокоенный этой внезапной мыслью, я уходил всё дальше со спокойной душой и сухими, бесчувственными глазами. После этого мне не стоило больше видеть её, сейчас я понимаю это – чувство меры, чувство меры во всем! Однако я боролся со своей нелюбовью ещё несколько месяцев и уничтожил этим все светлое, что ещё могло сохраниться в памяти. Я боролся со своей привычкой видеть её каждый день. Эта хитрая и слишком обыкновенная женщина была слишком проста для меня. Мне было мучительно тяжело расставаться с ней, несмотря на то, что я не чувствовал к ней любви. Но я знал, что эта боль лишь следствие закоренелой привычки, следствие того, что мы вросли друг в друга корнями, и теперь вырывали засохшие корни, чтобы найти для них новую почву.
Страница 34 В клетке
Мы не виделись несколько месяцев. Но однажды мне взбрело в голову пройтись по своему прошлому. По улицам, где бродил после школы, университета и работы. Я зашел к Анне, погруженный в мысли о минувших днях. Уселся с ногами на диван и молча посмотрел ей в глаза. Она тоже молчала.
– Мне хорошо, как будто это мой дом, – произнес я несколько сбивчиво, неожиданно ощутив себя в знакомой обстановке недалекого прошлого.
– Нет. Это мой дом. Для тебя он чужой, – отрезала она. Мне было неприятно. Не из-за того, что это было сказано с непохожей на Анну грубостью. Мне было неприятно из-за того, что она разрушила приятное чувство уюта, которое посетило меня в её тёплой комнате.
Она не хотела сидеть дома, и мы вышли на улицу, чтобы поговорить. Но между нами больше не было слов. Между нами было молчание, но не то, что я испытывал с Аллой – другое, полое молчание. Оно состояло из пустоты, которая незаметно выросла на месте наших прежних разговоров и долгих ночных прогулок по пустому городу.
– Мы стали так далеки.– Больше я не мог сказать ничего.
– Между нами не больше тридцати пяти сантиметров. – Это так на неё похоже. Делать вид, что она не понимает. Эта черта появилась в ней после того, что я часто упрекал её в непонимании, упрекал зря – разве её вина, что она видит мир по-другому – упрекал просто от злости. Я вновь замолчал.
Она встала и пошла прочь быстрым шагом, то и дело переходя на бег. Я догнал её, было видно, что она не уверена в своём намерении, просто считает неправильным наше свидание. Когда я поравнялся с ней, она сказала, почти крикнула, «иди домой!», но сама не сдвинулась с места и прислонилась спиной к стене дома. Потом она рассказала мне, что встретила другого мужчину. Того, с которым изменила мне, и которого использовала, чтобы понять меня лучше. Мне было всё равно, нашла ли она себе другого мужчину. Мне было жаль её. В её глазах было столько грусти, и в её спине, прислоненной к холодной кирпичной стене, была какая-то подавленная обреченность. Мне захотелось обнять её. Я чувствовал, что мне нужно что-то спросить у неё, нельзя оставаться совсем безучастным.
– Ты чувствуешь себя с ним как в клетке?
– Нет. С тобой я чувствую себя как в клетке.
Я не ожидал такого ответа и был несколько озадачен.
– Тогда почему ты здесь?
– Именно поэтому. Потому что я в клетке.
Я сжалился над ней и отвел её обратно домой. Мне хотелось облегчить её страдания, я видел, что они из-за меня, но знал, что я – только её выдумка. Она не чувствовала пропасти между нами, думала, что мы близки, как прежде. Она выдумала меня, но совсем не так, как я выдумал Аллу. Я выдумал только наши отношения. Анна выдумала нашу внутреннюю близость.
Она заварила мой любимый мятный чай, налила его в мою любимую прозрачную кружку и сама положила в него сахар. Я молча рассматривал её бледное и несчастное лицо.
– Я люблю тебя. Почему ты молчишь? – с еле слышной дрожью в голосе произнесла она. Я устремил глаза в чашку с чаем. Мне нечего было ей сказать, мне было жаль её, но я не находил внутри себя слов.
– Где ты был?
В чашке чая отражалась кухонная люстра. Она качалась на поверхности чая, стоило только пошевелить кружку.
– Скажи что-нибудь.
Я сделал глоток чая. Хотелось убежать.
Страница 35 Когда-нибудь
И я убежал, зная, что однажды всё повторится вновь. Когда-нибудь снова выпадет снег, и я снова ничего не увижу на его белом горизонте, жмурясь от падающих на лицо снежных хлопьев. Холодные руки будут ждать ледяной вьюги, чтобы стать ещё холоднее и равнодушнее ко всему, что есть на свете тёплого. Когда-нибудь я смогу снова лежать в снежном поле и смотреть в пустой провал серого неба над своей головой, отчаянно веря в свои несбыточные мечты. Когда-нибудь я смогу ответить правду на вопрос, почему у меня такие сильные руки. Потому что я строил ими непробиваемую стену до небес, и теперь нужно стать ещё сильнее, чтобы эту стену разрушить. Когда-нибудь я научусь различать родные голоса сквозь шум минут и километров. Когда-нибудь размеренный ход ночного поезда перестанет быть лёгким снотворным для моих непокорных мыслей. Я буду засыпать лишь под мягкими касаниями снега. Когда-нибудь я забуду всё, что полагается забыть перед долгим зимним сном, и это будет лучшим воспоминанием в моей жизни. Когда-нибудь я зайду в полупустой вечерне-зимний автобус и буду наблюдать за паром изо рта и столбами, мелькающими вдоль дороги. Когда-нибудь зима наступит снова, снег упадет на лицо, и с этих пор ни одна весна уже не разбудит меня нежностью ветра и тихим плачем прорастающей новорожденной травы.
Я хотел умереть при жизни. Я полюбил часами просиживать на чужих вокзалах, глядя на лица уезжающих и провожавших. Я видел их нескрываемую радость. Их нескрываемую боль. Нескрываемые слезы. Мне нравилось видеть эти обнаженные чувства, но вскоре и они показались мне мелкими, ничего не стоящими. Теперь я думаю, что они мне просто наскучили, потому что сам я этих чувств не испытывал, и никто не испытывал их ко мне. Меня никто не ждал, и я не искал никого глазами, выходя из вагона. Я был только безучастным наблюдателем, холодно взирающим на чужие эмоции и отчаявшимся увидеть их в себе самом.
Оценивая свой отчаянный поступок, я всё же был рад, что мне удалось сбежать. Неповторимые встречи я сделал неповторимыми в буквальном смысле: они никогда не повторялись. Я разговаривал, порой философствовал и даже проводил целые дни с незнакомыми людьми, и как только они становились знакомым, оставлял их и ехал, шел, бежал дальше. Они оставляли мне свои номера телефонов, адреса электронной почты, но я никогда им не звонил и не писал. Я не хотел строить новое постоянство, только сбежав от старого. Я будто бы победил себя, я смог всё бросить, смог оставить всех, – теперь я впадал в иную крайность.
С тех пор прошло уже много месяцев. Я всё так же бродил по чужим улицам и вглядывался в чужие лица с интересом, с отвращением, с улыбкой, с неприязнью, с радостью. Я любил людей до тех пор, пока они ко мне не приближались.
Приближались первые весенние дни. Я подарил свой вязаный шарф уличному бродяге, выбросил порвавшиеся шерстяные носки, зачем-то купил себе шестиугольную пепельницу из полупрозрачного тёмного стекла. Но в моей жизни мало что изменилось. Время продолжало идти, обходя лишь часы в моем кармане. Я никогда не видел в своих снах людей, с которыми встречался в пути. Мне снилось моё прошлое, моя близкая и далёкая та жизнь. Мне снилась Алла. Однажды мне приснилось, как мы вместе падали с последнего этажа каменной башни. Мы взобрались туда вдвоем, нас подхватил порыв ветра и мы упали вниз. Нам было не страшно, мы радовались этому падению, как будто ждали его всю свою жизнь. Проснувшись, я понял, что мы падали с последнего этажа несказанных между нами слов. Что, если словом «проснувшись» можно описать всё, что было между мной и Аллой?
Я начал скучать по дому. С каким бы радостным чувством не уезжал я всё дальше и дальше, я не мог допустить мысли, что никогда не вернусь. Свою квартиру, свои улицы, дворы, памятные места, своих друзей, свою Аллу я представлял себе где-то в будущем. В будущем, которого нет.
Страница 36 Книги прошедшего
– Будущего нет, – согласился со мной пожилой мужчина в очках с толстой серой оправой. С ним я встретился в городе автотрасс, метро и аэропортов, где голоса людей почти не были слышны сквозь шум моторов. Этот мужчина был невысокого роста, одет просто, но опрятно, у него были большие руки и громкий голос. Мы познакомились с ним на набережной, где городской шум звучал лишь приглушенно и смешивался с шумом реки. Мне негде было ночевать, и он пригласил меня к себе после долгой прогулки.
В его доме не оказалось кроватей – быть может, поэтому мы всю ночь пили чай, сидя на узком подоконнике у раскрытого настежь окна и слушая звуки притихшего ночного города. На меня вдруг повеяло прошлым. Повеяло от пыльной обстановки его маленькой квартиры, где чувствовался какой-то благородный, самодостаточный беспорядок. Повеяло от Аллиных любимых сигарет, которые я купил, чтобы вспомнить их вкус. Повеяло прошлым и от того, что на улице была темнота, а в темноте многие города похожи друг на друга.
– Люди – странные создания, – говорил мужчина, словно сам и не думал отнести себя к их числу, – у них никогда не было будущего, но они возлагают на него самые смелые надежды. У них нет прошлого, потому что они его выбрасывают. Им остается только настоящее, как мне жаль их.
Мы думали об одном и том же, его мысли переплетались с моими, но я всё глубже погружался в себя и его слова скользили мимо. Зачем же я выбрасывал своё прошлое, отворачивался от него, будто оно вовсе не мое. Я не верил в будущее, неужели и я закончу тем, что буду жить в одной секунде, когда мечтал окунуться в вечность. Какой я жалкий, как никчемно моё время.
Он тронул меня за плечо, и я очнулся. Впервые окинув взглядом его комнату, я не увидел в ней ничего, кроме книг. Книги были повсюду. В шкафу, на кухонном столе, под столом, на холодильнике, везде виднелись их потрепанные переплеты. Книги лежали на полу, связанные в стопки стояли у дверей.
– Я нахожу их на улице, – объяснил мой собеседник, вероятно, заметив недоумение на моём лице, – их бросают в урны, оставляют лежать на скамейках, это прошлое, которое выбрасывают люди. Они думают, что выбросили его окончательно, но оно продолжает жить здесь, у меня в комнате.
Это был странный человек. Под утро я всё же уснул, освободив от книг старое кресло, единственную мебель в квартире, кроме шкафа и кухонного стола. Когда я проснулся, то обнаружил входную дверь приоткрытой и комнату пустой. Мужчины и след простыл. Пошёл ли он искать на свалке прошлое или в магазин купить новую упаковку чёрного чая, я не знал, но его больше не видел. На секунду мне даже показалось, что его не было вовсе, а были лишь воспоминания, чай и распахнутое настежь окно. Подождав около получаса, я оставил его комнату, пропитанную запахом старых книг и, захлопнув за собой дверь, вынырнул обратно в шумный город, который думал, что избавился от своего прошлого и усилиями всех своих шумных двигателей мчался в будущее. В будущее, которого нет.
Страница 37 Гербарий и поиск несуществующих чувств
Я все так же мчался километрами в будущее, а мыслями – в прошлое. От того ли, что был болен своими воспоминаниями или от того, что на самом деле не хотел их терять, – я не знал. Я хотел изменить всё, но ничего не менялось – ничего не происходило. Каждый день ознаменовывался только новым воспоминанием, новой мыслью, обстановка чужих городов была лишь причудливой каймой для внутренней жизни.
Я вспомнил свою последнюю осень в родном городе и вспомнил Анну, которую той осенью встречал только случайно. Но эти случайности казались закономерностью. Чёрная дыра в моей памяти, поглощающая мысли об Анне, на несколько минут разверзлась и дала мне охватить прошедшее беглым, все понимающим взглядом знатока.
Когда я расстался с ней, Анна сказала, что будет ждать меня до тех пор, пока я не прощу её. Сказала, что её чувства не подвластны времени. Вернее, говорила. Она заведомо лгала. Как люди вообще решаются говорить друг другу подобную чушь?
Дождливым ноябрьским днём перед самым моим отъездом я мёрз на остановке, когда, наконец, приехали две маршрутки. Я сел во вторую из них. На своей остановке я снова вышел в дождь. В голове звучал какой-то грустный мотив. Мимо летели капли дождя. Мимо летели птицы. Мимо шли люди. Я не различал лиц. Я вдруг вспомнил о ней.
Что, если бы мы встретились? Я бы сказал ей, что она мне лгала?
В голове ответа не было. Но он был в реальности.
Впереди я увидел знакомую коричневую шапку и пальто в узкую синюю полоску. Её походку я различил сразу. Она увидела меня и остановилась. Мне захотелось рассмеяться ей в лицо. Не потому, что было смешно, а потому, что реальность била мне в глаза, слишком быстро откликалась на каждую мысль.
– Как твои дела? – вот и всё, что я сказал.
– Я так счастлива! – не медлила с ответом Анной. Она вся светилась радостью. Мне показалось это каким-то диким лицемерием.
– Я очень рад за тебя, – быстро проговорил я, с трудом выдавив улыбку.
Я соврал. Я был совсем не рад.
– Я ехала на автобусе, в который ты не сел.
Мне снова захотелось рассмеяться. Я не сел в автобус, но я был здесь, рядом с ней. Я вышел именно на этой остановке, потому что женщина с сумками вытолкнула меня из автобуса, и я решил не заходить обратно. Передо мной шёл странно одетый парень, который рассказывал по телефону своему другу про какую-то девушку из клуба. Мне было не интересно, и я пошёл гораздо быстрее обычного, чтобы обогнать его. И вот я здесь, рядом с ней. Я ничего не мог предвидеть. Просто так сложилось. Случайности сложились в мою жизнь, как секунды укладываются в час, выстраиваясь друг за другом. Случайности сложились в нашу встречу, я не мог сбежать от этой закономерности, которую заметил только тогда, когда она привела меня сюда.
Я пристально смотрел в глаза Анне и поймал себя на том, что мне нечего сказать. От этого было горько, ведь ещё недавно мы были, казалось, чересчур близки. Только казалось. Духовной близости никогда не было между нами. Реальность била в глаза. За считанные дни мы стали дальше, чем за несколько прошедших лет. Я отвел взгляд и стал смотреть на голубей, которые клевали семечки у наших ног.
– Я видела вас вместе.
– Правда? Когда? Я тебя не видел.
Я снова соврал. Я видел её. Как я мог не увидеть её. Она думала, что видела меня с моей девушкой, а я просто держал за руку свою знакомую, чтобы она не поскользнулась, пробираясь на каблуках через груду первого осеннего льда, собранного дворниками с поверхности асфальта. Я решил не лишать её иллюзий. Не всё ли равно.
Я думал, что я смогу рассказать Анне, как мне хочется обнять её при встрече. Не потому, что я люблю её, а в силу долгой привычки обнимать это стройное тело, уткнувшись носом в короткие пушистые волосы, пахнущие духами. Думал, что смогу сказать, что мне больно каждый раз терять её из виду, но её лицо для меня уже стало чужим. Процесс отчуждения стал необратим. Я думал, что хотя бы смогу сказать ей, что она лгала. Но я не смог. Я только молча смотрел в её чужие глаза и ничего в них не находил.
– Ну, я пошла.
– Ладно. Пока.
Она ушла, ни разу не обернувшись. Я думал сразу о многом, не двигаясь с места. Захотелось курить. Я не знал, что именно чувствую к ней. Я знал, что она лгала, и что я лгал тоже. Что мы до сих пор не перестали друг другу лгать. Я подумал, может быть, хотя бы эта ложь что-то значит. Реальность била в глаза. Нет. И где же тогда искать правды, если даже самое последнее слово – ложь?
Подавленный и растерянный я побрел прочь. И бродил весь день, оставляя свои минуты и часы во дворах и парках нашего с Анной прошлого, вспоминая и ища в себе несуществующих чувств.
Когда я бывал там, где пережил самые счастливые минуты в своей жизни, мне всегда становилось не по себе. Я шёл по той же тропинке в том же осеннем парке, где мы просиживали когда-то целые вечера, и шуршал сухими листьями, которые быстро обсохли на солнце после дождя, в тех же промокших замшевых ботинках.
Я увидел того же человека. Я увидел Анну, которая, вероятно, тоже решила смахнуть пыль с воспоминаний о нас. Мы оба знали, что это бесполезно, что пыль не лежала на поверхности, она смешалась с образами из памяти, и больше нельзя отделить одно от другого. Мы знали это, но всё-таки сделали последнюю попытку вернуть то, что не приходит дважды.
Триста шестьдесят пять дней назад мои замшевые ботинки были совсем новенькими, а я бежал за Анной по лужам и обнимал её при встрече, растягивал секунды, стараясь продлить каждый взгляд и каждое слово. Ветер трепал и без того взъерошенные волосы, по щекам текла холодная дождевая вода, а я всё стоял и обнимал, руками и глазами, и прятал подальше часы, чтобы успеть рассказать всё, что неделями хранил в голове для этой самой встречи в осеннем парке.
Боже, как я любил говорить. Сейчас ботинки уже изрядно износились, но я больше не бежал по лужам. Я свернул на другую тропинку в том же самом осеннем парке и зашуршал листьями в одиночестве, не сказав ни слова человеку, для которого когда-то всегда были самые долгие объятия и самые длинные секунды. Хотелось бы зарыться с головой в ворох осенних листьев. Исчезнуть из жизни каждого и никогда больше не возвращаться.
Я бы стал молча вспоминать пройденный путь. Я бы разделил его в голове на тысячу предательских шагов и в беззвучной злости сжимал бы в кулаке сухие листья. Я бы понял, что всё осталось тем же самым, кроме осени, с деревьев которой осыпались новые листья. Кроме осени и кроме нас.
Я подобрал с земли несколько листьев и спрятал между страницами тетради, чтобы спасти их. Я хотел бы найти любимое произведение в твёрдом переплете, взявшись за руки с ней, лечь между страниц и захлопнуть за собой книгу. Но люди не годятся для гербария. Я знал заранее, что нас ничто не спасет и растягивал секунды для того, чтобы как можно позже свернуть на другую тропинку в осеннем парке.
Но было поздно. Я гулял в том же самом парке, но вспоминал совсем о другом. Я вспоминал, как однажды, когда мы с Анной были в ссоре, мы с Тимуром сидели в баре. Устав от моего понурого лица, он закурил и начал свое наступательное утешение.
– Сдалась тебе эта Анна… Где же твоя хваленая способность видеть людей с первого взгляда? Вы знакомы уже десять лет, а ты всё разглядеть не можешь. У неё глупое, к тому же симметричное имя. Неглубокий, поверхностный голос. Лицо, которое я не запомнил бы, даже видя её каждый день. Сухие, колючие руки, я пожал ей руку только однажды, и с тех пор избегаю этого жеста.
– Мне всё равно, как она выглядит. – Отвечал я. Мне хотелось говорить о другом, здесь он был прав во всем, моё возражение было фикцией.
– Разве она понимает тебя? – Произнес он, широко улыбнувшись, зная, что теперь у меня в запасе не найдется даже клише, чтобы ответить. Мы заговорили о другом.
Страница 38 Комната Тимура
Я часто приходил к нему в гости. Он создал в своей комнате искусственный, книжный рай, где было всё о жизни – и в то же время ничего близкого к ней.
Книжный шкаф занимал одну из четырех стен и доходил до самого потолка. В этом шкафу не было ни одной книги, которой бы он ещё не прочитал. Безразличный к форме, Тимур расставлял книги безотносительно к авторству и теме, я терялся в этой бессистемности и, зная назубок свой собственный хаос, никогда не мог ничего найти в чужом. Куда он дел все книги, когда уезжал? Неужели не взял с собой ничего? Но – как? Безупречный чтец, он никогда не мог жить, как живут остальные. У него никогда не было девушки и, хотя он не избегал их общества, все они претили ему, не могли потеснить писателей и философов, безраздельно властвующих над его умом. У него не было друзей, да и я стал его другом только благодаря случайной прихоти учителей, которые вечно сажали нас за одну парту. О моей все понимающей Алле он только слышал, но называл её бесплотным духом моей жизни и порой выражал свои сомнения по поводу её существования.
– Что-то сломалось во мне. Я перестал понимать людей. – Однажды сказал он, рассеянно глядя в окно, и глядел все тем же взглядом, каким глядел тогда, когда я впервые его увидел.
– С чего ты взял?
– Вот, знаешь ты мою соседку, хрупкую, белокурую женщину? – я кивнул, – Что ты скажешь о ней?
– Она кажется мне легкомысленной, болтливой. Думаю, она тщательно следит за собой, за последние полгода она стала заметно стройнее. И эта прическа. Не сомневаюсь, что она каждый месяц покупает себе глянцевый журнал и жадно проглатывает его за завтраком. Никогда не видел её с мужчиной, – должно быть, у её жизни какой-то другой смысл. Наверное, карьера. Что ещё?
– Когда я вчера поднимался по лестнице, она шла впереди меня, и вдруг, бросив пакеты, опустилась на пол, зажмурив глаза. Когда я подошел к ней и взял за плечи, чтобы помочь подняться, она закричала. Я отдернул руки. Она пробормотала: «Домой». Туда я отнес её на руках, ключ висел у неё на шее, как петля. Полупустые комнаты пропахли лекарствами. В хаотическом беспорядке валялись рецепты, инструкции, пустые упаковки из-под таблеток. Она быстро проглотила какую-то таблетку и взглянула на меня. Я молчал. Она сказала, что у неё рак. От этого она худеет. У неё на голове парик, мы оба ненаблюдательно думали, что она каждый день аккуратно укладывает волосы. Ты замечал, что у неё нет ресниц? Брови нарисованы косметическим карандашом, – я заметил это, когда наклонился к ней на лестнице. В комнате почти нет мебели. Спит она на полу, в углу я увидел одеяло и подушки.
– Ты говорил с ней?
– Да, в конце концов, я заговорил. У неё на подоконнике стояла стеклянная банка, а в ней – огромная бабочка с распахнутыми, широкими сиреневыми крыльями. Я не удержался и спросил про неё. Она не сказала, как называется эта бабочка. Она оказалась мертвой. Однажды она закрыла банку не той крышкой – где не было отверстий для воздуха – и бабочка задохнулась. У неё нет работы. Она живет между домом и больницей, деньги берет у родителей. Ей всего лишь девятнадцать лет. Уже семь лет она живет только для того, чтобы выжить. Я не понимаю. Зачем?
– Может быть, она верит, что наступит день выздоровления?
– Я думаю, что она просто не может убить себя, и ждет, когда, наконец, болезнь принесет ей смерть. Но болезнь не спешит… – Безжизненно, обреченно проговорил он.
– Ты не прав, – возразил тогда я, – легко каждый раз говорить о смерти, как о приятной бесконечности, пока ты здоров. Для неё же важны даже не часы – минуты – жизни, каждая из которых может стать последней. Думаешь, жизнь кажется ей бессмысленной? А как же Шопенгауэр – как же волнения и заботы, которые всегда держат человека в необходимом эмоциональном напряжении? Вся трагическая сущность жизни сосредоточилась в этой девушке.
– Но она не живет. Её жизнь пуста.
– Думаешь, от того, что ты читаешь книги, твоя жизнь наполняется смыслом? Как бы ни так. Ты только читаешь чужие мысли, усваиваешь их, проживаешь чужие жизни. Размышляешь о жизни – но в сущности, лишь об абстракции, которую принимаешь за единственно возможный жизненный план. Следуя за твоей мыслью, всех больных нужно сжигать в газовой камере. Её жизнь – борьба. Разве борьба не достойна жизни? Она живее всех на свете книг.
– Впрочем, всё верно. – Он слишком легко уступил. Подозреваю, что половину сказанного мной он просто не слышал, – но я бы не смог так. Сгнивать заживо… – Он поморщился.
Время от времени он стал разговаривать с людьми, пытаясь проникнуть в их судьбы. Но никто не был ему близок. Большинство их убеждений ничтожны, – говорил он мне, а я ждал, когда он перестанет искать этой ненужной близости к каждому, пытаясь, вглядываясь в жизни, увидеть всеобщую, глубинную суть мира. Он хотел понять жизнь, найти в ней смысловую опору, – но витал в своем собственном воздухе, которым никто, кроме разве что меня, не умел дышать. А потом он пропал. И – пустота, кромешные сумерки чувства вины. Болезненное чувство утраты приходит только тогда, когда, внезапно преодолев тьму слепоты, замечаешь на месте, казалось бы, неизменного компонента жизни неожиданную пустоту. Утратив Тимура давным-давно, я осознал это, только когда вернулся домой, оставив университет.
Страница 39 На вокзале
Теперь мне не осталось ничего, кроме памяти. Начать новую жизнь я не мог. Было немыслимо представить, что один из этих мелькающих мимо городов может стать моим. Что в каком-то из них я смогу найти людей, которые меня поймут и которых смогу понять я. Эти города были только грудой бесполезных тел, бетона и металла. Ничто не оживляло их бесконечную серость, их бескрайнюю чуждость мне.
Однажды, едва выйдя из вагона, я решил поехать дальше и купил себе билет на ближайший поезд. Мне нравилось пренебрегать целыми городами, уноситься прочь, терять себя в расстояниях, слепить себе глаза бегущей строкой пейзажей за окном и от этого ощущать сладкую иллюзию движения. И бездействовать, жить одной только мыслью, полетом фантазии, чужими рассказами.
В голове часто рождались прекрасные образы разрушения – картины смерти вещей и торжества всего осмысленного, неудержимо живого. Идя по асфальту, я представлял, как у моих ног появляется трещина в земле и проникает всё глубже, уносит всё дальше ту часть мира, от которой меня секунду назад отделял один только шаг. Сидя на вокзале, я представлял, как с сидений исчезают люди, становится пусто и гулко звучит голос в полукруглой зале. Мелкие трещинки бегут по стеклам, измельчаясь до тех пор, пока не слетит вниз прозрачная пыль. Кирпичи осыпаются. Сквозь пол стремительно прорастают деревья, широко раскинув ветви, птицы взлетают, и под воздушными взмахами их крыльев падают крыши и стены, и вместе с ними я лечу куда-то ввысь.
На вокзале я читал Франца Кафку. Как будто занесенный снегом, я перестал ждать, что когда-нибудь мою жизнь отогреет солнце. Жизнь оставила меня, как оставляют умирать в тайге больную собаку из упряжки. Что? Это я оставил свою жизнь, как ничтожную цепь событий, не претендующих ни на что, кроме забвения? Но даже забвение не было мне дано. Да и на что? Чтобы заново прожить те же слова, идейный голод, перешагнув грань абсурда, побеждать его обреченным Сизифом?
Нет же, я был глуп, когда мечтал о забвении. Нужно всё помнить, чтобы повторно не упасть в эту грязь, в уродливый быт посредственности, которая не оставляет ничего, опустошает до дна, и зарывает в чёрную землю забытья, по которой другие так безупречно вышагивают марши, над которой поют песни. Вся грязь мира сгущается, а под землей – груда костей, их втаптывают всё глубже. Ничего нет. Врата Закона остаются закрытыми. В них нельзя войти, – так говорят искателю закона. Прождав всю жизнь, он спросил: Но почему, скажите, для кого же эти ворота? Для тебя, отвечает скупо привратник, и странник падает замертво. Это всё гений Франца Кафки, обреченный парить над могилами маленьких людей, не дает покоя моим мыслям, произведения, которые должны были быть сожжены, – но остались – чтобы заполнять пустоту чужих жизней.
Всё написанное должно быть сожжено. Я убежден в этом сегодня – как никогда прежде. Все пустоты должны зиять черными дырами на ничтожных, пущенных по ветру жизнях, чтобы каждый заглянул в эту бездну – и отшатнулся. Чтобы каждый, внезапно осмелев, шагнул к Вратам Закона, или навсегда ушел прочь. К чему бессмысленные, медленные ожидания? Бездеятельная тоска, бездейственный сон, пробудиться от которого помогают лишь предсмертные крики, мертвые животные и твари, которые готовы ударить по лицу каждого, кто помешает им выйти из автобуса. Обстоятельства смыкаются, тяжелым сводом заслоняют небо жизни, которого я так хотел достичь, но – не смог, убежал.
Вернуться? Окунуться в заботы каждого дня, решать мелкие проблемы, как будто это дело всей моей жизни? Спасать воспоминания, возвращаться к близким. Избитая подсознанием мысль, что ежедневно приходит в сон лицами друзей, лицом Аллы, родителями, что в тягостном кошмаре простирают руки к моему лицу. Вернись, – просят они. Но я не двигаюсь с места. Всё это сон, пустое. Меня никто не ждет, пока я размышлял о том, что устал ждать новой жизни, новая жизнь уже наступила – случайные прохожие, автобусы, полные до кончика пальто, застрявшего между захлопнувшимися дверцами, и память, что терзает чувства деталями, накрывает мысли тяжелой, все стирающей волной.
Я бросил на пол игральный кубик, выпало пять. Я пнул его, и он покатился под пустыми рядами кресел. Обстоятельства подбрасывают игральный кубик моей жизни, вновь и вновь, но они больше не властны над моими мыслями, факты пусты, я не помню, где был вчера, с кем разговаривал в подземном переходе, а ведь я точно знаю, что говорил с кем-то. Только теперь это не важно. Куполом памяти я защитил себя от жизни, повторяя уже прожитое вновь и вновь, безропотно толкая камень в гору.
Я скрылся под страницами книг, отсеивая сквозь чужие мысли свои собственные. Я скрылся от людей, но иные из них бестелесно витают вокруг меня – и я порой задаюсь вопросом, какой смысл видеть человека, касаться его тела, слышать его голос, если он и без того звучит во мне, ещё полнозвучней и чище, чем если бы человек стоял рядом со мной. Жить слепо ко всему внешнему, рассекать беззвучие собственным голосом, быть непонятым – но не стремиться к пониманию. Понимание невозможно – говорит мне чей-то голос, я стою посреди шумной городской толпы и не могу разобрать, чей голос говорит со мной, но мне кажется, это и есть тот единственный, кто может меня понять. Алла? Толпа сгущается вокруг меня, чужие подступают ко мне телами, ватные, безвольные руки слепо тянутся ко мне, и тут же во мне умирают, изжив себя до последней капли.
Исчезните, – прошу я. Исчезните, – кричу им я.
Страница 40 Безукоризненная случайность и чертополоховое поле
Строки проплывали перед глазами, запоминаясь побуквенно, но бессмысленно. Довольно. Я отложил книгу.
Блаженно закрыв глаза, я увидел лицо Аллы, её ровную, светлую кожу, тёмную родинку на шее под левым ухом, мягкие, нежные руки, проницательный, глубокий взгляд. Я десятки раз проживал своё прошлое в своем воображении.
Тогда, на центральной площади города, который я покинул, собралась шумная толпа. Был душный летний вечер и какой-то праздник, в честь которого выступала с импровизированной сцены какая-то рок-группа.
Рассекая толпу в поисках края, я пробирался сквозь людей, касаясь их кожи, влажных рук, одежды, прилипшей к телу. Толпа казалась мне единым безликим существом, у которого много ног, рук и глаз. Я чувствовал навязчивую тошноту и мечтал выбраться на воздух.
И тут я увидел её. Алла лавировала между людьми в каком-то своем направлении. Мне показалось, что она искала кого-то глазами. Я заметил её, и мой взгляд потеплел, и стало легче дышать. Страх, тошнота – отступили, как будто волны вдруг отхлынули в море, обнажив влажный, блестящий песок. Нет же, я не любил её, просто мне стало легче дышать, когда появилась она.
– Что ты здесь делаешь? – Она сразу почувствовала, что меня здесь быть не должно.
– Не знаю. – Ответил я. Я забыл спросить, кого она искала – и кого не нашла – в толпе. Мы покинули площадь и вскоре оказались в самой безлюдной части города, запрыгнув в автобус, номера которого не успели разглядеть. Или только я забыл разглядеть номер? Уже тогда видеть её было потребностью, – как неосознаваемая потребность легких дышать чистым воздухом леса, – хотя я не всегда отдавал себе в этом отчета. Глазами я обнимал её за плечи, скользил вдоль рук, касался ладоней. Я остро чувствовал каждое микромгновение, когда наши взгляды встречались, когда соприкасались наши плечи. В эти секунды мне казалось, что всю свою жизнь я ждал именно её, атомы пространства становились ярче, резче, я будто бы мог разглядеть частицы воздуха, капли влаги, застывшие в ложбинках листьев, паутинки, поблескивающие в солнечных лучах. Воздух врывался в легкие и разливался в них ласковым морем. Почему же я не мог удержать нас в этих микромгновениях?
– Пройдемся?
– Куда?
Я показал ей место, где часто бывал, неподалеку от леса. «Какая безукоризненная случайность то, что автобус привез нас именно сюда» – думал я по дороге, смахивая с рукава бронзового жука, который полз сверху вниз, вдоль продольного шва. Я часто сидел на этом, вросшем в землю, сером камне, глядя, как проплывают мимо поезда, и люди, лица смотрят на меня из окон, и воспринимают как часть пейзажа, который приберегла дорога – именно для них, как дар прозреть, в одно мгновение охватить красоту мира, – в их памяти я задерживался не более, чем на секунду. В промежутках между поездами я слышал, как щебетали птицы и шумели листья.
Теперь рядом со мной сидела она, листья молчали, замер весь мир, лишь изредка покачивались травы, томно припадая к земле под безветренным, полуденным зноем. Я не сказал ей, что она была первой, кому я показал это место, как когда-то не сказал, что никому не дарил цветов. Я был уверен – она поняла, без звуков, без объяснений – она читала в моих мыслях. За нашими спинами раскинулся лес, впереди рельсы разделяли землю пополам, а за ними виднелось широкое поле, заросшее бурьяном.
– Я хочу гулять в чертополоховом поле. – Произнесла она, задумчиво глядя вдаль. Я следил за её взглядом.
Я ничего не ответил, мне показалось, что она скажет что-то ещё. Когда я говорил с ней, мне не требовалось усилий, чтобы извлекать из себя слова, – они текли плавной извилистой рекой, достойные понимания и, достигнув, гордые им. Мне показалось, что прошла целая вечность, прежде чем она завершила фразу.
– С тобой.
«Со мной?». Я вновь промолчал, но это показалось мне естественным. Я тоже хотел гулять с ней в чертополоховом поле. Но где его найти? За несколько секунд я перелистал в голове все пейзажи, которые видел, но среди них не было того единственного, который я хотел бы вспомнить.
– Я никогда не видел чертополохового поля, – наконец, признался я.
– Я тоже. Только во сне.
Только во сне. Быть может, в реальности его не существует вовсе, и мы никогда не будем пробираться плечом к плечу через заросли чертополоха. Может быть, это она и имела в виду? Что нас нет, и не может быть в реальности. Что мы – только выдумка моего воображения. Я хотел стремительно, бездоказательно поверить в чертополоховое поле, как я поверил в чувства, не названные словами. Не поэтому ли в каждом новом городе я неизменно жил на окраине? Риторический вопрос к самому себе. Выходя на платформу из поезда, открывая двери квартиры, фоном сознания я искал глазами эти заветные колючие заросли. Я долго делал вид, что забыл про чертополоховое поле. Но, разделяя свою жизнь на страницы, нужно быть честным. Я всегда о нём помнил.
Я придумал нашу жизнь, как предчувствие ещё не свершившегося, но вот-вот готового произойти, однако время утекало прочь, ничего не происходило, – время пустовало и отмирало бессмысленно прошедшим. Предчувствие растянулось на годы, каждый день был как предчувствие нас, предчувствие чертополохового поля, которое я мечтал увидеть, как росчерк кометы на чёрном небе, как летящий в глаза первый снег, как воплотившийся в жизнь призрачный сон. Признать, что этого поля не существует, значило для меня признать, что не существует и нас. Поле стало символом всего, что я чувствовал, но не мог (или не хотел) выражать словами, – этими жалкими, безмысленными сцеплениями букв.
В тот день я впервые обнял её за плечи и почувствовал, как весь мир сжался до ощущения этого прикосновения, её плечи превратили простой жест в событие, полное загадочного в то же время столь ясного смысла. Её плечи закрыли собой весь мир, – властное, быстрое мгновение, оно показалось мне идеальной пропорцией – золотым сечением – мне казалось, что эти несколько мгновений, что я обнимал её, непременно должны устремиться к бесконечности, продлиться навсегда. Но секунды никому не обязаны, и потому они лишь исчезли, сгинули в небытие.
Я провел рукой по её лбу, отодвинув сбившуюся прядь волос, её кожа была горячей и немного влажной, светлой, словно никогда не знавшей загара. По руке пробежала тень от березы, которая раскованно качала тонкими ветвями у нас над головами. На камень в нескольких сантиметрах от края её бирюзового платья приземлилась стрекоза и проворно исчезла, взлетев вновь через несколько секунд. Вдали послышался шум поезда. Я закрыл глаза на несколько мгновений, чтобы запомнить этот момент, оставить его себе, как подарок жизни, запечатлеть в памяти каждое ощущение. И я запомнил.
Страница 41
Как мог я не запомнить?
Страница 42 Слова, которые я выбрасывал
Говорят, для того, чтобы перестать о чём-то думать, нужно про это написать. С наступлением весны я начал писать письма. От одиночества или от скуки, но мне хотелось быть откровенным – в основном перед собой – ведь я никогда их не отправлял. Писем было много, но я писал их одним и тем же людям. Моё сердце не так просторно, как мысли.
Я писал письма каждому, для кого у меня ещё остались слова. Я отдавал эти слова листу бумаги, разрывал их на части и выбрасывал в воздух, словно блестящие в лунном свете хлопья снега, словно праздничный серпантин. Чувствуя радость саморазрушения, я делал из них неуклюжие, наивные кораблики и пускал их в плавание с неизбежным кораблекрушением. Я сжигал их на асфальте прямо под своими ногами. Нет ничего приятнее, чем сжигать своё прошлое. Нет ничего приятнее, чем сжигать то, что меньше всего хочется сжечь. Я хотел преодолеть нечто внутри себя, эту властную тягу назад, консервативное чувство дома, тоску по ушедшему, нежелание жить по-новому. Увы, это был только перформанс ради самого себя, письма красиво и быстро сгорели, оставив всё по-прежнему.
Я сжег старые письма Анны. Как я любил когда-то эти строки, обращенные ко мне, в каждом звуке подразумевающие только меня… Теперь я видел в них только крик человека, оглушенного непониманием.
…Я всё время хочу быть к тебе как можно ближе. Я чувствую тебя, знаю, когда ты набираешь мой номер и угадываю телефонный звонок прежде, чем ты позвонишь. Но ты отдаляешься, я не могу не видеть, как ты нарочно хочешь этого, – хочешь, чтобы тебя оставили – но как я могу оставить тебя? Вчера, выходя из дома, я хотела больше не возвращаться, – мне тяжело слушать тишину, когда ты молчишь, я так и не научилась понимать твоё молчание. Когда я говорю, как будто бы в никуда. Самое ужасное, это когда ты молчишь. Я ничего не могу сделать. Ты не слышишь, ты далеко. Это самое ужасное.
Это ли самое ужасное? Мне ничего не стоило сжечь эти строки. Я перестал чувствовать её слова, давным-давно забыл запах её духов, которым когда-то была пропитана каждая страница, написанная её рукой. Чёрная дыра памяти сожгла её письма намного раньше моей зажигалки. Что мне стоило поджечь уже сожженное?
Уничтожить всё сказанное Аллой было гораздо сложнее. Я написал на бумаге все слова, которые она мне говорила, и бросал их с моста, в тёмную, живую воду, бегущую вперед быстрой рябью. Я сбросил «никто не гладил меня по волосам так, как ты» неподалеку от «я помню твои холодные руки». Я выбросил «проводи меня», а после «а тебя?». Я лишился «пока» и «привет», лишился её рассказа о любимой книге, выбросил наш разговор в электричке, выбросил «ты забыл про браслет». Я выбросил даже незначительное «как ты съездил к морю?» и бесценное «я хочу гулять с тобой по чертополоховому полю». Я все слова между нами выбросил. Если бы я мог, я бы полетел с моста следом за ними. Если бы я мог исчезнуть, как эти слова, растворяясь в воде чернилами и листом бумаги. Но я не мог. Ещё рано – лететь с моста. А как просто, казалось бы…
Я выбрасывал слова в воздух, огонь и воду, чтобы опустошить себя изнутри. Но я выбрасывал только слова, – бессловесная суть моей жизни была бессмертна, а слова всегда появлялись вновь – они тянулись к невысказанному, забытому образу, желая смять его, втиснув в словесную форму. Лишь несколько писем я оставил, когда понял, что выбрасывать слова так же бесполезно, как вынимать из часов батарейку.
Страница 43 Письмо Анне
Дорогая Анна. Ты сейчас, вероятно, сидишь за кухонным столом, вечно покрытым грязной посудой, и пьёшь крепкий чай из своей извечной матово-красной кружки. Ты положила в чай три ложки сахара, если у тебя хорошее настроение, и ни одной – если плохое. Я всегда хотел сказать тебе, как всё-таки нелепо измерять настроение в сахаре.
Но теперь мне, кажется, нечего тебе сказать. Зачем ты вечно звонишь и задаешь вопросы? Я всегда отвечаю одно и то же. Зачем ты спрашиваешь о моём здоровье? Ведь с тех пор, как я выбросил в урну мешок лекарств, я совершенно здоров. Я не могу не отвечать на твои звонки. Ты всё ещё живешь во мне какой-то навязчивой тенью, и у меня нет сил, чтобы избавиться от этого призрака. Но я не могу говорить с тобой долго и откровенно. Я не могу открывать тебе себя, как делал это нашими длинными вечерами. Потому что я уже шагнул за черту невозврата, и теперь запираю все мысли на ключ перед разговором с тобой.
Я успел добежать до конца, прежде чем сказать тебе «давай начнем сначала». Я готов был ждать двух слов тысячи дней и ночей. Я готов был рыскать глазами по улицам долгими осенними вечерами по воскресеньям, зная, что место встречи неизменно. Я готов был выслушать всё. «Ради ретроспективной правды». Я обесцветил фотографии, выкрасил черным потолок, перевернул все вещи вверх ногами. Твою открытку. Твой подарок. Наш фикус. Мою недопитую чашку кофе. Я перевернул вещи вверх ногами, и сделал потолок полом. Ходить было неудобно, под ногами путалась люстра, но я был готов на всё в своей монументальной попытке забыть твоё предательство. Всё вверх ногами, и я готов был начать сначала. Но начало не наступило. Оставалось всего несколько секунд, и я их упустил. Просто смотрел в потолок. А ты просто не посмотрела на часы.
Я выбросил твою заколку. Я разбил чашку из-под кофе. Я перестал поливать фикус. Я выслушал всё ради ретроспективной правды, и теперь мне больше незачем переворачивать вещи вверх ногами. Я нарисовал нас двумя перечеркнутыми линиями и выбросил в мусоропровод разорванные клочки бумаги. Я выбросил декабрь, затем ноябрь, а после – все остальные месяцы. Октябрь. Сентябрь. Август. Я начал стирать фразы с конца. Каждую главу – построчно и безвозвратно.
Я никогда не вернусь. Ты ведь так и не поняла меня за все эти годы. Ты была прекрасным слушателем, но понимала только логику моих слов, а вовсе не их смысл. Раньше я думал, что понимание приходит со временем. Я ошибался. Со временем приходит лишь привычка к непониманию, и оно перестает терзать. Я бы не хотел приобрести такую привычку.
Я уже не люблю тебя, но всё ещё боюсь потерять окончательно. Поэтому я никогда не признаюсь тебе в том, что обманывал тебя. Что обманывал всех. Всех, кроме Аллы. Я никогда не расскажу тебе ничего. Твои тонкие пальцы никогда не коснутся этой бумаги. Ты никогда не прочитаешь это письмо, которое я так долго писал для тебя. Писал лишь для того, чтобы не позвонить и не задать тебе этот самый бессмысленный вопрос в мире. Как дела?
Страница 44 Письмо Тимуру
Сложно писать письмо своему единственному другу, которого давно потерял из вида. Сложно писать письма тому, кого я, возможно, никогда больше не увижу, сколько бы ни стучал в твои двери и сколько бы ни бродил по городу, который мы когда-то избороздили своими шагами вдоль и поперек. Сложно писать эти запоздалые строки.
Я слишком мало знал тебя, я не знал ни твоих мыслей, ни твоей жизни с тех пор, как уехал из города, словно между нами выросла стена из километров, через которую мы не могли докричаться друг до друга.
В голове моей одни вопросы. Вопросы, на которые я никогда не услышу от тебя ответов. Как ты пришел к своему добровольному одиночеству? Почему ты перестал понимать людей? Что ты успел сделать перед тем, как исчезнуть? Ты до сих пор любишь овсяное печенье? О чём ты говорил со своей мамой? Кто приходил в твои сны? Почему ты так легко выбросил меня из своей жизни? Почему ты так легко покинул всех? О чём ты мечтаешь? С кем ты говоришь? О чём молчишь? Что приносит тебе радость? Ведешь ли ты свой философский дневник? Чувствовал ли ты счастье без привкуса горечи? Вспоминаешь ли обо мне? Остались ли у тебя несказанные слова или ты ничего не хотел говорить людям? Предчувствовал ли ты всё случившееся, как всегда предчувствовал болезни и неприятности в нашей жизни? Чье лицо возникло перед твоим мысленным взором, прежде чем ты покинул город? Кто мне ответит на все эти вопросы? Кто, если не ты?
С кем говорил ты, когда не мог больше молчать? Какие сигареты ты любил? И было ли так, чтобы ты зажег сигарету на своем балконе в тот момент, когда я зажег свою в тысяче километров от тебя? Любишь ли ты поезда так, как я? Какой твой любимый фильм? Часто ли ты смотрел на звёзды в свою подзорную трубу, которую мы не выпускали из рук в детстве? Веришь ли ты в судьбу? Что бы ты сказал, если бы я поведал тебе о своем бегстве от времени? О чём бы ты рассказал мне в первую очередь, если бы я пришел к тебе в гости? Я люблю тебя всем сердцем, мой единственный друг.
ПОЧЕМУ
ТЕБЯ
ЗДЕСЬ
НЕТ?
Страница 45 Письмо Алле
Я не буду писать тебе «привет», зачем здороваться или прощаться, если я постоянно говорю с тобой в мыслях. Твои тёмные, глубоко зеленые глаза преследуют меня всюду, как навязчивый и обаятельный образ витает над каждым стихотворением поэта… Поэта, готового выпасть из окна.
Всё это время в моих темных зрачках не отражалось ничье лицо. Я как будто сидел на полу в тесной комнате, в комнате своей памяти. Мимо проходили секунды, минуты, иногда часы, реже – дни и месяцы. Я замечал только годы, которые отдавались в ушах глухим боем курантов и хлопками фейерверков. Внутри себя я говорил с тобой, но в моих зрачках никто не отражался. Моя самая отчаянная надежда на то, что ты тоже говоришь со мной в мыслях, умерла, не успев родиться.
Пол был покрыт разным хламом, которому давно место на свалке, разным хламом, который покрывался пылью год от года и теперь я уже не мог различить каждую вещь в отдельности. Среди этого хлама сидел я. Хлопья пыли липли к одежде, таяли под прикосновениями, рассыпались от каждого выдоха. Я взращивал в себе новые надежды, питая их пылью, и все они рождались мертвыми. Пол был холоден, как мои руки, или как снег, а может быть, как пыль, которая падала вниз и кружилась, словно серая метель. Этот снегопад никогда не заканчивался, я ловил пыль пальцами, подставлял ей лицо, я разрешал пыли коснуться моей кожи, покрыть мои волосы, склеить ресницы, чтобы в моих зрачках уже ничто не могло отразиться. Мои мысли утекают прочь с быстротой падающей пыли. Превратившись в пустой бесполезный предмет, я сошел на нет, и уже не мог подниматься с пола, чтобы выбрасывать мёртвые надежды. Может быть, поэтому надежды вскоре исчезли вовсе, из моей головы исчезло даже само это дурацкое слово «надежда» я забыл, что раньше имел в виду, когда его произносил. От меня осталась только пыль на полу. И если однажды ты всё-таки вспомнишь меня и вновь без стука зайдешь в мою комнату, то ни за что не отличишь, где здесь я, а где тот хлам, что лежит на полу.
Слишком много пыли выпало в этот пасмурный год, чтобы её можно было смахнуть одним движением руки. Но я до сих пор жду тебя в своих мыслях.
Мои глаза видят только то, что хотят увидеть. Я всё про нас придумал, Алла. Но тебя саму я придумать не мог. Прошу, только не говори мне, что тебя не существует.
Я так мало говорил с тобой, поэтому на берег моих мыслей порой набегает невыносимая жажда слов между нами. Я так много с тобой молчал. Так много не сказал, что, кажется, однажды всё несказанное польется через край молчания, как кипящее море, которое я взрастил в себе, без которого бы не было тебя. Но я до сих пор молчу, и мне хочется закончить это письмо прямо сейчас, чтобы оставить непроизнесенными все слова, что накопились внутри меня за несколько лет, что я знаю тебя. Словно прочитав мои мысли, в моей ручке заканчиваются чернила. Я не стану искать новую ручку. Я знаю, что всё, что можно описать словами, между нами давно сказано молчанием.
Иногда я боюсь, что твоя внезапная смерть, а может быть и моя, избавит меня от желания обратить в звук всё несказанное. Иногда я надеюсь на это. Напрасно я дышал лишь выдуманными рельсами и километрами, обращаясь к тебе почти на вы, но угадывая тебя в каждом крике пролетающих над головой птиц. Ты была похожа на птицу, ты была похожа на воздух, которого никогда не замечаешь, но которым всё-таки неизбежно и неизменно дышишь.
Я не поставлю в конце точку, потому что точка – это почти что смерть. Я обращаю в смерть все мысли, что возникали, когда я смотрел в твои глаза. Я обращаю в смерть всё.
Раскрытые тайны полупьяного одиночества пробежались щекоткой по замерзшим плечам и упали шелковым платком, как ненужный груз.
Почему я не там, где ты?
Поездами и рельсами отдавались в глубине мыслей звуки твоего голоса. Парусами и соленой морской водой веяло от беззвучия в моей голове. Белые чайки с пропахшими солью перьями проносились над моими безмятежно пьяными глазами и улетали к горизонту. Тяжелее свинца казались секунды, а стрелки часов – легче лебединого пуха. Но я сам выбрал эту легкость и эту тяжесть.
Почему я не там, где ты?
Всё несказанное уже сложилось в моем воображении в толстую книгу с чистыми страницами, которые ты будешь медленно перелистывать и, внимательно вглядываясь в их белую гладь, понимать каждое непроизнесенное слово.
Почему я не там, где ты?
Чистые страницы белоснежны, как морские чайки. Чтобы наполнить их буквами, нужен воздух, которого нет. Которого никогда не будет, так же, как никогда заботливый случай не нарисует тебя и меня на одной картине неизвестного, но талантливого художника, который будет единственным понимающим среди тех других, что меня окружают. Быть может, этого не произойдет лишь потому, что такой художник давно выбросил на свалку свои кисти и масляные краски, пустив на растопку печи чистые холсты и деревянные рамы. Но, так или иначе, этого не произойдет. Потому что я никогда не буду там, где ты, подобно чайкам, летящим за горизонт. Потому что я смотрел в окно, из которого видел лишь небольшой кусок опаленного закатом неба, на котором смешались в причудливый узор оранжевый, фиолетовый и розовый. Потому что давным-давно я ждал твоего автобуса на своей остановке, и мою тень на асфальте пересек хромающий на одну лапку голубь. Потому что…
Страница 46 Напрасные слова
Рассеянные жесты уставших рук разбросали по пыльным углам полузабытые детали прошедшего. Тяжелеющие веки сомкнулись после того, как дрожащие пальцы от безвыходности щелкнули выключателем. Подожженные полусном воспоминания таяли, как дотлевающий огарок свечи. Их тускнеющий свет ронял лучи в какую-то смутную ночь, которая могла бы длиться сколь угодно долго, но продолжалась лишь мгновение. Слова тонули в горячем воске, превращаясь в нежный полушепот, тёплый от легкого дыхания, на долю секунды замирающего после вдоха и выдоха. Замирающее сердце роняло свои удары в пустую по моей вине комнату.
Я заставлял комнату пустеть до полного отсутствия воображаемых возможностей. Я заставлял свет всего полузабытого меркнуть до кромешной тьмы. Я заставлял ресницы нижнего и верхнего века сплетаться в морские узлы, чтобы глаза стали заколоченными окнами. Я заставлял движения покинуть мои руки, чтобы, подобно запертым дверям, они оставались неподвижными и полумертвыми.
Я заставлял время расползаться по комнате, опережая стрелки часов, я хотел растворить в полупустом пространстве всё неизбывное. Я вычерпывал усилием сомкнутых век безбрежное, но мертвое море памяти, с невыносимым соленым вкусом горечи и страха повторить всё неповторимое.
Я поймал память на лжи: со мной случилось столько всего, что казалось мне значимым, но помнил я только всё неповторимое. Чтобы не дать всему повториться, я отчаянно смыкал веки и произносил только те слова, которых никогда не говорил. Я хотел оставить в памяти всё. Но память закрывала мне глаза.
Крик, струящийся внутри меня в абсолютной тишине, просил у памяти крошечного шанса, но в ответ лишь подрагивал воздух от шумных выдохов. Молчание памяти вросло в меня и стало моим молчанием. Вскоре я научился различать оттенки тишины и придавать им незримый для других смысл. Это было самой большой ошибкой, потому что смысл, никем не разделенный, повисал в пространстве мыслей призрачной доминантой и заставлял вновь и вновь возвращаться в изначальную точку отсчета выдуманных значений.
Вдохновленный беззвучием несыгранной ноты, я рассыпался на буквы, тая на чистом листе бумаги словами, которых никогда не услышу. Пусть всё сказанное останется непонятым, пусть всё написанное останется непрочитанным и станет со временем и от времени стертым, а значит таким же полусуществующим, как всё внутри меня, как всё вне меня.
Напрасно я кричал о непонятых сущностях забытых вещей в полутьме задымленной комнаты, звук разбивался о тишину, и таял, таял, как первый снег на теплых ладонях. Напрасно я не сказал самого главного, напрасно, я знаю, что напрасно я ничего не сказал, потому что я произнес вслух все существующие слова, и теперь мне остается только молчать, чтобы избежать возвращения к изначальному.
Страница 47 Другие берега
Листы бумаги летели из моих рук, как листья с осенних деревьев, в то время как за пределами меня наступила весна. Вокруг тепло пахло ветром и мокрой землей, сквозь которую уже начала прорастать трава.
Среди городских окраин, превращенных талым снегом в грязные весенние руины, я искал себе уютного безветренного места, чтобы немного почитать, но мой путь быстро оборвался широкой и грязной рекой. Она была похожа на ручей, который растекся вширь в бесплодном стремлении к чему-то большему. На другом берегу лежало широкое дерево, устремив в воздух вырванные из земли корни, я мог бы устроиться на нём, но между нами были метры воды.
Другие берега всегда манили меня. Полтора года тому назад, ещё до того, как время моё остановилось, я вернулся в свой город, бросив учебу. Тогда я понял, что больше не люблю Анну, что Тимур добровольно исчез, что у меня не осталось ни одной цели, которая могла бы осветить моё существование. Спасаясь от надвигающейся ночи, я убежал на вечерний берег, такой же пустынный, как моя жизнь. Я хотел лишить себя сил, чтобы ни о чем не думать. От бега быстро стало жарко, я лег на остывший песок, который мягко поддался форме тела. Надо мной ширилось небо, полутемное, беззвездное, освещенное только фонарями, у самого горизонта ещё плыли воздушные, розоватые облака, готовые сойти на нет. Набережные фонари противоположного берега отбрасывали свет на тихие волны. Глубокая река, которая рассекала город надвое, переливалась холодными бликами.
Чтобы забыться, я начал мечтать. О чем я мечтал тогда? Не могу вспомнить. Когда-то я любил мечтать, но вскоре понял, какое это рискованное занятие: мечты слишком часто сбываются, но не приносят радости. Они превращают жизнь в ад, если мечтатель не был достаточно дальновиден. Мне кажется, что людям жилось бы гораздо лучше, если бы мечты никогда не сбывались. Но я верю в их исполнение как в необходимую кару, настигающую чересчур мечтательных.
Я погружал ноги в прибрежный песок, в то время как другой берег звал меня к себе. Я ощущал приятную одинокую грусть. Но всё же мне было радостно от того, что никто не слышит моих мыслей, моих шагов по песку, шороха пальцев, стряхивающих песчинки с водолазки. Никто не ответил бы даже на крик. Все давно спали, только глухо лаяла иногда какая-то собака. Пролаяв несколько раз в темноту, она умолкала на время, но потом снова звенела в темноте своей цепью и лаем прогоняла тишину.
Другой берег проживал иную жизнь, даже если там ничего не происходило. Я бродил там с Аллой, её руки грелись в моих руках, я наблюдал за паром изо рта, который вылетал то больше, то меньше, в зависимости от длины произнесенного слова. Там я гулял с родителями, когда был совсем ребенком. На том берегу я искал с друзьями свободную лавочку летними вечерами или, облокотившись на поручни, смотрел на воду и летающих над ней чаек. – Там я ощутимо жил, а здесь только витал в пространстве воображаемых картин, идей и образов. Здесь я без движения сидел на холодном песке, податливо уступая тоске и пожирая глазами противоположную сторону. У меня скоро замерзли руки и ноги, кожа покрылась мурашками, но я всё сидел и сидел, пока на том берегу не начали гаснуть фонари.
Эта ночь прочно сидит в моей памяти. Мне кажется, что я помню каждую свою мысль, каждое движение, каждый след, оставленный мной на холодном ночном песке. Влажный ночной холод. Предрассветную росу. Лай одинокой собаки. Окна, в которых не горел свет. Не помню только, о чем я тогда мечтал.
Но всё это в прошлом.
Возвращаясь домой, так и не найдя себе места посреди оживающей природы, я встретил пьяного, который медленно продвигался вперед, хватаясь за контрастные стволы берез.
– У вас не найдется сигареты? – Спросил он заплетающимся голосом, и мы закурили.
Он тускло глядел перед собой невидящими глазами и размышлял о жизни с видом великого философа.
– Что ты здесь делаешь? – Спросил он. – Тратишь время попусту… Моё-то время уже прошло…
– Моё тоже. – Скупо произнес я и посмотрел на черные ветви на фоне светлого неба. Стало прохладно от ветра.
– Я не знаю, зачем ты здесь стоишь. Я тебя не знаю. Есть только я. Стоит мне закрыть глаза, и будет только тьма, беспроглядная, вечная. Но за сигарету спасибо. Ты святой человек! Всякий, кто говорит со мной, святой человек.
Заморосил дождь. Я выбросил окурок и ушел, пожелав ему удачи, а он опустился на землю, прислонившись спиной к дереву, прикрыл глаза, и весь мир перестал существовать…
Страница 48 Секунда в секунду
Скоро я простудился, – каждая весна делает меня нездоровым, – и долго не выходил из дома, пережидая слякоть и грязь. Иногда я развлекал себя тем, что смотрел в окна соседнего дома, наблюдая за людьми, что мелькали в этих окнах, нечаянно выставляя напоказ короткие эпизоды своих жизней, а потом выходили из комнаты, – и бесследно исчезали, выключив свет.
В квадратной раме, как в картине кисти Рафаэля, расчесывала длинные рыжие волосы красивая девушка с тонкой талией и несколько широкими плечами, то и дело поглядывая на меня. Мне льстило, что я замечен. Я стоял с сигаретой в руке у раскрытого настежь окна. Позади меня, в простой алюминиевой кастрюле, закипало на плите кофе. Я отвернулся на секунду, чтобы наполнить кружку, а когда вернулся, в окне уже было пусто.
Порой я видел, как она поливала цветы, как сидела на подоконнике с разноцветным журналом, как разговаривала по телефону, и смеялась, и встряхивала пышными волосами. Она была красива и нравилась мне, за ней было интересно наблюдать, потому что она была – живой. Однажды, проснувшись в три часа ночи, я заметил свет за лиловыми шторами её окна, и в полусне думал, почему она не спит в столь поздний час. Но я так и не узнал, почему.
На втором этаже жила молодая пара с ребенком. Иногда они забывали задернуть шторы, и тогда, медленными вечерами, я смотрел, как они сидят, обнявшись, напротив телевизора. Когда они не забывали задернуть шторы, я догадывался, что они делают то же самое. Они сидели почти всегда неподвижно, несколько скованно, повернувшись затылками к окну. Мне было интересно, исчерпало ли себя их тихое семейное счастье. Или они умеют быть счастливыми? а значит, обладают тем, что не дано мне. Странно, но я ни разу не замечал, чтобы они ссорились. Только ходили из комнаты в комнату, говорили о чем-то, почти не жестикулируя. Они зажигали свет, и я видел, – я всё видел – и не на что было смотреть. Скучно, безумно скучно.
Интересней было наблюдать за пожилой женщиной, которая вечно что-то готовила на кухне, – неизвестно, для кого, ведь я ни разу не видел у неё в доме гостей. Впрочем, все окна, кроме кухонных, были для меня не доступны благодаря плотным синим занавескам. Иногда до меня доносились звуки музыки: на кухонном подоконнике стоял старый магнитофон, и она порой пританцовывала, крутясь у плиты, как будто на лице у неё не было морщин, как будто она была не одинока, как будто впереди её ждала яркая, насыщенная жизнь, – как будто эта жизнь только что началась. Мне хотелось как-нибудь зайти к ней в гости, на обед или ужин, послушать рассказы о её молодости, станцевать с ней и посоветовать задернуть шторы. Но я не зашел.
Больше всего я привык к мужчине, который жил на последнем этаже. Разумеется, я ничего о нём не знал: какой у него голос, где он работает и что читает, я только видел его спортивную, осанистую фигуру, лицо с густыми русыми усами и бежевый халат. Всякий раз, когда открывал окно, чтобы выкурить сигарету, он неизменно стоял напротив меня. У него на балконе было полно забытых вещей – колесо от велосипеда с изломанными спицами, цветочные горшки с отбитыми краями, детская ванночка, в которой хранились выцветшие пластмассовые игрушки.
Мы всегда курили одновременно, эта необъяснимая синхронность порой доходила до абсурда. Какой-то невыносимой ночью, когда мысли не давали мне покоя, я выглянул в окно, отчаявшись заснуть. Ещё не рассвело, но он был там, и с тех пор, открывая окна, я всегда искал его глазами. Казалось, мы чувствуем друг друга, как пара точнейших в мире часов, которые идут секунда в секунду. Я проникся к нему поверхностной, но искренней симпатией, словно у меня появился друг, которого мне не хватало в отсутствии Тимура.
Но однажды утром я не увидел его. На балконе было пусто, только раскачивалось на веревках белое постельное белье. Я растянул сигарету на пять минут, в недоумении выкурил еще одну, но он так и не появился. Удивительно, но мне не хватало его. Если бы это был мой друг, я бы бросился звонить ему и спрашивать, что случилось. Но его я мог только ждать, облокотившись на подоконник, со скучающим видом человека, которому нечем заняться.
С тех пор я старался не смотреть в окна. Даже к этим людям, которые всегда находятся на расстоянии пятидесяти метров и исчезают, ничего не сказав, – даже к ним можно привыкнуть, даже их можно научиться ждать.
Через несколько дней я вновь увидел его и не мог не улыбнуться нашей почти долгожданной встрече, хотя он, должно быть, вовсе не разделял моей радости. Смешно было думать, что он замечал меня. Его жизнь была наполнена повседневностью, в которой не было места всему тому, что лежит по другую сторону окон. С тех пор, как я оставил свой город, ни в чьей жизни для меня не находилось места. Когда-то меня это радовало, ведь, уезжая, я хотел именно этого. Но теперь это была всего лишь пресная правда, которая стала слишком привычной, чтобы я мог назвать её исполнением своей давней мечты.
Страница 49 Двадцать две минуты непонимания
Мои давние мечты исполнялись в то время, когда я был с Анной: простое, невзыскательное счастье, казалось, не имело границ и существовало всецело лишь для меня. Правда, уже тогда мне было этого мало. Слишком просто, – думал я, – и утешал себя, доказывая в уме сложнейшие математические теоремы. Простота скрывала подвох. Мы незаметно падали в бездну обыденности.
Это началось зимой, когда вечерние улицы смолкли, и мягкий снег смягчил резкие контуры домов, настойчиво заметая за нами следы. Мы шли молча, свернув в сторону от шумной автотрассы. По этой дороге мы ещё ни разу не ходили. В конце её был тупик, путь прерывался железнодорожными линиями. Я наблюдал, как растворяется в воздухе тёплый пар от нашего дыхания и слушал свежий хруст наших снежных шагов. Я снял перчатку и взял её за руку. Её рука была горячей. Фонари проливали янтарный свет на наши лица, и мне казалось, что мы думаем об одном и том же, и мне казалось, что мы молчим, потому что с избытком понимаем друг друга. Я льстил себе. Мне только казалось.
– Двадцать две минуты, – строго произнесла она, внезапно остановившись.
Это было совсем не то, о чём я думал.
– Что?
– Ты молчишь. Двадцать две минуты. Хватит, может быть?
Я почувствовал раздражение. Оказывается, всё это время она измеряла моё молчание в минутах. Анна наблюдала за мной и, когда я забывал глядеть на часы, безукоризненно точно вела счёт моему времени. Как это подло, – думал я. Она ничего не понимала. Мне только казалось. Я вновь натянул перчатку на руку, и мы продолжили наш молчаливый путь в тупик. Я злился на себя.
– Зачем ты притворяешься, что не понимаешь меня? – я действительно подозревал, что она притворяется.
– Но я действительно не понимаю. – Это казалось ей таким естественным: не понимать.
Резкий тон этих тихих слов разозлил меня ещё больше. Не найдя слов, я замолчал. Она тоже злилась: на то, что я прислушиваюсь к нашим снежным шагам вместо того, чтобы занимать её разговором.
Так я впервые осознал, что ближе нам уже не стать. Болезненное чувство непонятости проросло во мне, пустило свои корни в моих чувствах, которые с этого момента были обречены.
В тот вечер я пришел домой и долго листал уже прочитанные книги, чтобы как-нибудь отвлечь себя, но ничего не получалось, чувства властвовали. В каждой книге я находил ту самую страницу, которая напоминала мне о двадцати двух минутах, которые мы прожили с Анной в разных мирах, о целой жизни в разных мирах, где не было ни одного верно понятого слова. Ни одна мысль не нашла созвучия и бесследно исчезла, как вымарывается из бездарной симфонии единственная верная нота.
Той ночью я видел во сне пустой морской берег, над беспокойной водой кружили чёрные птицы, они то и дело проваливались под воду, и спустя секунду выныривали с добычей в блестящих изогнутых клювах. Я сидел на холодном камне и ждал корабля, который должен был забрать меня из этого забытого богом места. Но горизонт был безжалостно пуст. Ветер летел с берега, становясь всё сильнее. Наконец, он обрел такую мощь, что мелкий щебень и неподъемные булыжники летели мимо меня, не задевая, и падали в воду, разбрызгивая море. И море расплескалось, и ничего не осталось на его месте, кроме груды камней. Я стал карабкаться по ним, я зачем-то хотел спасти черных птиц, которые не могли обогнать ветер и падали под его каменными ударами. Тяжелая ледяная волна нахлынула на меня сзади и опрокинула на камни. Я увидел мертвых птиц, которых подхватило слабой, умирающей волной и повлекло навстречу пустому горизонту.
Страница 50 Город дождей
Я приехал в хмурый, пасмурный, несколько заброшенный город. Дожди, казалось, непрерывно лились на его крыши. Когда, выйдя из поезда, я впервые зашагал через привокзальную площадь в поисках жилья, мокрый асфальт блестел, и в дрожащих лужах блекло отражалось серое небо. Когда я покидал город, густые тучи мрачно провожали меня раскатами грома. Такая погода была сродни моим мыслям, и я полюбил этот город, – на время.
Лишь однажды, проснувшись ранним утром, я не услышал, как бегут по железному подоконнику быстрые капли. Тишина застала меня врасплох. Отодвинув лёгкие шторы, я выглянул в окно. За окном была кромешная пустота. Туман.
Я любил туман. Любил идти по незримой дороге, которая обрывается в неизвестность в нескольких метрах впереди, а люди проходят мимо неясными силуэтами, и ничего, ничего впереди… Я быстро оделся и вышел в поле, и туман принял меня в свою мягкую пустоту. Постояв пару минут на перекрестке тропинок, я зашагал по траве: из четырех направлений я выбрал его отсутствие. Неподалеку шуршала трава под шагами неизвестного прохожего, на мгновение появилась собака, улыбнулась мне вытянутой мордой, и тут же пропала.
Туман понемногу отпустил город на свободу, прояснились контуры крыш, перспектива улиц обрела потерянную глубину. Но моя жизнь так и осталась туманом. Жизнь каждого осталась туманом…
Сегодня ты злишься от того, что встал не с той ноги, а завтра ты бьешь кулаками в стену, разбивая руки, потому что тебя предали те, в кого ты больше всего верил. Сегодня ты напиваешься до полусмерти, потому что устал от ритма жизни, а завтра ты делаешь это потому, что оказался не способен прыгнуть выше головы и стать тем, кем всегда хотел быть. Сегодня ты всем сердцем любишь человека, а завтра жалеешь, что когда-то его узнал. Сегодня ты ждёшь автобуса, а завтра – чуда. Сегодня ты ищешь момент, чтобы поговорить по душам, а завтра ты ищешь предлог, чтобы ничего о себе не рассказывать. Сегодня ты откладываешь всё на завтра, потому что тебе лень, а завтра ты откладываешь всё на послезавтра, потому что не можешь встать с кровати. Кружится, нестерпимо болит голова. Сегодня ты боишься потерять работу, но уже завтра ты рискуешь утратить нечто большее. Сегодня ты говоришь, что терпеть не можешь хирургов, а завтра ты ложишься под нож и молишься, чтобы этот самый хирург спас твою жалкую жизнь. Чужие пальцы ныряют в твои внутренности, хирург разрезает скальпелем тело, чтобы спасти его для нескольких дней жизни, которые неизбежно будут потрачены на ничтожные, повседневные мелочи.
Вчера ты верил в Бога, сегодня – в себя, а завтра? Завтра не существует. Только туман, за которым скрываются целые города, за которым разверзаются пропасти, за которым нет ничего…
В такой же туманный день я покидал университет, который некоторое время удерживал мой интерес трагическими судьбами «проклятых поэтов», пустой болтовней одногруппников и новыми мыслями, которые порой рождались в голове после какой-нибудь умной лекции. Там же я узнал о Марселе Прусте, который жил в комнате, обитой звукоизолирующим покрытием, и выходил из неё только ночью. Он перестал жить, остановил своё время и проснулся, чтобы писать. Он вдохновил меня бросить всё: его жизнь вдохновила меня, ведь до сих пор я не читал ни одной его книги.
Чужой город, который не стал своим за все потерянное в нем время, тяготил меня, как карманы, набитые камнями. Он превратился в пространство без смысла, обрывающееся вокзалом, – этим желанным многолюдным зданием с большими окнами, эффектно отражающими солнечный свет, с широкой аркой, ведущей к поездам, я называл её триумфальной, хотя это был просто грузный, невзрачный свод. Последнее время я проводил в пустых утренних кинозалах или вечно безлюдных библиотеках, лишь бы не видеть всего, что меня окружало на самом деле.
От этого я быстро устал и однажды просто забрал документы, без эмоций выслушал нотацию преподавателя и не спеша вышел в туман. Я попрощался с однокурсниками, нехотя выключив музыку в плеере, тем, кто стоял слишком далеко, я просто махнул рукой и через мгновение уже шел прочь, чувствуя лишь легкость. Я погружался в туман, который сомкнулся за моей спиной, как смыкаются воды над головой утопленника.
На следующий день я вернулся в свой город, казалось бы, навсегда. Несколько дней я был счастлив одним только уютом привычного пространства, но чувство дома, которое поначалу распространилось на весь город, быстро сократилось до улицы, на которой я жил, затем сжалось до размеров комнаты, и вскоре вовсе сошло на нет. Всё пошло по-прежнему.
Чтобы занять себя делом, я устроился на работу в журнал, писать я всегда умел. Но это занятие не приносило радости, только ощущение, что я постоянно растрачиваю себя в никуда, тщетно надеясь услышать понимающее эхо.
Моя жизнь – моя ограниченная жизнь – укладывалась выверенной математической функцией в бездумный день и короткий вечер, мягко роняющий меня в спасительную бездну сна. Так могло продолжаться вечно, если бы однажды я не остановил часы, если бы не решил исчезнуть, если бы не увидел, как разбивают стекла руки, не чувствующие боли, если бы…
Теперь моя жизнь превратилась в круговорот незнакомых лиц. Я стою – упоенный суетой – и вокруг меня возвышается многолюдный, беспросветный вокзал моей жизни, откуда каждый всего лишь спешит на свой поезд. Люди доверяют мне свои тайны, но это так мало стоит, когда вся жизнь – лишь вокзал. Они не доверяют, нет – это неверное слово – они отдают мне свой груз, как если бы перед ними был бездонный ящик, колодец, куда можно выбросить всё, что придает жизни тяжесть. Бездонным ящиком способен быть даже глухонемой. Я никогда не преувеличивал своей роли. Я не хотел им помогать, я не был психологом, утешителем, советником, – я был наблюдателем и слушателем.
Чужие голоса смешались в моей голове. Я топил вечера в коробках красного вина, я каждый вечер заново планировал свою дальнейшую жизнь с непринужденной гениальностью великого стратега. А после засыпал крепким и тяжелым сном, чтобы проснуться ранним утром с пересохшим горлом и начать невоплощать свои планы в жизнь.
Страница 51 Смерть художника, нарисованная акварелью
Порой я думал, что все мои планы изначально были обречены на невоплощение. Мои мечты так часто не сбывались на моих глазах. Я помню, как, высунув голову в открытое окно автомобиля, ехал с родителями на фестиваль воздушных шаров. Мне говорили, что я тоже смогу полетать, и всю дорогу я грезил наяву предвкушением полета, ветер трепал мои волосы и я чувствовал себя навеки свободным от любых запретов, канонов, условностей. Но в воздушном шаре не нашлось для меня места. Пустите, пустите же меня, – плакал я. Но мне отвечали, что мест больше нет, что безопасность превыше всего. И я бежал по полю и, подняв глаза к небу, сквозь слезы разочарования смотрел, как высоко взлетает моя мечта. Взлетает без меня, сбываясь у кого-то другого.
С раннего детства я начал терять себя по осколкам. Всё началось с зеркала. Я смотрел в зеркало каждое утро. Я хотел напоминать себе самого себя, но тот, кого я видел в зеркале, был вовсе не схож со мной. Я слишком долго этого не осознавал, и всё-таки каждый день искал подвоха, изнанку видимости, которую не мог ни угадать, ни подсмотреть. Я искал подвоха до тех пор, пока не понял, что это вовсе не я.
Однажды, выходя из ванной, я неосторожно задел край зеркала плечом, и оно с мелодичным звоном рассыпалось осколками по кафелю. Искривленная геометрия осколков отражала меня многократно, изображая случайно выхваченными из цельного образа частями. Когда я нагнулся, то увидел свое лицо в каждом осколке. Разбитое зеркало намного точнее отражало мою суть. Оно было честнее.
С тех пор я полюбил разбитые зеркала и каждое утро упрекал новое зеркало в желании мне польстить только потому, что на нём не было ни трещинки.
Мне кажется, только в детстве я был похож на отражение в зеркале без единой трещинки. Со временем мои возможности отделились друг от друга и начали покидать меня, как выброшенные осколки. Жизнь медленно вымарывала во мне личность, стирая грани пылью обстоятельств, оставляя обыкновенного человека, который не оказался сильнее этой пыли. Который оказался никем.
Когда мне было около десяти лет, родители хотели, чтобы я пошел в музыкальную школу. Но мой преподаватель напоминал мне чудище из моих извечных ночных кошмаров, и мне стыдно вспоминать, как я рыдал, лежа на полу вестибюля и кричал до тех пор, пока меня не отвели домой. Туда я больше не вернулся. Но до сих пор в моей памяти хранится его непропорционально большой нос, нависшие над глазами густые брови и глянцевая лысая голова, блестящая так абсурдно на фоне свисающей до солнечного сплетения бороды.
Мне не было и двенадцати, когда я дал другу почитать мою любимую книгу о динозаврах. Он так и не вернул мне её, и я бросил изучать динозавров, потеряв в себе палеонтолога, впрочем, оправдав себя тем, что незачем изучать то, чего уже давно не существует.
Позже я окончил художественную школу, но с тех пор ни разу не брал в руки кисть. Я обвинял в этом книги, которые читал, школу, которую посещал, друзей, которых любил. Под бременем пренебрежения во мне погиб художник-сюрреалист, быть может, новый Сальвадор Дали. Это была самая ощутимая потеря, самый тяжелый осколок, который я до сих пор ношу с собой, изредка раня об него чистые, не выпачканные красками руки. Я ношу с собой повсюду этот синий труп, нарисованный акварелью цвета ультрамарин. Запекшаяся гуашевая кровь покрывает его грудь, из которой торчат, как ножи, колонковые кисти и простые карандаши разной мягкости. Живопись была моей мечтой, которой я уже давно себя лишил, зная, что воскреснуть художнику уже не удастся. Синий труп уже давно нарисован ультрамариновой акварелью.
Если бы художник во мне был жив, я бы стал рисовать время. Я бы нарисовал гонимый ветром осенний лист, только что оторвавшийся от ветки. Я бы нарисовал могильную плиту, уже поросшую влажным мхом и утопающую в земле. Я бы нарисовал отпечаток ботинка на проезжей дороге, который наполнился водой и потерял чёткие очертания. Я бы нарисовал задумчивые морщины на лице старика, склонившегося над полуистлевшей от времени книгой. Я бы нарисовал себя, сидящим на лавочке в ранний час, положив ногу на ногу, в то время как мимо меня пробегали бы то, кто спешит на работу.
Я бы столько всего нарисовал, будь я художником, но могу только писать об этом. Я мог бы уехать, мог бы вернуться, мог бы придумать себе другую жизнь. Я мог бы. Но если отбросить условное наклонение, я сижу за столом и пишу, даже не глядя в окно, за которым, по моим расчетам, уже должны сгущаться сумерки, сижу потому, что этим вечером кроме слов меня ничто не интересует. Даже время затихло внутри меня.
Я просто не оставил для себя других возможностей. Я разделил свою жизнь на страницы и начал писать. Мне ничего другого не оставалось.
Страница 52 Дождь и двадцать кружек чая
Поэтому я доверял свои мысли листу бумаги под бесконечными ливнями города дождей. Я почти ни с кем не говорил – так долго, что казалось, забыл, что значит разговаривать. К тому же, погода не располагала к разговорам: под дождем обычно спешат, не глядя по сторонам, поле зрения ограничивает зонт.
Я не терпел зонтов и потому всегда был беззащитен перед ливнем. Но однажды мне надоело ждать, пока он кончится, и я вышел на улицу. Вскоре я уже шел по заброшенному парку, в котором когда-то, должно быть, гуляли все дети города, но теперь массивная каменная ограда проросла мхом, карусели покрылись ржавчиной и замерли, не довершив круга, тропинки смыло водой. В каждом городе я искал таких забытых, потерянных мест, куда приходят только те, кому одиночество нужно, как воздух, или те, кому некуда больше идти. Это было место родственных мне душ, все остальное пространство было враждебным, принимало меня лишь с тем, чтобы начисто стереть всё индивидуальное. Тонкие, ещё безлиственные ветви, были чёрными от сырости. Дождевые капли дробились, мелкими брызгами разбиваясь о ржавый металл каруселей, позли по замшелым камням, расходились кругами по воде и тонули в заросшем осокой озере, и утекали под землю невидимыми извилистыми вертикалями.
В глубине парка, на высоких качелях с искривленной осью, безмолвно сидела девушка. Отделенная от меня завесой дождя, она была призрачной, как сон, казалась обманом зрения. Я заметил её, только когда расстояние между нами было не больше двух метров. Она молча смотрела мне в глаза, вероятно, увидев меня гораздо раньше. Мне было неуютно под этим замершим, ничего не выражающим взглядом. По её щекам текла вода, её глаза были, казалось, полны слез, но, подойдя ближе, я увидел, что это была всего лишь дождевая вода. Её глаза ничего не выражали. Она была высокого роста и очень стройная, с длинными ногтями на замерзших, побелевших пальцах. Тёмные волосы спадали почти до земли, когда она сидела на качелях. Я остановился перед ней и поймал себя на том, что хотел бы начать разговор. Нельзя было и дальше просто молча смотреть друг на друга.
– У тебя красивые волосы. – Я всё еще разглядывал их, измеряя взглядом их длину.
Спустя несколько секунд она ответила.
– Я сижу здесь уже два часа. – Это был не тот ответ, которого я ждал. Эта фраза была ни с чем не связана, не согласовывалась с моими словами.
– Ты простудишься.
– Ну и что? – Я не знал, что. В сущности, мне нет никакого дела до того, что она простудится.
Мы ещё помолчали. Я подумал, что дождь размывает границы, подумал, что моя футболка неприятно прилипла к телу. Подумал, что у девушки слишком узкое, даже некрасивое лицо. Если бы не дождь, я бы ни за что не подошёл к ней.
– Зачем ты здесь? – Спросил я её.
– Смываю прошлое. – Равнодушно произнесла она.
– То есть? – На самом деле, я понял, что она хотела сказать, но по инерции длил разговор, чтобы избежать томительной паузы.
– Смываю прошлое. А ты? – Повторила она. Ей было всё равно, о чем спрашиваю я. Она говорила сама с собой.
– Я смываю настоящее, чтобы вернуться в прошлое. – Сказав, я подумал, что в этих словах слишком много правды, чтобы высказывать её первому встречному. Но, раз уж я высказал…
– Значит, во времени нам не по пути. – Она ответила. Констатация факта. Её голос был, пожалуй, слишком низким для девушки.
– Ну и что?
– Ничего. – Разговор не клеился.
– Если хочешь, приглашу тебя на чашку чая в настоящем. – Предложил я, удивив этим предложением даже самого себя. Думаю, мне просто было одиноко.
– Одной чашки будет мало, – невозмутимо ответила она, – не хватит даже на то, чтобы высохли волосы.
– Хорошо. Двадцати кружек достаточно? – я улыбнулся.
– Вполне. – Её лицо по-прежнему ничего не выражало. Непроницаемая стена. Я находил её странной.
Мы покинули парк. Я и подумать не мог, что вернусь в свой пустой дом не один. Уже подходя к дому, я вновь спросил себя, зачем я пригласил её к себе, и действительно ли я хочу пить чай с этой незнакомкой, которая смывала с себя прошлое в заброшенном парке и к тому же, была мне неприятна. Может быть, я пригласил её к себе, чтобы спасти её прошлое? Но зачем? Я не знал ответов.
Пока она снимала обувь, я собрал в охапку разбросанные по полу вещи и спрятал их в шкаф. Оставив все свои вопросы на потом, я возложил вину за все происходящее на дождь и пошёл заваривать чай. Она ходила по комнате, пытаясь разглядеть в ней меня, но я вынужден был её разочаровать.
– Я живу здесь всего неделю.
– А сколько ещё будешь жить?
– Сколько захочу.
– А сколько ты хочешь? – Она задавала очевидные, детские вопросы.
Мы пили чай, пока не стемнело. Темнело быстро. Её волосы уже высохли, когда я увидел в её глазах эмоцию. Это была тяжела грусть, гнет переживания. Она некоторое время внимательно всматривалась в меня, до тех пор, пока не решила, что достаточно меня знает.
– Поцелуй меня между пальцами. – Произнесла, как нечто само собой разумеющееся, будто я всю свою жизнь целовал её между пальцами.
– То есть? – И я действительно не понял.
Она достала из кармана смятые, наполовину вымокшие листы бумаги. На них простым карандашом было написано письмо. Она провела ногтем по нужной строке. Я прочёл.
Надеюсь, ты не дашь никому поцеловать тебя между пальцами. Если всё остальное уже не дано мне, то пусть хоть это место останется только моим…
Она заметила, что я закончил чтение, и протянула мне свою тоненькую ручку с растопыренными пальцами. Я улыбнулся.
– Ну? – нетерпеливо произнесла она, и принужденно рассмеялась, хотя я видел, что для неё это не просто игра. Непроницаемость таяла. Я медлил. Не потому, что не хотел целовать её – хотя я действительно не хотел – я не хотел собственными губами уничтожать чужое прошлое, даже символ этого прошлого.
Но она смотрела на меня умоляющим взглядом. И я подумал, если я могу облегчить груз времени на её плечах, то почему бы не сделать этого. Просто, чтобы помочь…
И я поцеловал её между пальцами, сначала на левой, а затем на правой руке, начиная с мизинца и заканчивая большим пальцем. Оказалось, что этого мало.
В кладовке, куда я никогда не заходил, она отыскала большие ножницы для ткани и торжественно передала в мои руки.
– Что ещё ты хочешь? – Она мне надоела.
Она провела рукой по волосам.
– Режь.
Ну уж нет, – подумал я. Она просто использовала меня, чтобы смыть, срезать, запить чаем свое прошлое, о котором я ничего не знал. Я был лишь инструментом, как вот эти ножницы, на которых расшатался винтик. И что это за прошлое, с которым стоит так жестоко расправиться. И причем здесь я.
– Расскажи мне о своём прошлом.
– Тогда оно останется в тебе. Я этого не хочу. Режь. – Она снова провела рукой по волосам и на ладонях протянула их мне. Волосы расплескались по её тонким пальцам. Я видел, что ей это нужно, как будто вся жизнь начнется с начала по мановению чужой – моей – руки. Стало не по себе. Я поддался её символам. И мне вдруг показалось, что, разрезая ножницами её прошлое, я лишаю прошлого и себя. Садясь в свой первый поезд, я мечтал об этом. Но что мне останется, если отбросить прошлое в чёрную дыру памяти? Меняющийся пейзаж за окном? Заброшенный парк? Чужие города? Застрявшие в одной секунде стрелки? Девушка под дождем? Незнакомые люди? Шаги от одной двери до другой? Что? Я вцепился в свое прошлое с отчаянностью утопающего в настоящем.
Я просто поддался её выдумкам. Этот парикмахерский ритуал ничего не значит, или – не должен значить – для меня. Но для неё, я чувствовал, это повод сделать шаг вперёд. Она верила в будущее.
Моё смятение понемногу исчезло. Я провел внешней стороной кисти по её волосам и продел пальцы в металлические кольца ножниц для ткани. Ткани прошлого расползлись под их лезвиями, и первая прядь тёмных волос упала на потрескавшийся лакированный пол. И другие опали следом, как чешуя, что сковывала жизнь неподвижным панцирем.
За мной оставалось ещё много кружек чая, когда она сказала, что должна идти. Я был ей больше не нужен.
– Спасибо тебе за всё. И за чай. Увидимся в будущем.– Её глаза улыбались.
– Я не верю в будущее.– Предупредил я.
– Ну что ж… – Она не знала, что сказать, и без конца трогала свои волосы, которые теперь едва доставали до плеч. Я думал о том, что я хороший парикмахер. Я думал о том, что всё это абсурд. Бутафория. И всё же я не мог не ощутить, что стал богаче на ещё одну жизнь.
– Пока, – произнес я, зная, что никогда больше не увижу её. Мне было всё равно.
– Пока.
Я закрыл за ней дверь, убрал в шкаф ножницы для ткани прошлого и налил себе ещё одну кружку чая.
Страница 53 Безвозвратность
Хотелось увидеть Аллу.
Страница 54 Прядь волос между лопаток
В день нашего знакомства я увидел её издалека, в глубине комнаты, полной незнакомых людей. Все они говорили друг с другом полушепотом, который захлестывал своей шелестящей волной, немыслимо раздражая слух. Тогда и она была для меня не знакомой. Почему я не оставил нетронутым наше незнакомство, почему я подошел к ней?
Она сидела за самым дальним столиком, повернувшись ко мне спиной. На ней была чёрная блузка с таким широким воротом, что плечи и верхняя часть спины были полностью открыты. Тонкий ремешок огибал талию. Одинокая прядь волос, выбившаяся из прически, струилась у неё между лопаток. Я наблюдал за этой золотистой прядью и хотел угадать, какое может быть лицо у этой изящной девушки. Все мои догадки потерпели крах, когда я посмотрел ей в глаза. Она была ни на кого не похожа.
– Вы не подскажете, сколько времени? – Спросил я, потому что ждал друзей.
– Я не ношу часов. – Услышал я в ответ.
Мне больше нечего было спросить. Я спросил, можно ли мне присесть за её столик, и она сказала, что можно. Я сел напротив и чувствовал, как текут сквозь меня минуты, в то время как её взгляд остается всё тем же. Он скользил внутрь, оставался внутри, как тайна, разливался ласковым морем, как сокровенный смысл. Я ощутил нашу близость с первого взгляда.
– Как вас зовут?
– Алла. А тебя?
– Альберт.
С этого все и началось. С «тебя» и «Альберт». Нас связали всего лишь два слова. Ничто в мире так не связывает, как слова, но из каких глубин поднимаются и превращаются в звук эти буквы? Почему она сказала «тебя», ведь мы даже не успели познакомиться? Почему я сказал «Альберт», ведь я оставил людям своё обыкновенное имя? Быть может, она просто не любила, когда к ней обращаются на вы. Быть может, я просто уловил созвучие наших имен, и поэтому мне захотелось произнести вслух именно «Альберт». Мне хотелось, чтобы она почувствовала наше созвучие, – сам я чувствую его до сих пор. Созвучие. Быть может, я нашел то самое слово? Нет же, не подходит. Но неужели этого слова не существует?
Или – не существует нас?
Вскоре пришли мои друзья. Алла оказалась подругой одного из них, – и тогда я понял, что не мог избежать нашего знакомства. Я почти не говорил с ней, но ловил её взгляд, сам не зная зачем, – по инерции. Мне нравилось выражение её глаз, уже тогда наполненных смыслом, который, мне казалось, мог разглядеть только я. Я хотел запечатлеть этот взгляд внутри, чтобы чувствовать его в себе повсюду. Мне это удалось. Её взгляд и до сих пор струится между моими воспоминаниями, как золотистая прядь волос струилась у неё между лопаток.
– Проводи меня. – Попросила она, когда её друг ушел по какому-то срочному делу.
Почему я?..
Мы медленно шли вдоль дороги. Я помню, как замерзли мои пальцы, и как она ушла прочь, не обернувшись. Потом она всегда уходила так же. Вскоре и я перестал оборачиваться, уходя: в конце концов, не так уж важно видеть спину, когда мысленно смотришь в глаза. Особенно бессмысленно было оборачиваться, когда уходила Алла, потому что шаги, которые разделяли нас в пространстве, никак не влияли на нашу мысленную близость. Но тем вечером, глядя ей вслед, я чувствовал, как внутри разрастаются пустоши…
Как не хотелось мне запятнать эту близость этим обыкновенным словом «любовь», казалось, мои чувства глубже, весомей любого слова, даже того, которое ещё никто не произнес…
Зачем же я тогда так безнадежно и упорно искал этого непроизнесенного слова?
Каждый раз она уходила прочь, повернувшись ко мне спиной чуть раньше, чем я успевал отвести взгляд. Она уходила, не сказав ничего, кроме «пока, Альберт». Иногда она коротко взмахивала рукой, как птица, которая готовится к взлету, но чаще всего просто резко разворачивалась, отбрасывая назад волосы и поправляя их рукой, и быстрым шагом шла своей дорогой. Она никогда не улыбалась на прощание.
Уходить у неё всегда получалось хорошо. Она уходила, чтобы спустя много дней вновь ворваться в мою жизнь без стука, срывая с петель все двери, которые я ставил внутри себя, чтобы оградить себя от внезапных вторжений. Но ей были нипочем любые двери, на сколько бы замков я их не запирал. Она входила в мою жизнь, а потом покидала её, оставляя меня один на один со сломанными замками. Сначала я ограждал себя от Аллы, но однажды я не поставил внутри себя новые двери. Я разрешил ей входить без стука. С этих пор я разрешил ей всегда быть в моих мыслях, внутри себя я говорил с ней, словно она была рядом.
Я писал ей, но она неизменно молчала в ответ, словно говорить словами нам было вовсе не нужно. Я искал смысла в её молчании, но никогда не знал наверняка, вкладывала ли она в него хоть какой-то смысл.
Я ничего не мог сделать, по крайней мере, в то время я был полностью в этом убежден. Рассказать ей о своих чувствах я не мог, да и не хотел. Мне казалось, взглянув в мои говорящие глаза, она поняла всё уже в тот момент, когда я сказал, что меня зовут Альберт. Мне нравилось говорить с ней в мыслях, нравилось ждать её, предчувствовать её появление.
Я не знал, что наши разговоры могут обернуться чем-то большим, чем близость. Я не знал, что позже в груди у меня будет появляться дыра, каждый раз, когда она будет по обыкновению уходить, не оборачиваясь.
Страница 55 Под чужие удивленные взгляды
В момент воспоминания о нашем знакомстве я попал в аварию. Это случилось банальным, пасмурно-теплым весенним днем, когда снег растаял, но земля была ещё нагой, бурой. Я вышел из поезда во время получасовой остановки, чтобы купить сигарет, и обратно вернулся не скоро. Новенькая иномарка выехала из-за угла как раз в тот момент, когда я переходил дорогу, не глядя на светофоры. Сильный толчок металлического корпуса повалил на меня на асфальт в ту секунду, когда я вспомнил золотистую прядь волос.
Это не правда, что в такие моменты за доли секунды перед глазами проносится вся жизнь. В голове прозвучало единственное слово «Нет», Перед глазами мелькнул слепящий свет фонаря и контрастный силуэт дерева с ажурными ветвями на фоне бархатной синевы неба. Разодранной щекой я чувствовал мокрую поверхность асфальта, молния боли влетела в тело со скоростью света. Я попробовал встать, но не смог.
Из машины, громко хлопнув дверью, выскочила девушка в чёрных кожаных туфлях на высоком каблуке. Только их я и мог разглядеть, прислонившись щекой к асфальту. Она подошла совсем близко ко мне, так близко, что мой нос уловил запах кожи, который с тех самых пор вызывает у меня тошноту. Я услышал её неприятный, высокий, возмущенный голос.
– Мужчина, вы испортили мне машину!
– Тварь… – выплюнул я и закрыл глаза, чтобы не видеть эти каблуки.
Кто-то, должно быть, вызвал скорую, потому что спустя несколько минут сильные руки отделили меня от асфальта и, положив на носилки, отнесли в машину. Я понемногу приходил в себя, но боль всё настойчивей проникала внутрь. Кружилась и нестерпимо болела голова. Кровь теплым ручейком текла по лицу, неторопливо стекая за воротник рубашки. Боль была слишком неожиданной и резкой. Позднее я упрекал себя за эту слабость, но я действительно думал, что умру. Страх смерти обнажает суть: каким жалким я предстал перед самим собой. Невообразимо, чуть ли не до слёз, хотелось домой. Как ребёнок, – упрекал себя я. В этот момент быть дома казалось счастьем. Дрожащими пальцами я нащупал в кармане мобильник. Телефонная книжка в нём была пуста, я помнил наизусть все номера, по которым хотел позвонить. Я позвонил Алле. Она не взяла трубку. Я набрал номер мамы. Абонент недоступен. Я хотел поговорить с Анной. Занято. Изо всех сил я сжал в руке телефон. Боль проникла глубже, но это придало мне сил. «Дальше, как можно дальше». Прочь.
– Отвезите меня на вокзал, – произнес я, насколько мог твердо и без запинок, – мой поезд отправляется через восемь минут.
Я пытался встать, это мне удалось лишь наполовину, я собрал всю свою волю в это усилие.
– Вы что! Это очень опасно… – Всплеснув руками, сказала молодая девушка в белом халате.
Я не хотел оставаться здесь. Куда угодно, но хоть немного – дальше. Испугавшись, что меня увезут в больницу, я уже хотел придумать себе жену, которая ждет меня в поезде. Но два других врача с недоумением переглянулись и сунули мне в руки листок и ручку.
– Напишите здесь, что отказываетесь от госпитализации и поставьте свою подпись.
«Твари» – подумал я, но вспомнил, что это к лучшему и даже попытался улыбнуться. Успев на поезд в последнюю минуту, я сел не в свой вагон. Дорога через вагоны казалась мне вечной. Перед глазами перетекали друг в друга охристо-жёлтые круги. Я шел, с трудом передвигая ноги под удивленные взгляды людей, которые смотрели на кровь, размазанную по моему лицу, и что-то говорили, пугливо отстранялись, предлагали помощь, кричали что-то мне на ухо, причитали. Я не слушал их. Я знал, что только кровавые разводы на коже заставляли их обратить ко мне взоры. «Твари».
С черепно-мозговой травмой и дисторсией позвонков я надолго застрял в маленьком невзрачном городке, на который смотрел, в основном, из окна больничной палаты.
Что-то умерло во мне в тот погожий весенний вечер, хоть сам я остался жив и раны на моем теле со временем зажили и исчезли, оставив после себя лишь несколько нежно-розовых шрамов.
Спустя несколько часов после того, как я вернулся на поезд, позвонила мама.
– Ты звонил? У меня телефон разрядился на работе.
– Да.
– Что-то случилось? – Взволнованный торопливый голос.
– Я звонил спросить, как дела. – Я по-прежнему не мог рисковать её спокойствием, даже больше, чем когда-либо раньше.
Анна позвонила чуть позже.
– Прости, я была в театре. Как ты? Как здоровье?
Я поглядел на свою, до мяса содранную на ладонях кожу, на грязную одежду. Эти ладони когда-то обнимали Аллу за плечи, асфальт сорвал с моих рук последнюю память об этом прикосновении, мне хотелось плакать, глядя на свои ладони, лишенные воспоминаний. На том конце трубки ждала Анна.
– Всё в порядке. – Мне ничего не хотелось рассказывать ей.
Алла так и не позвонила. Подтверждение того, что её не существует. «Не существует». Может быть, это слово подходит для нас? Я не хотел в него верить – и не поверил.
Что-то умерло во мне в тот погожий весенний вечер. Я не мог понять, что именно, родилось странное чувство, будто в груди моей застряла отравленная пуля и, врастая в плоть, незаметно лишала жизни. Быть может, этой пулей была мысль, что я придумал Аллу? Как бы мало ни значили слова, я ждал её голоса в телефонной трубке, даже если бы она просто рассмеялась в ответ на мой страх умереть, не поговорив с ней. Я ждал её голоса, как воздуха, как спасения, но она не пожелала меня спасти. Может быть, её просто не было дома, может быть, она потеряла телефон, может, она была занята или спала, столько существует всяких бессмысленных «может быть». Неужели я действительно всё придумал? «Нет. Этого не может быть» – решил я и изо всех сил постарался думать о другом.
Страница 56 Чёрный силуэт и дыхание спящих
Безмолвный ночной поезд, наконец, унес меня прочь из города, на который я смотрел из окна больницы. Я был настолько счастлив покинуть его, что спящие вокруг люди вызывали у меня умиление и спокойствие, словно я вернулся домой после долгих странствий по свету. Я открыл свою тетрадь и решил писать до тех пор, пока мне позволит грифель карандаша. Писать под стук колес, дыхание спящих и храп попутчика, который вот уже целый час не давал мне уснуть. Поезд прибыл на станцию, и я отчетливо слышал, как карандаш нашептывал клетчатой бумаге мои мысли. И вот вновь замелькали придорожные столбы, деревья, провода, вокзалы и люди, оставшиеся там. И мои мысли уже не так слышны. Проводник выключил свет. Стало совсем темно. И только бумага знала, о чем я думал.
Во время короткой остановки в вагон с грохотом ввалился какой-то человек. Я не мог разглядеть его лица, только силуэт, который чернел в коридоре вагона. Он с шумом передвигался от места к месту и обращался ко всем спящим.
– Есть здесь кто-нибудь живой? Просыпайтесь же, – некоторым он щекотал пятки, с некоторых пытался стянуть одеяло, но все спали как убитые. «Псих» – мелькнуло в голове.
– Хватит орать. Я не сплю.– Сказал я, недовольный тем, что приходится прерывать обращенный к бумаге монолог простого карандаша и разговаривать с этим черным силуэтом, охраняя дыхание спящих.
От чёрного силуэта разило алкоголем. Он на секунду присел, словно для того чтобы отдохнуть с дальней дороги, на край кровати моего храпящего как ни в чем не бывало попутчика.
– Тебя-то я и искал.
– Зачем?
– Хочу всё тебе рассказать.
Я вздохнул и спрятал листы во внутренний карман пальто. Сколько случайностей сомкнулось друг с другом, чтобы привести ко мне этого человека, растрепанными волосами и грязной одеждой напоминающего бродягу, который ошибся дверью и зашел в вагон вместо того, чтобы зайти в какой-нибудь тесный подвал.
Он снял со спины огромный рюкзак и забросил на верхнюю полку.
– Сегодня я впервые сел в поезд. – Выдохнул он мне в лицо. «Наверное, врет» – подумал я.
– В самом деле?
– Не веришь? – Он рассмеялся, насколько мог тихо, – А зря.
Я смирился с черным силуэтом и своей вечной участью слушателя, которому запрещается зевать, смотреть в потолок и другими способами выражать отсутствие интереса. Но потом я понял, что в темном вагоне слушать нужно иначе. Мне нужно только подавать сигналы, что я слышу, вроде «ага», «ну и?», «не может быть!», всё остальное для рассказчика покрыто тьмой. Я с удовольствием зевнул, хотя рассказ ещё не начался.
– Рассказывай. – Громкий выдох смирения. К чёрному силуэту, от которого пахнет спиртным, можно обращаться на «ты». По крайней мере, я так решил.
– Спроси что-нибудь, чтобы я мог начать. – На это я не рассчитывал. Ну ладно.
– Почему ты никогда не ездил в поездах?
– Я боялся.
– Что? – Мне хотелось рассмеяться, так смешно слово «боялся» звучало, произнесенное этим сильным голосом, громкость которого переходила все возможные в ночном поезде границы. Но я умел слушать и не рассмеялся.
– Когда я был ребенком, и мне предстояло получить образование, родители хотели отправить меня учиться в город. Я жил и до сих пор живу в деревне, мимо которой проходят только поезда. На поезде привозили продукты из города, на поезде ездили в гости, шум поездов гремел за окнами день и ночь напролет. Я давным-давно привык к этому, приезжие же никогда не спят в нашей деревне.
Мне нравился его рассказ. Его жизнь под стук колес поездов представилась мне такой непохожей на те жизни, которые я мог приписать этому загадочному черному силуэту, что я поневоле стал заинтересованным слушателем. Когда он вдруг замолчал, я нетерпеливо взглянул ему в глаза и попытался разглядеть его лицо, покрытое тенью. Изредка в окна светили фонари, и постепенно сквозь черный силуэт я увидел очертания человека. Он был не молод и не стар, из-за густой гривы чёрных волос, торчащих вверх, его голова казалась чересчур большой. Наконец я разглядел его глаза. В них было что-то детское, быть может, в его взгляде скрывался миллион вопросов, на которые он ещё не нашел ответ.
– Я собирал вещи долго и тщательно, словно уезжал навсегда. Мне купили билет на поезд и красивый костюм бежевого цвета, белую рубашку и бордовый галстук. Подстригли волосы. Я не мог наглядеться на себя в зеркало. Ранним утром я вышел на станцию и стал ждать поезда, как мечты, которая вот-вот должна сбыться. За несколько минут до его прибытия лица провожающих осветились первыми солнечными лучами. Среди них была моя маленькая сестра. Она была очень похожа на меня, только намного красивее. Взгляды родителей были обращены на меня. Отец рассказывал, как вести себя с одноклассниками, мама хотела, чтобы я запомнил, какую одежду мне нужно носить в разную погоду. Звук подъезжающего поезда было слышно издали, но мы не обратили на него внимания, потому что он был слишком привычным для наших ушей. Сестра сидела на рельсах.
Он умолк. Я не знал, что сказать. Я всё понял, но хотел верить, что понял не правильно.
– И всё?
– Всё. Я всё видел, но не в моих силах было остановить поезд.
«Как не в моих силах остановить время и аккуратно опустить на асфальт тело мужчины, летящего из окна. Или не так?»
– Мне очень жаль. – Я ненавидел шаблоны, которые принято произносить в подобных случаях. Но разве возможно выразить словами то, что я хотел ему сказать?
– Иногда мечты сбываются таким образом. С тех пор я боялся не только поездов, я боялся мечтать. Я снял свой новый бежевый костюм, бордовый галстук и белую рубашку. Разобрал чемоданы, чтобы никогда больше не собрать. Я не мог понять, как можно винить в её смерти кого-то, кроме меня.
Подумать только. Он снял с себя сны о новой жизни, свои мечты о новых городах. Снял вместе с галстуком и пиджаком. На несколько секунд воцарилась тишина, которую нарушало лишь дыхание спящих. Я почувствовал горечь во рту.
– Что же сейчас?
– Я до сих пор думаю, что я виновен в её гибели. Но я также думаю, что у человека есть внутренний компас, который указывает верный путь. От его стрелки не убежать. Я вырос. Когда мне исполнилось восемнадцать, мои родители уехали в город, оставив меня следить здесь за хозяйством. Я сам хотел остаться. Они оставили попытки заставить меня ехать с ними. Так я остался совсем один.
Вопросительный взгляд. Я ждал, когда он снова начнет говорить.
– Вчера мне позвонила мать. Сказала, что отец умер.
Перед моими глазами словно пронеслась вся его жизнь, жизнь этого не молодого и не старого мужчины, обрамленная смертями, как траурной рамкой всего несбывшегося. Мне было бесконечно больно за него. На дно Мёртвого моря обрушилась огромная прибрежная скала. Стрелки часов ещё отчаянней замерли у меня в кармане. Стрелка компаса замерла внутри меня.
Мы можем укрыться от ветра в тёплом вагоне поезда, вечно несущегося вдаль, мы можем читать по губам беззвучные послания. Мы можем спастись от дождя и грома, но мы никогда не сможем убежать от себя. Стрелка компаса всегда указывает верное направление. Но мы можем ходить по кругу, путаться в лабиринтах, которые сами для себя выдумали, в то время как стрелка будет неизменно указывать верное направление. Когда-нибудь мы начнем внимать себе и когда-нибудь встанем на верный путь. Может быть, когда-нибудь я поверю во все сказанные мной слова. Когда-нибудь.
Алла, может быть, наше слово «когда-нибудь»? Всё между нами происходит «когда-нибудь», мы ни разу не встретились намеренно, ни разу не определили точного времени для свидания, не условились о месте, ни разу не сказали друг другу «не опаздывай». Но я знаю, что «когда-нибудь» слишком часто превращается в «никогда». Нужно поискать другое слово.
Утром меня ждал новый город, но я не мог перестать сочувствовать своему ночному попутчику. На рассвете мы пили чай и разговаривали о планах на будущее, которых не было ни у него, ни у меня. Дыхание спящих сменилось разговорами бодрствующих. Мне хотелось позаботиться об этом человеке. Хотелось поправить воротник на его рубашке, рассказать ему, как себя вести и проводить до дома, чтобы его благие намерения не споткнулись об очередную смерть. Мне хотелось помочь ему. Но мне не хотелось нового постоянства. Не хотелось закрывать за собой изнутри двери чужой жизни. К тому же я верил, что он справится сам. Каждый должен справиться сам. Я собрал вещи.
– Удачи вам.
Мы пожали друг другу руки. Мне показалось, что его рука не хотела отпустить мою, и от этого рукопожатие как-то неловко повисло в воздухе на долю секунды, слишком короткую, чтобы придавать ей значение. Но я не мог не думать об этом ничтожном отрезке времени.
Я направился к выходу с тяжестью на сердце. Что мне стоило поговорить с ним ещё немного? Я же видел, как ему нужны мои слова, как нужна ему помощь. Но как узнать себя, если всегда пользоваться помощью? Быть может, он бы никогда не узнал, что может гораздо больше, чем ему кажется, если бы я продолжил свой путь вместе с ним. Однако так же может быть, что он вышел на следующей станции и повернул обратно, потому что я не поддержал его. Но разве мало я на себя взял? Теперь его воспоминания стали наполовину моими, я помнил, как он примерял новый костюм, как смерть, а не мечту привез с собой поезд, я помнил, как он возненавидел шум поездов и как этот самый шум каждый день будил в нём чувство вины, не давая забыть. Я помнил всё это вместе с ним, ему стало от этого легче, а мне тяжелее. Потому что я сочувствовал каждому его слову. Потому что чужие истории редко проваливались в черную дыру моей злосчастной памяти.
Поезда, города, незнакомцы и попутчики становились прошлым, но в памяти не прибавлялось моих воспоминаний. В ней копилось всё больше и больше чужих жизней, которые толстой стеной отделяли меня от прошлого, которое принадлежит мне самому. Я так хотел утратить своё прошлое, когда сбежал от всего, что было мне близко. Но когда я действительно начал его терять, жизнь моя постепенно превращалась в пустошь, где чужие воспоминания давят на землю большими придорожными булыжниками, а мимолетные впечатления растут вокруг редкой травой.
Страница 57 Апатия и монолог в никуда
Как только я вышел из поезда, мне показалось, что я попал в театр, в самый центр массовой постановки, где играли тысячи актеров. Маленький городок производил впечатление хорошо нарисованной, но зыбкой декорации. Я ступал по его асфальту, как актер-новичок, который боится одним неосторожным движением разрушить всё действие.
Вокруг меня каждый играл свою роль. Парень на лавочке театральным жестом переворачивал страницы книги, то и дело устремляя рассеянный поэтический взгляд к горизонту, будто прислушиваясь к оживающим звукам наступающего дня. Девушка в зеленом платье, идущая по тротуару походкой модели, театрально сбросила с себя жакет и продолжила свой путь, небрежно поправив и без того идеально уложенные волосы. У маленького чумазого мальчика укатился мяч. Его траектория была по-театральному прямой, и мяч прикатился прямо к ногам пожилой женщины, неторопливо прогуливающейся по аллее. Она оглянулась на мальчика и заулыбалась, по-видимому, признав в нём своего внука. Всё выглядело как отлаженная, тысячу раз прорепетированная театральная постановка. Но какую роль в ней играл я?
Я сел в первый подошедший автобус. Я часто так делал, когда хотел привыкнуть к городу. Некоторое время смотрел на него через стекло. Но этот автобус был сродни дорогам, по которым он ездил. Внутри этого передвижного театра шла своя пьеса.
Высокая кондукторша в летах с авангардистской осанкой и золотыми сережками-бубликами. Полутёмный от грязи на окнах салон. Резкий желтоватый свет ламп. Старомодные старушки. Белый тюльпан в руках одной из них ритмично покачивался после каждой встряски с характерным скрипом давно отжившей свой век машины. Звон монет, падающих на дно сумки кондуктора. Звук отрываемого билета. Звон монет, падающих на дно сумки кондуктора. Звук отрываемого билета. Старомодные старушки. Скрип, скрежет. Чувство потерянности во времени и в пространстве, словно меня вместе со всеми пассажирами выбросило из привычной системы координат далеко назад по оси времени и в пустоту за ось пространства. Но вместе с тем меня не покидало чувство игры. Казалось, все молча разглядывают друг друга и вид из окна, только ожидая условного знака, когда нужно начать действовать.
– Не подскажете, сколько времени? – Приятный, почти бархатный голос слева от меня. «Как же я не заметил условного знака?»
Повернув голову, я увидел обыкновенного человека. На нём были черные ботинки, чёрные отглаженные брюки и такая же чёрная куртка. На голове, как самая важная часть актерского образа, красовался забавный бежевый берет. Уже немолодое, но так открыто улыбающееся лицо вызывало неожиданную симпатию даже у меня. Как всегда, я обратил внимание на глаза. Они были тёмными и невероятно живыми, с задорным блеском и чуть прищуренные. Длинные монологи звучали из его уст естественно, потому что я уже свыкся с тем, что нахожусь на сцене. Вскоре я узнал, что ему 62 года, и что он вполне доволен своей жизнью. То, что он доволен своей жизнью, но всё-таки рассказывает о ней, окончательно убедило меня в том, что он артист.
– Я прожил жизнь, которую не хотел бы прожить снова, но ни за что не переписал бы в ней ни одной строчки.
Его детство началось с военных действий, а закончилось на стройке. По счастливой случайности, он вместе с сестрой и матерью покинул город с первой волной эвакуации, и после войны обосновался в небольшом городке на берегу Волги. Вскоре устроился работать на стройку. Его первая должность была – арматурщик, его первая работа – строительство теплотрассы. Он действительно прожил тяжелую жизнь, но я больше не мог выносить чужих воспоминаний. Хотелось крикнуть «Хватит! Замолчите!», но на моём лице не отразилась ни одна эмоция.
Своим заспанным скучающим видом я вовсе не располагал к монологам в свой адрес. «Актер» – подумал я и перестал его слушать. Слишком много людей за последние дни хотели мне что-то рассказать. Я устал от чужих жизней. Хотелось побыть одному.
Автобус мчал нас по улицам – ярким и многолюдным, пестревшим витринами и рекламой. По улицам, где, казалось, каждый шаг был расписан наперед. Я хотел понять природу этой театральности, но не мог. Когда автобус сделал остановку на одной из центральных площадей, мужчина в берете с гордостью показал мне своё творение.
– Этот дом построили мы, в то время когда я ещё работал строителем. Я был творцом. Настоящим творцом мира. Люди, которые пришли вслед за нами, умеют только говорить. Они живут в мире слов. А сделать что-то, построить, сотворить – этого они не могут. Разучились. Время не то стало.
Я молча смотрел на него взглядом, которым мог бы смотреть на придорожный столб. С чего он взял, что я хочу его выслушать? Почему обращается именно ко мне? И понимает ли, что его монолог летит мимо меня, улетая в никуда? Мне было скучно. Его речь звучала как-то фальшиво, не смотря на бархатный голос и большой диапазон интонаций. Хотелось сказать: «Переигрываете» и, с сожалением покачав головой, выйти из зала. Я был готов поверить, что он прожил достойную жизнь, но это достоинство ускользало, потому что он выставлял эту жизнь напоказ – перед кем?..
– Сейчас трудятся рабы, а не творцы – продолжал мужчина с невеселой усмешкой, перед тем, как выйти на своей остановке – конечно, есть люди, которые знают своё дело и находят в нём простор для творческих находок и самореализации. Но это сейчас большая редкость.
Дверь захлопнулась за его спиной, и я больше никогда не видел этого человека. Когда он вышел, я подумал о том, что, возможно, недооценил его, воспринимая всё, как бессмысленную пьесу. Я посмотрел на дом, который он построил. Дом как дом. Высокий, кирпичный, такой же, как все дома. Теперь здесь каждый вечер зажигаются оранжевые окна и собираются за ужином семьи. Здесь живут строители и ученые, бухгалтеры и писатели. Одни строят дома, другие строят гипотезы и доказывают теоремы, одни заполняют бланки, другие заполняют прилавки в книжных магазинах. Кто-то из них обычный человек, кто-то – творец мира. И что с того? Что это меняет? Я растворялся в своей апатии.
Вокруг толпились люди, в любую минуту готовые заговорить. С выражением зачитать мне в лицо выученную наизусть роль, заученную наизусть жизнь. Хотелось закричать им в лицо: «Прочь отсюда!». Мне стало страшно. Я вышел из автобуса, потому что к нему пришлось бы привыкать дольше, чем к городу.
Страница 58
ПРОЧЬ ОТСЮДА!
Страница 59 Две грозы и один вопрос
Оставшись один в довольно убогом номере гостиницы, которая первой встретилась на моем пути, я запер дверь на замок, расправил постель и решил вздремнуть. В это время за окном день только начался, но мне ничего не хотелось. Никуда не хотелось идти, не хотелось видеть людей, которые здесь умели молчать, казалось, только до условного знака, незримого щелчка пальцев. Забыв о городе актеров и заученных монологах, я заснул крепким сном человека, не желающего видеть ничего, кроме собственных снов.
Мне снилась Алла. Сколько бы километров я ни оставил за спиной, мне всё так же снилась Алла. Куда бы я ни шел в своих снах, рано или поздно на моем пути вставала она. Мы встречались в переходах, на площадях, в магазинах, на перекрестках, в арках, на набережных. Мы разговаривали. Мы жонглировали словами, как клоуны в цирке жонглируют разноцветными мячами и кеглями. «Мне нравится говорить с тобой». «Привет». «Прощай». «Я помню каждое твоё слово, Алла». Слова превращались в предметы и метались вокруг нас, летели мимо. Я запнулся о толстую книгу, которую Алла советовала мне прочитать. Ей на руку сел воробей, о котором я рассказал, что спас его от кошки. Кошка тут же перебежала нам дорогу. С неба падали капли памяти и, достигнув земли, разбивались на миллионы крошечных деталей. Голубой платок с коричневыми узорами, который я однажды видел на Аллиной шее, мои старые часы с черным циферблатом на её руке, слово «помню», составленное из рассыпавшихся Аллиных гранатовых бус. В моем сне мы куда-то бежали и спотыкались о слова, они застилали нам горизонт, сбивали с пути. Что-то важное ускользало от нас за этими словами, словно мы говорили лишь для того, чтобы не сказать самого главного. Но что это – самое главное? Когда мы замолчали, всё исчезло, кроме светлого неба и дороги, по которой мы шли. Я держал её за руку в области запястья и слушал своими холодными пальцами музыку её пульса.
Я проснулся и подумал о том, что во сне говорил правду. Выглянул в окно, раздвинув руками шторы-кулисы, и увидел, что театральное действо продолжается. По тротуарам ходили люди-декорации, они разглядывали витрины и прятались в своих картонных домах, чтобы смыть с лица улыбки и посмотреть сны – единственное, что у них осталось.
Целый мир из папье-маше открылся моему взору. Но в глубине души я понимал, что это самый обыкновенный город, и только мои глаза превращали его в театр.
Почему я видел город таким? Мой мир был так же хрупок, как папье-маше. Я сам придумал своё бегство, разыграв свою жизнь перед самим собой, изображая то одинокого романтика, то равнодушного ко всему скептика. Словно жизнь существует лишь для того, чтобы разделить её на страницы и запачкать ею столько чистых листов бумаги. Но так ли много я выдумал?
Нет, мои глаза видели театральные подмостки вместо города не по этой причине. Я сбежал от всего, что считал настоящим. Никто больше не приближался ко мне, я сторонился людей, а они сторонились меня, я говорил лишь с теми, кто нуждался во мне, как в безликом собеседнике, на месте меня каждый раз мог быть любой случайный прохожий. По крайней мере, мне так казалось. В конце концов, я сам превратился в безликого слушателя, кладовые моих собственных воспоминаний опустошались подробностями чужих. Я уехал так далеко, что казалось, будто моя жизнь навсегда потеряна за стеной километров.
Где же она, Алла? Неужели только во сне начинается наша жизнь и заканчивается вместе со звуком будильника? В небе над городом сгущались тучи. Случайно ли, что сейчас начнется гроза? Я вышел под дождь. Словно по команде все вокруг раскрыли разноцветные зонты. Я никогда не носил зонта и чувствовал себя лишним в этом спектакле. Я любил грозу, раскаты грома были музыкой для моих ушей, как во сне Аллин пульс был музыкой для моих пальцев. Наедине с грозой я не чувствовал себя одиноким. Не так часто удается ощутить одновременно грозу внутри и грозу снаружи, эти две грозы слились воедино, я растворился в них. И та гроза, что снаружи кричала мне своим громовым голосом, что всему свое время и что слова «не вовремя» не существует. Что все мои выдумки это лишь сплетение закономерностей, что все мои чужие жизни и мои воспоминания идеальной композицией легли на холст памяти и привели к единству двух гроз. По лицу стекала вода, намокшая ткань липла к телу. Мне хотелось вечно стоять под этим дождем.
Мимо меня бежали люди, бежали быстро, вцепившись пальцами в зонт, словно боясь захлебнуться грозой. Они перепрыгивали через лужи, перебегали дороги на красный свет, лишь бы уберечься от льющейся с неба воды. А я всё стоял и стоял посреди улицы, подставив лицо дождю.
Проливной дождь вопросов начался внутри меня. Где же ты, Алла? Где ты была, когда я мог умереть под машиной? Где пряталась, когда я искал встречи с тобой? Как позволила ты мне сбросить с моста все твои слова? Как могла ты прожить со мной целую жизнь во сне и забыть обо мне наяву? Знаешь ли ты о том, что мы прожили во сне целую жизнь вместе? Почему ты никогда не станешь искать меня, сколь бы потерянным я не был? Где же ты, Алла?
Я искал Аллу глазами, их застилал дождь, прозрачные капли стекали по радужной оболочке и спускались к щекам, пробираясь между ресниц, как чужие пресные слезы, по неизбежной случайности оказавшиеся в моих глазах. Я начал сомневаться в том, что действительно прожил свою жизнь, я не был уверен, что она не приснилась мне, ведь так мало осталось от неё теперь. Дождь смешал сон и явь, сны и воспоминания слились друг с другом. Пальцы мои совсем побелели от холода, я весь дрожал в такт каплям, стучащим по подоконникам и поверхностям луж.
Гроза прошла быстро, и вместе с ней театральность города сникла с томностью уставшего актера, исчезла, сделав последний реверанс, разрешив выйти на сцену обыкновенным людям. Неторопливо плелись по дорожкам промокшие насквозь замерзшие люди, которым уже нечего было терять под последними каплями утихшего дождя. Влажный асфальт блестел под несмелыми лучами промокшего солнца, которое поглядывало на город сквозь посветлевшие тучи.
Дома я снял мокрую одежду, сделал себе кофе, и всё встало на свои места. Сон вновь стал сном, а жизнь осталась моей жизнью, в которой я выдумал только смысл. Не более того. Я выдумал смысл бегства, и сбежал. Я выдумал смысл Аллиных глаз, и теперь искал их повсюду. Но можно ли представить, чтобы я увидел свой смысл в других глазах?
Один и тот же вопрос не переставал звучать внутри меня, дождь был бессилен его смыть. Где она была? Где она была, когда я бродил по пустым ночным дворам чужого города, где никогда раньше не бывал? Где она была, когда я подбирал слова, чтобы рассказать ей о том, что со мной происходило, а потом оставлял их навсегда внутри? Где она была, когда я мог умереть, но не умер, кажется, лишь для того, чтобы сидеть теперь в полутемной комнате и искать в померкших красках вечера ответа на вопрос, где она была? Где она была, когда я писал ей письма и выбрасывал их, чтобы они никогда не были прочитаны? Где она была, когда в пять часов утра я замерзал на своем не застекленном балконе и курил, вспоминая только о ней? Где она была каждую ночь, когда снилась мне, а потом внезапно пропадала, словно ошиблась дверью и нечаянно приснилась именно мне вместо кого-то другого?
Где она была, спрашивал я у воздуха, пропитанного сигаретным дымом, в котором затерялся и наконец, вовсе исчез вожделенный запах мятного чая, который я заварил, но так и не выпил. Но воздух ничего не отвечал, только избегал моего взгляда, словно не знал, какими словами нужно сказать мне одну простую вещь, которая будет единственно верным ответом. Я смотрел в воздух, избегая дышать им, чтобы он не проник в меня, чтобы молекулы кислорода не рассказали мне ту самую безнадежную тайну, которой я никогда не хотел бы обладать. Но спустя время мне всё же пришлось вдохнуть в себя воздух, и с этого момента я больше не мог сказать себе: «Я не знаю». Теперь я знал, где она была. Да, я знал, где. Она всегда была здесь, потому что она и есть воздух.
Страница 60 Белый пунктир и фигура на берегу
Улицы затихли, торжественно стемнели, – город накрыла ночь. Выспавшись днём, я больше не мог заснуть. Лежа на спине и раскинув руки на простыне, я смотрел в тёмный провал потолка и ждал, чтобы ночь ушла. Но сегодня она была похожа на мучительную вечность, невозможно растягивая отпущенные ей минуты.
Перед глазами бессонно кружились образы из прошлого, таяли мысли, воплощаясь в живые картины воспоминаний. В конце концов, я не выдержал. Отвел глаза от темного провала, накинул плащ и бросился в ночной город, как в спасительные для задыхающейся рыбы воды моря. В темноте не было театральности, тишина стала колыбельной песней для актеров и зрителей, зажгла фонари вдоль дорог, будто специально для того, чтобы лучше видеть тех, кто не уснул под её беззвучное пение.
Я не спеша двигался по белому пунктиру, который делил надвое широкое шоссе. До сих пор моросил дождь. Изредка мимо меня проезжали машины, разрезая ночное беззвучие шорохом шин.
Переезжая на поезде через железнодорожный мост, я видел, что в этом городе есть река. Я хотел найти её, хотел наблюдать, как утекает вода, прислушаться к её голосу, который, то веселым журчанием, то глухим шумом молвил о том, что всё уносится прочь, и угнаться за жизнью можно, только если плывешь по течению. Я всегда сидел на берегу.
Этой ночью я всё-таки нашел реку, не встретив на пути никого, кто мог бы указать мне дорогу. Я вышел на небольшую набережную, где под высокими деревьями стояли лавочки, освещенные редкими фонарями, свет которых выхватывал из темноты то пролет белого забора, то куст, который, казалось, испугавшись, прирос к земле на пути к свободному течению. Тени деревьев раскачивались на бетонных плитах у меня под ногами. Как когда-то раньше. Я сел на лавочку и только тогда заметил, оглядевшись кругом, что на соседней лавке застыла тихая мужская фигура. Неподвижность нарушала только рука, которая то и дело поглаживала пушистого кота, лежащего рядом. Рука казалась единственной живой составляющей этого человека. Кот казался черным, – когда стало светать, я увидел, что он и был чёрным. Его глаза, которые то и дело наблюдали за мной, подтверждали темноту яркими зелеными вспышками. Мужчина ни разу не взглянул в мою сторону. Я почувствовал к нему нечто похожее на дружбу, которую испытывал к тому, кто выходил курить на балкон в одно и то же время со мной. Вдвоем мы могли бы составить прекрасную скульптурную композицию для города памятников. Двое чужих друг другу людей и одна кошка, которые молча прислушиваются к голосам воды и думают каждый о своем. Двое, соединенные шумом воды и разделенные всем остальным. Может ли быть более хрупкая связь? Может, – я это знал.
Я хотел угадать, о чем он думал, и был ничтожный шанс, что я действительно угадаю, что наши мысли на миг сольются подобно рекам. Гармония нашей обособленности была бы грубо нарушена, – ради чего? Это мне вовсе не нужно. Забыв о нём на время, я вдыхал влажный воздух, впитавший капли дождя, я выдыхал воздух, я думал об Алле, рядом с которой мне всегда становилось легче дышать. Но внутри меня всё ещё разливалась гроза, и ещё не упали её последние капли.
Стоит ли чего-то ждать, когда сам не оправдал ни одного ожидания? Стоит ли так отчаянно искать в чьих-то мыслях себя? Воспоминания обо мне в чужих головах давно распались на атомы и растворились в безвоздушном пространстве прошлого. Когда-то мне казалось, что людям есть до меня дело. Реальность била в глаза. Им всё равно. Безразличные руки лениво тянулись к моим ладоням, равнодушные взгляды на миг встречались с моими широко раскрытыми глазами и скользили, спадали, падали вниз. Бесполезные слова выныривали в воздух из равнодушных губ, и в воздухе им было суждено повиснуть навечно. Я вдыхал слова вместе с кислородом, как допинг, как новый повод сделать ещё один вдох. Напрасно. Выдыхая слова наружу, я думал о том, что придал им слишком много значения. Пришлось сделать очень длинный выдох, чтобы извлечь из себя эти фальшивые ноты синтаксиса. Никогда не придавайте словам значения. Не придавайте значения жестам и мимике. Что бы я ни услышал, что бы ни увидел, я знал, что без меня жизнь каждого была бы столь же похожей на жизнь. Без меня их руки столь же лениво скользили бы по чужой коже и глаза опускались бы на тот же самый истертый шагами асфальт, по которому недавно ступали мои замерзшие ноги. Без меня всё было бы так же, совершенно так же. Только без меня. Как проста, божественно проста эта очевидность.
Равный нулю, я прирос мыслями к истертому шагами асфальту и глазами – к придуманной входной двери, которую сам только что мысленно закрыл за спинами всех, кто хотел уйти. За спинами всех.
Краем глаза я видел, что мужчина сидел на том же месте. Я был благодарен ему за то, что он ни разу не взглянул в мою сторону, за то, что ещё одна чужая жизнь не легла на мои плечи, только молча обитала рядом и смотрела вдаль глазами неподвижного мужчины, так похожего на бронзовый памятник. Наши жизни не соприкасались. Я думал о том, что скоро наступит рассвет и, если мы дождемся его на набережной, то прежде чем уйти, я пожму ему руку на прощание.
Но я не дождался рассвета. Одежда постепенно промокла вновь, предрассветный холод заставил меня подняться с лавки и оставить мужчину вновь одного.
Я побрел домой усталыми предрассветными шагами человека, предпочитающего шум воды колыбельным песням тёмного времени суток. Я вновь вышел на шоссе и шагал по белому пунктиру, хотя гораздо больше мне хотелось прижаться лицом к влажной ночной траве и уснуть где-нибудь в поле, чтобы проснуться от холода, впитать телом утреннюю росу. Чтобы ощутить близость с травой, но не с людьми, которые думают каждый о своем. Не с белым пунктиром, который, я знал, напоминал мою нерешительную жизнь. Не с городами. Ни с кем. Ни с чем, кроме травы.
Но бесконечный пунктир следов все бежал и бежал за моими ногами. Бесконечный белый пунктир делил шоссе пополам. По сторонам дороги только кирпичи и бетонные блоки. Дома.
Страница 61 Архитектура памяти
Так проходили мои ночи, мои дороги. Я читал новые книги, делил жизнь на страницы и новые дороги уносили меня вдаль по тем же самым рельсам.
Я давно перестал строить планы. Вместо этого я погружался в ретроспекцию, создавая идеальный проект прошедшего. Я творил, подобно архитектору, потерявшему счет времени, подобно художнику, который зачеркнул на картине линию горизонта.
Идеальный проект, где я не был с Анной, где Тимур был рядом, где не было выдуманной смерти Аллы, где она не говорила: «ты забыл про браслет». Проект, где лужица крови распадалась на струйки и затекала в трещины черепа, и мужчина летел, – вверх, вверх, – влетал в проем окна и осколки за ним складывались в ровное стекло. Где туман рассеивался, и открывалась впереди бесконечная дорога. Где в поездах было пусто. Где шел снег, спадая с разлинованного проводами неба, где под этим снегом мы были вдвоем. Где вагонные составы не переезжали через людей. Где памятники были не просто камнем. Где мои шаги имели направление. Где я не убегал прочь, где не умирал внутри меня художник. Где не умирали птицы. Где люди просыпались с радостными глазами. Где во всем был какой-нибудь смысл.
ГДЕ?
Страница 62 Подъезжая к станции
Слушая стук колес и устремив рассеянный взгляд за окно, я вспомнил один из солнечных дней детства, когда катался с друзьями на велосипедах, и шины становились горячими от быстрых соприкосновений с сухим летним асфальтом. Разве мог я предположить, изо всех сил нажимая тогда на педали велосипеда, что окажусь здесь, что моя жизнь оборвется в пустоту, как книга, которая внезапной прихотью автора заканчивается на середине развития действия? Я смеялся вместе со своими добродушными друзьями, загорелыми мальчишками, и наблюдал за машинами, которые проезжали мимо, в противоположную сторону.
В противоположную сторону…
Проезжая по обочине дороги, над которой дрожал воздух, разве мог я предположить перспективы жизни, разве мог я допустить отсутствие перспектив? Если бы тогда я знал, что буду здесь, я бы упал с велосипеда и, разбив себе колени, оплакивал своё будущее.
В поезде напротив меня сидел мужчина с густыми, но аккуратными усами, он разворачивал газету, сосредоточенно наморщив лоб и надев очки в толстой чёрной оправе. Он начал читать, покашливая, низко склонившись над листом, крепко прижимая газету к столику широкими ладонями. На его светлых руках, с внешней стороны кисти, росли длинные тёмные волосы.
– Нет, вы видели это? – спросил он глубоким неприятным басом, чуть приподняв над газетой кисти рук, и чуть развернув ладони к верху, как-то неестественно разводя руками.
Я ответил, что нет, не видел. Он повернул газету ко мне и отчеркнул толстым жёлтым ногтем нужную часть полосы. Его удивила короткая заметка про погибшую в автокатастрофе молодую пару. Они попали в аварию, возвращаясь домой на такси. Скорая помощь приехала вовремя, но по дороге клинику, случилась ещё одна авария. Столкнувшись с автомобилем, машина скорой помощи перевернулась на дороге и, по инерции проехав ещё несколько метров, остановилась, – я представил себе пронзительный звук железа, летящего по асфальту, я представил себе… Молодые люди погибли на месте.
Прочитав, я поднял глаза на своего попутчика. Поразительно, – думал я, – какая игра случая. Уничтожающая игра обстоятельств, настойчивая смерть, словно вызов всем тем, кто говорил, что судьбы не существует.
– Вы верите в судьбу? – спросил я.
– Наша судьба – это разбитые дороги и неисправные машины скорой помощи, – сказал мужчина. Я не знал, что сказать в ответ. Откуда он знает, что на месте аварии была разбита дорога? Мы мыслим разными категориями. Сказать ему об этом? Впрочем, мне всё равно.
Мой попутчик тоже собирался выходить. Не глядя в окно, я ждал остановки, чувствуя, как поезд замеляет ход, подъезжая к станции. Я смотрел вниз неподвижным взором, не в силах оторвать глаз от пола. Мужчина громко смял газету и бросил её в тёмный пакет с мусором. Вы вышли из поезда и направились в разные стороны.
Страница 63 Маятник часов в безликом полдне
Город показался мне знакомым. Я решил, что это синдром заядлого беглеца, – все города смешались в один пестрый бессмысленный калейдоскоп, и я уже с трудом мог отличить один от другого. Я менял города, как меняют грязное белье.
В невыносимый полдень я медленно возвращался с берега реки, где чудом нашел отдаленный и безлюдный уголок. На песке лежало подгнившее бревно и волны подкрадывались к самым ногам. На улицах было нечем дышать. Рабочие, блестящие на солнце влажными спинами, укладывали асфальт. Один из них сидел на бордюре, укрыв плечи белой тряпкой, поджигал сигарету. Я мечтал о своей комнате, которая пустовала в прохладе задернутых штор на расстоянии получаса ходьбы.
Вдруг грубый мужской голос остановил меня на ходу, руки схватили за плечи, сжали кости до короткой боли.
– Постой-ка! Привет! Неужели ты?
Я недоумевал и с неприязнью разглядывал это обрюзгшее старое лицо. Спустя пару минут я вспомнил этого человека. Когда-то он был другом моего отца, часто бывал у нас в гостях и всё время приносил мне подарки. Он работал в суде, проводил экспертизы психического состояния преступников. Когда он переехал сюда, мы однажды приезжали к нему в гости. Мне было около семи лет. Тогда он мне нравился, потому что он приносил мне подарки, но теперь я видел пустое, заплывшее лицо, потерявшее всякое выражение. Глаза запали внутрь, как неисправные клавиши телефона.
– Вы изменились, – как-то бестактно произнес я, – ни за что бы вас не узнал.
– А ты остался прежним, – добродушно ответил он, видимо, прекрасно помня, каким неуклюжим ребенком я был.
Из вежливости он пригласил меня к себе, я хотел отклонить предложение, но он зачем-то настаивал, просил рассказать, как живут родители. И, хотя я ничего о них не знал, мне пришлось согласиться – из вежливости.
У него в кабинете висели посредственные серые часы с бликующим маятником, который навязчиво отсчитывал секунды, что я терял там. На стуле сидел упитанный лысеющий мужчина с улыбкой, словно приклеенной к лицу. Мне в глаз попала мошка. И сейчас, чувствуя резь под правым веком, я представлял, как муха умирает, задохнувшись моими слезами. Её крохотные черные лапки отделяются от тела и отплывают к уголку глаза. Какие-то слова проплывали мимо меня в открытую дверь за моей спиной. Я не утруждал себя реакцией. Я вспомнил потрескивающий мороз одного осеннего дня. Ранним деревенским утром я вышел за водой, и было слышно, как под сапогами потрескивали замерзшие, ещё пестрые листья, а полые лужи обманывали ноги тончайшим льдом на поверхности. Я вдыхал остывший за ночь воздух и чувствовал, как в легкие втекает непродолжительное осеннее утро, обреченное растаять под вновь взошедшим солнцем. Теперь это утро оказалось за непреодолимой стеной между прошлым и настоящим. Меня душили эти персикового цвета стены, глянцевый маятник, шарахающийся от воображаемой вертикали, этот неправдоподобный мужчина, чьи слова я не слышал за беззвучными криками о помощи тонущей мухи, которую я обрек неосторожными пальцами на соленую смерть. В пряном запахе только что заваренного не мной чая мне чудился аромат мелиссы, которую три месяца изнуряющего лета съедали маленькие блестящие жучки, а я смотрел и стряхивал пепел в горшок с пожелтевшей землей, и вздыхая, принимал смерть никчемного растения, которому перед самым моим отъездом суждено было воскреснуть и расточать свой ментоловый запах в опустевшей квартире, которую я тихо оставил, пустившись в безоглядное бегство от всего, что считал своим. Что считал бесконечным, как ту весну, что подарила мне мечту о чертополоховом поле. Как счастье за плотно задвинутыми шторами, где я с яростной надеждой на дождь глядел в стену, упираясь глазами в штукатурку. Блестящие капли застывали на поникших после грозы листьях. Двор был залит светом, хлынувшим с туч после обильного дождя. Наклеенная улыбка слетела со стареющего лица напротив. Я лениво наблюдал за движениями его пухлых губ и за безвольным взглядом, плавающим в пространстве. Какой из него психолог? Он говорит в пустоту, но думает, что его слышат. Но чтобы быть услышанным мало просто говорить.
Черное полотно траурной ткани накрыло оживающую мелиссу. Я на похоронах, в моих руках две розы, обжигающие ладони живыми зеленеющими стеблями, смеющимися над смертью, прежде чем лечь поверх мраморной плиты.
Фраза «до скорого, мне пора за работу» разлетается на слога и влетает в сознание побуквенно, теряя всякий смысл. Я собрал буквы в последовательность, и покинул мертвые стены персикового цвета. Солнце у парадного выхода застало меня врасплох, заблестев на пуговицах манжет. Ладони прошлись по влажным ветвям сирени и, мокрые, прижались к онемевшему лицу. Прочь.
Страница 64 Призраки
Домой я не пошел. Трижды проехав в автобусе по одному и тому же маршруту, я вышел на вновь помрачневшую, пасмурную улицу, сопровождаемый настойчивым взглядом кондуктора, которая уже полчаса не спускала с меня настороженных глаз.
Вдали шумели поезда, под ногами были рельсы. В темноте я спотыкался о них и падал, приникая к чуть похолодевшей вечерней земле. Ненависть трепыхалась у меня в груди как тысяча отчаянных сердец. Ненависть ко всем обрюзгшим, старым лицам. К лицемерию незнакомцев, к проклятой вежливости, к случайным встречам, которых я не хотел. Ко всей этой случайной жизни, у которой нет памяти, – в которой нельзя оглядываться.
Я шел, не разбирая дороги, быстро доверившись случайному маршруту. Чьи-то руки касались выключателей, и в окнах красиво угасал свет. Я почувствовал дождь, только когда насквозь промокла одежда. И всё обрело ясность. Небо роняло на землю тяжелые капли, которые разбивали лужи с таким грохотом, словно рушились целые города. Я шел следом за своей тенью, которая давно перестала быть видимой, но всегда обгоняла меня на полшага. Мимо беззвучно проходили нечеткие черные силуэты, оставляя за собой безвоздушный шлейф настороженного холода.
Мои следы терялись в грязном потоке безудержного дождя. Порой случайный свет дальнего автомобиля высвечивал четкие контуры прохожих, которые я видел сквозь завесу дождя необычайно четко. Сколько в моей жизни было прохожих. И все они – только проходили, и шли, невозмутимо двигались дальше. Я видел задумчивый взгляд Тимура, тонкие пальцы Аллы. Они преследуют мою память, даже в воспоминаниях поворачиваясь ко мне спиной. Я заставлял себя проходить мимо этих воспоминаний, лишь скользнув тоскливым взглядом по немым спинам.
Я лег между рельсами, поперек ещё теплящихся деревянных шпал, и закрыл глаза. В невидимых тучах громыхали раскаты. Я разбивал руками стекающие стены, я ломал пальцы, заставляя себя хоть что-нибудь почувствовать – в настоящем – в эту секунду. Но всё было бесполезно. Мои глаза опустели. Мои силы иссякли, я лежал под нескончаемым громом, подо мной текли грязные ручьи, мои собственные слезы раскаленным железом рассекали щеки, мешаясь с дождем.
Я накрыл лицо ледяными руками. Перечеркивая небо, потрескивали провода. Всё это только сон, – говорил я себе. Всё на свете – сон. Все цели – только иллюзия, жалкий самообман, спасающий от скуки. Я не спасал себя самообманами целей, я смеялся над судьбой, лежа между рельсами, думая о том, что в моей жизни полно других иллюзий.
Приближался поезд. Я перевалился через рельсу и, лежа на спине, наблюдал, как проносятся с грохотом грузовые вагоны, до тех пор, пока звук не умер где-то вдали.
Страница 65 Дождь и вокзальное кофе
Задерживаться в этом городе было ни к чему. Я собрал свой небольшой рюкзак и пошел на вокзал, надеясь уехать ночным поездом.
Бледные губы подергивались изморозью слов, оставаясь при этом плотно сжатыми. Я превращал слова в тишину, мысленно стирая их по одной букве, справа налево, чтобы не дать им вырваться наружу.
Я уже давно не был дома. Я забыл чувство уюта, когда приходишь туда, откуда тебе не хочется уходить. Иногда мне казалось, что я забыл голоса близких. Но когда я думал о них, знакомые интонации оживали в голове извечным воспоминанием.
Поезда не оказалось, и я заснул на притихшем ночном вокзале, положив голову на смятую куртку. Я увидел себя бегущим по заснеженному полю, искры снега взлетали из-под ног. Я был самим собой и в то же время провожал себя взглядом и сразу устремлялся следом. Я видел себя лежащим на полу в своей комнате. Подняв левую руку, я мог дотянуться до дивана. Сквозь пыльное оконное стекло я видел, как проплывали тучи, на подоконнике уютно расправил листья мой единственный цветок. Я только что поговорил с матерью. За стеной, в квартире соседей, играла приторно-грустная мелодия, но почему-то я был рад её слышать. Я заметил руку, чуть свесившуюся с дивана.
Алла? – тихо позвал я, обращаясь скорее к себе, чем к ней. На лицо падал тёплый искрящийся снег. В окне пропали стекла, из комнаты исчезли стены. Её голос, шутя, упрекнул меня за глупый вопрос, и тонкие пальцы запутались в моих волосах. Зазвонил телефон. Я протянул руку к трубке, но, по случайной прихоти сновидения, не мог её поднять.
Телефон продолжал звонить. Снег задрожал и повис в воздухе, как миллионы сломавшихся секундных стрелок. Осколки стекла влетели в окна и срослись в прозрачную поверхность, усеянную трещинами.
Я открыл глаза. Вокзальные часы показывали 3:23. Рассеянный мужчина в нескольких метрах от меня застыл в кресле, положив на колено руку со стаканом кофе. Я чувствовал сладкий и тёплый запах, мне кажется, я чувствовал его рассеянную жизнь, которая могла бы утонуть в чайной ложке вокзального кофе. За окном шел дождь, пахло мокрой одеждой и людьми. Рука, которую я, уснув, неосторожно оставил под головой, казалась чужой, я пытался заставить онемевшие пальцы двигаться. Отвратительно посредственный голос сообщил о прибытии не моего поезда. Хотелось кричать. Реальность была мучительней любого кошмара. Бросив неподвижную руку на стул, я прислонился к его жесткой спинке и закрыл глаза, спасая себя от реальности. Но запах кофе не давал мне вернуться в снежную комнату.
Я выбежал на улицу и, сквозь дождь глядя на циферблат башенных часов, молил их исчезнуть, и забрать с собой кофейные автоматы, жесткие вокзальные лавки и людей, людей. Я просил оставить мне только дождь. Но дождь вскоре прекратился, люди наполнили собой залы ожидания, а мой поезд задержался на два часа. Я мысленно вычеркнул сегодняшнюю дату из календаря будущих воспоминаний и достал из карманов мелочь. Купить себе кофе.
Бумажный стакан, весомо лежащая в руках книга, монетка, падающая на дно кофейного автомата, – порой предметы становились последним прибежищем внимания. Я заставлял себя концентрироваться на вещах, чувствовать их, чтобы не уплывать в наполовину выдуманный бред, лихорадку памяти. Иной раз мне удавалось размышлять здраво, я расплетал узел причин и следствий, всё слагалось в подобие математической матрицы, но она тут же расползалась бессвязными числами, обрывками разума, и снова сны и фантазии вступали в свои властные права, отряхнув корону с головы Здравомыслия.
Страница 66 Мёртвая птица
Новые города меня уже не удивляли. Нигде я не мог остаться надолго, меня влекло бежать всё быстрее, всё дальше – превзойти все мыслимые пределы, я чувствовал, что дороги теряют надо мной власть. Города больше не спасали меня. Все они едины внутренне, внешнее же перестало заботить, оно больше не развлекало – лишь раздражало меня.
Оказавшись в самом разгаре летнего города, я тосковал по дождю и прохладной осенней сырости. Чтобы как-нибудь скоротать погожий день я пошел в кино. По случаю субботнего утра там было безлюдно. Я сидел в первом ряду, окруженный пустыми креслами. На экране разворачивалась надуманная драма с перестрелками и бегством по крышам высотных домов. Затекла шея. Я ушел, не дождавшись конца сеанса.
В кафе, куда я зашел пообедать, тоже почти никого не было. Я выбрал столик в углу у окна, откуда было видно дорогу. Мне было холодно и тоскливо, несмотря на лето, несмотря на бодрый уличный шум.
Только что вошедшая девушка неуверенным шагом направилась к моему столику. Это была стройная блондинка со светлыми бровями и ресницами, её лицо было тусклым без макияжа. Она присела на бежевое кресло напротив меня.
– Вы не против?
Я был не против. Хотелось развеяться. Сердце поеживалось от тоски по глубокой, гениальной, небывалой жизни, которой я не жил. Хотелось развеяться.
– Мой друг… мы всегда сидели за этим столиком, всегда только в этом кафе. Больше он никуда со мной не ходил.
– Я могу сесть за другой столик. – Предложил я почти равнодушно. Она мне не нравилась. Нервный, срывающийся голос, быстро моргающие глаза, широко и удивленно вбирающие мир, не понимая.
– Не стоит. Его здесь больше не будет. – Лицо, готовое тотчас изойти слезами, обратилось ко мне с немой мольбой.
– Мне очень жаль.
Мне не хотелось задавать вопросов. Брошенная девушка со своими неизбывными чувствами казалась такой жалкой в своем желании излить своё горе в лицо первого встречного.
– Есть проблемы и посерьезней ваших. – Грубо сказал я. Она казалась мне глупой. Хотя я понимал, что у каждого своя система координат.
Она опешила.
– Я знаю. Знаю, он мог бы погибнуть под машиной, или заболеть раком, или ещё что-нибудь страшное. Он мог умереть.… Но тогда я могла бы думать о нём с любовью, гордиться тем, что наша короткая близость была лучшим, что случилось в моей и его жизни.
По её щекам потекли слезы сожаления, она поспешно стерла их пальцами.
– Вы законченная эгоистка. – Я встал, чтобы сесть за другой столик. Мне не хотелось её утешать. Нет, ну надо же…
– Побудьте со мной, пожалуйста. Мне некуда пойти.
Я присел вновь. Фраза «мне некуда идти» смягчила меня, хотя возможно, это была только её отчаянная уловка. Но мне тоже некуда было идти. Я остался с ней, посреди залитого солнцем асфальта, смеющихся людей, беззаботными парами струящихся по тротуару, в самом центре мира я остался с ней.
Она привела меня к себе домой, в крошечную однокомнатную квартирку, стены которой были увешаны пыльными, потускневшими рисунками.
– Твои?
– Когда-то я много рисовала, – сказала она, и прошла на кухню, но это «когда-то» так и осталось во мне, как дробь с нулем в знаменателе. Я долго рассматривал её работы, нарисованные небрежными, но сильными мазками уверенной руки. Белые паруса в бушующих волнах, тёмная фигура на фоне дальнего света фар приближающейся машины, цветы в тонких руках, кожа которых казалась серой от пыли.
Девушка вернулась со связкой ключей в руках.
– Пойдем, я кое-что тебе покажу.
Я последовал за ней. Мы поднялись на последний этаж, скрипнул тяжелый, ржавый замок, металлическая решетка двери отошла в сторону. Мы были на крыше. Чужой город блистал, залитый белым светом. В окнах играли желтые блики. Ветер трепал волосы. Мы глядели вперед. Она улыбалась и глядела в лицо солнцу, щурясь от яркого света. Тоска не прошла, она билась внутри меня, как умирающая птица. Я не мог объяснить её себе, в мыслях витал ветер, и сердце сжималось, и я ощущал дрожь в ледяных руках, которые прятал в карманы.
Немного погодя мы стали возвращаться. Она шла впереди, я – следом. И вдруг, проходя смежный с лестницей балкон, я увидел черную птицу, повисшую на гвозде. Это была мёртвая галка с растрепанными перьями, она запуталась лапками в серых нитках, обвитых вокруг этого бесполезного гвоздя в кирпичной стене. Теперь она висела вниз головой, ловя ветер приоткрытым клювом, расправленные крылья повисли вдоль красного кирпича. Солнце безудержно проливало свет на безжизненные перья. Я остановился, не в силах унять дрожь. К горлу подступил ком. Ну, что такого? Просто мёртвая птица, – раздраженно упрекал себя я, но ничего не мог с собой поделать.
Девушка обернулась спросить, почему я отстал и, проследив мой взгляд, тихо вскрикнула. Она тоже заметила птицу. Я почувствовал, что наши эмоции совпали. Опустив руки, мы смотрели на неё неподвижными глазами. Мне хотелось закричать, тоскливо и пронзительно разбить тяжелый, прозрачный воздух. Мёртвые птицы не покидали моей жизни.
Поспешно спустившись с лестницы, мы вернулись в квартиру. Она достала вино, я залпом опустошил стакан, терпкий вкус и смутное, расслабляющее тепло разлились по телу. Я боялся остаться один, но скрывал это от неё и от себя. Я решил остаться у неё на ночь, убедив себя в том, что она нравится мне. Что она похожа на меня. В действительности же между нами не было ничего общего. Её картины были по-детски и банально романтичны, рисуя приевшиеся сюжеты про свет в конце тоннеля, паруса на горизонте и беспросветное одиночество отвергнутого всеми изгоя.
Напротив дивана стояло зеркало, с ним я вынужден был встречаться глазами каждый раз, когда поднимал голову. Рваные обои за тусклыми картинами ещё сохранили выцветший орнамент из голубых квадратов, различных по оттенку. Из-под стола лениво выполз старый паук. Горящая люстра отражалась в темном окне, высвечивая на нём грязные пятна. На шкафу лежала пыльная ажурная шляпа. Из запертой на ключ дверцы свисал кусок атласной материи. Сквозь дыры в обоях виднелась штукатурка.
Она доверчиво положила голову мне на плечо, и я сразу почувствовал, как оно тяжелеет, начинает затекать. Когда я спал с Аллой, я не чувствовал тела. Оно было излишне, как слова. Эта девушка что-то рассказывала, путаясь в словах, торопясь высказать всё, зная, что я скоро её покину.
Мои мысли были далеко. Я так и не смог вырваться из этого проклятого круга, в который смыкались все эти вокзальные кружки кофе, несчастные девушки, в который смыкалась вся жизнь, оцепенев в непритязательной обыденности.
Спустя триста шестьдесят пять минут, дней или лет всё повторится снова. Диагонали дождя вновь расчертят горизонт. Я буду дома, или же буду сидеть в лесу на ржавой водопроводной трубе, глядя на белые стволы берез. Рядом будет, как раньше, белая кошка с черным хвостом и окружностью на левом боку, изображая восклицательный знак. Всё прошедшее покажется ненастоящим. Свитер намокнет и навязчиво прилипнет к телу. Я буду искать закономерностей, перебирая воспоминания, как четки. Я буду искать начало координат, и найду его там, откуда возвращаются только подобия. Я вспомню умирающего кота, не проронившего ни звука под капельницей. Вспомню утро, когда я увидел его труп, застывший по пути к моей кровати. Эта смерть больше не вызовет тихой скорби, после того, как, выглянув в окно, я увидел мужчину, летящего с восьмого этажа.
Я вспомню поезд дальнего следования, своё лицо, искаженное плачем и руки, безумно стучащие в стекло, и перрон, вдруг пропавший из поля зрения, оставив меня наедине с непреодолимой стеклянной преградой, сломать которую не смогли детские руки. Я уезжал в летний лагерь, родители провожали меня на поезд. Это воспоминание покажется пустым. Прошлое оборвалось осколками бокала в сильной, повзрослевшей руке, внезапно задетой воспоминанием о не разбившихся стеклах. Пальцы безмолвно рыдали, роняя красные капли на кухонный стол.
Я вспомню ничего не значащую серую крысу с розовым хвостом, которая жила в одной из моих комнат, снятых в чужих городах. Она бесконечно кружила по ковру, пугаясь каждого моего шага, которыми я измерял комнату, взывая к здравому смыслу и не находя решений. Сколько ещё было таких же шагов, комнат и умирающих с голода крыс, таящихся за трещащими по швам шкафами.
Я вспомню низкую кровать и тонкие руки, которые блуждали по телу, оставляя его бесчувственным, но отражаясь, удваиваясь в зеркале напротив. Белесые волосы и бесцветные ресницы, молящие выслушать глаза.
Замерзшие пальцы ног неподвижно внимали холоду. Той ночью мне казалось, что я мертв, как птица, повисшая на гвозде. Голос спросил: «Ты спишь?» И я ответил, что не сплю. Равнодушные веки не хотели темноты и следили за движениями чужих рук со скупым интересом постороннего наблюдателя. Что я здесь делаю? Резко отбросив руки и одеяло, я одеваюсь и хлопаю дверью непреднамеренно громко. Вслед за мной торопливо бегут шаги, но я уже не слышу их. Это воспоминание кажется немым, обрывки тел смешались с механически произнесенными словами, лунным бликом на дверной ручке, стихающим звуком шагов. Все это не имело значения, хаос мимики, слов и жестов был только спектаклем.
Всё повторялось красочным подобием по возрастающей градации желания забыть.
Сейчас вокруг мрачно падает солнечный свет, контрастируя с синей тяжестью туч, пролетевших мимо города. Догнивает мёртвое, беспамятное лето. Взгляд упал куда-то на пол. Пальцы хладнокровно барабанят по столу. Я ищу места для последнего знака препинания и вдруг вспоминаю, что его место в самом начале первой строки.
Я вновь ехал прочь.
Страница 67 Траурные окна
Мои новые окна выходили на кладбище, которое раскинулось в обе стороны широкой полосой могил и заборов. За ним виднелись невозделанные поля, заросшие кустарником и высоким бурьяном. Я открыл окно и в комнату проник горячий воздух летнего полдня. Я долго сидел на подоконнике, выстраивая логические цепочки из событий своей жизни. Солнечный свет падал на стену в глубине комнаты, на мои колени, на цветущие клумбы под окнами, на мраморную строгость могильных плит. Я вышел незадолго до заката, дорога привела меня на кладбище, и я не противился её пыльной протоптанной траектории. Жара немного спала, над редкими цветами порхали крапивницы. На руку села оса. Кладбище словно вымерло, только утром я видел из окна женщину в белом платке, которая постояла несколько минут возле могилы и положив на плиты букет красных гвоздик, быстрым шагом ушла прочь. Теперь же здесь царила летняя идиллия – стрекотали кузнечики, жужжали пчелы, шумели вдалеке деревья, покачивая ветвями на фоне безоблачного горизонта. Блуждая среди останков чужих жизней, я набрел на невзрачную могилу без ограды, вокруг которой цвели полевые ромашки и белый клевер с тонкими стебельками. Иван Иванов прожил 25 лет. Я присел на камень возле могилы, который заменял собой лавочку, и попытался вообразить, как мог бы выглядеть человек с таким именем. Как мог бы такой человек умереть. Ничего не приходило в голову, столь беззвучным было это обыкновенное имя, обрывающееся невероятным отчеством – Карлович. Небольшая гранитная плита с именем и датами рождения и смерти, наполовину скрывалась в траве. В листьях ромашки копошилась черная тля. По земле, у самого камня, ползла жирная бордовая гусеница. Быть может, его обыкновенная жизнь оборвалась внезапно и абсурдно, как отчество. Быть может, он был талантлив, любил рисовать, или изучал насекомых. Казалось странным, что просидев у могилы около получаса в тихой смиренной грусти, я ничего не знал об этом человеке, кроме имени и нескольких цифр. Казалось странным уйти, так ничего о нём и не узнав. Но я ушел, и больше не заходил на кладбище, на развилке у самого дома сворачивая в другую сторону.
Я был на похоронах лишь однажды. Мне было не больше одиннадцати лет. Умер мой школьный учитель по рисованию. Он говорил мне, что, если я буду стараться, из меня выйдет прекрасный художник. Он был не единственным, кто мне это говорил, но только ему я верил. Я пришел на похороны, чтобы поверить в смерть, которой до этих пор я ни разу не встречал. Стоя одиноким ребенком среди сосредоточенных взрослых поз и тоскующих лиц, я долго рассматривал белое лицо в гробу, покрытом цветами. Я знал, что это тело не имеет никакого отношения к человеку, которого я знал.
Едва дотянувшись рукой, я положил поверх мёртвого тела свои красные розы и уступил слезам, безвольно покатившимся из глаз. Это были эгоистичные слезы. Конечно, мне было жаль художника, я не мог представить, что его больше не существует, – детям всегда бывает трудно понять смерть, – но больше всего я жалел о том, что больше он не скажет, что из меня выйдет прекрасный художник.
Одним словом, я жалел себя. Я сожалел о своих упущенных возможностях. Я уверовал в свои эгоистичные слезы уже на похоронах, и мне было стыдно за них, так откровенно текущих по щекам. Казалось, они оставляют грязные следы на коже. Я пытался заставить себя не плакать, но не мог. Мне казалось, что все истинно скорбящие должны молчать.
Я не верил в силу слов на похоронах. Я не верил в искренность говорящих, многие, стоя у гроба, говорили лишь о себе, когда нужно было забыть себя. Мне порой казалось, что говорящие произносят посмертные монологи сами себе. «Я встретил его, когда поехал на Родину…» «Я тогда улыбнулся и сказал, что…» «Я только начинал карьеру, когда он…» И так далее, далее, далее. Мне хотелось встать посреди этого траурного круга, рядом с тихим гробом и прокричать: «Заткнитесь вы, все!»
Казалось, я был единственным, кто понимал, что человек покинул это тело. Я не мог понять, зачем же тогда все обступили его со всех сторон. Я не мог понять, зачем здесь я, и с нетерпением ждал возможности уйти: у меня затекли ноги от долгого неподвижного стояния. Я смутно понимал, что уйти было бы неуважительно, но оставаться там – всё равно, что разговаривать посреди пустой комнаты с человеком, который только что вышел, закрыв за собой дверь. Театр абсурда. Печальный спектакль.
С тех пор я никогда не был на похоронах. С тех пор я убежден, что все скорбящие молчат.
Страница 68 Кто такой Меньер
Я всегда думал о смерти во время приступов головокружения, – таким шатким становилось всё вокруг. Когда это случилось снова, был вечер, и зыбкие тучи парили над чертой горизонта. Подоконник сразу показался хрупким, он осыпался, как песок сыпется в пропасть с крутого обрыва, и ноги вязнут в песке, и оступаются, и тело уже летит навстречу невидимому дну.
Болезнь Меньера слишком часто давала о себе знать после весенней аварии, – врач сказал, что это из-за травмы позвоночника. Но мне вообще-то было всё равно, по какой причине всё видимое то и дел кружится перед глазами, как странная, хаотично движущаяся карусель. Эта болезнь вошла в мою жизнь непоправимым пороком восприятия, видимость терялась, стиралась, осыпалась неверным, надобрывным песком.
Всё внешнее ничего не стоит, – думал я, пытаясь подавить тошноту, оседая на пол во время очередного прилива головокружения. Силясь удержать равновесие, я упирался руками в стены, – бесполезно, шатко, – нужно лечь на пол. В окне порхали птицы, легкими взмахами побеждая воздух, но я знал, что они мрут, как бабочки, – каждый день я видел под ногами мёртвых галок и голубей. И люди тоже – как бабочки, их только прячут под землю, как кротов или земляных червей, кладут славное, высеченное из камня надгробие, – и оставляют гнить, тут же забыв о бренном теле, думая о какой-то там душе. Тело – прах, пусть его сожрут черви. Немного странная традиция.
Но кто такой Меньер? Ветви деревьев сгибались от ветра за раскрытым окном, но я не слышал шума листвы, – где же таблетки? – я стукнул ладонью по полу, но звука снова не было, только жжение кожи, как тогда, в детстве, когда я упал на дорогу. Где же таблетки? – я не мог вспомнить…
Я посетил столько городов, я везде говорил с людьми, но говорили со мной только печальные или самодовольные. Неужели же тщеславие – основа близости? Несчастные думают, что они страдают глубже, сильнее других. Самодовольные думают, что они живут всех успешнее. И те, и другие презирают друг друга. Но и те, и другие хотят излиться в мир, поделиться своим опытом, – они с радостью хватаются за возможность это сделать. Вот и всё. Я говорил с ними, чтобы забыть себя. Эгоистично, только и всего.
Безбрежный потолок пенился волнами над моей головой, радужные круги расплывались поверх белизны. Я пытался вспомнить, где лежат таблетки, но руки только беспомощно шарили по полу, бессильные вписать тело в систему пространственных координат. Я ощущал опору только телом, тактильным чувством, и вжимался в пол, – бесполезно, шатко.
Где же врачи? Где заботливая рука, что мягким перебором пальцев по клавишам телефона вызвала бы скорую помощь? Никого, я выбрал сам – никого. Ходить по лезвию, балансировать на грани, – я сам выбрал это и, стиснув зубы, молчаливо ждал, когда кончится приступ. За окном закричали птицы, – и я услышал их. Это был печальный голос чайки.
Страница 69 Если
Из последних сил, по инерции, я покорял синий горизонт, оставляя позади всё больше километров. Вновь и вновь перебирая воспоминания, я утопал в деталях, томился подробностями, заставляя себя вновь и вновь переживать каждую мелочь.
«И если тебе будет грустно, вспоминай». Эти слова я нашёл на обрывке открытки без даты и подписи. Дальше было написано что-то ещё, но теперь я мог прочесть лишь неоконченную строку. Вспоминай. Если тебе будет грустно. Мне бесконечно грустно. Утром я открываю глаза и вижу, как сквозь складки штор льется солнечный свет.
Вспоминай. Далекий тёплый день, превратившийся в черный бархат ночи, а потом в утро, неуютное и прохладное, щелчком дверного замка оборвавшее время. И если тебе будет грустно, вспоминай. Я помню голоса птиц, звучащие с верхушек деревьев. Ветер шелестел глянцевой листвой. Случайный луч, то и дело пробивающийся между мягкими тучами, высвечивал контуры знакомого профиля. Воспоминания о прикосновениях ветра к коже возникают в голове с нечеткостью полузабытого сна.
Сегодня я шёл вдоль витрин и краем глаза замечал ноги хорошо обутых манекенов, которые никогда не запачкают своих ботинок. Мимо летели листья, голоса птиц были где-то далеко в мертвом море памяти, которое бросало меня на прибрежные камни с безрассудной жесткостью.
Память трещит по швам, солнце превращает образы прошлого в кристаллы морской соли. Мне остается только скомканный солнечный день, рваный пульс ощущений, прерывающийся пустотами беспамятства, фотографическая точность случайных моментов, в то время как иные из них выпали потерявшимся навсегда пазлом. Длинная ночь сжалась в секунду, вобравшую в себя все образы и смыслы, и пожирающая саму себя с жадностью голодного хищника.
Я помню холодные пасмурные тени другого дня и мелкий дождь, врастающий в лицо предчувствием скорой грозы. Я помню последнюю пеструю осеннюю бабочку, которая за долю секунды пересекла квадрат окна по неровной диагонали. Я помню мертвого голубя, распластавшего смятые крылья на мокром асфальте, где я вел обратный отсчет шагов до той, которая желала мне воспоминаний. Потому что моё мертвое море не позволило мне забыть угловатые буквы знакомого почерка и, однажды выбросив часть написанной фразы, я продолжаю помнить её целиком. И если тебе будет грустно, вспоминай о том, как весело нам было.
Эту строку написала мне Алла, в открытке, которую подарила на день рождения, я пригласил её туда неведомо зачем. И я вспоминаю, вспоминаю и вспоминаю, как мы смеялись под снегом, как говорили, сидя на камне рядом с железной дорогой. И на моем лице – ни тени улыбки.
Страница 70 Герой счастливого финала
Я совсем утратил зрение, всё, что происходило вокруг, не касалось меня. Я жил в своих измерениях, замкнувшись в циферблате остановившихся часов, в измотанном головокружениями мире плавающих перспектив.
Лишь смутно, в полусне сознания, я различал день и ночь, растягивал долгие часы в поисках выхода из бездеятельной, ленивой жизни, в которую погрузил себя сам. Очередным утром, влетевшим в приоткрытое окно запахом гари с подожженных полей, я не мог поверить, что проснулся в малознакомой комнате с выцветшими голубовато-серыми обоями. Я проснулся не там, где только что был во сне, в пустой комнате не было тех, с кем я разговаривал ночи напролет, не произнося ни звука, погрузившись в мягкую бездну подушки.
В детстве я любил читать злые сказки братьев Гримм. Я хорошо помнил того абсурдного героя, который убил своего коня, чтобы накормить двух голодных воронят. Но никогда я не допускал возможности, что у братьев Гримм есть имена. Позже я узнал, что их зовут Якоб и Вильгельм, но эти реальные люди так и не смогли совпасть с безымянными братьями, обитавшими в моем воображении. Однажды я испуганно отшатнулся, увидев свою бабушку, сидящую перед зеркалом. Её распущенные волосы спадали до пояса, серебристые, с редкими чёрными прядями. До этого они всегда были собраны в маленький седой пучок, и я несколько секунд не мог понять, кто скрывается за этими пышными волосами.
Реальность ежедневно опровергала мои представления. Но вместо того, чтобы перестать заблуждаться, я пытался сломать правду ради извечных фантазий.
Реальность была неподатлива, как прочный металлический сплав. Она не была ни холстом, ни листом бумаги. Она не состояла из предметов, которые я мог переставлять подобно шахматным фигурам на поле, скованном лишь чёрно-белой системой клеток. Она состояла из людей.
В одной из сказок король бросил в воду перстень, велев герою достать его со дна морского. «Если ты вернешься назад без него, – предупредил король, – то будут тебя сбрасывать все время в воду, пока ты не утонешь в волнах». Я не достал перстень, хотя с детства мнил себя героем счастливого финала.
Реальность сбрасывала меня в море, в глубину моих же раскрытых глаз, которые каждый раз, словно впервые, смотрели наружу, рисуя жестокое отражение увиденного.
Я не мог проснуться дома, оставив позади столько безуспешных, но таких настоящих километров. Я не мог лишить имен братьев Гримм. Настоящих братьев Гримм, которые жили в Германии и собирали немецкий фольклор. Я не мог даже видеть иные сны, они скрывали собой очевидность, а с восходом солнца вновь сбрасывали яркие драпировки с одинокой правды пустой комнаты с полуоткрытым окном.
Белая стена противоположного дома была исписана размашистым, небрежным почерком. Черные буквы говорили «город мёртв» и повторяли эту фразу вновь и вновь, словно город умирал многократно. Продолжало пахнуть гарью. В воздухе летал пепел.
Позже я узнал, что на окраине города в ночном пожаре сгорели два дома. И только тогда я вспомнил, что поля горят в начале весны, когда поджигают сухую траву. Но был конец августа. Снова ошибка. Догадка, которую я выдал самому себе за истину.
Вечером я закрыл окно, опустил непроницаемые алые шторы, широкие складки глухо и сдержанно упали на пол. Я вдохнул взлетевшую пыль и упал на кровать, подальше отсюда.
Страница 71 Тела и тени
Но спать не хотелось. В последнее время я злоупотреблял сном, как лекарством от долгих дней, он стал единственным спасением от жизни, – единственным источником равновесия. Но сны иссякли, организм хотел жить.
Поздней ночью я вышел в город и, не следя за направлением шагов, оказался в небольшом парке с памятником посреди круглой заасфальтированной площадки, окруженной деревьями.
Присев на лавку, я смотрел, как под ногами расползаются тени от ветвей, которые раскачивались и шелестели под ночным ветром. Такой же ветер влетал в открытую форточку в гостиной, где в последний раз мы собрались за столом всей семьей. По электронному циферблату часов бежали зеленые числа, край скатерти колыхался, щекоча голое колено. Теперь, под вновь чужим небом я искал чего-то непостижимого, вновь и вновь рассеивая взгляд вдали. Там, где я никогда не буду.
Мне казалось с этих пор, что все города похожи между собой, всё чужое соединилось в земной шар, оставив мне лишь островок родного города, который так пронзительно нежно смотрел на меня чёрной точкой с воображаемой карты. В детстве я ходил по заманчиво пестреющей настенной карте указательным и средним пальцем, перешагивая в одну секунду всю восточно-европейскую равнину и, припадая подушечкой пальца к бумажному глянцу, втаптывал в стену целые города. Теперь мои пальцы заплутали кругами, оставляя позади узкие деревянные дощечки влажной от утреннего дождя лавки и вновь возвращаясь в точку отсчета – вбитый накрепко заржавевший гвоздь.
Моя жизнь стремительно разбегается по страницам. Сквозь мысли ползут строки. Я сидел и смотрел на гранитные ноги памятника, опережающего всех идущих мимо стылой статикой смерти, окаменелым воспоминанием, извечным морозом вплывающим через уязвимость ладоней вовнутрь. Моё воспоминание взрывало меня гранитным дождем, упрекая реальностью за тысячу выдумок. Я сидел на лавке неподвижной тенью, глядя, как подо мной и надо мной колышутся ветви, разрешая бесконечно угадывать, какие из них более весомы.
Внезапно я испугался своего одиночества. Уже давно я ни с кем не говорил. Случайные лица на время покинули мою жизнь, оставив меня наедине с самим собой. Мне захотелось быть среди людей. Я жаждал лишь немого присутствия жизней вокруг меня, устав от пустого пространства, от тихих стен, от собственных мыслей.
Прогуливаясь по центру города и не найдя ничего более людного, я зашел в бар. Мне было безразлично, кто находится вокруг меня. Они неистово и неуклюже танцевали под громкую музыку, вызывавшую спазмы у меня в голове. Одна девушка все кружилась и кружилась вокруг воображаемой оси координат, сохраняя невозмутимое выражение лица, словно живущего отдельной от тела жизнью. За барной стойкой сидели парень и девушка. На девушке была белая вязаная блузка с открытой спиной. Она отвернулась от него и разглядывала танцующих, а он целовал позвонки, выступающие у неё на спине. Руки блуждали под блузкой. Стало противно. Я заказал себе пива, залпом выпил стакан. Я не мог понять, почему в баре танцуют. Какая-то стройная и светлая девушка пригласила меня на танец, и, крепко вцепившись в мою руку, смеялась мне в лицо. Я обнимал её за талию и не знал, что сказать. Она сказала, что я танцую слишком скованно. Я ответил, что не люблю танцевать. Она сказала, что у неё муж и двое детей. Я ответил, что мне всё равно, сколько у неё детей. Она обиженно убрала руку с моего плеча и, принужденно закончив танец, исчезла, не сказав ни слова. Я был рад. Внутри себя я смеялся. Люди кружили вокруг, оставляя всё внутри меня неподвижным, бесчувственным.
Я кружил вокруг воображаемой оси своей жизни, оставляя себе шансы начать сызнова, выйти из точки отсчета, попасть в ритм. Но ритм ускользал, я сидел в наполненном людьми помещении, облокотившись на подоконник. Безвкусная музыка выводила меня из себя и погружала в простой одноаккордный ритм безыскусственной жизни. Я таял, исчезал в толпе, созерцал полураздетые тела, извивающиеся на танцполе. Мне хотелось ощутить вокруг себя жизнь, но я видел тела. Они не возбуждали меня, они вызывали чувство брезгливости, желание вымыть руки, хоть я ни разу не прикоснулся к ним. За окном жил чужой город. Влюбленные пары прогуливались под фонарями, обмениваясь поцелуями. Вывеска магазина напротив по очереди высвечивала разноцветные буквы.
Я спустился по грязной лестнице и ушел восвояси, столкнувшись по дороге с пьяным мужчиной, который шагал мимо ступеней, ощупывая стену слепыми пальцами. На улице похолодало. В переулках не было ни души.
На моей улице забыли зажечь фонари, и я нашел свой дом с трудом. Я вошел в квартиру, вымыл руки с мылом, слушая успокоительный шум воды. Подошел к отключенному телефону. Не снимая трубки, я набрал Аллин номер. Последняя кнопка не вернулась в исходное положение, провалившись в корпус телефонного аппарата. Когда соседи сверху выключили телевизор, я отчетливо услышал кухонные часы и своё дыхание. Лег спать, не раздеваясь. Я устал.
Страница 72 Улица в никуда
Утром всё началось сначала. Мир не мог предложить мне ничего нового. Те же летние листья шумели над головой, аплодируя безоблачной бесконечности неба. Я не чувствовал под ногами почвы. Казалось, стоит сделать ещё один шаг, и перспектива улицы оборвется, я уже чувствовал, как неуклюже оступаюсь и падаю вниз по крутой лестнице в какую-то искусственную, неземную пустоту. Тёплые шорохи подошв по асфальту были недоступны органам чувств, я шел босиком по льду. Среди зелени придорожных кустов я заметил неестественно оголенную ветку. Под ней мирно цвел одуванчик, а рядом лежал мёртвый голубь, робко поджав лапки, будто от холода. По сизому оперению бежала проекция одуванчиковых листьев, разрезая мёртвое тельце на свет и тень. Ледяные ступени вели меня вниз. Где-то в другом мире, за пределами меня, ожоги полуденного солнца падали на землю. Я почувствовал, что дрожу. Навстречу мне шла девушка в тёмных очках. Я поднял шерстяной ворот свитера и, поймав недоумевающий взгляд и взмах голой загорелой руки, ответил лишь тем, что безучастно отвел глаза.
В тени высокого дома на бордюре сидел мальчик и сосредоточенно вычерчивал у себя под ногами круги крошечным куском мела, царапая пальцы об асфальт. У меня из рук выпала книга и оказалась вдруг на недосягаемом расстоянии, развернув страницы на теплой дороге, а не на каменных ступенях. Уступив здравомыслию, я всё же поднял её.
Лицемерие изящно согнулось в триумфальную арку при входе в мою жизнь. Теорема памяти осталась недоказанной, я чертил в воздухе равнобедренный треугольник, вписывал в него мнимое солнце, и ломал перпендикуляры о жаркую черноту крыш. Я отверг всё, чем жил, и отправился в путь. Я выбрал тонко отточенный грифель простого карандаша, скользящий по чистому листу бумаги. Я выбрал пустоту, испепеляющую дни и ночи, потому что ни одна эмоция больше не закрадывалась в обыденный узор моего бегства, ставшего привычным и вместе с тем безвозвратным.
Но отступать было поздно, и я продолжал идти вниз по ледяным ступеням среди полуденной жары. Я продолжал существовать. Как мертвый голубь на зеленой траве.
Страница 73 Эхо
Теперь я старался не смотреть под ноги, суеверно боясь увидеть очередной труп погибшей птицы. Я торопливо покидал своё лето, листая вперед страницы с числами, отдавая полы плаща порывам ветра и шагая в известном только ветру направлении. Моё лето утонуло в слякоти под ногами, его заглушил лай дворовых собак.
Внезапно возникший вектор света нарушил цельность пасмурного дня, опустившись из самой чёрной тучи на верхушку березы, сразу робко заблестевшей мокрыми листьями. Свернув в самый узкий из незнакомых переулков, я заплутал в одинаковых домах, и всё ускорял шаг, как человек, отчаявшийся искать, торопится выбрать нужное направление, всё ощутимей теряя секунды. Я ничего не искал, разве что какой-нибудь крохотной детали, которая отозвалась бы во мне эхом узнавания. Я лелеял свою придуманную тоску по призракам прошлого, которые всегда внушали мне нежное и болезненное чувство.
Отзвук той жизни, которой я когда-то обладал, а потом терял, терял, обретая пустое множество значений, которое всё пустело, хоть нечему было пустеть. Проходя через тихий двор, я увидел пятерых ребят на детской площадке, которые, увидев меня, начали переглядываться и шептаться. Этот смеющийся полушепот и лица в полоборота, обрамленные запахами дождливого дня вызвали неприятное, тяжелое эхо. Блаженное воспоминание, оскорбленное убогим повтором.
Я вспомнил своё падение с высокого дерева, куда я забрался, поспорив на щелбан с самим собой. Я упал спиной на скользкие камни, выступавшие из воды, как акульи плавники. С тех пор ни один камень ещё не посягнул на драгоценную память об этой сиюминутной смелости, не заботящейся ни о ком, даже о себе. Я соскользнул с камней и опустился на дно мелкой реки, высунув из холодной воды только лицо с зажмуренными от боли глазами. Глупая толстая рыба проплыла мимо моих плеч, ткнувшись в них слепым ртом. Песок нежно захватывал пальцы ног. Руки медленно немели, боль стихала в ледяной весенней воде. В переулке вновь пошёл дождь. Навстречу мне шел улыбающийся мужчина на двух довольно шатких костылях. У него не было ноги, но была бутылка водки, весело торчащая из кармана. Он то и дело опускал добрые, блестящие, пьяные глаза к её прозрачному стеклу. Едва он прошел мимо, дождливую тишь оборвал стеклянный звук разбивающихся надежд.
Я мысленно бросился на каменные акульи плавники, чтобы эта наблюдательная боль, разделенная лишь полумертвой сумасшедшей рыбой, вновь открыла мне глаза на тепло песка под тяжестью холодной реки, на азартный самообман, слепую веру в то, что ветка выдержит, на слезы жалости к самому себе, на доверчивое чутье рыбы, которая всего лишь проплыла мимо, на внезапную силу воли, которой я заставил себя выйти из спасительной воды. Но ничего не изменилось.
В проезжающем мимо автобусе девочка гримасничала, дразня подругу. Та схватила её за нос. Жизнь продолжалась. Всё вокруг было живо, жизнь обтекала меня, заставляя почувствовать болезненный контраст между ней и моим мертвым существованием.
Страница 74 Проекция жизни
Я чувствовал, что моя теперешняя жизнь – только проекция. Я жил в пространстве бессмысленных повторений одной и той же пожизненной ошибки, которая столь же глупа, сколько неисправима. Возможность исправления осталась где-то в настоящей жизни, которую, мне казалось, я давно прожил и лишь чувствую порой, как она врывается в мозг смутным ощущением, полусуществующим воспоминанием, а потом покидает её с быстротой сгорающей спички. Я же остаюсь в картонной декорации, где изо дня в день повторяю свое бегство.
Я утратил все возможности, я сделал многое из того, что мог, но всё же я сделал не всё. Я понимаю это и принимаю на себя вину во всех причинах. Во всех декорациях и проекциях я виню лишь себя. Я выбрал неправильную стратегию, которая вела меня сквозь лабиринт подобных друг другу схем, уводя всё дальше от изначальной цели.
Схемы постепенно перестали быть (и даже казаться) живыми. Они утратили ценность, я утратил шансы, я утратил не только свою жизнь, я утратил даже возможность этой жизни, как будто, однажды выпав из системы координат, я оказался в пустоте.
Я заполнял пустоту декорациями, вырезал выдумки из картона, я тратил слова на декорации, грел свои холодные руки над нарисованным костром и глядел в нарисованное небо, так искренне удивляясь, почему с него не упало ни одной звезды. Я перестал верить в звезды, в смысл вопроса «почему?», в целесообразность вопроса «зачем?». Я разучился спать и часто по ночам я ловлю себя на том, что обнимаю руками воздух, мечтая о смыслах.
Вскоре ночи исчезли вовсе, вместо них я жил в бесконечно сером предрассветном небе, я забыл, как выглядит черный цвет.
Я рисовал новые декорации. Я ловил руками новый воздух. Я перемещался из проекции в проекцию. Я не верил в неупущенное время. Я не верил в ту настоящую жизнь, которую раньше чувствовал время от времени. Когда-то я ещё чувствовал, что существую.
Но море мельчало. Мое некогда безбрежное море тонуло в песке. Моё море тонуло в проекциях и схемах. Сила покидала волны, они всё реже омывали прибрежные камни, а я, стоя на пороге своего картонного дома, смотрел, как умирает моё море. Моя последняя надежда. Моя первая и моя последняя вера. Я смотрел и думал о том, что морю ничего не стоит навсегда смыть все мои глупые декорации, моему всесильному морю ничего не стоит спасти меня, пусть даже позволив мне при этом утонуть. Только память может меня спасти, лишь она может вернуть меня к настоящей жизни. Но откуда я мог знать, что моя память не стала такой же декорацией, как и всё вокруг? Я стоял и ждал спасения у моря.
Но море молчало. Оно просто тонуло в песке.
Я просто придумал его – своё море.
Страница 75 Мёртвое море внутри и Белое море снаружи
Осенние дни застали меня на холодных берегах Белого моря. Я оказался в ветреном прибрежном городке, где жизнь текла размеренно и плавно, как морские волны плывут друг за другом в светлый погожий день, как мирно умолкают во время штиля. Я был спокоен, я был нем, я слушал шум воды.
Это был один из тех городов, которые никогда не появляются в сводках телевизионных новостей, о которых не пишут газеты. Я знал, это только мой обман зрения, мне только казалось – что там не убивают людей, что не полыхают пожары, что волны не угрожают людям девятым валом. Но тогда мне было приятно обмануться – и я позволил себе это.
Белое море бросало волны к моим ногам. Я с упоением вглядывался в его пустой горизонт и смотрел на оживленные стайки голубей, которые были повсюду – то резко и шумно взлетали, то сидели на белом песке вокруг меня. Ветер запутался в моих волосах. Солнце повисло над морем, ещё слишком далеко от линии горизонта, чтобы обещать близкий закат, который алым покрывалом качался бы на этих безмятежных волнах.
Прохладный ветер купался в морских волнах, мои мысли утопали в них, обретая долгожданное спасение. Волны Белого моря шумели в согласии с солёными водами Мёртвого моря внутри меня. Чайкам, что кричали над водами Белого моря, вторили чёрные птицы с мёртвых берегов. Повинуясь неосознанному порыву, я зашел в воду. Руки, опьяненные ледяной водой, медленно немели от холода, с приятной настойчивостью посягая на воспоминание о падении на камни. Я видел, как вдали, по берегу, прогуливается тучная женщина в чёрной шляпе. Песок нежно захватывал пальцы ног. Ветер летел в лицо. Меня окружал обезоруживающе-мягкий холод.
Я думал о дурманящей жаре южных пляжей, где в эту самую секунду бродят тысячи людей, отыскивая для себя раскаленный квадрат песка, кое-как пробираясь между голыми телами, покрытыми каплями пота. На северном пляже, где очутился я, не было ни души, если не замечать гуляющих вдалеке, – а как легко было их не замечать! Невыносимо легко. На пляже стояла только одинокая желтая лавочка, на ней я примостился с самого края, повсюду летали голуби. Всеми органами чувств я впитывал в себя упоительное, северное одиночество, радующееся ветру, – отнюдь не счастью, – потому что и счастье – всего лишь ветер.
Вечное счастье возможно только в мелодрамах, но и там это лишь короткая видимость финальной сцены. Зрителей всегда обманывают. Им дают выплакать целое море радостных слёз и покинуть кинотеатр с приятным чувством, что всё в мире заканчивается поцелуем. Всё самое важное происходит в тот момент, когда в фильме пускают последние титры. За кадром.
Я не верил, что всё в мире заканчивается поцелуем и быть может, поэтому смутно не желал возвращаться назад, в ту жизнь, которую я теперь называл своим прошлым, и безрезультатно гнал прочь из памяти. Я не верил в счастливые встречи, как не верил в финал мелодрамы, я убеждал себя в том, что вовсе не хочу этих встреч, объятий, миллиона вопросов, – это всё чепуха, только видимость, сантименты. Однако чувствовал, что я буду вовсе не рад, если, вернувшись, не увижу ни одного знакомого лица, которое улыбнется нашей встрече и спросит: «Где ты пропадал всё это время?».
Я боялся, что я вернусь – и ничего не произойдет, и даже воздух останется неподвижным. Я боялся, что никто не задаст мне этого злосчастного вопроса. Я боялся, что какая-нибудь неверная деталь разрушит совершенный образ прошлого, созданный памятью и фантазией, но нарисованный поверх подлинного холста. Так нервный художник, отчаявшись создать шедевр, злыми широкими мазками зачеркивает гениальное полотно, а его догадливые потомки осторожно соскабливают верхний слой, пробиваются к правде сквозь разрушительную эмоцию творца…
Я боялся, что всё изменилось – я был уверен – что всё изменилось. Но мне не хотелось болезненного прозрения, внезапного разоблачения всех иллюзий. Нет. Я хотел оставить всё так, как есть. Оставить, как есть. Не дышать на карточный домик, задержать воздух в легких.
Какой жалкий финал. И это я желал жить в вечном беспокойстве, напряжении душевных сил? Но что стоили те мои слова, если я позволяю своим мыслям засыпать над прахом прошлого, томиться в гранитном, надгробном постоянстве памятных дат и жить наедине с собой в вакууме придуманных смыслов? Я не сделал ни шага в прошлое, не сделал ни шага в будущее. Я просто обязан был шагнуть, но медлил, как обычно, не решаясь изменить свою жизнь. Не решаясь прозреть.
Воображаемые льды затерянного вдали противоположного берега звали меня пуститься вплавь подобно бесстрашному кораблю, который умеет пересекать реки, промерзшие до дна. Ветер порой приносил с собой легкие, почти невидимые снежинки, но я не мог поверить в этот холод, как не могу поверить в то, что все птицы, летящие на юг, достигают своей инстинктивной цели.
Наблюдая, как по вечернему небу, обгоняя облака, летят самолеты, я жалел улетающих на юг и разбивающихся о камни птиц, я плакал о птицах, утопающих в море. Изо всех сил сжимая пальцами тающий в руках осколок памяти, я застыл на грани между решающим шагом и отсутствием любого шага. Минуя секунды, подобно скоростной электричке, я ожидал своей станции, как конечной точки, в которой смог бы остаться навечно, если бы только захотел. Наблюдая, как по вечернему небу летят самолеты, я хотел бы сделать десять шагов назад, но поскольку шаги назад лежат за пределами достижимого, я только застыл на грани между возвращением и его невозможностью. А самолеты всё обгоняли и обгоняли облака, подтверждая вечное повторение.
Каждую секунду я повторял сам себя. Я повторял из года в год, изо дня в день, из страницы в страницу. Я повторял себя из вопроса в вопрос и упрекал себя в беспомощности перед мысленными ответами.
Я надолго остался в этом прибрежном городке, который возвращал к жизни мои мысли, заставляя смотреть на море, чувствовать ветреный день, пронизанный криками чаек и жизнью, которую я хотел себе вернуть. Где-то в подсознании созревало закономерное решение. Сознательно я утопал в холодном покое размеренных волн.
Страница 76 Говори
Здесь начал рушиться мой замок из слоновой кости – мои иллюзии – обреченные стать пылью под свежим морским бризом. Я всегда думал, что запоминается лишь то, что важно. Но однажды я гулял по пляжу, и мне навстречу шла женщина. У неё были иссиня черные глаза, от взгляда которых становилось не по себе. В этот день я понял, что помнить можно всё, что угодно.
«Сегодня тёплый ветер» – сказала она, не дойдя до меня двух шагов. Я сказал: «Да, я люблю тёплый ветер». «Ещё вы любите сидеть на берегу моря» – произнесла она с улыбкой на губах. Мне стало не по себе от ночи в её глазах, но я отбросил прочь это ощущение и спросил, откуда она знает о том, что и это я тоже люблю. Она сказала, что видела меня здесь четыре дня назад, когда был роскошный алый закат и полное безветрие.
Я вспомнил тот вечер, я сидел рядом с желтой лавочкой и перебирал руками песок. Я помнил многое из того, о чем я думал. Но ужасней всего было то, что я помнил эту женщину. Она прошла справа от меня, как будто нарочно пересекая по диагонали мысленно нарисованный на песке квадрат. Я помнил даже ничем не примечательное её серое платье и вьющиеся волосы, выбивающиеся из-под платка, края которого, спадая вдоль плеч, развевались от ветра её быстрых движений. Я едва взглянул на неё, я не заметил в ней ничего особенного, но, черт возьми, я это помнил. Мне незачем было это запоминать, это не имело значения, но всё-таки я запомнил. Было ли это случайное ничем не мотивированное запоминание или просто злая шутка памяти, но всё во мне перевернулось. Что стоили воспоминания, которые я хранил до этого, как бесценный клад прожитого? Они ничего не значат, оскорбленные этим крохотным бессмысленным фрагментом памяти.
«Я тоже видел вас», – не скрывая обреченности в голосе, произнес я и заметил, что ночь в её глазах больше не вызывает во мне страха.
Она удивилась обреченности в моем голосе. Мне пришлось объяснить ей свою интонацию, хотя я прекрасно знал, что ничего ей не должен.
Она сказала: «Это всего лишь случайность». Я сказал: «Это всего лишь крах иллюзий». Она сказала: «Что за чушь?» и громко рассмеялась. Я сказал, насколько мог мягко: «Всё это вас не касается». Её лицо стало серьезным, словно я внезапно открыл ей суть вещей. Я рассмеялся, потому что знал, что сказал всего лишь грубость. Она обиженно глядела на меня исподлобья, будто я смеялся над ней.
Я подумал, что настало время узнать её имя. Я спросил: «Как вас зовут?». Она ответила: «Зови меня Когда-нибудь». Я изобразил на своем лице вопросительный знак и ждал ответа. «Или просто никогда» – добавила она, манерно закатив глаза, и улыбнулась странной улыбкой, которой я действительно больше никогда не видел. Её улыбка была как четвертый угол треугольника.
Мы сели на желтую лавочку, где я до сих пор всегда сидел один. Первые несколько минут я чувствовал, как она нарушает пространство моего одиночества, но потом я смирился с этим, потому что знал, что эта лавочка свяжет нас лишь на несколько минут. Или часов. Какая разница?
Как истинная женщина, она рассказывала мне о своих мужчинах. Их было так много, что я быстро сбился со счета и стал просто слушать, качаясь на волнах её мягкого, негромкого голоса. Она совсем их не любила, и меня это огорчало. Ночь в её глазах говорила мне, что это неправда, и из беспричинной любознательности я вопрошал её о чувствах, которых, быть может, сам никогда не испытывал. Я привык быть взыскательным слушателем, а взыскательного слушателя интересует только правда.
Вскоре я понял, что море её памяти высохло в пустыне утраченных возможностей. Я заметил на запястье её правой руки небольшую татуировку: ГОВОРИ. Сначала мне показалось невежливым спрашивать об этом, но, вспомнив свою недавнюю грубость, я решил, что терять мне нечего. К тому же, если бы она скрывала свои смыслы, то держала бы их в голове, а не на запястье. Я спросил её, и она начала говорить.
Она рассказала мне об утраченных возможностях.
Они знали друг друга всю жизнь и не перемолвились ни словом. Ещё ребенком она выходила во двор и видела там его играющим с друзьями в мяч на небольшой расчерченной мелом площадке. Она смотрела на него и проходила мимо. Мимо его черных волос, чуть смуглой кожи, серьезных карих глаз. Так случалось каждый день. Она не знала, смотрел ли он на неё, но всегда замечала его присутствие, хотя не помнит ни одного из его друзей. А потом он пропал. Лишь спустя несколько лет она узнала, что он живет в другом городе. Но он вернулся. Каждый раз, выходя в подъезд, она неосмысленно ждала встречи.
– Это было нисколько не романтическое ожидание, нет, – продолжала она немного смущенно, но я видел, что ей стало легче, – Мне просто хотелось взглянуть на него, словно он был моим старым добрым другом, который должен был вот-вот вернуться в мои распростертые объятия.
Я бы сказал – нераспростертые необъятия. Ведь кроме взглядов между ними ничего не было. Они встретились. Она заметила чёрный узор татуировок, которые словно идеально подходили к его по-прежнему смуглой коже. Она улыбнулась этой встрече только когда они, как прежде, прошли мимо друг друга, и он оказался за её спиной. Эти мимолетные моменты, по странной неслучайности, вплелись в неверную реальности ткань памяти, словно несли с собой что-то, не оцененное по достоинству в мыслях, но бесценное где-то вдали, на неосмысленных горизонтах. Когда он вернулся, ей впервые захотелось спросить его обо всем. Вернее, о чем угодно. Миллион вопросов, которые никогда не будут заданы. Одним жарким июльским днем его тело с многочисленными ножевыми ранениями нашли на обыкновенном городском асфальте, который спустя пару часов затоптали пыльные подошвы, лишенные души вплоть до теплого мяса, покоящегося внутри ботинок.
Ему было 25 лет. И больше ему никогда не будет. И ни одного вопроса больше не будет задано, как не был задан ни один. И сколько ни будет она вглядываться в темноту пропахшего никотином подъезда, пробираясь по грязным от её и его выкуренных сигарет лестницам, никогда больше он не пройдет мимо, не сказав ни слова.
ГОВОРИ.
Страница 77 Одна секунда и всё остальное время
Пасмурным осенним днём, совершенно серым от туч и совершенно жёлтым от листьев я медленно шел по чужому тротуару, вглядываясь в чужую улицу, чтобы после заполнить ею пустоты памяти о сегодняшнем дне.
Ветер то и дело взрывал охапки солнечно-жёлтых листьев, они испуганно метались в воздухе и вновь падали на асфальт. На секунду мне показалось, что вокруг не было ничего кроме неба, ветра и листьев. Но спустя секунду я увидел чуждые мне лица, в которых я не видел различий, размокшую замшу ботинок, у которых отклеилась подошва, открывая путь мутным ручьям, извилистым лабиринтом покрывших асфальт. Увидел машины, и мокрые дома, увидел свои замерзшие руки и расстегнутую пуговицу на сером пальто. Застегивая пуговицу и нащупывая в кармане сумки перчатки, я размышлял о секундах.
На секунду мне показалось, что вокруг не было ничего, кроме неба, ветра и листьев, но потом я увидел понурые лица и грязные ботинки. На секунду мне показалось, что я должен быть сейчас рядом с мамой, но я сказал «ладно, пока» и уехал из города. На секунду мне показалось, что я люблю Анну как прежде, но время истекло и напомнило о себе. На секунду мне показалось, что мне стоит вернуться обратно, но в следующую секунду я смеялся над собой за подобные мысли. На секунду мне показалось, что Алла не умерла. До поднятых к дождливому небу усталых глаз, до замерзших рук, так и не нашедших перчаток, до застрявшего внутри отчаянного крика и до обреченного молчания мне хотелось бы знать, что вернее – эти несколько секунд или всё остальное время?
Я запрыгнул в старый автобус, до краев наполненный чьими-то лицами, одеждой, телами, и думал о том, насколько эквивалентны друг другу все эти ноги, руки, куртки. Ныряя в этот автобус, я думал только о себе. Я знал: стоит мне выйти из него, и пустующее место займет следующий пассажир. Тот, кто находится ближе. Вот и всё. Выходить из чьей-то жизни всё равно, что из автобуса. Мне скоро выходить. Меня тоже выбросят из головы. Мне наплевать. Я даже рад этому.
Выныривая из автобуса, я думал только о себе. Неужели это я? Это я ненавидел людей, которые курят и ходят в рваных ботинках? Это я измерял расстояние от дома до школы в шагах, и каждый раз сбивался, встречая по пути одноклассников? Это я пригласил свою первую девушку на свой первый танец на школьной дискотеке? Это я любил смотреть, как догорают свечи и запах – этот теплый запах – жженой бумаги?
Я не верю, что всё это было со мной, я не верю, что этого со мной не было. Я только знаю, что каждую секунду теряю обрывки прожитых дней, встреч, изжитых мыслей. Чёрная дыра моих воспоминаний жадно пожирает их детали и смыслы, выплевывая в тарелку памяти обглоданный скелет обессмысленных фактов. Я был счастлив, я был в отчаянии. Но всё прошло, и теперь уже неважно, улыбался ли я в свой первый день рождения, обжигался ли я воском, когда смотрел на догорающие свечи, какого цвета были глаза у моей первой девушки, как называлась песня, под которую мы танцевали, и что было написано на том вожделенном листе бумаги, который я яростно поджигал неверной, готовой потухнуть спичкой. Всё неважно – всё прошло.
Важна только эта, стынущая на сквозняке времени жалкая секундочка, когда я чиркнул спичкой и поджег очередную сигарету, а проезжающая мимо машина забрызгала жидкой грязью мои бежевые джинсы. Можно было бы подождать секунды менее жалкой, но сколько для этого придется сжечь спичек и сколько раз поймать брызги из-под колес? Я не вел счета секундам, потому что это было гораздо сложнее, чем считать число шагов от дома до школы. Я выбросил сигарету, и на неё тут же наступила чья-то торопливая нога. Я выбросил себя из головы и зашагал прочь.
Страница 78 Семнадцать тридцать и Ничто
На улице темнело. Я не знал, куда направиться, и поэтому бессмысленно шёл по обочине проезжей части. Дорога сужалась, фонари гасли на моем пути всё чаще, машины обгоняли меня всё реже, – как всегда, я инстинктивно нашел ту часть города, где почти не обитают люди.
– Сколько времени?
Этот вопрос прозвучал, как приговор, в тишине безлюдного, почти не освещенного переулка, куда я забрел, бесцельно блуждая по окраине города. Вопрос задала странно одетая старушка с потускневшим от времени лицом и блестящими на нём глазами, словно только с них каждый день тщательно стирали пыль.
– Не знаю, – честно ответил я. Мои часы показывали 9:28 в любое время, а телефон почти всегда был выключен.
– У вас что, нет часов?
– Есть. – Ответил я вновь честно, хотя мне ничего не стоило соврать, чтобы поскорее пойти своей дорогой. Но я не знал, куда ведет мой безлюдный путь, не знал даже, что меня ждет в конце этого переулка, к чему было торопиться?
– Тогда скажите, сколько времени.– Оглушила тишину спокойная, но настойчивая просьба.
– На моих часах время остановилось.– Тихо объяснил я. Я боялся говорить громко в этом безмолвии, которое окружало нас, высвечивая единственным горящим фонарем двух случайных собеседников, словно совершающих своими голосами преступление против тишины.
– На моих тоже. – Ответила она.
– В таком случае, что вам до чужого времени?
Она ничего не ответила, словно обдумывала мои слова.
– По моим часам сейчас двадцать один двадцать восемь. – Поделился я, не желая уходить в темноту из-под единственного в переулке фонаря.
– Сейчас семнадцать тридцать. – Неожиданно громко возразила старуха, и тишина отхлынула. – Поезд прибывает в семнадцать тридцать.
Затем вдруг отвернулась к стене дома, словно забыла обо мне. Она действительно забыла. Обратившись неподвижным взглядом к старым потрескавшимся кирпичам и присев на траву, она что-то невнятно говорила, я смог разобрать лишь несколько слов.
– Семнадцать тридцать. … Знаю, ты устал с дороги, я успею… встречу тебя по пути. Я приготовила тебе черничный пирог… Поезд прибывает в семнадцать тридцать. Где же вокзал? Где стук вагонов? Я уже вижу твои холодные глаза, вижу улыбку. Я ждала тебя столько … Ты улыбаешься мне… Надо торопиться… Семнадцать тридцать… Я ещё успею…
Мне стало не по себе, почти жутко. Я зашагал прочь, но не мог не думать про свою собеседницу. Несмотря на всё увиденное и услышанное, я не мог признать её сумасшедшей. Просто её время остановилось, также как и моё. Но ей эта остановка причинила боль, вызвала замыкание душевных сил. Я не мог справиться с утекающим сквозь меня потоком минут. Она же – не могла покинуть единственную минуту, в которой жила. Что случилось с этим человеком? Сколько лет, и с какого поезда она дожидалась его на воображаемом вокзале? Я догадывался, что все годы, которые она прожила, для неё равны одной минуте. Все остальное стало Ничем. Всё время было Ничем. Кроме единственной минуты. Семнадцать тридцать.
Переулок вел меня извилистым путем, дорога постоянно распадалась на узкие тропинки, выбирая одну из них, я сновал между старыми, почти нежилыми домами, многие из которых являли собой обуглившиеся останки пожара. Лишь изредка я видел окна, в которых был зажжен свет, то и дело лаяли собаки, остерегаясь моих шагов. Я вообразил себя затерянным странником, блуждающим впотьмах по лабиринтам времени в поисках выхода. В конце переулка я нашёл лишь тупик, и мне пришлось повернуть обратно.
Навстречу мне снова шла та самая старушка. Она шла медленно, неуверенно, абстрактно – как человек, который не знает, куда идет, но стоять не в силах. Поравнявшись со мной, она посмотрела мне в лицо своими блестящими глазами, вероятно уже забыв о нашей недавней встрече под фонарем. Мне стало жутко от этого взгляда, словно из его глубин сама смерть смотрела на меня, но на меня смотрела вовсе не смерть, даже наоборот – воплощенная во взгляде идея, фанатизм слепо верующего, уверенность в незыблемости секунды.
– Сколько времени? – Спросила она.
– Семнадцать тридцать. – Ответил я и, не останавливаясь, прошёл мимо неё, глядя под ноги.
Неуверенно озираясь по сторонам, я вскоре покинул переулок и зашел в первое попавшееся кафе, чтобы на время утонуть в громкой музыке, чужих разговорах и кружке горячего чая.
Страница 79 Хватит
Ещё одна чужая жизнь смутно легла на мои плечи. Я очень устал. Мои воспоминания были морем, которое медленно утекало прочь. Под тяжестью воды я не мог дышать, и я сбежал от прошлого, чтобы вынырнуть на поверхность и поймать ртом глоток воздуха. И вот я вынырнул, и сделал безуспешный, жадный вдох, оказавшись в безвоздушном пространстве. Море отхлынуло, я стоял на его обнаженном дне и гладил руками тяжелые камни, и смотрел на небо, которое было пустым, как вся моя жизнь.
Море, вернись. Однажды в летней беседке, полной ажурного света, проникающего сквозь ветви деревьев, я говорил с мужчиной. На нём были домашние тапки, кожа была похожа на измятый лист бумаги, а в правой руке была бутылка водки. Неопрятные пепельные волосы неровными прядями спадали на лоб. У меня в руках была книга, которую я только что купил, и ветер шелестел нетронутыми ещё страницами, как зелёными листьями. Внутри у нас была совсем иная погода.
– Уже давно я не вижу во всем этом смысла, – говорил мужчина и пил большими глотками прямо из бутылки.
Я хотел вернуть ему желание жить, но не мог. Слишком мало этого желания тогда было во мне самом. Оно жило внутри только инстинктом самосохранения, но никаким смыслом не наполнялось. Я никогда не мечтал о смерти. Но и о жизни я тоже не мечтал. Всё это происходило со мной помимо моей воли. Моя воля выразилась лишь в бегстве, – слепом порыве унестись прочь.
Чем я мог ему помочь? Я только слушал его, глядел на его водянистые, бесцветно голубые глаза, хмурые брови, глубокие морщины вокруг поджатых, старческих губ. Он говорил, что все молчащие со временем становятся немыми, и я думал, и я пугался своей собственной немоты.
– Мой отец пропал без вести на войне. Я помню только один эпизод, – когда он выходит из дома, хочет обнять меня, но я убегаю и прячусь за широкой дверью. Мне было страшно его терять – но я потерял, и он ушел, так и не попрощавшись со мной. Больше я его никогда не видел.
Я не знал, что ответить, слова не сопрягались друг с другом, зыбучими песками утекали мысли. Вскоре я ушел, сказав, что опаздываю, хотя никуда не торопился. Он оставил мне свой номер телефона, написав его моей ручкой на пачке из-под сигарет. Я взял его, но заранее знал, что не позвоню. Тридцать восемь, десять, шестьдесят семь, – прочитал я и выбросил пачку в мусорный бак за углом. Но эти шесть цифр странным образом остались в памяти.
Теперь на улице осень, и с неба не упало ни капли дождя, и птицы кричали пронзительно и тонко, и во всех домах зажигались окна, как будто назло всем войнам мира, своим светом утверждая жизнь.
Я был не прав. Из моей жизни уходили люди, а я спокойно смотрел на их исчезновение, словно никогда их не знал. Ушёл Тимур, Алла молчала, Анна покоилась на дне воспоминаний, родители жили в разных городах, которые я всё это время объезжал стороной, я забывал первых встречных, словно они были вовсе не людьми, а только картонными декорациями, умело расставленными на моём пути невидимым режиссером. Я молчал им вслед, словно никогда их не знал. Все они покидали меня, я уезжал от них прочь на скорых поездах. Мы всегда шли в разные стороны, а я не замечал и думал, что нам всегда по пути, что они всегда будут в моей жизни, подобно бронзовым статуям и остановившимся часам.
Эти люди оставили во мне неизгладимый след своего присутствия. Простым пожатием руки, немым присутствием, звуком голоса, касанием плеч они заставляли меня воскреснуть для жизни, я грелся у огня их слов, они умели заставить меня говорить, когда я не мог извлечь из глубин себя ни звука. Да, они умели разбудить меня, извлечь из губительной глубины мысли, они верили в меня больше, чем я сам, – даже если не всегда хорошо понимали, в кого они верят. Но теперь они уходят, одним широким шагом переступая горизонт, а я только молча протягиваю руки им вслед.
Внезапно, как откровение о жизни, я ощутил боль, но на этот раз меня ранили не секунды. Время только неслось вперед, как подводные течения, не оставляющие следов на поверхности воды. Сознание собственных ошибок взрывалось внутри запоздалой, мощной гранатой.
Тридцать восемь, десять, шестьдесят семь. Номер, по которому я никогда не позвоню. Довольно. Я набрал знакомые цифры и услышал только длинные гудки. Я произнес про себя эти шесть цифр, мысленно проверяя, не ошибся ли, и вновь набрал знакомые цифры, но услышал только длинные гудки. И зашумело время, с рокотом прокатилось по миру, и безжалостные секунды толкнули меня в спину, заставляя смотреть в лицо всему, что произойдет позже.
Что мне предстоит утратить ещё?
Скольких живых людей я безвозвратно потерял?
Сколько их умерло на моих глазах? Сколько – ещё умрет?
Сколько смертей я придумал, спасаясь от настоящего?
Я был в городах, где не умирают от голода истерзанные жизнью дети, где не летают над головами снаряды, где не бушуют цунами, наводнения не смывают улицы, где не извергаются вулканы и прохожие не погибают в перестрелках. В этих спокойных городах просто живут люди, у которых есть память – и время, чтобы помнить. Этого достаточно, чтобы быть счастливым или быть несчастным.
Но кто рассказывает о счастье? Разве хотелось кому-нибудь сбросить с себя груз самых лучших дней своей жизни? О счастье чаще всего молчат, а если говорят, то не более минуты. Почему счастье можно уместить в одну минуту, а об отчаянии можно рассказывать часами? Мне никогда не рассказывали о счастье, я забыл, что это такое, но всегда есть шанс вспомнить забытое.
Я устал убегать – бегство утратило смысл – я жил только памятью о прошлом, которое незаметно, но неизбежно утрачивал. День за днем… Но жизнь не менялась. Я только острее ощутил отчужденность от всего мира, от каждого человека, вихрь времени уносил меня всё дальше, как ураган уносит в неизвестность вырванное с корнями дерево. И только часы в моем кармане невозмутимо отрицали время.
К моим воспоминаниям присоединились открытые раны чужих жизней. Жизней, которые я мысленно проживал, чтобы их обладатели могли сделать шаг вперед. Я был примерным слушателем и запоминал каждую деталь, хранил чужое прошлое в себе, как мужчина в шумном городе хранит у себя в комнате оставленные книги.
Что тяжелее?
Сколько книг я прочитал за свою жизнь? Сколько будет километров, если вытянуть всё прочитанное в одну строку? Сколько книг получится, если записать на бумаге все чужие жизни, о которых я узнал? Насколько они будут тяжелее или легче того, что я носил в себе?
Не нужно ничего записывать. Всё написанное должно быть сожжено, книги только уносят прочь от реального, как ветер, они заставляют проживать не свою жизнь. Всё написанное должно быть сожжено, так же как воспоминания должны быть достоянием личности, зачем мои попутчики были со мной откровенны? Что за малодушная склонность к откровенности с первым встречным? Ведь для каждого я был первым встречным.
И я – я искал в них спасения!? Чужие воспоминания не спасли меня от моих собственных, они дали мне лишь страх утратить себя между незримыми страницами жизней, которые были прожиты не мной.
Страница 80 То, что должно было случиться
Я знал, что рано или поздно это должно было случиться, – так сменяют друг друга день и ночь, времена года, лунные фазы – невыносимая цикличность бытия. Всё повторяется, даже земля ходит кругами, каждое поколение замыкает новую окружность.
Круг жизни вновь сомкнулся вокруг меня: я должен был оставить свои скитания, должен был вернуться в точку отсчета своего исчезновения и прожить свою жизнь заново, не отворачиваясь от неё и не обращаясь в бегство. Иметь смелость сделать это.
Да, я решил вернуться. Это решение приносило столько же радости, сколько некогда приносило решение сбежать, – возобновляющаяся энергия круга. Это решение оказалось столь естественным и простым выходом, но на самом деле только новым побегом – из жизни беглеца. Абсурд.
Приняв абсурд ещё раз, я решил поставить точку в своем путешествии, посетив ещё один город. Последний город. Сколько безвозвратности в этом слове – последний, – которое влечет за собой нечто новое – или ничто. Но я не хотел думать о безвозвратности.
Мне хотелось прочувствовать близость возвращения. Что именно я буду ощущать, когда вернусь? Будет ли это волнение? Страх? Счастье? Радость? Легкость? Смятение? Разочарование? Или я вовсе ничего не почувствую?
Последний город был сер и прост. Низкие дома, пробоины в сером асфальте, желтеющие на обочинах кусты. Город был совершенно обыкновенным. Но мне было уютно, изломанная перспектива разновеликих домов казалась мне идеальной пропорцией. Или гармония впервые появилась во мне? Впрочем, да. Мои глаза смотрят внутрь, – всё, что я вижу снаружи, только продолжение внутреннего мира. По улицам города ходили дружелюбные, спокойные люди. Я не мог обращать на них внимание, все мысли мои были уже там, куда звали меня воспоминания. Куда звала память сердца.
Я говорил только с одним человеком, у которого мне пришлось спросить время, чтобы успеть на пригородную электричку. Он сидел на лавке и читал газету, в которой не было цветных фотографий. Кроме него в парке никого не было.
– Извините, вы не подскажете время?
Мужчина не реагировал. Я повторил свой вопрос. Но он вновь ничего не ответил. Я подошел к нему ближе. Он поднял голову и взглядом спросил, что мне нужно. После он дотронулся рукой до своих ушей и покачал головой. Глухой. Я дотронулся указательным пальцем до внешней стороны запястья. Он приподнял край рукава на левой руке, и я увидел, что на нём нет часов. Я улыбнулся и, кивнув, пошел дальше, радуясь так, словно ни один житель этого уютного города не вел счета времени.
Ночью я не мог заснуть и до рассвета ворочался на кровати, которая казалась мне недостаточно удобной и широкой. Я думал о доме, из окон которого виднелись крыши моего города. Моего города. Я почувствовал гордость – за то, что такой город у меня есть. Не потерял ли я ключи от квартиры, – я проверил внутренний карман рюкзака, – нет, на месте.
Едва первые лучи перешагнули черту горизонта, я вышел на улицу. Влажно пахло осенними листьями, хотя они ещё только начинали слетать с ветвей. Я шел, не разбирая дороги в хаосе шагов, я давно сбился с выбранной тропинки, ещё не испытанное ранее предчувствие близкого счастья наполняло меня. Счастье казалось таким простым, казалось, оно будет стоить мне только нескольких уверенных шагов: стоит лишь решиться на них, и я увижу впереди причудливый орнамент крыш родного города. Но то, что я увидел, на несколько мгновений заслонило собой всё остальное. Ветви деревьев распахнулись передо мной с тихим шепотом листьев и открыли для моих глаз то, что я мечтал увидеть за каждым поворотом своей жизни.
Я прошел сквозь узкую кайму дружелюбной рощи, которая не хлестала по лицу прутьями, а только шелестела, напевала, шептала. Слепящие, но не дающие тепла, лучи восходящего солнца, разлились по моему лицу, когда я миновал деревья. Перед моими глазами воплотился сон Аллы, ставший моей мечтой.
В солнечную даль тянулись чёрные колючие стебли, увенчанные пушистыми сиреневыми цветами. Легкий ветер подул мне в лицо со стороны рассвета, прозрачные потоки света мягко скользили по поверхности поля, падая на каждый цветок матовыми бликами. Я прислонился к теплому шероховатому стволу сосны и созерцал, беззвучно смеясь от внезапного восторга. В этот момент мне показалось, что я никогда в своей жизни не видел ничего прекраснее. Что-то встрепенулось во мне, я почувствовал, что ожил, жизнь струилась внутри меня, пронизывала насквозь, устремившись по венам, к сердцу.
По левой руке пробежал муравей, скользнув в ложбинку между пальцами. Чертополоховое поле раскинулось передо мной столь неожиданно, словно сон метко посягнул на реальность, решив внезапно завладеть её просторами. Но я знал, что это должно было случиться. В глубине себя я знал. Я не мог не найти это место, как не мог не встретить Аллу, не мог не уехать и не мог не вернуться обратно. Я не мог не сказать Алле, что меня зовут Альберт, я не мог не обмануть Анну, я не мог не поцеловать между пальцев девушку под дождем. Я не мог не измениться. Все мои случайности сомкнулись в судьбу и привели меня в поле из Аллиных снов. Да, на несколько секунд я вспомнил, что такое счастье.
Но как мог я войти в поле один? Я представил себе Аллу. Её светлое лицо и зеленые глаза, в которых сейчас отразился бы рассвет, как в маленькой вселенной. Блики пробегали бы по её волосам, волосы колебались бы на ветру, чуть заметно, нежно, ласково. Я бы держал её мягкую руку в своей потеплевшей руке, ни слова не прозвучало бы в этом утреннем безмолвии, которое нарушал только шелест листьев и тихие, осторожные голоса птиц. Мы бы вошли вместе вглубь чертополоховых дебрей, не обращая внимания на колючки и не задумываясь о том, что ждет нас впереди, когда мы окажемся на противоположной стороне нашего общего сна, заросшего чертополохом и залитого солнцем. Мы бы слушали жужжанье пчел и шмелей. Мы бы придумали новые сны.
Но рядом со мной никого не было, даже тень моя затерялась где-то в траве. Аллины мечты сбывались на моих глазах, но я был один, совсем один, что мне оставалось делать? Я повернулся спиной к рассвету и быстрым шагом направился к дому, чтобы собрать чемодан и уехать прочь, ибо мне нечего было больше здесь искать. Мне нужно было вновь найти себя в своём прошлом. Я был переполнен прошлым, и потому не мог позволить ему безвозвратно пропасть, я был переполнен решимостью всё вернуть.
Я был уверен, как никогда. Впервые за много дней я твёрдо знал, что делать.
Страница 81 Снова она
Я шел к вокзалу легкой, уверенной походкой победителя, – с пустым рюкзаком, из которого выбросил все вещи, кроме кошелька, документов и ключей. Люди вокруг казались мне счастливыми, я сладко предвкушал возвращение.
Вдруг я увидел знакомые черты лица, так не похожего на другие лица. На этом лице улыбались тёмно-зелёные глаза с серыми прожилками, совсем как у Аллы, ресницы казались особенно черными на фоне чересчур свеьлой кожи, небольшой нос, огненные волосы, торчащие в разные стороны.
– Августа? – произнес я с вопросительной неуверенностью, ещё не успев до конца оценить вероятность подобного совпадения.
– Я тебя помню! – улыбаясь, ответила Августа. Она оглядела меня с ног до головы демонстративно оценивающим взглядом, – Да ты совсем не изменился. Где успел пальто разорвать?
Я механически ощупал пальцами небольшую дыру на правом боку. Она разговаривала со мной, будто со старым знакомым. Впрочем, так и было.
– Как же так! Мы снова встретились. – Растерянно произносил я, всё ещё раздумывая над вероятностями.
Она рассмеялась.
– Да посмотри на меня!
Я посмотрел и тоже улыбнулся. Внутри потеплело. Мне хотелось рассказать ей о своей радости. Но я не знал, как начать. Она снова начала говорить.
– Это мой родной город, я здесь живу.
– Но ты вышла на другой станции в том году.
– Я ездила к родственникам. Разве я не говорила?
– Нет. У тебя в городе есть чертополоховое поле.
– Я знаю. Скоро он отцветет.
– Но сейчас там волшебно.
– Это похоже на тебя. – Заметила она, словно знала меня очень давно, – Было бы странно, если бы это одинокое и злое растение не вызвало у тебя симпатии. До него нельзя дотронуться, не оцарапав пальцев.
Я не нашел ответа.
– Знаешь, я решил вернуться.
– Неужели? – она вновь оглядела меня с ног до головы. – Хочешь, я провожу тебя до вокзала?
– Пойдем, до поезда ещё час.
Улицы блистали солнечной перспективой. Теплые тени ложились на дорогу. Августа взяла меня под руку. Я чувствовал легкость.
– Я долго злился на тебя из-за часов. Кто тебя просил?
– Перестань, я хотела тебе помочь. Ты что, вытащил батарейку?
– Ну, разумеется. Но она при мне. Хочешь, верну?
– Нет. Скажи всё-таки, ты правда готов вернуться? – меня чуть испугали её внимательные глаза.
– Что значит готов? Я хочу вернуться. Во мне многое изменилось.
– Зачем ты возвращаешься?
– Вернуть себе свою жизнь.
– Ты не изменился. Думаешь, она тебя там дожидается, эта «твоя жизнь»? – она улыбалась, но улыбка была лишь прикрытием для серьезного тона.
– Откуда тебе знать, изменился я или нет?
– Если бы ты изменился, говорил бы разумней. Нужно быть готовым, что всё стало другим. Что ты вернешься не к прежней жизни, а только в начало координат. Ты думаешь, что за этот год стал мыслить более здраво? Тебе просто надоело жить без дела, без дома.
– Я думаю не так. Быть может, я действительно устал от бездомной и безлюдной жизни. Но я чувствую, что моё место там.
– Логично. Там все твои воспоминания. Ты ценишь их теперь превыше всего.
– Там все мои люди.
– Что ж, я надеюсь, они ещё не забыли, кто ты такой.
Она беспокойно глянула на меня, испугавшись, что задела. Я удивленно посмотрел на неё. Мы расхохотались.
Мы шли мимо постриженных тополей, по аллее, которая вела к привокзальной площади. Ни одного листа не упало под ноги. Ветви убаюкало солнечное безветрие.
– Знаешь, почему я заговорила с тобой в поезде?
– Со мной все заговаривают.
– Нет, Альберт, нет. Ты угадал моё имя.
– Вера?
– Как ты догадался?
– Не знаю. Зачем же ты представилась Августой?
– Мне казалось, что такое точное совпадение к чему-то обязывает. Решила избавить себя от обязательств.
– По-моему, ты избавила от обязательств меня.
Она ничего не ответила. Взглянула на часы.
– Пора на вокзал.
На прощание я пожал ей руку. Её тонкая кисть с длинными белыми пальцами была холоднее моей.
– Удачи тебе.
Поезд тронулся. Я глядел из окна на её растрепанные рыжие волосы, угловатые плечи и вывернутый наизнанку капюшон пальто. «Вера» – произнес я беззвучно, одними губами, и прижал ладонь к прохладному стеклу. Я так ничего и не узнал о ней. Она замахала рукой. Поезд набирал скорость.
Страница 82 Песчаный берег мёртвого моря
Миновал почти год с тех пор, как я выбросил все часы с балкона. Я возвращался в свой город, где снова была осень, как будто она никогда не заканчивалась. Даже погода, казалось, осталась той же. Небо заволокли потяжелевшие серые тучи, обещающие дождь в короткой перспективе времени. Всё затихло в настороженном безветрии, которое словно прислушивалось к себе, терпеливо выжидая момента, чтобы хлынуть на землю ливнем и ураганом.
Я вернулся. Я понял, что мне не остановить время и купил на чужом вокзале свой последний обратный билет. Он ничем не отличался от первого. Я мог бы сбежать от секунд и минут, я мог бы избегать настойчивого шелеста отрывных календарей и хитрых стрелок часов на чужих запястьях, я долго мог бы их не замечать, но тем страшнее было бы заметить все незамеченное время позже. Я захотел вернуться, захотел вернуть дом своим продрогшим мыслям, которые год назад увёз с собой. Год назад я отделил себя от собственной жизни, а теперь хотел соединить нас вновь. Я хотел вернуть в свою жизнь людей, от которых сбежал. Я хотел вернуть в свою жизнь себя.
Последний день в поезде показался мне вечностью. Я чувствовал нетерпение неразумного человека, который хочет получить в одну секунду назад все, что растерял по крупицам за много, слишком много дней. Я не мог сидеть спокойно и не мог думать ни о чем, кроме возвращения. Каждая секунда вмещала в себя вечность. Я постоянно выглядывал в окно в нетерпеливых поисках знакомого пейзажа, который я всё же боялся увидеть, несмотря на то, что больше всего этого хотел. Изменился ли мой город? Я трепетал от мысли, что всё в нём могло выглядеть не так, как прежде. Мне вспомнился мой трепет при мысли, что изменилась Алла. Увижу ли я фонтан на привокзальной площади? Увижу ли дерево в своём дворе? Увижу ли по дороге домой синий надземный переход? Увижу ли я на вокзале хотя бы одно, пусть случайно, но знакомое лицо? Что меня ждет там? И, намного важнее, кто меня ждет?
Я решил вздремнуть, и мне это удалось, уже через полчаса я сбежал от своих вопросов в беспокойные сны. Мне снился огромный циферблат часов, точь-в-точь таких, какие я когда-то носил. Он был тускло чёрным, словно с налетом бледного пепла, словно остывшие угли. Мы с Аллой шагали по кругу, стараясь догнать стрелки часов, но как только мы ускоряли шаг, стрелки начинали бежать быстрее. Числа убегали у нас из-под ног, улетали, как некрасивые серебристые птицы, отлитые из металла. Над головой у нас было прозрачное толстое стекло, с которого серыми хлопьями падала пыль. Сквозь стекло ничего не было видно. Мы не могли остановить свой бег, потому что по сценарию сна мы должны были догнать стрелки, а не они должны были догнать нас. Все кружилось и летело перед глазами, мне было бы безумно страшно, не будь со мной Аллы, которая, не сказав ни слова, схватила меня за руку и увлекла вперед по траектории летящих цифр. Во сне у меня закружилась голова, я почувствовал, что задыхаюсь и испуганно проснулся, больно ударившись головой о потолок над верхней полкой. Голова действительно кружилась. Теперь я хотел сбежать от своих снов.
Я проснулся, и всё закончилось. Исчезли наши теплые руки, исчезли стрелки часов, исчезла Алла. Иллюзии таяли, как сахар в горячем чае из граненого стакана, который я заварил, чтобы согреться. Я помешивал сахар ложкой, и он таял. Иллюзии таяли сами.
Зачем обманывать себя? Никто не нуждался во мне. Никто не беспокоился о том, где я и что со мной происходит, даже мне самому это было безразлично. Зачем я ходил по этим улицам, садился в эти поезда и куда-то ехал, если я не нужен даже себе. Может быть, я сам придумал всех, кого считал близкими, и они только плод моего воображения. Они меня близким не считали, они вовсе не замечали моего отсутствия, моего присутствия, делали вид, что не слышали моих слов и отвечали беззвучием плотно сжатых губ, которое я называл молчанием понимающих друг друга. Опять я об Алле.
В одном купе со мной ехали две женщины, полные, с громкими голосами. Их резвые бесцеремонные дети бегали вокруг, смеялись и плакали, кидали друг в друга игрушки, но меня ничто не могло отвлечь. До слуха доносились обрывки разговоров, которые мгновенно вплетались в мои мысли и тут же терялись среди них.
– Кто будет тебя встречать?
– Ещё не знаю. Сестра хотела приехать с мужем, но их могут не отпустить с работы. Тогда придется вызывать такси.
Меня никто не встретит. Целый год меня не было в городе, но я знал, что всё это время никто не замечал моего отсутствия. Я вернусь, но ничьи глаза не улыбнутся мне навстречу и ничьи руки не обовьются вокруг моей шеи, когда я выйду из вагона. Я уезжал, никем не замеченный и таким же незамеченным вернусь обратно. Придется разыграть перед собой героя-неудачника, всеми оставленного ради чего-то лучшего. Город забыл меня, дождевой водой смыл следы моих ног с асфальта, чужими руками были стерты мои отпечатки пальцев со всех звонков, поручней и перил. Все забыли, как звучит моё имя, произнесенное вслух. Никто не произносил моего имени. Не потому, что оно было священным, нет, оно было просто забытым, начисто выбеленным из памяти.
– Как зовут твоего друга? Я слышала, у него какое-то экзотическое имя.
– Ни за что не угадаешь.
– Говори, не угадаю!
– А ты попробуй.
Дети знали имя и покатывались со смеху, шепча что-то друг другу на ухо.
Никто не знал моего настоящего имени. Никто не знал, что значит думать обо мне. Мне казалось, что с тех самых пор, как меня не стало на городской карте, меня не стало в мыслях всех, кого я знал. Я был погребен в чужих городах, среди чужих глаз и незнакомых голосов, в шуме которых терялся мой собственный голос, никем не узнанный. Я был погребен в чужих головах вместе с прахом воспоминаний обо всем прошедшем и хранился там, как ненужный хлам, который только и ждет того, чтобы оказаться выброшенным окончательно. Меня никто не будет ждать на вокзале, никто, кроме воспоминаний не раскроет для меня объятий. Никто, кроме воспоминаний о том, как когда-то меня здесь ждали, когда-то меня всем сердцем любили, когда-то я был для кого-то самым близким. Тогда мне казалось, что любить и ждать можно вечно, тогда мне казалось, что я заслуживаю того, чтобы меня ждали. Когда это было? Реальность снова била в глаза. Ни в чьей жизни я не занимал важного места, хотя в этом нет ничьей вины, кроме моей собственной.
– Бывает, что нужно встретить человека просто потому, что знаешь, что он ждет.
– Не люблю так. Это же в некотором роде лицемерие. По-моему, лучше сразу соврать, что не можешь, чтобы не изображать радость.
– Да, но…
Я сам скрыл свои мысли под скорлупой ничего не значащих слов, я скрыл всего себя от людей, я даже имя своё от них спрятал, никто не узнал меня до конца, хуже того, никто не узнал меня даже с начала. Меня знал лишь Тимур, но его больше нет. Меня знала Алла, но возможно, что это мне только казалось.
Я порвал свою связь с единственным другом, и уходя, он знал, что меня рядом нет. Я отделил себя от своей семьи, чтобы не придумывать смерть мамы. Я ушёл из жизни Анны, потому что не хотел приобрести привычку к непониманию, которую уже приобрел. Я придумал смерть Аллы, потому что боялся, что между нами умерла близость. Всем остальным людям я не придавал значения, я только хранил в себе их истории, как прочитанные книги, которые не стоит перечитывать вновь. Что делать мне теперь, когда я приеду, куда прятать глаза, чтобы оставить себе возможность думать, будто меня ждали, а я не заметил? По инерции прожитого года я искал себе лазеек для нового бегства от правды. От настоящей жизни, которую я хотел спрятать от себя самого, которую я проживал лишь в своём воображении.
– Наконец-то, почти приехали! – С нескрываемой радостью в голосе произнесла девушка в желтом платке, в тот момент, когда я случайно поднял на неё глаза.
Я беспокойно глядел из окна, за которым вот-вот должен был показаться город. Мне хотелось превратиться в отчаянный звук, бешеный крик: «Я здесь ещё! Помни, пожалуйста, помни меня!» Я безнадежно мечтал воскресить себя в памяти своего города и тех людей, что живут в нем, помня о том, что нужно купить в магазине молока, но не помня обо мне. Целый год я существовал, черпая воздух и смысл в мыслях о городе, который я оставил, в то время как сам стремительно и бесследно исчезал из его памяти, пока, наконец, не исчез совершенно. Никто не помнил обо мне. Для каждого я стал никем. Быть может, был и остался никем.
Я видел себя как на ладони. Ежедневно умирающий, оставивший и оставленный, бегущий прочь даже возвращаясь, исчезающий в толпе, чуть не забывший всё самое важное, но уже забытый, убаюканный иллюзиями, я проснулся ещё раз, чтобы вернуться обратно. Но не упустил ли я свою пристань? Безответный вопрос «не поздно ли?» запутался в мыслях, как во сне оса запуталась в моих ресницах.
Но среди моих опасений и сомнений, я не переставал помнить о чертополоховом поле, которое нашел для нас с Аллой. Я не переставал помнить о том, что скоро увижу маму. Я был вне себя от мысли, что наконец-то увижу свой дом, с детства знакомые тротуары, дворовых собак и голубей, летающих в небе над моим городом.
Отчаянное счастье кричало внутри меня о скорой встрече с самыми бесценными сокровищами, пролежавшими столько времени на песчаном берегу мёртвого моря моей памяти.
Страница 83 Под обломками прошлого
Мой взгляд стремился прочь из окон, упивался уже рельефом очертаний, которые возвышались над линией горизонта. Поезд испытывал моё терпение, растянув остановку на много тягучих, медленных секунд, но вскоре колеса, чуть вскрикнув, замолкли. Мое бегство закончилось.
Я ступил на платформу, взгляд споткнулся о незнакомые лица. Впрочем, разве я ждал каких-то других лиц, разве я ждал чуда? Никто не взял меня за руки, никто не заглянул в глаза и не спросил, где я пропадал всё это время. Никто не ждал меня, я испугался, что почувствую себя потерянным даже в своем городе и захотел увидеть хотя бы памятник людям, вечно ждущим своего поезда, но нашёл лишь живых людей с чемоданами и дорожными сумками, людей, спешащих мимо. Никого я не встретил по дороге к дому, которую намеренно разделил на много неторопливых разнонаправленных шагов.
Я остро ощущал крепкую, неразрывную цепь невстреч, словно вновь прибыл к дальним, неведомым берегам. Игнорируя общественный транспорт, я пошёл пешком через мост, там было ветрено и шумно от проезжавших машин. С деревьев летели листья, от левого берега к правому, падая в воду и уплывая, не долетев до земли лишь нескольких метров. Потерявший смысл день обещал скоро закончиться. Быть может, в этот момент где-то за пепельными тучами невидимым финалом полыхал закат, в бессильной злобе пытаясь победить надвигающуюся грозу. Прохожий спросил у меня время, я сделал вид, что не слышал и прошёл мимо. Сломалась зажигалка, я выбросил её в воду, падающие листья смеялись над ней, скользя по воздуху легко и плавно. В голове звучала увертюра к какой-то знакомой опере.
Миновав мост, я трижды опоздал на автобус, пытаясь поймать его на разных остановках, но каждый раз перед моим лицом хлопала обрызганная грязью дверь. Девушка в зелёной куртке не по-женски толкнула меня локтем в бок в поисках места на остановке. Дорожка, по которой я шёл через парк, привела меня в тупик глубокой лужи, которую я заметил, лишь погрузив в неё левую ногу. Старушка на лавочке хищно улыбнулась золотым оскалом. Резко развернувшись, я отправился домой другой дорогой.
Мокрый от дождя фасад дома был скрыт от меня собственным углом, но я знал, что именно увижу за поворотом. Я знал наизусть эту лавочку, под которой всегда лежали битые стекла. Качели с потрескавшейся краской, сквозь которую проступала ржавчина. Болезненный тополь с засохшей веткой. Чёрную лохматую собаку с грязным животом и седой мордой. Белую сирень, которая никогда не цвела. И вместе с тем я смутно чувствовал какой-то подвох, скрытый в этой мнимой неизменности.
Не зная наперед логику событий, мне было мучительно трудно решиться даже на малейшее движение пальцев. Последнее, что я подумал, сжалось до слова «нет» и повисло в мыслях немым перспективным протестом.
По тротуару шла девочка, она посмотрела на меня сквозь потрескавшийся кусок пластмассы и закричала с торжествующим смехом: «Тебя не существует!», игнорируя строгий взгляд мамы, который на секунду стал извиняющимся, обратившись в мою сторону. Я миновал поворот, и с этого момента девочка была права.
Не существует.
Дерево полностью засохло, словно это я все эти годы поддерживал жизнь в его ветвях. Мне показалось, что качели ещё больше покосились. Все эти мелочи причиняли боль, но не ранили глубоко, они только царапали память. Это были всего лишь мелочи, по сравнению с тем, что мне пришлось увидеть. Вернее, не увидеть. На месте моего подъезда была пустота. Мне показалось, что я схожу с ума. Дом стоял на своем месте, такой же кирпичный, серый и девятиэтажный, как и раньше, все в нём было такое же, не хватало последнего подъезда. Моего подъезда. Приблизившись, я увидел на его месте бетонную плиту и небольшую табличку, исписанную ровными, строгими буквами по чёрному глянцу мрамора с извилистыми серыми разводами.
«20 ноября 2011 года в 3.15 здесь произошло обрушение подъезда».
Длинный список погибших бороздил таблицу серыми буквами, как пепел, оставшийся от ранее существовавшего. Смысл происходящего медленно просачивался внутрь меня. Конечно, погибли все, кто был дома. В три часа ночи никто не ждал, что эти каменные стены упадут на землю грудой бетона и арматуры. В три часа ночи люди видели сны. Каждый из этих снов был погребен под обломками, вместе с окровавленными телами, разбитыми стеклами и пятьюдесятью остановившимися сердцами.
«Неслыханное дело! 58 человек!» – в голове плыл голос старушки, которая подсела ко мне на вокзале в самом начале моего путешествия. А я – я ушел в другой зал ожидания.
Я уехал 19 ноября. 19 ноября. Я был слишком ошеломлен, чтобы думать. По дороге сюда я столько всего боялся увидеть, но я не представлял, что разве я мог вообразить такое… Я стоял, вцепившись взглядом в черный квадрат таблицы, не вынимая рук из карманов и вцепившись пальцами в подкладку пальто. Я отсутствовал всего лишь год, а вернувшись, нашел вместо дома мемориальную доску. Я ничего не знал.
Почему я ничего не знал? За год отсутствия я не узнал, что лишился дома уже на следующий день. И я вспомнил, как однажды, дозвонившись до меня, мама взволнованно повторяла моё имя, как говорила что-то, как шумно дышала в трубку, но я не слушал, я прерывал её срывающийся голос – я не чувствовал даже интонаций – и говорил, что позвоню позже – и выключал телефон, и забывал, и не звонил. Я вспомнил. Она пыталась мне рассказать, но я был глух ко всем голосам.
В этот момент я не понимал, как польстили мне обстоятельства. Если бы я не уехал прочь, у меня в запасе оставался бы лишь один день, чтобы жить, дышать и лелеять выдумки. Может быть, мне стоило остаться? На земле под табличкой лежала пара увядших красных гвоздик, потрепанная игрушечная собака и еще несколько вещей. Лихорадочно стремясь заполнить чем-то новую пустоту внутри, я начал читать имена погибших.
Моя старая, полубезумная соседка, которая каждый день рассказывала мне одно и то же о своем ребенке, который никогда к ней не заходил. Она всегда носила чёрные платья и повязывала на голову чёрные платки, словно облачаясь в ежедневный траур по своему не вернувшемуся сыну. Молодая семья со второго этажа. Они умерли в один день, но в силу неизбежного не успели пожить долго и счастливо. Супруги были так похожи друг на друга, что первое время я думал, что они брат и сестра. Они любили решать всё чуть позже и годами не платили за квартиру. Но 20 ноября в 3.15 их «чуть позже» было раздавлено кирпичами, оборвалось подобно пульсу. Вместе с пульсом. Нет, этого не могло случиться…
У девочки, их дочки, были белокурые, пшеничные волосы, которые мама заплетала в две тоненькие косички. Девочка любила носить на руках маленького пса, который всё скулил в силу своей не по-собачьи хрупкой натуры. Вот пожилая чета, которая без памяти любила театральные постановки, музеи с пыльными драпировками и друг друга. Одинокий старик, который в последние дни своей жизни любил лишь свою худую кошку с торчащими ребрами и каждый вечер новую бутылку портвейна.
Глаза заволокло слезами. Мой шахматист-любитель, единственный, кто учил меня логике рассудка, кто проводил со мной задумчивые шахматные вечера, кто с молчаливой уверенностью парировал каждый ход, и он тоже здесь. Нет. Нет. Нет.
НЕТ. Я увидел в списке своё имя.
Меня бросило в дрожь, кружилась голова, подчиняя меня лжи искаженной перспективы. Пытаясь вернуть равновесие, я не верил своим глазам. Я вновь и вновь перечитывал короткую строку, желая удостовериться, что не прав. Буквы не врут, мраморные слова не содержат даже грамматических ошибок. Мой город вычеркнул меня из списка живых, прорезав мемориальную доску моим именем, абсурдом, нависшим над развалинами. Неужели всё, что мне осталось от прошлого – тоже – одни развалины?
Я уезжал, не зная, вернусь ли назад, но в своем рюкзаке, во внутреннем кармане с атласной подкладкой я хранил старую, но едва ли тронутую ржавчиной связку ключей с брелком в виде футбольного мяча, оставшимся ещё с детства. Всё это время я хранил ключи от несуществующих дверей. Их нет – нет – нигде нет.
Я вернулся сюда, ища дома для своих заблудших мыслей, для своих уставших ног, которые истоптали столько вокзалов и незнакомых улиц. Я искал дома, но обнаружил себя в списке мёртвых. Сумасшедшие предположения рождались и умирали в моей голове. Что если список погибших говорит правду, и я действительно мёртв? Меня спасло только воспоминание о том, что я оставил это имя для обыкновенных людей. Пускай они считают меня погибшим, быть может, человек с этим именем действительно погиб внутри меня под обломками прошлого. Но я зову себя Альберт, и Альберт жив.
Придя в себя, я нащупал в кармане драгоценные ключи и выбросил их в урну вместе с мыслями, которые подобно быстрым пулям оставляли после себя сквозные раны. Мне нужно было забыться, я не хотел осмысливать всё произошедшее прямо сейчас, но мысли мои взбунтовались против меня. Не в силах отражать их нападение, я медленно побрел прочь по родному асфальту мимо засохшего дерева, мимо погнутых качелей, мимо сирени, мимо седой собаки, снова мимо жизни.
Воображение нарисовало мне картину каменных обломков, смешанных со всем тем, что только что было людьми. Повсюду клубы пыли, мёртвым налётом оседающей на листьях, на качелях. Чёрные тюльпаны смерти прорастали в моем воображении на благодатной для них почве орошенных кровью и криками развалин, смерть застилала мне глаза, чёрные лепестки тюльпанов плавали на поверхности моих мыслей.
Мужчина разбился, упав на асфальт, а затем разбилось окно, из которого я увидел его смерть. Умер Тимур, я придумал смерть Аллы, Анну давно поглотила черная дыра моей памяти, я умер год назад при обрушении подъезда вместе со всеми, кто существовал рядом со мной на расстоянии, равном толщине бетонной стены. Шахматы и шахматист остался там же. Даже время в моих часах умерло. Я был заперт в многограннике, где каждая мысль давила, как груды бетона. Каждая норовила раздавить полностью, если бы её не сдерживали остальные.
Когда я подумал, что хочу сдаться, на улице вдруг погасли все фонари. Но я почувствовал, что не могу позволить себе этого роскошного, слабохарактерного бегства. Хватит.
Пепельные тучи проплывали над асфальтом. Ветер толкал меня вперед, как быстрое течение невидимой реки норовит сбить с ног и унести в слепом потоке. Ничто не будет как прежде. Шагая по тротуару, как по крыше дома, я мечтал оступиться и скользнуть вниз, оборвав полет коротким ударом, который оставил бы меня лежать, устремив застывшие глаза в пепел неба. Издали доносился колокольный звон, мне казалось, он летит из прошлых веков, как безотчетный рок, довлеющий над человечеством.
Я не замечал, куда иду. Проживая бесконечную смерть в своем воображении, я не мог понять, как оказался снова здесь, где был чудом спасен, но в то же время удивительно мёртв.
Внутренний раскол, который рождал уродливую диспропорцию реального и мысленного, провоцировал головную боль. Я не знал, сколько шагов привело меня туда, куда я пришел, сколько поворотов не заметили мои глаза. Я шёл ощупью подсознания, не замечая пространства и расстояний. Подсознание ломало мою волю.
«У вас всё в порядке?» – в воздухе повис вопрос, я бы хотел там его и оставить, но на плечо легла совершенно чужая рука, и я проснулся для реальности. Сидя на бетонной плите, я швырял камни в разбитое стекло, что лежало поверх истоптанной травы под моими ногами. Мне в лицо смотрел незнакомый мужчина в сером берете.
– У вас всё в порядке?
– Да.
– Вы уверены?
– Да.
Рука исчезла с моего плеча и провалилась в невидимое пространство вместе с мужским лицом и серым беретом. Я остался один. По небу летел пепел вперемешку с птицами и желтыми листьями на ветвях деревьев. По земле уже ползли вечерние тени. Трещина в сознании стала глубже на несколько сантиметров. Мне казалось, что я падаю вниз со стремительностью брошенного камня.
Нужно было как-то остановить это падение, найти точку опоры. Вдруг осознав, что разрушенный дом не равен разрушенной жизни, я понял, что должен сделать. Я пережил внутри себя так много смертей, что пора было положить этому конец. Я набрал номер. Долгие, срывающиеся гудки.
– Мам..
– Ты?
– Я приеду к тебе.
– Быть не может! Когда?
– Завтра.
– Что случилось?
– Ничего. Просто я приеду.
– Жду.
Я воскресил Тимура в своих воспоминаниях, я запретил своей памяти уничтожать во мне все, что осталось от нас с Анной. Я вычеркнул своё имя из списка на мемориальной доске. Я достал из внутреннего кармана пальто батарейку, и стрелки на моих часах понеслись по новому кругу. Осталось лишь воскресить Аллу. Мне нужно было увидеть её, чтобы признать её существование.
Страница 84 Молекулы молчания
Знакомый до мурашек Аллин подъезд. Воля подсознания привела меня именно сюда, где меня ждали все те же бордовые буквы на стенах, бесцветные перила, громкая металлическая дверь с рыжими разводами от потекшей краски. Я коснулся перил, и мои ладони проникли в прошедшее. Я нажал кнопку звонка, и снова я здесь. Звонок был новый, почти белоснежный, с одним только жирным отпечатком какого-то безразмерного пальца.
Она открыла сама. Мне было неважно, стройные ли у неё ноги, какого цвета волосы, что на ней одето. Я смотрел в её глаза и искал в них то самое единственное слово, которое уже отчаялся найти. Мы молчали, связанные взглядом и неподвижные, как стрелки на моих часах до сегодняшнего дня. По телу вновь пробежали мурашки. Я по привычке мечтал, чтобы в это мгновение время остановилось, я боялся того, что последует дальше. Я берег наше молчание, словно каждое слово, произнесенное вслух, могло разрушить всю мою жизнь и превратить её в развалины, похожие на те, что остались от моего дома. Я ощущал своё учащенное сердцебиение и размеренный пульс стрелок на своих карманных часах.
Я хотел превратить нас в бронзовые статуи, подобно девушке с мячом, в статуи людей, связанных взглядом и ни разу не повторившимся прошлым.
Я сжал часы в кулак и стоял, пытливо всматриваясь в её глаза, которые остались такими же незабвенными, как прежде. Мы молчали, связанные взглядом и ни разу не повторившимся прошлым. Я по привычке мечтал, чтобы в это мгновение время остановилось. Мы молчали. Я по привычке искал какую-нибудь лазейку. Какой-нибудь способ, хотя бы маленький шанс, превратить нас в бронзовые статуи.
Но вслед за этим я вспомнил, что решил не сдаваться, несмотря на то, что на улице погасли все фонари. Я вспомнил про то, что теперь в моих часах стрелки танцуют вальс. Я разрешил своему времени идти и подумал о том, что в наших долгих невстречах и неразговорах мы не теряли, а обретали друг друга.
Не произнося ни слова, я коснулся её волос и с наслаждением вдохнул затхлый воздух подъезда, пропитанный терпким сигаретным дымом и молекулами многолетнего молчания, которое не мешало стрелкам двигаться мимо чисел на циферблате, которое не мешало нашей близости, а только облагораживало, углубляло её.
Лава всего несказанного распадалась на слова внутри меня. Я хотел взять Аллу за руки и увести далеко отсюда. Туда, где сквозь ветви деревьев пробиваются пробуждающие лучи рассвета. Где заросли чертополоха еле заметно колышет ветер. Где лежат на песке горячие камни, на которые ещё никогда не ступала человеческая нога. Где пахнет морем и свежим ветром. Я хотел сидеть с ней на берегу этого моря, никем не названного по имени, и испытывать безымянные чувства, которые не могут обратиться в слово, даже если пролистать все существующие на свете словари и энциклопедии.
Страница 85 Кофе без сахара
– Я хочу рассказать тебе всё. – Сказал я, подобно тому мужчине, который нашел меня в поезде, чтобы поведать мне о своем поступке под дыхание спящих пассажиров.
– Заходи. – Сказала она так, как может говорить только она.
И я рассказал ей всё. Я рассказал про пейзажи за окнами поездов, про бегство в никуда, про воспоминания, про всё, о чем я когда-то решил забыть. Я рассказал ей про падающего из окна человека, про девушку под дождем, про ножницы, спасающие от прошлого, про разлинованную проводами тетрадь неба, про снежное поле, про тысячи вопросов, про слова, утонувшие в воде, про самые длинные на свете письма, про город без будущего, про людей, больных жизнью, про свой широкий жест, которым я смахнул со стола таблетки, про скорую помощь, про ключи в рюкзаке, про то, что я жил в том самом доме, где рухнул подъезд, про совпадение, которое спасло меня для того лишь, чтобы я смог сбежать от собственной жизни. Я забыл только одно. Рассказать о причинах своих поступков. Мне казалось, что перед ней я прозрачнее стекла.
Пока я рассказывал, она варила мне кофе. Мне понравилось это, хотя я и не просил её ни о чём. Однажды я уже пил у неё кофе и тогда попросил положить в кружку две ложки сахара. Я ждал, когда она откроет сахарницу, словно важнейшей вехи своей жизни. Несколько секунд мне казалось, что так оно и было. Но Алла не положила в мой кофе двух ложек сахара.
– Тебе нужен сахар?
Этот вопрос был первым подтверждением того, что я придумал Аллу. В голове промелькнула абсурдная мысль, не желающая внимать рассудку: «Она делает вид, что не помнит». Я сказал, что пью кофе без сахара, но это не вызвало у неё и тени удивления. Я по привычке педантично изучал ничтожные мелочи. Ну, что может значить сахар? Я придал значение даже чайной ложке. Идиот.
Я продолжал свой рассказ. Я рассказал ей про девушку с часами, про своё остановившееся и вновь пошедшее время, я рассказал про памятники, про пустой морской горизонт, про девушку с татуировкой, про то, как никто не встречал меня на вокзалах, про слова, которые не смог сказать, про преодоленный страх, про мёртвое море, про безымянные места. И наконец, я произнес самое главное.
– Я нашёл для нас чертополоховое поле.
Мои слова вдребезги разбили минутную тишину, и вместе с ней все иллюзии, что я так трепетно оберегал и лелеял. Я не знал, что иллюзии настолько ненадежны, не знал, что вся моя жизнь настолько иллюзия. Я не знал.
– Для нас? – Полный искреннего недоумения голос и чуть приподнятая левая бровь, карим изгибом лежащая на белой коже.
Я больше не мог сомневаться. Она не слышит меня. Мы сидим на холодных табуретах, между нами белесый с серыми разводами стол и она меня вовсе не слышит.
– Да. – Произнес я, мысленно запрыгивая в поезд дальнего следования.
– Я ничего не понимаю. Альберт? – Вопросительный взгляд незабвенных глаз.
Моим первым желанием было вновь убежать, и теперь уже навсегда. Моим вторым желанием было навсегда остаться.
Сомнения рассеялись. Всё происходящее – всего лишь выдумка, хоть и самая главная в моей жизни. Я всё про нас придумал. Наши разговоры, наше многозначительное молчание, все наши слова, каждое из которых было бесценно, вплоть до предлогов и частиц. Я придумал её незабвенные глаза и её волосы, придумал, как они рассыпались по моим ногам, придумал её мягкие ладони. Придумал наши общие сны. Быть может, именно во сне я гладил её по волосам, держал её за руку, целовал её в лоб.
Я сам наполнил всё смыслом, который знаком только мне, смысл в каждом прикосновении её тёплых ладоней к моей коже, в каждом слове, промелькнувшем в разговоре, в каждом постукивании пальцев по столу, в каждом взгляде. Я придал смысл всему сказанному и придумал за нас всё несказанное. Это только моя выдумка. Выдумка, которая исчезнет, стоит мне только пробудиться ото сна, который я нарисовал акварелью воображения на внутренней стороне закрытых век.
Когда-то давно я ведь уже понял это, и тогда же дал себе слово не просыпаться никогда. Что бы ни случилось. Но я не знал, что проснуться так просто.
Я порывисто встал из-за стола и молча направился к выходу. Я был слишком полон чувством, чтобы говорить.
– Куда ты? – испуганно вскрикнула Алла. – Что я сделала не так?
– Ты знаешь, куда. Ты должна была знать. – Процедил я, обернувшись, и полоснул её по лицу полным презрения взглядом, словно острым кухонным ножом, на котором застыли хлебные крошки. Я сам не понимал, что со мной творится.
– Ну, постой же! – Она тянула у меня из рук куртку, которую я собирался одеть.
– Алла, мне правда пора. Спасибо за кофе. – Сказал я уже спокойнее. Мягко забрав из её рук куртку, я надел её, не застегнув. Потом положил руки ей на плечи, наклонился к самому лицу, изобразил улыбку.
– Пока.
И вышел вон.
Мне представилось, как рушится дом. Как взрывает грохотом ночную тишину. Как выбегают на улицу люди из соседних подъездов, как сигналят машины скорой помощи, как облака пыли оседают на землю.
Страница 86 Никогда не было
Слова застывали внутри меня. Время лежало у моих ног грязной лужей с множеством отражений. Память беззвучно смеялась оттуда мне в лицо.
Теперь я знаю, что Аллы вовсе не существует, и задыхаюсь как рыба, не умеющая плавать. Слова душили меня изнутри, как изнуряющая астма. Когда-то я звал её, но она не приходила. Незаметно для самого себя, я перешел на крик. Ко мне стали сбегаться люди. Они стали задавать мне вопросы и заглядывать мне в лицо, которое не выражало ни одной эмоции, только несколько слов, не имеющих значения ни для кого, кроме меня. На нижнем веке левого глаза застыла подобием не скатившейся слезы самая безнадежная и важная фраза. «Никогда не было».
Никогда не было ни Аллы, ни меня, ни даже человека с моим именем, я только неудачная выдумка, гротеск самого себя. Никогда она не слышала моего голоса, а я никогда не говорил, не ухмылялся в лицо памяти, не звал её, не молчал, я просто задыхался в своем собственном безвоздушном мире, который придумал только для того, чтобы совершить в нем медленное самоубийство мыслью, что в стократ мучительней короткой смерти тела. Чтобы задохнуться словами, которые жгли меня изнутри лавой всего несказанного, зная, что снаружи их будут внимательно слушать, но услышать всё-таки не смогут. Никогда не смогут. Сколько бы я ни кричал, сколько бы ни умирал за далеким горизонтом, растворившись в воздухе эхом собственного крика. Но почему?
ПОЧЕМУ?
Страница 87 То, что не должно было случиться, но случилось
Лучше всего я запомнил звук закрывающейся двери. Это он, не Алла, досказал мне правду. В конце концов, я просто шел, не разбирая улиц, и слушал, как умирает дождь, хлынувший с небес как будто только для того, чтобы разбиться об асфальт.
Я всё понимал неправильно. Прикосновения рук ровным счетом ничего не значат, если тот, кто прикасается, не придает значения своему жесту, – да кто теперь придает этому значение? Мои знакомые, с которыми я когда-то проводил досуг, могли проводить каждую ночь с новой девушкой, вовсе не чувствуя беззащитности от стертых границ, от бесцельной растраты себя.
Прикосновения слов ощутимы лишь для тонко чувствующих душ. Слова кажутся значимыми, потому что облачаются в звуки родного голоса или знакомый почерк, где чёрточки над «т» напоминают знак бесконечности. Им больше не обмануть меня. Я все понимал неправильно. Я все выдумал. Как мог я позволить себе жить среди придуманных людей, дышать выдумками, искать слов, чтобы о них написать?
Как мог я?..
Я медленно шел по тротуару, неуверенно встречая и провожая глазами каждый свой шаг. Неторопливое скольжение в никуда по случайной траектории. Мне хотелось остановить это скольжение. Я нуждался в направлении. Я нуждался в правде, я хотел увидеть оголенные провода реальности.
Я снял на ночь квартиру, ту самую, где несколько лет назад мы говорили на балконе и пили чай, и курили. Я сделал это отнюдь не из сентиментальной прихоти. Просто, чтобы не тратить время на поиски. По крайней мере, хотелось бы так думать.
Я занавесил шторы, запер двери и сел на диван, еле прикрытый простыней, забыв подумать о том, что на нём засыпали и просыпались тысячи людей, что у каждого из них была своя история, которая могла бы лежать в моём печальном архиве чужих трагедий. Не зажигая света, я разделся, сложил вещи аккуратной стопкой на краю постели, как ребенок сложил бы шаткую кирпичную кладку на месте развалин, и погрузился в прохладные волны белой простыни.
Несмотря на всё случившееся, в эти минуты во мне не было бунта, никто не кричал во мне, призывая сбежать. Всё во мне молчало, весь мир молчал. Единственный вопрос – и что теперь? – искал для себя короткой логической цепочки ответа, чтобы позволить мне уснуть.
Последние несколько месяцев день возвращения всё время маячил впереди радужным горизонтом и каждый раз внезапно уплывал, проворно снимаясь с якоря, в бледную сизую даль.
Глядя в потолок, я вспомнил, как однажды, проснувшись в чужом городе с мокрыми от слез глазами, невольно искал по углам комнаты трагедии, но спустя минуту понял, что просто видел сон. Трагедия осталась непроизошедшей, притаившись на время в приятной неизвестности. Я предчувствовал её, и мои сны тоже способны воплощаться в жизнь. Во сне за окном плыли облака, плыли чёрные грачи, которые запоздало взяли курс на юг…
Этот день наступил блистательным опозданием на 361 день, которые я провел в вакууме собственных мыслей.
…В моём сне белый вихрь неслучившегося опустошал комнату, унося прочь коробку с тетрадями, недописанные и неотправленные письма, стол, светильник с перегоревшей лампой, комод, мятый хаос постели, горящий зелёный циферблат часов, близкий рассвет. Грачи закричали. За окном погрохатывал поезд, пустая комната и во сне привычно сузилась до синего экрана компьютера, где разыгрывали драму чужие, неизменно чужие лица. Телефон лениво изображал самого себя, прикрыв пылью разрезанный до последней доли миллиметра провод…
Я представлял себе, как ранним утром возвращения проснусь от того, что по подоконнику застучит дождь, ожидая пригласительного жеста открытого окна, чтобы пройтись по письменному столу мелкими каплями. Я представлял себе нечаянное событие, ничтожное, как разбившаяся кружка из-под кофе, но завершающее широкий план обстоятельств, мягким изгибом параболы устремляя движение вверх. Но подоконник молчал, логарифм воображаемого по основанию реального был мёртвой неразрешимой зоной, а событие, ничтожное событие… Трупы под обломками, мемориальная доска, пустой клочок земли.
В моём сне стены дома робко посыпались кирпичной крошкой, по потолку побежали извилистые трещины. Из глубины коридора звонил сломанный телефон, до тех пор, пока на него не упал кусок стены. Последнее, что я слышал, как с треском упала входная дверь. И снова вокруг была прежняя привычная ночь, словно утро никогда не наступало.
Теперь все сны разгаданы. Все стены упали, не дождавшись моего возвращения, чтобы забрать меня с собой.
Где-то на середине мысли в дверь позвонили. «Ошиблись квартирой» – подумал я. В дверь позвонили ещё раз. «Я не открою» – произнес я раздраженным шепотом и, раскрыв глаза, обратил их к весомой немоте стены. Но в дверь позвонили снова. Не включая свет, я надел джинсы и открыл эту ненавистную дверь. За дверью стояла Алла, моя незабвенная и потерявшая всякий смысл Алла. Я оглядел её с ног до головы и спросил, зачем она пришла.
– Я хочу поговорить с тобой.
– Когда-то я тоже этого хотел. – Произнес я, словно это было много лет назад. Пальцы изо всех сил сжимали дверную ручку. Я изо всех сил сдерживал бешеный смех.
– Давай поговорим.
Зачем нам говорить? В голове по-прежнему звучал тот единственный вопрос. И что – что – теперь? Пока я медлил с ответом, Алла сняла обувь и села на белую простыню, словно была уверена, что её здесь ждут. Она поняла, что я здесь, – ещё утром это показалось бы мне знаком взаимной близости, – но теперь, увы… Я смотрел сверху на её колени, прижатые друг к другу, на её пальцы, и мои ладони ощутили ослепительное тактильное воспоминание об их прикосновениях. Чтобы спасти свои руки от теней прошлого, я спрятал их в карманы. Прошлое пропало, рассыпалось обломками некогда прочной стены. Что я хотел найти в этом городе? Я искал воспоминание об Алле, но не Аллу. Воскрешать воспоминания, бешено трясти за плечи мёртвое тело, храня внутри безумную веру в то, что труп откроет глаза, – всё это только сопротивление правде. Шахматист мёртв. Все стёкла разбиты. Черная кровь вытекает из трещины в черепе, и никогда, никогда не устремится обратно.
– Мы не поговорим, можешь идти. – Внутри себя я издевательски хохотал, защищая себя от других эмоций.
– Я никуда не пойду.
– Пойдешь.
Зачем я говорил с ней именно так? Почему ничего не объяснил? Я не знаю. Я никогда не любил объяснять очевидного. Поэтому я не отправил ни одного письма, зная наизусть все адреса. Я не хотел больше с ней говорить, я не хотел возвращаться к сладкому удушью иллюзий. Впервые я огляделся в настоящей жизни. Там было пусто.
– Уходи, Алла. – Я махнул рукой в сторону двери.
– Это очень важный разговор.
Она настаивала на том, что это необходимо. Но почему мне должно быть важно то, что важно для неё? Почему это так важно для неё именно теперь? Ведь я всё тот же, что и год назад. Сегодня я, наконец, понял, в чём дело. Я – только очередная загадка для её воображения, игра, которую можно выиграть, лишь подчинив меня своим правилам. Но я не хочу играть. Я сломаю все её правила. Я сломаю все свои заблуждения.
– Мне всё равно.
– Это очень нужно мне.
– Мне всё равно.
– Тебе не интересно, что я хочу сказать?
– Мне всё равно.
Мой голос набирал силу. Алла нервно разглаживала ладонью складки на простыне, не находя слов, превосходящих мои по силе. Она их так и не нашла.
– Ты хочешь, чтобы я ушла?
– Да.
Внутренний хохот стих. Ничто во мне больше не сопротивлялось тому, что я говорил. Я хотел избавиться от выдумок раз и навсегда.
– Я хочу умереть. – Слабый ход, отчаянная попытка избежать неизбежного безразличия, которым я ломал её игру, вовсе не испытывая его внутри себя, но уже почти убедив себя в этом. – Я никогда не понимала тебя, объясни мне…
– Что тебе объяснить? Объяснить себя? Мне всё равно, понимаешь ты или нет.
Произнесенная единожды, эта фраза убивает безукоризненно и просто. Но, повторенная много раз, превращает сильный ход в слабый. Ибо как можно кричать о равнодушии? Я сделал это замечание к самому себе в промежутках между своими короткими ответами. Нужно было устранить возможность сомнений, я видел, что она не верит в серьезность моих намерений. Я искал способов сдержать своё экспрессивное равнодушие, а она тем временем продолжала.
– А ты? Что ты знаешь? – неудавшаяся попытка перейти в наступление, вконец загубленная лиризмом сказанного, – Я расскажу тебе… После первой же нашей встречи я перестала вести дневник. Я вела его всю жизнь, с тех пор, как мне исполнилось десять. Я не знала, как описать словами всё, произошедшее между нами – и с тех пор не написала ни слова.
– Мне незачем это знать. – При других обстоятельствах я был бы глубоко тронут столь интимным признанием. Но не сейчас. Я хотел во что бы то ни стало прикрыть наготу своих мыслей.
– Хочешь, чтобы было ещё хуже?
Злые мысли кипели во мне, это был бунт против собственной жизни, против того, что я считал своей собственной жизнью. Алла всегда вызывала бунт, даже если молча стояла рядом. По её щекам текли крупные капли, сливаясь в чёрные ручейки, она прятала глаза, стараясь спрятать от меня как можно больше слез.
– Да, я хочу, чтобы было насколько возможно хуже, – Произнесла она, отвернувшись и опустив глаза в пол, чтобы я не смотрел в её мокрое лицо.
Я знал это. Оказывается, я знал её намного лучше, чем знала меня она. Уйди она после первой же моей просьбы, ещё долго её бы терзала мысль, что она сделала не всё, что могла. Но в её силах было так мало. Я обхватил руками её предплечья, резким рывком поднял с кровати и повел к дверям. Она не очень-то сопротивлялась – знала, что я сильнее. Я выиграл право на правду, захлопнув дверь, едва она перешагнула порог. «Подожди!» – услышал я приглушенный закрытой дверью высокий жалобный голос. Хрустнул замок под поворотом ключа, наступила безвозвратная тишина и, вновь сев на диван, я принялся разглаживать складки на простыни. Я сделал всё правильно. Теперь она точно не придет.
Это был ход против себя, как если бы в шахматной партии ферзь опрокинул собственного короля, обрекая игру на абсурд. Полностью раздевшись, я лег поверх одеяла, отдавая тело на тиранию сквозняка. Низвергнутый чёрный король со звонкими деревянными раскатами катится по наклонной и падает с доски. И вслед ему раздается деревянный же смех шахматных фигур, которые убирают в коробку.
Я закрыл лицо руками, положив ледяные пальцы на закрытые веки. И сразу – тошнота, головокружение, вальс перспектив. Шелково вздымались над распахнутым окном занавески. Проезжавшие за окном машины высвечивали мимолетные геометрические фигуры на тёмно-серых стенах.
Страница 88 Дышать
Мои мысли были похожи на сломанный калейдоскоп. Я хотел сломать все. Достать с самого дна все сокровища своих затонувших кораблей и превратить их в одно мгновение в ничтожную пыль, внезапно обнаружив, что это только полые куски пластмассы. И смеяться, ломая себе пальцы, вжавшись в прохладный пол вывернутой позой. Смеяться в лицо мнимой смерти этих искусственных пустот, в которых и умирать было нечему. Мне снилось, как я вырезал у себя из груди голубой кристалл и бросал его в море, силясь догнать порывом руки неподвижную линию горизонта. Но в моей груди нет сокровищ. Только упругий клубок вен, артерий и капилляров.
Тысяча мыслей родились и умерли в моей голове, пока я неподвижно сидел на стуле, остановив вектор зрачка на пружине за тонким стеклом настольной лампы. Я чувствовал голыми ступнями глянцевую серость пола и всем телом – обволакивающие потоки пыльного воздуха, что усыпляет лучше любого снотворного. Где-то в застенках сознания молчал мой двойник, вписав себя в ровно очерченный контражуром угол.
Открыв окно, я подставил ладони дождю. Хотелось дышать.
Ломать больше нечего.
Страница 89 Правда
Уснуть я не смог. Мне было необходимо обдумать правду, с которой я столкнулся. Закрывая за собой дверь, случайно взглянув под нужным углом, я нашел серебристый отпечаток ладони. Её слезы высохли с обратной стороны моих дверей. Как это странно звучит. Я выгнал Аллу из своей жизни.
Я медленно спускался по лестнице, впечатывая в память каждую ступень. Было пять часов утра. В пролете между этажами рассеянно курил толстый мужчина с мутными выпуклыми глазами. Где-то вдали заманчиво прошумел поезд. Возникло ощущение утреннего вагонного тамбура, прохладного и пропахшего пеплом. Верхние этажи домов растворялись в небе. На лицо незаметно падали легкие капли моросящего дождя. Казалось, что эти капли необходимая часть кожи, они будто прирастали к лицу.
Зачем я так говорил с Аллой? Целенаправленность эмоций разбила проекцию воображаемой спонтанности. Нет ничего, ничего спонтанного. В один из самых тяжелых дней своей жизни я сидел, свесив ноги с подгнившего деревянного моста, потому, только потому, что вся моя жизнь вела меня к этому событию. В этом столько же плохого, сколько хорошего. Нисколько. Это просто факт свершающейся жизни, которая – благодаря божественной игре случая – продлилась до этого момента, собрав воедино мозаику ничтожных, мелких обстоятельств. Крохотный сектор разума отметил жестокую, отрезвляющую логичность происходящего, и тут же погиб под острием мимолетного впечатления.
На поручень автобуса легла грязная, вязкая рука с обгрызенными ногтями и гадкой чернотой под ними. Я инстинктивно отодвинул правую руку, левой проведя по серому драпу пальто. Безуспешно стирая с себя грязь чужого прикосновения.
Остановка в лесной зоне, уходящей в разорванную перспективу поворота, заставила меня покинуть автобус раньше задуманного. На самом деле, моя брезгливость оказалась сильнее необходимости добраться в пункт назначения. Сколько простоты, сколько лежащей на поверхности логики, опрокидывающей интуицию со всеми её предчувствиями, символами, смутными ощущениями.
Холодный ветер проник за воротник, своей силой измеряя моё сопротивление. Кутаясь в шарф, я отклонял его притязания на грудную клетку, позади которой глухим, второстепенным ритмом билось сердце, заглушенное музыкой оголенных ветвей.
Я ждал внезапного переворота, стихийного порыва ветра, который бы унес с собой грязные руки людей и мелочную злость их глаз, чтобы унес бетонные блоки этажей, обнажив посредственные, задыхающиеся от скуки жизни. Пытаясь изгнать из поля зрения черноту близкого, близорукого подноготного пространства, я направил взгляд на лист бумаги, на котором дрожал не отточенный карандаш, теряя силу от легких, но непрерывных автобусных сотрясений. Я выпал из автобусного маршрута, отчаявшись в этой попытке. Логика содеянного разрушала фантазию. Ничего, совсем ничего нового. Ничего, совсем ничего выдуманного. Только грязь и размокшие, потерявшие цвет осенние листья под стоптанными подошвами
Мои глаза распахнулись с насмешливым скрипом, как старые ставни, и ветер взметнул ввысь сухие хлопья пыли. Я проснулся, и всё закончилось. Исчезли руки с белых покрывал, с внутренней стороны век исчезли сны. Иллюзии таяли, как сахар в горячем утреннем чае. Я помешивал его ложкой. Иллюзии таяли сами, и я больше не удерживал их. Не мог.
Зачем обманывать себя? Каждый, кого я знал, отгородился от меня каменной стеной, потому что я не был им нужен, потому что я для них только имя, только воспоминание о человеке, но не человек. Хочу ли я напоминать о себе?
Мои глаза распахнулись. Иллюзии таяли. Я рассматривал свои ладони, мне казалось, что на них написано всё, что может со мной случиться. Что может со мной случиться? Ничего. Перепутанные линии не укладываются в узор, они просто линии, которые бороздят кожу, как реки землю. Как реки землю.
Я знал, что для неё я был и остался никем, только игрушкой, которая вызывает интерес мнимой загадочностью поступков. Какая недогадливость с её стороны, в то время как я рассказал ей всё с феноменальной честностью. Она просто не понимала моих поступков, молчание казалось ей признаком равнодушия, она искала ответов, эмоции, реакции, и только ради этого вновь и вновь возвращалась в мою жизнь самым желанным призраком.
Я придумал её с воодушевлением разочарованного творца, отчаявшегося найти свой идеал в жизни и ищущего его в мыслях. Я нашел его в мыслях. Пусть он там и останется. Сколько бы мы ни говорили, сколько бы ни молчали, сколько бы ни касались друг друга руками, я всегда был и всегда буду для неё чужим, посторонним человеком, которого рады видеть, лишь когда его логика не разгадана, не побеждена её пониманием, которого я так желал, в которое я так верил. Она никогда не нуждалась во мне. Она нуждалась в недосягаемом. Чертополоховое поле было лишь минутной прихотью её воображения, выражением эгоистичной мечты подчинить себе неизвестность.
Иллюзии таяли.
В зеркале я видел, как в моих волосах играли блики. Она бы никогда их не заметила, она видит только то, что хочет увидеть. Пусть. Всё между мной и ею было случайно, неизбежно, но всё же безнадежно случайно, ведь даже ненужному человеку можно рассказывать свои сны и рассыпать волосы по ненужным, чужим плечам тоже можно. Может быть, именно ненужным всегда рассказывают сны, чтобы они утешились. Она же рассказывала мне свои сны только чтобы вызвать доверие и, наконец, узнать меня. Это был только ход в её продуманной наперед игре.
Всё обессмысливалось по мере того, как иллюзии таяли. Я тоже таял, ведь я – тоже иллюзия, чуть меньшая, чем Алла, но чуть большая, чем всё вокруг. Я таял, как тает прошлое, как летящий вниз человек истекает жизнью на асфальте, как разбитые кирпичи истекают кровью, и тают в чьих-то поверхностных мыслях. Я совсем растаял, оставшись лишь словом в коротком письме для неё, где нет ничего из того, что я хотел бы сказать. В письме, которое я даже не начал писать. Которое я больше не хотел начинать писать.
Дома я снял с себя пальто, вскипятил электрический чайник, щелкнул выключателем, чайные листья закружились в кипятке, когда я наполнил кружку. Сахар стеклянной пылью лежал на дне. Смутные порывы вырывались из подсознания и становились осознанными намерениями. Сейчас я перестану помешивать сахар в кружке, и по мере того, как чай будет становиться сладким, растает последнее слово из ненаписанного письма, всё, что осталось от меня. От человека по имени Альберт. Иллюзии оставили мне лишь привкус жизни.
Но скоро я вспомню, как жить. Я вспомню свое старое имя. Куплю себе настенные часы и будильник, чтобы вовремя вставать по утрам. Повешу на стену календарь из трехсот шестидесяти пяти страниц, чтобы вырывать из него дни своими, по-прежнему холодными, руками. Я схожу к врачу и спрошу, отчего мои руки так холодны. Наверное, плохое кровообращение, ответит врач, и я утешусь, как если бы по моим плечам вновь рассыпались волосы.
Я найду себе работу, где буду пропадать целыми днями, не видя закатов, но видя кружку с кофе, монитор компьютера и изредка – свои пальцы, когда они набирают номер телефона или тянутся к кофе. Зачем, в сущности, видеть закаты? Всё это только пустая сентиментальность. Я узнаю, что значит спать по ночам, не видя привычных кошмаров. Мама будет рада, когда я приеду к ней в гости и расскажу о том, что я наконец-то занялся делом.
Слова «пережил» и «выдумал» перестанут быть синонимами, никогда больше выдумка не станет жизнью. Я больше не спутаю сон и реальность, разделенные звенящей чертой будильника. Мой письменный стол незаметно запорошит рецептами и таблетками, в то время как дороги заметет первая вьюга. Наступит зима. Мои следы в чужих жизнях и далеких городах укроются под снегом, а весной растают и сольются с землей, чтобы никогда не прорасти наружу свежей травой.
Я постараюсь всё же ничего не забыть. Я не забуду теплый ветер, не забуду снежное небо, разлинованное проводами, не забуду грозу в заброшенном парке и поцелуй между пальцами во имя избавления от прошлого. Я не забуду шума приближающегося поезда и дыхания спящих пассажиров. Я не забуду письма, которые писал, не забуду, какие слова сбросил с моста, не забуду, зачем я убегал от собственной жизни. Я просто перестану придавать памяти ценность абсолюта. Я стерплю жизнь без самообмана, с тех пор, как иллюзии растаяли, это больше не кажется сложным. Уже сейчас я чувствую, как груз прожитого теряет тяжесть, спадая с моих плеч, на которых никогда не лежали Аллины руки. Я придумал про нас слишком много, чтобы это могло быть правдой. На самом деле у меня было только восемь дней, чтобы узнать её – и, впервые обняв её за плечи, я никогда не сделал этого во второй раз. Восьми дней, восьми прожитых встреч оказалось достаточно, чтобы построить на их фундаменте невесомые стены, убедив себя в том, что они крепче любого камня, живее любой жизни.
Довольно. Теперь я узнаю людей такими, какие они есть. Я заново увижу Аллу с её самовлюбленностью, высокомерием и жаждой всего таинственного. Я научусь принимать её настоящей, принимать нашу близость на фоне безмолвия и отчуждения. Она превратила меня в неразрешимое уравнение. Если она сможет принять меня, найдя все неизвестные, когда-нибудь я покажу ей чертополоховое поле. Но возможно, оно останется только моим. Это больше не пугает меня.
От прошлого скоро останутся лишь дрожащие на ветру воспоминания, готовые в любую минуту сорваться и улететь в Ничто на ветру забвения. Но я удержу их холодными, всё помнящими руками. Я чувствую, что близится моё выздоровление. Бессилие будет побеждено, как и бесплодные надежды, я смогу бороться с собой – за свою собственную жизнь. Я нарисую время акварельными красками, вернусь в редакцию и напишу блестящую статью. Я увижу людей сквозь жизнь, а не сквозь трафареты воображения. Я увижу живых людей, а мёртвым оставлю широкие просторы памяти. У меня появится будущее.
Имя Альберт в переводе с латинского значит «белый». Я всегда это знал, но лишь теперь я его понял. Оно значит бескрайнее снежное поле, в котором замело все следы, бесконечный лист бумаги, белизну которого не должны были нарушать, но всё же нарушили красивые, но бесстыдно лгущие иллюзии.
Поэтому здесь я не напишу больше ни строчки. Я буду жить. Мой разум проверит на прочность чувства и эмоции, оставив лишь те, которые я не выдумал, желая скрасить жизнь, но оказавшись неспособным сделать её необыкновенной.
Оставшиеся страницы будут чистыми, как если бы моя рука навсегда застыла в миллиметре от бумажного листа. Это расстояние надежней всего, ибо даже миллиметр равен бесконечности, если навсегда останется не преодоленным.
***
– Андрюш, почему ты не отвечаешь?
– Я не слышал.
– Третий раз звоню…
– Ну ладно, мам. Что ты хотела? Я скоро выезжаю.
– Тут твой друг пришел. Стоит на пороге, весь бледный, говорит какую-то ерунду. Не может поверить, что ты жив!
– Тимур?
– С ума сошёл твой Тимур! Поговори с ним, он мне не верит.
И она передала трубку Тимуру.








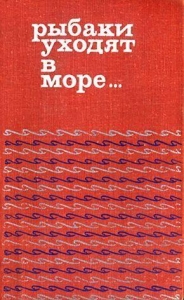



Комментарии к книге «Мёртвое море памяти», Елена Александровна Кузьмичёва
Всего 0 комментариев