Сергей Саканский Книга 3 Разбег и пробежка
Маленькая, одинокая
Что касается Агнии, то маленькой она была всегда, а вот одинокой стала относительно недавно. Это довольно грустная и страшная история, читатель, настолько гнусная и мучительная, что хорошо известный нам с тобой поэт-песенник Жирмудский честно изложил ее в одной из своих незаконченных ораторий.
Агния любила бегать по лесу, печатая кроссовками гулкую изморось, кленовые листья, ледяные корочки и молодую траву.
Постоянным было только время, пространство же рассыпалось под частой дробью ее шагов. Агния начинала в семь утра, каждый раз она бежала новыми тропами, блуждая в лесу, словно в живом лабиринте, всегда теряла ориентацию, но вдруг, увидев какой-то знакомый фрагмент реальности – перекрученную в адских муках рождения сосну или старый пень с раскорякой бредовых корней – быстро находила дорогу к опушке леса, и там, возбужденная, разогретая, создавала свой немыслимый гимнастический танец.
Это был танец солнца и дождя, инея и росы, облака и звезды…
Именно в танце, сложившись пополам и косичками ударив оземь, в перевернутом мире своем она и увидела его бегущего.
Валерка бежал с востока на запад, а глядел изумленно на север – туда, где, под аркой из двух упругих ног в розовом трико появлялась и исчезала маленькая голова, с глазами, обращенными на юг.
Раз-два, раз-два: работают его ноги и руки, три-четыре, три-четыре: мелькает под аркой ее голова, и две косички ударяются о тропу… Эх, запечатлеть бы навсегда в памяти и остановить этот клип, сделать из него короткий рекламный ролик и забыть всю нашу дальнейшую жизнь…
А вы еще не освоили невидимые тампоны пфумп? Тогда мы бежим к вам!
Но Валерка повернул на север, повинуясь розовому зову, и бежал, как бы в рапиде, замедляя темп и становясь уже нерезким, как профессионал, пересекающий финишную черту. Он бежал, глубоко вдыхая весенний воздух, уже почему-то зная, что нашел свое счастье, и перед ним простирается не лесная тропа, а самая настоящая дорога новой любви.
Добежал, и замерло всё, словно кто-то ткнул кнопку стоп: Агния застыла с широко раскрытыми глазами и внимательным ртом, а Валерка застыл, словно статуя бегуна, в трех шагах расстояния глядя на ее губы, упруго натянувшие розовую ткань.
Тишина и покой. Только тихонько покачиваются ее косички, кончиками подметая тропу, и часто надувается его живот, и где-то далеко трещит еще ничего не знающий дятел.
Но двинул Валерка кулаками, будто боксируя, а на самом деле – приглашая в путь, распрямилась Агния, плечами повела, и вновь остановилось время, потекло пространство, и оба побежали они в чащу, Агния впереди, Валерка за ней, за своей новой любовью, за смертью, как выяснилось потом.
Они бежали то рядом, хитро поглядывая друг другу в глаза, то гуськом, жадно рассматривая друг друга в движении, и, наконец, на поляне, защищенной густым ельником, друг на друга набросились, вернее, как бы набросились на что-то третье, невидимое, что каталось меж ними рядом в траве, нечто такое косматое, что надо было схватить и запихнуть.
И далее, день за днем, конец весны, лето и начало осени – бегали они по лесу за своей любовью, каждый раз находя ее на новом месте в лесной глуши… И весь лес был завален их презервативами, завязанными в узелок – такая вот у Валерки была привычка.
А осенью их настигла смерть.
Его убили сразу, удалив как лишнюю деталь, а ее долго валяли по траве, гнали на ней верхом, натягивая косички, словно вожжи, тыкали во все ее складочки ненасытные фаллосы, а, насытившись, бросили ее мертвое тело в мусорную яму.
Ночью Агния ожила и выползла на шоссе. Ее подобрали двое веселых мальчишек на джипе, им очень хотелось сделать с ней то же самое, что другие сделали утром, но победили какие-то новые, незнакомые чувства, и Агнию отвезли в больницу. Там и обнаружил ее на следующий вечер муж, почти уже сошедший с ума от фантазий.
Агния металась в бреду, ее косички бились о подушку, ей мерещились голоса то тех, из леса, то других, из джипа, и еще кто-то там, внутри Агнии говорил – те, которые подошли к мусорной яме в лесу и потыкали ей в попку палкой.
– Пьянь иль наркоманка. Тепло еще, не замерзнет.
– Вот ведь штука! Когда молодой был, хоть раз бы баба в лесу попалась. А тут… Только палкой ее потыкать, разве…
– Жизнь, она вообще – штука. Жизнь – она чем-то похожа на хуй.
– Я за эту тачку хорошие бабки отдал. А ты говоришь: в больницу.
– При чем тут бабки?
– При том. Девчонка – сто баксов в час. А я их джипом беру.
– Как джипом?
– Молча. Как хуй встанет, так первую с обочины и беру. Ты прикинь, почему у меня стекла темные? Мне эту тачку еще целый год отрабатывать, если по девчонке в день.
– Так. Теперь ты в жопу, а я в рот.
– А Злат?
– А Злат будет вокруг бегать и матерные песни орать.
– Жизнь, она, скорее, пизда, а не хуй. С чего ты взял, что она хуй?
– Хуй. Сначала ты маленький, мягкий. Потом встаешь, расправляешься. И вдруг оказалось, что всё – кончил. И тебе уже шестьдесят.
– И что – все дают?
– Все. Как пикало к горлу приставишь.
– И что – никто потом ничего? А если номер запомнит?
– Старалась одна. Но у меня ж на морде не написано, что я мент. Посмеялись ребята.
– Теперь ложим ее на Злата. А я сверху.
– А я?
– А ты в рот.
– А Солнце?
– А Солнце подрочит пока.
– Пизда. Потому что сначала она гордая и сухая. А потом хлюпает и кричит, и просит еще. Так и жизнь. Сколько ни живешь, тебе все равно мало.
– Давай монетку кинем. Если орел, то трахнем. Если решка – отвезем в больничку.
– Теперь ты в груди, я меж лопаток, Злат в рот, а Солнце в гриву.
– А Ветер?
– А Ветер на подмене. Играем, кто последний, на десять баксов.
– Жизнь – это жопа. Глухая, темная жопа, куда мы все с помощью хуя приходим из пизды.
Муж сидел у ее постели, слушал, что Агния бормочет в бреду, и плакал от жалости к себе.
Это был мирный пятидесятилетний человек. Десять лет назад ему крупно повезло, и он стал богатым. Он ушел от старой невзрачной жены и взял себе новую, гибкую красавицу Агнию, быструю, словно Лара Крофт.
После этого случая Агния разлюбила его, и он разлюбил Агнию. Она лежала, не двигаясь, молча ожидая, когда он кончит, а он, чтобы кончить, призывал на помощь образы других женщин, как это было с первой женой. С той ночи, когда в образе другой женщины появилась собственной персоной его первая жена, он и взял курс на развод.
Они расстались без малейшей тени, без обиды и сожаления, муж купил ей уютную однокомнатную квартирку и положил в банк деньги, с тем, чтобы женщина жила на процент, и о том, что его убили друзья-бизнесмены при очередной разборке, Агния узнала случайно, полгода спустя, встретив на оптовке бывшую соседку по старой квартире.
Вот, оказывается, почему прекратились от него письма, которые она получала примерно раз в месяц. Именно раз в месяц он напивался, давая короткую передышку своему старому организму. Если бы друзья не помогли ему расстаться с жизнью, он и сам бы умер лет через пять, бизнесмен.
В последние годы его жизнь превратилась в непрерывный трудовой кошмар. Когда-то давно, выбрав за ее основу комсомольскую линию, он как раз и имел в виду сытое спокойное счастье…
Но всё перевернулось в мире твоем, Господи… Нет теперь в жизни счастья, а есть только постоянная борьба за счастье, которая не счастьем кончается, но смертью.
Агния больше не бегала по утрам, хотя муж выбрал ей квартирку, пусть и в хрущобе, но на опушке леса, думая, покойник, что когда-нибудь она вернется к спорту.
Агния тосковала. Она стала полнеть, у нее остался довольно широкий, очень сексуальный шрам на щеке. Ее сильно возбуждало, если какой-нибудь мужчина прикасался к этому шраму кончиком языка. Агния стеснялась просить мужчин об этом, она вообще стеснялась говорить о любви. Она старалась потереться щекой, прямо своим шрамом о щетину мужчины, выпустить кончающий фаллос изо рта и быстро прижать его к щеке, чтобы струя ударила прямо в шрам… С годами так получилось, что шрам стал необходимым центром ее оргазма.
О чем она думала в эти минуты?
О лесе. О глухой поляне, где лежал остывающий Валеркин труп. О мальчишках, которые прорастали вокруг нее, то сокращаясь пружинисто, то извилисто змеясь…
– Солнце и Ветер в подмышки…
– Бросишь ее на горячий капот…
– Жопа она, хуй и пизда…
Теперь Агния знала, что счастье возможно, что любовь существует, только она подразумевает смерть… А время – само по себе – подразумевает пространство.
Агния знала, что однажды наступит такое утро, когда она наденет розовое трико, заплетет свои тонкие косички и побежит, свободная и быстрая, словно Лара Крофт, по безлюдному лесу, печатая кроссовками гулкую изморось, кленовые листья, ледяные корочки и молодую траву…
Она бежит новыми тропами, блуждая в лесу, словно в живом лабиринте, возбужденная, разогретая, и губы твердеют от трения о ткань, и косички стучат по плечам, и где-то далеко трещит еще ничего не знающий дятел, а она всё бежит и бежит за любовью, за смертью, и, наконец, на поляне, защищенной густым ельником, ждут ее счастливые безбашенные мальчишки – Солнце и Ветер, Злат и Свят.
Они будут любить ее весело и зло: в груди и в подмышки, в уши и в лопатки, в жопу и в рот, и залюбят ее до самой смерти… И вот тогда взлетит она над лесом, и в ослепительно синей вышине исполнит для всесильного зрителя свой безумный, свой последний танец солнца и дождя, инея и росы, облака и звезды.
Следы лидочки
1
Ченчин в буквальном смысле слова выследил свою любовь. В тот день только что выпал тонкий снежок на февральский наст, выпал и успокоился: лишь редкие мохнатые кристаллы всё еще кружили перед глазами, мешая жить.
Ченчин шел с работы, срезая путь в этом подковообразном городке – отнюдь не любуясь природой. Он хотел думать о своей тупой одинокой жизни, а думал о снеге и шел обновленной тропой, как первооткрыватель тропы… И вдруг увидел цепочку узких следов-лодочек, которые свернули справа, и сразу влюбился в эти следы.
Ченчин двинулся по следам, забрал на восток, потом – далеко на юг, в глушь: было ясно, что женщина не шла, а бежала, и вдруг он увидел ее, бегущую по тропе обратно, и, поравнявшись с ним, она поскользнулась, потеряла равновесие, схватила первое попавшееся (плечо прохожего мужчины) и вдруг оказалась в его руках, как говорят литераторы – в объятиях…
Дальше было безумие, пропустим… Или нет – всё же расскажем: ведь такое случается не с каждым.
Ченчин почувствовал плоть женщины, и его собственная плоть отозвалась мгновенно. Женщина быстро глянула Ченчину в глаза. Внезапно они стали целоваться холодными губами – жадно, бесстыдно, дрожа от избытка адреналина, задыхаясь от неожиданных ощущений.
Ченчин подумал, что так не бывает, разве что только в фантазиях и в порнушном кино, которое, впрочем, фантазиями и питается… Он повалил женщину и быстро, меньше, чем за минуту, овладел ею в снегу.
Это была самая яркая минута его жизни. Он так часто вспоминал ее потом, что минута размножилась, развернулась, словно пленка из рулона, обрастая придуманными подробностями, а вот настоящих подробностей Ченчин не запомнил… Он вызывал эту минуту в процессе размеренных, как тиканье часового механизма, уже супружеских слияний с Лидочкой: слабый интимный свет ночника – долгие зимние сумерки, снежная белизна постельного белья – снег, снег, снег…
И даже африканская маска, которая близко висела на стене, под белым циферблатом часов, по которому, также толчками, двигалась секундная стрелка… Ченчин и сам не понимал, почему он всегда смотрит на эту маску в момент своего оргазма, почему не хватает ему этой маски, если оргазм происходит где-нибудь в другом месте…
Тогда, на снегу, он услышал звук, похожий на хриплое рычание, подумал сначала, что с такими стонами кончает таинственная незнакомка, успел удивиться, повернул голову и чуть не столкнулся с огромной собачьей мордой, которая нюхала его.
Это ему не показалось: позже, когда они лежали рядом, расслаблено и тепло, хоть и в снегу, Ченчин увидел вдали силуэт собаки: она подбежала к хозяину, поднялась на задние лапы, прыгнула и кувыркнулась, подняв белый вихрь на фоне туманного диска дневной луны… А потом, когда он вернулся сюда, на другой день, словно Раскольников на место преступления, – увидел на снегу, рядом с двумя «космонавтами» – собачьи следы.
Он стоял на этом удивительном месте и пытался вспомнить, представить то, что происходило здесь вчера. Но лунки были пусты, хотя, как и положено в таком фантастическом кино, в лунках должны были сначала появиться смутные скелеты, обрастая дымчатой кровеносной системой, плотью…
Ченчин лег в свою лунку, в свое идеальное ложе, устроил в углублении руку, слившись с собой вчерашним.
Прямо перед глазами был снег, снег, снег… Ченчин никогда не видел снег так близко. Оказывается, в снеге больше воздуха, чем вещества. Кристаллы лежат изломанными образами детства, подразумевая и сосновый бор, и пальмовую рощу, и заброшенное кладбище…
– Надо вставать, простудимся, – сказал Ченчин.
– Фу, заботливый какой! – сказала женщина.
– Как тебя зовут, спортсменка? – спросил Ченчин.
– Лидочка, – ответила женщина. – У меня такого еще никогда не было, – весомо уточнила она.
И исчезла – растворилась в снежном сумеречном тумане, не назвав ни своего телефона, ни адреса, и он искал ее целыми днями, пригибаясь, вынюхивая следы-лодочки, кувыркаясь в снежной пыли на фоне луны или солнца, словно гончий пес, и, наконец, он нашел ее, и всё повторилось, и вскоре они поженились, и жили долго и счастливо… Вот, если бы так, кхе-кхе, и закончилась эта замечательная история… Но – увы!
2
Лидочка – теперь уже в качестве его законной жены – перед тем, как выбежать, готовила ему завтрак: всегда одно и то же – бутерброды, два крутых яйца, чай и что-нибудь сладкое к чаю. Впрочем, это мог быть тот же бутерброд – с вареньем, например…
Нет, господа! Надо их видеть, эти бутерброды. Крупными кольцами порубленная колбаса, неочищенная. Масло, не намазанное, а пластами положенное на хлеб. Если шпроты, сгущенка или мед – то всё течет и липнет. Кроме бутербродов, Лидочка ничего не умела готовить, даже яйца варить не умела.
Убить ее было мало. Да, именно так: мало было ее убить.
Она никогда не могла сварить яйцо всмятку – яйцо получалось в мешочке. Отчаявшись ее научить, Ченчин постарался привыкнуть к яйцам вкрутую. Но и такие яйца бедняжка не могла приготовить вполне. Она снимала кастрюльку с огня и ставила ее под струю холодной воды, для того, чтобы скорлупа отстала от яйца. Но это ошибка, дорогие товарищи! Чтобы скорлупа отстала от яйца, яйца надо ставить под струю холодной воды не в кастрюльке. Яйца, граждане судьи, следует вынимать из кипятка столовой ложкой и сразу помещать под струю холодной воды.
– Убить ее было мало, – так закончил Ченчин свою речь на суде.
Все, кроме тещи и матери, закусывали щеки, чтобы не рассмеяться. И был еще один мужчина на камчатке – товарищ из Спорткомитета – он тоже не закусывал щеки. Ченчин где-то видел его суровое лицо: он был похож на газовщика, который приходил в тот самый день…
Все присутствующие в зале суда – и присяжные, и судьи, лысеющий прокурор-онанист, недавно разведшийся с женой, адвокат-онанист, еще не женатый, онанисты-свидетели, глубоко понимающие, что секс с какой-то женой есть слабое подобие оргазма с любовницей – все они, конечно, понимали, что Ченчин ни в чем не виноват, если он убил свою жену за то, что она не умела готовить. Каждый из присутствовавших в этом зале мужчин любил и уважал Ченчина – как человека, осуществившего его мечту, но люди – это бывшие обезьяны, и подражают они друг другу так же, как обезьяны, поскольку люди хотят соответствовать общепринятому образу людей.
Невменяемым Ченчина не признали и дали ему восемь лет. Выпустили через пять – по амнистии, когда мать уже была при смерти.
3
Ченчин ворвался в измененный мир. Посадили в 1990‑м, а вернулся он в 1995‑м. Сажали в Советском Союзе, вернулся – в Россию. Сажали здорового сорокалетнего мужчину, вернулся старый больной импотент. Злостный онанист.
Продрачиваясь примерно каждые два часа, Ченчин грезил снегом. Снег был во рту, в глазницах, между пальцев. Яйца холодил снег. Вбивая Лидочкину жопу в снег, снег, снег, Ченчин думал, что сейчас его поймают, возьмут за шиворот, поднимут с кончающим хуем и ткнут головой о дерево, как скомороха в каком-то говняном кино. И потом на его лысине останется страшный шрам. На всю жизнь. На всю эту проклятую жизнь…
В которой уже не было ни матери, ни Лидочки, этой несчастной жены, которую он убил, которая всё, что в жизни умела – бегать на длинные дистанции и отдаваться с великим спортивным мастерством.
Вот за это последнее Ченчин ее и любил.
Но однажды ему стало ясно: в ее розовых складках хозяйничает не он один. Не спрашивайте, почему. Есть у нас интуиция – дама, хоть и капризная, но честная.
О, Лидочка! О, жилочка! Если бы ты не отдалась в первую секунду знакомства, а выдержала, как порядочная, хотя бы несколько часов… Тогда, может быть, я бы и сумел поверить тебе.
4
Ченчин сделал на заводе заточку, смазал заточку техническим вазелином, чтобы легче вошла, чтобы сразу пронзить обоих, как в песне поется, сверху вниз, как долбят лед. Для заточки Ченчин приспособил чехол от удочки. Зачехленная заточка умещалась в рукаве, от плеча до запястья, отчего руки, почему-то сразу обе, стали деревянными, и Ченчин шел, не размахивая руками, словно старина Печорин, словно комиссар Жюв.
И вдруг он увидел следы Лидочки… Это были те самые шипастые кроссовки, которые он подарил ей на Новый год. На тропинках было множество разных следов, туда и обратно, но у следов Лидочки сегодня была одна интересная особенность: они всегда шли в паре с крупными мужскими. Наконец, этот счастливый тандем свернул с тропинки в снег, исчез в туманном ельничке.
Ченчин расчехлил заточку и вошел в чащу. На полянке лежал «космонавт» Лидочки. От него, дальше сквозь ельник, уходили следы: спортсмены прервали пробежку на несколько минут и опять возобновили ее.
На снегу было что-то расстелено, потом снято, с крупными складками и отпечатками швов, наверное, мужское пальто: но даже через эту пальтовую ткань пропечатались ее ягодицы, чужим мужчиной глубоко вбитые в снег.
5
В то утро Ченчин запомнил ее дрянную шутку: два яйца на тарелке вкупе с эклером символизировали хуй. Он обхватил эклер губами и представил, как Лидочка делает минет. Она всегда норовила отказаться от утреннего секса: если он просыпался раньше, она успевала увернуться и убежать. Ей якобы была нужна энергия для пробежки. Теперь он знал, что на самом деле, она просто не хотела портить любовника мужем. Свежего снежного человека – кислым, протухшим, вялым…
– Останься сегодня дома! – сказал Ченчин.
– У меня кросс через неделю, – сказала Лидочка, непроизвольно глянув на часы. – Надо тренироваться.
– Я всё знаю, – строго сказал Ченчин.
Он стоял над ней – маленькой, одинокой возвышаясь – грустный, суровый и злой.
– Ты чё? – изумилась Лидочка и вдруг, всё осознав, завопила:
– Не-ет!
Ченчин схватил заточку обеими руками, размахнулся и вонзил ее в Лидочку сверху вниз. Заточка вошла в темечко, пронзила мозг и остановилась над колодцем горла.
Ченчин крякнул и сделал второй рывок. Заточка легко прошла через пищевод, пронзила розетку Карди, желудок и кишечник. С третьим рывком заточка вышла наружу через анальное отверстие, блеснув красно-коричневой каплей на острие. Таким образом, заточка почти полностью скрылась внутри Лидочки, легко пройдя через все ее пустоты, и Лидочка была как бы посажена на кол, только наоборот, сверху вниз – это ли не достойная казнь за прелюбодеяние?
Ченчин отпустил заточку. Некоторое время Лидочка стояла перед ним, прямая, как палка. Она жалобно смотрела на мужа большими голубыми глазами и ничем не отличалась от живой, разве что, только из темечка у нее торчала пипочка.
Потом глаза Лидочки налились кровью, и ее тело плашмя рухнуло на пол.
– Так, – пробормотал Ченчин. – Теперь надо сосредоточиться…
И в этот момент раздался настойчивый звонок в дверь. Ченчин подкрался, прислушался. Звонок повторился. Затем перешел в решительный стук.
– Откройте, – послышался взволнованный мужской голос. – Я пришел проверить газовые вентили.
У Ченчина затряслись поджилки.
– Мы вас не вызывали, – прохрипел он пересохшим горлом.
– Плановая проверка, – настаивал голос. – Газовые вентили. У меня с собой газовый ключ.
– Газовый ключ, – грустно повторил Ченчин.
Он подумал, что лучше бы впустить мастера, плотно затворить дверь в комнату и проводить его на кухню: ведь надо еще как-то спрятать труп, или даже расчленить его, а вдруг потом этот случайный свидетель… Но вот только запах… После убийства почему-то остается какой-то странный запах на весь дом. Теплый говняный запах убийства… Ченчин заметил, что все еще держит в руке окровавленную заточку.
– Шел бы ты лесом! – вдруг завизжал он. – Может честный человек, наконец, трахнуть с утра свою жену или нет?
Ченчин услышал удаляющиеся шаги. Вернулся в комнату. Лидочка все еще лежала на полу. Действительно – куда же ей деться? Кровь уже впиталась в ковер.
Ченчин положил заточку на пол, рядом с Лидочкиной головой. Прошел в ванну, вымыл руки, глянул на свое лицо в зеркале. Оделся, вышел на улицу. У подъезда околачивался какой-то тип с чемоданчиком, наверное – тот, из газовой службы. Ченчин где-то видел его суровое лицо: он был похож на товарища из Спорткомитета, который в прошлом году повесил Лидочке на плечо ленту, руку ей уважительно пожал… Он недобро посмотрел на Ченчина и скрылся в дверях подъезда.
6
Ченчин вошел в лес. Он пришел на то место, где впервые встретился с Лидочкой, постоял, посмотрел на снег, попытался вспомнить, что происходило здесь, и не смог. Потом он пришел туда, где обнаружил вчера следы Лидочки. Исколотый заточкой «космонавт» был на месте. Это поразило Ченчина. Лидочка уже час, как умерла. А ее «космонавт» ебется, как ни в чем не бывало. Ченчин с неожиданной легкостью представил, как это свершалось здесь. Оказывается, гораздо легче было представить, как это делал с Лидочкой не он, а кто-то другой…
Они бежали то рядом, хитро поглядывая друг другу в глаза, то гуськом, жадно рассматривая друг друга в движении, и, наконец, на поляне, защищенной густым ельником, он грациозно снял пальто, плавно опустил пальто на снег, словно волшебник скатерть-самобранку, и на этой скатерти сразу возникли удивительные яства: лакомые бедра Лидочки, неистово машущие вверх-вниз, Лидочкина голова с далеко высунутым языком.
Ченчину захотел еще раз убить Лидочку. Оставалось лишь непонятным: почему этот спортсмен выходит на утреннюю пробежку в пальто.
Ченчин вернулся домой. Дверь не открывалась, что-то стряслось с замком.
– Газовщик! – подумал Ченчин. – Никакой он не газовщик. Он замаскировался под газовщика, а сам пришел грабить квартиру. Сломал замок. И он сейчас там, у Лидочки. Это он убил Лидочку – газовым ключом. И это он ответит за всё. Это его будут судить и сажать.
Если бы принять этот вариант бытия за основу…
Но, увы – всё оказалось не так.
Ченчин вошел в свой дом, справившись, наконец, с заевшим замком. Лидочка по-прежнему лежала на ковре, надетая на заточку, как съедобное животное на вертел.
Ченчин потрогал ее. Тело было холодным.
Он даже обиделся на реальность. Входя, он был почти уверен, что Лидочки и след простыл…
Но почему всё так? Почему реальность хоть раз не может пойти нам навстречу?
7
Вот и пять лет пролетело. Обновленный Ченчин вернулся в свой город, который был сверху похож на подкову, брошенную в траву или в снег. Всюду в этом городе был лес и лес…
Ченчин поселился в квартире матери, потому что старую квартиру у него отобрало государство. Вместе с жильем уплыла в небытие и памятная африканская маска. А собака, когда-то резвившаяся в снегу, за эти годы состарилась и умерла.
Ченчин шел лесом. В тот день только что выпал тонкий снежок на февральский наст, выпал и успокоился: лишь редкие мохнатые снежинки еще кружили перед глазами, мешая жить…
И вдруг он увидел следы. Это были следы Лидочки: те же самые шипастые кроссовки, тот же широкий бегущий размах… Ченчин опустился на колени и присмотрелся к следу, даже зачем-то понюхал его, словно гончий пес.
След еще сохранил запах женщины: менструальная кровь, моча, бутерброды с крупно порубленной колбасой. Ченчин тихо, хищно зарычал, вскочил на четвереньки и крупной рысью побежал по следам. Повернув на восток, Ченчин перешел на отчаянный галоп.
Следы скрылись в густом ельнике, Ченчин нырнул за ними, заснеженные лапы хлестнули его собачью морду, обсыпав ее мелкой снежной мукой.
То, что увидел Ченчин на поляне, повергло его в изумление и ужас. В самой середине был небольшой вытоптанный круг, словно здесь танцевала ведьма, а в центре этого круга покоилась твердая, как глина, куча говна.
– Лидочка, это ты. Лидочка, ты жива, – нежно прошептал Ченчин.
Ему и в голову не пришло, что эти шипастые кроссовки существуют не в единственном экземпляре, и что следы-лодочки вовсе не следы Лидочки, никогда ими не были и быть не могли.
Откуда же ему знать, что в таких же точно кроссовках по тем же самым тропам, только в другое время, с утренним сдвигом на полчаса, вечерним – на час бегала другая спортсменка, гораздо более счастливая, чем Лидочка, бегала и наслаждалась природой, писала и какала в лесу…
Начнем теперь эту историю. Впрочем, не стоит, ибо еще не закончена старая.
Ему и в голову не пришло, что и тогда, пять лет назад, не Лидочка бегала тут, а другая, неведомая избранница…
Следы-лодочки не могли быть следами Лидочки по той простой причине, что последний год своей жизни Лидочка не бегала по лесу. Местом ее тренировок стали городские улицы.
Легко и весело было бежать, лавируя между прохожими, спешившими на работу в этот утренний час… Не думать о страшном лесном маньяке… А думать о том длинном, порой в несколько лет длинной, эротическом шлейфе, который остается за бегущей женщиной в порочных мозгах прохожих мужчин… И о том сказочном, неописуемом удовольствии, которое ждало ее в конце пути.
Она бежала по городу, по улице Комсомольской, потом сворачивала на Пушкинскую, вбегала, стуча по плечам золотистыми косами, в дом номер восемь, третий подъезд, третий этаж.
Мужчина, тот самый таинственный незнакомец из Спорткомитета, что был на суде, а еще раньше – повесил Лидочке красную ленту на плечо, распахивал дверь, хватал ее за руку, рывком втягивал к себе и овладевал ею быстро, потому что торопился на службу, а утром было еще много дел. Он готовил завтрак, а Лидочка в это время сидела в туалете и с наслаждением срала. Потом они вместе ели, вместе выходили на улицу, мужчина напутственно хлопал ее по попке, и Лидочка снова бежала – по Пушкинской, по Комсомольской…
Ничего этого Ченчин не знал. Он не знал, например, о том, как любовники, лежа по утрам в постели, расслабленные, отдыхая перед безмерным трудовым днем, строили шутливые планы насчет него, Ченчина, фантазируя, придумывая всё новые способы…
– Например, в субботу вы пойдете в лес прогуляться. Я нападу. Его замочу, тебя изнасилую. Все будет конкретно: оставлю тебе пару синяков. Разве ты не хочешь, чтобы я тебя изнасиловал?
– Не пойдет. Он в лес прогуляться не пойдет. Тупой, толстокожий человек. Не любит природу. Деревья не любит. Ничего не понимает ни в чем.
– А если вот так. Я приду проверить, например, газовые вентили. Замочу его газовым ключом. Инсценирую ограбление. А тебя дома не будет: ведь ты, как всегда, убежишь в лес…
– Фантазер ты у меня. Никогда ты этого не сделаешь. Никто никогда ничего не сделает.
8
Ченчин шел лесом. Последнее время он много гулял. Он полюбил природу, полюбил деревья. Многие деревья раздваивались низко у самой земли, они были похожи на женщин, вниз головой закопанных в землю. Эти женщины будто ожидали финального действа древнего ритуала: вот подойдет разъяренный муж и зальет им расплавленное олово – прямо туда…
Теперь Ченчин уже не расставался с заточкой, как комиссар Жюв со своей третьей рукой. Он выслеживал Лидочку, которая опять обманула его. Ведь читатель не мог не заметить, что в сцене убийства явно что-то не то. Вот Ченчин схватил заточку, размахнулся и вонзил ее в Лидочку сверху вниз. Вот он крякнул и сделал второй рывок, и заточка легко прошла через мрачный туннель пищевода, пронзила розетку Карди, желудок и кишечник. С третьим рывком заточка вышла на улицу через анальное отверстие, блеснув красно-коричневой каплей говна на острие. Таким образом, заточка почти полностью скрылась внутри Лидочки, оставив одну только пипочку, словно кнопку на макушке, которой обычно выключается женщина, но дальше, по возвращению Ченчина в комнату, мы видим, что он «положил заточку на пол, рядом с Лидочкиной головой». Все это могло значить только одно: Лидочка жива. И Ченчин должен был снова выследить и убить ее.
Мы-то знаем, что теперь, через столько лет, бегает по этим тропам совсем другая женщина, и эта история повторяется, ибо образы мира ходят вокруг нас кругами, и постоянно продолжается одно и то же, одно и то же…
Но Ченчин всего этого не знал: он так и ходил по лесу, с мрачно висящими руками, словно старина Печорин или комиссар Жюв, и высматривал следы, следы…
Однажды впереди на тропинке появилась фигура. Это был спортсмен, он шел спортивной ходьбой, переваливаясь и обстоятельно поводя кулаками. Ченчин где-то видел его раньше…
Мужчина прошел, чуть задев его плечом, но не извинился. Казалось, Ченчин вот-вот вспомнит, где видел это лицо. Он хотел оглянуться, но не успел.
– А если вот так. Он будет идти на работу, как обычно, лесом. Я пойду навстречу. Притворюсь спортсменом, буду идти спортивной ходьбой. Потом наброшу ему сзади на шею проволоку и задушу. Дело одной минуты… Он будет извиваться, сучить ногами. Но я еще крепче натяну свою стальную проволоку. Мои руки будут дрожать от напряжения, они посинеют, я порежусь до крови. И его руки тоже будут дрожать, когда он будет скрести себя по горлу, стараясь схватить удушку, но проволока глубоко врежется в его мясо, из-под проволоки брызнет кровь… Он высунет язык, словно в оргазме. Да, пожалуй, и кончит напоследок. И представит себе самую лучшую минуту своей жизни. А в жизни ты ничего толком не сделаешь, а если и сделаешь, то не то и не так. И что другие с тобой сделали, не поймешь… И память твоя похожа на великое снежное поле – снег, в котором больше воздуха, нежели вещества, в котором прячутся, никогда не оживая вполне – и сосновый бор, и пальмовая роща, и заброшенное кладбище… Да что там частности и детали! Целая страна, огромная северная страна разоренных погостов и сломанных ветряных мельниц.
Охотник ястребов
1
Или Золотая Пепельница – так еще можно назвать этот рассказ и выдержать его в стиле Паустовского, Грина и братьев их…
С нее все начинается, и ею заканчивается. Фамильная реликвия семьи… Она была единственным ценным предметом в доме майора Ястребова. Бывшего майора – майора запаса.
2
Послужив отечеству верой и правдой, Ястребов получил пенсию и вышел на покой.
В юности он хотел обмануть и Родину, и саму жизнь, но в итоге обе эти дамы обманули его самого. Он думал, что мир будет всегда таким, как в 75‑м, когда семнадцатилетний Ястребов поступил в училище…
Жалкая, тухлая жизнь. Мерзкая, лживая Родина.
Всё, что от него требовалось, это продать свободу – рано вставать, подчиняться, носить форму, жить там, куда пошлют, да и жить, впрочем, неплохо: ведь Родина щедро платила за проданную свободу. Но Родина обманула его, невинно разведя руками: у нее кончились деньги, вернее, она отдала его деньги другим. Проклятая шлюха. Кто ее выебал – тому и отдала. Деньги, верой и правдой заслуженные майором Ястребовым.
В 91‑м всё рухнуло, вместе с великой страной.
Его новой зарплаты хватало на неделю питания, а на пайковые деньги можно было приобрести две-три банки консервов.
Жена сидела на кухне, много курила, грызла ногти и смотрела исподлобья, как Ястребов снимает в коридоре шинель, как вступает в мягкие тапочки и – шурумбурум! – по-прежнему напевая, идет к ней, вытягивая губы трубочкой…
Конечно, ее можно понять: ведь она выходила замуж за успешного мужчину, который будет ее вкусно кормить, красиво одевать, водить в гости и возить на курорт. Первые годы оно так и было, даже добавилось еще одно, дополнительное удовольствие: солдатики, которых муж часто присылал домой что-то починить.
Но в 91‑м всё рухнуло, вместе с великой страной…
3
Его жена неимоверно взлетела в те же самые дни: подружка научила ее спекулировать.
Они покупали на заводе утюги и возили их в Турцию. Там эти железные утюги улетали за самые натуральные доллары, подтвержденные, как говорят, хоть это и неправда – золотым запасом США.
Жена стала красиво одеваться, вкусно есть. Майор Ястребов стал пить. Другого способа уйти от депрессии он не знал.
Голодный, униженный, злой – приходил он на кухню, а жена ставила перед ним миску вареной картошки без масла. Больше ты не заработал, муж! Сухая, твердая картошка, которой давишься до слез… Слово муж можно было бы выделить каким-нибудь цветом.
И он честно чувствовал свою вину. Ведь другие могли… Полковник Огурцов за полгода выстроил себе трехэтажный особняк. Глазычев, одноклассник, трудясь в МВД, купил новую квартиру, обновил машину, носил малиновый пиджак.
Ты просто не смог, Ястребов, но ты ведь хотел… У тебя не было никаких принципов, ты никогда не был «честным»… Вот почему ты и чувствовал себя виноватым. Перед женой, которая вдруг взяла и прокрутилась…
К концу 92‑го она завела постоянного любовника и перестала давать мужу. Тогда же он и узнал о солдатиках, да и о прочих ее грешках.
Жена отселила его в гостиную, мотивируя тем, что он пьет. Он ведь всегда пил, но раньше это ее не смущало. Дело в том, что раньше он пил, но у него оставались деньги, и немалые – на семью. А теперь всех его денег хватало только на пить.
Весной 93‑го Ястребов окончательно ушел в алкоголизм, и его погнали из армии. Пенсию, все же, назначили. Тогда же жена начала бракоразводный процесс. То есть – начала и кончила. Благодаря мафиозным связям, она все оформила за один день. Просто утром у Ястребова был один паспорт, а вечером – другой. А уже через неделю Ястребов жил в хрущобе…
С тех пор он и стал – охотником.
4
Однажды он нашел перчатку, которую кто-то повесил на ветку акации. Это была правая перчатка, она точно подошла к его маленькой ладони. Казалось бы, что пользы от одной перчатки, и к чему она нужна – маленькая, одинокая?
Рассказывают, что Ленин, выронив как-то перчатку из окна электрички, тут же бросил вслед за ней другую: мол, если кто найдет одну, то пусть найдет сразу две… Но Ленин мудак, он не понимал, что и один предмет из пары можно с успехом применить и поставить на верную службу.
Это, кончено, фантазии, насчет Ленина: пусть читатель обвинит автора в идиотизме, если читателю от этого полегчает… Не перчатка, а варежка, не электричка, а поезд на паровой тяге, и Ленин далеко не мудак, да и вообще – он тут не при чем: это просто анекдот, старый, ходивший в народе еще до рождения вождя, как-то раз упомянутый Достоевским… Да и кто такой Ленин – помнит ли благосклонный читатель? Гуню и Аллу знает, Ксюшу знает и обожает. А Ленин – кто? И Достоевский тоже – кто он такой?
Перчатка, найденная Ястребовым, была кожаной, дорогой. Пара таких перчаток стоила половину его пенсии. Перчатка трепалась на ветке, на ветру, она была грязная и мокрая, Ястребов принес ее домой, вымыл с хозяйственным мылом и просушил. Высушенную перчатку он расправил, размял, натянул на руку и залюбовался своей рукой… Это была красивая, мужская, весьма дорогая рука. Ястребов протянул руку в перчатке над столом, стряхнул пепел в пепельницу…
Рука в дорогой перчатке над золотой пепельницей, красный огонек сигареты в полировке стола, словно пьяно блуждающий лазерный прицел… И сигарета – не какая-нибудь бомжовая «Прима», а гламурный «Парламент»…
Отъезд. Стол красного дерева, широкий, начальственный стол… На полу медвежья шкура… За столом сидит человек, его затылок гладко выбрит.
Это – генерал-полковник Ястребов, министр внутренних дел России. Он богат, силен, криминален. Он продает оружие чеченским бойцам, а из Чечни гонит в Россию водку и бензин. Он обдумывает план миллионной сделки, подсчитывает прибыль, на которую сможет взять себе очередную, седьмую наложницу – восемнадцатилетнюю Люсю, которую надо одеть-обуть, купить ей апартаменты и автомобиль.
С сегодняшнего дня их будет ровно семь – девушек в апартаментах. Каждое утро генерал будет приезжать в министерство из нового района. И больше никогда не вернется в эту сраную дыру.
Острый, коварный блик лазерного прицела шарит по комнате, многократно отражаясь в стеклах и зеркалах, в фотографиях прославленных предков, в наградных листах, являя немного обалдевшему зрителю всю историю рода Ястребовых, которые верой и правдой служили царю и отечеству, Ленину и Сталину, Брежневу и Горбачеву, Ельцину и Михасю… И вот, застывает смертельная капля на бритом затылке генерала. Толчок – и генерала нет: на секретных долларовых ведомостях лежит массивная мертвая голова, кровь тонкой струйкой стекает на пол, будто бы в комнате кто-то мочится…
Нет, пусть уж лучше он – не фантазийный мертвый генерал, но живой реальный майор, только целый и невредимый, здесь и теперь. Майор запаса Ястребов, нищий, несчастный, стареющий человек.
5
Он вошел в магазин бодрой пружинистой походкой, на ходу снимая дорогие перчатки. Печатка-то была, конечно, одна, но со стороны оно выглядело… Ястребов тщательно отрепетировал этот быстрый жест иллюзиониста: как будто бы одну перчатку уже снял, сунул в карман, а другую, по рассеянности, держит в руке, и этой перчаткой показывает на табачную полочку:
– Пачку «Парламента».
Оксанка заметила перчатку и коротко взглянула ему в глаза:
– Одну?
Ястребов смутился, забормотал:
– Да нет, у меня их две… Я ее в карман…
Но оказалось, что речь шла о сигаретах: этот расхожий прием торгаша: Одну? Что еще?
И Оксанка положила на прилавок две пачки дорогих сигарет.
6
Это был ужас. Никто, кроме отставного майора Ястребова не представлял, какой это был ужас. Он взял свои пачки «Парламента», лениво положил их в карман. В магазинчике были молодые люди, они выбирали какие-то снэйки, предвкушая лакомство, наслаждение… Как же он ненавидел их – этих молодых, жрущих, ебущихся.
Он пришел домой. Дома не было совершенно ничего съедобного. Ни куска хлеба – ничего. Только две пачки «Парламента». Ну, еще соль, сахар и крахмал.
Но ведь если бы он не взял вторую пачку, то мог бы взять пять буханок хлеба, и ел бы их, ел, обильно запивая водопроводной водой, густо посыпая то солью, то сахаром, то крахма… Отставить! Крахмал вылетел по инерции.
Это была суббота, вечер. Сбербанк откроют только утром в понедельник. Тридцать шесть часов ему надо было что-то есть. А голод он испытывал уже сейчас.
Ведь он как хотел? Купить пачку «Парламента», вальяжно выплыть из помещения, надевая перчатку в своем величавом движении (подразумевалось, что вторую он наденет уже на улице), потом, согнувшись, добрести до оптовки, накупить на оставшиеся деньги хлебопродуктов, чтобы продержаться до понедельника… Именно по понедельникам, каждое утро, он снимал с книжки четвертушку своей пенсии.
А тут: Одну? Что еще?
Это был ужас, но Ястребов знал: она заметила перчатку, она оценила ее.
7
Благосклонный читатель недоуменно пожмет плечами: ну и что? Перехвати полтинник у соседей: в понедельник отдашь. Зайди к какому-нибудь старому другу, тем более что у Ястребова их порядочно накопилось за жизнь, и умерли от пьянства еще не все.
Но благосклонный читатель – не майор Ястребов. Майор Ястребов никогда…
Ничего. Ни у кого. Не просил.
8
Он впервые увидел Оксанку в июне. Ястребов просто так завернул в этот магазинчик, чтобы поглазеть да перевести дух под кондиционером: обычно он отоваривался на оптовке, где все было дешевле на рубль-другой.
Магазинчик назывался «Лесной», потому что был построен на краю города и обслуживал пятиэтажки, которые стояли на самой опушке.
Именно в одной из этих пятиэтажек когда-то жила Агния – маленькая, одинокая бегунья… Жирмудский, поэт песенник, как-то раз принес домой странную зеленую шляпу, но об этом речь впереди… За мной, читатель!
Итак, Ястребов зашел в магазинчик «Лесной». И увидел ее…
– Оксанка! Че ты, дура сраная… Где эти коробки, мать твою… Ой! Простите великодушно…
Выпорхнула из подсобки в зальчик какая-то цыганистая фря и замерла, Ястребова у прилавка заметив. А Оксанка посмотрела ему в глаза. С легким любопытством, словно на какой-то новый постер посмотрела…
Ястребов улетел.
Он никогда никого не любил – просто порой хотел некоторых женщин, включая бывшую жену. Та буря, которая пронеслась в его голове… Та смесь ужаса, отчаянья, счастья и тоски…
Тварь. Какая же красивая тварь. Саму жизнь за нее отдать…
– Вот, как оно, оказывается, бывает… – бормотал он себе под нос по дороге домой.
На другой день он пришел в магазинчик «Лесной», небрежно бросил на прилавок пятьдесят рублей и громко сказал, двинув от левого глаза ладонью:
– Пачку «Парламента»!
– Что еще? – спросила Оксанка, с любопытством посмотрев на потертую шляпу пришельца.
– И бутылочку вина.
Оксанка оглядела Ястребова с ног до головы.
– Это дорогое вино, – грустно сказал она.
Ее слова означали, что она оценила своим опытным взглядом все насущное достоинство Ястребова и сделала вывод: данному покупателю не по карману такое вино. Типа того: Ты, срань, рвань. Ты даже смотреть не имеешь права на это вино. Ублюдок. Да это вино пьют только достойные люди: бандюки, депутаты, путаны. Пошел вон.
Ястребов подавил гнев, закипающий от прочитанных мыслей продавщицы. Ему хотелось завизжать, затопать ногами: Я, я, я… Да ты знать не знаешь, какое я пил когда-то вино. Когда весь мир лежал у моих ног. Когда меня любила не какая-то тварь, вроде тебя, а сама Великая Родина.
– Это мое любимое вино, – нежно сказал Ястребов, алкоголик.
9
Когда-то он знал офицера, который брал женщин шоколадом и шампанским. Тот офицер приходил в ресторан, заказывал бутылку шампанского и шоколадку. Сидел в углу одиноко, загадочно, наполнял бокал, наблюдая таинственные игры пузырьков… Выпивал, отламывал квадратик шоколадки, съедал, ощупывая кончиком языка, мягкий, словно говно, шоколад…
Честно рассматривал женщин, долго и печально глядя каждой в глаза. Каждой по одному значительному взгляду.
Женщины в те годы ходили в ресторан парами. Со стороны казалось, что две подруги просто хотят провести вечер вместе. Красавица, как правило, брала с собой дурнушку, чтобы оттенить свой образ и выиграть приключение наверняка.
Мужчины тоже ходили парами, и смазливый златоуст брал с собой неотесанного некрасивого приятеля. Они тоже действовали наверняка: ведь женщины ходят парами…
В результате часто случалась неудача, ибо ошибка была заключена в самой тактике. Обе женщины западали на златоуста, оба мужчины – на красавицу. В возникшей суматохе и златоуст, и красавица с большой вероятностью оставались не у дел. А неотесанный и некрасивый с удовольствием трахал некрасавицу.
Таким образом, выходило, что не красавица берет с собой дурнушку, а наоборот. Все блага в этой ситуации получала дурнушка: сначала она достигала оргазма с туповатым приятелем, потом, используя его как связного, сближалась с красавцем и имела его по полной программе в течение длительного времени.
Вот так глупо и парадоксально была устроена жизнь на нашей далекой планете.
Упомянутый офицер Ястребова, наблюдательный инопланетянин, сидел один, с шоколадкой и шампанским. Просим провести соответствующие логические построения для его ситуации, из коих мы поймем, что для офицера Ястребова вечер кончался получением именно красавицы, причем, не на один раз, а в длительное пользование и к обоюдному удовольствию.
Не знаю, зачем и для кого выдумал Ястребов этого знакомого офицера: ведь искушенному читателю, чисто по стилю (таинственные игры пузырьков… съедал, ощупывая кончиком языка…) давно стало ясно, что речь как раз и шла о самом офицере Ястребове в его молодые годы.
Это именно он сидел одиноко в углу ресторана, попивая шампанское, кислое, как брага, и поедая шоколад, мягкий, как говно.
Он не любил ни шампанского, ни шоколада. Много позже он также не любил сигареты «Парламент», которые, как и всё в новые времена, были фальшивыми.
Однажды он попал в логический штопор, а именно: пошел в ресторан со своим неотесанным некрасивым другом. В результате Ястребов и женился на дурнушке, которая много лет пользовалась им, а затем предала и бросила, будто бы не женщиной она была, а Родиной самой.
10
Из этой печальной повести мы можем сделать, по крайней мере, два косвенных вывода. Во-первых, в юности майор запаса Ястребов был человеком весьма привлекательной наружности, златоустом и ловеласом. Во-вторых, он имел достаточный опыт в обращении с женщинами.
И Ястребов не просто хотел ее, он был уверен, что Оксанка рано или поздно будет его: Дайте только срок…
11
Итак, невысокого роста, но красивый и уверенный в себе, немолодой, но импозантный человек приходил два-три раза в неделю в магазинчик «Лесной», именно в те дни, когда была смена Оксанки, заказывал пачку «Парламента» и перекидывался двумя-тремя словами с девушкой, которую тайно любил и чьей благосклонности добивался.
И с каждым днем Оксанка смотрела на богатого, щедрого клиента все более благосклонно, и в какой-то момент в ее хорошенькую головку с маленьким, не очень-то прочным черепом, пришла – не могла не прийти – странная мысль о том, что неплохо бы с ним попробовать, хотя бы попробовать: А вдруг это именно то, что ей нужно?
12
Именно так, с внешней стороны прилавка, для подходящего оттуда Ястребова, выглядела эта ситуация. Но мы, как правило, неадекватно оцениваем и ситуации вокруг нас, и самих себя. Вот и майор Ястребов…
С внутренней стороны прилавка мир выглядел по-другому.
– Слышь, Оксанк! Вон опять твой хлопец пилит.
– С чего же мой та?
– Так он ко мне, что ли, ходит?
– Может, он просто в магазин ходит…
– Ага, в магазин. Я же вижу, как он перед тобой выебывается. Бабок у него нет, ясно. Я их, уродов, за милю чую. Но туда же: «Парламент» ему подавай.
– Да гонит он. В зипунишке каком-то ходит, а перчатки дорогие. Зажигалка за триста рублей. Точно: подпольный миллионер, вроде Остапа Бендера. Я его склею, будь спок. Вот только Арман вернется…
13
Арман вернулся из Турции в конце октября. Он появился внезапно, будто джинн: Оксанка вынырнула из-под прилавка, где распаковывала коробку с тоником, и встретила жгучий взгляд его чайных глаз.
Не сказав ни слова, Арман взял Оксанку за руку, обошел вокруг стойки, прижал к груди и поцеловал. Оксанка ослабла, она бы свалилась на пол, если бы Арман не держал…
Он увлек ее в подсобку. Там подняла голову Сария, поставила полупустую чашку на стол и вышла из подсобки в зал, высоко держа красивую голову. Сария была раньше девушкой Армана, и какое-то время они любили его вдвоем, запирая дверь магазина на засов, пока Арман, наконец, не понял, что любит Оксанку, и только ее… Сария затаила злобу на Оксанку: пусть читатель думает, что это сработает где-нибудь в конце нашего рассказа.
Арман поднял Оксанку на руки и закружил, с ее ног слетели черевички… Он любил ее долго, сильно: любил классически, в рот и в зад, снова классически, вращал ее, как балеринку, жевал ее трусики, спускал ей слюну на язык, а кончил – в груди. И снова любил: в подмышки и между лопаток, в пупочек и в ступни, опять классически, а кончил – в рот.
– Ну, здравствуй, наконец! – сказал он, когда они сели за стол, и налили себе по чашке зеленого чая.
Это была игра. Именно так Арман выражал свою любовь: войти, не сказать ни слова, сразу увлечь ее в песню о главном…
Арман протянул руку над столом, и Оксанка крепко пожала ее.
14
Ястребов вошел в магазин. На нем были темные очки марки «Шпенглер». Он снял очки сразу, как только вошел: так складывают зонтик. Дело в том, что на улице был ясный морозный день, и всё ослепительно блистало – вот почему сегодня нужны именно темные очки, для тех, конечно, кто может позволить себе их иметь.
Держа очки глубоко в ладони, так что было видно только одно целое стекло, Ястребов остановился перед прилавком, чтобы указать очками в сторону табачной полочки, и тут только заметил, что за прилавком стоит не Оксанка, а Сария.
– Пачку «Парламента», как всегда, – сказал Ястребов, и в голосе его прозвучало отчаяние.
Он покосил глазами туда-сюда: не спряталась ли Оксанка где-нибудь за коробками, ящиками? Или она в подсобке сидит и сейчас выйдет?
В подсобке действительно кто-то был: оттуда слышался равномерный стук. Гвоздь забивает, что ли?
Внезапно стук прекратился, и Ястребову показалось, будто хриплый мужской голос отчетливо произнес:
– Асса!
Затем послышались шаги и фарфоровый звон: так разливают чай в чашки.
Сария подала Ястребову сигареты, почему-то тревожно косясь на закрытую дверь подсобки.
– А девушки вашей нет! – весело сказала она, и Ястребов почувствовал, что краснеет.
– А где же она? – серьезно спросил он, будто и впрямь речь шла о какой-то его девушке…
– Отдыхает, – сказала Сария, кивнув на дверь подсобки.
Ястребов вышел. Странный какой-то отдых, если оттуда только что доносился стук забиваемого гвоздя…
15
Но вернемся теперь к фразе: а вдруг это именно то, что ей нужно…
– Значит так, братишка… – сказал Арман, сделав глубокий глоток из свой чашки. – Это настоящее, серьезное дело. Все это надо хорошенько перетереть. Ты намекни, что готова к нему пойти. Бесплатно, по любви как бы. Как войдете, ты ему сразу не давай. Вообще, не давай себя даже лапать, ты понял?
– Да нахуй он мне сдался? – обиженно сказала Оксанка.
– Ага. Нинахуй не сдался. Но мне противно, смотри, чтобы этот труп тебя хоть пальцем тронул. Я, значит, следом позвоню, скажу: сантехник. И все дела.
– Сразу звонить не нужно, – подумав, сказала Оксанка. – Он может догадаться, не откроет. Ты выжди чуть.
– Согласен. А ты посиди, потяни, пусть вина нальет. И сразу присмотри что-нибудь тяжелое: пепельницу там, плевательницу… Подстрахуй меня, если он вообще не захочет дверь открывать, может и такое случиться. Ебнуть, если что, сможешь?
– Не вопрос.
– Тогда всё. Дальше – мои проблемы. Ты мне только скотч купи и щипцы какие-нибудь.
– Зачем щипцы? У него ж дома утюг, паяльник есть.
– Откуда у него паяльник, если он с баблом? И утюг… Он что – сам себе гладить будет? В офис сдает, я думаю… И вот еще… Еще веревка нужна.
– Зачем веревка? Скотчем и примотаем.
– Верно. Ты у меня голова. Мумию из него, ублюдка, сделаем. Люблю тебя.
Арман не выдержал, вскочил, рывком спустил свои шикарные черные брюки. Оксанка нагнулась и глубоко заправила в рот его упругую любовь.
16
Все смешалось в голове Ястребова, будто это была не голова вовсе, а какой-то дом Облонских. Оксанка отдыхала в подсобке, но в то же время она почему-то забивала гвоздь. Ястребов был готов подумать, что стук ему просто пригрезился: ведь пригрезилось же ему, что кто-то в той же самой подсобке отчетливо произнес:
– Асса!
И фигня какая-то вышла с «Парламентом». Пятьдесят рублей выбросил ни за что.
Но главное, главное… Зарема сказала: ваша девушка. Это значит, что они уже говорили о нем. Что мысль о нем уже поселилась в ее голове… Не Зарема, конечно, а Сария. Но это не имеет значения. Значит, теперь осталось только… Сказать о главном. Сегодня же.
Только бы солдатик его не подвел…
17
В юности Ястребов называл его Мой Генерал: в иные моменты он и вправду казался Ястребову огромным – гораздо больше его самого. Ястребов представлял себя скачущим на детской лошадке, упрятав древко глубоко между ног. Голова жены в этот момент проистекала из головы лошади, будто бы женщина надела маску лошади затылком вперед… Или, стыдясь своего оргазма, натянула юбку на лицо.
– Генерал… Ты генерал? – шептала, откинувшись, жена. – Мой генерал… А я – генеральша…
Давно надо было понять, что любовь этой женщины была липовая: ведь не Ястребова она любила, а лейтенанта, будущего хотя бы полковника… И отдавалась она не Ястребову, а его «генералу».
– Генерал… Ты… – как-то раз, уже на излете их жизни, откинувшись, вздохнула она. – Какой же ты генерал?
– Я маршал, – глухо сказал майор, уже подозревая, каким будет следующее слово, и рука его непроизвольно сжалась в кулак.
– Солдатик ты. Маленький оловянный сол…
Движение Ястребова было непроизвольным: так шлепают муху на лбу.
Обозначим рекогносцировку. Ястребов лежит слева, справа лежит жена. Ястребов обнимает жену правой рукой, левая сжата в кулак.
– …датик! – успела закончить жена, и Ястребов сомкнул свои руки в общем жесте: левой двинул жену кулаком в скулу, а правой – устремил жену навстречу кулаку.
Это и была последняя их близость: жена отселила Ястребова в гостиную, а потом и вовсе – в грязную вонючую хрущобу.
18
И вот теперь солдатик снова подвел его.
Сначала все шло на удивление легко, словно в сонной фантазии онаниста. Оксанка была за прилавком одна. Ястребов попросил бутылку «Массандры», десятилетней выдержки.
– Любишь такое вино? – небрежно спросил он, чувствуя, как холодный пот широкой лентой тянется по хребту.
– Я такое не пью – дорого.
– Давно хочу пригласить тебя в гости, – сказал Ястребов, и пот уже стал капать со лба на щеки, на нос: его тело как бы сочилось, будто это был не Ястребов вовсе, а какой-то пористый пузырь, упруго налитый жидкостью.
– Я вашего адреса не знаю, – просто сказала Оксанка, и тут внутри пузыря появилось сердце: забилось о его стенки, словно живая рыба.
– Давай я тебя сегодня это… – прошептал Ястребов пересохшими губами. – После работы встречу.
– Давайте, – без колебания согласилась Оксанка.
19
И Ястребов шел по городу… Он шел по родному городу и пел. Это были старые песни, песни из детства, песни о главном – Стою на полустаночке… А в поле верба… Протопи ты мне баньку по-белому…
В его голове будто что-то лопнуло и растеклось, обливая изнутри щеки, затылок, шею… Это и было счастье – едкое, материальное, его можно собрать в ладонь, как росу, и напиться им в стельку… Будто он глиняный и пустой внутри, и по глине течет изнутри его липкое счастье.
Давно, в далеком и солнечном 75‑м, сразу после школы, после выпускного вечера… Он проводил одноклассницу, которую тайно любил десять лет. И она позволила поцеловать себя. И они договорились встретиться назавтра. И вот, шел он тогда по городу и пел. Много лет назад было в жизни Ястребова несколько счастливых минут. И вот сегодня – опять…
Здесь, на этой высокой ноте, как говорят журналюги, умудряющиеся отыскать в нашей жизни множество высоких нот, мы бы могли – без сожаления и желания – оставить майора Ястребова навсегда. Но – увы.
20
Они поднялись в хрущобу, вошли. Заперев дверь, Ястребов набросился на Оксанку, стал целовать. Оксанка с радостью отдала ему свой язык. Он и не представлял, что поцелуй может быть столь сладким. Словно листик-леденец из далекого детства… Но солдатик молчал. Он не хотел даже присесть на корточки – не то, чтобы встать.
Ястребов задрал ее юбку, залез в трусы, пальцем проник внутрь девушки, в ее горячие влажные складки… Ничего. Солдатик лежал.
Он лежал, положив руки за голову, смотрел в чистое весеннее небо. В небе трепетал жаворонок. Срок службы подходил к концу, скоро на дембель, и пошли они все нах… Кто там хочет отдать приказ, скрипучим голосом, майор? Меня дома дивчина ждет. Оксанка. А меня зовут Тибул… То есть, тьфу! – Арман меня зовут. И ебать я хотел во все дыры весь ваш мудацкий устав… В белых тапочках здесь лежу.
Оксанка отпрянула, высвободилась, тыльной стороной ладони вытерла губы. Затем щепотью потрогала солдатика Ястребова. Усмехнулась в нос. Повернулась и отошла, рассматривая книги на полках.
«Дон-Кихот», «Золотой теленок», «Анна Каренина»… Люди иногда советуют читать книги, но времени на них никогда не хватает…
Она испытывала ужасную досаду. Не потому, что квартира оказалась убогой, и легенда о подпольном миллионере рассеялась, как дым. Ей очень хотелось перепихнуться с этим некрасивым пожилым человеком, успеть до того, как войдет Арман. Перепихнуться с будущим трупом. Она так решила, еще в ту минуту, когда Арман изложил ей свой план. Потому что Арман изменял ей в коммерческих поездках, она знала, он сам рассказывал. Не с турчанками, конечно, а с другими челноками, как с девчонками, так и с парнями. И ей не хотелось оставаться в накладе. За всю свою короткую жизнь она еще не пропустила ни одного мужчины, который ее хотел. Перепихнуться с тем, кому потом заклеишь рот скотчем…
Оксанка оглянулась на хозяина. Тот стоял посреди комнаты, смотрел на нее и курил, труся пепел в пепельницу, которую держал на весу в руке. Пепельница блестела весомо и тускло. Оксанкин глаз был наметан на золото: ее сердце забилось. Сколько еще таких вещиц в этой сраной берлоге? Отдаст, сам все отдаст…
– Давайте тогда лучше просто вина выпьем, – сказала она.
– Нет, – сказал майор Ястребов. – Не будет тебе вина.
Он коротко взвесил на руке свою пепельницу и со всего маху обрушил золото на голову Оксанки, будто нахлобучив ей шляпу.
Золотая пепельница (помните, мы обещали начать и кончить?) состояла из устричнообразной чаши, над которой возвышался маленький крылатый ангел. Именно этот несчастный ангел своим остроконечным шлемом и пронзил нетвердую черепную кость Оксанки, расправив крылья в ее сером веществе. В кромешной тьме оказалась перевернутая голова ангела, тараща расширенные ужасом глаза на жалкий гипофиз девушки…
Оксанка выглядела потрясающе в своей новой шляпе: щеки ее пылали, зрачки пульсировали, острый язычок мелко-мелко забарабанил по верхней губе.
Внезапно майор Ястребов почувствовал, что его солдатик снова верен ему. Тем временем Лидочка… Отставить! Оксанка – затуманилась глазами и умерла. Ястребов бережно подхватил ее, уже стекающую на пол, распластал на ковре и овладел ею с такой силой страсти, что стаканы задрожали в своих подстаканниках на столе, будто всё это – и комната, и окно, и полуживой осьминог на полу – едет куда-то в поезде дальнего следования – в Казань или в Кострому…
И в этот момент раздался настойчивый, длинный звонок в дверь. Ястребов подкрался, прислушался. Звонок повторился, затем перешел в решительный стук.
– Откройте, – послышался взволнованный мужской голос. – Это я, сантехник.
– Иди в жопу, – буркнул Ястребов. – Я тебя не вызывал.
– Плановая проверка, – настаивал голос. – Газовые вентили. У меня с собой газовый ключ.
– Газовый ключ, – грустно повторил Ченчин.
Он подумал, что лучше бы впустить мастера, плотно затворить дверь в комнату и провести его на кухню: ведь надо еще как-то спрятать труп, или даже расчленить его, а вдруг потом этот случайный свидетель… Но вот только запах… После убийства почему-то остается какой-то странный запах на весь дом. Теплый говняный запах убийства… Ченчин заметил, что все еще держит в руке окровавленную заточку.
– Шел бы ты лесом! – вдруг завизжал он. – Может честный человек, наконец, выебать с утра свою жену или нет?
Ченчин услышал удаляющиеся шаги. Вернулся в комнату. Лидочка все еще лежала на полу. Действительно – куда же ей деться? Кровь уже впиталась в ковер.
Отставить… Все-таки не Ченчин, а Ястребов.
21
Убивать, конечно, гуманнее в мозг, а не в сердце. Дело в том, что если пронзить сердце, то мозг будет еще некоторое время жить, чувствуя ужасные смертные муки. Например, если человека запихнуть в мясорубку ногами вперед, то мозг будет ощущать все мучения дробящегося в мясорубке тела, пока в жерле мясорубки не скроется голова. То ли дело, когда человека запускают в мясорубку головой вперед – это секунда, и всё.
22
Очнулась Оксанка в Раю. До Перестройки такие как она грешницы, конечно, попадали в ад, где горели на медленных огнях и лизали раскаленные сковороды. Но сейчас, во времена политкорректности и толерантности, на всем постперестроечном пространстве установился новый Божественный Закон. В ад у нас отправляются лохи, мужики, оппозиционеры и так называемые честные женщины. А братков, олигархов и блядей отправляют в самый настоящий Гламурный Рай, ибо в Чистилище сидят те же самые чиновники и так же берут взятки.
Оксанка лежала в розовой джакузи и потягивала из тонкой трубочки коньяк. Одесную, ошуйную стояли двое мужчин в красных фесках с кисточками, держа наготове дорогие шампуни, махровые полотенца, эрегированные фаллосы и шампуры с шашлыками. Журчала тихая музыка. За окном, на солнечной зеленой лужайке мирно прогуливались люди и животные, над мангалами вились сизые дымки… И на этой счастливой ноте, ничего не объясняя, не предполагая, без всякого сожаления и желания мы, наконец, оставим ее.


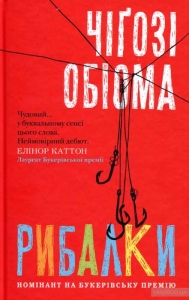

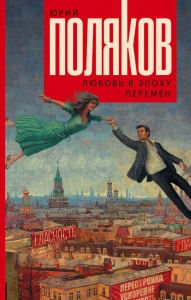
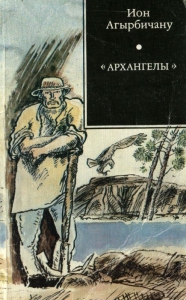
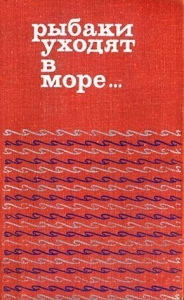
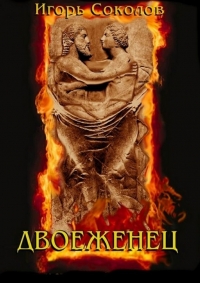
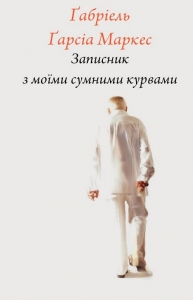

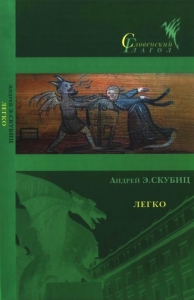

Комментарии к книге «Разбег и пробежка (сборник)», Сергей Юрьевич Саканский
Всего 0 комментариев