Пол Скотт
Предисловие
По крайней мере сто лет Индия была частью представления Англии о самой себе, и все это время Индию вынуждали быть отражением этого образа.
П. Скотт. «Дележ добычи»Мисс Эдвина Крейн, учительница, а впоследствии инспектор миссионерских школ, один из ведущих персонажей романа Пола Скотта «Жемчужина в короне», прожив в Индии более тридцати пяти лет, незадолго перед смертью снимает со стены некогда подаренную ей коллегами картину, которая так и называется — «Жемчужина в ее короне». На этой сусально-лубочной картине изображена добрая и могущественная английская королева, окруженная своими министрами и советниками, а также индийскими князьками, жрецами и простыми людьми, смиренно просящими ее принять в дар драгоценную жемчужину — Индию. Эта наивная и лживая аллегория, изображающая Индию, какая «никогда не существовала, кроме как в своей золоченой раме», — примитивное и в то же время очень наглядное воплощение той имперской мифологии, которая долгие десятилетия не только подкрепляла официальную политику Британии в ее заморских владениях, но и стала частью национального самосознания — того «имперского комплекса», который Англия болезненно изживала в послевоенные десятилетия, когда национально-освободительные движения привели к развалу империи.
«Имперский комплекс» наиболее отчетливо отразился в художественной литературе, посвященной именно Индии — действительно жемчужине Британской империи. История этой литературы насчитывает уже около ста пятидесяти лет, ибо она зародилась одновременно с укоренением англичан в Индии — сначала экономически закабаливших страну с помощью Ост-Индской компании, затем, с 1857 г. (после восстания сипаев, которое угрожало пошатнуть позиции англичан в стране), объявивших большую часть Индии владением британской короны.
Разумеется, на протяжении этих полутора веков трактовка темы Индии в английской литературе существенно менялась, однако неизменным оставался ракурс ее рассмотрения: она всегда занимала подчиненное положение, была как бы вторична по отношению к теме «англичане в Индии». И все же соотношение этих двух «компонентов», их «баланс» в английских романах об Индии тоже заметно менялся — вольно или невольно отражая объективное движение истории.
Викторианский роман середины XIX века пронизан безоблачно-безмятежной уверенностью в полном праве и смысле «цивилизаторской миссии» англичан что особенно отчетливо проявилось в откровенно дидактических романах для юношества Дж. Хенти и миссионерки миссис Шервуд: из них следовало, что «обращение в истинную веру» индийцев — восхитительно благородная работа: «прозревшие дикари» бесконечно признательны своим наставникам. Насильственное завоевание страны преломлялось в романах того времени как захватывающее приключение, требовавшее незаурядной смелости и стойкости.
Однако поддерживать миф о «признательном дикаре» становилось все труднее, и на смену ему — по мере того как крепла железная поступь империализма — пришел миф о «цивилизаторском мессианстве» англичан, о «бремени белого человека»: его праве и обязанности управлять, сокрушая все препятствия, в силу своего богом данного превосходства. Так складывался культ «строителей империи», нашедший свое отражение а романах Флоры Стил, Э. И. Мейзона и, конечно, в первую очередь Редьярда Киплинга, в произведениях которого кодекс «строителя империи» сложился окончательно. Управлять Индией — не просто право англичан, это их Долг, тяжелая работа, которая требует мужественных людей, способных к полному самоотречению и самопожертвованию во имя Дела — величия империи. Отношение к индийцам в литературе конца XIX — начала XX века снисходительно-патерналистское — естественно, к «хорошим» индийцам, т. е. к преданным слугам. В основном индийцы предстают в виде неразличимой массы. Идея несовместимости, «взаимонепроницаемости» Востока и Запада принимается как нечто безусловное.
Подлинная Индия — не экзотическая, «загадочная» Индия, а реальная страна с ее оригинальной богатейшей культурой и ужасающей нищетой, которую долгие годы британского правления только усугубили, — подлинная Индия не интересовала подавляющее большинство англичан; с высокомерным пренебрежением относившиеся ко всему индийскому, они тщательно хранили, буквально пестовали свою изоляцию.
Уже в произведениях тех лет главную угрозу «миссии» Запада представляет «европеизированный» индиец, который, однажды выломившись из привычной среды, не может больше быть искренне лоялен к англичанам. Впервые такой образ мы встречаем в романе Мейзона «Разрушенный путь» (1907).
Киплинговский культ «действенной» силы, героизация «настоящего мужчины», не боящегося ни тяжелой работы, ни страданий, распространенные в английском романе об Индии в конце XIX — начале XX века, исключали даже отдаленную постановку вопроса «Почему мы вообще в Индии? Что мы тут делаем?». Эти вопросы впервые — в намеке — поставлены в произведениях, написанных после первой мировой войны, когда громоздкое здание империи дало трещины. Начался «период сомнения» — складывается более критический взгляд на себя, начались первые атаки на бесспорность и незыблемость британского владычества. В известном романе Э. М. Форстера «Путешествие в Индию» (1924), а также в произведениях Эдварда Томпсона все отчетливее звучит мысль о пагубности владения империей для Англии (вопрос, каково это для Индии, по-прежнему едва намечен), сомнение в ценностях европейской цивилизации. Спасение видится в том, чтобы понять Индию (в романе Форстера это символизирует дружба англичанина Филдинга и индийца Азиза). Однако «понимание» носит отвлеченный, морально-благостный характер: о праве Индии на политическую независимость речи пока нет.
В 20–30-е годы по-прежнему выходит немало романов, в которых отстаивается мысль о законности пребывания англичан в Индии, — из них наиболее характерны произведения Мод Дайвер. Но даже ратующие за империю писатели не могут больше игнорировать начавшееся в стране движение за независимость, хотя они и пытаются всячески дискредитировать его (так, Дайвер называет Ганди и Неру «жестокими коммунистами, выпестованными Москвой»). Надо отметить, что даже из такого рода романов постепенно исчезает глянцево-фальшивый, мистико-экзотический образ Индии — его время прошло.
После получения страной независимости в августе 1947 года тема «англичане в Индии» претерпевает заметные изменения. Окончательная потеря империи, основой которой была Индия, вызвала к жизни поток литературы, в которой горечь утраты, тоска по былому величию привели к взрыву имперских настроений, попытке приукрасить — вопреки исторической правде — роль Англии в судьбе Индии и ее «цивилизаторскую миссию». Так, неизменный мотив романов А. Во, Дж. Мастерса, Н. Монсеррата — восхваление заслуг англичан, принесших законность и порядок в раздробленное, одержимое насилием общество. Поскольку независимость — свершившийся факт, эти авторы не могут с ним не считаться, не забывая, однако, помянуть, что происки коммунистов погубят дело свободы (Дж. Мастерс, «Пост Бховани», 1954); так неоколониалистские тенденции смыкаются с антикоммунистическими.
В английской неоколониальной литературе 70-х годов нередкое явление — обращение к историческому псевдовикторианскому по форме роману. Произведение Дж. Г. Фаррелла «Осада Кришнапура» (1973) об индийском восстании 1857 г., отмеченное, как и романы конца XIX века, стилизацию которых он представляет, идеей расового превосходства англичан, несовместимости Востока и Запада, воспеванием капиталистического предпринимательства и буржуазного прогресса, — наиболее характерный пример неоромантизации «золотого века» империи.
На фоне подобной литературы, искажающей историческую правду, дезориентирующей читателей, особенно важны те произведения, в которых предпринята попытка беспристрастно разобраться в истинной истории Британской империи, показать, какую роль в судьбе Англии сыграло владение империей и утрата ее. Таких книг, естественно, немного, и ведущее место среди них принадлежит тетралогии Пола Скотта (1920–1978) «Раджийский квартет», написанной в 1966–1975 гг («Жемчужина в короне» — первая часть тетралогии), и роману «Оставшийся» (1977), который можно рассматривать как постскриптум к этому монументальному произведению, глубоко исследующему одну из острых, поныне актуальных тем в британской истории: утрату власти в Индии, историческую неизбежность этого явления и его последствия.
Необходимо подчеркнуть, что, хотя Индия, ее люди, быт, нравы, культура достоверно и очень уважительно обрисованы в тетралогии Скотта (недаром его романы популярны в Индии, где его называют «честным» писателем), автор изучает в первую очередь историческую судьбу своей страны. Англии, в ее переломный, критический период.
П. Скотт долго шел к этому произведению, принесшему ему наконец известность. Впрочем, если мерить известность признанием у критики, то произошло это буквально на пороге смерти писателя: лишь его роман «Оставшийся» был широко отмечен в прессе и удостоен высшей литературной премии Англии — Букер прайз. Читающая публика «открыла» П. Скотта раньше академического литературоведения и критики: романы тетралогии пользовались большой популярностью — они помогали англичанам осмыслить свою историю лучше, нежели официальная историография.
Все написанное Скоттом до тетралогии можно рассматривать как подступы к ней: почти все его ранние романы посвящены Индии военного и послевоенного времени, во всех заметны поиски той своеобразной художественной формы, виртуозное владение которой писатель продемонстрировал в «Раджийском квартете» и «Оставшемся».
Пол Скотт знал Индию не понаслышке: он служил там в армии в годы войны и, хотя в 1946 году вернулся на родину, не раз впоследствии бывал в Индии, собирал материалы, старался на месте докопаться до сути феномена «упадка и разрушения» Британской империи в Индии, перевернувшего послевоенную английскую историю.
Когда в 1949 году П. Скотт предложил одному из лондонских издательств свой первый роман, он был отвергнут — как затем и шестнадцатью другими. Писателю потребовались годы упорного труда и терпения, чтобы заставить консервативное английское общественное мнение прислушаться к своему голосу.
Уже в первых романах П. Скотта «Джонни-сахиб» (1952), «Чужое небо» (1953) намечена тема англо-индийских отношений, поставлена проблема ответственности англичан за положение Индии, критически обрисована жизнь белой колонии. Но основное внимание уделено описанию военных действий, и нередко попытка выйти к символическим обобщениям оборачивалась метафизической расплывчатостью (особенно в романах «Клеймо воина», 1958, и «Китайский павильон любви», 1960). Многие персонажи ранних произведений Скотта кочуют из романа в роман, придавая им художественную и тематическую цельность и обнаруживая тем самым подспудно зревшее намерение писателя создать масштабное историческое полотно.
Наиболее удачное произведение «предраджийского» периода — роман «Райские птички» (1962), герой которого, англичанин Роберт Конвей, перестает воспринимать Индию сквозь миф официальной британской пропаганды и начинает видеть ее такой, какая она есть на самом деле, а также осознавать неблаговидную роль Англии в ее судьбе. Заметно оформилась и художественная манера писателя, его стремление связать воедино различные временные пласты в поисках наиболее адекватного художественного воплощения динамики исторического процесса.
Тетралогия «Раджийский квартет» — огромное произведение, единственное в своем роде: до П. Скотта никто из английских писателей не рассматривал проблему британского владычества в Индии так глубоко, многосторонне, всеобъемлюще.
Хотя действие тетралогии непосредственно охватывает период 1942–1947 гг. — последние годы британского правления, на самом деле хронологические рамки произведения (это относится и к каждому входящему в его состав роману) значительно шире: действие то «откатывает» назад, то уходит вперед, добираясь до времени написания тетралогии. П. Скотт проявляет удивительно тонкое историческое чутье, объективность, острый аналитический ум. Но его тетралогия — не только масштабный исторический роман-эпопея. В ней сложно и органично сплавлены черты документально-политического, социально-психологического, семейно-бытового романа — каждый из этих планов раскрывает свою грань в теме романа-тетралогии.
П. Скотт очень серьезно относится к избранному им жанру, требующему всестороннего знакомства с реальными историческими фактами. «Историческая канва должна быть правдивой, — говорил он. — Повествование должно вырастать как из достоверно отображенных характеров, так и из реальной истории».
Правдивость — принцип, лежащий в основе художественного видения Скотта. Писатель словно пытается смыть десятилетиями накапливавшиеся в представлении английских читателей предрассудки, искажения, невежество. «Я покинул Индию, — писал Скотт в конце 60-х годов, — со все растущим чувством изумления и даже стыда: как могли мы так долго влиять на эту страну и в конечном итоге знать о ней так мало?»
Но главное у Скотта — не просто знание конкретных исторических реалий. Главное — ясное понимание того, что благополучие англичан возникло на многолетнем грабеже империи — Индии в первую очередь, — лицемерно выдававшемся за «цивилизаторскую миссию». В одном из своих последних интервью Пол Скотт сказал: «Когда вы едете по пригородам Лондона, то повсюду видите лица англичан — сытые, ухоженные, умные лица: они такие потому, что у нас была империя…»
Основной идейный пафос тетралогии — глубокое осуждение той роли, которую британский империализм сыграл в судьбе Индии. Он раскрывается прежде всего в центральной, проходящей через все четыре романа (рассказанной разными персонажами, с добавлением новых нюансов) истории трагической любви индийца Гари Кумара и англичанки Дафны Мэннерс. Традиционный для колониального романа сюжет — несчастная история двух влюбленных — приобретает под пером Скотта нетрадиционное звучание. Он вбирает в себя весь комплекс психологических, политических, социальных проблем, характерных для англо-индийской конфронтации, становится ее символом.
Пожалуй, именно в первой части тетралогии, в романе «Жемчужина в короне», особенно резко сфокусированы все проблемы, затронутые в тетралогии. В сюжетном отношении роман — вполне законченное произведение: тетралогия построена словно бы концентрическими кругами, так что последующие романы углубляют, освещают с новой стороны то, что уже известно по предыдущим. Автор искусно пользуется приемом высвечивания центральных событий с позиций разных персонажей, которым он попеременно предоставляет слово. Кстати, такое построение романа — когда истина обнаруживается в процессе совместных поисков — требует и активного «соучастия» читателя: он не просто внимательно следит за развитием действия, но напряженно докапывается вместе с автором, фигура которого тоже иногда возникает на страницах книги, до сути происходящего. Недаром один из персонажей романа (окружной комиссар Робин Уайт) называет работу, предпринятую автором, «расследованием». Роман (как и тетралогия в целом) отмечен чертами документа: в нем зафиксированы беседы автора с различными участниками воссозданных событий, даны отрывки из их писем, дневников, воспоминаний. Мозаика фактов, мнений, взглядов соединяется в многоцветную цельную картину действительности.
Но что же именно «расследуется»? Не только история Гари Кумара, которая реконструируется из рассказов разных персонажей; не только трагическое событие в Бибигхарском саду — изнасилование Дафны Мэннерс хулиганами-индийцами 9 августа 1942 года — и прокатившаяся вслед за тем волна народных выступлений, сопровождавшихся арестами и вооруженными расправами со стороны англичан. Исследуется весь комплекс англо-индийских отношений, самая суть проблемы «англичане в Индии», трагическим воплощением которой и стал Бибигхар.
«История, начавшаяся в Майапуре вечером 9 августа 1942 года, закончилась бурным столкновением двух наций», разорвавшим в конце концов «имперское объятие», длившееся около ста пятидесяти лет. Именно в силу символического, обобщающего значения этого события Бибигхар становится идейным и смысловым центром не только «Жемчужины в короне», но и всей тетралогии. Снова и снова возвращаясь к нему, автор распутывает сложный узел этой истории, в который оказались сплетены судьбы не только ее непосредственных участников, но и всех индийцев и англичан, соединенных на многие десятилетия судьбой самой Империи. «Бибигхар — это событие, у которого нет ни определенного начала, ни четкого конца». В нем слились настоящее, прошедшее и будущее.
Антагонистические отношения индийцев и англичан персонифицируют в романе отношения Гари Кумара и Роналда Меррика. Полицейский комиссар невзлюбил молодого Кумара с первого взгляда: и за то, что тот, будучи выпускником английской привилегированной закрытой школы, много лучше его говорит по-английски, и за то, что юноша обладает чувством собственного достоинства, и за то предпочтение, которое Дафна Мэннерс оказывает Кумару перед ним, Мерриком.
Собственно говоря, «бибигхарское дело» — не само преступление в Бибигхарском саду, а весь сложный комплекс расовых англо-индийских взаимоотношений, то, что Кумар позже назовет «ситуацией», — «бибигхарское дело» началось при первой же случайной встрече Меррика с Кумаром. Меррик давно избрал Кумара как жертву, ибо ему нужна была жертва, чтобы выплеснуть накопившуюся ненависть к «черномазым». А образованный, «европеизированный» индиец ненавистен ему вдвойне (традиционный антагонизм во многих английских романах об Индии). Поэтому Меррик не колеблясь приписывает преступление в Бибигхаре Кумару и его друзьям, и ничто не в силах спасти Кумара от мести «робота» — так Дафна точно определяет механизм функционирования английской колониальной администрации, — «робота», противиться которому невозможно, ибо «робот — эталон правоты». А потому Кумар и другие индийцы, невинно арестованные по этому делу, подвергшись жестоким пыткам и унижениям, обречены без суда гнить в тюрьме.
Образ Гари Кумара поражает своей трагической цельностью, безысходностью. Он — жертва «робота» не только в силу несчастливо сложившихся обстоятельств и личной ненависти к нему Меррика. Он — жертва «робота» и потому, что стараниями отца выломился из предначертанного ему как индийцу жизненного пути и образа мыслей и вознамерился стать «индийцем, которого англичане признают и охотно примут в свою среду». Банкротство и смерть отца обращают его надежды в прах, и вынужденное возвращение на родину приносит мучительное отрезвление. Его «английскость» в Индии ему не помогает. Как и его безграмотные соотечественники, Кумар «невидим» для белых, и сознание навязываемого ему чувства своего ничтожества, никчемности поселяет в его надломленную душу «мрак» — ту ненависть к англичанам, которая при столкновении со встречной ненавистью вызывает «слепящую вспышку», что и происходит в конфликте Кумара с Мерриком.
Впрочем, Кумар чужой и среди своих соотечественников, его индивидуалистической натуре претит организованный политический протест (деятельность, которую ведут Моти Лал или Видьясагар), он не знает, кому «присягнуть на верность». Потому-то так трагична участь Кумара, о которой мы узнаем из других романов тетралогии: выйдя из тюрьмы, он навсегда «растворился» среди безымянной толпы — навязанная ему «невидимость» становится сознательно усвоенной «анонимностью».
История жизни Гари Кумара — как и других ведущих персонажей романа (Дафны Мэннерс, Эдвины Крейн, Меррика) — попадает в тщательно, предельно достоверно выписанный писателем историко-политический контекст: Пол Скотт виртуозно владеет не часто встречающимся у английских писателей умением воспроизводить судьбу человека в неразрывном единстве с исторической судьбой его страны.
Итак, что же принесли англичане Индии, в чем суть их «цивилизаторской миссии»? Лаконично и исчерпывающе отвечает на этот вопрос Робин Уайт, бывший в 40-е годы окружным комиссаром Майапура (кстати, этого названия мы не найдем на карте Индии, что имеет (елью подчеркнуть характерность описанных событий, их типичность для любой индийской провинции под властью англичан): «В Индии мы были ради того, что могли от нее иметь». Словно отвечая тем, кто ставил в заслугу англичанам объединение до того раздробленной страны, Уайт говорит: «Для интеграции общин мы… не сделали ничего, разве что связали их железными дорогами, чтобы быстрее перекачивать их богатства себе в карман». Он же обвиняет англичан в «расколе между мусульманской и индусской Индией», который кончился трагической мусульмано-индусской резней в августе 1947 года, отметившей, по словам леди Мэннерс, тетки Дафны и вдовы бывшего губернатора провинции, «конец нашей миссии „объединить и цивилизовать“».
Так трезво и недвусмысленно оценивают роль английского владычества в Индии те персонажи, которые безусловно симпатичны автору. Мы слышим среди них и голос скромной Эдвины Крейн, осуждавшей соотечественников за то, что они «годами давали обещания (предоставить стране независимость. — И.В.) и годами исхитрялись откладывать выполнение этих обещаний»; и голос Дафны Мэннерс, проницательно сравнившей английский клуб в Майапуре с лайнером, который «несется во тьму, а на капитанском мостике — никого», — это, по сути дела, выразительный образ всей империи.
Разумеется, таких объективных, самокритичных англичан было меньшинство. Многие, даже понимая неизбежность приближающейся независимости Индии, цеплялись за ускользающую власть, пытались обосновать свое пребывание в стране. Наиболее яркая фигура из числа таких англичан, замечательно выписанная Скоттом, — бригадный генерал Рид, старый вояка киплинговского толка, «простой солдат, неискушенный в политике», для которого Индия — «краеугольный камень империи». Хотя даже он понимает, что независимость Индии неизбежна, он, во-первых, полагает, что она должна быть отсрочена «в интересах свободного мира в целом», а во-вторых, само обретение Индией независимости мыслится Ридом как дар со стороны Британии, «знак нашего терпения, доброй воли и исторических замыслов».
Впрочем, в порыве откровенности Рид признает, что такому человеку, как он, «независимость Индии сулила одни убытки и никаких выгод».
Вводя в ткань повествования отрывки из «неопубликованных воспоминаний» Рида, Пол Скотт замечательно использует прием «саморазоблачения» героя. Надо отметить, однако, что Скотт никогда — даже в случае, когда персонаж ему явно антипатичен, не впадает в карикатурность, и если герой все же обретает под его пером черты символа, то лишь в результате «сгущения» характерного, сугубо реалистического.
Как точно подмечает Уайт, Рид был из тех англичан, для которых индийцы «приемлемы разве что как слуги, или солдаты, или деталь пейзажа». То же можно сказать и об английском друге Кумара, Колине Линдзи, с которым Кумар некоторое время поддерживает переписку. Линдзи черпает свои представления об Индии из книг «про охоту на кабанов», а приехав в страну вместе со своим полком, продолжает считать настоящей Индией «клуб, офицерское собрание, бунгало, английские цветы в палисаднике, чистеньких слуг в белом». Индия Кумара, т. е. подлинная, страдающая, нищая Индия, его ужасает и отвращает. Такое отношение понятно английской колонии Майапура. А вот поступок Уайта, приведшего в английский клуб трех индийцев, высокопоставленных индийцев, ее шокирует: он нарушил одно из основных табу.
Что уж говорить о Дафне Мэннерс, которая «только и знала, что нарушать правила»: ей игра в «превосходство белых» казалась просто смешной! Осмелиться «нарушить правила» до того, чтобы открыто встречаться с Кумаром, а после жуткой истории в Бибигхаре мужественно ждать рождения ребенка, — этого колония не прощает Дафне, она становится «этой девицей» и подвергается откровенному остракизму.
Образ Дафны Мэннерс — большая удача Скотта-художника. Это цельный, сильный характер, раскрывающийся читателю прежде всего в дневнике Дафны; он составляет основу последней части романа и ставит все на свои места в этом болезненном и сложном переплетении стольких человеческих судеб, отразившем взаимоотношения двух наций.
Глубоко поэтичный, лиричный дневник Дафны, из которого мы узнаем о недолгом мучительном счастье ее любви к Кумару, одновременно и в высшей степени трагический документ: именно из него нам становится известно, что в действительности произошло в Бибигхарском саду и почему Дафна, опасаясь за судьбу возлюбленного, связала его обетом молчания — не ведая, что ему выпадет на долю.
Очень важное место в идейно-образной системе романа занимает Эдвина Крейн, проведшая в Индии большую часть своей нелегкой жизни: она приехала туда гувернанткой, потом стала учительницей миссионерской школы и наконец школьным инспектором — т. е. испробовала все характерные, типичные занятия одинокой «англичанки в Индии», выполнявшей наравне с мужчинами великую «цивилизаторскую миссию». Ее образ полемически заострен против этих верных помощниц «строителей империи».
Идея «превосходства белых», высокомерное пренебрежение к индийцам с юности отталкивали мисс Крейн, она испытывала к индийцам уважение и сострадание, искренне желала помочь — и действительно помогала как могла, не жалея себя «во имя человеческого достоинства и счастья». И все-таки была в этом благородном желании мисс Крейн какая-то идеалистическая расплывчатость; по справедливому замечанию индианки леди Чаттерджи, мисс Крейн «любила Индию и всех индийцев, но никого из индийцев в отдельности». Ей так и не удалось перешагнуть барьер, «не позволявший свободно думать о человеке с не таким, как у тебя, цветом кожи».
Эдвина Крейн прозревает, пройдя через тяжкие испытания: сидя у трупа учителя Чоудхури, индийца, ценой своей жизни спасшего ее от гнева разъяренных хулиганов, она снова и снова повторяет слова, которые многим ее соотечественникам кажутся бессмысленными: «Много же мне понадобилось времени… Жаль, что я опоздала». Трагическое самоубийство мисс Крейн воспринимается большинством окружающих как акт безумия. Читатель поймет это иначе: как отчаянную форму протеста после мучительного постижения истины.
Следующие романы тетралогии — «День скорпиона» (1968), «Башни молчания» (1971), «Дележ добычи» (1975) — продолжают главную тему первого романа, в чем-то дополняя, развивая ее; «бибигхарское дело» заново воспроизводится в каждом из них — с нового ракурса, с точки зрения нового персонажа.
Сколь ни трагичная, но все же частная судьба Кумара рассмотрена в контексте происходящих на глазах читателей бурных исторических событий, которые Индия переживала в 1942–1947 гг. — на пороге своей независимости. Характер этих событий раскрывается, кроме того, на примере судеб двух семей: индийской и английской. С ними связано большинство сюжетных перипетий этих романов.
В романе «Дележ добычи» очень важна фигура сержанта Перрона, человека, свободного от расовых и узкоклассовых предрассудков (несмотря на его аристократическое происхождение), за многими его высказываниями слышен голос самого автора. Перрон (он историк) размышляет о том, что владение Индией «питало» Англию и развращало ее. Он критически отмечает так свойственное англичанам стремление к строго соблюдаемой иерархии, что сохранилось и в колонии, «их внутреннюю убежденность в классовых правах и привилегиях», «глубокое безразличие к проблемам, влекущим за собой ответственность» (даже «ответственность собственников», как точно определяет Перрон).
К Меррику (тот уходит в армию, сохранив при этом душу и взгляды полицейского) Перрон испытывает органическую неприязнь, справедливо замечая, что его «ошибки» (осуждение невинных) были возможны лишь благодаря поддержке «железной системы английского владычества».
Роман «Оставшийся» (1977), последнее произведение Пола Скотта, представляет собой, как уже было сказано, что-то вроде постскриптума к тетралогии, завершающего ее главную тему краха империи, тему «англичане в Индии». Если тетралогия — огромное, детально разработанное панорамное полотно, с эпическим размахом воссоздающее события решающего периода в истории Индии и Англии, с громадным количеством персонажей, главных и второстепенных, то роман «Оставшийся» компактен и по объему, и по числу действующих лиц, и по охвату событий. Однако эта камерность значима: книга — словно последний аккорд в монументальной, но самой историей изжитой теме.
Значимо и то, что главный герой, полковник Таскер, появлявшийся со своей женой Люси лишь на периферии действия тетралогии, здесь попадает в центр повествования: незначительный, незаметный в период крупных событий, исторических катаклизмов, Таскер мог оказаться в центре внимания только в годы, когда «исход» англичан из Индии уже завершился. «Оставшийся» Смолли Таскер — из последних «сахибов», измельчавших, почти опустившихся. Печальный итог никчемной жизни Таскера, отдавшего империи все, что у него было, т. е самого себя, становится воплощением плачевного итога стопятидесятилетнего пребывания англичан в Индии.
Роман вызвал в Англии огромный интерес. Комментируя присуждение ему Букер прайз, поэт Филип Ларкин, председатель жюри, подчеркнул, что Скотту удалось в едином художественном решении соединить две темы: «конец империи и конец долгой, но несостоявшейся жизни».
Проза Пола Скотта, поднимающая актуальнейшие для послевоенной Британии социально-политические проблемы, — яркое явление в современной английской литературе. Не будет преувеличением сказать, что, обратившись к историческому роману — жанру, имеющему в английской прозе давние традиции, — П. Скотт обогатил его, продемонстрировав замечательно гибкое владение сложной композицией, умение свободно сочетать разновременные пласты, для того чтобы в динамике показать процесс и закономерности исторического развития.
Пафос подлинно художественного произведения, строгость документа, аналитическая глубина философского исследования — все это, органически дополняя одно другое, служит у Пола Скотта высокой цели воспроизведения правды Истории.
И. Васильева © Предисловие и перевод на русский язык издательство «Радуга», 1984Жемчужина в короне (Роман)
Часть первая. Мисс Крейн
Итак, представьте себе плоский ландшафт, пока еще темный, но у девушки, бегущей в совсем уже черной тени от стены сада Бибигхар, вызывающий то же ощущение огромности, бескрайности, какое за много лет до нее испытала мисс Крейн, стоя в том месте, где кончалась улочка и начинались возделанные поля, — ландшафт был другой, но та же была плодородная, намытая реками равнина, что раскинулась между горами на севере и сухим плато на юге.
Всего несколько часов назад, между ливнем и короткими сумерками, ландшафт этот вобрал все цвета спектра из заходящего солнца и окрасил ими каждую из своих граней, способных поглощать свет, — желтые стены домов в туземном городе (хранящие там и сям еще и темные следы кровавого прошлого и неспокойного настоящего); вечно движущуюся воду реки и неподвижную воду искусственных прудов; блестящую стерню и вспаханную землю далеких полей, щебенку шоссе. Деревьев в этом ландшафте почти не увидишь, кроме как вокруг белых бунгало европейских кварталов. На горизонте мутно лиловеют горы.
Это будет повесть об одном изнасиловании, о тех событиях, что привели к нему, и тех, что за ним последовали, и о месте, где оно произошло. В ней есть сюжет, действующие лица и место действия; все это тесно переплелось, но в совокупности не может быть изображено вне связи с непрерывным потоком изменчивых нравственных оценок.
По делу о происшествии в саду Бибигхар несколько человек было арестовано и проведено расследование. Судебного процесса в строгом смысле этого слова не было. Впрочем, с тех пор разные люди говорили, что какой-то суд все же состоялся. Эти люди даже утверждали, что история, начавшаяся в Майапуре вечером 9 августа 1942 года, закончилась бурным столкновением двух наций — не первым, но и не последним, потому что они в то время еще были накрепко слиты в имперском объятии, таком давнишнем и замысловатом, что сами не ведали, ненавидят они друг друга или любят и какая сила так нерасторжимо спаяла их и мешает каждой заглянуть в свое будущее.
* * *
В 1942 году, когда японцы разгромили британские войска в Бирме и мистер Ганди стал призывать индийцев к мятежу, англичане в Майапуре, как гражданские служащие, так и военные, вынуждены были признать, что будущее не сулит ничего хорошего. Однако трудности бывали и раньше, и с ними как-то справлялись, думалось — справятся и теперь, теперь-то ясно, как быть, и еще не скоро возобновятся нудные споры относительно плюсов и минусов их имперской колониальной политики и системы управления.
Как любили выражаться в клубе, сейчас все дело было в том, что первое на очереди, и, когда там узнали, что мисс Крейн, инспектор школ протестантской миссии округа, сняла портрет мистера Ганди со стены в своем рабочем кабинете и перестала приглашать к себе на чашку чая индийских дам, а вместо этого поит чаем молодых солдат-англичан, это вызвало не только улыбки, но и чувство благодарности. В мирное время позволительны любые завихрения и чудачества. Во время войны требуется сомкнуть ряды и решительно стать на ту или другую сторону, что мисс Крейн, видимо, наконец и сделала.
Мало кому было известно, что в вопросе о чаепитиях у Эдвины Крейн по вторникам инициатива исходила от самих индийских дам. Мисс Крейн подозревала, что навещать ее раз в неделю им отсоветовали мужья, не только потому, что она сняла со стены портрет мистера Ганди, но и потому, что в этом чреватом взрывами году визиты их могли быть истолкованы как заискивание перед английским правительством. Обиднее всего ей показалось то, что дамы даже не потрудились объяснить ей причины своего поведения. Одна за другой они просто перестали у нее появляться, а встречаясь с ней на базаре или по дороге к миссионерской школе, лепетали в свое оправдание что-то невразумительное.
Об отступничестве дам она жалела, ведь она всегда старалась вызвать их на откровенность, о своем же обращении с портретом мистера Ганди не жалела ничуть. У дам были свои оправдания, у мистера Ганди — ни малейших. По ее мнению, он вел себя безобразно. Он, можно сказать, подвел ее. Годами она смеялась над европейцами, говорившими, что ему нельзя доверять, и вот теперь он откровенно предлагает японцам помочь ему выгнать англичан из Индии, и, если он воображает, что в их лице найдет лучших правителей, тогда остается только предположить, что он сошел с ума или, хуже того, показал всему миру, что его философия ненасилия имеет оборотную сторону, практически сводящую ее на нет. Насилие он, видимо, решил перепоручить японцам.
Потеряв всякое доверие к Махатме и разочаровавшись в поведении индийских дам (впрочем, разочарования такого рода были ей не в новинку), она стала задумываться над тем, не больше ли толку было бы от ее жизни, если б она прожила ее не среди соотечественников, убеждая их оценить высокие достоинства индийцев, а среди индийцев, пытаясь доказать, что хотя бы одна англичанка их уважает и восхищается ими. Добросовестно проследив ее деятельность, можно было сделать вывод, что лучше всего она всегда ладила с людьми смешанной крови; а это, возможно, подтверждало ту истину, что сама-то она была ни рыба ни мясо: учительница без педагогического образования, сотрудница миссии, не верящая в бога. Индийцы так до конца ее и не приняли, англичане же в большинстве были для нее чужими. В этом крылась известная ирония. Индийцы, думалось ей, относились бы к ней серьезнее, не будь она представительницей организации, благами которой они охотно пользовались, не преодолев, однако, своего исконного к ней недоверия. С другой стороны, не работай она в рядах миссионеров, она, может быть, не прониклась бы восхищением к индийцам, порожденным уважением и любовью к их детям, и не столь сурово осуждала бы своих соотечественников, которых так мало заботило будущее этих детей и благополучие их родителей. Свои суждения она всегда высказывала не таясь. Возможно, это было ошибкой. Англичане воспринимали такую критику как личную обиду.
Однако мисс Крейн принадлежала к поколению, которое придерживалось кое-каких несложных житейских правил (хотя и не слишком в них верило). Исправить ошибку всегда можно, решила она, лучше поздно, чем никогда. Вспомнив, что молодые английские солдаты, которых в Майапуре все прибывало, судя по их виду, только что приплыли из Англии, она написала письмо начальнику штаба местного гарнизона, побывала у него и договорилась, что каждую среду, от пяти часов пополудни до половины седьмого, будет ждать у себя на чашку чая человек десять-двенадцать его подопечных. Начальник поблагодарил ее за радушие и сказал: хорошо бы побольше людей понимало, как много значит для английского паренька возможность хоть час-другой провести в домашней обстановке. Местные дамы не скупились на патриотические декларации, однако не слишком-то жаловали рядовой состав английской армии. Этого он вслух не сказал, но дал понять достаточно ясно. По его разговору и манере мисс Крейн догадалась, что он и сам начал службу рядовым. Он выразил надежду, что у нее не будет оснований пожалеть о своем приглашении. Многие солдаты, хоть на них и наговаривают лишнего, и впрямь бывают в обществе неловки и слишком громогласны. Если мисс Крейн почувствует, что это ей не по силам, пусть сразу же звонит ему. Мисс Крейн на это улыбнулась и ответила, что светским обращением не избалована и не раз слышала, как в Майапуре ее называли «закаленной старухой».
У солдат, приходивших к мисс Крейн пить чай, выговор был неграмотный, но неловкости в них не замечалось. Все они, кроме одного, некоего Баррета, отлично управлялись с ее изящными фарфоровыми чашками. Не были ни слишком стеснительны, ни слишком громогласны. Мисс Крейн радовало, что к концу таких сборищ они держались совсем уже непринужденно. А провожая их, стоя на парадном крыльце, она махала им вслед, пока они шли по дорожке, рассекавшей пополам ее красивый, ухоженный садик. Выйдя за калитку, они закуривали и дружной гурьбой возвращались к себе в казармы, топоча тяжелыми башмаками по твердой дороге. А мисс Крейн помогала Джозефу, своему старому слуге-индийцу, убрать со стола, после чего удалялась к себе в спальню читать отчеты учителей и письма от начальства миссии, а также — поскольку солдатский чай бывал по средам, а в четверг она уезжала с ночевкой в Дибрапур за семьдесят пять миль — укладывать саквояж, где находилось место и для жестянки с леденцами, подарок дибрапурским школьникам. И, занимаясь всем этим, она еще успевала подумать о своих солдатах.
Среди них был один, по фамилии Кланси, не пропускавший ни одной среды, его она очень любила. Он был из тех, кого в Англии, в ее кругу, назвали бы прирожденным джентльменом. Кланси — вот кто последним садился за стол и первым вставал с места. Кланси — вот кто заботился о том, чтобы ей достался кусок ее же сладкого пирога и чтобы ее не миновала сахарница, которую передавали по кругу. Он всегда справлялся о ее здоровье и толковее всех отвечал на ее расспросы об ученьях, занятиях спортом и жизни в казармах. И в отличие от других, называвших ее «мэм», Кланси называл ее «мисс Крейн». Она и сама считала нужным запомнить каждого по фамилии и не забывала предварить ее вежливым «мистер». Она знала, что солдаты терпеть не могут, когда к ним обращаются просто по фамилии, особенно женщины. Но «мистер Кланси» годилось только для обращения, в мыслях же он был для нее просто Кланси. Фамилия ей нравилась, и так (или Клане) звали его приятели.
Приятели, как она с радостью отметила, любили Кланси. Знаки внимания, которые он ей оказывал, не вызывали у них ни досады, ни насмешек. В нем видели вожака. Его уважали. Он был хорош собой, и военная форма — защитного цвета рубашка и шорты — сидела на нем лучше, чем на других. Только выговор да еще руки — с обломанными ногтями, с несмываемыми следами масла и смазки от постоянной чистки оружия — напоминали о том, что он всего лишь один из многих. Бывало, что после их ухода, когда она разбирала почту и думала о них, ей становилось грустно. Возможно, многие из этих мальчиков будут убиты, и в первую очередь Кланси, потому что его безусловно ждет повышение. Грустно, но совсем по-иному ей становилось и при мысли, что втихомолку они подсмеиваются над ней и называют ее между собой старой девой, которая кормит преснятиной.
Начальство миссии знало, что она женщина неглупая и понятливая, чей здравый смысл и организаторские способности с лихвой окупают свойства, казалось бы несовместимые с работой в христианской миссии, — такие, как ее агностицизм и ярко выраженные проиндийские, а стало быть, антианглийские симпатии.
* * *
Эдвина Крейн прожила на свете уже пятьдесят семь лет, из которых тридцать пять — в Индии. Родилась она в Лондоне в 1885 году, от небогатых, но интеллигентных родителей, матери лишилась рано и юные годы посвятила заботам об осиротевшем отце, учителе, а тот пристрастился к бутылке и стал сторониться людей, так что мало-помалу растерял и немногих своих друзей, и учеников, посещавших его частную школу. В то лето, когда он умер, ей был двадцать один год, она не имела за душой ничего и ничего не умела, оставалось только искать место компаньонки или экономки. Запах отцветающих лип навсегда связался у нее с запахом смерти. Она обрадовалась, когда ей предложили для начала место гувернантки — к избалованному мальчику, который называл ее Цапля и однажды в ночной детской попробовал шокировать ее преждевременной осведомленностью в вопросах пола.
Шокировать мисс Крейн ему не удалось. Ее отец в последней стадии болезни страдал недержанием, да и раньше под пьяную руку готов был просветить ее на случай, что ей еще не все ясно, а заодно и поиздеваться над дней — и нос-то у нее длинный, и вообще дурнушка, никто замуж не возьмет. Протрезвившись, он мучился от стыда, но признаться в этом ей у него не хватало мужества. Она это понимала и потому научилась ценить мужество в других и сама старалась (хоть и не всегда с успехом) преодолеть свою робость. Когда он умер, она поплакала, а осушив глаза, продала почти все, что еще оставалось в доме, чтобы заплатить за приличные похороны, отказавшись от денежной помощи богатого дядюшки, который при жизни ее отца держался в сторонке, и от моральной поддержки бедных родственников, снова набежавших после его смерти неизвестно откуда.
Итак, избалованный мальчик не шокировал ее, но и не очаровал. Живя вдвоем с отцом, она прониклась ощущением, что они двое — люди особой породы и обречены нести свой особый крест, некую смесь из благородной бедности и пьянства; однако в богатой и упорядоченной семье, в лоне которой она теперь очутилась, тоже никто как будто не был счастлив, и от этого окружающий ее мир показался ей трагически тесным как раз тогда, когда стены его могли бы раздвинуться. Побуждаемая желанием найти свое место в незнакомом мире, широком и новом и если не радостном, то хотя бы сулящем какие-то приключения и интересные перемены, она откликнулась на объявление некой дамы, которая возвращалась в Индию с двумя детьми и желала иметь в дороге компаньонку и няню в одном лице. Дама, очень бледная и хрупкая на вид, но, как выяснилось, довольно выносливая, объяснила условия: если в пути кандидаткой будут довольны, она и в Индии может остаться в доме в качестве гувернантки. Если же нет, она с легкостью найдет другую семью, которой нужна будет помощь на пути в Англию; в худшем же случае обратный проезд будет ей оплачен. Мисс Крейн даме, видимо, понравилась, и они договорились.
Морской переезд прошел приятно, потому что миссис Несбит-Смит обращалась с ней как с членом семьи, а дети, синеглазые мальчик и девочка, в один голос твердили, что любят ее и хотят, чтобы она жила у них всегда. В Бомбее их встретил майор Несбит-Смит и тоже отнесся к ней как к члену семьи; но мисс Крейн не могла не заметить, что жена майора с этого часа сделалась холоднее, а к тому времени, как они добрались до городка в Пенджабе, где был расквартирован полк майора, обращалась с ней не то чтобы как с прислугой, но как с бедной родственницей, которую им приходится содержать и до поры до времени как-то использовать. Так мисс Крейн впервые познала, что есть снобизм за границей — совсем не то же, что снобизм на родине, ибо здесь он был осложнен соображениями, порой несовместимыми, белой солидарности и белого же превосходства. Ее хозяева считали своим долгом оказывать ей внимание, в каком они отказали бы самым высокородным индийцам, и в то же время не пускать ее выше самых нижних ступенек на общественной лестнице своего замкнутого круга — особенно вне дома, потому что в доме она, конечно, занимала место намного выше любой туземной прислуги. Мисс Крейн не одобряла этой одержимости вопросом, кто есть кто и почему. Это оскорбляло либеральную сущность, которую она все яснее в себе сознавала. И сильно отравляло ей жизнь. Ей казалось, что миссис Несбит-Смит порой трудно бывает решить, какое выражение придать своему лицу, когда они разговаривают, — наверно, думала она, той было бы легче, если б можно было совсем обойтись без разговоров, раз они бывают причиной такого замешательства, чуть ли не страдания.
Она прожила у Несбит-Смитов три года. У нее был крепкий организм — иными словами, она редко болела даже в этом неблагоприятном климате. К детям она привязалась, а в ответ на почтительность слуг выработала уверенный тон, который не давался ей в Англии. И была Индия, поначалу странная, даже пугающая, но на поверку таящая и много светлых сторон, которые она затруднилась бы назвать, но чувствовала. Она мало с кем подружилась, и сходиться с отдельными людьми ей было по-прежнему трудно, но появилось ощущение общности. Порождал такое ощущение — это она хорошо понимала — постоянно звучащий вокруг нее, хоть обычно и не выраженный словами клич, призывающий к сплочению клана, — часть той самой общественной системы, которую она не одобряла. Она продолжала не одобрять ее, но у нее хватало честности признать, что именно в этой системе, при всех ее недостатках, гарантия и комфорта, и безопасности. В Индии было полно страха, и приятно было чувствовать, что сама ты в безопасности, знать, что, как бы плохо миссис Несбит-Смит с ней ни обращалась, та же миссис Несбит-Смит и ей подобные станут за нее горой, если возникнет какая-нибудь угроза со стороны, из-за пределов того очарованного привилегированного круга, на периферии которого протекала ее жизнь. Она знала, что Индия, в которой обнаружилось столько светлых сторон, — это только Индия белых. Но и это была своего рода Индия, и, во всяком случае, это было начало.
Тут она как раз влюбилась — не в младшего полкового священника, иногда служившего в местной протестантской церкви (он был бы ей подходящей парой; миссис Несбит-Смит, когда бывала в духе, даже подтрунивала над ней по этому поводу и всячески ее поощряла), а безнадежно и тайно — в поручика Орма, прекрасного, как Аполлон Бельведерский, болтавшего с ней по-светски ласково и весело, как герой старинного романа, и не догадывавшегося о ее чувстве — в сущности, ему не было до нее никакого дела, при его-то красоте, да еще в городе, где в том году собралось особенно много молодых девиц, из которых он мог выбрать любую. Влюбилась безнадежно, потому что без малейших шансов на взаимность; тайно, потому что не краснела и не конфузилась в его присутствии, и миссис Несбит-Смит, даже если бы поинтересовалась, как гувернантка ее детей воспринимает мужчину, столь привлекательного во всех отношениях, как поручик Орм, не догадалась бы, что мисс Крейн вздыхает о ком-то, для нее, разумеется, недосягаемом. Сама мисс Крейн не вполне понимала, почему не краснеет и не конфузится. Сердце у нее колотилось, когда он стоял рядом, и во рту пересыхало, но чувство ее, очевидно, было таким глубоким и серьезным, что она просто не могла вести себя, как те глупенькие девочки, что понятия не имели о действительной жизни.
Когда поручик Орм — все еще вольная птица и, как всегда, везучий — получил новое назначение, адъютантом при каком-то генерале, тем повергнув в безутешную скорбь два десятка хорошеньких девушек и столько же дурнушек, не говоря уж о их маменьках, никто, по твердому убеждению мисс Крейн, и не заподозрил, как ее-то жизнь омрачилась с его отъездом. Только дети, два существа, наиболее ей близких душевно, заметили в ней какую-то перемену. Они глазели на нее своими по-прежнему синими, но уже повзрослевшими и оценивающими хозяйскими глазами и спрашивали: «Что случилось, мисс Крейн? У вас что-нибудь болит, мисс Крейн?» — и принимались прыгать вокруг нее, припевая: «Наша Крейн говорит, у нее живот болит», так что однажды она, потеряв терпение, нашлепала их, и они с визгом умчались в сад под защиту старой айи, которую, она это знала, они теперь любили больше.
Незадолго до следующего жаркого сезона полк майора Несбит-Смита получил приказ вернуться в Англию. Как-то мисс Крейн случайно услышала, как миссис Несбит-Смит говорила приятельнице: «Мы с детьми поедем вперед, и Крейн, конечно, с нами». За глаза она обычно называла ее Крейн, только в обращении и в разговорах с детьми превращала в мисс Крейн, а в редкие минуты растроганной благодарности — в Эдвину, например, когда лежала с отчаянной мигренью в затемненной, продуваемой опахалами комнате, а мисс Крейн, стоя на коленях у ее постели, смачивала ей лоб одеколоном.
Еще долго после того, как стало известно, что полк возвращается в Англию, мисс Крейн продолжала выполнять свои обязанности без единой мысли в голове, потому что мысль о поручике Орме она успела в себе задушить, а новых мыслей не появилось. Она говорила себе: «Ведь он был всего лишь химерой, фантазией, которая и не могла осуществиться. И теперь, когда с этими иллюзиями покончено, я поняла, до чего голодной и пустой всегда была моя жизнь. Чем-то она заполнится дома, в Англии? Заботами о детях, пока они меня не перерастут? Другими детьми взамен этих и другой миссис Несбит-Смит взамен теперешней? Новыми семьями, где все будет по-старому? И так год за годом оно и пойдет — Крейн, мисс Крейн да изредка, все реже и реже, — Эдвина?»
По вечерам, от пяти часов (когда дети после чая переходили в ведение айи, которая играла с ними и мыла их в ванне) и до семи (когда они ужинали под ее присмотром, после чего она обедала либо одна, либо, если ничто этому не мешало, с их родителями), мисс Крейн бывала свободна. Обычно она проводила эти два коротких часа в своей комнате — тоже принимала ванну, отдыхала, читала, изредка писала письмо какой-нибудь коллеге, перебравшейся в другой город или вернувшейся в Англию. Теперь же ей не сиделось дома, и она, обувшись и раскрыв для защиты зонтик, шла пройтись по улочке кантонмента[1], на которой стояло бунгало Несбит-Смитов. Улочку осеняли деревья, постепенно их становилось все меньше, бунгало кончались, дальше шли возделанные поля. Иногда она шла в другую сторону, к базару, за которым была станция железной дороги и туземный город, где она побывала всего один раз, когда стайка смеющихся дам и робких компаньонок в колясках, под охраной мужчин верхами, ездила осматривать индусский храм, и этот храм напугал ее, как напугал и весь туземный город — его узкие грязные улицы, вопиющая бедность, режущая слух музыка, шелудивые собаки, голодные калеки-нищие, толстые белые священные быки и полуголые обитатели, такие на вид озлобленные по сравнению со слугами и другими индийцами, работавшими в кантонменте.
В тот день, когда она задумалась о своем будущем — словно увидела его в бесконечных зеркалах, и каждое отражение было меньше предыдущего, так что последнего и не разглядеть — сплошная вереница детей Несбит-Смитов и Эдвин Крейн, — улочка, которую она выбрала для своей прогулки в пять часов, вывела ее на открытое место, где дорога уходила в неведомую даль. Тут она остановилась, не решаясь идти дальше. Солнце еще пекло; еще стояло так высоко, что она прищурилась, глядя из-под шляпы и ситцевого балдахина-зонтика на плоскую, бескрайнюю Пенджабскую равнину. Не верилось, что там, за далекой чертой горизонта, мир продолжается, что где-то он меняет свой облик, вздыбливается нагорьями, лесами и горными кряжами в шапках вечных снегов, где рождаются реки. И не верилось, что за равниной есть океан, где эти реки кончаются. Она почувствовала свою ничтожность, духовную скудость, ее давила непомерная тяжесть земли, и воздуха, и необъятного пространства, в котором даже вороны, что летали кругами, хлопая крыльями, казалось, вот-вот готовы были упасть. И на минуту ей почудилось, что ее коснулся грозный перст некоего бога — не того знакомого, всепрощающего, которому она вроде бы молилась, а иного бога — ни благостного ни злобного, ни созидающего ни разрушающего, ни спящего ни бодрствующего, но существующего и тяжестью своей придавившего вселенную.
Зная, что женщины, подобные ей, нередко обращаются к религии как к надежному прибежищу, она на следующий день повернула от дома в другую сторону и, дойдя до протестантской церкви, ступила в ограду и пошла по широкой дорожке между могильных холмиков, помеченных надгробьями людей, которые уснули вечным сном вдали от родины, но, доведись им проснуться, могли бы порадоваться при виде этого кусочка Англии — церкви, кладбища и зеленых деревьев. Боковая дверь церкви была приоткрыта. Она вошла и, опустившись на одну из задних скамей, устремила взор на алтарь и на витраж темнеющего восточного окна, который видела каждое воскресенье, когда бывала здесь с Несбит-Смитами.
В этой церкви обитал знакомый бог, добрый, уютный. Она хранила его в сердце, но не в сознании, веровала в него как в утешителя, но не как в спасителя мира. Это был бог одной общины — не темнокожей общины, что тщилась выжить под тяжестью пенджабского неба, а той привилегированной бледнолицей общины, в которой сама она была сбоку припека. Интересно, подумалось ей, кто она для этого бога — Крейн, мисс Крейн, Эдвина? Для Бога-Сына она, скорее всего, Эдвина, а вот для Господа в гневе его — безусловно, Крейн.
— Мисс Крейн?
Она вздрогнула и оглянулась. Это заговорил с ней старший священник, пожилой, с розовым носом и бахромой седых волос, окаймлявшей череп философа. Фамилия его была Дай, и это вызывало сдержанные улыбки у прихожан, когда он во время богослужения громко начинал молитву словами «Дай нам, господи, молим тебя…» Она и сейчас улыбнулась, хоть ее и смутило, что он застал ее здесь и, конечно, понял, что она пришла сюда не отдохнуть, а укрепиться духом. Женщина не первой молодости, некрасивая, одна в пустой протестантской церкви, в день, когда не предвидится никакой праздничной службы, уже отмечена неким клеймом. Впоследствии мисс Крейн пришла к выводу, что именно в ту минуту она потеряла последнюю надежду на замужество.
— Отдыхаете от трудов праведных? — сказал мистер Дай тем звучным голосом, каким он обращался к прихожанам, а когда она потупилась и кивнула, добавил совсем просто: — Могу я вам чем-нибудь помочь, дитя мое? — И она от неожиданности чуть не заплакала, потому что так называл ее отец, когда у него выдавались трезвые, ласковые минуты. Однако она не заплакала. В последний раз она плакала, когда умер отец, и, хотя ей суждено было заплакать еще раз, это время еще не пришло. Без малейшей дрожи в голосе она ответила: — Я подумываю о том, чтобы остаться здесь, — и, заметив, что пастор огляделся в недоумении, словно за его спиной происходило что-то, о чем его не предуведомили и ради чего мисс Крейн сочла нужным остаться в церкви, пояснила: — Я имею в виду остаться здесь, в Индии, когда Несбит-Смиты уедут.
Пастор сказал «понимаю» и нахмурился — возможно, ему не понравилось, что она назвала их «Несбит-Смиты».
— Ну что ж, думаю, что это вполне выполнимо, мисс Крейн. Полковник Инглби и его супруга — вот с кем, полагаю, стоит поговорить. Мне известно, что вас можно смело рекомендовать. Майор Несбит-Смит и его супруга всегда отзывались о вас с величайшей похвалой.
Будущее было темно — ровная однообразная пустыня, и только в центре ее крошечная светящаяся точка — все, что осталось от Эдвины Крейн.
— Мне хотелось бы, — проговорила она, впервые высказывая мысль, которая до сих пор и мыслью-то, по сути дела, не была, — подготовиться к миссионерской работе.
Он сел рядом с ней, и оба обратили взгляд к восточному окну.
— Не чтобы нести кому-то слово божие, — продолжала она, — нет. Ведь, в сущности, я сама неверующая. — Она искоса глянула на него. Он все не спускал глаз с окна. Казалось, ее признание не слишком его удивило. — Но ведь есть еще школы. Я имею в виду, подготовиться к преподаванию в миссионерской школе.
— Понятно. Обучать не наших детей, а детей наших темнокожих братьев во Христе, так?
Она кивнула. У нее перехватило дыхание. Он повернулся к ней лицом и спросил: — Вы здешнюю школу видели?
Да, она видела школу, у самой станции железной дороги, но…
— Только снаружи, — сказала она.
— А с мисс Уилсон когда-нибудь разговаривали?
— Кто такая мисс Уилсон?
— Учительница. Но вы с ней едва ли знакомы. Она — женщина смешанной крови. Хотели бы вы побывать в этой школе?
— Очень.
Священник покивал и, словно обдумав что-то, заговорил:
— Тогда я это устрою и, если вы не передумаете, напишу инспектору в Лахор. Правда, по той маленькой школе, где работает мисс Уилсон, судить трудно. — Он покачал головой. — Нет, мисс Крейн, здесь у себя мы не можем похвалиться особенными успехами, хотя и сделали больше, чем католики и чем баптисты. Но вообще-то в стране есть множество школ всевозможных вероисповеданий, и все они заняты обучением язычников… так, видимо, приходится их называть. На этом поприще церковь и миссии всегда показывали пример. Правительство, скажем так, не спешит оценить преимущества народного просвещения. И сами индийцы, пожалуй, тоже. Взять хотя бы здешнюю школу. Всего-то каких-нибудь два десятка детей, даже в лучшие месяцы. А как начинаются праздники — ни одного. Я, конечно, имею в виду индусские и мусульманские праздники. В школу дети приходят главным образом ради чаппати, лепешек, а во время последних беспорядков здание школы подожгли. Впрочем, вас тогда здесь еще не было.
* * *
Миссионерская школа оказалась не той, о которой она думала, — та школа, имени Джозефа Уэйнрайта, у вокзала, помещалась в основательно построенном здании, существовала на благотворительные средства и обслуживала детей солдат, железнодорожников и мелких чиновников, чья кровь смешалась с кровью туземных женщин. А миссионерская школа на окраине туземного города занимала крытое рифленым железом ветхое, тесное квадратное здание на обнесенном стеною участке, где не росло ни травинки, и отмечена была всего лишь крестом, грубо намалеванным на желтой штукатурке над дверью. Мисс Крейн постеснялась признаться в своей ошибке мистеру Даю, когда он привез ее туда в двуколке, помог ей сойти на землю и провел сквозь пролом в стене, где давно, еще до последних беспорядков, была, очевидно, калитка.
Чтобы приехать с ним сюда в полдень, ей пришлось отпроситься у миссис Несбит-Смит и объяснить, почему именно в этот час она не сможет заниматься с ее отпрысками. Миссис Несбит-Смит воззрилась на нее как на сумасшедшую и вскричала: «О господи, Крейн, что это на вас нашло?!», а потом добавила с неподдельной тревогой, очень трогательной, а потому и куда более огорчительной, чем ее вспышка: «Вы же будете там совсем одна, без своих, среди этих черномазых и полукровок. А кроме того, Эдвина, мы все вас так любим!»
Она чувствовала, что поступает глупо, возможно даже, под влиянием минутного настроения, ей самой непонятного. Одно то, что она спутала евразийскую школу с миссионерской, доказывало, как плохо она осведомлена о том, что видит вокруг себя, как мало люди, подобные ей, знают о жизни этого города, хотя считается, что они имеют по отношению к нему какие-то обязательства, добросовестное выполнение которых и обеспечивает им их привилегии. Раз она даже не знала, где находится эта миссионерская школа, есть ли у нее надежда послужить другим миссионерским школам и самой что-то получить от этого?
Дверь школы была открыта. Оттуда слышалось детское пение. Когда они подошли к двери, пение смолкло. Мистер Дай сказал, что мисс Уильямс ждет их, и отступил в сторону. Мисс Крейн шагнула с порога прямо в класс. Женщина на возвышении сказала: «Встаньте, дети» — и жестом подняла учеников, сидевших перед нею на скамейках, поставленных в несколько рядов. Они встали. Ее внимание привлекла фраза, написанная на доске заглавными печатными буквами: «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, МИСС КРЕЙН МЕМ». По знаку учительницы дети медленно проскандировали: «Добро пожаловать, мисс Крейн мем». Пытаясь выговорить «спасибо», она почувствовала, что во рту у нее пересохло. Она-то ехала сюда, ощущая себя смиренной просительницей в поисках работы, а здесь ее появление было воспринято как прихоть не в меру любопытной мемсахиб. Ее ужаснула роль, которую это на нее налагало, ужаснула душная оштукатуренная комната, ряды детских лиц и запах горящего кизяка, проникавший в класс через дверь и окна с заднего двора, где, очевидно, пеклись вожделенные чаппати. Ее испугала мисс Уильямс в серой холщовой блузе, длинной коричневой юбке и башмаках на пуговицах, на вид моложе ее самой, с желтоватым цветом лица, как у многих особенно неприятных англичанок, проживших всю жизнь в деревне; только здесь желтизна свидетельствовала о полуиндийском происхождении, долженствующем, как внушали мисс Крейн, вызывать чувство гадливого ужаса.
Мисс Уильямс сошла с возвышения, на котором стоял ее стол и всего один стул. Мисс Крейн, в ответ на ее приглашающий жест, села на стул, а священник стал с нею рядом. Перед тем, знакомя их, он назвал только мисс Уильямс, и мисс Крейн попыталась улыбнуться девушке, чтобы загладить его оплошность, но губы у нее тоже пересохли, и она вдруг почувствовала на своем лице то же выражение, что так часто появлялось на лице миссис Несбит-Смит. Выражение это стало еще более четким, когда она наконец посмотрела на детей и осознала, что они взирают на нее, одинокую и косноязычную, с благоговейным любопытством, может быть, даже со страхом. Ее простенькое платье, самое нарядное ее платье, которое она надела, чтобы выглядеть как можно лучше, — белое муслиновое с оборкой, но без каких-либо украшений, кроме перламутровых пуговок, пущенных по плиссированному пластрону; соломенная шляпа, нахлобученная на высокую прическу; зонтик из белого ситца на розовой подкладке — подарок от миссис Несбит-Смит на прошлое Рождество — все тяготило ее, словно обременительное мишурное одеяние общественного класса, к которому она не принадлежала.
По знаку мисс Уильямс маленькая девочка, босая, в балахоне из какой-то мешковины, но с косичкой, украшенной ради торжественного случая цветами, и с букетом в руках выступила вперед, сделала книксен и протянула букет мисс Крейн. Та взяла его, попыталась сказать «Спасибо тебе», но девочка, видимо, не разобрала слов и взглянула на мисс Уильямс, чтобы удостовериться, что ритуал подношения окончен. Мисс Крейн уткнулась в цветы носом, не видя их красок, не слыша запаха, а когда опять подняла голову, девочка уже стояла на своем месте в первом ряду, среди других девочек.
— Как вы думаете, мисс Крейн, — сказал священник, — мне кажется, теперь дети опять могут сесть. А потом они либо споют нам песню, либо скажут стихи, которые мисс Уильямс, я в том не сомневаюсь, репетировала с ними все утро.
Мисс Крейн беспомощно опустила глаза на свои цветы, чувствуя, что и мисс Уильямс, и мистер Дай наблюдают за ней, ждут, что она сделает. Она кивнула головой и устыдилась, что первую в своей жизни общественную обязанность выполняет так плохо.
Дети послушно сели и сидели молча. Мисс Крейн решила, что они почуяли ее замешательство и истолковали его как неудовольствие или как скуку. Она заставила себя посмотреть на мисс Уильямс и произнести: — Мне очень интересно послушать, как они поют, — потом, спохватившись, добавила: — Или читают стихи, или и то и другое. Пожалуйста, попросите их показать, что они приготовили.
Мисс Уильямс повернулась лицом к классу и проговорила по-английски медленно, с непривычными для английского уха интонациями:
— Ну, дети, что бы нам спеть? Давайте споем «Есть Друг», — и добавила: «Аччха»[2] — слово, которое мисс Крейн отлично знала, но за ним последовали другие слова на хиндустани, так быстро, что она не успела уловить смысл. Я даже язык толком не знаю, подумала она, как же я смогу преподавать?
А дети уже снова встали. Мисс Уильямс, отбивая в воздухе такт, медленно пропела первую строку гимна, который мисс Крейн при других обстоятельствах сразу бы узнала. Потом умолкла, опять махнула рукой, и дети запели — нестройно, робко, голоса их еще не привыкли к диковинному чужеземному ладу.
Есть Друг на небе ясном У маленьких детей, Земной любви короткой Его любовь сильней. Товарищи земные Нас предают порой, Лишь Он всегда нам верен, Лишь Он всегда с тобой. Приют есть в небе ясном Для маленьких детей, Кто молится и грешных Не ведает путей. Не будет там ни горя, Ни бедствий, ни забот. Там каждый юный странник Навек покой найдет[3].Они пели, а мисс Крейн смотрела на них. Сплошные оборвыши. В детстве этот гимн был одним из ее любимых и, если бы сейчас его пели так, как поют английские дети, под аккомпанемент рояля или фисгармонии, как бывало в плохонькой школе ее отца, она, возможно, поддалась бы нестерпимой грусти, сожалениям об утраченном мире, об утраченном покое и очаровании детства. Но она не ощутила ни грусти, ни душевного подъема. В ней закипал протест против этой несообразности, против самой идеи заглушить в этих детях веру в их родных богов и заставить их поклоняться единому богу, которому она сама когда-то молилась, а теперь не очень-то в него и верует. И еще она внезапно прониклась к ним страстным уважением. Голодные, нищие, обездоленные, и все же невольно думаешь, что где-то (а значит, именно здесь, в черном городе) их любят. Но родители их знают, что одной любви недостаточно. От любви ни сытей, ни богаче не станешь. А тут как-никак бесплатные лепешки.
И тогда ей стало ясно: единственное, что дает ей право, ей и таким, как она, сидеть на стуле, когда другие стоят, сжимать в руке букет и слушать выученную в ее честь песню, внушая благоговение безграмотным детям, — это сознание своей обязанности трудиться во имя человеческого достоинства и счастья. И тогда она перестала стыдиться своего платья, бояться школьного здания и запаха горящего кизяка. Кизяк здесь — единственное доступное топливо, здание тесное и душное, потому что нет средств расширить его, а ее платье — всего лишь символ ее общественного положения и твердого намерения не выказывать страха, не испытывать страха, по мере сил обрести милосердие и собственное достоинство, стать живым доказательством того, что есть где-то в мире надежда на лучшее.
Когда пение кончилось, она, запинаясь, сказала на хиндустани: «Спасибо вам, мне очень понравилось», а потом попросила у мисс Уильямс разрешения еще побыть в школе, пока дети будут есть лепешки и играть, и, если у мисс Уильямс найдется время, порасспросить ее о работе учительницы.
Вот так мисс Крейн пустилась в долгий, трудный, временами опасный путь, который через много лет привел ее в Майапур, на должность инспектора школ протестантской миссии.
* * *
Портрет мистера Ганди она сняла со стены. Но была еще картина, более давнее ее достояние, которая по-прежнему висела над ее рабочим столом в комнате, служившей ей и кабинетом, и спальней. Получила она ее в подарок в 1914 году, на пятый год своей работы в миссии, когда ушла из школы в Муззафирабаде, где служила под началом некоего мистера Клегхорна, и стала единственной учительницей школы в Ранпуре.
Картину ей преподнесли на прощание, в знак уважения. Председательствовал на этом собрании сам глава миссии, а вручил ей подарок мистер Клегхорн под аплодисменты и приветственные возгласы детей. Она до сих пор хранила в ящике стола табличку с надписью, некогда прикрепленную к раме. Табличка была золоченая и успела облупиться, а черные буквы надписи выцвели, но прочесть ее еще было можно. Надпись гласила: «Кристине Эдвине Лавинии Крейн за проявленное ею мужество от персонала и учеников школы англиканской миссии в Муззафирабаде, СЗПП[4]».
Она открепила табличку, еще не доехав до Ранпура, потому что ее смущало слово «мужество». Что она такого совершила? Всего-то стала в дверях школы, куда еще раньше загнала детей, и заявила кучке совсем не страшных смутьянов — заявила на урду, без запинки, в выражениях, которые едва ли решилась бы употребить в разговоре с начальством, — что в школу их не пустит. Впрочем, что они не страшные — это она себе внушила, хотя часом позже они или их более решительные единомышленники разграбили и сожгли дом католической миссии, ворвались в полицейский участок и двинулись к кантонменту, где солдаты живо с ними расправились — одного из зачинщиков застрелили, а остальные залпы дали в воздух. Четыре дня город жил на военном положении, когда же порядок восстановили, мисс Крейн с неудовольствием обнаружила, что оказалась в центре внимания. Ее посетил окружной судья в сопровождении начальника полиции и лично выразил ей благодарность. В ответ она сочла нужным сказать, что вполне допускает, что поступила неправильно: может быть, следовало впустить смутьянов в школу, и пусть бы сожгли, что им там не нравилось, — молитвенники или распятие. А она их не впустила, и они ушли совсем уже разозленные, и сожгли дотла католиков, и вообще натворили много бед.
Когда мистер Клегхорн, вернувшись из отпуска, пожелал услышать подробности о том, что знал только по слухам, она решила просить его о переводе в другое место, где она могла бы работать без постоянных напоминаний о своем ложном положении, так она выразилась. Она заявила мистеру Клегхорну, что просто не может обучать детей, которые видят в ней какую-то героиню с рекламы и на школьную доску смотрят одним глазом, потому что другого не сводят с двери, предвкушая новое вторжение, которое она тут же пресечет. Мистер Клегхорн сказал, что не хотел бы с ней расставаться, но вполне ее понимает и, если она не шутит, он берется написать начальству миссии и объяснить, как обстоит дело.
Когда пришел ответ по поводу ее перевода, оказалось, что она получила повышение: в Ранпуре вся работа в школе возлагалась на нее одну. Перед ее отъездом состоялось прощальное чаепитие и была преподнесена картина — такая же, только большего размера и в более богатой раме, как та, что висела позади ее стола в классе, — полуисторическое полуаллегорическое произведение под названием «Жемчужина в ее короне». Изображена там была старая королева (для школьников она, несомненно, сливалась воедино с образом мисс Крейн), а вокруг нее располагались достойные представители ее Индийской империи — раджи, помещики, ростовщики, сипаи, крестьяне, слуги, дети, матери и на удивление чистые и опрятные нищие. Королева восседала на золотом троне под алым балдахином, а справа и слева от нее — ее мирские и духовные советники: генералы, государственные мужи и епископы. Трон с балдахином стоял, судя по всему, под открытым небом — тут же росли пальмы, и яркое солнце светило в прорывы тяжелых туч, как бывает в Индии перед наступлением сезона дождей. Выше туч порхали ангелы в молитвенных позах, благосклонно взирая вниз, на земные дела. Один из государственных мужей, толпящихся у трона, изображал мистера Дизраэли, и в руке у него был пергаментный свиток — карта Индии, — на который он и указывал с нескрываемой гордостью, однако же достаточно смиренно. К трону приближался раджа со свитой из слуг-индийцев и на бархатной подушке нес королеве подарок — крупную сверкающую жемчужину. Школьники сначала решили, что это та самая жемчужина, о которой упоминается в названии картины. Пришлось мисс Крейн объяснить им, что это просто дань уважения, а та жемчужина, по которой названа картина, — сама Индия, перешедшая из-под власти британской Ост-Индской компании под власть британской короны в 1858 году, сразу после Мятежа, когда сипаи на службе Компании (впервые ступившей на индийскую землю еще в семнадцатом веке) взбунтовались и была предпринята попытка провозгласить одного старого правителя из династии Моголов королем Дели, а картина написана после 1877 года, когда мистер Дизраэли уговорил королеву Викторию принять титул императрицы Индии.
У самой мисс Крейн эта картина вызывала смешанные чувства. Тот экземпляр, что уже висел в классе, когда она приехала в Муззафирабад работать под началом у мистера Клегхорна, очень пригодился ей в обучении английскому языку школьников: мусульман и индусов, Вот королева. Вот ее корона. Небо голубое. На небе тучи. Мундир сахиба алый. Мистер Клегхорн — по сану священник, а по призванию археолог и антрополог-любитель, давно задумавший написать книгу о районах распространения местных обычаев, только руки все не доходили, — большую часть времени посвящал делам церкви и старшеклассникам; это шло в ущерб начальной школе, что он и сам понимал. Когда, в ответ на его настоятельные просьбы, в помощь ему прислали из Лахора мисс Крейн, он с восхищением отметил, какое практическое применение она нашла для картины, которую сам он воспринимал исключительно как украшение на стене, немного оживлявшее комнату.
Всякий раз, что он заходил к ней на урок и видел, как десяток детишек, широко раскрыв глаза, переводят взгляд с ее лица на картину, пока она методично, шаг за шагом, описывает ее под разными углами, он возвращался к этому. «Ага, опять картина. Превосходно, мисс Крейн, превосходно. Я бы до этого не додумался. Обучать английскому языку и одновременно — любви к англичанам».
Как он понимал любовь к англичанам — это она знала. Он имел в виду любовь к их справедливости, к их благосклонности, в худшем случае — к их благим намерениям. Такая наивность и раздражала ее, и трогала. Он был хороший человек — неутомимый, любознательный, милосердный. Мусульманство и индуизм, внешние проявления которых все еще отпугивали ее, ему казались просто забавными, как могут позабавить взрослого человека жестокие, неистовые, но, в сущности, безобидные детские игры. Порой ей сдавалось, что к людским страданиям он безразличен, но о славе господней он, на свой лад, пекся неустанно. По мнению мистера Клегхорна, лучший способ служить богу и прославлять его состоял в том, чтобы развивать и упражнять умственные способности. Робкий физически — она знала, что он боится собак, помнила, как однажды он до смерти испугался змеи и пришлось звать сторожа, чтобы ее прикончить, как дергались у него щеки и тряслись руки, когда за деревней им встречались группы мужчин свирепого вида, а на самом деле вполне миролюбивых, — нравственным мужеством он обладал безусловно, и за это она его уважала.
Он подолгу, не жалея сил, выбивал из начальства любую сумму денег, когда считал, что миссии такой расход по средствам, а он может истратить эти деньги на доброе дело. Он нюхом чуял несправедливость и не раз добивался отсрочки выполнения судебного приговора, а то и его отмены. Мистеру Клегхорну, уверял судья, нечего делать среди служителей церкви, ему бы пойти по гражданской службе.
Однако особенно энергично он действовал, когда речь шла об образовании мальчиков — сыновей евразийцев, индусов, мусульман, сикхов — для него это было все едино, лишь бы у парня голова хорошо работала, лишь бы это были «дети, коих господь наделил умом и талантом». Главной своей обязанностью он почитал распознавать, к каким предметам у подростка самые большие способности, и убеждать его и его родителей избирать именно эту жизненную дорогу. «Вот хотя бы наш Шанкар Рам, — говорил он, к примеру, хотя мисс Крейн лишь очень приблизительно представляла себе, какого именно Шанкара Рама он имеет в виду. — Твердит, что хочет на гражданскую службу. Все они хотят на гражданскую службу. А какие у него шансы? Почта или телеграф, не более того. Нет, ему надо стать инженером. Может, он этого не понимает, но все задатки у него есть». И принимался (по большей части безуспешно) изыскивать пути и возможности послать юного Шанкара Рама в широкий мир, за пределы Муззафирабада, — строить мосты. В этом, думалось мисс Крейн, мистер Клегхорн был совсем не похож на обычных служителей церкви, ибо в девяноста девяти случаях из ста очередной Шанкар Рам оказывался столь же не склонен обращаться в христианство, как индийские женщины — требовать равноправия. А вот на женщин, и английских и индийских, взгляды у мистера Клегхорна были до безобразия косные. Женский вопрос для него как бы не существовал. «Ваш пол, мисс Крейн, — сказал он однажды, — создан, увы, впрочем, нет, не увы, а благодарение господу… ваш пол создан либо для замужества, либо для служения богу», и в ту единственную интимную минуту, какая у них за все время была, он потрепал ее по руке, словно утешая, поскольку первое из этих благ, мирское, для нее, конечно же, недостижимо.
Порой мисс Крейн подмывало указать на картину, где старая королева восседала на троне при всех регалиях, и заметить: «Бывают, как видите, и деловые женщины». Но, жалея его, она всякий раз воздерживалась; и была тронута, когда, развернув подарок, увидела еще более пышный вариант той загадочной картины, тронута, потому что знала, что мистер Клегхорн, тщательно обдумывая, какое подношение придется ей больше всего по душе, выбрал как раз то, без чего она с легкостью могла бы обойтись.
Однако несколько дней спустя, провожая ее на вокзал и усаживая в дамское купе первого класса (пока Джозеф, неимущий юноша, работавший в миссии при кухне, а затем пожелавший пойти в услужение и теперь уезжавший вместе с нею, сдавал багаж), мистер Клегхорн вручил ей прощальный подарок от себя лично, и на этот раз, развернув пакет на выезде из города в неприветливый пограничный край, она обнаружила книгу под заглавием «Фабианские очерки о социализме». На титульном листе стояло еще имя редактора — Джордж Бернард Шоу и была надпись «Моему другу и коллеге Эдвине Крейн» и подпись «Артур Сент-Клегхорн», и дата «12 июля 1914 г.».
Эту книгу мисс Крейн до сих пор хранила в своем шкафу в Майапуре.
* * *
Когда мисс Крейн позволяла себе передышку в работе, на что ей как-никак давал право ее возраст — в эти годы уместны не одни действия, но и созерцание, — ей случалось поднять голову от стола и надолго задержаться взглядом на той картине. После стольких лет картина приобрела новое свойство — вызывала нечто вроде сожалений об ушедших временах, о минувшей славе, хотя она и знала, что славы с самого начала не было и в помине. Такая Индия, как на картине, никогда не существовала, кроме как в своей золоченой раме, и в зрителях была призвана порождать лишь некую смесь из набожности и чванства. А между тем от нее до сих пор веяло каким-то призрачным благородством.
Она все еще будила мысли, в которых мисс Крейн было трудно разобраться. Всю жизнь она своей незаметной практической работой старалась доказать, что страх вреден, потому что рождает предрассудки, что мужество полезно, потому что несовместимо с эгоизмом, что невежество дурно, потому что в нем — источник страха, что знания нужны, потому что чем больше знаешь о многообразии мира, тем яснее тебе, какую ничтожную роль ты сам в нем играешь. Возможно, думалось мисс Крейн, именно это представление о ничтожности отдельного человека, подобное тени дождевых туч позади кричаще ярких красок в изображениях королевы и ее подданных, и придает им нешуточное величие. Что-то в позе старой королевы на троне словно в кривом зеркале напоминало ей, как много-много лет назад она сама сидела на возвышении в белом муслиновом платье; а урок, который она всегда пыталась вычитать из этого стилизованного изображения верноподданнических чувств и материнской заботы, сводился к тому, что могла бы преподать родная мать, что в детстве пыталась ей преподать ее мать: как важно не кичиться своим благородством, а мужественно принимать на себя любые труды и обязанности — не ради самовозвеличения, но ради самоотречения, чтобы на земле стало больше счастья и благополучия, чтобы избавить мир от тех самых зол, которых картина как бы не замечала: бедности, болезней, нужды, невежества и несправедливости.
И потому, что, обратившись мыслями к своим соотечественникам (пусть поздновато, но все же не слишком поздно), она в молодом англичанине, рядовом Кланси, различила за щенячьим желанием показать себя взрослым мужчиной (это она в нем тоже заметила) искру нежности, инстинкт самоотречения (иначе зачем бы ему следить, чтобы ей достался кусок пирога, чтобы ее не обнесли сахаром), и еще, возможно, потому (она и это допускала), что внешностью он, с поправкой на его плебейство, немного напоминал родовитого красавца поручика Орма (убитого в первую мировую войну и посмертно награжденного Крестом Виктории), она думала о Кланси чаще, чем о его более заурядных товарищах. Нежность, пусть самая поверхностная, наверняка в нем была. Она сказывалась в том, как весело и добродушно он шутил на солдатском урду с Джозефом, так что старый слуга расплывался в ухмылке и заранее радовался каждый раз, когда должны были прийти солдаты; сказывалась в его дружбе с пареньком по фамилии Баррет, неловким, вялым, тупым и некрасивым. Эта дружба с Барретом, а не только вежливость Кланси по отношению к ней самой, и его манера держаться с Джозефом, и то, что ни он, ни Баррет не пропускали ни одной ее среды, в первую очередь и заставила ее задуматься над тем, что же она в данном случае подразумевает под нежностью и мысленно даже употребляет это слово. Она знала, что мальчики типа Кланси часто дарят своей дружбой тех, кто в силу физических или умственных недостатков выставляет их собственное превосходство в особенно выгодном свете. Знала, что, выбрав себе Баррета в подхалимы, Кланси всего лишь следует простейшему психологическому правилу. Но если кто иной мог использовать такого Баррета как мишень, смеялся бы над ним, а защищал, только когда над ним пытались смеяться другие, Кланси, это она чувствовала, никогда так не поступал. При Кланси никто и не пытался смеяться над Барретом. Он, бедняга, был с придурью. Среди своих смышленых приятелей он должен бы был выделяться, как пугало среди зеленого поля задорной неспелой пшеницы. Таким он поначалу показался и ей, но вскоре она убедилась, что остальные его таким не считают или перестали считать, и объяснила это тем, что под влиянием Кланси они приняли его в свою среду, что с помощью Кланси он проявил такие черты характера, которые они признали нормой и по примеру Кланси уже не замечали тех черточек, которые сперва, несомненно, их отталкивали.
Не кто иной, как Баррет (когда начались дожди и чаепития пришлось перенести в комнаты, и она разрешила солдатам расхаживать по всему дому и даже, раздобыв папирос и спичек, разрешила им курить, а не мучиться в течение полутора часов, так как только теперь поняла, почему они все как один с таким облегчением закуривали, простившись с ней и едва дойдя до калитки), не кто иной, как Баррет, первым обратил внимание на картину со старой королевой под балдахином, вернее, он просто подошел поближе и воззрился на нее а уж вслух за обоих высказался Кланси, стал рядом с Барретом и спросил: «Это вот и есть то самое, что называется аллегорией, да, мисс Крейн?», и слово это произнес, явно гордясь своей в поте лица заработанной образованностью, что и пленило мисс Крейн, и немного испугало — ведь при виде того, как Баррет разглядывает картину, она чуть не сказала: «Это, в сущности, аллегория, мистер Баррет», но вовремя удержалась, сообразив, что тот и понятия не имеет о том, что такое аллегория.
— Да, это аллегория, — ответила она.
— Хорошая картина, — сказал Кланси. — Очень даже хорошая. В те времена все было по-другому, правда, мисс Крейн?
Она попросила его выразиться яснее.
— Ну, в том смысле, что все было проще, не надо было думать.
Мисс Крейн взвесила его слова, прежде чем ответить. — Многие так считали. Но это неверно. Можно даже сказать, что многое проще теперь. После стольких лет сомнений не осталось. Индия должна получить независимость. Кончится война, и мы будем вынуждены от нее отказаться.
— Ах, вы об этом, — сказал Кланси, все еще глядя на картину и не глядя на мисс Крейн. — Я-то имел в виду больше бога и все такое прочее, во что люди верят. А насчет того, другого, я мало что знаю, так только, по мелочам — что такое Конгресс да что сказал старик Ганди, а он, вы меня извините, мисс Крейн, по-моему, спятил.
— Правильно, спятил, — поддакнул Баррет.
Мисс Крейн улыбнулась: — У меня его портрет тоже висел. Вон там. И сейчас еще видно.
Они обернулись и увидели невыцветший прямоугольник на крашеной стене — все, что осталось у нее от улыбающегося сквозь очки образа Махатмы, человека, в которого она уверовала, а теперь перенесла эту веру на мистера Неру и мистера Раджагопалачари, потому что они-то безусловно понимали, что бывают разные степени деспотизма и, если уж пришлось выбирать, очевидно, предпочли еще немного пожить при деспотизме империи, чтобы не только не подчиниться фашизму, но и оказать ему сопротивление. Глядя на Кланси и Баррета и представив себе на их месте двух вышколенных штурмовиков или адептов культа предков, считающих, что вечное спасение за гробом необходимо оплатить смертью в бою, сама она не усомнилась, которое из двух зол предпочесть. Да, конечно, в этом выборе ею отчасти руководил давнишний, еще не до конца заглохший инстинкт, что не велел выходить за пределы очарованного круга, где свой всегда защитит своего, и уверенность, что такой мальчик, как Кланси, окажется на высоте, если бедный старый Джозеф в припадке буйного помешательства вдруг ворвется в комнату вооруженный, чтобы отплатить ей за воображаемые обиды либо за подлинные обиды, которые она нанесла ему не от себя, а как представительница своей нации и своего цвета кожи, а он в слепой своей ярости уже не будет способен распознать, где толпа врагов, а где отдельный, хорошо ему знакомый человек.
Но право же, участвовал в ее выборе не только эмоциональный элемент, а и логический, он-то и склонил чашу весов в пользу таких мальчиков, как Кланси: пусть им не известен исток и направление потока, однако течение несет их по поверхности родной реки, которую мисс Крейн теперь отождествляла с нравственным устремлением исторического развития, реки, которая отбросит мусор, накиданный в нее предрассудками, или унесет его на себе в еще невидимое, потому что очень еще далекое море полной гармонии, где весь этот мусор, пропитавшись водой, затонет и в конце концов сгниет либо просто исчезнет, как спички в безбрежном океане. Кланси, если вдуматься, — не только Кланси или Клане, но еще и сын своего отца, и потомок своих дедов и прадедов, а все англичане, пока оставались у себя дома, вопреки своему ханжеству, а может быть, под его влиянием, не меньше, чем любая другая европейская нация, старались снести запруды на пути этого потока, старались, возможно, даже больше других в силу своей островной обособленности своего места на карте, которое, хоть и препятствовало вторжению внешних врагов, не препятствовало вторжению в умы гуманных идей античной и ренессансной Европы, что, взмывая ввысь, летели, как перелетные птицы, во все концы света, где их круглый год встречали как желанных гостей.
Вот эта способность Кланси уловить хотя бы слабый рокот — все, что он способен был расслышать в громе летящих столетий, — и позволила ему сказать с грустью, но и с гордостью, потому что для него и ему подобных жизнь, конечно же, стала лучше, чем была раньше: «В те времена все было по-другому, вроде бы проще, не надо было думать». Он чувствовал, пусть бессознательно, какое бремя налагает свобода выбора — думать, действовать, веровать или не веровать согласно своим убеждениям; какой груз ложится на чьи-то плечи с освобождением каждой страны; и, если по малой своей осведомленности он вложил в ту картину не политический, а религиозный смысл, что ж, думала мисс Крейн, в конечном счете это одно и то же. Ведь в конце-то концов, бог не более чем символ, самый высокий символ земной власти; и Кланси уже начал понимать, что осуществление власти — нелегкое дело, особенно если те, кто эту власть осуществляет, уже не уверены, что провидение на их стороне.
* * *
Дожди в том году запоздали. В Майапуре они начались в конце июня. Молодые солдаты изнывали от неимоверной жары, которая им предшествовала, бурно радовались первым ливням, но к концу второй недели июля уже горько жаловались на всепроникающую сырость.
Мисс Крейн давно привыкла не обращать внимания на погоду. В сухой сезон она носила шляпы с большими полями, легкие шерстяные или бумажные платья и туфли на низком каблуке; в сезон дождей — блузы и суконные юбки, когда нужно — надевала резиновые сапоги, непромокаемую накидку и клеенку поверх пробкового шлема. По городу и его окрестностям разъезжала на ветхом, но еще прочном велосипеде, а свой автомобиль — десятилетней давности «форд» — оставляла для более дальних поездок. В прошлом «форд» возил ее даже в Калькутту, но теперь она ему такого доверия не оказывала. В тех редких случаях — один или два раза в год, — когда ей нужно бывало съездить в Калькутту, она ездила поездом, и ездила одна, потому что Джозеф, дожив до пятидесяти лет в стране, где ни один коренной житель не надеется дожить и до сорока, чувствовал, что стар он для таких путешествий. Покидая Майапур, он нервничал и говорил, что не доверяет сторожу — ну, как в дом заберутся воры. Джозеф ходил за покупками, стряпал, берег припасы и присматривал за служанкой, двенадцатилетней девочкой с базара. В жаркую погоду он спал на веранде, в холодную и в дождь — на походной койке в кладовой. Вечером по воскресеньям по-прежнему регулярно отправлялся в церковь, для чего испрашивал разрешения взять велосипед. Церковь — не святой Марии в кантонменте, а миссионерская — находилась недалеко от дома мисс Крейн, у Мандиргейтского моста, одного из двух мостов, перекинутых через реку, отделявшую кантонмент от туземного города.
По ту сторону у моста стоял храм Тирупати, в ограде которого был алтарь, а в нем — изваяние спящего Вишну. На английском берегу, между этим мостом и вторым — Бибигхарским, жила евразийская община в удобной близости от железнодорожных складов, пакгаузов и контор. Линия железной дороги следовала руслу реки. Пути пересекали улицы, ведущие к мостам. Поэтому на английском берегу у мостов были устроены переезды, и шлагбаумы опускались, когда должен был пройти поезд, так что оба моста оказывались отрезаны и между европейцами и туземными жителями вырастал крепкий барьер. Когда шлагбаумы на переездах были закрыты, транспорт, идущий из туземного города, скапливался на мостах. Мисс Крейн, возвращаясь на велосипеде домой, случалось попадать в такие пробки, и там плечом к плечу с ней застревали другие велосипедисты и пешеходы — клерки, возвращающиеся на службу после проведенного дома перерыва на завтрак; слуги, несущие в дома белых хозяев овощи, купленные на базаре; портные по пути на примерку к сахибу или его супруге, предпочитающим работу и цены базарных портных услугам Дарвазы Чанда, постоянно живущего в кантонменте; разносчики с ящиками на голове; крестьяне, отбывающие в запряженных буйволами телегах в свои деревни к северу от города; женщины и дети, спешащие на промысел — просить подаяния или убирать мусор, да изредка — европейцы в машинах: управляющий банком, бизнесмен, начальник полиции, начальник гарнизона, офицеры — англичане и индийцы — в желтых грузовиках-полуторках. А еще она иногда видела там — и кивала ей, но никогда не заговаривала — ту белую женщину, кажется помешанную, что ходила в монашеском платье, содержала приют для больных и умирающих и среди индийцев была известна как сестра Людмила.
По Мандиргейтскому мосту мисс Крейн ездила из дому в школу у базара Чиллианвалла, мимо малой миссионерской школы и мимо миссионерской церкви и большой школы, через мост, мимо храма Тирупати, по узким грязным улицам с лавками без передней стены, мимо ворог самого базара, где торговали рыбой, мясом и овощами, и дальше, в совсем уже узкий проулок, темную щель между старых домов-развалюх, посередине которой по неглубокой открытой канаве бежала вода. Упирался этот проулок в тупик, и тут за высокой стеной с воротами и помещалась школа. Сразу за воротами была небольшая площадка, где дети могли поиграть. Рано утром и перед вечером несколько чахлых бананов бросали на нее жиденькую тень. Глина была красноватая, крепко спекшаяся на солнце и утрамбованная десятками босых детских ног. Даже в дождливый сезон, стоило хоть на полдня выглянуть солнцу, она уже снова становилась сухой и твердой, как бетон.
Школа у базара Чиллианвалла представляла собой двухэтажный дом с верандой, на веранду вело несколько ступенек, а над ее плоской крышей приходились защищенные ставнями окна второго этажа. Простоял он уже не меньше семидесяти лет и когда-то принадлежал мистеру Чиллианвалле, парсу, который приехал в Майапур из Бомбея в 1890-х годах и здесь разбогател на правительственных строительных подрядах. Мистер Чиллианвалла построил казармы в военном городке, церковь св. Марии, бунгало, где теперь жил окружной комиссар, и — уже в порядке благотворительности — базар в туземном городе. Увлекшись собственной щедростью, он заодно передал дом в тупике в дар церкви св. Марии, и до той поры, когда миссия возвела более внушительное школьное здание в кантонменте напротив церкви, этот дом служил ей единственной точкой опоры в неверном деле христианизации. После того как в 1906 году новая школа была наконец построена, дом в тупике несколько лет использовали как приют для престарелых, больных и умирающих; но, поскольку новая школа уже не вмещала детей евразийцев, а число учеников индийцев все сокращалось, миссия снова открыла в старом доме школу в надежде вернуть себе точку опоры, которой, в сущности, успела лишиться, а престарелым, больным и умирающим пришлось подождать еще лет тридцать до появления сестры Людмилы.
Школа у базара Чиллианвалла была теперь второй из подведомственных мисс Крейн точек в Майапурском округе. Третья находилась в Дибрапуре, около угольных копей; первой была большая школа в кантонменте напротив церкви, где мисс Крейн, сотрудничая с многими сменявшими друг друга учителями, по своей квалификации превосходившими ее, а по религиозности и вовсе оставлявшими ее далеко позади, инспектировала работу учительниц англо-индийских классов и сама преподавала математику и английский язык старшим девочкам — евразийкам и индианкам. Из этой школы большинство учеников переходило затем в Правительственную среднюю школу, основание которой в 1920 году сильно подорвало влияние миссии.
Преподавателем в школе у базара, где учились одни индийцы, был уже немолодой, худой и высокий христианин из Мадраса, мистер Ф. Нарайан (Ф. — читай Франциск, по имени Франциска Ассизского). Чтобы заполнить свой досуг, которого у него было с избытком, и повысить свой доход, явно недостаточный, мистер Нарайан поставлял то, что сам называл «Сюжетами», в «Майапурскую газету» — местное еженедельное издание на английском языке. Кроме того, он мастерски писал письма, и этими его услугами пользовались как индусы, так и мусульмане. Он свободно говорил на хинди, на урду и на местном диалекте и отлично писал и на урду, и на хинди, не говоря уже о его родном тамильском и благоприобретенном английском. В Европе, думала мисс Крейн, человек с такими способностями пошел бы далеко, правда, скорее по коммерческой, а не по педагогической линии. Она подозревала (на основании некоторых намеков Джозефа), что он продает противозачаточные средства христианским и передовым индусским семьям. Это не вызывало ее осуждения, но было забавно, потому что у самого мистера Нарайана имелась перманентно беременная жена и большой, шумливый, неугомонный выводок сыновей и дочек.
Свою жену Мэри Нарайан, темнокожую ему под стать, он привез однажды из Мадраса, когда ездил на родину в отпуск. Он говорил, что она тоже христианка, но мисс Крейн в этом сомневалась, поскольку ни разу не видела ее в церкви, зато не раз примечала, как она входит в храм Тирупати. Он говорил, что ей двадцать пять лет, но мисс Крейн и в этом сомневалась. Она бы не удивилась, узнав, что, когда Франциск Нарайан на ней женился, ей было лет тринадцать-четырнадцать.
Мистер и миссис Нарайан жили на втором этаже школы у базара. Их дети, три девочки и два мальчика (не считая грудного младенца, чей пол мисс Крейн не удосужилась уточнить), сидели в классе на передних скамейках и, кроме них, как замечала в последнее время мисс Крейн, больше никто регулярно школу не посещал. По воскресеньям мистер Нарайан и двое его старших детей — мальчик Джон Кришна и девочка Камала Магдалена — залезали в коляску, которой правил велорикша, некий обращенный в христианство Питер Пол Акбар Хуссейн, с опасностью для жизни выбирались из тупика, маневрируя вдоль канавы с водой, и, переехав Мандиргейтский мост, прибывали на утреннюю службу в миссионерскую церковь, где мистер Нарайан между прочим участвовал в сборе доброхотных даяний. Его жене, объяснил он, приходится оставаться дома, присматривать за младшими. Мисс Крейн и к этому его сообщению отнеслась скептически. Интересно было бы, подумалось ей, постоять как-нибудь воскресным утром около храма Тирупати — проверить, не отвлекает ли миссис Нарайан от посещения церкви призывный глас Венкатасвары, бога этого храма, чье изображение раз в год выносили из святилища на берег реки, чтобы он мог благословить всех, от кого получал положенные жертвоприношения.
Но воскресные утра были у мисс Крейн заняты другим. В любую погоду она ездила на велосипеде в церковь св. Марии, ездила по прямым, аккуратным, обсаженным деревьями улицам европейского города, в непогоду держа над головою зонтик. Зонтик мисс Крейн стал притчей во языцех среди прихожан. В дождливый сезон, подкатив к боковой двери церкви и прислонив велосипед к стене, она энергично несколько раз закрывала и открывала его, чтобы стряхнуть воду. Эти звуки, напоминавшие хлопанье крыльев летучей мыши, были слышны на ближайших к двери скамьях, и сидевшие там англичане улыбались, безошибочно догадываясь о прибытии мисс Крейн, как много лет назад, в другой церкви, люди улыбались, когда мистер Дай возносил молитвы.
Забавляла прихожан и склонность мисс Крейн засыпать во время проповеди, что она проделывала очень деликатно, не горбясь, расправив плечи, так что выдавали ее одни глаза, да и закрытые глаза сперва как будто свидетельствовали только о внимании к тем или иным словам пастора, которые ей словно бы требовалось обдумать. Глаза ее закрывались, потом открывались, потом опять закрывались и тут же открывались снова. На третий раз веки слипались крепко, можно сказать — захлопывались, и уже надолго, это означало, что мисс Крейн отсутствует. И лишь по тому, как она вскидывала голову, когда священник заводил свое «А теперь во имя отца и сына…» и у паствы вырывался дружный вздох облегчения, можно было заключить, что она не слышала ни слова и что веки, теперь уже снова распахнутые, до этого были скованы не размышлениями, а сном.
Яростное встряхивание зонта — всплески крыл приземлившихся разгневанных ангелов — и крепкий сон во время проповеди, всем известная прямота суждений и кажущаяся нечувствительность к мелким уколам со стороны тех, кто почитал себя выше ее по положению в обществе, — все это способствовало тому, что у майапурских англичан сложилось о ней мнение как о женщине, чья работа в миссии не сузила, а расширила ее кругозор. Святошей Эдвина Крейн, во всяком случае, не была. Она внушала невольное уважение, между прочим, и тем, как твердо отстаивала свои мнения в женских комитетах, членом которых состояла. Едва началась война, английские дамы поняли, сколь необходимо срочно организовать комитеты: комитеты по вязанию теплых вещей для солдат и по культурному обслуживанию вооруженных сил, комитеты социального благоденствия, комитеты по вербовке в армию, по проведению Военных недель, по руководству добровольной работой в клинической больнице и в городской лечебнице, а также деятельностью дам, озабоченных судьбою детей индийских матерей, работающих на строительстве дороги и аэродрома в Баньягандже или на Британско-Индийском электрическом заводе. Первоначально миссис Уайт, жена окружного комиссара, просто предложила мисс Крейн помочь с вербовкой в армию, теперь же она была членом комитетов по социальному благоденствию, добровольной помощи больницам и помощи индийским матерям; и если между собой дамы говорили о ней в таком тоне, что посторонний человек мог подумать, будто она — всего-навсего учительница миссионерской школы и стоит так низко на общественной лестнице, что ее и за человека едва можно считать, однако все вместе они понимали, что вовсе не хотят ее унизить, а по отдельности уважали ее, закрывая глаза на ее «бзик касательно туземцев».
Не кто иной, как жена окружного комиссара, первой набросала тот портрет мисс Крейн, под которым со временем подписались все местные дамы. «Эдвина Крейн, — заявила однажды миссис Уайт, — явно проглядела свое призвание. Чем попусту тратить силы в этих миссиях и ораторствовать о злодеяниях британского правительства и о невыносимых тяготах людей, которых ее церкви угодно именовать нашими темнокожими братьями, она могла бы стать директрисой первоклассной женской школы в каком-нибудь английском графстве».
До войны мисс Крейн мало вращалась в английском обществе. Изредка обед в пасторском доме (сам пастор и оповестил знакомых о ее склонности спать во время его проповедей), раз в год приглашение к окружному комиссару на праздник в саду и раз в год, в холодные месяцы, на обед в его бунгало — таковы были главные события ее светской жизни, и так оно, в сущности, и осталось, но ее работа в комитетах расширила круг англичанок, готовых остановиться и поболтать с ней при встрече на базаре либо пригласить ее на чашку чая или кофе; а на тот званый обед у комиссара, на который она собиралась сегодня, и вовсе были приглашены только высокопоставленные англичане и широкоизвестные индийцы, например леди Чаттерджи, вдова сэра Нелло Чаттерджи, основателя майапурского Технического колледжа.
Для таких парадных случаев мисс Крейн надевала коричневое шелковое платье, в вырезе которого ниже резко выступающих ключиц видна была мягкая подушечка тела под желтоватой кожей. Украшал это платье букетик искусственных цветов, изготовленных из лилового и малинового бархата. Рукава были короткие, до локтя, и она надевала к нему длинные коричневые шелковые перчатки с прорезами у запястий, позволяющими стянуть перчатку с пальцев, так что оказывались на виду ее костлявые, коричневые же кисти. Седеющие волосы в этих случаях зачесывались надо лбом свободнее, чем обычно, и пучок располагался на затылке чуть пониже. Ногти на худых, но подвижных пальцах без единого перстня были коротко подстрижены. От нее, как знали ее соседи по столу, исходили запахи герани и нафталина, причем первый с течением вечера все слабел, а второй все усиливался, пока и тот и другой не тонули в сладостном аромате вина и виски.
При ней бессменно (на руке до и после обеда или на коленях во время обеда) находилась сшитая своими руками сумочка из коричневого атласа на малиновой подкладке. Коричневый атлас был не совсем в тон платью. В сумочке, которая раздергивалась и сдергивалась на коричневых шелковых шнурах, помещалась серебряная пудреница — источник запаха герани, батистовый носовой платок, ключи от «форда», несколько засаленных бумажных рупий, блокнот для записи предстоящих дел, серебряный карандашик с красной шелковой кисточкой и зеленый пузырек с нюхательной солью. На обедах у окружного комиссара мисс Крейн пила все, что ей предлагали: херес, белое бургундское, кларет, коньяк, — но перед тем, как отбыть домой в машине, всегда нюхала соли, чтобы просвежить голову, достаточно крепкую, как с облегчением убедилась миссис Уайт, чтобы можно было не опасаться, как бы мисс Крейн под влиянием винных паров не забыла плотно захлопнуть дверцу.
Пока она заводила «форд» в гараж из рифленого железа возле своего дома, старый Джозеф выходил ее встречать и журил за опоздание. Войдя в комнаты, она выпивала молоко, которое он, дожидаясь ее, успевал несколько раз подогреть, съедала печенье, выложенное им на тарелку и накрытое салфеточкой, глотала по его настоянию таблетку аспирина и, ответив на его почтительное «Храни вас бог, мэм!» коротким «Спокойной ночи», удалялась в спальню, а там медленно, устало выбиралась из неудобного длинного платья, которое Джозефу наутро предстояло проветрить и убрать в комод, где хранились ее немногочисленные наряды и запасное белье, что он и проделывал с гордостью, потому что его хозяйка была настоящая мемсахиб, несмотря на ее велосипед, пробковый шлем и резиновые сапоги, несмотря на ее работу в зловонных улочках языческого туземного города.
* * *
До 1942 года мисс Крейн прожила в Майапуре семь лет, и за это время там перебывало много европейцев. Окружной комиссар мистер Уайт и его жена находились здесь всего около четырех лет, с 1938 года, когда ушел в отставку предыдущий окружной комиссар, сварливый вдовец по фамилии Стэд, разобиженный тем, что не получил ни повышения как комиссар, ни назначения в секретариат. Заместитель окружного комиссара и его жена — мистер и миссис Поулсон — прибыли в Майапур еще немного позже. Поулсоны были давно знакомы с Уайтами. Уайт даже сам попросил, чтобы Поулсона назначили его заместителем. Начальник полиции округа Роналд Меррик был холостяк, молодой человек, порой, как говорили, не в меру ретивый по службе, в клубе — спорщик и забияка, но кумир незамужних молодых женщин. Он проработал здесь всего два года. Один лишь председатель окружного и сессионного суда, который вместе с комиссаром и начальником полиции составлял триумвират гражданской власти округа, пробыл в Майапуре столько же времени, как мисс Крейн, но он был индиец. Звали его Менен, мисс Крейн ни разу с ним толком и не разговаривала. Менен был другом леди Чаттерджи, жившей в том конце кантонмента, что выходил к мосту Бибигхар, в доме Макгрегора, получившем свое название от некоего шотландца, который заново построил его на фундаменте дома, построенного каким-то раджей в те дни, когда Майапур был еще туземным княжеством. Этого раджу свергли в 1814 году, а его земли, аннексированные Ост-Индской компанией, влились в провинцию и составили второй по размерам и по значению из двух десятков ее округов.
Леди Чаттерджи играла ведущую роль в индийском светском обществе Майапура, однако мисс Крейн почти не была с ней знакома. Они встречались на приемах у окружного комиссара, но в доме Макгрегора мисс Крейн не была ни разу, хотя дом этот, как говорили, был единственным, где англичане и индийцы встречались как равные или, вернее, индийцы держались не слишком опасливо, а англичане — не слишком скованно. Мисс Крейн, в сущности, не жалела, что не бывает в доме Макгрегора. Леди Чаттерджи, по ее мнению, переняла от Запада много лишнего, в частности снобизм, как интеллектуальный, так и социальный. Послушать ее за обедом у окружного комиссара было забавно, но потом в гостиной, когда женщины ненадолго оставались одни, леди Чаттерджи принималась задавать им вопросы, рассчитанные, как казалось мисс Крейн, на то, чтобы уличить их в принадлежности к недостаточно знатному кругу в Англии и недостаточном умении ориентироваться за границей, после чего погружалась в надменное молчание и уже не вмешивалась в болтовню английских дам, а спокойно ждала, когда в гостиную явятся мужчины и ей опять представится возможность всех смешить блестками своего остроумия. При мужчинах леди Чаттерджи казалась английским дамам проще в обращении. Мисс Крейн решила, что все они ее побаиваются. А леди Чаттерджи, по ее наблюдениям, хоть и не боялась их, но все время была настороже и по-своему не менее чопорна, чем сами англичанки. Сама мисс Крейн, казалось, была ей совершенно безразлична: возможно, равнодушие это объяснялось тем, что в первый же раз, как они встретились, леди Чаттерджи путем прямых вопросов выяснила, что у мисс Крейн нет ученой степени и вообще нет педагогического образования, если не считать краткосрочных курсов, которые она окончила в Лахоре давным-давно, когда только еще рассталась с Несбит-Смитами. С другой стороны, равнодушие леди Чаттерджи можно было объяснить и ее антипатией ко всяким миссиям и миссионерам. При всей своей западной культуре леди Чаттерджи оставалась потомком раджей, индуской из правящей касты воинов. Невысокого роста, тоненькая, с подстриженными на европейский манер седеющими волосами, она сидела на краю дивана очень прямо, плотно обернув плечи свободным концом сари, поблескивая на вас своими удивительными глазами, а благородный нос с горбинкой и светлый цвет кожи без слов говорили и о знатном происхождении, и о ее воспитании — словом, только ход истории помешал этой женщине занять высокое положение, для которого она была рождена.
Муж леди Чаттерджи, умерший несколько лет назад, был намного старше ее, детей у них не было, а титула он был удостоен за службу английской короне и за благотворительную деятельность на пользу своих соотечественников, и леди Чаттерджи, овдовев, видимо, держалась его линии — угождать и нашим и вашим, в чем мисс Крейн усматривала дурной вкус. Подружившись еще в прежние дни с сэром Генри Мэннерсом, одно время занимавшим пост губернатора провинции, и его женой, леди Чаттерджи до сих пор ежегодно ездила в Равалпинди или в Кашмир погостить у леди Мэннерс, теперь тоже овдовевшей, и у племянницы сэра Генри, Дафны Мэннерс, неинтересной, голенастой и еще незамужней молодой особы, которая с начала войны работала в больнице в Майапуре и жила это время у леди Чаттерджи в доме Макгрегора. Уважению, с каким относилась к леди Чаттерджи верхушка английской колонии, несомненно, способствовала как ее дружба с такими знатными англичанами, как леди Мэннерс, так и ее собственное положение в Майапуре — вдова сэра Нелло, член попечительского совета Технического колледжа, член комитета попечителей мусульманской Женской больницы в туземном городе. С окружным комиссаром и его женой они называли друг друга по имени (с его предшественником Стэдом она не дружила). В бунгало мистера Уайта она всегда была желанной гостьей. Она играла там в бридж, а миссис Уайт играла в бридж в доме Макгрегора. Но даже если Уайты полагали, что такие сердечные отношения входят в их обязанности, поскольку они представляют правительство, радеющее о всех обитателях округа, как англичанах, так и индийцах, с вдовой сэра Нелло их связывала подлинная симпатия и понимание.
Однако особенно интересовало мисс Крейн то, что столь же радушный прием находили в доме Макгрегора индийцы — адвокаты, врачи, учителя, муниципальные чиновники, чины гражданской государственной службы, и среди них как члены местного подкомитета партии Национальный конгресс, так и другие, не входящие в этот подкомитет, но заведомо стоящие на еще более крайних антибританских позициях.
Часто ли такие люди встречаются в доме Макгрегора с либерально настроенными англичанами — этого мисс Крейн не знала; не знала она и того, надеется ли леди Чаттерджи путем таких встреч приглушить их антибританский пыл или же разжечь в сердцах английских либералов еще более радикальные настроения. Она знала одно: самой леди Чаттерджи, на ее взгляд, явно не хватало подлинного либерализма. Однако она допускала, что до конца понять леди Чаттерджи ей мешает особая слепота и глухота, которую порождает в нас положение человека, социально приниженного. А допуская это, тем самым допускала и более глубокую истину.
Состояла же эта истина в том, что после целой жизни, проведенной в служении миссионерским школам, мисс Крейн была очень одинока. После смерти старой мисс де Сильва, учительницы в Дибрапуре, не осталось ни во всем округе, ни во всей Индии, ни на всем свете ни одного человека, будь то англичанин или индиец, которого она могла бы назвать своим другом, с которым ей хотелось бы поговорить долго и задушевно. Когда в мае 1942 года мистер Ганди потребовал, чтобы англичане ушли из Индии, оставив ее, как он выразился, на произвол «бога или анархии», а проще говоря — японцев, и мисс Крейн сняла со стены его портрет, а индийские дамы перестали приходить к ней на чашку чая, она поняла, что ее дом от этого не опустеет, потому что они и раньше видели в ней не человека, а всего лишь представительницу чего-то, что, по их мнению, требовало представительства. Поняла и то, что и сама смотрела на эти чаепития как на сборища не столько дружеские, сколько нужные. Больше в Майапуре некому было к ней заглянуть, и самой ей заглянуть было не к кому. Если кто к кому и заглядывал, так не ради человеческого общения, а по делу. Теперь вместо дам приходили солдаты, притом в другой день, по средам (словно вторники она берегла на тот случай, если дамы одумаются). А что касается солдат, то, вероятнее всего, в войсковом кооперативе повесили объявление:
«Тем из личного состава, кто желает воспользоваться приглашением на чашку чая по средам, в доме мисс Э. Крейн, инспектора англиканских миссионерских школ Майапурского округа, записаться у ответственного за культурно-бытовое обслуживание гарнизона».
Порой она спрашивала себя, не объясняется ли ее решение приглашать к себе этих солдат инстинктивным желанием найти наконец пристанище среди тех, под чьей защитой издавна жила европейская община. Она не могла не сознавать, что по сегодняшним меркам ее социальные и политические понятия несколько старомодны и схематичны. Не получив настоящего образования, она взрослела медленно и, очевидно, нахваталась идей предыдущего поколения, приняв их за нечто совершенно новое. В современной политической практике она не разбиралась. Этой слабой осведомленностью и определялась пропасть, отделявшая ее не только от молодых, либерального толка англичан, с которыми она встречалась в доме у окружного комиссара и никак не могла найти общий язык, но и от леди Чаттерджи — та едва слушала, если мисс Крейн случалось заикнуться о независимости Индии и священном долге англичан в свое время предоставить этой стране независимость, и сразу давала понять, что уже сто раз все это слышала и с нее довольно.
«Я — пережиток прошлого», — сказала себе мисс Крейн, затем мысленно зачеркнула слово «прошлого» во избежание тавтологии и загляделась на изображение старой королевы, словно надеясь, что та сообщит ей нечто простое, но неоспоримое, — такое, что бывающие в доме Макгрегора, может быть, упустили из виду. Особенно удивляло ее, что вот ее дамы перестали приходить к ней на чашку чая, а сборища в доме Макгрегора продолжаются. Англичане, как видно, не видели в этом ничего дурного, хоть и знали, что приперты в стене, которую индийцы твердо вознамерились разобрать по кирпичикам. Они уверяли, что долг таких людей, как окружной комиссар и его жена, — постоянно быть в курсе событий, а где еще и набираются сведений, как не в доме Макгрегора? Так, например, ходили слухи, что окружной комиссар уже подготовил по приказу правительства список тех членов партии Конгресс по Майапурскому округу, которых придется арестовать на основании закона об обороне Индии, если Конгресс поддержит резолюцию мистера Ганди, — резолюцию, призывающую англичан покинуть Индию, ибо в противном случае они убедятся, что оборонять ее невозможно и невозможно кормить, одевать, снабжать оружием и вообще содержать войска на ассамско-бирманской границе, а невозможно по той простой причине, что не найдется никого, кто захотел бы трудиться на железных дорогах, на почте и телеграфе, в доках, на складах, на фабриках, в копях, в банках, в конторах — словом, где бы то ни было, будь то в государственном аппарате или на производстве, — в стране, которую они эксплуатировали больше двухсот лет, а теперь, не сумев удержать Бирму, подставили под удар со стороны новой группы империалистов и поджигателей войны.
Мисс Крейн страшилась такого восстания. Для страны, которую она полюбила, она видела единственное спасение в том, что ее народ и ее правители объединятся наконец как равные союзники в войне с фашизмом. Если бы в 1939 году члены Конгресса не вышли из состава провинциальных министерств, обидевшись, что вице-король, даже для виду с ними не проконсультировавшись, объявил войну от имени короля-императора; и если бы мистер Ганди в припадке безумия именно в это время тягчайших испытаний для Англии не выступил со своими требованиями политической свободы; если бы решать за Индию предоставили тогда мистеру Неру, которому Ганди, несомненно, связывал руки, и мистеру Раджагопалачари (который возглавлял тогда министерство в Мадрасе и хотел вооружить и обучить весь народ для войны против японцев) — вот тогда, как полагала мисс Крейн, в Дели был бы сейчас целиком индийский кабинет, лорд Линлитгоу был бы генерал-губернатором фактически независимого доминиона, и все, чего она желала для Индии, уже осуществилось бы, и война велась бы под твердым и разумным руководством.
Порой мисс Крейн просыпалась среди ночи и лежала без сна, прислушиваясь к дождю и волнуясь при мысли о близящихся ужасах, с которыми люди готовятся бороться, не понимая их, а значит, не зная средств для борьбы. Мы понимаем одно, думала она, — как им противостоять, и еще иногда — как их предотвратить.
Но на этот раз предотвратить их не удалось.
* * *
В первые дни августа мисс Крейн простудилась, что, как уже сказано, случалось с ней редко. Рисковать своим здоровьем она никогда не считала нужным, а потому позвонила в Дибрапур в школу предупредить, что в четверг не приедет, а будет только в субботу, после чего вернулась домой и улеглась в постель лечиться теплом. К концу недели ее недомогание прошло, и 8 августа — в день, когда Конгресс проголосовал за резолюцию мистера Ганди, — мисс Крейн с утра отбыла на своем «форде» в Дибрапур, миль за семьдесят от дома.
Дибрапурская школа, третья из подведомственных ей точек, стояла на отшибе, примерно на полпути между деревней Котали и самим городком Дибрапур. Городок был расположен у южной границы округа. Там не было ни церкви, ни белого населения Управление так называемыми Дибрапурскими копями осуществлялось теперь из Алигарха, то есть из соседнего округа той же провинции. Большинство школьников жили в Котали. До школы от них было всего три мили, а до другой школы — той, которую открыл в одной из ближайших деревень отдел народного просвещения, — не меньше четырех. Миссионерскую школу построили на отлете много лет назад, чтобы она могла обслуживать не только Дибрапур, но и близлежащие деревни. Когда же правительство, расширяя свою программу народного просвещения, понастроило новых начальных школ, старая миссионерская школа не растеряла своих учеников по той простой причине, что много их никогда и не было. Дети из Котали ходили сюда, потому что так было ближе, а кое-кто посещал эту школу и живя в Дибрапуре, потому что в ней преподавали английский.
Дибрапурские дети — это обычно были сыновья (в редких случаях — дочери) лавочников, мечтавших для своих отпрысков о должности правительственного подрядчика или мелкого чиновника гражданской службы и знавшие, как существенно для получения такой должности владение английским языком. И вот около десятка мальчиков и две-три девочки ежедневно топали из Дибрапура в миссионерскую школу и, так же как ребята из Котали, несли с собой котелки с завтраком и холщовые сумки. Даровых лепешек в этой школе не давали; к услугам детей было только обучение, благие намерения и лекарства от расстройства желудка.
Школьное здание, простоявшее около тридцати лет, постоянно требовало ремонта; сейчас, летом 1942 года, его предстояло заново штукатурить, но с этим надо было подождать до конца дождей. А вот крыша ждать не могла, и все это лето заботы мисс Крейн в связи с этой школой сводились почти исключительно к сметам, которые местные строители периодически представляли учителю, мистеру Чоудхури, и к ссудам, то есть, грубо говоря, к наличности. До сих пор мистеру Чоудхури еще не удалось получить ни одной сметы, хотя бы отдаленно соответствующей наличным средствам. Как видно, не было у него ни деловой хватки, ни умения торговаться. «Нам нужно еще 500 рупий, — прикидывала мисс Крейн. — В сущности, нам нужно больше: не только ремонт крыши, но новая крыша, а если на то пошло, так и новая школа». Иногда, не удержавшись, она думала и о том, не нужен ли здесь и новый учитель, но тут же гнала от себя эту мысль как недобрую, подсказанную личной предвзятостью. Если они с мистером Чоудхури с самого начала не спелись, это еще не значило, что можно закрывать глаза на его редкостный педагогический талант.
В Дибрапуре мистер Чоудхури проработал всего около года — его прислали сюда вскоре после смерти его предшественницы старой мисс де Сильва, евразийки из Гоа. Со смертью мисс де Сильва мисс Крейн лишилась последнего человека, который еще называл ее Эдвиной. Когда она семь лет назад впервые посетила Дибрапур в качестве инспектора, старая учительница — толстая, седая, грузная, с голосом таким же густым и требовательным, как взгляд ее удивительных черных, навыкате глаз, сказала:
— Вам дали место, которого я добивалась. Меня зовут Мэри де Сильва. Моя мать была черная как уголь.
— А я — Эдвина Крейн, — сказала мисс Крейн, пожимая пухлую, сильную руку. — Я не знала, что вы хотели получить эту работу, а моя мать умерла так давно, что и вспомнить страшно.
— Ну, тогда я, если вы не против, буду звать вас Эдвиной. Стара я, чтобы пресмыкаться перед новым инспектором. А поговорить нам, если вы опять же не против, надо первым делом об этой треклятой крыше.
И они заговорили о крыше, о стенах, о колодце, который следовало перенести в другое место, а потом о детях и о намерении Мэри де Сильва во что бы то ни стало устроить мальчика по имени Баларачама Рао в Правительственную среднюю школу в Майапуре.
— Его родители об этом и слышать не хотят. А я хочу. Как вы считаете, Эдвина Крейн?
— Я так считаю, Мэри де Сильва, что в таких делах нужно прислушиваться к советам местных педагогов.
— Тогда найдите для юного Баларачамы приличное жилье в Майапуре. В этом вся загвоздка. Ему там негде жить, если его и примут. Родители уверяют, что у них там нет родственников. Врут, конечно. У индийцев везде есть родственники. Мне ли не знать.
А кожа у нее была не темнее, чем у маленькой мисс Уильямс.
Мисс Крейн нашла-таки в Майапуре жилище для Баларачамы и целый месяц, то есть почти все время, проведенное в Дибрапуре за четыре еженедельных наезда туда, убеждала родителей мальчика отпустить его. Когда это ей наконец удалось, Мэри де Сильва сказала: «Благодарить вас не буду. Это был ваш долг. И мой тоже. А теперь пошли, поможете мне почать бутылку рому, которую я берегу с Рождества». И она пошла с Мэри де Сильва в ее бунгало в полумиле от школы, где теперь жил Чоудхури с женой, выпила рому, выслушала автобиографию Мэри де Сильва и рассказала ей свою. Еще не раз после этого они пили ром и лимонный сок в гостиной у Мэри де Сильва, пили умеренно, но достаточно для того, чтобы разговориться, и мисс Крейн чувствовала, что здесь, в Дибрапуре, у Мэри де Сильва, она после целой жизни скитаний опять обрела родной дом. Шесть лет она каждую неделю приезжала в Дибрапур и оставалась ночевать у Мэри де Сильва. «Это ведь необязательно, — говорила мисс де Сильва, — однако приятно. Прежний инспектор приезжала только раз в месяц и никогда не оставалась ночевать. Это тоже было приятно». Через шесть лет, когда крыша школы была отремонтирована и уже снова нуждалась в ремонте, когда новый колодец был вырыт, а стены уже дважды залатаны и покрашены, школа в один прекрасный день оказалась на замке, а старая учительница лежала в своем бунгало в постели совсем одна, временно покинутая даже слугой — тот побежал в Дибрапур за доктором. Мисс де Сильва что-то бормотала еле слышно. А договорив, что нужно, покивала и, устремив взгляд на мисс Крейн, сказала с улыбкой: «Ну вот, Эдвина, я свое отжила. А вам впору опять заняться крышей». Потом закрыла глаза и умерла, точно кто-то просто выключил свет.
Сделав все для того, чтобы тело мисс де Сильва было без задержки доставлено в Майапур и похоронено на кладбище при церкви святой Марии, мисс Крейн поручила мистеру Нарайану, скучавшему без дела, подыскать временного учителя и, вернувшись в Дибрапур, снова открыла школу и в ожидании этой временной замены сама принялась обучать детей. Своему начальству в миссии она сообщила письмом о кончине мисс де Сильва и о шагах, предпринятых ею в отношении школы на то время, пока туда не будет назначен постоянный учитель. Она рекомендовала некую мисс Смидерс, с которой работала когда-то в Бихаре. Мисс Смидерс ей не прислали. Прислали сперва родственника мистера Нарайана, горького пьяницу, а затем, из Калькутты, — мистера Д. Р. Чоудхури, бакалавра искусств и бакалавра естественных наук. Это обилие ученых степеней не только удивило ее, но возбудило кое-какие подозрения. Глава миссии, как она поняла из его письма, тоже немного удивился, но ничего худого не заподозрил. Он сообщил ей, что мистер Чоудхури не называет себя христианином, однако не исповедует открыто и никакой другой религии. Он ушел из правительственного учительского колледжа, где раньше преподавал, и обратился в миссию с просьбой направить его на самую скромную педагогическую работу. Ему предлагали несколько мест, но он от всех отказывался, пока не открылась эта вакансия в Дибрапуре, которую он, по словам писавшего, воспринял как «подходящую исходную точку». «В Дибрапуре ему, конечно, делать нечего, — сообщал глава миссии конфиденциально, — и едва ли он пробудет у вас долго. Он едет с женой, поэтому, будьте добры, распорядитесь, чтобы для них приготовили бунгало покойной мисс де Сильва. Насколько нам известно, у него есть кое-какие личные доходы, хоть и небольшие. Как вы увидите, мистер Чоудхури весьма замкнутый молодой человек и избегает вдаваться в причины, побудившие его отказаться от более выигрышной академической карьеры. Однако, побеседовав с ним и наведя справки на стороне, мы убедились, что желание обучать детей в деревне подсказано искренним сочувствием к обездоленным сословиям его народа и искренним убеждением, что образованные люди, подобные ему, должны чаще жертвовать своими личными интересами ради интересов страны в целом. Работать же в этом направлении именно в наших школах он предпочитает не потому, что мы ведем преподавание на религиозной основе, а потому, что держится невысокого мнения о правительственных начальных школах, где учителя, как ему кажется, ставят на первое место не педагогические соображения, а политику».
Несмотря на столь обнадеживающую характеристику, между мисс Крейн и мистером Чоудхури с самого начала установились отношения, которые она мысленно называла чуть ли не классически сдержанными — в том смысле, что они подозревали друг друга в лицемерии, в тайных побуждениях, в том, что под тонким слоем либерализма оба скрывают сугубо консервативное нутро, так что любой их разговор, выходящий за рамки чисто школьных дел, получался либо полным недомолвок, либо вовсе бессмысленным.
Из недели в неделю мисс Крейн старалась побороть свою сдержанность. Доискиваясь до возможных ее причин, она отдавала должное и своей скорби об умершей, но не забытой мисс де Сильва. Зная, что мистеру Чоудхури известно, что она приезжала к мисс де Сильва каждую неделю, она и к нему наведывалась каждую неделю и оставалась ночевать в бунгало старой учительницы, преображенном до полной неузнаваемости, поскольку заботами мистера и миссис Чоудхури оно теперь было обставлено в стиле индийцев, равняющихся на западную моду. Если бы она прекратила свои наезды, он мог истолковать это превратно; но, с другой стороны, он мог заподозрить ее и в том, что, продолжая регулярно посещать его, она на него не полагается как на работника. И еще она продолжала ездить в Дибрапур потому, что надеялась — может быть, в конце концов она снова почувствует себя здесь как дома.
Рослый, гибкий, широкоплечий, с точеным, как у многих бенгальцев, лицом, мистер Чоудхури был по-своему красив, и мисс Крейн признавала это, только красота его была не в ее вкусе. Взятые порознь черты лица у него были резкие и как будто говорили о сильном характере, однако лицо в целом, казалось ей, выдавало слабость, вернее, даже не слабость, ведь слабость сказывается в особом выражении лица, а его лицо выражало либо полное безразличие, либо капризную досаду. Улыбка его была бы прелестной, если бы улыбались не только губы, но и глаза.
Английский язык он знал превосходно, говорил с типично индийскими интонациями и паузами, но совершенно свободно, писал правильно и сжато. И отлично преподавал. Мистер Нарайан по сравнению с ним был чем-то вроде базарного балагура, но разговаривать с ним мисс Крейн было легко и просто, не то что с мистером Чоудхури. В раннюю пору своей деятельности мисс Крейн, болезненно чувствительная к чувствительности индийцев, знающих английский язык вплоть до тончайших нюансов, но не способных оценить грубоватую разговорную речь, отучила себя от таких естественных, казалось бы, восклицаний, как «Хватит валять дурака», «Ну и чушь!». Но уже много лет как она перестала держать язык на привязи и даже жалела, что не спохватилась раньше. Когда выбираешь слова, то, что хочешь сказать, звучит как-то надуманно, и создается противное ощущение собственной ненатуральности. Если б она всегда высказывалась так откровенно, как теперь, думала мисс Крейн, может быть, она и нажила бы врагов, но заодно нажила бы и друзей. Если бы в ее словах всегда было побольше уверенности, может быть, это способствовало бы и внутренней уверенности, которую индийцы воспринимали как свидетельство искренности, надежности. С этим она запоздала. Теперь индийцы часто расценивали ее откровенность как бездумную грубость любой англичанки. Восхищались ею только ее же соотечественницы. Впрочем, с такими мужчинами, как мистер Нарайан, она могла потягаться в крепких выражениях, не опасаясь последствий. С мистером Чоудхури она возвращала себя на путь книжных слов, осмотрительных оценок и тут же портила весь эффект, если у нее срывалось словечко из тех, что сами просились на язык. В одном из первых разговоров с ним она заявила: «Ну и чушь!» — и сразу увидела, что пусть на время, но упустила его непрочную готовность с ней сотрудничать. С этой злосчастной точки они с тех пор почти не сдвинулись. Будь миссис Чоудхури более передовой женщиной, думала мисс Крейн, можно было бы воздействовать на мистера Чоудхури, подружившись с его женой, но миссис Чоудхури, хоть и окончила среднюю школу, где ее кумиром несколько лет был учитель музыки, с жизнью передового общества была незнакома и понятия о роли жены имела самые допотопные.
* * *
Утром 8 августа, когда мисс Крейн собралась ехать на своем «форде» в Дибрапур, Джозеф попытался отговорить ее. Можно ждать беспорядков, сказал он. До него дошли слухи.
Она возразила: — Слухи ходят всегда. Разве это мешает тебе выполнять твою работу? Нет, конечно. А меня ждет работа в Дибрапуре. Вот я и еду туда.
Он предложил себя в провожатые.
— А кто тогда присмотрит за домом? — сказала она. — Нет, Джозеф, давай уж будем оба работать, как обычно.
И все шло как обычно до самого Дибрапура, куда она добралась к четырем часам, по дороге подкрепившись сандвичами и кофе из термоса. В некоторых деревнях люди кричали: «Вон из Индии!», в других клянчили бакшиш. Она вела машину медленно, чтобы не наехать на коров и буйволов, на кур и детей, улыбаясь и махая рукой всем, что бы они ни кричали.
В Котали, последней деревне не доезжая школы, она остановилась поговорить кое с кем из матерей, чьи дети учились у мистера Чоудхури. Матери ни слова не сказали о беспорядках. Сама она тоже о них не упомянула. Им тут лучше, чем ей, известно, чего можно ждать. В Котали все как будто было спокойно. Дальше на дороге ей встретились школьники, возвращающиеся домой со своими котелками и сумками. Все ребята лет восьми-девяти. Она опять остановилась и раздала им часть леденцов.
На школьном участке, куда она завела машину, тень от деревьев давала немного прохлады. Мистер Чоудхури наводил порядок в классной комнате. — Есть какие-нибудь новости? — спросила она, смутно надеясь, что, если беспорядки начались и близка опасность, это породит нечто большее, чем обычная вежливость.
— Новости? — переспросил он. — Какие новости, мисс Крейн?
— Об итогах голосования в Конгрессе.
— Ах, вы об этом? Нет, я не слушал радио.
В школе, в той комнате, что служила конторой, было радио. Мистер Чоудхури иногда использовал его на уроках. Теперь мисс Крейн включила его. Передавали музыку. Она выключила репродуктор. Музыка была европейская. А в обществе мистера Чоудхури и его жены она если когда и слушала музыку, так только классическую индийскую.
— Может быть, есть зато какие-нибудь новости насчет крыши? — спросил он.
— Нет. Я еще раз проверила все сметы, все слишком дорого. Неужели нельзя найти кого-то, кто бы сделал дешевле?
— Я говорил со всеми, кто вообще согласен взяться за эту работу. Если ждать еще, даже самые дешевые сметы подорожают. А задаром работать эти люди не могут.
Она чуть не сказала: «Да я этого и не жду. Я не прошу их работать задаром». Мистеру Нарайану она бы так и ответила. Ответить так мистеру Чоудхури было нельзя. И она сказала: — Разумеется. А пока я не отказалась бы от чашки чая.
Мистер Чоудхури запер школу, и оба сели в машину. Когда они подъехали к его дому, оказалось, что чай не готов. Он не стал извиняться, но, отдыхая в своей комнате, пока ее не позвали, она слышала, как он отчитывал жену. Чай был накрыт на веранде. Миссис Чоудхури не села с ними за стол. Она ходила с веранды на кухню и обратно, приносила то одно, то другое, улыбаясь, но почти не вступая в разговор. А когда, казалось, предусмотрела все их желания, стала в дверях безмолвно, точно ее тут и нет, однако не сводя глаз с мужа, чтобы по первому его знаку исправить какую-нибудь оплошность, что-то переставить на столе, чего-то добавить к угощению.
«Вот почему мне так трудно ему симпатизировать, — часто думала мисс Крейн, — из-за этого его ужасного феодального отношения к жене». Но дело было не в этом. Вечерами миссис Чоудхури случалось развлекать их пением. Стоило ей усесться, скрестив ноги, на циновку и взять в руки пузатую индийскую лютню тампуру, как она преображалась: в худой, изящно распрямленной фигурке появлялась уверенность, достоинство — так леди Чаттерджи сидела на диване в гостях у окружного комиссара. Прослушав несколько песен, мистер Чоудхури произносил чуть слышно: «Довольно», и тогда она вставала и, забрав тампуру, исчезала за дверью. И мисс Крейн было ясно, что они любят друг друга, что мистер Чоудхури вовсе не тиран, а жена его сама предпочитает старые обычаи новым, потому что для нее в этих старых обычаях — дисциплина и традиция, средство обрести внутреннее равновесие и душевный покой.
В тот вечер, вечер 8 августа, который мисс Крейн ощущала как совсем особенный, решающий, ей, как никогда, хотелось, чтобы мистер Чоудхури разговорился, хотелось понять причину его сдержанности, пробить его скрытность. Сделать это было бы легче, если бы он тоже вел себя по старинке. Но нет. Он перенял все западные обычаи. В школе (и дома, во всяком случае, при ней) ходил в европейском платье. Обедал, сидя за столом на деревянном стуле, за обедом толковал о живописи и музыке, о школьных делах, но никогда — о политике. Стол бы накрыт скатертью, ели ножами и вилками, с фарфоровых тарелок. Миссис Чоудхури обедала с ними вместе, но в разговоре почти не участвовала и почти ничего не ела. Подавала служанка, та же, что готовила еду. Будь служанка из неприкасаемых, мисс Крейн и то чувствовала бы себя свободнее: в этом можно было бы усмотреть передовые взгляды хозяев. Но служанка была из касты брахманов.
Кофе пили в комнате, выходящей на веранду. В этой комнате они с мисс де Сильва когда-то сиживали на старых бамбуковых стульях, а теперь здесь стоял низкий диван и ноги утопали в кашмирском ковре. Мисс де Сильва довольствовалась керосиновой лампой. Мистер Чоудхури провел в дом электричество от движка в саду. Они сидели при мертвящем свете единственной лампочки без абажура, вокруг которой мошкара и ночные бабочки в еженощной ритуальной пляске стихийно устремлялись к тому, что опалит их крылышки. В этот час между едой и пением миссис Чоудхури всегда покидала их — видимо, затем, чтобы помочь служанке прибрать на кухне.
Сегодня, потягивая горький кофе, мисс Крейн острее, чем когда-либо, ощутила холодное молчание, неизменно наступавшее, как только они с мистером Чоудхури оставались наедине. Ей не давала покоя неизвестность, но вместо новостей пришлось принять единственное доказательство, что ночь началась нормально, — кваканье невидимых лягушек, в несметных количествах появившихся повсюду после вечерних дождей.
Ей хотелось спросить: «Мистер Чоудхури, скажите честно, зачем вам нужна эта школа?» — но она не спросила. Задать такой вопрос значило бы поставить под сомнение все то дело, в которое он, судя по его образу действий, вложил и ум, и сердце.
«Ну и дура же ты, Эдвина Крейн, — сказала она себе позже, раздеваясь на ночь, — опять упустила удобный случай, потому что сердце нынче никто ни во что не вложит, а ум слушается велений желудка, а мистер Чоудхури заговорил бы, если б ты знала, какие нужно задать ему вопросы и как их задать. Но он моложе меня, люди его поколения видели то же, что и я, поняли то, что и я понимаю, но кроме того видят и понимают еще много другого».
* * *
И она уснула, но проснулась в четыре часа, словно зная, что в этот час у людей ее цвета кожи есть основания не спать и быть начеку. Ибо в этот час старика в очках тоже разбудили и увели, и окружного комиссара в Майапуре разбудили и приказали ему приступить к выполнению плана, имевшего целью помешать, не допустить. А утром разбудили мисс Крейн, едва успевшую снова забыться сном, и мистер Чоудхури сообщил ей, что накануне в Бомбее исполнительный комитет Конгресса проголосовал в поддержку резолюции рабочего комитета, что Махатма арестован, и весь рабочий комитет арестован и это, без сомнения, послужит сигналом для арестов по всей стране. В девять часов она вместе с мистером Чоудхури пришла в школу провести воскресные занятия по чтению Библии и убедилась, что в школу явились только дети из Котали. Тогда она послала его на велосипеде в Дибрапур. Он вернулся около одиннадцати и рассказал, что лавки в городе закрываются, что повсюду патрулирует полиция, что прошел слух, будто по приказу майапурского начальника полиции три члена городского самоуправления арестованы и увезены в Алигарх, что на улицах собираются толпы и грозят ворваться в здание почты и в полицейский участок.
* * *
— Сейчас позвоню в Майапур, узнаю, что там делается, — сказала мисс Крейн.
Она отложила в сторону еще не просмотренные бумаги. В бунгало мистера Чоудхури был телефон.
— Не выйдет, — сказал он. — Я уже пробовал. Очевидно, провода перерезаны.
— Понятно. Тогда сделаем так. Одному из нас нужно отвезти детей домой в Котали, оставлять их здесь рискованно. Давайте я их отвезу и сразу поеду дальше. А вы идите домой, позаботьтесь о миссис Чоудхури, а если поспеете и там и тут, присмотрите за школой.
Мистер Чоудхури оглядел убогую комнату и перевел взгляд на мисс Крейн. — Здесь охранять нечего, — сказал он, — кроме детей. Заберите их в машину, а я поеду с вами на велосипеде. Если на дороге попадутся нехорошие люди, со мной вам будет безопаснее.
— Ну, мне-то ничего не грозит. А как же ваша жена?
— Вы здесь единственная англичанка. С моей женой ничего не случится. Сюда они, возможно, явятся, когда покончат с почтой и с полицейским участком, или что еще они там затеяли. Явиться они могут с любой стороны. Так что поедем мы оба с детьми в Котали.
Мисс Крейн тоже оглядела комнату. Эта школа всегда напоминала ей ту, где она много лет назад побывала с мистером Даем. Мистер Чоудхури прав. Охранять здесь нечего, кроме самого здания, да и оно немногого стоит. И сомнительно, чтобы при данных обстоятельствах он или она могли стать в дверях и выдержать натиск разъяренной толпы. Она взглянула на Чоудхури, вспомнила Муззафирабад, где была тогда совсем одна.
— Не очень-то бодро вы настроены, — сказала она.
— Я видел этих людей, слышал, что говорят.
— Насчет телефона вы уверены?
— Уверен.
С минуту они в упор смотрели друг на друга, и мисс Крейн думала, вот как оно бывает, когда опасность нешуточная, — червячок сомнения, недоверия — а вдруг тебе говорят неправду. Если телефон молчит, значит, так оно и есть. Но может быть, мистер Чоудхури взял трубку, сразу ему не ответили, и он поторопился сделать вывод. Или, может быть, телефон работает, и он это знает, но обманывает меня, чтобы поскорее уезжала в Котали.
— Хорошо, мистер Чоудхури, — сказала она. — Вы, пожалуй, правы. Детей мы как-нибудь затолкаем в машину, а вы поедете с нами на велосипеде.
Он сказал:
— Одно вы, надеюсь, понимаете. Я не боюсь остаться здесь. Если вы не хотите бросить школу на произвол судьбы, я останусь и сделаю что могу.
— Если школа будет пуста, может, они ничего и не тронут.
— Вот и я так подумал.
Она кивнула, встала и стала собирать бумаги, складывая их в аккуратную стопку. Чоудхури ждал. Она добавила:
— Скажите честно, как по-вашему, на этот раз положение серьезное?
— Да.
Они-то всегда знают, подумала она и тут же поймала себя на мысли: вот и говоришь про них «они», как будто они не такие же люди.
— Ну так, мистер Чоудхури. Тогда, будьте добры, соберите детей.
Он кивнул и вышел на задний двор, где дети играли в ожидании, когда их опять позовут.
Она уложила бумаги в портфель и тут вспомнила, что, ее саквояж, хоть и собранный уже в дорогу, находится в бунгало. Выйдя во двор, крикнула, стараясь перекричать веселый визг детей, которым он только что сообщил, что уроков больше не будет.
— Мой саквояж! Он в бунгало, я за ним сбегаю и кстати прощусь с вашей женой.
— Жену я отправил к знакомым, — прокричал он в ответ. — А ваш саквояж в машине, я его захватил.
— Спасибо. — И она вернулась в контору за портфелем. Включила радио. Опять передавали музыку — по Всеиндийскому радио, английскую музыку для вооруженных сил. Не выключая радио, она стала затягивать ремни портфеля. Радио — это своего рода спасательная веревка. Я спокойна, думала она, так же как в 1914 году, и в 1919-м, и в 1930-м. За тридцать пять лет я привыкла к внезапным тревогам. Но мне и страшно. В таких случаях мне всегда бывает немного страшно. И еще мне стыдно, я всегда стыжусь своих подозрений, вот и сейчас — сначала из-за телефона, а теперь из-за саквояжа.
— Мистер Чоудхури! — крикнула она, подойдя к двери. — Когда утихомирите их, давайте их к парадному крыльцу, а я пока заведу машину.
И в голосе у меня, как всегда, подумалось ей, как всегда, эта властная нотка, неискоренимая, когда мы разговариваем с ними. Когда разговор идет о повседневных мелочах, она, наверно, не заметна, но в критические минуты всегда звучит так, точно мы берем на себя руководство. Но ведь так оно и есть, подумалось ей. Мы должны руководить, потому что на нас обязательства и ответственность. Сейчас главная ответственность ждала ее за семьдесят миль в Майапуре В городах такие вещи всегда носят более серьезный характер.
Когда она подвела машину к крыльцу, мистер Д. Р. Чоудхури, бакалавр искусств и бакалавр естественных наук, уже стоял там, окруженный детьми голодных и нищих, играя с ними в их игры.
* * *
При всякой вспышке гражданского неповиновения, в ответ на вести или слухи о беспорядках в городах, туда устремлялись из деревень целые банды, привлеченные возможностью пограбить. Это и имел в виду мистер Чоудхури, когда упомянул о нехороших людях на пути из Дибрапура в Котали, и мисс Крейн понимала, что, уезжая из Дибрапура, они не только бегут от опасности, но, вполне вероятно, и спешат ей навстречу.
А самой ей еще предстояло проехать не одну деревню, прежде чем она доберется до Майапура. Здесь, в южной части округа, начинались невысокие холмы, но местность еще была открытая, по обе стороны хорошей гудронированной дороги тянулись обработанные поля, деревьев было мало. Почти на всем пути опасность можно было заметить издали. А чего следовало опасаться — это мисс Крейн знала по долгому опыту: в сухой сезон, когда обочины превращались в две полоски истолченного мела, — облака пыли, за которым по мере приближения к нему появлялась цепочка людей, растянувшаяся поперек дороги; в сезон дождей — те же люди, но возникающие внезапно, без предупреждения в виде поднятой ими пыли, так что сразу видно, что у некоторых из них в руках длинные колья. Три-четыре человека в одной деревне через несколько миль могли превратиться в два десятка. Машина на хорошей скорости могла в последнюю минуту обратить их в бегство, однако и тут был риск, что ее успеют встретить градом камней. Один раз в жизни, во время беспорядков 1919 года, мисс Крейн это испытала, но тогда за рулем сидел невозмутимый молодой полисмен-европеец, присланный ей на выручку в захолустную школу, где она, как и предположило ее начальство, оказалась фактически в плену.
«Смогу ли я поступить по примеру того молодого полисмена, — подумала она, — нажать клаксон и проскочить на бешеной скорости — это зависит от того, сколько их там будет». Мистер Чоудхури водить машину не умел. Она не знала, радоваться этому или огорчаться.
А сколько их там будет, зависело от трех условий: от характера беспорядков в ближайшем городе, а значит — от возможного количества добычи; от общего настроения в близлежащих деревнях и много ли там найдется мужчин, ничем не занятых и готовых воспользоваться случаем набить карманы; и, наконец, от того, насколько реальна в данной деревне власть старосты и сельской полиции.
В каждой деревне имелся чаукидар, сторож на жалованье у правительства, и каждая группа деревень числилась под охраной полицейского поста. В деревне, где полицейские знали свое дело, разогнать смутьянов не составляло труда. Там же, где полиция предпочитала ничего не заметить или решала по виду толпы, что разумнее вообще не показывать носа, толпа беспрепятственно двигалась дальше. И росла.
В Котали, куда мисс Крейн, по-прежнему сопровождаемая мистером Чоудхури на велосипеде, доставила свой груз смеющихся детей, ее встретили чаукидар, староста и несколько мужчин и женщин, совсем уже собравшихся идти в школу, чтобы привести детей домой. Оказалось, что из Гархвара, следующей за Котали деревни, тамошний констебль дал знать, что не может связаться по телефону с Дибрапуром, что беспорядки, очевидно, вспыхнули, когда стало известно об аресте мистера Ганди, и пусть жители Котали готовятся охранять свое добро и свою жизнь от смутьянов и бандитов. Староста сказал, что жители Котали очень сердиты на гархварского констебля. Его-то наверняка еще вчера предупредили, а он и не потрудился сообщить. Знай они, что творится, нипочем не пустили бы детей в школу. Матери благодарили мисс Крейн за то, что привезла их в целости и сохранности. Они предложили ей чаю, и она выпила чашку тут же у дороги, сидя на стуле, который ей принесли и поставили под деревом. И мистера Чоудхури тоже угостили чаем.
— Буду молиться, чтобы пошел дождь, — сказала она ему с улыбкой. — Хороший ливень сразу охладит их пыл. В мокроту они предпочтут сидеть дома.
Он не ответил. Допив чай, отошел в сторону и поговорил о чем-то со старостой и чаукидаром. Вернулся он, когда мисс Крейн допивала вторую чашку. Она была голодна, но от еды отказалась.
— Вам надо остаться здесь, мисс Крейн, — сказал он. — Здесь вы среди друзей благодаря детям. А в Майапур ехать опасно.
Она покачала головой, поставила чашку на поднос, который держала наготове молоденькая девушка. — Нет, — сказала она. — Поеду дальше.
— Здесь о вас позаботятся. Староста предлагает вам остановиться у него в доме.
— Это очень любезно с его стороны. Я ему благодарна, но все же попытаюсь вернуться домой.
— Тогда переждите хотя бы часа два. Я съезжу в Дибрапур. Как знать, может, все это буря в стакане воды. Если так, вы можете еще раз переночевать у нас, а в Майапур поедете завтра. И телефон к тому времени, наверно, заработает.
— А если это не буря в стакане воды?
— Тогда вам вообще не следует ехать в Майапур. Вам следует остаться здесь. Здесь вас окружают друзья.
— В Майапуре у меня тоже есть друзья. И знаете ли, мистер Чоудхури, у меня есть кое-какие обязанности. Я знаю, вы хотите мне добра, но, право же, мне пора ехать.
— Вы и не поели ничего.
— Я не голодна.
— Я вам чего-нибудь раздобуду.
— А я, кажется, и не могла бы ничего съесть. Понимаете, в таких случаях меня всегда немного тошнит.
Она лгала. В таких случаях ей всегда особенно хотелось есть. Но она боялась, что, если задержится, ее решимость ослабнет.
Мистер Чоудхури чуть развел руками в знак того, что сдается. — Тогда я поеду с вами, — сказал он, — и лучше не медлить. — Отвернулся, не слушая ее возражений: «Глупости, это совершенно лишнее», и опять пошел поговорить со старостой. К ней подбежали трое школьников и, чтобы доставить ей удовольствие, громко прочли: «Жили-были два кота, восемь лапок, два хвоста». Она рассмеялась и похвалила их. Мистер Чоудхури шел к дому старосты. Он оглянулся, услышав смех, и сделал знак, что сейчас вернется. Подошла одна из матерей, неся в руках блюдо, накрытое салфеткой. Под салфеткой были свежие, прямо с огня, лепешки. Ей предложили еще чаю. Другая женщина принесла миску гороховой похлебки и ложку. Ложку мисс Крейн не взяла и стала отламывать кусочки чаппати и макать их в похлебку. На лбу у нее выступил пот. Было так жарко, и парило. Она ела, а крестьяне стоя смотрели на нее. Ненавижу, подумала она, всегда это ненавидела, сидеть на стуле, под деревом, при дороге, а на тебя глазеют, как на зверя в клетке.
— Вот видите, — сказала она мистеру Чоудхури, когда он вернулся, — насильно кормят.
— Это от чистого сердца, — ответил он, словно втолковывая ей простую истину, которую она плохо усвоила. — Это их гостеприимство.
— Знаю. Но помогите мне хотя бы съесть чаппати. Одной мне не справиться.
— Нет, это все вам. Уж вы постарайтесь. Не обижайте их. Я тоже поем, там уже что-то варится. А потом мы поедем в Майапур.
— А как же миссис Чоудхури?
— Она у друзей, вне опасности. Отсюда пошлют кого-нибудь сказать ей, куда я поехал.
Она подняла голову, встретила его внимательный взгляд и сказала: — Спасибо вам, мистер Чоудхури. — И, чуть запнувшись, закончила: — Одной мне было бы страшно.
* * *
В следующей деревне, Гархваре, полиция ждала, сидя на корточках, у дороги, в тени баньяна. Возле дерева стоял выкрашенный белой краской индусский алтарь. С глинобитного крыльца своего дома на полицию поглядывал полуголый жрец, состоявший при алтаре. Полицейские были вооружены палками. Увидев приближающийся автомобиль, старший констебль поднялся и жестом остановил его. Отдав честь мисс Крейн и бросив взгляд на мистера Чоудхури, он сказал на урду, что обязан ее предостеречь: ехать дальше опасно. Он получил приказ — быть в готовности на случай возможных волнений.
— Когда вы получили этот приказ? — спросила мисс Крейн, тоже на урду.
Приказ быть в готовности он получил сегодня рано утром, а что возможны волнения — вчера.
— Нужно было сразу сообщить в Котали, — сказала она.
Он и сообщил в Котали. По собственному почину. В приказе про это не было сказано — только чтобы быть в готовности на случай возможных волнений.
— Нужно было сообщить вчера, — сказала мисс Крейн, — ну да это неважно. — Не будет ли он так добр сказать ей, есть ли у него сведения о том, что делается в Майапуре и на пути от Гархвара в Майапур.
Никаких сведений у него нет, сказал он, телефонная связь с Дибрапуром прервана.
— То есть перерезаны провода?
Возможно, что и так. А возможно, что просто повреждение. Он потому и разослал людей в Котали и другие деревни, что получил приказ быть в готовности на случай возможных волнений, а сразу после этого телефон перестал работать. Разослал он кого попало из местных жителей, потому что его подчиненные должны быть на месте на случай внезапной тревоги. Он сделал все возможное. Если заваруха будет серьезная, он с такой горсткой людей вообще мало что может сделать. В деревнях много нехороших людей. Его жизнь и жизнь его подчиненных в опасности. Он очень просит, пусть мемсахиб скажет младшему инспектору-сахибу в Танпуре, что старший констебль Акбар Али в Гархваре пребывает в готовности согласно приказу, но лишен средств связи.
— Значит, вы думаете, что до Танпура мы доберемся благополучно? — спросила мисс Крейн.
Этого он не знает, но в танпурском районе, куда входит и Дибрапур, служат сплошь люди проверенные и храбрые. По его мнению, вполне возможно, что до Танпура она доберется, но он обязан ее предостеречь, что ехать опасно, а за то, что делается дальше Танпура, он, конечно, отвечать не может. Там во многих деревнях полно нехороших людей, и, как знать, может, они со всех сторон стягиваются к Танпуру либо к Майапуру, если там вспыхнуло гражданское неповиновение. Но на этот счет сведения, несомненно, должны быть у младшего инспектора Говиндаса Лал-сахиба в Танпуре.
В Танпур они прибыли в два часа. Это был маленький городок, грязный, бедный и зловонный. Вся местная полиция, патрулировавшая главную улицу, состояла из шести рядовых и помощника младшего инспектора. А младший инспектор Говиндас Лал отсутствовал. Его помощник сказал, что он все утро пытался связаться со штабом начальника-сахиба в Майапуре, а час назад выехал на грузовике с одним полицейским и тремя монтерами с почты — выяснять, где перерезаны провода между Танпуром и Майапуром. Связь между Дибрапуром и Танпуром тоже прервана, но линия на Майапур важнее. Мистер Чоудхури сообщил ему, что полицейский пост в Гархваре тоже остался без связи, но они не заметили провисших проводов ни между Гархваром и Танпуром, ни вообще на всем пути сюда от дибрапурской школы. Помощник младшего инспектора объяснил: вызовы из Гархвара в Танпур и — из Танпура в Гархвар передаются через дибрапурскую подстанцию, и провода, скорее всего, перерезаны именно там, а возможно, что разгромлено и все здание почты и телеграфа.
— Ехать не опасно? — спросил мистер Чоудхури.
— Как знать? Если с инспектором-сахибом ничего не случилось, вы увидите его впереди, на дороге. А в самом Танпуре с утра собирались толпы, — рассказал он, — но инспектор-сахиб уговорил их разойтись. Из Майапура, судя по всему, движется военный отряд для поддержания порядка. Лавки еще закрыты, это против правил, но люди сидят по домам, а согласно последним указаниям из Майапура, толпы следует по возможности разгонять уговорами, но не раздражать. Лавочников можно бы заставить открыть лавки, но раз людей не велено раздражать, пусть остаются закрытыми. Так что пока все спокойно, но, если младший инспектор-сахиб скоро не вернется, трудно сказать, надолго ли этого спокойствия хватит. «Но мы ничего, держимся», — неожиданно добавил он по-английски.
— Мы увидим младшего инспектора и все ему скажем.
Однако младшего инспектора они не увидели. В пяти милях за Танпуром они обнаружили грузовик — видимо, полицейский — вверх колесами на обочине, рядом с телеграфным столбом, где они остановились. Если это и правда был грузовик младшего инспектора, значит, он нашел место, где провода были перерезаны, но времени на ремонт ему не дали. Спутанные связки проводов валялись в придорожной канаве.
— Надо возвращаться, — сказал мистер Чоудхури. — Младшего инспектора Говиндаса Лала похитили.
— И монтеров тоже, — напомнила мисс Крейн.
— Возможно, монтеры его и похитили. Среди рабочих почты и телеграфа попадаются отчаянные смутьяны.
— Но монтеров было только трое. А инспектор, наверно, был вооружен и взял с собой полицейского. Вероятно, тут были и еще люди.
— Вот потому нам и нужно вернуться, мисс Крейн.
Небо затянули тучи, но дождя еще не было.
— Какая нелепость, — сказала она. — Вчера я ехала по этой дороге, и все было тихо и мирно. А тут вот вам, Пожалуйста — перерезанные провода, опрокинутый грузовик и пропавший полицейский инспектор. Это просто глупо. — Она рассмеялась. — Нет, мистер Чоудхури, если хотите, я отвезу вас обратно в Танпур, но после этого поеду в Майапур и немедля, потому что я вдруг поняла, как это все смешно. Но если я привезу вас в Танпур, там поймут, что у нас были для этого серьезные причины, и насчет младшего инспектора все узнается. И его помощник, чего доброго, запаникует, а это может оказаться уже не смешно.
Мистер Чоудхури помолчал, потом сказал со вздохом: — За ходом ваших рассуждений я не могу уследить, мисс Крейн. Вероятно, это образчик знаменитой британской флегмы. Вы сошли с ума. И я сошел с ума, раз отпускаю вас, а тем более еду с вами. Прошу вас об одном, если мы увидим на дороге толпу жмите что есть силы на газ.
Она оглянулась, и они опять в упор посмотрели друг на друга. Теперь она не улыбалась — и не потому, что обиделась на его слова или сама уже перестала видеть смешную сторону, но потому что почувствовала, как между ними родилось взаимное доверие — доверие того рода, что может возникнуть между незнакомыми людьми, когда они чисто случайно окажутся вместе в трудных обстоятельствах, могущих обернуться либо ужасом, либо комедией.
И еще одно ощущение владело мисс Крейн — ощущение, не раз появлявшееся у нее и раньше, — ощущение в плечах и в затылке, что она вот-вот перешагнет тот барьер, который не могла перешагнуть тридцать пять лет, несмотря на все свое желание и усилия, — барьер, может быть не такой уж высокий, однако до сих пор не позволяющий свободно думать о человеке с не таким, как у тебя, цветом кожи. Барьер, будь он всего лишь высотой с камешек, оставался на месте и мешал думать, замутнял чистоту самих мыслей.
— Хорошо, постараюсь, — сказала она, — постараюсь жать что есть силы, — и пожалела, что не находит слов, чтобы передать ему, какое уважение он ей внушает в эту минуту — уважение глубже и жестче того, какое много лет назад вызвали у нее обтрепанные поющие дети, — глубже и жестче потому, что тогда к нему примешивалась жалость, а к мистеру Чоудхури у нее жалости не было, только уважение и та симпатия, что рождена доверием одного человека к другому, к которому ты раньше никаких чувств не питал.
— Тогда едем, — сказал мистер Чоудхури. Губы у него были совсем сухие. Ему было страшно, и ей тоже, но теперь они, возможно, оба видели и смешную сторону, и не надо было придумывать, что бы сказать ему такое особенное, приспособленное к тому, что кожа у него бронзовая или что она никогда его не понимала. Ведь и он никогда не понимал ее до конца. Она тронула машину с места, а через некоторое время запела и очень удивилась и обрадовалась, когда он подтянул. Этой песне она всегда обучала детей. По всей Индии, подумала она, множество коричневых и полубелых детей и взрослых знают эту песню или хотя бы вспомнят ее, если услышат снова, и вспомнят-то, возможно, в связи с мисс Крейн, учительницей. И сейчас она пела ее не с умилением, а с радостью, не набожно, а отважно, почти как бодрый марш. Пропев всю песню до конца, она начала сначала:
Есть Друг на небе ясном У маленьких детей, Земной любви короткой Его любовь сильней. Та-та, та-та, тата-та Нас предают порой, Лишь Он всегда нам верен…Впереди них дорогу перегородила цепь бунтовщиков.
* * *
— Не могу, — сказала она, подъехав ближе.
— Надо, — сказал он. — Сигнальте беспрерывно и жмите, жмите.
Он высунулся из окна машины, чтобы стало видно его темное бенгальское лицо, и помахал рукой, требуя дать дорогу. — Быстрее, — прикрикнул он на мисс Крейн. — Быстрее, не сбавляйте скорость, и сигнальте, сигнальте!
— Я кого-нибудь задавлю! — крикнула она в ответ. — Я не могу, не могу, почему они не уходят?
— Ну и давите их. Быстрее!
На мгновение ей показалось, что они с мистером Чоудхури победили, что им дают дорогу, но те люди тотчас опять сбились в плотную кучу. Наверно, увидели, что она белая. Стоявший впереди замахал руками, приказывая им остановиться.
— Вперед! — крикнул мистер Чоудхури. — Зажмурьтесь, если иначе не можете, только не останавливайтесь.
Она сжала губы, хотела послушаться, но не смогла. Не могла она гнать машину на живых людей. — Простите меня! — воскликнула она и выключила сцепление. Машина остановилась ярдах в двадцати от человека, который махал руками, но мотор работал. — Они бы не ушли, я бы их убила, простите меня.
— Замолчите, — сказал мистер Чоудхури. — Теперь предоставьте все мне. — Он накрыл ладонью ее руку. — Доверьтесь мне, — сказал он. — Я знаю, вы мне никогда не доверяли, но теперь это нужно. Делайте все, как я скажу. Что бы я ни сказал.
Она кивнула. — Я вам верю. Я все сделаю, как вы скажете. — Сквозь физический страх пробилось какое-то бездумное веселье, словно она опьянела от коньяка за столом у окружного комиссара. — Но не рискуйте. Я того не стою. Я старая, и все позади, и я оплошала. — Она рассмеялась. Те люди приближались, приплясывая. — Ведь нужна-то им я, а не вы. Если для меня это конец, пусть так и будет.
— Прошу вас, мисс Крейн, — сказал он, — не говорите глупостей.
Теперь машина была окружена. Трудно было различить отдельные лица. Все казались одинаковыми, и пахло от всех одинаково — водкой, чесноком, пропотевшим ситцем. Почти все были в белых домотканых рубашках и дхоти. У некоторых на голове белые конгрессистские шапочки. Они скандировали слова, которые, как ей казалось, вся Индия скандировала еще с весны: «Вон из Индии! Вон из Индии!» Мистер Чоудхури вступил в разговор с главарем. Тот спросил, о чем он думает, что сел в машину с англичанкой. Мистер Чоудхури, не отвечая, пробовал перекричать его, пробовал объяснить, что мисс Крейн — давнишний друг Индии, что только нынче утром она спасла многих индийских детей от расправы пьяных, зарвавшихся полицейских и сейчас едет в Майапур на тайное собрание комитета Конгресса, который ей доверяет, чьи усилия свергнуть английское иго она поддерживает от всей души.
Главарь сказал, что не верит ни единому слову. Чоудхури — изменник. Какой уважающий себя индиец сядет в машину с высохшей старой мемсахиб, она и на женщину-то не похожа, пока не испытала на себе мужскую силу, и как мистер Чоудхури поступит, если они решат вытащить эту мемсахиб из машины и показать ей, для чего созданы женщины и на что способны мужчины. Правда, добавил главарь и плюнул на капот «форда», сам он не станет тратить свою силу на такой мешок с костями.
— Она говорит на хинди, — сказал мистер Чоудхури, — и понимает твои оскорбления. Не стыдно тебе так говорить о «гуру», учительнице, такой же знаменитой гуру, какой была миссис Анни Безант[5], последовательнице Махатмы? Великое зло проистечет для всех вас и вашего семени, если вы ее хоть пальцем тронете.
— Тогда мы тронем тебя, братец, — сказал главарь и рванул дверцу, у которой мисс Крейн все не находила времени починить защелку.
— Уезжайте, — сказал мистер Чоудхури, в которого они уже вцепились. — Уезжайте. Теперь все в порядке. Мне они ничего не сделают.
— Свиньи! — крикнула она на урду, не выпуская его руки и вдруг припомнив все слова, которые пустила в ход давным-давно, в Муззафирабаде. — Дети свиней, пожиратели коров, скопцы, язычники, прелюбодеи, проклятые богом Шивой…
— Уезжайте! — заорал снаружи мистер Чоудхури и ногой захлопнул дверцу, потому что руки его крепко держали четверо. — Или вы только белых людей слушаетесь? И обещания держите только те, что даете своим?
— Нет! — крикнула она вне себя. — Нет, нет! — И дала газ, отпустив сцепление и чуть не заглушив мотор. Машина дернулась, стала, опять дернулась, сбросив с капота смеющихся вояк, и понеслась вперед, так что им поневоле пришлось разбежаться. Но ярдов через двести она остановилась и оглянулась назад. Трое гнались за машиной. А чуть дальше мистера Чоудхури толчками перекидывали от одного к другому. И вот на плечи его обрушился удар палкой. «Нет! Нет! Мистер Чоудхури!» — крикнула она и, распахнув дверцу, вылезла на дорогу. Те трое раскинули руки и пошли на нее, приговаривая: «Ага, мемсахиб, мемсахиб». Она спохватилась, нашарила в машине заводную ручку и угрожающе подняла ее над головой. Они пуще захохотали, стали кривляться, изображая страх и вызов, прыгали и скалились, как ученые обезьяны. Мистер Чоудхури пытается защитить голову руками. Удары сыплются на него градом, шмяк, шмяк. Вот он уже на коленях, вот его уже не видно за спинами тех, кто бьет его. С криком «Дьяволы! Дьяволы!» мисс Крейн двинулась на своих трех мучителей, размахивая заводной ручкой. Они попятились, словно бы в испуге. Самый молодой сунул руку в дхоти, будто решил оголиться, и что-то крикнул ей в лицо. Но вдруг все трое оглянулись и побежали прочь — их позвал главарь. Остальные стояли, столпившись над мистером Чоудхури, лежащим неподвижно посреди дороги. Двое обыскивали его карманы. Главарь указал на машину. Человек пять отделились от группы и двинулись к мисс Крейн. Она невольно попятилась, но только на несколько шагов, до машины. Однако они оттолкнули ее, грубо, злобно, словно стыдясь, что боятся ослушаться главаря и напасть на нее. Потом, согнувшись, подставили плечи под крылья и подножку и ритмично раскачивали машину, пока она вдруг не перевернулась. Одному из них такое доказательство их силы сразу придало смелости: он подскочил к мисс Крейн, занес руку и ударил ее по лицу, один раз, другой, а потом, толкнув к обочине, обеими руками сбросил в канаву. Падая, она потеряла сознание. Когда же очнулась, на четвереньках вылезла на дорогу. «Форд» горел, мятежники были уже далеко.
Прихрамывая, она дошла до того места, где лежал мистер Чоудхури. Опустилась на колени, сказала: «Мистер Чоудхури», но коснуться его не решилась, увидев залитое кровью лицо, открытые глаза и то невыразимо страшное, во что превратился его череп. — Нет, — сказала она. — Нет, этого не может быть. Господи, прости меня. Всех нас прости, господи. — И, закрыв лицо руками, заплакала, чего с ней не бывало уже много лет, и плакала долго.
А потом вытерла глаза — три раза сильно провела по ним рукавом кофты. Почувствовала, как упали первые тяжелые капли дождя. Ее непромокаемая накидка осталась в машине. Она произнесла в смятении: — И нет ничего, чем бы его накрыть, ничего, ничего. — Поднялась, согнулась и, ухватив его за ноги, оттащила на обочину.
— Я бессильна, — сказала она, словно обращаясь к нему там, куда его оттащила, где он лежал мешком, весь в крови, потеряв облик человеческий. — Я ничего не могу сделать, ничего, ничего. — И, обойдя пылающую машину, зашагала под дождем в сторону Майапура. Шла и повторяла: «Ничего не могу сделать. Ничего. Ничего».
А пройдя ярдов сто, остановилась, сказала: «Неправда, могу» — и, повернувшись, пошла обратно, туда, где лежало тело мистера Чоудхури, села рядом с ним в придорожную грязь и взяла его за руку.
— Много же мне понадобилось времени, — сказала она, имея в виду не только мистера Чоудхури. — Жаль, что я опоздала.
* * *
Как утверждал впоследствии мистер Поулсон, для него волнения в Майапуре начались в ту минуту, когда он увидел, что старая мисс Крейн сидит у дороги под проливным дождем и держит за руку мертвого индийца. Тот день, день, когда были арестованы члены местного комитета Конгресса, в самом городе начался спокойно. Восстание распространилось не сразу. Поначалу казалось, что только в Дибрапуре и некоторых других глухих уголках округа попробовали опередить события. Во второй половине дня мистер Поулсон выехал из Майапура на машине в сопровождении грузовика, битком набитого констеблями, чтобы проверить слухи о волнениях в тех пунктах, с которыми прервалась телефонная связь; и, хотя в деревне Кандгарх он нашел младшего инспектора танпурской полиции запертым в здании полицейского поста вместе с одним полицейским и тремя монтерами почтово-телеграфной службы, он только тогда оценил всю серьезность обстановки, когда дальше на дороге в Танпур обнаружил сначала сгоревшую машину мисс Крейн, а затем и ее самое.
Беспорядки, которые мистер Поулсон и многие другие сначала не приняли всерьез, были подавлены только в конце августа. В Майапуре каждый в то время излагал различные эпизоды по-своему, хотя иные из этих эпизодов были известны всем. И в первую очередь — эпизод с мисс Крейн, хотя о нем почти сразу же забыли, когда разнеслась весть об изнасиловании молодой англичанки в саду Бибигхар в ночь на девятое августа, в тот час, когда мисс Крейн лежала в бреду, вызванном сильнейшей пневмонией, в майапурской клинической больнице. Позже, когда мисс Крейн не смогла опознать ни одного из мужчин, арестованных в тот день в Танпуре, ее имя опять ненадолго всплыло на поверхность. Мнения разделились — то ли она действительно не узнала людей, которые нанесли ей оскорбление действием и убили мистера Чоудхури, то ли заупрямилась, переборщив в своем старании во что бы то ни стало выгородить этих проклятых туземцев.
А вот о случае в саду Бибигхар не забыли. Европейцы усмотрели в нем ключ ко всей ситуации, в которой они очутились, самое четкое предупреждение о явной опасности, грозящей им всем, в особенности женщинам. Навсегда осталось неясным, вызвали ли меры, принятые властями после изнасилования английской девушки в саду Бибигхар, такие беспорядки, какие зачинщикам и не снились, или же эти беспорядки все равно произошли бы. Одни говорили так, другие этак. Те, кто считал, что, не будь эпизода с изнасилованием и последовавших за ним репрессий, никаких волнений могло бы и вообще не быть, уверяли, что люди, арестованные по приказу комиссара утром 9 августа, — те самые, кого и следовало арестовать, и что репрессии вызвали более серьезные беспорядки, чем гражданское неповиновение, прекратившееся после арестов. Те же, кто считал, что беспорядки начались бы в любом случае и что история в саду Бибигхар всего лишь один из симптомов повсеместной измены, утверждали, что члены местных комитетов Конгресса, которых мистер Уайт был вынужден арестовать, — всего лишь подставные лица, а истинные руководители заговора скрывались в таких местах, как Танпур и Дибрапур. Но в то время причины и следствия безнадежно перепутались, и события следующих трех недель можно было рассматривать лишь по мере их возникновения.
Из больницы мисс Крейн выписалась только на первой неделе сентября, и прошло еще две недели, пока она окрепла настолько, что опять попыталась работать. Таким образом, лишь через шесть-семь недель после начала волнений и через три-четыре недели после того, как они закончились, мисс Крейн в одну прекрасную среду опять пригласила в гости солдат из майапурского гарнизона.
В некоторых отношениях, она знала, это были уже не те мальчики, что бывали у нее до начала беспорядков. В больнице и позже, дома, она нарочно не вдумывалась в рассказы о минувших событиях, однако знала, что на помощь гражданским властям были вызваны войска, что на три-четыре дня мистер Уайт, как говорили, потерял голову и передал Майапур в ведение бригадного генерала Рида. Индийцы говорили ей, хоть она и старалась не слушать, что эти дни генерала Рида были отмечены почти такими же зверствами, как дни генерала Дайера в Амритсаре в 1919 году. Правда, безоружное гражданское население не расстреливали, но стрелять стреляли, и были убитые, и еще — если верить слухам — шестерых индийских юношей, подозреваемых или действительно повинных в преступлении в саду Бибигхар, насильно заставляли есть говядину. Не было публичных наказаний плетьми, как при генерале Дайере, когда молодых людей привязывали к ружейным стойкам прямо на улице и секли якобы за участие в нападении на англичанку, но говорили, что тех юношей, которых заставляли есть говядину, тоже избивали, а теперь они исчезли — растворились в безымянных сонмах осужденных, кто по суду, а кто и без суда.
В туземном городе, как ей не раз сообщал мистер Франциск Нарайан, было несколько налетов конной полиции, и военные стреляли, чтобы разогнать толпы либо наказать мародеров и поджигателей. По всему округу, как и в других провинциях Индии, во многих местах повреждены железные дороги, почта и телеграф, разграблены магазины, жилые дома и правительственные склады зерна и семян (о чем люди горько пожалеют, как отметил мистер Нарайан, если случится недород). Были нападения на полицейские посты, кое-где зверски убиты полицейские. В одном конце округа, по слухам, судья-индиец поднял над зданием суда флаг Конгресса, выпустил заключенных, штрафует либералов и умеренных, взимает незаконные подати и прячет деньги, которые должен сдавать в казну. Мисс Крейн решила, что это, скорее всего, легенда, однако ходил и более правдоподобный рассказ, будто один из подчиненных мистера Уайта, индиец, попал в немилость и уже после восстановления порядка целый час проплакал в бунгало окружного комиссара.
Да что там, она была слишком опытна, чтобы принимать на веру все, что ей говорили, слишком опытна, чтобы не знать, что ее солдатикам, только что из Англии, внезапно брошенным в помощь гражданским властям на подавление бунта в колонии, о которой они знали так мало, но теперь судили так строго (вспоминая родину, и блиц, и своих товарищей, павших на равнинах Бирмы), — что им трудно будет уразуметь, что произошло, и почему произошло, и почему теперь, когда все успокоилось, англичане и индийцы вроде как помирились и опять зажили в вынужденном согласии.
В этом слове «вынужденный» как бы заключалась идея, применимая ко всей ситуации в целом, идея, что в этом диковинном, не первый век длящемся общении ненависть и любовь нераздельны, как две стороны монеты. Но сейчас мисс Крейн слишком устала, была слишком угнетена грузом климата и ландшафта и сонмищ коричневых лиц, а среди них там и сям — белых лиц с упрямо сжатыми губами, она уже была не в состоянии направить остатки своей энергии, подточенной болезнью, на решение моральных и диалектических проблем. Но она жалела, что в те дни, когда энергии у нее хватало, в дни, разом оборвавшиеся на дороге из Танпура, она не отвела одного из солдат в сторонку (а думала при этом о Кланси) и не сказала ему:
«Годами, начиная с восемнадцатого века, мы твердили дома, в Англии, в Уайтхолле, что настанет день, когда наше владычество в Индии придет к концу, не в результате кровопролития, но вполне мирно, под знаком — так мы это изображали — идеального равенства, дружбы и любви. Годами, почти целое столетие, книгами, которые читали индийцы, были книги, написанные нашими английскими радикалами, нашими английскими либералами. Было, понимаешь ли, некое зерно. Зерно, посеянное в воображении индийцев и в воображении англичан. Из него должно было вырасти нечто здоровое и важное, полное достоинства, полное заботливости и доброты, мира и мудрости. Ибо все эти качества нам присущи — и тебе, и мне, и старому Джозефу, и мистеру Нарайану, и мистеру Уайту, и, надо думать, бригадному генералу Риду. Были они присущи и мистеру Чоудхури. Годами мы давали обещания и годами исхитрялись откладывать выполнение этих обещаний, пока они не потеряли всякое сходство с обещаниями и не стали больше похожи на злокозненные увертки — даже мне так стало казаться, а что уж говорить об индийцах, которые думают, и чувствуют, и знают то же, что и я. И трагедия заключается в том, что нас разделяет такой пустяк, как цвет кожи, это он мешает нам простить друг другу слабости, заглянуть друг другу в душу. Ибо, если бы мы видели их глазами и постигли их суть, тогда мы бы знали. А знали бы мы, что обещание есть обещание и в конце концов должно быть выполнено».
Но этого она так и не сказала никому, даже Кланси. И настал день, когда Кланси появился снова, как прежде — во главе своих дружков, которым было известно, что старушке пришлось туго, что она проявила мужество и чуть не умерла, и им хотелось развеселить ее, чтоб она забыла свои горести и знала, что все они ей друзья, храбрецы, и сами уже понюхавшие пороху, и благодарны ей за то немногое, что она для них делала, возвращая их мыслями под кров родительского дома.
Но за весь тот вечер ни один из них, даже Кланси, и не взглянул на старого Джозефа, так что после их ухода, когда она помогла Джозефу убрать со стола, но не нашла слов, чтобы залечить рану, нанесенную его гордости и самоуважению, она оставила его в кухне кончать уборку, а сама прошла в свою комнату, сняла со стены картину со старой королевой и заперла в комод до той поры, когда возникнет маловероятная надобность водворить ее на прежнее место.
Часть вторая. Дом Макгрегора
О, слуги моего отца, Несите сюда мой паланкин, Я отбываю в дом моего супруга. Утренняя песняСледующая сцена — сад. Не сад Бибигхар, а сад вокруг дома Макгрегора: яркое солнце, густые таинственные тени. Поражает гамма зеленых цветов — от бледно-лимонного до ядовито-изумрудного, и всевозможные промежуточные тона, и нейтральные. Листья бесконечно разнообразны по форме и по фактуре — смотришь на них и словно осязаешь кончиками пальцев: одни только распускаются, младенчески нежные, другие в полном соку, третьи к старости стали ломки; и все это одновременно, потому что осени здесь не бывает. В тенях залегли темно-синие покровы — синие призраки уснувших растений, и сладкие запахи неминуемого распада, и слой за слоем — остатки урожая минувших лет, ныне мягкий перегной, питающий несчетные живые корни, что затаились под садом в голодной неподвижности.
Из дома доносится пение — молодой девичий голос поет песню новобрачной, прощающейся с родителями перед тем, как пуститься в далекий путь к дому, который отныне станет ей родным. Есть песни утренние и вечерние. Эта — утренняя. Еще не высохла роса. В саду еще прохладно. Иссиня-черная ворона с желто-красным клювом сорвалась с крыши дома вниз в поисках завтрака. На лужайке роса сверкает под лучами солнца, как россыпь кристаллов.
Лужайку окаймляют кусты белой и красной бугенвиллеи. Есть и кусты-гибриды, у тех на некоторых ветках цветы и красные и белые. И повсюду жасмин и клумбы с алыми каннами. Дом стоит посередине сада, укрытый от внешнего мира сомкнутыми рядами деревьев — гол мохур, тамаринд, ним, пипуль, казуарина и баньян; построен он был в конце восемнадцатого века неким туземным князем, воспылавшим страстью к певице, исполнительнице классической музыки. Построить дом и поселить в нем женщину — это дорогостоящий способ добиться ее расположения. Говорили, что этот раджа посещал ее утром и вечером, что она пела ему — пела, возможно, те же песни, что девушка поет сейчас, — и что в конце концов он уже любил только ее голос и был доволен тем, что слушал, как она занимается с ученицами, которых он разрешал ей принимать. Шехерезада рассказывала сказки, чтобы отсрочить час своей казни. Та певица пела, чтобы сберечь свою честь. Когда певица умерла, раджа долго горевал. Говорили, что он умер от разбитого сердца. Дом опустел и стоял заколоченный. Как и все княжество, он обветшал, пришел в упадок. Радже наследовал его сын. Он презирал отца за смехотворную любовь к певице и никому не велел жить в том доме. Он построил поблизости другой дом, Бибигхар, где и селил своих куртизанок. Он был сластолюбец. Растратил казну. Народ его голодал. Какого-то англичанина при его дворе отравили, и тогда новый раджа был лишен престола, брошен в тюрьму, княжество его аннексировали, и народ его радовался этому, пока время хранило память о том дурном, что было в прошлом, но не давало замечать, как дурно настоящее. Обветшавший дом певицы восстановил краснолицый набоб-шотландец по имени Макгрегор, который боялся бога, благоволил к мусульманам и с опаской обходил индусские храмы. Легенда гласит, что Бибигхар он сжег дотла как богомерзкий притон. Сам он погиб от руки восставших сипаев.
Его молодая жена — это первый призрак. Она является, одетая по моде того времени, и стоит на веранде раскачиваясь, словно баюкая мертвого младенца, но младенца у нее на руках нет. Ее платье разорвано и закапано кровью. Зовут ее Дженет Макгрегор. Защищая ее, погиб слуга-мусульманин Акбар Хуссейн.
Макгрегор отстроил дом певицы свыше ста лет тому назад, на обветшалом княжеском фундаменте, на деньги, полученные, как уверяют, в виде взяток. Дом квадратный, с мощеным внутренним двором. Снаружи его опоясывают веранды с полукруглыми арками, затеняющие комнаты не только на нижнем, но и на втором этаже. Кирпичные стены оштукатурены и выкрашены кремовой краской, которая, высыхая, всегда желтеет. Каменные ступени ведут прямо с подъездной дороги к парадной двери. В арках на верандах зеленые бамбуковые шторы, их можно опускать или скатывать кверху, смотря по времени года и времени дня. Верхнюю веранду окаймляет балюстрада, на нижней же, что возвышается на три фута над землей, балюстрады нет. Здесь на земле стоят горшки с цветами и ползучими растениями, обвивающими столбики аркады. За цветами и кустарником ухаживает седовласый старик в белой куртке и защитных шортах, оставляющих на виду его шишковатые, в толстых жилах, ревматические икры. Это Бхалу. Его черная кожа от загара отливает лиловым. Пальцы босых ног, жесткие, как панцирь черепахи, крепко вдавливаются в гравий дорожек.
О каменные ступени, ведущие на нижнюю веранду, и споткнулась девушка, из последних сил добежавшая сюда в темноте из сада Бибигхар, — споткнулась, упала и на четвереньках проползла остаток пути под безопасный кров и в анналы смутного исторического периода.
* * *
Да, мисс Крейн я помню, говорит старая леди Чаттерджи. Сколько времени прошло, а я до сих пор жалею, что считала ее тогда ничтожеством, но ведь я встречалась с ней только у Конни и Робина Уайтов, и только на этих скучнейших обедах, которые бедной Конни приходилось устраивать как супруге окружного комиссара, и то если ей нужна была лишняя женщина за столом в пару какому-нибудь холостяку. Мисс Крейн была не в моем вкусе, как, впрочем, и все европейские женщины, за редкими исключениями, вроде той же Конни или Этель Мэннерс, а те, что приезжают в Индию сейчас, вообще никому не нравятся, кроме своих мужей, да и то не всегда. По большей части они ужасные зануды. А в те времена они были гарпии. Я тогда думала, что и мисс Крейн стала бы гарпией, если бы вышла замуж и дрожала за свое положение в обществе. А так она была зануда с внешностью гарпии из тех, кому нечего сказать, а вид у них такой, будто они много чего думают, в мужчине это еще куда ни шло, а в женщине препротивно. По-настоящему влиятельное положение занимают не так уж много женщин, вот я и считаю, что мы, остальные, просто обязаны высказывать наши мнения. Только так свет и может о нас судить, если мы не принадлежим к тем счастливицам, кому разрешено проявлять себя в действии. Нам остается только болтать языком, я имею в виду — в смешанном обществе. Чисто женская болтовня меня никогда особенно не привлекала: те мнения, что высказываются, когда дамы удаляются в гостиную, а мужчины еще допивают в столовой вино, обычно гроша ломаного не стоят, тогда уж лучше дать себе отдых и думать про что-нибудь холоднее и унылое, например про снег.
Мисс Крейн я записала в ничтожества потому, что в гостиной, за кофе, она разговаривала вполне приятно и разумно, но за обеденным столом сидела как воды в рот набрав. Впрочем, не совсем. Она не то чтобы стеснялась, хотя меня, вероятно, побаивалась. Молчала она зловеще, отсюда и возникла мысль о гарпии, ведь молчание европейских гарпий — это самое зловещее, что можно себе представить. Но у настоящих гарпий молчание всегда сопровождается хитренькими ужимками и вульгарным перемигиванием. Ничего этого за мисс Крейн не водилось. И потом, я же говорю, когда пили кофе, а настоящие гарпии тут-то и обнажают когти, она умела просто болтать совершенно безобидно, а это уже отдавало занудством, я и решила — вот еще одна старая либералка, несчастная женщина, долго боролась против жестоких обстоятельств, даже несправедливости, а то и прямого невезения, и с горя зацепилась за что-то отдохновительное для ума и бодрящее для тела — разъезжает в любую погоду на своем драндулете и проверяет, всех ли детей наставляют в том смысле, чтобы меньше думали о себе и больше об общем благе, а заодно учат соблюдать чистоту и подкармливают.
Помню этот идиотский случай, очень для нее типичный, когда она сняла со стены портрет мистера Ганди, или это только так говорили, якобы за то, что он, по ее мнению, плохо себя вел, когда на самом деле он просто доказал свою проницательность. Англичане всегда почитали святых, но только не прозорливых. Те англичане, которые считали Ганди святым, уподоблялись тысячам, если не миллионам индийцев, которые знали, что он святой, но для индийца святость означает совсем не то, что для англичанина. Для англичанина аксиома, что всякий святой — это человек, которого ждет мученический венец, человек, чья логика не участвует в решительной схватке с миром суровой практики, — короче говоря, святой per se[6]. Если не считать отдельных соблазнов (против которых рекомендуется власяница), они представляют себе, что эти их святые так далеки от мира сего, что одной ногой уже стоят в раю. А рай, будучи небесной обителью, во всем, разумеется, противоположен земле. Они отделяют материальное от духовного с присущей им страстью все раскладывать по полочкам. А для индуса такого разделения нет. Для него материальный мир — иллюзия, а рай — лишь название некоего личного небытия. Лично я всегда чувствовала, что материальный мир отнюдь не иллюзия, и мне никогда не улыбалась перспектива воплотиться в скучном всеобщем состоянии совершенного покоя, а ведь так и можно обрисовать индусскую концепцию бога. Но самое главное то, что на этом трудном пути от иллюзии к небытию все считается практическим, потому что все умозрительно. Ну ладно, вернемся к мистеру Ганди. Индусы называли его святым, потому что в течение тридцати лет он был самым деятельным индусом на свете, что на европейский слух, возможно, звучит парадоксально, но, как ни говорите, поскольку тела у нас есть, для путешествия от иллюзии к небытию требуются недюжинные душевные и физические силы, а если хочешь сократить этот путь другим — то и дар руководить людьми, и выдающиеся способности оратора и гипнотизера. Что касается западных религиозных mores[7], то там для перехода из практического мира житейских дел во внепрактический рай требуется совершить всего один поступок, на который каждый из нас способен, а именно — умереть, хоть за ним, надо думать, следует разочарование. Уж на что я безбожница, а не могу не презирать леность западных религий, не ругать себя за то, что не стала хотя бы плохонькой индуисткой. Но я по крайней мере не заблуждаюсь, как заблуждалась мисс Крейн. Если мистер Ганди считал свои практические поступки в большой мере иллюзорными, видел в них личные шаги, предпринятые на людях ради желанного слияния с абсолютом, тогда я, как практическая женщина, искренне восхищаюсь его проницательностью и как точно он рассчитал время, когда следовало пустить кота в голубятню.
А вот мисс Крейн, бедняжке, казалось, что все голуби — беззащитные создания, а все коты — ласковые кошечки и что тех и других надлежит просвещать. Я много чего про нее узнала, когда кончился весь тот ужас, я даже пыталась как-то загладить свою вину перед ней, но подойти к ней было нелегко, да и времени оставалось мало. Приглашала ее в гости, но слишком поздно, она не пришла. Тогда я сама у нее побывала. И даже тогда я видела не столько ее достоинства, сколько ее слабости. Мне все еще казалось, будто, по ее мнению, голубям надлежит проповедовать пользу самоотречение, а котам — преимущества умеренности. И польза и преимущества были духовного порядка, а следовательно, в ее понимании, отделимы от материального мира, а я, до страсти увлеченная окружающей меня жизнью, вижу в этом нечто противоестественное. Я не индуистка, но Индия — моя, родина. Я не люблю насилия, но считаю его неизбежным. В нем есть какое-то утверждение. А я пуще всего ненавижу негативизм. Вот и сижу я здесь, в доме Макгрегора, уже давно утвердившись в положении старухи, — разве только смотаюсь куда-нибудь, если наше милое правительство расщедрится на бензин, — и меня нисколько не смущает, что в новой Индии я уже анахронизм, женщина, которая слишком много помнит, так что сегодня ее уже и слушать неинтересно. Можно сказать, что то же произошло с мистером Неру, к которому я всегда относилась очень нежно, потому что он не захотел стать святым. Я и сейчас очень нежно к нему отношусь, потому что если в разговорах о нем и проявляется горячность, так только в связи с вопросом, кто будет его преемником. Мы, надо полагать, все еще ждем нового Махатму, потому что предыдущий исчез и всех нас удивил — превратился в святого и мученика в западном смысле, когда его застрелил этот глупый мальчишка. Я убеждена, что мы должны извлечь из этого урок. Будь старик жив сегодня, он бы трахнул нас всех по голове своей прялкой и сказал, что, если так пойдет дальше, мы в конце концов станем верить в святых так, как верите вы, англичане, а значит, в нашей общественной жизни ни одного святого больше не будет. Мне кажется, что, когда в нашей конституции был записан пункт о секуляризации, мы тем самым окончательно отказались от своей индийской сути и признали законным, что столько лет прожили во грехе с англичанами. Наша так называемая независимость сильно смахивает на брак поневоле. Единственные индийцы, не понимающие, что мы теперь те же западные люди, — это наши крестьяне. Думаю, что когда-нибудь это дойдет и до их сознания, и тогда они тоже захотят равняться на Запад, как все жители Востока и Дальнего Востока.
* * *
Вот она сидит — знатная старая индианка, закутанная в темное шелковое сари с серебряными нитями, поблескивающими на солнце, белые волосы коротко подстрижены, тщательно уложены, отдают пыльной голубизной эмалевого раджпутского неба, — как некогда сидела она, выпрямившись, на краешке дивана; и, глядя на нее, оробевшая Эдвина Крейн начинала догадываться, что усвоить кое-какие несложные правила милосердия и жить, сообразуясь с ними, — этого еще недостаточно.
* * *
Что касается мисс Крейн (продолжает старая леди), если она вас действительно интересует, попробую объяснить, почему в конце концов я переменила о ней мнение. Она не была ничтожеством. Она проявила мужество, а это — самое трудное, что есть на свете, и я это ставлю превыше всего, особенно физическое мужество. Люди толкуют о моральном мужестве, а я всегда подозреваю в этом лицемерие, словно они готовят себе путь к отступлению. А физическое мужество — это словно бы вызов, и я готова его принять. Оно мне импонирует. Да в нем, думается мне, присутствует и моральная сторона. Мы рассуждаем о моральном мужестве как о явлении более высокого плана, но в физическом мужестве обычно есть и моральный элемент, без которого оно в ряде случаев не могло бы проявиться. Допускаю, что можно выразить это и обратной формулой. Допускаю, что эти два представления о мужестве — западные представления, разделимые по западному правилу, что черное есть черное, а белое — белое и если что не хорошо, значит — дурно.
Ох, сколько же во мне всего намешано — раджпутская кровь, почти белая кожа, восточное любопытство, вкус к вашей западной цивилизации да еще мой злосчастный язык, который и болтает-то свободно только по-английски. Для своего возраста я курю слишком много сигарет и пью слишком много виски с черного рынка. Я обожаю готическое уродство старых общественных зданий в Бомбее и приморский храм в Махабалипураме. Мне кажется, что Корбюзье проделал очень интересную работу в Чандигархе[8], а при виде Тадж-Махала у меня комок подступает к горлу. Вы когда-нибудь видели так называемый плавучий дворец в Удайпуре? Или бесконечную перспективу от арки Карусель через площадь Согласия во всю длину Елисейских полей, ночью, когда все машины стекаются к площади Звезды? А лондонское Сити, безлюдное в воскресное утро под октябрьским солнцем? А Малайский архипелаг с воздуха? А итальянский сапог с высоты 40 000 футов из окна «Кометы»? А ночной Нью-Йорк с крыши Эмпайр Стейт-билдинг, а Манхэттен, когда только завидишь его с палубы лайнера, что под вечер приближается к нему по Гудзону? Видели вы, как старая крестьянка черпает воду из родника в деревне в Андхра-Прадеш, слышали, как Парвати, моя внучатная племянница, играет на тампуре и поет вечерние и утренние песни? Впрочем, видеть вы ее видели, но поняли вы, кто она такая?
Все это неотделимо одно от другого — все эти картины и эти люди, которых я упоминала. Разобраться в них, наверно, могут только те, кто их знал и наделил тем или иным значением. Ну вот, и я туда же, увлеклась не хуже вас. Даже когда не ищу никаких значений, они сами напрашиваются. Может это болезнь, как вы думаете?
Допивайте-ка свой стакан — и пошли в дом, обедать.
* * *
Есть в доме Макгрегора комната, где покойный сэр Нелло хранил сувениры, собранные за целую жизнь по сорочьей привычке хватать любой предмет, почему-либо привлекший его внимание. Среди самых страстных его увлечений, несомненно, были часы с кукушкой и дешевые, ярко раскрашенные кожаные изделия, по большей части оранжевые, какие покупают с лодок в Красном море, у входа в Суэцкий канал. Возможно, в кожаные изделия претворился мальчишеский интерес не столько к кошелькам, подушкам и сумкам, сколько к тем захватывающим минутам, когда корзина на сложном переплетении веревок поднималась для осмотра с прыгающего на волнах лодочного базара на высоченный, неподвижный, как скала, борт океанского парохода. Он, как видно, не мог удержаться от соблазна приобрести вознесшуюся на палубу добычу или от удовольствия посмотреть, как та же корзина, теперь уже легче перышка, уходит вниз пустая, нагруженная только монетами и бумажками, в которых он выразил свое понимание жестикуляции того человечка в феске и ночной рубахе, что с риском для жизни удерживал равновесие в лодчонке далеко внизу.
Теперь эти кошельки и подушки разбросаны по всей комнате в доме Макгрегора, высохшие и словно умершие, как водоросли, вынутые из родной стихии, однако пробуждающие у многоопытного путешественника память о запахах нефти и соленой воды, о слабом запахе гниения, что возникает вокруг большого корабля, едва он бросит якорь. Вся Индия словно тоже стала на якорь. Часы с кукушкой молчат — искусно сработанные рощи пылятся, укрывая под своей сенью два десятка испуганных птиц, ошалевших от долгой неволи и от ожидания — когда же их наконец заведут и дадут дохнуть свежего воздуха. Сэр Нелло, бывало, приводил в эту комнату гостей и развлекал их нестройным хором выпущенных на свободу пленниц, и леди Чаттерджи рассказывает, что это всегда напоминало ей кошмар, который мучил ее в Париже после посещения тамошнего морга в обществе влюбленного в нее студента-медика. По ее распоряжению кукушки еще при жизни сэра Нелло обычно сидели взаперти, а после его смерти и подавно скрыты от посторонних глаз. Просьба показать их в действии будет встречена холодно; вместо этого гостю предложат полюбоваться на чучело тигра, неподвижно крадущегося по деревянной подставке, или на слоновой кости модель памятника Альберту под стеклянным колпаком, играющему на механических цимбалах «Родина, милая родина», на раковины и камни с побережья Коннектикута, на бронзовую модель Эйфелевой башни и медальоны из киосков в соборе Парижской богоматери, от них так и веет холодом той коммерческой набожности, что наживается на туристах. Есть там и бумажные фонарики, унесенные из ресторана в Сингапуре в обмен на чек, которым сэр Нелло оплатил свое алчное восхищение и здоровый аппетит; и стоптанные сапоги какого-то монгольского купца, встреченного в Дарджилинге после перехода через Гималаи и включенного в орбиту ненасытных расспросов сэра Нелло. Там нет ни оружия, ни иллюминованных могольских рукописей, ни старинных украшений, ни исполинских попон, выкраденных из слоновьего стойла у какого-то раболепного обедневшего туземного князька, — нет ничего ценного, если только не определять этим словом реликвии одного чудака в представлении другого. Так, например, под стеклом хранится старая терновая трубка, которую когда-то набивали табаком и уминали крепкие, но уже дрожащие от старости пальцы сэра Генри Мэннерса, одно время губернатора той провинции, где в 1942 году Майапур сыграл свою историческую роль, но Мэннерс исчез еще за десять лет до того — сперва ушел в отставку и переселился в Кашмир, а потом его доконала любовь к кларету и к пребыванию на солнце, а также та болезнь, лечить которую и теперь еще умеют только в Париже, в Афинах и в Мексике, а он о ней никогда и не слышал, пока она сквозь стенки его кишечника не проникла в печень, и врачи назвали это раковой инвазией. А сэр Нелло умер почти тогда же, просто от разрыва сердца. Они были друзьями, и жены их были друзьями и оставались друзьями до самой смерти леди Мэннерс в 1948 году.
Из этого замечательного квартета — замечательного тем, что они преодолели тот небольшой барьер, что зовется цветом кожи, — одна только Лили Чаттерджи жива и может вспомнить по личным впечатлениям и спокойные, и бурные дни прошедших лет. Из остальных участников нет больше ни Рида, ни девушки, исчез и юный Кумар — наверно, опять сменил свое имя. Уайты, Поулсоны, Роналд Меррик — те затерялись, по крайней мере временно, в тумане времени или других занятий. Мисс Крейн себя сожгла. Все они — случайные жертвы на опасном пути колониальных вожделений. А вот музей способен приостановить неукротимый и мутный поток истории. Отсюда — дом Макгрегора.
— Когда я увидела Дафну в первый раз, — сказала леди Чаттерджи про ту девушку, племянницу леди Мэннерс, — она мне показалась… как бы это выразить, славной, но недалекой. Она была крупная и нескладная. Вечно роняла то одно, то другое.
В доме Макгрегора до сих пор живут слабые отзвуки, как от звона разбитого стекла, которое разбилось не сегодня и не по вине слуг. И у Лили Чаттерджи, и у ее внучатной племянницы Парвати поступь легкая, а слуги ходят босиком; чем же объяснить, что порой слышно, как по лестнице или по плитам внутреннего двора кто-то топает в крепких ботинках, если не тем, что мисс Мэннерс и сейчас еще здесь живет? Сквозь неумолчный плач летних дождей можно бывает различить пение, это не голос Парвати, и поет он не индийские песни, а современные, так что Дженет Макгрегор не могла их знать. Да и вообще воображение рисует нам Дженет как женщину молчаливую, молчавшую даже в конце, в окровавленном платье, перед лицом смерти. Чья это была кровь, ее младенца, ее мужа? А может быть, ее собственная? История не дает ответа на этот вопрос, даже не ставит его. Дженет Макгрегор — чисто семейный дух, незримая заметка на купчей дома, который перешел из европейских рук в индийские, когда сэр Нелло купил его в начале тридцатых годов по случаю своего возвращения в места, откуда был родом. Лили Чаттерджи была его второй женой, на пятнадцать лет его моложе. Детей он не имел ни от первого, ни от второго брака, чем, возможно, и объясняются часы с кукушкой. И сам он был у Лили вторым мужем. Первым был раджа, тот сломал шею, играя в поло. Тем, что этот спортсмен, наследник незыблемого престола, оставил ее бездетной, а затем и ее столь же бесплодным браком с Нелло объясняется, возможно, ее независимый ум, ее способность наводить критику и давать советы. Вдова князя, она была и княжеской дочерью. Образование получила сначала в Женеве, потом в Париже. Начитанность и светский опыт научили ее ценить здравый смысл выше сословных привилегий, и второй раз она выбрала себе в мужья человека, умевшего не только тратить, но и наживать деньги. Нашлись родичи (возможно, они живы и сейчас, но она о них не упоминает), которые перестали с ней разговаривать, после того как она, дочь раджпутов, вышла замуж за человека из касты вайшьев. Отец сэра Нелло был всего лишь стряпчим в суде.
А дед сэра Нелло и предки его деда, рассказывает она, были не более как средней руки купцы и мелкие помещики. Сам Нелло в свое время еще владел фамильными землями где-то около Танпура, но давно с ними расстался. Кажется, роздал их крестьянам. Так он мне говорил, но я подозреваю, что он начитался Толстого и все это выдумал. Он обожал «Воскресение». Он был очень впечатлительный и то, что производило на него впечатление, спешил претворить в жизнь. Мы, индийцы, частенько так поступаем. Нелло был потрясающий имитатор. Однажды на званом вечере он изобразил губернатора, Генри Мэннерса, и тот об этом прослышал. И вот, когда они встретились в следующий раз — а Нелло часто приглашали консультировать по вопросам индустриализации провинции, — так вот, при следующей их встрече Генри сказал: «Ну-ка, Чаттерджи, как это у вас получается?» И что вы думаете — Нелло не удержался и тут же его изобразил — такой у него был характер. Он любил играть перед публикой, способной судить о нем по самому высокому счету. С этого и началась их дружба, тогда-то Генри и подарил ему ту терновую трубку, которую вы видели в витрине. Генри сказал, что имитация у Нелло получится еще лучше, если во рту у него будет настоящая трубка, а не воображаемая. Это, конечно, было неверно, но Нелло притворился, что совершенно с ним согласен, а это тоже очень индийская черта — притвориться, лишь бы не обидеть человека. Нелло было даже неприятно держать трубку во рту. Он вообще не курил. И не пил. Да что там, он украдкой много в чем себе отказывал, потому, наверно, и нажил кучу денег. И религию он воспринимал не совсем всерьез. Помню, как-то он спросил меня: «Лили, что ты сделаешь, если я захочу стать „саньяси“?» Вы знаете, что это значит? Это когда человек отказывается от всего, что имеет… бросает дом и семью и уходит странствовать с посохом и миской для подаяния. А я ответила: «Что ж, Нелло, увяжусь за тобой следом». Так что больше мы этой темы не касались.
Саньяси — это ведь, вы знаете, четвертая стадия, четвертая, и последняя — во всяком случае, на земле. Я имею в виду индуистский свод правил насчет того, как следует человеку прожить свою жизнь. Первая стадия — тренировка, дисциплина и безбрачие, потом человек создает семью и семейный дом. Третья стадия — это похоже на то, что у вас, англичан, называется зрелость, когда человек в расцвете сил, но на самом деле это те годы, когда ваши дети начинают зевать в вашем обществе и считать себя умнее вас, — на третьей стадии вы готовитесь порвать все путы. Ваши дети женаты и замужем, все обеспечены, и вы благословляете внуков и стараетесь никому не мешать. И вот вы достигли четвертой стадии. Пока из вас еще не сыплется песок, вы удаляетесь в лес и пытаетесь наверстать потерянное время — заработать религиозный капитал, хотя этим, конечно, можно бы заниматься и всю жизнь, но в старости оно как-то сподручнее, — раз вы уже отказались от земных благ и мирских соблазнов и пытаетесь забыть о своем «я». Англичан идея саньяси, конечно, приводит в ужас. Как это, мол, можно — по своей воле снять с себя всякую ответственность, а потом жить подачками незнакомых людей. Я всегда им возражаю, что у них тоже есть свои саньяси — все эти несчастные, никому не нужные старики, которых помещают в богадельни. Согласитесь, что индусы в этом смысле практичнее. О религиозной стороне можно не думать. Тут то же, что с коровой. Корова стала священной, а говядина — запретной, чтобы крестьяне не ели ее, когда наступал голод. Если б они съели коров, не было бы ни молока, ни волов, чтобы возить телеги на рынок, и пахать землю, и качать воду, и вертеть жернова. Ну, это-то всем известно. Но и с саньяси та же история. Мы убеждаем стариков уходить из дому, в семье остается одним едоком меньше, а они воображают, что набираются праведности. А чтобы их кормили и не дали им умереть с голоду, убеждаем имущих, что они тоже обретают праведность всякий раз, как подают странствующему саньяси медяк или горстку риса. Как видите, у нас тоже существует социальное обеспечение. Причем с более древних времен, чем у кого бы то ни было. И налогов на него не взимают.
Женщины тоже могут стать саньяси. Как вы думаете, может, это и мне предстоит? Может быть, дом Макгрегора станет моим ашрамом? Последнее время я много бываю одна, как вы можете догадаться, — недаром я так заболталась, совсем вас заговорила. Но думаю я сейчас о мисс Крейн Вы говорите, что ее звали Эдвина. Этого я и не знала. И привыкнуть к этому почему-то трудно. По-моему, ей бы больше подошло быть Милдред. Но для меня-то она всегда была Крейн, мисс Крейн, — этакая длинноногая, длинношеяя птица, что хлопает крыльями, пытаясь уйти от опасности, только слишком медленно, знаете, как иногда нарочно снимают в кино. Один раз, когда я зашла навестить ее после тех беспорядков говорили, что она уже немножко не в себе, — я попробовала спросить у нее, почему она ушла из миссии. Картин у нее в комнате не было, но были два пустых места на стенах, где раньше явно висели картины. Про одну из них я знала, а про другую нет. Я и говорю: «Я вижу, вы уже начали укладываться». Мистера Ганди она убрала еще раньше, это я знала, но мне любопытно было узнать, какая была вторая картина. Портрет мистера Неру? Или основателя миссии? Или «Христос — свет миру»?
Но она только сказала: «Нет, укладываться мне не нужно», и я решила, что добренькие миссионеры разрешили ей остаться жить в ее бунгало. Вы побывайте там. Дом еще стоит. Я его на днях видела — проезжала мимо по дороге в Женскую больницу. Я ведь до сих пор в комитете, до сих пор мозолю им глаза. Они говорят: «Берегись! Старуха прикатила». Я туда являюсь во второй вторник каждого месяца, обычно еду мимо моста Бибигхар, но сейчас там ремонтируют мостовую и рискуешь попасть в пробку, так что в этот раз мы поехали к Мандиргейтскому, и Шафи, дуралей, свернул не там, где надо. Вот и оказалось, что мы едем не мимо старой миссионерской церкви, а мимо дома мисс Крейн. Я этой дорогой уж сколько лет не ездила. Там полно торговцев, что переселились с базара. На веранде мисс Крейн сидел, поджав босые ноги, этакий толстяк с брюшком и слушал транзистор, три козы щипали остатки травы в саду, и какие-то ребята играли в пятнашки. А у нее был такой прелестный сад! Садоводство — вот, кажется, единственное, о чем мы могли говорить без стеснения. Я звала ее посмотреть мой сад, когда совсем окрепнет, но она так и не пришла. А мой сад ни капельки не изменился, точно такой же, как был тогда. Бхалу из года в год сажает все те же цветы на тех же клумбах. Он всегда любил порядок. Дафна рвала ноготки — ставить на обеденный стол, но ей случалось наступить на край клумбы, и буквально через несколько дней после ее приезда Бхалу явился ко мне с просьбой — не велите, мол, молодой мемсахиб помогать мне. Он, видите ли, растит цветы, значит, и срезать их должен сам. Я ему сказала, что молодая мемсахиб любит цветы и хочет помочь и что, хоть она всегда улыбается, жизнь у нее была очень несчастливая, она потеряла всех родных, кроме тети Этель, так что надо быть с ней помягче, может быть, предложить ей заняться папоротниками и вечнозелеными кустами — те растут как хотят, без всяких клумб, а в вазах выглядят наряднее, чем ноготки. Теперь ноготки рвет Парвати. Она-то легкая как пушинка, да и старый Бхалу только рад, что находится время подремать, ему все снится, что он опять в армии и ухаживает за садиком полковника Джеймса-сахиба. Кто был этот полковник Джеймс — понятия не имею, но с годами воображение Бхалу наделяет его все более блистательным ореолом, так что теперь уже можно думать, что он был не иначе как адъютантом самого вице-короля. Когда-то в индийских семьях считалось престижным иметь слугу, который раньше работал у англичанина старого закала. Оно и теперь так считается, но слуги-то эти так состарились и одряхлели, что толку от них никакого, лучше взять кого-нибудь помоложе с базара и обучить. Бхалу говорил про Нелло «чота-сахиб». Так индийцев всегда называли слуги, успевшие поработать у вас, англичан, чтобы отличить их от английских «бурра-сахибов». «Бурра» значит «большой», а «чота» — «маленький». Впрочем, это вам тоже, наверно, известно. Нелло только смеялся, но я думаю, его немножко обижало, что собственный садовник за глаза называет его «чота-сахиб».
Жаль, Дафна не знала Нелло, он ведь умер за несколько лет до того, как она ко мне приехала. У них было одинаковое чувство юмора. В крупной девушке это особенно заметно, правда? Или крупные девушки всегда веселее других? Но ведь и миниатюрные девушки бывают веселые, правда? Я имею в виду англичанок, индийские-то женщины почти все миниатюрные. Возьмите хоть Парвати. А уж если они крупные, то ужасно серьезные, а порой и отчаянные. Держатся так, будто боятся уронить свое достоинство. Если они выше своих мужей, это грозит осложнениями. Я была на дюйм ниже ростом, чем Нелло, и на пять дюймов ниже моего первого мужа, Ранджи.
Я все стараюсь вспомнить, какого роста была мисс Крейн. Выше меня, это точно, но, по английским меркам, вероятно, среднего роста. Четко запомнилась только ее шея, ноги и нос. Чаще всего я видела, как она либо садится на стул, либо садится в постели. Обеды у Конни Уайт, а потом, когда я навещала ее в Английской клинической больнице и у нее дома, когда ее выписали, но она еще была так слаба, что не вставала. В первый раз она приняла меня, лежа на койке на своей веранде. Повидать ее в Английской клинике оказалось не так-то легко. Если заболевал кто-нибудь из моих друзей-англичан, они обычно ложились в городскую лечебницу и занимали отдельные палаты, которые были им не по средствам. Там я всегда могла их навестить, договорившись с доктором Мэйхью. А если кто попадал в клинику, им всегда отводили палату в платном крыле, и тогда мне нужно было только позвонить Иану Макинтошу, начальнику медицинской службы, а он велел кому-нибудь предупредить дежурную сестру. Но мисс Крейн лежала в бесплатном отделении, в палате не то на четыре, не то на пять человек. Иана в тот день не было в городе. Я раньше никогда не бывала в главной регистратуре. Регистраторша — из англо-индийцев, но с абсолютно белой кожей — сказала, что пройти к мисс Крейн нельзя, а когда я стала настаивать, попросила подождать и сделала вид, будто послала кого-то за разрешением к дежурной сестре. На самом-то деле она послала ей предостережение, чтобы не пускала. Это было очень глупо, потому что Дафна добровольно там работала, а жила у меня, но меня-то, индианку, пускать не полагалось, а тем более поощрять мои визиты. Официально такого правила не было, неписаный закон — и все тут. В военное отделение я могла бы пройти, потому что в гарнизоне были офицеры-индийцы. Другими словами, я могла бы навестить поручика Шашардри или его жену, а вот гражданское отделение охранялось свято. Когда болела миссис Менен, жена судьи, она лежала в городской лечебнице, там по настоянию Иана Макинтоша принимали женщин любой национальности, были бы деньги заплатить за палату. Хотя и там было неписаное правило — принимать не всех индийцев, а только определенного профиля. Особых недоразумений это не вызывало — если индиец был достаточно богат, но неподходящего профиля, можно было поручиться, что жена-то его наверняка из тех женщин, что не сунутся ни в одну больницу, кроме Женской.
Так вот, сижу я в тот день в регистратуре и жду, а сама думаю: только бы никто не заметил, что я почуяла неладное, и тут начинают заглядывать в дверь все эти зануды и гарпии из добровольных помощниц — под всякими предлогами, а на самом деле — проверить, неужели у какой-то индианки действительно хватило наглости явиться сюда и требовать, чтобы ее пустили в палаты. Я чувствовала себя как зверь в зверинце, но в то время это часто бывало. Наверно, я бы и до сих пор там сидела, но вдруг в дверь ворвался Брюс Мэйхью — его пригласили на консультацию, — стал столбом и говорит: «Лили, привет, вы здесь чего не видали?» Я ему объяснила, что пришла навестить мисс Крейн и регистраторша пытается связать меня с дежурной сестрой. Мне не хотелось ставить девушку под удар, но Брюс, конечно, сразу все понял. Он сказал, что беспокоить дежурную сестру незачем, он сам туда идет и проводит меня. Когда мы нашли ту палату, где лежала мисс Крейн, он сперва посидел с нами, чтобы другие больные англичанки поняли, что я не кто-нибудь, а важная персона. Но это не помогло. Только он ушел, одна из них позвонила. Обычно на звонок приходит санитарка, а тут явилась сама дежурная сестра. Я знаю, что Брюс успел ее предупредить, он сам мне после рассказывал. Он зашел к ней в кабинетик извиниться, что без ее разрешения привел гостью к мисс Крейн. Какую гостью — он не сказал, считая, что это лишнее. В общем, он дал понять, что знает, что ей сказали, что в палату рвется какая-то индианка, и она нарочно заперлась в своем кабинетике, чтобы ее «не могли найти». В общем, она вплыла в палату через несколько минут после ухода Брюса и буквально через полминуты после того, как та женщина позвонила. На пороге остановилась, изобразив изумление — кто это, мол, такой? — а потом говорит. «Что вы здесь делаете? Разве вы не знаете, что в эти часы свидания не разрешаются?» Я сказала, что меня привел доктор Мэйхью, потому что ее нигде не могли найти. Ах так, говорит, но в этой палате распоряжаюсь я, а не доктор Мэйхью, так что будьте добры сейчас же уйти… Мисс Крейн, это вы звонили? Как будто мисс Крейн звонила, чтобы меня выставили. Мисс Крейн еще рта не успела раскрыть, как вмешалась та женщина — нет, это я звонила, мне мешают отдыхать. Голос как у жены какого-нибудь мастера с Британско-индийского электрозавода — лондонские задворки плюс два года прислушивалась, как говорят директорские жены. Вы меня простите, я, выходит, ужасающий сноб, но я была ужасно расстроена и злилась — не только из-за всей этой заварухи, но и потому, что, видимо, допустила оплошность: не разузнала толком, в какие часы там пускают посетителей. Правда, Дафна говорила, что на посетителей никто не обращает внимания, расхаживают по больнице в любое время. Да и при мне к другим больным пускали. Просто мне не повезло — в палате у мисс Крейн как раз в эту минуту ни у кого гостей не было. А самое гнусное то, что бедную старенькую мисс Крейн за все время навестили только двое — больничный священник да еще мистер Поулсон, по долгу службы, на большее у него не хватило времени. Вы ведь помните, это он тогда доставил ее в город. Когда она справилась с пневмонией, ему пришлось допросить ее насчет тех людей, что убили мистера Чоудхури. Строго говоря, этим должен был заняться Роналд Меррик, но и мистер Поулсон, и мистер Уайт знали, что обращаться с мисс Крейн нужно мягко, а Меррик мягкостью обращения не отличался. И ответы мисс Крейн мало чем помогли делу. В больнице сочувственный интерес к ней уже иссяк. Ходили слухи, что она что-то скрыла, чтобы уберечь от тюрьмы какого-то смутьяна индийца. Когда я к ней пришла, она была в больнице уже четвертую неделю, и ее только что перевели из отдельной палаты в эту, с занудами и гарпиями. Брюс Мэйхью, пока мы поднимались по лестнице, сказал, что очень ценит мое внимание к мисс Крейн. Среди белых у нее почти нет друзей. В первые дни в больнице с ней носились, потому что она пострадала в самом начале беспорядков. Им хотелось сделать из нее героиню, этакую разгневанную мученицу, благодаря которой парочка смутьянов угодила бы на виселицу. Но она ни на кого не гневалась, и хотя в конце концов они зацапали кого-то из тех, кто убил мистера Чоудхури, удалось это благодаря упорству младшего инспектора в Танпуре, и считали, что правосудие свершилось бы раньше, если бы мисс Крейн захотела подробно их описать. Думаю, что мое посещение ей не помогло, а мне оно не помогло и подавно, впрочем, мне-то ничего не могло помочь при том, как все сложилось. Тем немногим белым друзьям, какие у нее были, некогда было ее навещать, а из ее индийских друзей ни один не посмел бы сунуться в больницу. Несколько солдат из гарнизона скинулись и послали ей цветов, были и кое-какие подарки от индийских бедняков вроде мистера Нарайана, учителя в школе Чиллианвалла. Наверно, были и еще подарки, но она их не получила. Больничный персонал, даже не взглянув на карточку, мог определить, кто принес подарок, европеец или индиец. Многое они, наверно, просто выбросили, так что она и не узнала, как хорошо индийцы к ней относились — не только за то, что отказалась свидетельствовать о том, чего точно не помнила, а просто как к человеку. Я помню, Конни Уайт и Мейвис Поулсон все собирались у нее побывать, но положение в городе было такое ужасное, только что не осадное, они так и не выбрали удобное время. А она, наверно, решила, что никто ее не любит. Что же касается моего визита, так нужно помнить, что индийцы в те дни едва ли могли вызвать у белых особую симпатию, да к тому же еще примешалась и та, другая история. Всем было известно, что Дафна жила у меня. Я и сама себя этим успокаивала, когда перестала злиться на эту дежурную гарпию, которая меня выгнала. Немножко меня утешало то, что мисс Крейн было как будто безразлично, останусь я или уйду. Сестра наклонилась над ее кроватью, я встала, и тогда она сказала: «Спасибо, что навестили меня, леди Чаттерджи». Но сказала так, будто я опоздала или она сама опоздала и теперь уже ничто не может изменить ее взгляд на вещи. Через несколько дней Брюс позвонил мне и сказал, что я могу навещать мисс Крейн в любое время суток — только сказаться в регистратуре. Он, видимо, устроил там грандиозный скандал. А до персонала, видите ли, не дошло, с кем они имеют дело. Я сказала. «Пустое, Брюс, очень даже дошло». Если бы я была просто миссис Чаттерджи, они бы обратили все это в шутку, назавтра и думать забыли бы. Но то, что я леди Чаттерджи, вдова человека, которому их же король пожаловал титул, — это уже было очень серьезно, это требовало согласованного протеста, не говоря уже о том, что они, возможно, мне завидовали, если их-то мужья были нетитулованные. Так или иначе, почти все индийцы, имевшие титулы, тогда отказались от них и вернули свои ордена вице-королю для передачи королю Георгу, и это считали чудовищным. А если не чудовищным, то вполне правомерным — потому что англичане никогда не принимали титулованных индийцев всерьез. Будь Нелло жив, он, думаю, как и остальные, опять превратился бы в «мистера». В наши дни многие еще пользуются титулами, хоть правительство их не признает, но в те дни люди мне говорили: «Почему вы держитесь за „леди“? Нелло не стал бы держаться за „сэра“». Но я отвечала, что не могу ничего решать за мужа, раз его нет в живых. Если я откажусь от «леди», выйдет, что я выказываю неуважение к нему ради собственного душевного покоя. А уж он-то, во всяком случае, заслужил свой титул.
Нашлись в Майапуре злые языки, которые уверяли, что я продолжаю дружить с леди Мэннерс только из снобизма, индийского снобизма, все равно как называть англичан просто по имени. То же самое они говорили и тогда, когда у меня поселилась Дафна. Она была племянница Генри Мэннерса, дочь его брата. Конни Уайт мне говорила, что Дафне подпускали шпильки в клубе Джимкхана и прочих общественных местах — делали вид, будто не знают, где она живет, а когда она называла дом Макгрегора, притворялись шокированными или обменивались кислыми улыбочками. В клуб она, впрочем, почти не ходила — во всяком случае, вначале, — потому что меня туда не пустили бы даже в качестве гостьи. Сам комиссар и тот не мог бы меня туда ввести. И вице-король не мог бы. А она если ходила, так только чтобы не обидеть своих сослуживиц по больнице. Но потом за ней стал увиваться Роналд Меррик, стал водить и возить ее во всякие места, и с ним она несколько раз побывала в клубе. Это тоже было поставлено ей в вину. Мистер Меррик был холост, чуть ли не самый завидный жених во всем городе. Он и внешне был недурен, если только можно назвать красивым человека с постоянной издевкой в глазах, но главное был его пост — начальник полиции. Все майапурские девицы, готовые примириться с тем, что происхождения он весьма скромного, надеялись его заарканить. А он на них и не глядел, так что Дафна отнюдь не завоевала их симпатий, когда покорила его без всяких видимых к тому усилий. И Робин Уайт, и Джек Поулсон его недолюбливали, но говорили, что дело свое он знает. Судья Менен его не выносил, но говорить об этом вслух воздерживался. Я предложила ему бывать у меня, потому что была в хороших отношениях с его предшественником, тот был постарше, некий Энгус Макгилврэй. Я подумала, мистеру Меррику будет неприятно, если он даже не получит приглашения, но он, к моему удивлению, его принял. Но бывал он здесь только потому, что это давало ему возможность встречаться с индийцами в домашней обстановке. Простым глазом было видно, как он старается все примечать, запоминать всякое невзначай оброненное слово, чтобы потом у себя дома занести в свои секретные досье, так чтобы в случае гражданских волнений можно было сразу же посадить под замок какого-нибудь влиятельного конгрессиста, да и любого, в ком он не был уверен. Я решила, что и с Дафной он свел дружбу потому, что счел своим долгом сблизиться с кем-то, кто мог выболтать, что здесь происходит и что от него скрывают, когда он бывает в гостях. Дом Макгрегора он рассматривал как своего рода Кливден[9], как очаг всех индийских заговоров, как питательную среду для «красных» англичан (что, конечно, шло бы вразрез с духом Кливдена), но, в общем, вы меня понимаете. Но теперь мне кажется, что я ошибалась. Причины, почему он свел дружбу с Дафной, были куда сложнее. Когда я поняла, насколько сложнее, было уже поздно.
Сколько раз я жалела, что не могу пережить это время заново, но зная то, что знаю теперь! Не только из-за Дафны, но и из-за мисс Крейн. Мне кажется, я могла бы удержать мисс Крейн от этой ужасающей формы «саньяси». Одно дело — от всего отказаться, когда понимаешь, сколько всего имел, это еще куда ни шло, но бедная мисс Крейн этого не понимала. Когда я была у нее последний раз — когда заметила следы от картин на стенах, — она спросила: «Леди Чаттерджи, зачем вы ко мне приходите?» А я не нашлась что сказать, ответила только: «Узнать, не нужно ли вам чего-нибудь». Просто недомыслие с моей стороны, вы сами подумайте, неужели такая женщина, как мисс Крейн, призналась бы, что нуждается в помощи? А что я, по-вашему, должна была сказать? Вот если б она сейчас жила в своем бунгало — она, а не этот толстяк, который сидит поджав ноги и слушает музыку из фильмов, — я бы, вероятно, сказала ей: «Прихожу, потому что ни вам, ни мне нельзя отчаиваться, а вы, сдается мне, к атому близки».
Дайте-ка вспомнить. Пожалуй, я все-таки навестила ее три раза, а не четыре. Первый раз — в больнице, потом когда она еще лежала, но уже дома, когда я застала ее на веранде и этот ее старый слуга маячил поблизости, все выглядывал из двери, проверял, как бы кто-нибудь ее не потревожил, а в третий раз вскоре после того, как она ушла с работы, это всех тогда удивило. После предыдущего визита я еще подумала, что надо немного переждать, а потом кто-то мне рассказал, что она уже опять приглашала своих солдат на чаепитие, и я решила: вот теперь самое время, теперь мы можем поближе познакомиться. Но пошла не сразу, очень была занята, а только когда услышала, в связи с ее уходом, что она, как видно, немножко не в себе. Когда я явилась, слуга был на веранде, это, конечно, было в порядке вещей, но мне-то стало ясно, что он ее охраняет. Он сказал, что мисс Крейн очень занята и никого принять не может, и я уже хотела уйти, но она крикнула из комнат. «Кто там?» Он вошел в дом, потом опять вышел и сказал, что я могу к ней пройти. Она не встала, не предложила мне сесть, но я все-таки села, и тут-то она спросила: «Леди Чаттерджи, зачем вы ко мне приходите?» Я растерялась, а потом и сморозила эту глупость: «Узнать, не нужно ли вам чего-нибудь». Вы очень добры, сказала она, но мне ничего не нужно. Я сказала, что слышала, что она ушла с работы. Она только кивнула. Я оглядела комнату, ну знаете, как бывает, когда знаешь, что из этой комнаты должны вот-вот уехать. И тут заметила эти пустые места на стенах, где на одном раньше висел Ганди, а на другом я не знала кто. И сказала, что она, наверно, начала укладываться. А она говорит. «Нет, укладываться мне не нужно». А когда я попробовала выяснить, почему не нужно, она улыбнулась, но не мне, а как бы про себя, и я решила — видно, она и правда не в своем уме. Потому и не стала дальше допытываться, не спросила: «Значит, добренькие миссионеры подарили вам этот дом?» Не спросила, потому что это было маловероятно, и я боялась, что ее ответ только подтвердит, что она повредилась в уме, а перед такой возможностью я чувствовала себя бессильной. На том и успокоилась — укладываться ей не нужно, и весь сказ. Бедная мисс Крейн! Мне бы не надо было отступаться, надо было спросить, почему. Впрочем, правду она мне едва ли ответила бы. Потом-то я с ужасом сообразила, что, может быть, только в ту минуту, пока мы разговаривали, ей самой-то стало ясно, почему ей не нужно укладываться. Эта ее улыбка… А она переменила тему, спросила про Дафну: «Как поживает мисс Мэннерс?» И таким тоном спросила, как справляются о близком человеке, точно они с Дафной заодно, а так, вероятно, и было. Юного Кумара она не знала, но, если б знала, скорее всего, спросила бы тем же тоном: «Как поживает мисс Мэннерс?», а потом добавила бы: «Я слышала, как поступили с мистером Кумаром, неужели это правда?»
* * *
Неизменно, изо дня в день, Парвати обедает в семейном кругу, хоть и достаточно узком, — иначе говоря, вдвоем с леди Чаттерджи. Когда нет гостей, взору представляется такая картина: в одном конце длинного полированного обеденного стола, где близко друг к другу поставлены два прибора, сидят они, старая женщина и молоденькая девушка, и разговаривают по-английски, ибо английский — до сих пор язык образованного индийского общества, как некогда французский был языком русского дворянства.
Прислуживает за столом совсем молодой лакей — в те дни, когда здесь жила мисс Мэннерс, он мог быть разве что мальчиком на кухне, да и того не было. Он — недавнее приобретение. Выписан откуда-то с юга, приходится родственником Бхалу, старому садовнику. Леди Чаттерджи посмеивается, рассказывая, что хотя Рам Дас, которого она зовет Раму, попал в дом по рекомендации Бхалу, он почти не общается со стариком, поскольку тот по своему положению настолько ниже его. Он даже отказывается признавать их родство. Бывает, что слуги ссорятся у своего жилища за домом, ссорятся так громко, что на веранде слышно. Повар презирает этих двоих. Сам он некогда работал у одной махарани. Есть еще подметальщица, Сушилла. Леди Чаттерджи смотрит сквозь пальцы на то, что с ней спит шофер-мусульманин, развеселый красавец Шафи. Найти слуг в наше время нелегко, и платить им с каждым годом приходится все больше. Некоторые комнаты в доме Макгрегора стоят закрытые.
Когда бамбуковые шторы опущены, в доме темно и прохладно даже в полдень. Потолки очень высокие. В таких комнатах мыслям человека грозит опасность, как канарейке, вырвавшейся из клетки: они взлетают кругами, все выше и выше, бьются крыльями в такой темени, в таких закоулках, куда рука человека не добиралась, наверно, с тех самых пор, как Макгрегор возвел этот дом на старом фундаменте. По вечерам не хватает никаких ламп, чтобы осветить дальние верхние углы, а уж человек не дотянется туда, даже если станет на плечи другому. Впечатлений лучше набираться на уровне глаз, не то шея заболит от напряжения, как заболит душа от вторжения минувших лет в настоящее. И уж во всяком случае, в этих комнатах нижнего этажа есть некая успокоительная конкретность, ведь настоящее оседает в нижних слоях, как утренний туман в лощинах. Лишь поднимаясь по лестнице, начинаешь ощущать, что возносишься в прошлое, и потом это ощущение уже не покидает тебя, сколько бы раз ты ни пересчитывал знакомые ступени. Спальни как-никак более надежные хранилища для интимных переживаний своих хозяев, чем парадные комнаты внизу.
Захватив ключ из какого-то тайника — кто и как здесь ведает хозяйством, в это гостя не посвящают, — леди Чаттерджи поднимается по широкой, не покрытой ковром полированной лестнице, что, изгибаясь, ведет из холла, мощенного черно-белыми плитками, вверх, в лабиринт площадок и коридоров, и отпирает красного дерева дверь с бронзовой ручкой в комнату, где когда-то жила мисс Мэннерс, она и теперь называет ее комнатой Дафны. Воздух здесь затхлый, нежилой, как и в музее покойного сэра Нелло, расположенном, кстати сказать, как раз под нею, а из окон, когда шторы подняты, открывается вид на сад и дальше, в просветах между пышными невысокими деревьями, — на равнины, окружающие Майапур, за которыми в дымке на горизонте угадываются горы. Милях в полутора высится шпиль церкви святой Марии — она все еще здесь и все так же неуместна, как любая архитектура, будь то английская или индийская, в этом странно незаконченном ландшафте, где вороний грай звучит монотонно, как неумолчный крик созданий, еще не родившихся, но уже снедаемых желаниями, которые люди впоследствии назовут голодом.
В письменном столе лежат два письма, которые мисс Мэннерс написала своей тетке леди Мэннерс, а та позднее передала их Лили Чаттерджи — не хотела, вероятно, держать у себя как ненужные напоминания, и эти письма, возможно, выдают тот же голод, те же смутные желания, неуместные и несвязные. Писала она их (если только не ночью, когда и вороны спят, пусть урывками, нетерпеливо дожидаясь утра) под тот же аккомпанемент, под который их читают сейчас, через столько лет. И на фоне этого неумолчного однообразного шума они кажутся до странности мертвыми, до удивления невнятными. Они не воскрешают образа писавшей; так же, впрочем, как и фотография мисс Мэннерс, украшенная витиевато-каллиграфической подписью некоего Субхаса Чанда, когда-то снимавшего тех жителей города, что хотели подарить родным и друзьям вещественное доказательство того, как благотворно повлияло на них пребывание в Майапуре. Субхас Чанд, по словам леди Чаттерджи, арендовал чуланчик в магазине аптекаря, доктора Гулаба Сингха. Там у него снимался и Кланси — анфас, грудь вперед, в чистенькой защитной форме, со своим нескладным приятелем Барретом, на фоне (опять же неуместном) бархатных драпировок и папоротника (в бронзовой вазе на массивной тумбе, увитой плющом, пусть невидимым, но для впечатлительного глаза безусловно присутствующим).
Снимки Кланси, каким-то образом уцелевшие и тоже неуместные, как бумажные сюрпризы из рождественских хлопушек, хранятся среди прочего невостребованного имущества мисс Крейн в миссионерском центре в Калькутте — рассыпающиеся в прах свидетельства не только прожитой ею жизни, но и долголетней христианской честности, и безразличия дальней родни, потомков тех бедных родственников, что явились на похороны ее отца в надежде чем-нибудь поживиться, а потом скрылись и забыли о ней, чтобы она, не дай бог, не покусилась на их тощие кошельки, если окажется, что на похоронах она только для виду отказывалась от помощи и участия. Тот, кто уже видел в Калькутте снимки Кланси и запомнил технику и подпись Субхаса Чанда и матовую бумагу сепия, на которой он печатал портреты (малого кабинетного формата), тот сразу испытывает чувство узнавания, когда портрет мисс Мэннерс в рамке из накладного серебра впервые на его глазах берут с туалетного столика, перед которым она, бывало, расчесывала свои вьющиеся, оттенка сепии, стриженые волосы.
По этому снимку (говорит леди Чаттерджи, протирая носовым платком темное пятнышко на рамке) правильного представления о ней не составишь. Мне кажется, это вообще невозможно, если не знаешь или не знал человека, а только слышал о нем. Спору нет, очень интересно в первый раз увидеть такой портрет, портрет женщины, чье имя когда-то было, как говорится, у многих на устах. И у вас, наверное, сейчас такое чувство, но вот первое любопытство удовлетворено, а потом наступает реакция, верно? Впрочем, вы, может быть, и не ожидали большего, ведь о сходстве вы судить не можете, вы не уверены, она это или нет. Знаете, я иногда смотрю на старые снимки, свои и Нелло, хотя бы на тот, что висит внизу, где мы сняты в Симле, на празднике в саду, зажатые между лордом Уиллингдоном и Агаханом, и думаю: неужели это правда Нелло? Неужели я была такая? Неужели когда-нибудь улыбалась так чопорно и жеманно, будто смотрю на что-то, что меня заинтересовало, но не уместилось на снимке. А раз я уже не могу ни вспомнить, ни хотя бы догадаться, что меня могло тогда заинтересовать, я начинаю думать, а может быть, эта женщина (по ощущению вовсе не я) просто притворяется мною, а этот крепыш рядом с ней — не Нелло, а кто-то, кто изображал Нелло почти так же здорово, как Нелло когда-то изображал Генри Мэннерса. Уиллингдон и Агахан как будто в порядке, но ведь, когда знакомишься и разговариваешь с такими шишками, видишь их как бы только в двух измерениях, и так же их видит фотоаппарат, поэтому и снимок кажется удачным.
Дафна пошла сниматься к Субхасу Чанду недели через две после того, как приехала сюда жить. Она не сама до этого додумалась. Леди Мэннерс в письме ко мне просила: передайте Дафне, что мне хотелось бы ко дню рождения получить ее снимок, только пусть не отдает вставить в рамку, у меня полные сундуки рамок от старой «Галереи злодеев»[10], которую собирал Генри. Так они с Генри называли свое собрание фотографий — «Галерея злодеев». Все что угодно — от дагерротипа его папаши, наступившего ногой на мертвого буйвола, до групповых снимков, сделанных на каком-то торжестве, где все раджи, кроме одного, уставились в аппарат злющими глазами, потому что смазливый адъютант Генри напутал в протоколе и поставил кого-то, кому полагался салют из девяти залпов, ближе к губернатору, чем кого-то, кому полагалось одиннадцать. А еще были бесчисленные любительские снимки, которые Генри и его папаше дарили слуги — тихие старички, которым хотелось походить на грозных вождей кочевых племен, — белобородые, в съехавших набок тюрбанах. Генри за всю жизнь ни одного снимка не выкинул. Все вставлял в рамки и таскал с собой, куда бы его ни назначали. Когда он умер, Этель велела связать их пачками и убрать в сундуки. Я часто думала: кто-то первый глядел из этой старой серебряной рамки? Я-то получила ее в наследство вместе с портретом Дафны и с теми двумя письмами. Мне все кажется, если б Дафна и мне подарила экземпляр еще тогда, когда бегала к Субхасу Чанду сниматься ко дню рождения Этель, если б он у меня был все время, он бы мне казался гораздо более похожим. А он попал ко мне позднее. Он попал в этот дом, в эту спальню, когда самой Дафны уже не было в живых. Наверно, это меня задело. Мне все кажется, что это какой-то посторонний предмет. Но вы не сомневайтесь, это Дафна, улыбалась она именно так, с какой-то надеждой — может, когда Субхас Чанд ее усаживал, она чуть не свалила какой-нибудь его штатив и думала: ну вот, опять я натворила бед, меня только в фарфоровую лавку пускать, тетечка. А улыбка милая, правда? Она-то получилась. Но лица такие фотографы, как Субхас Чанд, всем делают вроде бы восковые. Ни морщинки нигде, ни складочки даже возле глаз, все заглажено, заретушевано, и от живой Дафны, в сущности, ничего не осталось.
Была у нее такая привычка — прежде чем заговорить, она моргала, точно не могла произнести первые слова с открытыми глазами. А иногда скажет что-нибудь — и зажмурится. И тут появлялась эта ее улыбка, точно губами и веками управляли у нее одни и те же нервы. А это и правда было от нервности. Мне-то сперва показалось, что это аффектация. Я с ней познакомилась, когда ездила на Рождество погостить к Этель Мэннерс в Равалпинди. Дафна тогда впервые проводила Рождество в Индии, и Этель хотелось ее развлечь. Я ожидала, что увижу буку, а она мне весело моргала и болтала со мной. Аффектацию я почуяла до того, как заметила эту ее привычку, это ее моргание, а когда отделила причину от следствия, поняла, что никакая это не аффектация, а просто-напросто стеснительность. Она и жмурилась, и улыбалась, чтобы придать себе уверенности на людях. Среди своих все это кривлянье пропадало. Но стоило войти в комнату постороннему человеку, и оно опять появлялось. Однако она невольно вызывала симпатию, и она старалась побороть свою стеснительность — не молчала, не замыкалась в себе.
Чего Субхасу Чанду не удалось скрыть, во всяком случае от меня, так это что она чувствовала себя лучше в очках. Ей приходилось надевать очки для чтения или когда писала письма. Врачи-то говорили, что ей нужно носить их все время, но Этель отговаривала ее, уверяла, что это глупости, молодым, мол, очки ни к чему. На самом-то деле она считала, что очки никого не красят, особенно девушку. Я тоже ее отговаривала, но из других соображений — я знала, что слабое зрение можно исправить тренировкой — смачивать глаза холодной водой, переводить взгляд с близкого предмета на далекий и обратно, а не то — оторваться от чтения или письма и сосредоточить взгляд на какой-нибудь неподвижной точке в комнате, в нескольких футах от себя. Но как же, тетечка, говорила она — она скоро стала называть меня тетечка, — я ведь не вижу того, что далеко, и даже того, что близко, толком не вижу. Стоит, бывало, вон у того окна и то снимет очки, то наденет. Когда-то еще разглядит, где виднеются горы. Ей так хотелось все здесь увидеть. Она просто помешалась на Индии. Ее всегда сюда тянуло. Она родилась в Пенджабе, но ничего не помнила — мать ее не выносила здешнего климата, и отец отказался от места и уехал в Англию заниматься частной практикой, когда Дафна была еще совсем крошкой. А до этого он работал инспектором государственной медицинской службы. Он был намного моложе Генри. Думаю, что в то время он был не прочь уехать из Индии и охотно сменил административную работу на врачебную, лишь бы не соперничать всю жизнь со своим, преуспевающим старшим братом. Жена его, мать Дафны, была, судя по рассказам, настоящий тиран. Все должны были плясать под ее дудку, и сноб она была ужасающий. Быть женой младшего чиновника медицинской службы ее не устраивало. Юриспруденция и медицина — в этих двух отраслях мы, индийцы, всегда блистали, и, видимо, у Джорджа, отца Дафны, было, на ее взгляд, слишком много коллег-индийцев. А ей был нужен муж-светило, с кабинетом на Харли-стрит в Лондоне и консультациями в лучших больницах. Но когда дело уже к этому шло, она вдруг передумала и решила возглавить местное общество где-нибудь в провинции, и тогда вдобавок к лондонской квартире появился дом в Уилтшире, и несчастный Джордж мотался туда и сюда и работал до полного изнеможения. О его состоянии можно судить по тому, что мне как-то сказала Дафна: «Бедный папа, он всегда жалел, что уехал из Индии. Вот если б он мог оказаться здесь сейчас, со мной, и все это опять бы увидел!» Иногда мне казалось, что она старается как можно лучше узнать Индию, чтобы возместить отцу все, что он бросил в угоду ее матери, и жалел об этом, и тосковал. А маменька ее, как все эти хрупкие на вид женщины, которые, видите ли, не выносят индийского климата, оказалась выносливая как лошадь. Во всяком случае, пока не заболела раком. А им, по-моему, болеют не столько слабые, сколько сильные люди.
* * *
Итак, вообразите: Дафна Мэннерс, крупная девушка (по несколько расплывчатому определению леди Чаттерджи), оперлась на балкон своей спальни и внимательно вглядывается (как будто за двоих, из которых одного уже нет, он понес тяжелую утрату, потом умер, и дочь скорбит о нем), — вглядывается в ландшафт, словно рассчитанный на то, чтобы оскорбить культурные запросы и самого любящего западного сердца. Даже с этого выгодного наблюдательного пункта (над садом, благоухающим цветами, стоит только перегнуться через перила) чувствуется всепроникающее дыхание молчащей, мерцающей от зноя равнины; оно долетает с далеких полей, от реки, от скоплений человеческого жилья (среди которого рассыпаны редкие, то устремленные ввысь, то приземистые, церкви, мечети, храмы), с улиц и проездов, от утопающих в зелени белых бунгало, особняков и общественных зданий, от вокзала, с задворков дома Макгрегора. Чем-то здесь пахнет. Неужели отбросами?
Спустя несколько месяцев приезжий перестанет это замечать. Вездесущий запах из противного сделается привычным, а значит — почти приятным, а затем и вовсе ассимилируется его эмпирической психикой, так что старожил, временно его лишенный, с грустью вспоминая его в какой-нибудь не столь зловонной стране, мысленно поставит его в один ряд с едким душистым дымком от древесного угля в медно-рыжем осеннем лесу. Но пусть старожил не покидает здешние места надолго — только слетает в Европу в отпуск или совершит прыжок в разреженный воздух выше снежной линии гималайских снегов. Пусть его отсутствие не длится, скажем, восемнадцать лет и не закончится по счастливой случайности благодаря желанию дознаться до всей правды про мисс Крейн, мисс Мэннерс и юного Кумара и про события, которые, казалось, сперва всколыхнули, а потом и до основания потрясли Майапур, а на самом деле оставили его в неприкосновенности, не отразились на его массивном кирпично-бетонном облике (разве что окружающий ландшафт подвергся кое-каким архитектурным новшествам). Нет, пусть отсутствие его будет коротким, чтобы он по возвращении мог воскликнуть с благодарностью: «Вот она, моя Индия!» В противном случае через восемнадцать лет и после слишком быстрого перелета в «Комете» через неспокойные районы Бейрута и Бахрейна (притом что жара все усиливается и запах обозначается явственнее, как тепло женского тела дает почувствовать скрытый, но поражающий аромат диковинных духов) он, отвыкнув, но воображая, что помнит, сморщит нос, когда рано утром будет проезжать в машине или в такси из бомбейского порта Санта-Крус полями, и там этот смутный, разлитый в воздухе запах свяжется для него с фигурами присевших на корточки батраков, роняющих свои колбаски на землю, где они высохнут, затвердеют, измельчатся и, подхваченные воздушным течением, разлетятся во все концы по прихоти ветра.
Вступив во владение этой комнатой с целью, как сказала леди Чаттерджи, лучше представить себе окружавшую Дафну среду и оставшись один, приезжий начинает мерить шагами необъятный голый пол от кровати под москитной сеткой до двери в ванную, и ему приходит в голову, что, если перепрыгивать с одного кашмирского коврика на другой, как по островкам, стараясь не замочить ноги в полосатом море темных половиц, получится нечто вроде детской игры — не наступать на швы между плитами тротуара, и он спрашивает себя, находила ли Дафна время для такого ребячества. Ванная комната длинная и узкая. Зеленые глазурованные плитки, которыми стены ее отделаны от пола до высоты плеча, подобно темным зеркалам отражают внутренность комнаты и безголовую человеческую фигуру. Дафна из-за своего плохого зрения, возможно, и не заметила этого и, даже не догадываясь о своем обезглавленном отражении, шествовала от двери к фаянсовому пьедесталу с высоко над ним укрепленным бачком, который действует, если, как звонарь, потянешь за длинную цепь с фаянсовой ручкой, отлитой по форме ладони, и тем еще подчеркивает великолепие этого редкостного устройства. Фаянсовая ванна, большущая, как искусственный пруд, сейчас стоит пустая, точно в ожидании ежегодной чистки. Ее затянутые паутиной ножки — когтистые лапы вымершего земноводного чудища, приговоренного держать ее на плечах, как Атлас — небесный свод. Огромные медные краны внушительны, как ручки корабельной помпы, но работает только холодный кран; из горячего — когда его удается сдвинуть с места и повернуть — вырывается глухой скрежет и мелкие хлопья ржавчины. Но и холодная вода достаточно теплая. В ванной душно. Вентиляции нет, окошко всего одно, высоко над пьедесталом. А в другом конце комнаты — пятнадцать шагов босиком по тепловатой мозаике пола, неровного, отчего в подошвах рождается не лишенное приятности чувство, будто ступаешь по усохшим сотам гигантских пчел какой-то ныне забытой породы, — стоит старомодный умывальник с мраморной доской и над ним — зеркало в позолоченной бронзовой раме, на нем — простые белые фарфоровые мыльницы и белый кувшин, под ним — ведро с крышкой и плетеной дужкой. Здесь же вешалка для полотенец — миниатюрный гимнастический снаряд из параллельных брусьев красного дерева и вертикальных столбиков, на нем развешаны мохнатые простыни и полотенца — большие, средние, маленькие, и на каждом синими нитками вышиты инициалы Л. Ч.
Если же вернуться в тот конец, в буквальном смысле взойти на престол, что водружен на широком возвышении, затянутом тканью цвета темно-пурпурных перезрелых вишен, невольно залюбуешься великолепным приспособлением для бумаги. Две позолоченные львиные головы с позолоченными гривами держат в зубах за два конца палочку с надетым на нее рулоном дешевой коричневатой туалетной бумаги. Палочка — толщиной с мизинец. Сами головы — величиной с кулак и такие толстые, что почти касаются друг друга щеками. Так и кажется, что две большие кошки подсмеиваются над своей нехитрой работой — держать наготове нечто такое, что связано с отправлением организма, знакомым и кошкам, но с кошачьей точки зрения не требующим бумаги.
А если растянуться в ванне, взгляд упрется в единственную электрическую лампу под колпаком, формой напоминающим шапку Аладдина (из рождественской пантомимы), и будет тщетно пытаться разглядеть над ней далекий, утонувший во мраке потолок. На деревянной решетке, положенной поперек ванны, — медная кастрюля с ручкой, зазубренная от частых падений на плиточный пол. Это ковшик. Вспомнишь название и, намылившись, встав в ванне во весь рост, раз за разом набираешь в ковшик воды и поливаешься, чтобы таким образом вопреки видимым признакам другого пола изнутри почувствовать, как мисс Мэннерс освежалась после трудного дня, проведенного в майапурской больнице.
* * *
(Письма к леди Мэннерс)
Дом Макгрегора.
Макгрегор-роуд,
Майапур 1.
26 февраля 1942 г.
Дорогая тетя Этель!
Прости, пожалуйста, что не написала раньше. Надеюсь, ты получила телеграмму тети Лили, что прибыли мы благополучно. Наверно, получила. Мне все не верится, что только неделя прошла с тех пор, как мы простились с тобой в Равалпинди. Спасибо, что отпустила меня сюда. Дни летят, и просто непонятно, как в них вместилось все, что мы успели сделать. Только что вернулась домой, я уже второй день отработала в больнице, так что, видишь, времени мы не теряли.
После Лахора дорога была очень интересная, гораздо приятнее того путешествия из Бомбея в Пинди, которое я в прошлом году совершила одна, — тогда мне было страшновато, п. ч. все было такое новое и непривычное. Теперь-то я немножко разобралась в здешней жизни, да и Лили была со мной. Удивительная она женщина, верно? Те ужасные англичанки в нашем вагоне вышли на следующее утро в Лахоре. Держались они препротивно, для нас у них не нашлось ни одного вежливого слова. А какие горы багажа они с собой везли! Еще час после того, как поезд тронулся, в купе невозможно было повернуться, а потом они еще бог знает сколько времени пили, курили и болтали, словно нас там и не было, и мы с Лили никак не могли заснуть (у нас была верхняя и нижняя полка с одной стороны купе, а у них — с другой). Я так устала, что проснулась только в Лахоре, когда они так же шумно выгружались. Их встречал какой-то дядя, кажется муж той, у которой голова была закручена шарфом. Он вошел в вагон по просьбе этой, в шарфе, она жаловалась, что из ее вещей что-то пропало или украдено. Сами они стояли на платформе, пока кули забирали багаж, и он вошел, готовый к решительным действиям; и ужасно, бедняга, сконфузился, когда увидел меня. Они, наверно, нажаловались ему только на Лили. Я сидела на верхней полке и приглядывала за нашими чемоданами, растрепанная была, еще не успела причесаться. А Лили встала и оделась еще в пять часов (она мне потом сама сказала) и сидела подо мной нарядная, красивая и читала книжку невозмутимо, точно и не заметила всей этой кутерьмы. В общем, он перед нами извинился и еще немножко пошарил по их полкам, и кули пошарили под нижней полкой и где-то еще, чтобы не так явно было, что эти женщины ему сказали, что это мы у них что-то стащили. Потом одна из них крикнула снаружи: «Не ищи, Реджи, оно здесь, нашлось!» Как тебе нравится это «нашлось»? Реджи, красный, как свекла, вышел поджав хвост и, кажется, закатил им на платформе скандал. Последнее, что мы слышали, был голос этой гарпии, очень громкий: «А мне какое дело? Все равно безобразие. И куда мы только идем? В конце концов, первый класс — это первый класс». До чего меткое это словечко у Лили — гарпия, верно?
Ну а дальше все было замечательно. В купе мы остались одни, и нам принесли дивный завтрак. Ты знаешь, ведь я до сих пор не до конца верила этой истории, что ты мне рассказала, — как Нелло выставили из первого класса какие-то важные англичане. Мне казалось, что, если железная дорога разрешила индийцу купить билет первого класса, никто не может помешать ему использовать то, за что он заплатил. А теперь я думаю, если бы в Пинди ты не провожала нас на вокзале, эти две женщины, чего доброго, вообще не пустили бы нас с Лили в вагон. Меня — только потому, что я была с Лили. Может, ты нарочно вошла первая и обошлась с ними так царственно любезно, прямо в стиле девятнадцатого века, что они даже не успели заметить ее и сообразить, что им предстоит путешествие с индианкой?
Как вспомнишь, какой это ужас — ездить в поезде дома в затемнение: поезда не отапливают, на весь вагон одна синяя лампочка, а на станциях ни огонька, и люди набились и в купе, и в коридоры, а все-таки все друг другу помогают и бодрятся, шутят, — злость берет на то, что делается здесь. Честное слово, тетя Этель, в Индии многие белые просто ничего не смыслят. Дома я, правда, никогда не ездила первым классом, и солдаты иногда ворчали, когда ехали набитые как сельди в бочке, а какой-нибудь молоденький унтер, только что из училища, располагался более или менее с комфортом. Но это уж военная служба. А здесь-то, в гражданской жизни! Ну да хватит об этом.
Здесь, в Майапуре, гораздо жарче, чем в Пинди. Сплю под одной простыней, скоро буду на всю ночь включать вентилятор. Лили поселила меня в дивной комнате с роскошной ванной (правда, трон немножко расшатан, а бумагу стерегут два очень грозных льва). Дом Макгрегора — безумно интересное место. Я все время напоминаю себе, что ты в нем никогда не бывала, ведь Нелло купил его уже после того, как дядя Генри ушел в отставку и уехал из этой провинции. Но Майапур ты, конечно, помнишь, хотя Лили говорит, что с тех пор здесь многое изменилось. Например, появился Технический колледж, это ведь Нелло основал его и завещал ему фонд и получил за это титул. А еще — новые корпуса Британско-индийского электрозавода. В Баньягандже строят аэродром, и англичане ноют, что теперь утиной охоте конец. То-то Гитлер бы посмеялся! (Там есть озеро, куда европейцы любили выезжать на пикники, это мне Лили рассказала.) Третьего дня мы обедали у окружного комиссара и его жены, Робина и Констанс Уайт. Они сказали, что встречали тебя и дядю Генри много лет назад, но ты, наверно, их не помнишь, они тогда были мелкая сошка. Мистер Уайт служил под началом у некоего мистера Крэнстона, они говорят, что его-то ты наверняка помнишь, п. ч. один раз, когда он совершал инспекционную поездку по округу и вы с дядей Генри тоже были в поездке, вы неожиданно нагрянули в один лагерь, когда он купался там в пруду. И вы оба без конца беседовали с ним, стоя на берегу, а он вытянулся по, стойке «смирно» и старался отвечать впопад и как можно вежливее, стоя по пояс в мутной воде и боясь шелохнуться, потому что был без трусов. После он уверял, что вы с дядей Генри это знали и нарочно тянули время, чтобы над ним позабавиться. Я обещала мистеру Уайту упомянуть об этом, когда буду тебе писать, и спросить, действительно ли вы знали, это, оказывается, всегда интриговало его. Мистер Крэнстон — тот так и остался в неведении. Это один из анекдотов про губернатора и его супругу, который, значит, ходил здесь долгие годы, раз только позавчера всплыл снова здесь, в Майапуре. с Мистер Уайт и его жена мне понравились, хотя она, как все важные мемсахиб, поначалу немножко отпугивает (я ведь сперва и тебя побаивалась). Но оба они явно уважают Лили и восхищаются ею. Обед был в очень узком дружеском кругу, кроме нас, еще только двое мужчин: мистер Макинтош — начальник медицинской службы, он вдовец, и еще один друг Лили, судья Менен. Он женат, но жена его сейчас лежит в больнице. Судья мне очень понравился. У него удивительное чувство юмора, я это поняла только к концу вечера. Сначала он показался мне чуточку надутым и язвительным, я уж решила, что это у него комплекс неполноценности, потому что из всех мужчин он тут единственный индиец. Он гораздо старше мистера Уайта, но ведь индийцу нужно больше времени, чтобы продвинуться по службе, да? В общем, я скоро смекнула, что он просто меня разыгрывает, будь он англичанин, я бы это сразу сообразила. Так было у меня и с Лили. Она тоже иногда выдает всякие забавные шуточки. Услышишь такое от англичанина — сразу засмеешься, а тут, пока не узнаешь человека поближе, думаешь, и на что он намекает? Что кроется за его словами? И как мне на них реагировать, чтобы и его не обидеть, и не показать, что сама обиделась?
Лили говорит, что многие из здешних англичан не одобряют комиссара, считают, что он слишком уж усердствует в дружеском отношении к индийцам. Предрекают, что в конце концов они ему на шею сядут. Толкуют, как хорошо было при его предшественнике, был тут такой мистер Стэд, тот «спуску не давал», и все в округе знали, «кто здесь хозяин». Такую позицию я наблюдала уже те два дня, что проработала в больнице, и я поняла, как мне повезло, что я пока жила у тебя и могла не общаться с типичными англичанами. Заведующая больницей — замечательная женщина, прожила здесь много лет. Уж она-то знает все ходы и выходы — когда проводила со мной беседу, сказала одну вещь, которая мне особенно запомнилась. Беседу мне устроила Лили, через начальника медицинской службы — он по медицинской части первый человек во всем округе, впрочем, это тебе известно, — так вот что она сказала: «У вас здесь три поручителя — мистер Макинтош, я и ваша фамилия, которую в здешних местах вспоминают с уважением, хотя в свое время многие не соглашались с прогрессивной политикой вашего дядюшки. На этих троих ссылайтесь сколько хотите, а вот свою дружбу с четвертым поручителем благоразумнее будет не слишком афишировать». Я сразу поняла, кого она имеет в виду, вся вскипела от злости и брякнула: «Леди Чаттерджи — мой первый поручитель». А она говорит: «Знаю. Главным образом поэтому я и беру вас на работу. Я даже бесплатных работников проверяю сама. Но больница эта английская, я ею заведую и давно уже усвоила, какого правила придерживаться, чтобы мной были довольны, а именно: отбросить как не относящиеся к делу все соображения, кроме заботы об удобствах больных и о четкой работе персонала (это она так говорит — как будто лекцию читает, которую заранее выучила наизусть). Я допускаю, что вам многое не нравится в той атмосфере, в которой вам предстоит работать. Я не прошу вас изменить ваши вкусы. Я только прошу, даже требую, чтобы эта атмосфера не отражалась на вашей работе». А я сказала: «Может быть, это атмосферу нужно изменить?» Понимаешь, в ту минуту мне было абсолютно безразлично, разрешат мне там работать или нет. Ведь на жалованье я все равно не рассчитывала. Но она ответила без запинки: «Я в этом не сомневаюсь. Надеюсь, что со временем так и произойдет. Если вы предпочитаете этого дожидаться, а пока предоставить другим почетное дело — по возможности облегчать страдания больных людей, — вы мне сразу скажите. Я пойму. Впрочем, я уверена, что, когда вы в Англии во время блица водили санитарную машину, вам было не до мировоззрения тех раненых, которых вы отвозили в больницы, и не до их предрассудков. Думаю, что первой вашей заботой было спасти их от смерти». В общем-то она, конечно, права. Я глазела на нее через эти отвратные очки — приходится их носить, если хочешь чувствовать себя уверенно, — и думала, как хорошо было бы до сих пор водить санитарную машину. Это мне давало какое-то удовлетворение, хотя было очень страшно. 1940 год! Как давно это, кажется! Всего восемнадцать месяцев прошло, а как будто целая вечность. Здесь война еще только начинается, и многие, по-моему, этого еще не поняли. А там почему-то казалось, что она уже кончилась или будет длиться еще много веков. Здесь я все время вспоминаю папу и Дэвида. Война, которая их убила, только что настигла Майапур. Бывает такое ощущение, точно ждешь, когда их убьют снова, а бывает — думаешь о них как о людях, которые жили и умерли на другой планете. Я рада, что мама до этого не дожила. Не могу я, как большинство здешних англичан, осуждать индийцев за то, что они протестуют против войны: ведь их не спросили, нужна им эта война или нет. Я-то видела, что это такое, пусть со своей маленькой гражданской колокольни, а те, кто здесь больше всех разоряется насчет того, как надо бить япошек и гуннов (ужасные эти устарелые словечки как будто придают им храбрости, а меня они угнетают), — те ни единого выстрела не слышали. Британская Индия еще живет в девятнадцатом веке. Гитлер для них только шутка — «был маляром и до сих пор выглядит как маляр, даже в мундире»! Ура нашей коннице! Да здравствует наш флот! Прости меня, я, кажется, опрокинула лишний стаканчик из подвалов Лили. Скоро пора наряжаться, у нас сегодня гости, будет даже такая персона, как начальник полиции. Лили мне сообщила, что он холостяк. Будем надеяться, что по убеждению. Терпеть не могу мужчин, которые стараются не подавать виду, если додумаются, что, в сущности, я не так уж привлекательна. Помнишь мистера Суинсона?! Тетя, милая, я тебя люблю и часто вспоминаю тебя и как нам жилось в Пинди. Поехать с тобой в мае в Сринагар страшно соблазнительно, но тетя Лили, как видно, твердо решила держать меня здесь, да и больницей я теперь связана. И между прочим, это помогает мне лучше узнать Индию. У нас в гражданском отделении есть еще несколько таких добровольных помощниц, как я, но тон задают штатные. Видела бы ты, как некоторые из них задирают нос. В Англии они были бы санитарками, от силы — сиделками, а здесь считаются сестрами. Ни они, ни мы не должны снисходить до физической работы. Это удел бедных англо-индийских девочек. Сегодня я работала для фронта — часами сматывала бинты, это считается «чистой» работой. Но делать ее надо стоя, и ноги болят невыносимо. Ну вот, пришел бой готовить мне ванну. Продолжение следует. Это очень приятно, но опять кажется странным, как в прошлом году, когда я только приехала из Англии. В Майапуре многое отталкивает, не то что в нашем милом Пинди. Может, это объясняется тем, что там большинство населения мусульмане, а здесь индусы? Пожалуйста, береги себя и почаще вспоминай обо мне.
Любящая тебя племянница Дафна.* * *
Дом Макгрегора.
Макгрегор-роуд,
Майапур 1.
Пятница, 17 июля 1942 г.
Дорогая тетя Этель!
Большое спасибо за письмо и за описание твоей жизни в Сринагаре. Я рада, что фотография поспела к твоему дню рожденья, а еще больше — что отрез на платье тебе понравился. Фотография вышла такая ужасная, что мне захотелось добавить к ней что-нибудь получше, а потом, когда я выбрала цвет, то испугалась, что еще больше напортила. Не очень-то я разбираюсь в туалетах, но тут мне подумалось, что этот цвет тебе пойдет. Ужасно рада, что ты тоже так думаешь. Надеюсь, старик Хуссейн не ударит в грязь лицом. Шьет-то он лучше, чем наш здешний портной. Мы с Лили в твою честь закатили пломбир и позвали на него несколько человек гостей, а потом была небольшая выпивка (думаю, ты бы это одобрила).
Тут сейчас льют дожди, но они в этом году запоздали, так что в Майапуре все уже начали запасать продукты на случай голода. «Все» — это те, у кого есть деньги. Джек Поулсон говорит, что это бич Индии — как богатые и полубогатые индийцы опустошают магазины, чуть только запахнет перебоями. Но это, надо понимать, ничто по сравнению с коррупцией, которая царит в высших сферах, там, где совершаются оптовые сделки.
Трава перед домом неправдоподобно зеленая. Обожаю здешние дожди. Но сырость проникает всюду. Бой каждый день чистит все мои туфли, чтобы не заплесневели, хотя они мне не так уж нужны, потому что в больницу и из больницы меня обычно доставляет в машине мистера Меррика его полицейский шофер (очень воинственно настроенный мусульманин. Он уверяет, что все индусы прячут дома оружие и готовятся рубить головы и англичанам, и мусульманам без разбора). Если день безбензинный (как мы все ноем в такие дни!), мистер Меррик посылает служебный грузовик, якобы на экстренное задание (например, переправить заключенных из тюрьмы в суд). Меня это немного смущает, я ему сколько раз говорила, что в любой день отлично могу поехать на велосипеде, а не то нанять тонгу, но он упрямится, говорит, что Конгресс не дремлет и опять усилились антианглийские настроения, а дом Макгрегора стоит на отшибе, в самом конце европейского города, так что он по долгу службы обязан следить, чтобы со мной ничего не случилось.
Он мне стал больше нравиться. Ничего не скажешь, он очень внимателен и заботлив. Если б только не его манера (за которой, несомненно, что-то кроется). Ну и то, что он начальник полиции, уже и само по себе отталкивает. Но теперь, когда я к нему привыкла — и перешагнула через что-то, о чем надо будет тебе рассказать, — я с удовольствием бываю с ним во всяких местах. Не люблю только, когда он переходит на официальный тон, как было на днях, когда он вздумал предостеречь меня по поводу моего (как он выразился) общения с мистером Кумаром, которое якобы вызывает пересуды не только среди англичан, но и среди индийцев. Я рассмеялась и ответила, не подумав: «Да не изображайте вы из себя полицейского!» И тут же спохватилась, что именно этого ему нельзя было говорить, потому что к своей работе он относится очень серьезно, и гордится, что дослужился до такой должности, и твердо намерен служить на совесть, а если это кому не нравится — ему плевать.
Чувствую, что надо тебе рассказать, но, пожалуйста, никому не говори, этого никто не знает, даже тетя Лили. С месяц назад он пригласил меня к себе домой на обед. И расстарался вовсю. Такого вкусного обеда в английском стиле я в Индии еще не ела (если не считать того раза, когда ты пригласила Суинсонов, а они заранее твердили, что ненавидят индийскую кухню). Еще одно очко в его пользу, на мой взгляд, то, что его слуга явно боготворит его и не пожалел трудов, чтобы приготовить своему сахибу обед при свечах, на двоих. А предлогом для обеда, если бы предлог понадобился, было его желание показать мне пластинки. Помнишь, я тебе рассказывала, что в конце апреля военные власти устроили здесь представление с оркестрами, парадом и прочим? И я еще там познакомилась с генералом Ридом, и он вспомнил, что встречался с нами в Пинди? И как я поехала туда с девочками из больницы, а оттуда мы с несколькими молодыми офицерами поехали в клуб? Позже в тот вечер в клуб заглянул Роналд Меррик (днем он был страшно занят, следил за порядком на улицах и т. п.). Мы все начали расхваливать музыку и выправку солдат — все и правда было очень эффектно, — и я, наверно, усердствовала больше всех. Во всяком случае, Роналд обратился ко мне и сказал: «Вы, значит, любите военные оркестры? Я тоже». Оказалось, что у него куча пластинок и что надо мне будет как-нибудь, их послушать.
Вот это и была зацепка. А я их не так уж и люблю, не настолько, чтобы слушать пластинки, так что, когда он потом снова об этом упоминал, я только отмахивалась. Я почти и забыла про эти пластинки, и вот тогда он пригласил меня на обед. Я почему-то сразу согласилась, а когда он сказал: «Вот и отлично, а потом послушаем те пластинки, что я обещал вам завести», я подумала: «О господи, ну и влипла!» Но боялась я зря (в смысле музыки). Мы к тому времени много где побывали вдвоем, и тем для разговора у нас хватало. Музыка была только частью очень приятного вечера. В его бунгало я бывала и раньше, но всегда с кем-нибудь, если он приглашал в воскресенье утром на кружку пива, а тут, когда я оказалась там одна, убедилась, до чего у него уютно и красиво. Он не курит, пьет очень мало, потому, очевидно, и денег у него больше, чем у других, кто получает примерно столько же. Дом со всей обстановкой ему, конечно, полагается по должности, но есть некоторые замечательные вещи и его собственные. Прежде всего — мировая радиола (на которой он ставил мне марши Сузы[11]). И очень хороший столовый сервиз, и изумительный персидский ковер, он сказал, что купил его на аукционе в Калькутте. Но особенно меня поразил его выбор картин. Держится он по-старомодному, я и на стенах у него ожидала увидеть какое-нибудь пошлое старье. В столовой действительно висели спортивные картинки — охота на кабана, поло, а в спальне — очередная стандартная красотка Дэвида Уайта (он показал мне все комнаты, но так деликатно, что и в спальне не возникло никакой неловкости, как могло бы быть с другим мужчиной), а вот в гостиной было всего две первоклассные репродукции с рисунков Генри Мура — люди, сгрудившиеся в метро во время бомбежки, смотреть на них тяжело, но как это сделано! Он трогательно обрадовался, когда я сказала: «О, Генри Мур? Удивительный вы все-таки человек!» И вот что еще меня поразило: в чуланчике (дверь прямо из холла, там гости моют руки) он велел бою приготовить душистое мыло («шипр-коти») и маленькое розовое ручное полотенце, явно не бывшее в употреблении. Должно быть, оно и куплено было специально для этого случая. (В его ванной при спальне мыло было «лайфбой», так что, пожалуйста, не торопись с выводами!)
И еще был сюрприз. После маршей Сузы он взял другую пластинку и сказал: «Это я тоже очень люблю». И что бы, ты думала, это оказалось? Clair de Lune[12] из сюиты Дебюсси в исполнении Вальтера Гизекинга. Это была одна из любимых вещей моего брата Дэвида. Чуть она зазвучала, я подумала, когда же это я говорила Роналду, что Дэвид это любил? Потом поняла — да никогда не говорила. Поразительное совпадение! Этот ужасный (хоть местами и увлекательный) Суза с его трубами, и следом — эта нежная лунная музыка, слушать ее было почти невыносимо и в то же время радостно, хотя в голове не укладывалось, что она может нравиться полицейскому.
Тут бой подал кофе — по-турецки. А к кофе ликеры (на выбор: кюрасо и crème de menthe, и то и другое так себе). Бутылки были неоткупоренные, прямо из магазина, специально для меня. Наверно, если я еще когда-нибудь буду у него обедать, в них окажется столько же, сколько мы оставили. За кофе он расспрашивал меня о моей семье, и как погиб Дэвид, и про папу, и про меня — как я смотрю на жизнь и вообще, и все так по-дружески, так участливо, что у меня язык развязался. (Наверно, он виртуоз по части допросов. Это я зря, извини. Но ты меня поймешь.) Потом он заговорил о себе, а я слушала и думала, симпатий ты не вызываешь, но, в сущности, ты добрый человек, поэтому мы с тобой сразу и спелись. Он рассказал, что происходит из «очень заурядной семьи» и, хотя отец его неплохо преуспел, сам он окончил только школу, а дед и бабка у него были «совсем уж невысокого полета». Работал он всегда очень много, и в индийской полиции дела у него пока идут хорошо, и службу эту он считает необходимой, хоть и не особенно привлекательной, но жалеет, что, поскольку он на такой работе, его не взяли в армию, а еще жалеет, что у него не было «настоящей молодости» и ему «не встретилась в жизни подходящая девушка». Ему часто бывает тоскливо. Он знает, что многого предложить не может. Понимает, что мы росли в разных кругах. Наша дружба очень много для него значит.
Тут он иссяк. Я не знала, что сказать, потому что не знала, правильно ли поняла, к чему он клонит. Мы глядели друг на друга и молчали. Наконец он выговорил: «Я прошу вас об одном. Не торопитесь, подумайте и решите, считаете ли вы возможным когда-нибудь стать моей женой».
Ты знаешь, тетя Этель, ведь это мне в первый раз в жизни сделали предложение. У тебя-то в моем возрасте, я не сомневаюсь, были десятки вздыхателей. Неужели все девушки в первый раз так волнуются? Наверно, это зависит от мужчины. Но если он ничего и человек порядочный, конечно же, это не может оставить равнодушной, как бы ни относиться к нему лично. Мне кажется, мое хорошее отношение к Роналду Меррику нельзя назвать иначе, чем весьма поверхностным. Он блондин, синеглазый, еще молодой и, право же, очень красивый, но мне все время кажется, что он чего-то недоговаривает — наверно, это связано с тем, что до конца искренним он не умеет быть. С ним я никогда не чувствую себя вполне естественно и не знаю, кто в этом повинен, он или я. Но когда он обратился ко мне с такой просьбой (согласись, что предложением руки и сердца это едва ли назовешь), мне очень жалко стало, что я не могу ответить «да», чтобы ублаготворить его. Интересно, знают ли мужчины, какой у них бывает жалкий вид, когда они сбросят эту свою жесткую кожу — мне, мол, все нипочем, — которую носят, когда в комнате больше двух человек? Куда более жалкий, чем у женщин, когда они разоткровенничаются.
Самое необыкновенное было то, что за весь вечер он даже руки моей не коснулся. В то время мне от этого еще страшней стало его обидеть. А потом мне от этого же стало еще яснее, каким холодом веяло от всей этой сцены. Мы сидели в разных углах дивана. Может, мне надо было надеть очки. Сейчас я даже не могу толком вспомнить, испытала ли я тогда потрясение. Казалось бы, я должна быть потрясена или по меньшей мере изумлена, но задним числом я поняла, что весь вечер был подготовкой к этому, так что теперь мне уже непонятно, чему тут было изумляться и как я вообще могла допустить такую мысль. В его словах и до этого было много намеков, и про себя я их отмечала. В какой-то момент я решила, что как мужчина он, несмотря на свою красоту, мне противен, но это, кажется, пришло позже, и ненадолго, когда я установила, что, хотя обидеть мне чего не хочется, я никогда не думала и никогда не буду думать о нем так, как ему, видимо, хотелось бы. Слабое чувство гадливости, вероятно, дало себя знать, когда я испытала облегчение, почувствовала, что выбралась из трудного положения и спряталась в себя, где уже больше ни для кого не осталось места. Меня теперь больше занимало, что произойдет после моего «отказа». Я и всего-то сказала: «Спасибо вам, Роналд, но…» Однако и этого было достаточно. Ты знаешь, как говорят про лицо, что оно «исказилось»? По-моему, вернее сказать — «погасло». Ведь исказилось — значит напряглось, изменилось, а на самом деле лицо нисколько не меняется, но в нем темнеют все окна, как в доме, откуда жильцы уехали. Теперь, сколько ни стучись в дверь, никто не отзовется.
Мы еще немножко послушали Сузу, а потом он отвез меня домой, и по дороге мы болтали о всяких пустяках. Когда мы подъехали к дому, я предложила ему зайти и выпить на прощанье. Зайти он отказался, но поднялся со мной на веранду. Прощаясь, немного задержал мою руку и сказал: «Есть вопросы, на которые сразу и не ответишь», из чего я заключила, что он еще надеется, но это был уже другой человек. Начальник полиции, тот Роналд Меррик, которого я не люблю. Тот, который позже, вот только на днях, так бестактно предостерег меня от «общения с мистером Кумаром».
Один из слуг ждал меня на веранде. Я поблагодарила Роналда за приятный вечер и пожелала им обоим спокойной ночи. Поднимаясь к себе, слышала, как отъехала машина и слуга стал запирать окна и двери. Я знала, что тетя Лили собиралась раз в жизни лечь пораньше, и не стала к ней заходить. В доме было очень тихо. Я впервые вспомнила, что в нем, говорят, водятся привидения. Ничего такого сверхъестественного я не ощутила. Просто большой пустой дом, какой-то печальный, и живут в нем не те, кому нужно. Что это я пытаюсь выразить? Не то, что мне стало страшно, а что вдруг потянуло к тебе.
Я тебе не говорила, но было время, мой второй месяц в Пинди в прошлом году, когда я удрала бы без оглядки, если б только кто-нибудь предложил мне оплатить дорогу. Видит бог, у тебя мне было хорошо. Но в том месяце, даже не весь месяц, а две или три недели, у меня непрерывно болело сердце, иначе не скажешь. Я все ненавидела, потому что всего боялась. Все было такое чужое. Я из дому и то силком себя выталкивала. Мне стали сниться ужасы — не про что-то, а просто лица. Они возникали неизвестно откуда, сначала лицо как лицо, а потом оно кривилось, разлеталось на куски и пропадало, а на его месте появлялось другое. И все лица были незнакомые. Я их сама выдумывала во всех пугающих подробностях, — пугающих, потому что так отчетливо вообразить лицо кажется невозможным. Наверно, у меня была навязчивая идея, что я окружена чужими, и она проникала даже в мои сны. Я тебе не говорила, но в тот день на веранде, когда приходил портной, ты, по-моему, догадалась, что со мной творится. Я помню, как ты на меня посмотрела, когда я не сдержалась и вырвала у него из рук блузку, которую он так старался скопировать. Ты знаешь, если б я жила у Суинсонов, этот эпизод, вероятно, переполнил бы чашу. Меня безвозвратно поглотил бы этот маленький замкнутый кружок — община культурных англичанок (впрочем, и англичан, но главным образом женщин) в заморской колонии.
Наверно, это надо считать в порядке вещей, что здесь, куда ни пойди, надо, чтобы рядом с тобой был кто-то известный, надежный, проверенный. А если не кто-то, так что-то. В Пинди в те недели я до нелепости привязалась к своим вещам, к своим платьям, как будто только им и могла довериться. Мне чудилось, что даже ты меня не спасешь. Тебе тут все и вся были знакомы, а мне нет, и, хоть ты всюду брала меня с собой, мне казалось, что я совсем одна. И здешнюю грязь, и нищету, и убожество ты словно не замечала, как будто ничего этого и нет, хотя я-то знала, что на самом деле ты так не считаешь. Но именно поэтому я вырвала у Хуссейна блузку. Видеть не могла, как он ее держит, разглядывает, трогает своими черными руками. Я себя за это ненавидела — и ничего не могла с собой поделать, потому и наорала на него. А у себя в комнате чуть не разревелась, и так мне было нужно в ту минуту, чтобы мне помогли, увезли домой, домой. В первый раз я так остро ощутила, что в Англии у меня родного дома больше нет, раз нет ни мамы, ни папы, ни Дэвида.
Примерно то же было со мной и здесь, когда я прожила в доме Макгрегора неделю и первое любопытство немного улеглось. Но в Майапуре «домом» стало уже твое бунгало в Пинди и ты сама. Надеюсь, что в моих письмах это не отразилось и ты не беспокоилась. Теперь это прошло. Мне здесь хорошо. Но одно время я ненавидела Майапур. Понять не могла, зачем заехала в это ужасное место. Даже подозревала тетю Лили, а вдруг она потому пригласила меня к себе жить, что я англичанка и, если белая женщина живет у тебя в доме, это вроде бы для тебя очень лестно и почетно. (Вот до каких гадостей додумалась!) Я даже вспоминала наше путешествие в поезде и уже не так строго судила тех отвратных англичанок. Думала, а откуда им было знать, что Лили не сделает ничего такого, что могло бы их возмутить? И в больнице я поняла, насколько легче разговаривать с англичанкой, даже если не соглашаешься ни с одним ее словом. Между людьми одной национальности разговор — это вроде стенографии, верно? Усилий затрачиваешь меньше, а сказать можно больше, и так привыкаешь к этой легкости, что от всего, что требует усилий, сразу устаешь, физически и умственно, и начинаешь злиться, и стараешься этого не показать, а оттого еще больше устаешь и злишься.
Этим, наверно, и объясняется, почему я не осталась при своем решении никогда не бывать в клубе. Сначала я приняла такое решение, потому что Лили Чаттерджи не могла бы пойти туда со мной. Клуб мне не нравится, но наблюдать там людей забавно — как все пекутся о своей исключительности и в то же время как вульгарно держатся. Кто-нибудь обязательно напьется пьян, разговоры — по большей части непечатные, злословие, а вместе с тем члены клуба каким-то непостижимым образом умудряются сохранять видимость высокой порядочности, точно существуют какие-то незыблемые правила и для безжалостных сплетен, и для безобразного поведения. До меня не сразу дошло, почему почти все женщины, которых я встречаю в клубе, меня сторонятся и многим мужчинам со мной явно неловко. Все это оттого, что я живу в доме Макгрегора. И то, что я этого сразу не поняла, показывает, каким облегчением для меня было оказаться среди себе подобных.
Помню, мама как-то сказала: «Ты, кажется, любишь всех на свете. Это неестественно. А кроме того, это тебе вредит. Ты столько времени потратишь зря, пока разберешься, с какими людьми стоит знакомиться». Раньше я понимала это «стоит» в смысле каких-то светских выгод. А теперь думаю, может, она имела в виду «стоит» в смысле моей внутренней жизни и душевного покоя и чувства безопасности. Но и так и этак она была не права, верно? Я убеждена, что стремиться к безопасности и душевному покою неправильно, что мы должны снова и снова набираться терпения и должны дерзать наперекор всякому, кто пробует стать нам поперек дороги, будь он белый или черный.
Но это нелегко, правда? Вот и в тот вечер, когда я вернулась от Роналда Меррика и поднималась к себе, мне чудилось, что на верху лестницы меня ждет что-то нехорошее, и хотелось повернуть обратно и бежать со всех ног… к нему! Я даже остановилась и поглядела вниз, в холл, а там стоял этот слуга, совсем мальчик, его зовут Раджу, и глядел на меня снизу. Боже ты мой, ведь он просто не хотел выключать свет, пока не убедится, что я дошла до верхней площадки, просто делал свое дело, но я успела подумать, ты-то чего не видал? Я была в своем длинном зеленом платье, том, которое тебе нравится, с голыми плечами. Я почувствовала… ну, ты понимаешь что. Какое у него выражение лица, я не видела, слишком было далеко. Просто коричневое пятно над белой рубашкой и штанами, а потом на месте его лица появилось выдуманное, из моих снов, лицо, которого я раньше никогда не видела. Я сказала: «Спокойной ночи, Раджу», услышала, как он ответил: «Спокойной ночи, мэм» (он христианин, с юга Индии, поэтому говорит «мэм»), и пошла дальше и, кажется, была готова к тому, что на верхней площадке увижу наше дежурное привидение, Дженет Макгрегор. Но там ничего не было. Я ее пока еще ни разу не видела. Я вздохнула с облегчением, но была немного разочарована.
Когда-нибудь я тебе расскажу про Гари Кумара. До сих пор я ведь только мельком упоминала его имя. И еще я тебе напишу про одну диковинную женщину, она зовется сестра Людмила, носит монашескую одежду и подбирает тела умерших. Хорошо бы ты была здесь, чтобы можно было поговорить в любое время. Вот и гонг к обеду. Дождь все льет, ящерицы на стене играют в прятки и попискивают, как они это умеют. Сегодня мы с Лили обедаем одни, а после обеда будем, наверно, играть в маджонг. Завтра надеюсь пойти с мистером Кумаром посмотреть здешний индуистский храм.
Целую. Дафна.* * *
Жаль, вы не были здесь во время дождей (говорит леди Чаттерджи). Дафна это время здесь больше всего любила. Но я понимаю. Вам нужно переезжать с места на место, а когда льет с утра до ночи, это неудобно. Сейчас у сада вид уже сухой, потемневший, усталый. Я-то люблю все времена года. Особенно вечером, вот как сейчас. Я всегда сижу на передней веранде, потому что сюда не доносится запах реки — я-то его не замечаю, но знаю, что гости из Англии очень даже замечают, — и к тому же отсюда видна дорога, а это тоже приятно — вспоминаешь всех, кто по ней приезжал, гадаешь, кто-то еще пожалует, а если на веранде зажечь свет, то видна и клумба с каннами. Когда есть луна, лучше сидеть без лампы, но, когда я устрою прием в вашу честь, свет у нас будет везде, даже в саду фонари зажжем. Я бы и сейчас их для вас зажгла — показать, как это получается, но нас просят по возможности все экономить из-за войны с Китаем, а это, надо полагать, касается и электричества.
Так давайте я вам еще кое-что расскажу про мисс Крейн. Она была английская либералка старой школы, насколько я понимаю это определение, и как таковая не обладала широким кругом друзей. Я бы сказала даже больше: по-моему, друзей у нее вообще не было. Она любила Индию и всех индийцев, но никого из индийцев в отдельности. Британскую имперскую политику она ненавидела, а потому плохо относилась ко всем британцам, если не обнаруживала, что в жизни они придерживались одних с нею правил. Наверно, это можно выразить и так, что обычно дружбы ее были подсказаны не сердцем, а рассудком. Если чьи-нибудь действия шли вразрез с тем, как она представляла себе его взгляды, она в наказание снимала со стены его портрет. Это был никчемный жест, но очень красноречивый, безошибочно выдававший ее слабость. Как жест он уступал даже трогательно-бессмысленному обычаю поворачивать лицом к стене портрет сына, опозорившего семью. В том жесте было хотя бы что-то осязаемое — гнев, направленный на одного определенного человека. Но мужества ей было не занимать. Это можно сказать о многих людях ее типа, и я думаю, что в конце концов она именно оттого помешалась, что у нее хватило мужества и на то, чтобы увидеть правду (пусть даже и не остаться после этого жить), увидеть, что все ее добрые дела и благородные мысли существовали в вакууме. По моей теории она поняла совершенно отчетливо, но слишком поздно, что ни разу не замарала рук, ни разу не снизошла до черной работы во имя дела, в которое, казалось бы, так свято верила. И тогда становится ясно, почему, когда мистер Поулсон нашел ее, она сидела у дороги под дождем, держа за руку убитого учителя мистера Чоудхури.
Дафна — Дафна была не такая. Вы со мной не согласны? Вот вы прочли эти два письма. Да не трудитесь снимать копии. Заберите их с собой. Когда-нибудь, когда не будут больше нужны, вернете. Я их знаю почти наизусть. Жалею только, что тогда о них не знала. Жалеть-то жалею, но и то сказать, а если б знала, если б прочла их тогда, что я могла бы сделать? Ее вдохновенные ошибки только она сама и могла совершить. Да, вдохновенные. Она-то не боялась замарать руки. Очертя голову бросалась в любую опасность, чем страшнее ей было, тем тверже решала не отступать. В конце концов она нас всех перехитрила. Мы все за нее боялись. Мы уже ее боялись, вернее — того, что она выпустила на волю, как Пандора, когда убежала на чердак и сорвала крышку с ящика.
Может, я поэтому и сижу всегда здесь, на передней веранде? Вы знаете, ведь это те самые ступеньки. Да, знаете, конечно. Вы все время на них поглядываете, а потом на дорогу, словно ждете кого-то, кто бежал сюда в темноте от самого Бибигхара. В тот вечер я была с мистером Мерриком в холле, вон там возле двери в гостиную. Оттуда ступеньки не видны. Машину он поставил подальше, в тени. Я уж потом, когда вспоминала все это, подумала, может, он нарочно завел ее в тень, чтобы с улицы не увидели, что он здесь, в доме Макгрегора, когда европейская часть Майапура вся гудит от слухов о беспорядках в окрестностях города и о мисс Крейн, уже доставленной в больницу. Он, как только приехал, спросил: «Как вы тут, леди Чаттерджи, все в порядке?» Мне даже смешно стало, ведь за все время нашего знакомства он в первый раз обратился ко мне как к кому-нибудь из ваших, точно я леди Грин, или Браун, или Смит и живу одна на самой границе безопасной зоны. Я предложила ему выпить, он сказал, что у него мало времени, но выпил с явным удовольствием, и это меня немного удивило: вообще-то он почти не пил. Помню, я еще подумала: «Когда ты озабочен, встревожен, когда лицо у тебя живое, ты очень даже недурен собой». Я сказала: «Вы, наверно, к Дафне, а она в клубе», и он ответил: «Да, в больнице сказали, что она поехала прямо в клуб, но там ее нет». Я сказала: «В самом деле?» — и сразу встревожилась, но постаралась это скрыть и добавила: «Но я уверена, что с ней ничего не случилось».
И тогда он спросил уже без обиняков: «Она с Гари Кумаром?» Я сказала, что нет, едва ли. Я и не думала, что она с ним. Мне даже казалось, что «общение», от которого ее предостерег мистер Меррик, кончилось. Я и не знала, что он предостерегал ее. Я не знала, что мистер Меррик делал ей предложение. Все это она от меня утаила. Чего она не сумела утаить, так это чувств, которые внушал ей Кумар, и того, что она не видела его перед тем больше недели, а вернее, недели три. И когда мистер Меррик спросил: «Она с Кумаром?», я ответила не кривя душой: «Нет, едва ли». А потом засомневалась. Но больше ничего не сказала. Заговаривать о нем с мистером Мерриком как-то не тянуло. Он спросил: «Так где же она может быть в такое время?» Я ответила: «Да, наверно, у кого-нибудь из знакомых», пошла к телефону и обзвонила несколько мест, где она могла быть. Это заняло уйму времени. Телефонные линии в городе были забиты служебными разговорами. Мистер Меррик все выходил на веранду и возвращался, чуть я окончу очередной разговор. «Скоро вернется, — сказала я, — сядьте пока, выпейте еще рюмочку», и он опять, к моему удивлению, согласился. Он был в мундире. Вид у него был усталый до предела.
Я спросила: «Положение серьезное?», и он ответил: «Похоже на то». А потом вдруг выпалил: «Дьявольщина какая-то!» — и прикусил язык, только что не извинился за грубое выражение. «Некоторые из ваших знакомых арестованы». Я кивнула. Я знала, кто именно, но говорить о них не хотела. «А я здесь сижу и выпиваю с вами. Вас это не шокирует?» Я засмеялась и ответила, что нисколько не шокирует, если только он не собирается отправить меня в тюрьму в «черном вороне» как подозрительную личность. Он улыбнулся, но промолчал, а я подумала: «Кажется, попалась!» И тут он выговорил самое главное: «Я просил ее быть моей женой. Она вам сказала?» Я чуть не ахнула. Ответила, что нет, и тут только поняла, до чего опасная сложилась ситуация, и спросила: «Что слышно про мисс Крейн?» Я не хотела говорить с ним ни про Дафну, ни про Гари Кумара. Ни про то, где они могут быть. Мистер Меррик всегда недолюбливал юного Кумара, и, должна сознаться, я сама питала к нему смешанные чувства. Он казался мне слишком самолюбивым, заносчивым. А один раз у него были какие-то неприятности. Мистер Меррик вызывал его для допроса. Я в то время и не слышала о нем, но одна знакомая — Анна Клаус, из Женской больницы, — как-то позвонила мне и рассказала, что он арестован, видимо, без всяких оснований. Ну, вы меня знаете. Я тут же обратилась к судье Менену. Насколько я поняла из его слов, все это была буря в стакане воды. Он и арестован не был, а только вызван на допрос. Выяснилось, что его знает один мой давнишний приятель, Васси. Это мистер Шринивасан, он и сейчас здесь живет, надо будет вас познакомить. Короче говоря, я как-то пригласила этого Кумара в гости, мне было любопытно на него посмотреть, и таким образом он вошел в мою жизнь или, вернее, в жизнь Дафны. Вырос он в Англии. Его отец строил грандиозные планы насчет его будущего, но все эти планы пошли прахом, когда отец умер банкротом и бедного Гари отправили на родину в Майапур, только какая уж там родина! Когда отец увез его в Англию, ему было два года, а вернулся он восемнадцатилетним. По-английски говорил, как молодой англичанин. И вел себя так же. И думал так же. Говорят, он и фамилию свою тогда писал на английский лад, как отец — Кумер. Гарри Кумер. Но, видимо, его тетка положила этому конец. Она была его ближайшей родственницей и, вероятно, любила его на свой индийский лад, а значит — баловала, разрешала бездельничать, а значит — у него оставалось время размышлять о своей горькой доле. Мне как-то не понравилось, что Дафну сразу к нему потянуло, я не была уверена, что это взаимно. Она знала, что я что-то держу про себя. И он знал. Может, надо было высказаться. А я молчала. И теперь думаю — может, это по моей вине в том, что мистер Меррик назвал «общением» между Кумаром и Дафной, обозначилась скрытность. И в тот вечер, когда мистер Меррик был здесь и сказал, что просил Дафну быть его женой, и я поняла, какими опасностями это чревато, я вспомнила, что утром в тот день она была особенно весела — не по сравнению с тем, какой я ее вообще знала, а по сравнению с тем, какой была в последние дни — задумывалась, хмурилась, нигде не бывала, разве что в клубе, и, конечно, притворялась, что все у нее хорошо, и тут мне стало ясно, что она именно с Кумаром, и весела была оттого, что они сговорились снова встретиться. Мне это стало ясно, и мистеру Меррику, видимо, тоже. А уверившись, что она с Кумаром, я подумала, что знаю и то, где они сейчас находятся, и еще подумала (ошибочно), что если я знаю, так мистер Меррик тоже догадывается, и поедет туда, и застанет их вместе, а этого я не хотела. И вообще решила помалкивать, потому что то место, где они, по моим расчетам, могли быть, — это было то самое место, где мистер Меррик впервые увидел юного Кумара и отправил его на допрос, и, таким образом, круг замкнулся, и я почувствовала, что беды не миновать. Вот тогда я и перевела разговор с Дафны на бедную мисс Крейн, я знала, что ее доставили в больницу, и спросила: «Ну как она, ничего?», и он ответил, что, насколько ему известно, — ничего, и тут же посмотрел на часы и попросил разрешения позвонить на службу. Он еще не дошел до телефона, как раздался звонок. Звонил комиссар — мистер Меррик предупредил, где его можно найти. Мистер Меррик взял трубку, и я слышала, как он говорил Робину Уайту, что лично проверил все патрули, что в городе спокойно, потому что лавки на базаре закрыты и люди, видимо, сидят по домам, как будто объявлен комендантский час. А потом сказал: «Нет, я здесь потому, что пропала мисс Мэннерс». По его тону выходило, что это я сообщила в полицию, что она пропала без вести, и слова-то были нелепые, но, по существу, это была правда. Они еще немного поговорили, а потом он передал мне трубку, сказал, что Робин просит меня на два слова, а он прощается — дожидаться не будет. Робин спросил: «Лили, что это я слышу про Дафну?» Я сказала, что не знаю, я думала, она из больницы поехала прямо в клуб, а мистер Меррик говорит, ее там нет, так что теперь и я волнуюсь. И спросила: «А положение скверное, Робин?» А он ответил: «Да понимаете, Лили, мы еще не знаем. Хотите, приезжайте к нам ночевать?» Я рассмеялась и спросила: «Зачем? Разве тараканы уже полезли в щели?»
Вы, наверно, знаете, был такой план — если предполагаемое восстание состоится, переправить женщин и детей в клуб, в отель Смита, в дом комиссара и прочие безопасные места, даже в старые казармы, если дело обернется совсем уже плохо, как во время сипайского мятежа, а некоторые умники и это пророчили. Робину пришлось разработать этот план с бригадным генералом Ридом, но я еще ни разу не слышала, чтобы он говорил об этом всерьез. Он ответил: «Нет еще, но несколько женщин, у которых мужья в отлучке, перебрались в клуб». «Что ж, — сказала я, — ведь туда-то мне дороги нет, правда, Робин?» Позже он мне говорил, что даже растерялся — никогда, мол, он не слышал в моих словах издевки. А я и не думала издеваться. Так, само вырвалось. Констатировала факт, и только. Он сказал: «Вы мне позвоните, когда она вернется. А лучше позвоните через полчаса в любом случае, хорошо?» Я пообещала. Когда я вышла на веранду, машины мистера Меррика уже не было. Время было около девяти часов. Дафна всегда предупреждала по телефону, если ей случалось задержаться. Я подумала, может, она и пробовала звонить, но не дозвонилась. Но я и сама в это не верила. Перед глазами неотступно стояла Дафна, и Кумар, и то место, которое называли «Святилище». Я там никогда не была — глупо, конечно, но оно внушало мне ужас, несмотря на все, что рассказывала Анна Клаус, и внушала ужас женщина, которая там распоряжалась, та, что называла себя сестра Людмила и подбирала умирающих на улицах. Дафну эта сестра Людмила страшно интриговала. Короче говоря, я пошла в дом посмотреть, чем заняты слуги, потому что вдруг заметила, что их что-то не видно и не слышно. Весь день они ходили мрачные. В кухне никого не оказалось, никто не готовил обед. Я подошла к кухонной двери, крикнула, и через некоторое время появился Раджу. Он сказал, что повар захворал. «То есть напился пьян, — сказала я. — Передай ему, чтоб обед был в девять тридцать, а не то все ищите себе новых хозяев, и ты в том числе. Твое место перед домом, Раджу».
Я вернулась в гостиную, налила себе стаканчик и услышала Раджу на веранде. Подумала — и этот напился, на ногах не стоит, дуралей, вон упал со всего маху. И вышла отругать его. Это был не Раджу. Я сперва глазам своим не поверила. Она упала на колени, руками уперлась в пол. Она упала и расшиблась о ступеньки, но упала потому, что уже была избита и так долго бежала, что совсем обессилела. Она подняла голову и сказала: «Ой, тетечка». На ней была ее защитная больничная форма, вся изодранная, грязная, а на лице кровь. Даже когда она сказала: «Ой, тетечка», я не могла поверить, что это Дафна.
* * *
В честь приезжего гостя в саду при доме Макгрегора устроена иллюминация. Кусты, подсвеченные с помощью целой батареи переключателей на стене веранды, выглядят как театральная декорация. Ветра нет, но неподвижность ветвей и листьев кажется искусственной. Прожекторы породили не только эти ярчайшие пятна, но и омуты непроглядно-черного мрака. Мужчины и женщины, с которыми вы разговариваете на лужайке, переходя от одной группы к другой, порой обозначаются лишь как силуэты, хотя при повороте чьей-то головы нет-нет да и блеснет прозрачно влажный глаз, а при движении руки — костлявый абрис пальцев, держащих бокал, в котором свет и влага смешались в равных долях. И то застывают в неподвижности, то вдруг начинают метаться светляками огоньки сигарет.
Люди в саду — это наследники. Где-то, дальше отсюда во времени, чем в пространстве, огонь, поглотивший Эдвину Крейн, вспыхивает, никем не замеченный, лижет стены, разгорается. В освещенном темном саду можно уловить и эту дополнительную вспышку света, а за беззаботной болтовней гостей на званом вечере расслышать зловещее потрескивание дерева.
На участке позади дома мисс Крейн был сарайчик, где она, по чисто английскому обычаю, хранила садовый инвентарь. Как это похоже на нее — в безветренный день, когда первый зной после дождей уже подсушил дерево и теперь оно скоро досохнет в теплые дни перед похолоданием, выбрать место, откуда пожар не угрожал бы самому дому. Она заперлась в сарайчике, облила стены керосином и умерла, будем надеяться, в те несколько секунд, что потребовались раскаленному воздуху, чтобы сжечь ее легкие.
Говорят, что для этого «сати» (которое леди Чаттерджи называет «саньяси минус скитания») она в первый раз в жизни облеклась в белое сари (сари — в знак своей второй родины, белое — в знак траура и вдовства). И еще рассказывают, что Джозеф, которого она нарочно услала с каким-то выдуманным поручением, вернулся ни с чем, рухнул на колени при виде дымящегося погребального костра и возопил: «Ой, мемсахиб, мемсахиб!» — так же, как 33 несколько недель до того мисс Мэннерс, упав на колени, подняла голову и произнесла: «Ой, тетечка».
Так человеческие существа взывают о разъяснении того непонятного, что с ними случается, и так сцены и характеры предстают перед исследователем, подобно игрушкам, которые дети расставляют напоказ, предаваясь своим злым, но неотвратимым играм.
Часть третья. Сестра Людмила
Происхождение ее было туманно. Одни говорили, что она родственница Романовых, другие — что она в прошлом венгерская крестьянка, русская шпионка, немецкая авантюристка, французская послушница, убежавшая из монастыря. Но все это были домыслы. Бесспорно, во всяком случае, на взгляд майапурских европейцев, было одно: какой бы святой она теперь ни казалась, у нее нет оснований именовать себя «сестра». Ни католическая, ни протестантская церковь не признали ее своей, но мирились с ее существованием, потому что она давно уже выиграла «битву за Облачение», заявив разгневанному католическому священнику, вознамерившемуся искоренить это зло, что покрой своей одежды выдумала сама, что, если даже у настоящих монахинь статус выше и шансов на вечное блаженство больше, не может быть, чтобы только они имели право на скромность или были особенно чувствительны к солнечным ударам: отсюда — длинное серое платье из легкой бумажной ткани (не украшенное крестом на груди, не препоясанное вервием, а просто схваченное на талии кожаным поясом, какие продаются в любой лавке) и крылатый белый крахмальный чепец, защищающий от солнца шею и плечи и видный даже в самую темную ночь.
— Но вы называете себя сестра Людмила, — сказал священник.
— Нет. Это индийцы меня так называют. Если вы против, обратитесь к ним. Недаром сказано: «Бог поругаем не бывает».
В то время (1942) сестра Людмила каждую среду с утра пускалась в путь, оставив позади тесно друг к другу стоящие старые здания, где она кормила голодных, ухаживала за больными, обстирывала и утешала тех, кто без ее ночных обходов умер бы на улице. На поясе у нее висел на цепочке запертый кожаный мешочек. Следом за ней шагал рослый индийский юноша, вооруженный палкой. Юноши сменялись через полтора-два месяца. Мистер Говиндас, управляющий майапурским отделением Имперского индийского банка, куда она и направлялась по средам, однажды спросил ее: «Сестра Людмила, откуда у вас этот слуга?» — «Наверно, бог послал». — «А тот, что провожал вас в прошлом месяце? Его тоже бог послал?» — «Нет, — сказала сестра Людмила. — Тот вышел из тюрьмы, а недавно опять туда угодил». — «Вот к этому я и веду, — сказал мистер Говиндас. — Опасно доверять такому парню только потому, что, судя по виду, у него хватит силы за вас вступиться».
Сестра Людмила только улыбнулась и протянула ему чек, выписанный для оплаты наличными.
Из недели в неделю она приходила к мистеру Говиндасу и получала двести рупий. Чеки были выписаны на Имперский индийский банк в Бомбее. Имперский банк давно превратился в Государственный, а мистер Говиндас давно удалился от дел. Однако память у него до сих пор прекрасная. Поскольку она никогда не вносила денег и, как было известно мистеру Говиндасу, по всем счетам поставщиков расплачивалась чеками же, он мог только заключить, что либо у нее солидное состояние, либо ее вклад регулярно пополняется из какого-то другого источника. В долгосрочном распоряжении из Бомбея, санкционирующем выдачу ей денег, она значилась как миссис Людмила Смит, и та же подпись стояла на ее чеках. Позондировав одного приятеля в Бомбее, мистер Говиндас выяснил, что деньги поступают из казны некоего небольшого индийского княжества, их можно рассматривать как пенсию, потому что муж миссис Людмилы Смит, инженер, до конца жизни состоял на жалованье у этого князя. Свои двести рупий она брала такими купюрами: пятьдесят рупий бумажками по пять рупий, сто — бумажками по одной рупии и пятьдесят мелочью. Мистер Говиндас полагал, что почти вся мелочь и изрядная часть банкнотов в одну рупию раздается бедным, а остальное идет на жалованье ее помощникам и кое-какие покупки. Он знал, что мясо, крупу и овощи ей поставляют местные торговцы, с которыми она расплачивается раз в месяц, а лекарства она покупает в аптеке доктора Гулаба Сингха Сахиба со скидкой в 12,5 % для постоянных клиентов за вычетом 5 % за ежемесячные платежи. Знал он и то, что сестра Людмила выпивает всего один стакан апельсинового сока в день и ест всего раз в сутки — съедает порцию риса или гороха и на второе немного творога, лишь по пятницам позволяя себе скромное овощное карри, а по христианским праздникам — рыбу. Остальную еду поглощали ее помощники и голодающие, которых она подкармливала. Он много чего про нее знал. Порой подумывал, что, если б записать все, что он про нее узнал или слышал, хватило бы на несколько банковских бланков самого крупного формата. Но, зная все это, он продолжал считать, что ничего существенного не знает. И в 1942 году в Майапуре так считал не только мистер Говиндас.
Взять хотя бы ее возраст. Сколько ей может быть лет? Под монашескими складочками, сборочками и разлетающимися крыльями крахмального чепца ее лицо (иные называли его непроницаемым) непрерывно жило в каком-то стерильном благостном сиянии. Руки были руки женщины, привыкшей руководить работой других. Время их почти не коснулось. На безымянном пальце было одно-единственное кольцо — золотой венчальный ободок. Шею охватывала стойка крахмального белого нагрудника, прикрывавшего грудь и плечи. Глаза у нее были темные, глубоко посаженные, скулы немного выдающиеся — возможно, признак венгерской крови. Голос под стать глазам, тоже темный и глубокий. По-английски она говорила свободно, но с отрывисто резкими интонациями, на хинди — как базарная торговка. Англичане, говорит мистер Говиндас, утверждали, что в ее английской речи слышен немецкий акцент. Кто-то уверял, что у нее есть два паспорта: британский и французский. От роду ей давали лет пятьдесят — может быть, на пять лет больше или меньше.
Забрав свои двести рупий и спрятав их в кожаный мешочек на поясе, сестра Людмила прощалась с мистером Говиндасом, благодарила его за то, что проводил из своего кабинета до самой входной двери, и пускалась в обратный путь в сопровождении очередного юноши, который провел те десять-пятнадцать минут, что заняло получение денег, сидя на корточках у подъезда и судача с теми, кто тоже кого-нибудь ждал или просто проводил время. Разговоры между телохранителем и его случайными собеседниками носили достаточно непристойный характер. Их интересовало, приглашала ли уже его сумасшедшая белая женщина к себе в постель и когда именно он намерен сбежать с деньгами, для охраны которых его наняли. Шуточки были беззлобные, но за ними звучала нотка черной опасливости. На взгляд здорового человека, занятия сестры Людмилы были очень уж тесно связаны со смертью.
* * *
Из майапурского отделения Имперского банка под аркадой Виктория-роуд, главного торгового центра европейской части города, путь сестры Людмилы обратно в «Святилище» лежал через евразийский квартал, мимо миссионерской церкви, через железнодорожный переезд, где ей, так же как мисс Крейн, с которой она здоровалась кивком, но никогда не разговаривала, иногда приходилось ждать, пока откроют шлагбаум, прежде чем ступить на забитый пешеходами и повозками Мандиргейтский мост. Перейдя через реку, она задерживалась перед храмом Тирупати и оделяла милостыней нищих и прокаженного, который сидел там на земле, скрестив ноги, выставив для обозрения розовые пятна на зараженном теле и поднятые руки, подобные обрубленным сучьям. На этом берегу реки солнце палило еще немилосерднее, еще въедливее проникало повсюду, словно в тени запахи бедности и грязи пропадали бы зря. Краски теряли свою яркость, свою удивительность. На уровне земли от спектра оставалась лишь гамма истомленных серых и желтых тонов. Даже алый цветок в косах женщины, не смягченный зеленым фоном, казался побуревшим от зноя. Здесь белый крахмальный чепец сестры Людмилы напоминал доисторическую птицу, чудом ожившую, плывущую над толпой, видную издалека.
После храма улица разветвляется на две более узкие. На развилке священное дерево осеняет алтарь, коров, жующих жвачку, стариков и женщин, зажимающих пальцами ноздри. В начале улицы, уходящей вправо, к тюрьме, на кино «Маджестик» (теперь, как и тогда) афиши рекламируют фильм по «Рамаяне». Левая улочка уже, темнее, она ведет мимо открытых лавчонок на базар Чиллианвалла. По этому проулку в давно минувшие дни шла сестра Людмила, а за ней шагал юноша, а по бокам, заскакивая вперед, бежали ребятишки в надежде, что им перепадет хоть анна. Она шла, держась очень прямо, прижимая к себе двумя руками запертый мешочек, не внемля выкрикам лавочников, предлагавших на продажу бетель, ткани, содовую воду, дыни или жасмин. В конце проулка сворачивала влево и входила на базар через пролом в высокой бетонной стене.
Посередине рынка расположены мясные и рыбные ряды — обширные помещения с бетонным полом, крытые листами рифленого железа на бетонных столбах. На воздухе, вдоль наружных стен, женщины разложили на циновках многоцветные овощи и пряности и сидят над ними с весами в руках — зоркие, без повязок на глазах воплощения грошового правосудия. Купив у одной из них зеленого перца, сестра Людмила пересекала обнесенную стеною площадь к другому выходу. Здесь она поднималась по шаткой деревянной лестнице на второй этаж дома — видимо, бывшего склада, — фасад которого в этом месте образует часть бетонной ограды базара. На фасаде — вывеска синими буквами по грязно-белому фону: «Ромеш Чанд Гупта Сен, подрядчик». Телохранитель оставался ждать внизу, опять усаживался на корточки выкурить «бири»[13], раздосадованный непривычной задержкой на пути домой. Через десять минут сестра Людмила появлялась, спускалась по лестнице и, выйдя с базара, вступала в новый лабиринт проулков и проходов между старых мусульманских домов, — вверху окна, закрытые ставнями, внизу закрытые двери, — и вдруг дома расступались, и начинался пустырь с разбросанными по нему (тогда, как и теперь) лачугами неприкасаемых. Позади лачуг — стоячий пруд, на дальнем берегу которого разложены на просушку длинные сари и черно-серые лохмотья — достояние женщин, темнокожих, босых, в дешевых браслетах, что стоят по пояс в воде, моются сами и стирают свою одежду. Если не считать трех деревьев, место это совершенно пустынное, унылое. Вороны с пронзительными криками, хлопая крыльями, улетают в сторону реки — отсюда ее не видно, но запах ее слышен и присутствие можно угадать, потому что пейзаж впереди словно обрывается, а потом появляется вновь, уже в отдалении. На том берегу — железнодорожные склады и конторы. Дорожка, по которой идет сестра Людмила, следует извилистому руслу реки и приводит к проходу в развалившейся стене, окружающей какой-то участок. На участке стоят три низких одноэтажных дома, реликвии начала девятнадцатого века, когда-то заброшенные, но потом кое-как залатанные и оштукатуренные, белые, безмолвные, деловитые и много позже дополненные четвертым зданием, вполне современного вида. Это и есть «Святилище», только теперь оно переименовано.
* * *
Сестра Людмила? Сестра? (Пауза.) Забыла. Нет, помню. Облачись в одежды скромности, сказал Он. И я послушалась. Тот священник, что приходил, очень сердился. Я его прогнала. Когда он ушел, я спросила Бога, правильно ли поступила. Он сказал, правильно и мудро. И засмеялся. Он любит хорошую шутку. Если уж Бог не знает веселья, где уж нам-то возвеселиться? Вон какие постные лица мы строим. Хоть бы раз улыбнулись, когда молимся. Как принять мысль о Вечности, если на небесах не разрешают смеяться? И плакать не разрешают? Разве не нашей способностью смеяться и плакать измеряется наша человечность? Неважно. Ведь вы не за этим пришли. Я вас и не поблагодарила. Ну, хоть с запозданием, а благодарю. В последнее время гостей у меня бывает мало, а тех, что бывают, я не вижу. После их ухода Он мне их описывает. Мне жаль твоего зрения, говорит Он, но поделать ничего не могу, раз ты не желаешь чуда. Нет, говорю, спасибо, чуда мне не нужно. Я привыкну, и Ты, наверно, мне поможешь. Вообще-то, когда проживешь столько времени на свете и еле-еле ковыляешь с палками, а почти, весь день лежишь в постели, от глаз тебе не много проку. Тут нужно бы сразу три чуда — для глаз, для ног и чтоб помолодеть на двадцать лет. Три чуда для одной старухи! Не жирно ли будет. А кроме того, сказала я, чудеса нужны, чтобы убеждать неубежденных. Ты думаешь, я что, неверующая?
Интересно будет, когда вы уйдете, узнать, кто вы есть и какой вы с виду. Вернее, каким вы показались Ему. Без собственного зрения даже легче. Чувствуешь себя ближе к Богу. Забавно, как описывают минувший день сначала кто-нибудь из здешних работниц, а потом Он. Они говорят: «Сегодня идет дождь, сестра. Слышите, как стучит по крыше?» А Он — «Нынче было жарко и сухо» — это когда они уйдут и я помолюсь, призывая Его. Он всегда приходит в ответ на мою молитву. Как бы ни был занят, всегда найдет время зайти перед тем, как мне уснуть. А говорит все больше о прежних временах. Нынче, в жару и сушь, ты ходила в банк, говорит Он, ты ведь помнишь? Помнишь, какое испытала облегчение, когда мистер Говиндас взял твой чек и отдал клерку, а клерк принес двести рупий? Помнишь, как благодарила Меня? Ты сказала, благодарение Богу, платежи не прекратились, но так, что только Я слышал. И вспомнила давние дни в Европе и как твоя мать сказала: «Платежи прекратились. Что же мне теперь, умирать с голоду? Разве я не рождена для роскоши?» Я любила свою мать. Она была красавица. Когда ей везло, она давала деньги сестрам. Они потому так одеты, сказала она в ответ на мой вопрос, что это одежды скромности, которые Бог повелел им носить.
Однажды сестры прошли мимо. Сестра, сказала моя мать одной из них, вот вам, для бедных. Но они не остановились. Мать окликнула их. Ей в ту неделю привалила удача. Помню, она мне так и сказала: на этой неделе мне привалила удача. Она купила нам перчатки и хорошего мяса. Она хотела дать сестрам денег, но они прошли мимо. Она крикнула им вслед: «Разве не все мы игрушки случая? Разве одна монета чище другой?»
Вы понимаете… Да, понимаете. Это, про что я рассказываю, было в Брюсселе. Я помню, там была хорошая квартира, а потом другая, бедная. Скоро мы вернемся в Санкт-Петербург, говорила мать, а иногда говорила, что мы вернемся в Берлин, а иногда что в Париж. Я недоумевала, где же мы живем по-настоящему, где наш дом. Житье наше было какое-то временное, даже шестилетний ребенок это чувствовал. С тех пор я всегда это чувствую. Я на шесть лет старше века. Это было в 1900 году. Помню, как мать сказала: «Сегодня первый день нового века». Это мне показалось очень интересно. У нас были перчатки, и теплые пальто, и крепкие башмаки. На улицах еще пахло Рождеством. На всех лицах я читала удовольствие от того, что вот начался новый век. Мать сказала: «Этот год у нас будет везучий». Ах, это тепло, когда руки в перчатках! И наши уютные отражения в витринах! Мать наклонилась ко мне и шепотом обещает что-то хорошее, пальцем в перчатке показывая за стеклом коробку цукатов в гнездышке из кружевной бумаги. Какой-то господин в шубе с меховым воротником приподнял шляпу. Мать поклонилась. Мы пошли дальше по людной улице. Там был еще парк и замерзшее озеро, и с лотка продавали жареные каштаны. Может, это была другая зима, в другом городе. Все то чудесное, что случалось со мной в детстве, словно спрессовалось и вспоминается так, как будто случилось в тот первый день нашего везучего нового века, после теплого, сытого Рождества, когда господин, который курил сигару, подарил мне куклу с льняными локонами и ярко-голубыми глазами. А все, что случалось плохого, связалось с тем днем, когда сестры не приняли от матери подаяния. Я тогда, наверно, была постарше. Скорее всего, это было во время бедной квартиры. На те деньги, от которых отказались сестры, мать купила мне ячменного сахара и засахаренного миндаля. Я смотрела, как она дает продавцу нечистые деньги и берет взамен пакеты. Я боялась этих сластей, потому что они куплены на деньги, от которых отказались сестры, все равно как если бы от них отказался Бог, — мне казалось, что сестры лично с ним знакомы. Почему они так одеты? И мать ответила — потому что Бог повелел им носить одежды скромности. На всем, что делали сестры, лежала печать Его веления. Я не совсем понимала, что значит нечистые деньги, но, раз сласти куплены на них, значит, и сласти нечистые, и перчатки матери тоже. Значит, и моя перчатка станет нечистой, раз она держит меня за руку, и грязь просочится сквозь мягкую замшу ко мне в ладонь. Но хуже всего было чувство, что Бог не хочет иметь с нами дела. Сестры — его орудие. Он использовал их, чтобы от нас отвернуться.
А потом мне внезапно открылась правда! Как я могла так ошибиться! Как же Он разгневается на них за то, что отказались взять у моей матери деньги! Я не была уверена, как понимать слово «скромность», но если Он когда-то был вынужден повелеть им носить ее одежду, значит, сделал это не из милости, а в наказание. Это одежда покаяния, а не только скромности. В чем они провинились? И какие страшные одежды Он повелит им носить теперь, чтобы еще раз их наказать? Они отказались взять деньги. Деньги были для тех, кому Бог велит помогать, — для бедняков, для голодных. А до чего же бедны и голодны эти люди, если они беднее нас и голодны с утра до ночи? И сестры, расхаживая по улицам в одеждах, надетых за прежние грехи, обрекли этих бедняков на еще горшую бедность и голод. Что же Он теперь, сделает им красные отметины на лбу, чтобы бедняки, завидя их, не подходили близко? Или придумает им такую одежду, что они и сунуться на улицу не посмеют, будут бояться, что их засмеют или забросают камнями? Я вцепилась в руку матери и спросила: «Мама, что Он с ними сделает?» Она посмотрела на меня удивленно, не понимая, о чем я, и я повторила: «Что Он сделает? Что Бог еще сделает с сестрами?» Она не ответила, но пошла дальше, крепко держа меня за руку. Нам встретилась нищенка. Я остановилась и сказала: надо дать ей ячменного сахара. Мать засмеялась и дала мне монетку. Я вложила ее в грязную руку старой нищенки. Она сказала: «Благослови тебя Бог». Я испугалась, но у нас были хорошие башмаки, и перчатки, и теплые пальто, и благословение Божие, и мы загладили то, в чем сестры перед Ним провинились. Дома будет топиться камин, и можно будет есть ячменный сахар и засахаренный миндаль. Я спросила: «Это и есть наш везучий год?» Впервые я почувствовала, что понимаю, что значит везенье. Это когда на сердце тепло. Вдруг оказывается, что улыбаешься, а чему улыбаешься, уже не помнишь. На лице моей матери я часто видела такую улыбку.
* * *
Святилище? Да, оно изменилось. Теперь это приют для сирот. Есть новое здание и совет индийских благотворителей. Мало кто теперь помнит старое название — «Святилище». Милостью Божией мне разрешено здесь остаться, дожить мои дни в этой комнате. Дети иногда подходят к окну, заглядывают, им и страшно, и интересно посмотреть на старуху в постели. Я слышу, как они шепчутся, и представляю, как они прихлопывают рот ладошкой, чтобы заглушить смех. Слышу, как их зовет няня, как улепетывают по двору босые ноги, а потом вдали звучат веселые крики, и я знаю, что они уже забыли, какое захватывающее и смешное зрелище только что видели. Есть там одна маленькая девочка, она приносит мне ноготки с кисло-сладким запахом, стебли и листья у них немного липкие на ощупь. Родители ее умерли от голода в Танпуре. Она их не помнит. Я ей рассказываю «Рамаяну» и сказки Ханса Андерсена и словно вижу ее широко раскрытые, удивленные глаза, устремленные в мир легенд и фантазий, в реальность, из которой вырастают иллюзии. Слепота — это благо для старых людей. Теперь я благодарю за нее Бога. Было время, когда я плакала, ведь я всегда любила смотреть на мир, но я спешила утереть слезы и не докучала Ему своим горем, а когда Он входил в комнату и жалел меня, улыбалась и говорила: «Удачи Тебе! Мир, который Ты сотворил, — чудесное место. А как там на небесах?» «Да что ж, сестра Людмила, — отвечал Он, — так же, как и здесь». Он теперь так меня называет в память прежних времен, или, может, Ему так нравится. Я как-то спросила: «Я прощена?» А Он: «За что?» За то, что называю себя Сестра, и Ему позволяю так меня называть, и ношу одежды скромности. А он мне: «Вот еще глупости. Брось, вообрази, что сегодня среда, день был сухой и жаркий, и мистер Говиндас уплатил по твоему чеку. К чему бы мистеру Говиндасу так поступать? Он ведь, сама знаешь, важная особа».
Но вы не об этом пришли говорить. Простите меня. Позвольте только слепой старухе сказать вот что. Ваш голос — голос человека, для которого слово «Бибигхар» не пустой звук, не обозначение судебного дела, которое можно начать в таком-то часу и закончить в такой-то день. И еще одну вещь позвольте сказать. Вам вещественных доказательств мало, вы понимаете, что у исторического события нет ни определенного начала, ни четкого конца. Время как будто сжимается — я понятно говорю? Время сжимается, пространство накладывается само на себя, да? Как будто Бибигхара еще не было, а вместе с тем он был, так что прошедшее, настоящее и будущее одновременно держишь в ладонях. Дорога, которой вы сюда шли, ворота, в которые свернули, здания, которые увидели здесь, в Святилище, — для меня, хоть теперь здесь и стоит новый, четвертый дом, это та же дорога, которой я ходила, те же здания, куда вернулась, когда принесла в Святилище бесчувственное тело юного мистера Кумера. Кумер. Гарри Кумер. Иногда его писали Кумар. А вместо Гарри — Гари. Он был черноволосый, смуглый до черноты, порождение мрака. Красивый. Такие мускулы. Я видела его без рубашки, когда он мылся у колодца. Старый колодец. Теперь его нет. Но вы можете вообразить, где он был — под фундаментом нового дома, мне его люди описывали, он выглядит как одна из фантазий Корбюзье.
…а в прежние дни, до Корбюзье, только колодец, и юный Кумар моется наутро после того, как лежал замертво на пустыре у реки, а мы нашли его и принесли домой на носилках. Мы всегда брали с собой носилки в эти ночные походы. Когда мы его принесли, мистер де Соуза осмотрел его и сказал смеясь:
— Ну, этот просто пьян. Сколько лет я с вами работаю, сестра, и все думал: когда-нибудь не миновать нам положить на носилки и притащить домой никому не нужное тело какого-нибудь пьянчуги! Де Соуза. Это имя вы еще не слышали? Он был из Гоа. В нем была португальская кровь от каких-то дальних предков. В Гоа каждая вторая семья — де Соуза. Он был совсем черный, темней Кумара. Вам такое произношение больше нравится? Ну что ж. По разговору-то он был скорее Кумер. Но по виду — никак. Да и звался он по-правильному Кумар. Один раз он сказал мне, что стал невидим для белых. Но я видела, как белые женщины исподтишка на него поглядывали. Он был красив на западный лад, несмотря на свою темную кожу.
И с полицией было так же. Полицейский тоже его видел. Я этого полицейского всегда недолюбливала. Блондин, тоже красивый, тоже с мускулами, руки красные, в светлых волосках, а глаза голубые, как у куклы. На вид ничего, но чем-то неприятный. Я много разных людей повидала и сразу это учуяла. «А это кто, спросил он, тоже ваш помощник, тот малый, что моется у колодца?» Это было в то утро, когда он приезжал в Святилище, за полгода до истории в Бибигхаре. Полиция разыскивала какого-то человека. Не просите меня вспомнить, какого и в чем его подозревали. Выпустил листовку, подстрекал рабочих бастовать или бунтовать, воспротивился аресту, убежал из тюрьмы — не знаю. Британские власти делали что хотели. Провинция опять была под началом губернатора, потому что кабинет Конгресса ушел в отставку. Вице-король объявил войну. А конгрессисты сказали: нет, мы войну не объявляли, — и вышли из правительства. Преступление могли усмотреть в чем угодно. К тюремному заключению приговаривали без суда. Даже лавочникам под страхом наказания было запрещено закрывать лавки в неположенное время. Сейчас, когда слышишь такие вещи, или читаешь про них, или думаешь, поверить в них невозможно. А тогда было не так. И всегда не так.
Ну так вот, этот Меррик, этот полицейский с красными волосатыми руками и голубыми кукольными глазами, стоял и смотрел, как Кумар моется у колодца, позже-то я видела, другие тоже на него так смотрели. Я тогда не оценила. А если б и оценила, что бы я могла? Предусмотреть? Вмешаться? Так устроить, чтобы через полгода в Бибигхаре не случилось несчастья?
Для меня Бибигхар начался в ту ночь, когда мы нашли Кумара на пустыре у реки. Неподалеку были лачуги отверженных, но время было позднее, нигде ни огонька. Мы по чистой случайности на него набрели, когда возвращались с ночного обхода — шли с базара мимо храма Тирупати и берегом реки, так что подошли с другой стороны к тому пруду, где женщины из неприкасаемых стирают свою одежду, вы их, наверно, видели, когда шли сюда. Мы всегда ходили так, попробуйте вообразить: впереди мистер де Соуза с фонарем, потом я, а за мной парень с носилками на плече и толстой палкой в свободной руке. На нас только один раз напали и тут же пустились наутек, потому что парень отшвырнул свою палку и бросился на них, крутя над головой сложенные носилки, точно невесомую игрушку. Но тот парень был хороший. Когда несли носилки, им приходилось тяжелее всего, и обычно через месяц эта работа им надоедала; а когда такой парень заскучает, ему недолго бывало свернуть на дурную дорожку. Я никогда не обещала им работу больше чем на четыре-пять недель. К концу этого срока начинала высматривать другого, из тех, что шатались по базару, крепкие, только что из деревни или какого-нибудь захолустья, они приходили в город искать работы, воображали, что здесь богатство для всех найдется, только попроси. Иногда такой парень подходил ко мне — кто-то сказал ему, что есть легкий заработок у помешанной белой женщины, которая по ночам подбирает мертвых и умирающих. Бывало, что предыдущий парень приревнует к новому и наговорит на него чего не следует, но обычно он бывал рад освободиться — с горстью денег в кармане и с рекомендательной запиской, восхваляющей его за честность и трудолюбие. Одни, насмотревшись на солдат в казармах, записывались в армию, другие шли в услужение к офицерам, один попал в тюрьму, а один — в столицу провинции, и стал полицейским. Полиция часто заглядывала в Святилище. Того парня, что поступил к ним на службу, пленили мундиры и властный вид. В деревнях-то констебли из местных. Те в глазах молодежи не так блистательны, как здешние, городские. Иные из этих мальчиков присылали мне потом письма, рассказывали о своем житье. Эти письма всегда меня трогали, ведь мальчики все были неграмотные и, значит, недешево заплатили писцу, чтобы послать мне несколько строк. Только раз один из них вернулся в Святилище попросить денег.
Мы шли в темноте. «Эй, — крикнула я мистеру де Соузе, — посветите-ка фонарем вот сюда, в канаву». В то время глаза у меня были зоркие, как ни у кого. Я знала каждый шаг на дороге — где должна быть кочка, а где тень, а где ни того ни другого. Некоторые картины живут в памяти много лет, вместе с тем чувством, которое у вас тогда появилось. Иногда сразу чувствуешь, что именно вот эта картина из сотен, которые видишь каждый день, останется с тобой навсегда. Думаешь — ага, это я запомню. Впрочем, нет, не совсем так. Этого не думаешь, это ощущение — ощущаешь это как непонятную перемену температуры, и только потом, через какое-то время, когда ощущение уже забылось, думаешь — это я наверняка запомню. Вот так, понимаете, было в ту первую ночь с Кумаром. Его лицо в свете фонаря, а мы оба в канаве, на коленях. А над нами парень со сложенными носилками через плечо, юный великан, черный на фоне звезд. Я, наверно, подняла голову, когда просила его приготовить носилки. От реки очень сильно пахло. В тихие ночи, когда земля остыла, вода еще долго остается теплой, и запах у берега очень сильный. Когда ветрено, запах долетает и до Святилища. От храма ниже по течению — то место, которое отведено неприкасаемым. Здесь они, если им нужно, входят в реку, не осквернив той воды, в которой купаются индусы высших каст, только она, конечно, уже осквернена в других городах, выше по течению от Майапура. На пустыре, где мы стояли на коленях в канаве, запах реки мешался с запахом нечистот. Там на рассвете неприкасаемые испражняются. Унылое место, если нет на тебе благословения Божьего. Бедный Кумар. Лежал там, в этом страшном месте, где попрано все человеческое. В Индии люди умирали, и теперь умирают, без крыши над головой, потому что нет помощи, нет пристанища, нет уважения к достоинству смерти.
«Кто это, мистер де Соуза?» — спросила я. С этого мы всегда начинали. Он знал многих людей. Это был первый шаг в деле опознания. Иногда он знал. Иногда знала я. Иногда — помощник с носилками. Например, это мог быть человек заведомо голодающий или умирающий от какой-нибудь болезни, и он не хотел ни идти в больницу, ни сам попроситься в Святилище, или родные у него все умерли или неизвестно куда девались, и он уже ничего не хотел в этой жизни, а только уповал на более счастливое перевоплощение или на забвение, которому нет конца. Но обычно мы знали, где найти таких людей, и мужчин, и женщин, и наступала ночь, когда их можно было положить на носилки, уже сломленных, не перечащих, и унести в Святилище. За плату жрецы-брахманы брали на себя заботу о том, чтобы как нужно распорядиться ими после смерти: индуисты забирали у нас своих покойников, мусульмане — своих, и государство — своих. Государство забирало тех, кого мы нашли при смерти и не сумели опознать. Этих увозили в морг и, если в течение трех дней никто за ними не являлся, передавали студентам при больницах. Каждое утро в Святилище являлись женщины, чьи мужья, сыновья, а иногда, наверно, и любовники не вернулись домой накануне вечером. А иногда являлась и полиция. Но это меня не касалось. Этим ведал мистер де Соуза. Я занималась не мертвыми, а умирающими. Для мертвых я ничего не могла сделать. А для умирающих — то немногое, чего ни я, ни сестры не смогли дать моей матери: чистая постель, рука, за которую подержаться, слово, что проникнет сквозь толщу забытья и согреет холодный комочек — остатки отлетающей души.
«Кто это?» — спросила я мистера де Соузу. Он был сердечный человек и талантливый, в прошлом католик, и от Святилища ничем не пользовался, кроме постели, еды и одежды. «Не знаю», — ответил он. Потом перевернул Кумара, посмотреть, нет ли у него ран на спине. Когда мы нашли его, он лежал на боку, обычно пьяные так не лежат. Дело в том, что кто-то нас опередил, обчистил его карманы — наверно, увидел из какой-нибудь лачуги, как он шатаясь бредет берегом, а теперь, завладев его бумажником, вернулся к себе, погасил свет и притворился спящим. В лачугах стояла неестественная, тревожная тишина.
И мы перевернули Кумара обратно на спину, опять осветили его лицо. Вот это я и помню. Эту картину. Лицо не изменилось даже после того, как тело перевернули раз и другой раз. Глаза закрыты, черные волосы вьются надо лбом, а лоб словно хмурится гневно, хоть сознание и выключено. И какой решительный протест! В те дни такое выражение можно было увидеть на лицах многих молодых индийцев. Но у Кумара оно было разительное. Мы положили его на носилки. Я опять пошла впереди. Мы принесли его сюда, в эту самую комнату, где я сейчас лежу, а вы сидите. Здесь тогда была контора мистера де Соузы. А у меня была комната в доме рядом, где была больница, там теперь изолятор для детей. А здесь, в этой комнате, мистер де Соуза тогда склонился над юным Кумаром и вдруг рассмеялся. «Этот просто пьян, сестра. Я ждал этого все те годы, что с вами работаю, ждал того дня, когда окажется, что мы притащили сюда никому не нужное тело пьянчуги».
— Этот, — сказала я, — совсем еще мальчик. Раз он так пьян, то, наверно, очень несчастлив. Пусть лежит.
И он остался лежать. Перед тем как лечь самой, я за него помолилась. Я каждый вечер брала с собой в сон воспоминание о лице кого-нибудь из спасенных нами, и мне было приятно, что для разнообразия это будет лицо очень молодого человека, не умирающего, не обезображенного. Мы ведь, знаете, бывали в таких местах, куда и полиция опасалась заглядывать, а потому иногда приносили сюда людей избитых и раненых. В таких случаях мы давали знать в полицию. А иногда они являлись по собственному почину, вот как в то утро после того, как мы принесли Кумара. Но сам начальник полиции до этого еще ни разу у нас не бывал. Приди он днем раньше или днем позже, никакого Бибигхара могло бы не быть. Тогда вы могли бы сказать «Бибигхар», и я бы вспомнила только, что это развалины дома и сад — и никаких ужасов. Но он явился как раз в тот день, этот Меррик, краснорукий, в рубашке с короткими рукавами, а в голубых глазах ясность, старание ничего не упустить, безумие, твердая решимость найти доказательство. Но чего? «Мне нужно, — сказал он, — повидать женщину, которая называет себя сестра Людмила».
А мистер де Соуза ответил: «Это мы ее так называем». Мистер де Соуза никого не боялся. Я находилась вон там, в соседней комнатке, туда теперь убирают детскую одежду, книги, тетрадки, игры, и резиновые мячи, и клюшки для крикета, а в те времена мы там хранили под замком самые ценные лекарства доктора Гулаба Сингха Сахиба, и в сейфе — деньги, которые я каждую неделю получала в майапурском отделении Имперского банка, от этого сейфа у мистера де Соузы тоже был ключ. Спал он здесь, где я сейчас лежу, конторка его была где вы сидите, а большой стол вон там у окна, где детишки стоят, под лампочкой, которая теперь уже не бьет мне в глаза. Туда мы ставили носилки. Иногда мы за ночь выходили не один раз, а больше. И там этот Меррик стоял в ту среду рано утром. Я отпирала сейф достать денег и чековую книжку и в открытую дверь услышала, как он сказал: «Мне надо повидать женщину, которая называет себя сестра Людмила».
«Это мы ее так называем, — сказал мистер де Соуза. — Сейчас она занята. Могу я чем-нибудь быть полезен?» Мистер Меррик сказал: «А вы кто такой?» Мистер де Соуза улыбнулся, я это по его голосу услышала. «Я никто. Недостоин вашего внимания». В полицейском протоколе эти слова могли бы показаться заискивающими. А я в них уловила вызов. Вошла в комнату и сказала: «Не беспокойтесь, мистер де Соуза». И увидела Меррика. Он стоял с тросточкой, в шортах и в рубашке с короткими рукавами, с кобурой на поясе и с револьвером в кобуре и сверлил нас своими голубыми глазами. Он сказал: «Миссис Людмила Смит?» Я поклонилась. Он сказал: «Моя фамилия Меррик. Я начальник полиции округа». Я это и так знала, видела, как он верхом командовал полицейскими, которые разгоняли толпы на улицах во время праздников, и как проезжал на своем грузовике по Мандиргейтскому мосту. С ним был Раджендра Сингх, младший инспектор, который брал взятки и крал часы у тех, кого арестовывал. Такие часы и сейчас были у него на руке. Дорогие, дороже, чем у мистера Меррика, но, пожалуй, не такие удобные. Индийцы всегда любили все кричащее, а англичане — все простое, практичное. Но в мистере Меррике ничего простого не было. Он работал наоборот, как часы, если завести их не в ту сторону, так что для тех, кто это знал, он в полдень показывал полночь. Может, никто не смог бы перехитрить судьбу, устроить так, чтобы Кумар и Меррик никогда не встретились. Но мне жаль, что это случилось здесь, хотя и это, наверно, было суждено, начертано на стене, еще когда я впервые пришла сюда, увидела эти ветхие дома и решила, что они мне подойдут.
«Чем я могу вам помочь?» — спросила я и жестом отпустила мистера де Соузу, зная, что это понравится Меррику. Но кроме того, это подтверждало, что хозяйка здесь я. В белом чепце, в одеждах скромности. Под стать Меррикову мундиру. Жизнь женщины — это хорошая школа. Нужно усвоить правила, неписаные законы, мелкие лазейки в лабиринте бюрократизма. Я предложила мистеру Меррику стул мистера де Соузы, но он остался стоять. Сказал, что должен произвести обыск. Я, опять-таки жестом, выразила согласие или, вернее, понимание того, что возражать не стоит труда, что хлопотное дело — это обыск как таковой, что затрудняет он, Меррик, только себя, зря тратит время. Я даже не спросила, что или кто его интересует. Много чего можно было бы сказать в таких обстоятельствах. И я многое могла бы сказать, не будь у меня опыта по части официального вмешательства. А он был не глуп. Он посмотрел на меня и взглядом дал понять, что сразу уловил, почему я не возражаю. Он догадался, что мне нечего скрывать такого, что я сама бы знала, но догадался и о том, что я — женщина, которой в жизни помогал не столько разум, сколько случай, но, возможно, так будет не всегда.
«Так с чего мы начнем?» — спросил он, и я ответила, что это на его усмотрение. Когда мы вышли во двор, я увидела у ворот его грузовик и рядом констебля, а потом, когда мы осмотрели первые два дома и шли к третьему, я помню, как увидела Кумара: он стоял без рубашки у колодца и, пригнув голову, мылся под струей. Он выпрямился. От нас до него было ярдов сто. Он оглянулся. И мистер Меррик застыл на месте. Впился в него глазами, спросил: «А это кто? Тоже ваш помощник?» И все не сводил с него глаз. Я подозвала мистера де Соузу, который шел за нами следом. «Он провел у нас ночь, — сказала я Меррику, — может быть, мистер де Соуза знает его имя». Понимаете, я тогда еще не разговаривала с Кумаром, а де Соуза утром успел мне только сказать, что малый в порядке, но хмель у него еще не прошел, беседовать он не расположен, не чувствует особой благодарности за то, что его доставили в Святилище, и имени своего пока не сообщил. Я подумала, что, может быть, пока мистер Меррик производил обыск, де Соуза подошел к мальчику и сказал: «Послушай-ка, здесь у нас полиция, кто ты такой?» — и тот ответил.
«Мистер де Соуза, — спросила я, — этот малый, который провел у нас ночь, он…», и де Соуза ответил равнодушно: «Как видите, он теперь в порядке и собирается уходить». «Никто отсюда не уйдет, пока я не разрешу», — сказал Меррик, не мне, а младшему инспектору, очень умно, чтобы открыто не вступать с нами в спор. «Значит, мы все арестованы?» — спросила я, но спросила смеясь и дала понять, что, даже если я арестована, я хочу вести его к третьему дому. Он улыбнулся и сказал, что, как я, наверно, догадалась, они кого-то ищут, и пошел со мной и с мистером де Соузой, а младшего инспектора оставил во дворе, сделал ему какой-то знак, чтобы дальше не шел и приглядывал за Кумаром. Дойдя до третьего дома, Меррик остановился на крыльце и обернулся, и я тоже. Мальчик продолжал плескаться. Младший инспектор стоял все там же, расставив ноги, руки за спиной. Я взглянула на Меррика. Он тоже смотрел на мальчика. Они образовали треугольник — Меррик, Кумар, Раджендра Сингх, на равных расстояниях друг от друга. Получался какой-то чертеж, какое-то опасное геометрическое расположение фигур. «Это здание, где мы находимся, — сказал Меррик, не глядя на меня, все еще глядя на Кумара, — кажется, известно под названием „дом смерти“»? Я засмеялась, сказала, что да, люди, которые никогда не бывали в Святилище, кажется, так его называют. «Там и сегодня есть мертвые?» — спросил он. «Нет, сегодня нет. Уже несколько дней не было». — «А бездомные?» — «Нет, бездомных я не принимаю». — «А голодающие?» — «Голодающие знают, в какие дни дают рис. Сегодня риса не будет». — «А больные?» — «В амбулатории прием только вечерний. К нам приходят только те, кому не по средствам пропускать утреннюю или дневную работу». — «А ваше медицинское образование?» — «Амбулаторией ведает мистер де Соуза. Он отказался от платной врачебной работы, чтобы работать у меня задаром. К нам заходят чиновники из медицинского управления муниципалитета, они одобряют нашу деятельность. Вам, как начальнику полиции, это должно быть известно». — «А умирающие?» — «Нам оказывает добровольную помощь доктор Кришнамурти и еще доктор Анна Клаус из Женской больницы. Я, конечно, могу предъявить вам документ на право владения землей и домами».
— Занятная система, — сказал мистер Меррик.
— Скажите лучше — занятная страна.
Мы вошли в третий дом. В одной комнате у нас там было шесть кроватей, в другой четыре. В голодные годы они всегда были заняты. И в год холеры тоже. Но тогда не было ни повального голода, ни вспышки холеры. И все-таки редко выдавалась неделя, чтобы две-три кровати не были заняты. А в то утро они все пустовали. Белые простыни так и сверкали. Он ничего не сказал, но как будто удивился. Такая чистота. Такой комфорт. Как, для умирающих? Голодных, немытых? К чему это? Стоит пройтись по базару, и найдутся кандидаты на все койки, да такие, которым это пойдет на пользу, которые выздоровеют. На тех, кого можно вылечить, общество имеет законное право. Он как будто хотел что-то сказать, но передумал. Святилище явно было выше его понимания. Он еще не додумался до того, что в этой столь практично организованной цивилизации была лишь одна услуга, которую я могла оказать, — услуга, для которой в такой стране, как Индия, у официальных лиц не хватало ни времени, ни сил. Услуга, которую такая женщина, как я, могла оказать, потому что у нее были ненужные ей, незаработанные, незаслуженные рупии. Ведь в нашей жизни, пока живешь, нет достоинства, кроме как в смехе. Когда человек от роду не видел ни от кого пощады и сам не давал пощады, пусть хоть тут ощутит свое достоинство. Пусть покинет этот мир в чистоте и в душевном покое, насколько его могут обеспечить чистота и комфорт. Не так уж это и много.
Может быть, смутно, в глубине души, Меррик и понимал, что это за комната, в которой он стоит в своих шортах и легкой рубашке, с кобурой на поясе. Он посмотрел на пол, натертый до блеска, а потом по-детски откровенно перевел взгляд на мои руки. Да, они всегда были мягкие и белые. «Кто здесь работает?» — спросил он. «Всякий, кто хочет заработать несколько рупий». К чему мне было делать черную работу самой, когда на мои незаработанные, незаслуженные рупии я могла подкормить какую-нибудь неприкасаемую. «Вы их, наверно, видели по дороге сюда, они всегда стирают там, в стоячем пруду». — «Где же эти помощники сейчас?» — спросил он. Я провела его за дом, в конец участка, где жили помощники. Там он тоже мог оценить разницу между местом живых и местом мертвых. Продымленная кухонька, глина, солома и люди, которые зарабатывали рупии и жили, на взгляд живых, в чистоте, а по сравнению с комнатами для умирающих — в страшной грязи. Он велел им всем выйти, а сам обшарил их норы и вышел с пустыми руками, убедившись, что никто там не прячется.
Потом указал тростью на людей и спросил: «Они ваши постоянные помощники?» И я объяснила ему, что постоянной работы в Святилище нет, что я нанимаю и увольняю их со спокойной совестью, чтобы побольше их могли воспользоваться моей скромной поддержкой. «А мистер де Соуза тоже непостоянный?» — спросил он. «Нет. Святилище столько же его дом, сколько мой. Он понимает, для чего оно. А этих интересуют только рупии».
«В повседневной жизни, — сказал он, — рупии не последнее дело». И продолжал улыбаться. Но у человека с кобурой на поясе улыбка всегда особого свойства. Это я во время войны в первый раз заметила, что вооруженному человеку улыбка позволяет думать о своем. Вот так было и с Мерриком. Убедившись, что «дом смерти» не таит никаких секретов, он сказал: «Значит, остается только ваш ночной гость». И опять пошел на переднее крыльцо. К этому опасному геометрическому расположению сил. На крыльце остановился, глянул туда, где стоял младший инспектор, а потом на Кумара, тот все еще не отошел от колодца, застегивал рубашку. Стоял и улыбался — это я про мистера Меррика. Потом сказал: «Благодарю вас, сестра Людмила, не буду больше отнимать у вас время», отдал мне честь, коснувшись тростью козырька фуражки, на мистера де Соузу, который стоял позади нас, даже не взглянул и стал спускаться с крыльца. И только он двинулся, как младший инспектор тоже пришел в движение. Так они с двух сторон сходились к Кумару, а он уже кончал застегивать рубашку, отворачивал манжеты. Ждал. Все видел, но не пытался отойти. Я тихонько спросила мистера де Соузу: «Кто этот мальчик?» — «Фамилия его Кумер». — «Кумер?» — «По-правильному Кумар. Кажется, он племянник Ромеша Чанда Гупта Сена, по жене». — «Ах, вот что», — сказала я и вспомнила, что слышала про такого. Но где? Когда? «А почему Кумар?» — спросила я. «Вот в том-то и дело, — сказал мистер де Соуза. — Интересно бы к ним подойти. Пожалуй, даже нужно». И мы сошли с крыльца немного позади мистера Меррика, так что услышали первые же слова, первые слова той истории, что закончилась Бибигхаром. И подошли ближе. Меррик. Голос ясный. Говорит как со слугой. Такой тон. Такие слова. Урду в устах англичанина. Tumara näm kya hai? Как зовут? И на ты. А Кумар? Вид удивленный. Разыграл удивление, которого не чувствовал. Но держался соответственно. Потому что был на людях.
«Что?» — спросил он. Это я в первый раз услышала, как он говорит. На чистейшем английском языке. Изящнее, чем Меррик. «Простите, я не говорю по-индийски». И его лицо. Темное. Красивое. Красивое на западный лад, гораздо красивее, чем Меррик. Тут младший инспектор Раджендра Сингх стал орать на хинди, что он наглец, что сахиб, который к нему обратился, — окружной начальник полиции и не дерзить надо, а отвечать, когда спрашивают. Кумар его выслушал и опять обратился к Меррику. «Этот человек, очевидно, не понял. Я по-индийски не говорю». — «Сестра Людмила, — сказал Меррик, не сводя глаз с Кумара, — есть здесь какая-нибудь комната, где мы могли бы учинить допрос этому человеку?» — «Допрос? Почему допрос?» — спросил Кумар. «Мистер Кумар, — сказала я, — это полиция. Они кого-то ищут. Их долг — опросить каждого, кого они здесь нашли и за кого я не могу поручиться. Мы принесли вас сюда ночью, потому что нашли вас в канаве и подумали, что вы больны или ранены, а вы были просто пьяны. Что же тут страшного? Разве что похмелье?» Понимаете, я хотела все сгладить, вызвать смех или хотя бы улыбку, не такую, как у мистера Меррика. «Пошли, — сказала я, — пошли в контору», и двинулась было с места, но история с Бибигхаром зашла уже слишком далеко. За эти несколько секунд она началась, и прервать ее было невозможно, потому что таков уж был мистер Меррик и таков был Кумар. Ах, если б только они не встретились! Если б Кумар не напился или мы не подобрали бы его! Если б не было того ночного шествия — я впереди с фонарем, мистер де Соуза и парень с носилками, а на носилках Кумар — тот Кумар, что теперь пришел в себя и стоит во дворе у колодца лицом к лицу с Мерриком.
«Значит, фамилия твоя Кумар, это правильно?» — спросил Меррик, а он ответил: «Нет, но сойдет и так». А Меррик опять заулыбался и сказал: «Понятно. Адрес?»
Кумар перевел взгляд с Меррика на меня, все еще разыгрывая удивление. «В чем дело? Какое он имеет право соваться?»
— Пошли, — сказала я. — В контору. И хватит глупостей.
— Пожалуй, мы не будем больше отнимать у вас время, — сказал мне мистер Меррик. — Благодарю за содействие. — И сделал знак Раджендре Сингху, а тот шагнул вперед и хотел схватить Кумара за руку повыше локтя, но отлетел в сторону. Кумар не то чтобы оттолкнул его, а как бы брезгливо от него отмахнулся. И тут еще Меррик, вероятно, мог это прекратить. Но не захотел. От Раджендры Сингха не так-то легко было отмахнуться, когда он чувствовал за собой поддержку Меррика. И он был крупнее Кумара. Он ударил его по лицу тыльной стороной руки. Удар был короткий, не очень сильный, главное — чтобы оскорбить. Я рассердилась. Закричала: «Довольно, хватит». Они опомнились. Этим я уберегла Кумара от рокового шага — дать сдачи. Я сказала: «Я у себя дома, и здесь я такого поведения не потерплю». Младший инспектор-то был трус. Он испугался, что переборщил. Когда он ударил Кумара, то схватил-таки его за руку, но тут выпустил. «А вы бросьте дурить, — сказала я Кумару. — Это полиция, отвечайте на их вопросы. Если вам нечего скрывать, так нечего и бояться. Пошли!» И опять попыталась увести их в контору, но Меррик — нет, он не хотел кончить по-хорошему. Он уже выбрал другой путь, окольный, трагический. Он сказал: «Мы, видимо, упустили тот момент, когда для начала стоило побеседовать у вас в конторе. Я беру его под стражу».
— По какому обвинению? — спросил Кумар.
— Без обвинения. Моя машина ждет. Собирай свои манатки.
— А я предъявляю обвинение, — сказал Кумар.
— Предъявишь в участке.
— Против этого, с бородой. За оскорбление действием.
— Сопротивление полиции тоже наказуемо, — сказал Меррик и обратился ко мне: — Сестра Людмила, есть ли у этого человека какое-нибудь имущество, которое следует ему вернуть? — Я посмотрела на Кумара. Рука его непроизвольно потянулась к карману. Он только теперь вспомнил про свой бумажник. Я сказала ему: «Мы ничего не нашли. Мы, понимаете, всегда осматриваем карманы на предмет опознания». Кумар промолчал. Может быть, он воображает, подумала я, что это мы его ограбили. Только сейчас, когда его рука вот так потянулась к карману, у меня не осталось сомнения, что его ограбили, когда он лежал ночью пьяный в поле, на берегу реки. Но так или иначе человек помельче воскликнул бы: «Мой бумажник!» или «Пропало! Мои деньги! Все мое достояние!» — попробовал бы отвлечь внимание от главного. Да, человек помельче выкрикнул бы что-нибудь такое — если не с этой целью, так просто от горя, от внезапной утраты, которая индийцу, по крайней мере в те времена, представлялась чуть ли не гибелью всего его тесного мирка. А Кумар был индиец. Но он промолчал. Только отнял руку от кармана и сказал Меррику: «Нет. У меня ничего нет. Только одно».
— Что именно? — спросил Меррик, улыбаясь, как будто заранее знал ответ.
— Заявление. Я следую за вами под нажимом.
И это прозвучало настолько более по-английски, чем у Меррика! Меррик и этого ему не простил. В голосе Меррика звучание было другое, выработанное заботами и честолюбием, а не воспитанием. Это была загадка. Нечто непостижимое! Особенно для меня, иностранки, знавшей англичан скорее типа Меррика, чем Кумара, и слышавшей, как они издеваются над резким, отрывистым говором власть имущих. А тут, хотя цвет кожи подсказывал обратное соотношение, застарелые обиды опять давали себя знать, и это еще обостряло конфликт. Кумар сам зашагал к воротам, где ждал грузовик. Но Меррик не выказал беспокойства. По пятам за Кумаром тут же затрусил младший инспектор. Тоже индиец. Вот так, подобрав черное к черному, он еще раз приложил трость к козырьку и поблагодарил меня за помощь и поддерживал разговор, пока я смотрела, как Кумар и младший инспектор уходят все дальше, как один догнал другого и толкал и тянул, а потом — свалка, в которой смешались Раджендра Сингх, Кумар, констебль и задняя дверца грузовика, и Кумара подтолкнули, втиснули, может быть, кулаками впихнули в машину, так что он не влез в нее, а упал. После этого младший инспектор стал ждать Меррика. «Как вы допускаете такое?» — спросила я. Я не удивилась. Только очень было тяжело. Ведь время это было трудное, страсти кипели. Мистер Меррик уже шел к машине и сделал вид, что не слышал. Он сказал что-то младшему инспектору, и тот тоже полез сзади в машину. Вот так-то. И такие вещи случались каждый день. А я в то время, понимаете, не могла бы сказать, в чем они подозревают Кумара, а тем более угадать, в чем он мог провиниться. Я только уразумела, что он до краев полон мрака, и Меррик, белый человек, тоже. Два таких мрака могут при столкновении вызвать слепящую вспышку. От такого света простым смертным остается только зажмуриться.
* * *
Спасибо, что зашли еще раз, и так скоро. Ну что, видели вы Бибигхар? Развалины дома и сад, совсем заросший, какими их любят многие индийцы? Мне говорили, что там ничего не изменилось, что и теперь еще индийские семьи устраивают там пикники и дети играют. Европейцы бывали там редко, только если вздумают поглазеть и поиздеваться и вспомнить тот, другой Бибигхар, в Канпуре. А по вечерам там никогда не бывало народу. Говорили, что там бродят привидения и даже для влюбленных это нехорошее место. Построил его индийский князь, а разорил англичанин. Ах да, простите, шотландец. Такие тонкие различия, я и забыла.
Бибигхар. Это значит «дом женщин». Там он держал своих куртизанок, этот князь. Вы видели Женскую больницу у нас в городе, в старом черном городе, как его называли? За базаром Чиллианвалла. Теперь там все застроено. Все по-новому. Но это был дворец — в те дни, когда Майапур был резиденцией местного правителя, а англичане только подступались к нему — пробовали торговать, использовать нужду, скупость, подбирали отмычку к миру, который Бог подарил им, как раковину, в которой мог оказаться жемчуг. Здесь весь жемчуг был черный. Редкостный. Бесконечно желанный. Но, чтобы добыть его, требовалось, наверно, мужество, а не только алчность. Побывайте-ка теперь в старом дворце, в Женской больнице, сами увидите, что осталось от старого здания, эту узкую галерею с крошечными, душными комнатками, куда английским купцам приходилось входить, чтобы заключать свои сделки, там, оттого что комнаты такие маленькие, вас охватит ощущение жестокости, беспощадности. Так же, думаю, было и в Бибигхаре. Наверняка не скажешь, потому что сохранился один фундамент и никто не описал это место, каким оно было до того, как шотландец его разрушил. Бибигхарский мост построен позже, так что князь, когда навещал своих женщин, добирался к ним либо по Мандиргейтскому мосту, либо в паланкине и на лодке, и так же отец его навещал певицу в доме, который он тоже построил на этом берегу, в доме, который шотландец перестроил и назвал в свою честь… Ну да, конечно, в этом доме вы и остановились. Интересно, до того как шотландец перестроил и переименовал его, он тоже состоял из низких темных галерей и крошечных клетушек? Или певице в виде исключения был предоставлен простор, чтоб было где звучать голосу, где раскрыться душе?
Побывайте в Женской больнице. Леди Чаттерджи вас туда свозит. И поднимитесь в комнату, что на верху старой башни. Оттуда, поверх крыш черного города, можно разглядеть за рекой крышу дома Макгрегора. Интересно, часто ли князь, любивший певицу, поднимался на башню посмотреть на эту крышу? И еще интересно, поднимался ли на башню его сын, посмотреть через реку на Бибигхар? От Бибигхара дом певицы, наверно, тоже в те дни был виден. Между ними всего одна миля. Недалеко. Но достаточно далеко, если девушке надо пробежать этот путь поздно вечером.
В те дни, когда Майапур был княжеством, на том берегу не было других построек, только эти два дома, памятники любви — любви отца к певице и любви сына к куртизанкам, сына, презиравшего своего отца за чувство, которое, если верить легенде, так и не было вознаграждено. Я все думаю, как сын изо дня в день поднимался на дворцовую башню или в самую верхнюю комнату Бибигхара и, глядя на другой дом, дом певицы, радовался его упадку и говорил себе: «Такова участь любви, если не дать ей ходу», а сам из ночи в ночь кутил в Бибигхаре, своем личном борделе, помня, что в миле от него руины постепенно обращаются в прах. А теперь вот от Бибигхара ничего не осталось, а дом певицы все стоит — первый разрушен, а второй восстановлен, и сделал то и другое один человек, этот самый Макгрегор.
Я вот что хочу вам объяснить. В 1942 году, в год Бибигхара, я уже прожила в Майапуре больше семи лет, а ни про Бибигхар, ни про Макгрегора почти ничего не знала. Как и почти все. Бибигхар. Макгрегор. Для нас это были просто названия. Мы могли сказать так: «Идите по этой улице, через Бибигхарский мост, вдоль Бибигхарского сада, потом свернете на Макгрегор-роуд, по ней дойдете до дома Макгрегора, где от Макгрегор-роуд отходит Керзон-роуд, а уж Керзон-роуд выведет вас прямо на Виктория-роуд, к европейскому базару».
Так быстрее всего пройти к банку — отсюда до Бибигхарского моста рукой подать. Но я обычно ходила другим путем, через базар Чиллианвалла и мимо храма Тирупати. Самая оживленная часть Майапура тяготеет к Мандиргейтскому мосту. Я шла по нему, мимо миссионерской церкви и женской школы, через евразийский квартал, по Вокзальной, Железнодорожной, авеню Гастингса и с того конца попадала на Виктория-роуд.
Но после того дня в августе сорок второго названия «Бибигхар» и «Макгрегор» приобрели особый смысл. Они вошли в наш язык. Мы заинтересовались, что это за Бибигхар? Захотели узнать, кто был Макгрегор? И оказалось, что охотников просветить нас сколько угодно. Взять хотя бы Макгрегора. О нем говорили, что он боялся Бога, благоволил к мусульманам и мечетям и опасался индусских храмов и сжег Бибигхар как богомерзкий притон, а что не сжег, то раскрошил, и остался только фундамент и сад и стена вокруг сада. Говорили также, что все это он проделал после того, как был отравлен какой-то англичанин из свиты раджи, и это происшествие использовало как предлог для аннексии британское правительство, то есть тогда еще Ост-Индская компания. Но Макгрегор сжег Бибигхар намного позже. Первые сведения о Макгрегоре в Майапуре относятся к 1853 году, это за четыре года до Мятежа, но почти через тридцать лет после аннексии. В 1853 году Майапур не был центром округа. Макгрегор не состоял на государственной службе. Он был вольным купцом, из тех, что пошли в гору, когда Ост-Индская компания уже перестала торговать, но продолжала править. Он нажил состояние на пряностях, зерне, тканях и взятках. Его старая фабрика и склад стояли там, где теперь вокзал, и один из подъездных путей до сих пор носит его имя. Железная дорога дошла до Майапура только через десять лет после его смерти, значит, к тому времени его влияние еще чувствовалось и память о нем была свежа. Легко представить себе, как его груженые фургоны выезжали на дорогу, которую потом назвали шоссе, и как в то время, до железной дороги, выглядел Майапур. На том берегу все еще было мало построек — ни казарм, ни кантонмента. Насколько я знаю, была часовня там, где сейчас церковь св. Марии, и Дом выездных сессий, где теперь здание суда. Начальник округа жил тогда в Дибрапуре. А когда наезжал в Майапур, останавливался в Доме выездных сессий и там принимал прошения, улаживал споры, собирал подати. Интересно, много ли поступало к нему жалоб, которые он, разобравшись, мог посчитать жалобами на Макгрегора.
В моем представлении Макгрегор, краснолицый, с точками на щеках от лопнувших сосудов, был фактическим правителем Майапура, он ни в грош не ставил представителей власти, держал в страхе клерков и купцов, помещиков и чиновников, от крупных до мелкой сошки, — бесчестный, необузданный, а вот поди ж ты, за несколько лет пробудил Майапур от спячки, в которую он погрузился после аннексии, долженствовавшей превратить его из феодального захолустья в процветающую современную общину, спокойную и счастливую под властью англичан. Думается, это был человек, доступный пониманию тех купцов и помещиков, с которыми он имел дело. Говорят, он изъяснялся на языке звонкой монеты, а это язык международный. Я думаю, что с Макгрегором они всегда знали, чего держаться, не то что с суровым, неподкупным, таким безупречным, таким английским начальником округа.
Вот видите, не вяжутся эти факты с теорией, будто Макгрегор сжег Бибигхар как притон порока. Но и то сказать, эта теория была европейская. Возможно, он сам изложил ее жене — он женился и привез ее сюда уже после того, как нажил состояние и перестроил дом певицы, который назвал своим именем. К тому времени он уже сжег Бибигхар — по индийской версии не потому, что это был вертеп порока в его глазах и в глазах Господа, хотя прошло уже двадцать-тридцать лет с тех пор, как его покинули последние обитательницы, а потому, что влюбился в индийскую девушку, а она предпочла ему юношу с таким же, как у нее, цветом кожи. Индийских версий этой истории есть даже две. По первой из них он узнал, что девушка и ее возлюбленный встречаются в Бибигхаре, и уничтожил дом в приступе ревнивой ярости. По второй — он предупредил девушку, что ей придется покинуть дом Макгрегора и переселиться в Бибигхар. Он привел ее туда, показал, какой он там произвел ремонт и какую мебель и одежду купил для ее услаждения. Когда она спросила, почему ей надо покинуть дом Макгрегора, он ответил: «Я еду в Калькутту и оттуда привезу себе английскую жену». И она в ту же ночь сбежала со своим возлюбленным. Узнав об этом, он велел сжечь Бибигхар, а потом уничтожить и то, что не сгорело.
И эти истории звучат более правдоподобно, вы не находите? В них легче поверить, чем в то, что он сжег Бибигхар как притон порока. Бедный Макгрегор! В моем представлении он всего лишь человек с необузданными страстями, не способный на сколько-нибудь тонкие чувства. Не сожги он Бибигхар, как ребенок ломает игрушку, в которую ему не велели играть, — может, он и уцелел бы во время Мятежа? Сипаи тогда перебили своих офицеров в Дибрапуре, а потом бежали оттуда и двинулись к Майапуру, то ли чтобы добраться до Дели, то ли чтобы соединиться с более крупными отрядами восставших. Насколько мне известно, никто не знает, где именно Макгрегор был убит — может, на крыльце своего дома, а может, вместе со слугой-мусульманином Акбаром Хуссейном, чье тело нашли у ворот. Историки считают, что его ничто не могло спасти, потому что сипаи якобы узнали, что он сжег Бибигхар, и ходили слухи, что в огне погибли его индийская наложница и ее любовник. Интересно, дошли эти слухи до Дженет? Была она счастлива с Макгрегором, или ее жизнь в Майапуре обернулась сплошной мукой? Зачем является ее призрак? Только ли в поисках ее мертвого ребенка или чтобы предостеречь людей с белой кожей, что дом Макгрегора — нехорошее для них место?
Любопытно это. Ведь всегда была какая-то особая связь между домом певицы и домом куртизанок. Домом Макгрегора и Бибигхаром. Как будто по той одной миле, что их разделяет, несся темный поток человеческих страстей — с тех самых пор, как Бибигхар был разрушен, — и направление его можно проследить, если вспомнить, каким путем бежала девушка в темноте от одного к другому. Поток. Невидимая река. Ни один мост, переброшенный через нее, не устоял. Вы понимаете, о чем я говорю? Чтобы попасть из одного в другой, нельзя было пройти по мосту, нужно было собрать все свое мужество и ступить в поток, отдаться на его волю, куда бы он ни вынес. Вот такое мужество и было у мисс Мэннерс.
Я думаю, она не сразу полюбила Кумара. Физическое притяжение было, да, это всегда мощный фактор. Но я видела, как и другие белые женщины на него поглядывали. Что ж, им-то было нетрудно устоять перед соблазном, ведь они видели его так, словно он стоял у края воды, в которую им и руку-то окунуть было бы противно. Может быть, и на мисс Мэннерс находило это чувство отвращения, но она его подавляла, зная, что оно противоречит ее первому впечатлению от Кумара. А потом ни ужаса, ни отвращения вообще не осталось, она поняла, что нельзя ждать, пока кто-то построит мост, надо ступить в поток и встретиться там, чтобы обоих подхватило течением. Как будто она сказала себе: «Да, жизнь не в том, чтобы стоять на суше и изредка окунать ноги в воду. И то, что одни из нас стоят на одном берегу, а другие на другом, — это иллюзия. Пока мы так стоим, мы вообще не живем, только грезим. Прыгнуть в воду — вот что нужно, вот от чего мы проснемся. Если и утонем, так хоть за несколько минут до смерти почувствуем, что не спим, а живем».
Она несколько раз приходила в Святилище. С ним. С Кумаром. Когда-то она его спросила (это я так предполагаю): «Ты что-нибудь знаешь про эту женщину, которая называет себя сестра Людмила?» Это ей вспомнилось что-то, что ей говорил Меррик. Или леди Чаттерджи. И Кумар, вероятно, улыбнулся и сказал, как же, знает, и рассказал, как я когда-то нашла его, приняла за покойника и пьяного принесла на носилках в Святилище. Если, конечно, он этого не утаил. Мог и утаить. В общем, они приходили. И все здесь осматривали. Ходили за руку. Ей это казалось естественным, а ему, думаю, нет. То есть он как будто сознавал, какое впечатление это может произвести. А она об этом и не думала. Несколько раз она приходила одна. Приносила фруктов, предлагала помочь. Ей хотелось помочь. Один раз предложила денег. Мать ее умерла за год до войны, а отец и брат были убиты в войну. Ей досталось небольшое наследство, но еще предстояло унаследовать все состояние тетки, леди Мэннерс. Я сказала, нет, деньги мне не нужны, разве что прекратятся платежи, тогда я скажу. Она спросила: «Чем же еще я могу помочь?» А я спросила, зачем ей это нужно, ведь есть еще сколько угодно добрых начинаний, которые она могла бы поддержать. Помню, как она тогда на меня посмотрела. Когда мы бывали одни, она часто надевала очки. Он-то, наверно, никогда не видел ее в очках. При нем она их не надевала, из кокетства. Она сказала: «Не в добрых начинаниях дело». Я улыбнулась, точно соглашаясь, хотя не совсем ее поняла. А позже, кажется, поняла, да, позже я поняла. Она не делила поведение на части. Всегда стремилась к какой-то цельности. Где есть цельность, не может быть отдельных начинаний. Человек просто живет. Отдает всю свою жизнь, все, чем владеет, всему миру в целом. Вот такой цельности, так же как и мужества, необходимого для прыжка, у меня никогда не было.
Вы, конечно, видели изображение танцующего Шивы? Двуногий, четырехрукий, он танцует, скачет, в кольце космического огня, одна нога поднята, другая попирает тело невежества и зла? Можете увидеть его здесь, на стене у вас за спиной, вон он, мой Шива, вырезанный из дерева, танцующий. Танец созидания, сохранения и разрушения. Полный цикл. Цельность. Это трудная концепция. Воспринимать ее нужно не умом, а сердцем. Она тоже смотрела на моего маленького деревянного Шиву. Разглядывала его. Надевала очки. Она была крупная девушка. Выше меня ростом. По-северному широкая в кости. Красивой я бы ее не назвала. Но в ней была своеобразная грация. И радость. При некоторой нескладности. С ней вечно случались какие-то мелкие несчастья. Однажды уронила целую коробку пузырьков с лекарствами. Они несколько раз здесь встречались. Она и юный Кумар. Она приезжала прямо с работы, из больницы, и, пока ждала его, помогала на вечернем приеме. Один раз он опоздал. Мы ушли из амбулатории и дожидались его у меня в комнате. Я почувствовала, что он решил было не приходить, но потом передумал. И оставила их вдвоем. А в тот, второй вечер, в вечер Бибигхара, он вообще не явился. Когда стало темнеть, она уехала одна. Я проводила ее до ворот. Она поехала в сторону Бибигхарского моста, на велосипеде. Я просила ее быть осторожной. В городе еще было спокойно, но в окрестностях уже начались беспорядки. Вы помните, это был тот самый день, когда произошли первые стычки в Дибрапуре и в Танпуре. Днем она видела в больнице ту женщину из миссии, которую нашли на дороге, когда она держала за руку мертвого. И сразу из больницы прикатила в Святилище, наверняка на свидание с Кумаром. Но он так и не явился. Пока мы сидели у меня, она мне рассказала про ту женщину из миссии — она заболела пневмонией, потому что долго просидела на дороге под дождем, держа за руку мертвого. Крейн. Ее звали Крейн. Мисс Крейн. Пока мы ждали Кумара, а он так и не явился, дождь все продолжался, но к вечеру перестал и выглянуло солнце. Я помню, как оно осветило лицо мисс Мэннерс. Вид у нее был очень усталый. Когда стало смеркаться, она сказала, что ей пора домой, и укатила на своем велосипеде. В сторону Бибигхара. Велосипед был тот самый, я хочу сказать, тот самый, который нашли в канаве близ базара Чиллианвалла, у дома миссис Гупта Сен, где жил Кумар. И нашел его Меррик. Так, во всяком случае, говорили. Но если бы Кумар был одним из мужчин, которые ее изнасиловали, неужели он украл бы ее велосипед и оставил такую улику возле своего дома?
И, понимаете, когда она простилась, довела свой велосипед до ворот, оглянулась, помахала мне, а потом вскочила в седло и растворилась в сумерках, я почувствовала, что теперь она недостижима для моей помощи, и вспомнила, как за несколько месяцев до того юного Кумара увезли в Мерриковом грузовике, увезли куда-то, где он тоже будет недостижим для помощи. В тот день, когда Меррик увез Кумара на допрос, я сказала мистеру де Соузе: «Кумар? Кумар? Племянник Ромеша Чанда Гупта Сена? Вам правда так кажется?» А потом вернулась с ним в контору кончать ту работу, которую прервала из-за Меррика, и готовиться идти в банк — дело было в среду — и вознесла Богу молитву, чтобы, когда я туда приду, мистер Говиндас не смутился, не отвел меня в сторону, не сказал: «Сестра Людмила, на этой неделе денег не будет, нам дали знать из Бомбея, что платежи прекращены». Но когда я пришла в банк, а парень остался ждать на улице, мистер Говиндас, как всегда, вышел из своего кабинета улыбаясь, пригласил меня посидеть и занимал разговором, пока клерк оформлял мой чек на двести рупий. «Сестра Людмила, — сказал он, — этот малый, что вас дожидается, откуда он у вас?» Это была наша дежурная шутка, и я ответила: «Наверно, Бог послал». — «А предыдущего тоже Бог послал?» — «Да нет, — сказала я, — тот вышел из тюрьмы, а недавно опять туда угодил». — «Вот к этому я и веду — не доверяйте любому парню только потому, что на вид у него хватит силы за вас вступиться».
Но я, конечно, это знала. Знала, что недели через три такой парень заскучает, а тогда мысли его обратятся на дурное. Тот парень, что сопровождал меня в тот день, он уже заскучал. Когда я вышла из подъезда с двумястами рупий в запертом мешочке на поясе, он судачил с какими-то лодырями и не очень-то хотел с ними расставаться. Однако встал и пошел за мной. Знал свои обязанности. И мы двинулись в обратный путь — через евразийский квартал, мимо миссионерской церкви и по Мандиргейтскому мосту к храму Тирупати. В самом храме я никогда не была. Бог этого храма — великий Венкатасвара, это одно из воплощений Вишну. Во дворе храма есть алтарь с изображением спящего Вишну. Об этом изображении спящего Вишну мы и говорили с мисс Мэннерс тогда, в вечер Бибигхара. Кумар водил ее туда недели за три до того дня. Сам-то он ни во что такое не верил. Но ей хотелось посмотреть храм. Его дядюшка договорился с жрецом-брахманом. И они побывали там вместе, и вот она рассказала об этом мне, никогда там не бывавшей. Дождь перестал, выглянуло солнце. Осветило ее лицо, ее усталость и как ей самой хотелось спать. Я с легкостью представила себе все, о чем она рассказала, потому что лицо у нее было такое усталое и потому что я видела изображение спящего Вишну в одном храме у моря, на юге, недалеко от Мадраса, место называется Махабалипурам. На юге, вы знаете, есть один очень знаменитый храм Тирупати. Высоко на горе. Здешний храм назван по нему. Говорят, предки нынешних майапурцев пришли сюда с юга, что какой-то майапурский махараджа женился на девушке-южанке и построил этот храм в ее честь и в честь бога, которому она поклонялась. С тех пор было столько смешанных браков, что и не разобраться, все перепуталось.
Но в Майапуре есть храм Тирупати. «Мандир» означает «храм». Это северное слово. Так что и тут север с югом смешались. Тирупати. Ворота Мандир. Когда-то Майапур был обнесен стеной. На ночь ворота запирали. Ворота Мандир тогда вели к Мандиргейтским ступеням. Прибывая с севера, надо было переправиться через реку на лодке и по ступеням подняться к воротам. А потом построили Мандиргейтский мост. Ступени остались, но теперь они ведут только к храму Тирупати. Дальше к югу были еще одни ворота. Бибигхарских ворот не было никогда. Стену, очевидно, разобрали еще до того, как Бибигхар был построен. А Бибигхарский мост был построен уже после смерти Макгрегора. Вот мешанина! Макгрегор и Бибигхар. Мандир и Тирупати.
В тот день, выйдя из банка, я прошла под охраной малого с палкой через евразийский квартал, мимо миссионерской церкви, куда ходили евразийцы. Англиканская церковка в миниатюре. И подождала у переезда, пока откроют шлагбаум. И наконец двинулась вместе с толпой по мосту, и на этом берегу раздала немного денег нищим и прокаженному, который всегда там сидел, выставив напоказ руки, обрубленные, как сучья кустарника, чтобы лучше цвел. А потом от священного дерева налево, мимо открытых лавчонок, не слушая торговцев, наперебой предлагающих бетель, ткани, содовую воду, дыни и жасмин, через пролом в стене, окружавшей базар Чиллианвалла, купив по дороге перца — мистер де Соуза его любил, — через базарную площадь, мимо ярко-красного мяса и вонючей рыбы и торговок, что сидели скрючившись над своим товаром, а их весы валялись без дела на земле, как спящие металлические змеи, и вверх по лестнице в контору Ромеша Чанда Гупта Сена, у которого умер брат, а вдова этого брата, миссис Гупта Сен, жила в одном из новых бетонных домов, которые возвели тут же, на базарной площади, когда перестраивали Чиллианвалла.
«Арестован? — переспросил он, этот дядя по жене, Ромеш Чанд. — Ох, этот мальчишка. Он меня в могилу сведет. Что он о себе воображает? Почему не следует путем чести и послушания, как подобает молодому индийцу?» И позвонил в медный колокольчик, словно восседал не в конторе, а в храме, так что мне стала понятнее строптивость Кумара, я ведь с того утра не могла забыть его голос, всю его английскую повадку и эти северные мускулы. Эту красоту. Вы понимаете? До чего чужим был для него этот фон, эти тесные, грязные клетушки над складом подрядчика? Для него, для Кумара. Который говорил по-английски, как питомец лучшей закрытой школы? Был увезен отцом в Англию, когда еще не мог запомнить свой родной город, и жил там, прожил там до восемнадцати лет, а? А здесь — этот дядюшка, типичный индийский «банья» за конторкой, в куртке со стоячим воротником, и его клерки на корточках в своих конурках, среди засаленных документов, один даже засовывал бумажные деньги между пальцами ног. Некоторое время после смерти отца и возвращения в Индию Кумар тоже там проработал. Но взбунтовался и теперь выполнял какую-то работу для «Майапурской газеты». Это я поняла из слов дяди. Я не стала задавать вопросов. Я ведь хотела только сообщить о том, что сделал мистер Меррик. Чтобы он предпринял какие-нибудь шаги. Какие — я не знала. Но он позвонил в колокольчик, вызвал старшего клерка и послал его с запиской к адвокату, чтобы явился немедленно. Телефона у него в конторе не было. Ромеш Чанд, это сразу было видно, не считал нужным заводить телефон и вообще не одобрял ничего «иностранного» и «современного». Зато был высокого мнения о собственной силе и влиянии. Он спросил, каким образом его племянник очутился в Святилище. Я ему сказала не всю правду. Сказала только, что он провел там ночь, а утром явилась полиция искать кого-то, и его увезли на допрос, потому что он оказался там единственным, кого я не знала. «Благодарю, что потрудились меня известить», — сказал он. И я ответила: что вы, какой же это труд, и ушла. Но весь тот день юный Кумар не выходил у меня из головы. Ближе к вечеру я послала мистера де Соузу на базар послушать, что говорят, а сама поехала в Женскую больницу поговорить с Анной Клаус, врачом из Берлина, она приехала в Индию, спасаясь от Гитлера, и мы с ней дружили. Выслушав мой рассказ о юном Кумаре, она позвонила леди Чаттерджи, члену больничного комитета, Поговорила с ней и сказала: «Вот и все, что я могу сделать. Леди Чаттерджи поговорит с судьей Мененом или с окружным комиссаром. Может быть. И вашему Меррику предложат ответить на кое-какие вопросы. Это-то, безусловно, хорошо. Но все зависит от этого мистера Кумара, от того, что он натворил. Или в чем его подозревают. Если там усмотрят хоть намек на подрывную деятельность, они могут без дальних разговоров засадить его в тюрьму». Я и сама это знала. Вернулась сюда, а мистер де Соуза уже был дома. Он сказал: «Все в порядке. В полиции его продержали часа три, не больше. Когда в участок явился адвокат, присланный Ромешем Чандом, он его уже там не застал». Я спросила, откуда ему это известно. Он, оказывается, побеседовал со старшим клерком Ромеша Чанда, которому не полагалось ничего знать, но ему проболтался клерк адвоката, «Так что видите, — сказал мистер де Соуза, — все в порядке, и про мистера Кумара можно забыть». Да, сказала я, все в порядке. В тот же вечер заехала доктор Клаус, я ей рассказала, и она тоже сказала, ну, значит, все в порядке, с этим покончено. И я опять поддакнула. Но не успокоилась. Ночью, когда мы вышли с носилками, меня не оставляла мысль, что не все в порядке и не все кончено. Я спрашивала себя, что я сделала не так? Не надо было сообщать Ромешу Чанду? Или просить доктора Клаус устроить, чтобы всякие важные люди наводили справки? Кумара допросили и отпустили с миром. А после его ухода в полицию явился адвокат. Меррик наверняка знал об этом, но оставил без внимания. Что такое адвокат-индиец? Подумаешь! Но позже, когда Меррик, возможно, уже решил, что к истории с Кумаром можно не возвращаться, ему позвонил судья, или окружной комиссар, или кто-нибудь по их поручению и спросил: «Что это за Кумар, которого вы держите в участке?» И Меррик мог ответить: «Он уже на свободе, а почему вы спрашиваете?» И тот, кто с ним говорил, мог ответить: «Тем лучше. А то у нас тут спрашивали, что случилось. У этого молодого человека, как видно, много влиятельных друзей».
То, что высокопоставленные люди справлялись о Кумаре, могло свести на нет всю пользу, которую он сам себе принес, толково отвечая на вопросы, раз уж оказался в полиции, могло повредить ему в глазах Меррика, который и так имел на него зуб за то, что он говорил по-английски лучше самого Меррика, а теперь у него еще нашлись друзья, которые могли просить за него судью Менена или комиссара, как будто речь шла о белом юноше, а не о черном. Недаром он так надменно сказал, указав на младшего инспектора: «Он, кажется, не понял, что говорить со мной по-индийски бесполезно?»
А позже, не скрываясь, расхаживал по Святилищу за руку с белой девушкой, мисс Мэннерс. И, возможно, не только здесь, но и в других местах, где Меррик мог это увидеть или ему могли рассказать. Я слишком поздно узнала, что Меррик тоже знаком с мисс Мэннерс. Тут все европейцы между собой знакомы, но это знакомство, Меррик и мисс Мэннерс, было, как видно, особого свойства. Это я поняла только в вечер Бибигхара. Меррик приехал уже в полной темноте. На своей машине. Один. И сказал: «Вы, кажется, знакомы с девушкой по имени Дафна Мэннерс? Я только что из дома Макгрегора. Она еще не вернулась. Вы ее не видели?» «Видела, — ответила я, — она здесь была. Но уехала, когда только начинало темнеть». Я не уловила в его вопросе личной заинтересованности. В округе было неспокойно. А он был полицейский. Я подумала только о ней. О том, что могло с ней случиться. Понимаете, я решила, что леди Чаттерджи позвонила в полицию, потому что мисс Мэннерс не вернулась домой.
Он спросил: «Зачем она здесь была?» Я ответила, что она иногда помогает принимать больных. Он как будто удивился. «Этого я не знал. Я знал, что один раз она здесь была, об этом она упоминала. И часто она приходит?» — «Очень редко», — ответила я, потому что вдруг насторожилась. А он еще спросил, одна ли она приезжает, одна ли была сегодня и куда собиралась отсюда. Да, одна, сказала я, и сегодня одна, а собиралась, насколько я знаю, домой. Какой дорогой? Ближе ехать через Бибигхар, сказала я. Вы, наверно, и сами так ехали от дома Макгрегора? Оказалось, что нет, он сначала заезжал в полицейский участок у Мандиргейтского моста, а потом вспомнил, что она упоминала о своем посещении Святилища, и приехал сюда с той стороны. «Значит, вы, скорее всего, разминулись», — сказала я, а он возразил: «Но вы говорите, она уехала, когда еще не стемнело. Я провел в доме Макгрегора больше часа, когда уже было темно, почти до девяти часов, а ее еще не было».
И тут, потому что я за нее тревожилась и на минуту забыла про Меррика и Кумара, я сказала то, чего не собиралась говорить, то, что неизбежно должно было навести его на мысль о Кумаре. Я сказала: «Может быть, она заехала к миссис Гупта Сен». И, увидев его лицо, сразу пожалела об этом. Получилось так, будто я, упомянув миссис Гупта Сен, вслух произнесла имя Кумара. Он сказал: «Понятно». В глазах его была улыбка. И все стало на свои места, опять сложилось в этот опасный геометрический чертеж, только на этот раз третьей точкой в треугольнике, вдобавок к Меррику и Кумару, был не Раджендра Сингх, а мисс Мэннерс. У меня появилось ощущение, оно у всех иногда бывает, будто все это уже было когда-то, будто опять я обречена на какой-то трагический образ действий, ничему не научившись, словно и не было предыдущего случая, или случаев, когда мы с Мерриком стояли здесь, в этой комнате, где я сейчас лежу, а вы задаете ваши вопросы, и мысли наши занимали два имени: Кумара и девушки, которую нужно разыскать. Открытие, что Меррик здесь замешан не только как полицейский и что я предала этого мальчика, Кумара, упомянув о доме у базара Чиллианвалла, о миссис Гупта Сен, — вот пружины, которые нельзя было не нажать всякий раз, как наши жизни, совершив новый оборот, доходили до момента, когда мы с Мерриком стояли в этой комнате. И всякий раз, неотвратимо, пружины оказывались задеты еще до того, как удавалось это понять. Мне бы надо было знать, что Меррик знаком с мисс Мэннерс. Глупо было не знать. Это цена, которую я заплатила за то, что посвятила свою жизнь умирающим, а не живым. То, что она дружит с Гари Кумаром, вовсе не значило, что она не может дружить и с Мерриком. Не будь я так глупа, мы могли бы вырваться из кольца неизбежности и Меррик не уехал бы от меня, заранее убежденный в том, что только Кумар может разрешить загадку ее исчезновения.
Но я не знала, что Меррик с ней знаком и даже, на свой чудной лад, любит ее. Угадала только тогда, когда сказала: «Может быть, она заехала к миссис Гупта Сен» — и увидела радостное возбуждение в его как будто пустых, но достаточно откровенных ярко-голубых глазах. Ведь он уже давно наметил Кумара, наметил как свою жертву, еще когда смотрел, как тот моется у колодца, а потом увез допрашивать, чтобы поближе присмотреться к тому мраку, к которому тянулся его собственный мрак. Не такой же, но все-таки мрак. У Кумара — мрак души. У Меррика — мрак рассудка, сердца и плоти. И еще — но в каком-то противоестественном плане — притяжение белого к черному, притяжение противоположности, человека, который, возможно, никогда не погружался в глубины собственных побуждений, не говоря уже о требованиях жизни и мира в целом, а стоял в сторонке, на сухом, бесплодном берегу, огражденный собственной скрытностью и предрассудками, которым он выучился, потому что был одним из белых господ в стране черных.
Меррик уже давно знал про мисс Мэннерс и Кумара. Потому-то Кумар сразу пришел ему на ум, как человек, который мог знать, где она. Но есть еще одна вещь, которую вы, может быть, не знаете. О чем я смутно догадалась в вечер Бибигхара, когда Кумар не явился, а подробнее узнала позже, когда она приходила проститься перед отъездом на север, к своей тетке леди Мэннерс, у которой собиралась прожить оставшееся время. Она была беременна. И не скрывала этого. Сначала мы поболтали о всяких пустяках. Меня поразило ее спокойствие. Помню, я еще подумала — это спокойствие прекрасной женщины. А ведь она, как вам известно, не была красива, вам это наверняка говорили все, кто о ней рассказывал, да и сами вы могли убедиться по ее фотографии. В какую-то минуту мы обе замолчали. То не было молчание людей, которым больше нечего сказать друг другу. За нашим молчанием было понимание и симпатия, но мы еще не были уверены, пришло ли время положиться на эту дружбу. Первой решилась я. Заговорить о Кумаре. «Вы знаете, где он?» — спросила я, имея в виду, где он содержится в тюрьме. Она посмотрела на меня, и по ее лицу я поняла две вещи — что она не знает, но какие-то несколько секунд, пока надежда не угасла, надеялась, что знаю я. Потом покачала головой — она спрашивала, но никто ей ничего не сказал. И заходила в дом у базара Чиллианвалла, думала, может, его тетя что-нибудь знает, но миссис Гупта Сен даже не вышла из своей комнаты поговорить с ней. А больше она, вероятно, и не рискнула ничего предпринять, чтобы не повредить ему. Его арестовали тогда же, в ночь Бибигхара, вместе с еще несколькими молодыми людьми. Вы помните, в тот день несколько человек было взято под стражу по политическим причинам. По слухам, их погрузили в запертый вагон и увезли неизвестно куда. Говорили еще, что арест тех юношей в ночь Бибигхара вызвал выступления во всем городе. Но выступления, несомненно, были запланированы раньше. Может быть, волнения были серьезнее оттого, что распространились слухи о тех ужасах, которые учинили над юношами, арестованными после Бибигхара. Или, может быть, они показались серьезнее, потому что у англичан создалось впечатление, что после Бибигхара всем их женщинам грозит опасность. Говорили, что именно из-за Бибигхара комиссара уговорили признать, что ему не справиться с создавшимся положением, и вызвать войска, хотя на самом деле это было преждевременно. Может быть, правды об этом никогда не узнают. До того как мисс Мэннерс зашла проститься, мне приходило в голову, что ее, возможно, мучает мысль, что она, сама того не желая, оказалась в центре всех этих передряг. Но когда она пришла, вид у нее был такой спокойный, сосредоточенный в себе, какой бывает, вероятно, у всякой женщины, когда она впервые ждет ребенка и ей кажется, что по сравнению с этим весь окружающий мир не так много значит. Я накрыла ее руку своей и спросила: «Вы решили довести дело до конца?» Она ответила: «А почему вы спрашиваете?» — и по ее улыбке я поняла, что да, она доведет дело до конца. Я спросила: «А вас пробовали отговорить?» Она кивнула — да, пробовали, у них это получалось ужасно просто. Все равно как выполнить несложную обязанность.
Но, конечно, это было не просто. Для них-то, может быть, да. Они бы даже сочли это ее долгом. Избавиться. Прервать. Вырвать отвратительный зародыш из чрева и бросить собакам. Я своими ушами слышала, как это сказала женщина. Белая женщина. Она при мне спросила другую, правда ли, что эта девица Мэннерс беременна и уехала в Кашмир рожать? Они были в аптеке Гулаба Сингха, покупали всякую косметику. Положение тогда уже нормализовалось. И, услышав в ответ, что это, видимо, правда, сказала: «Как же прикажете это понимать? Она, значит, получила удовольствие?» Бедная мисс Мэннерс! Быстро она превратилась в «эту девицу»! Может, ее и до Бибигхара иногда так называли. Но сразу после Бибигхара европейцы говорили о ней с благоговением, как о святой и мученице. А теперь вот — «эта девица», да еще такая подлость — «Значит, она получила удовольствие?». И улыбнулась и добавила громче: «Случись такое со мной, я бы сделала аборт прямо на улице перед каким-нибудь их проклятым храмом, а эту гадость бросила бы собакам, либо пусть бы ею подавились их жрецы». И продолжала выбирать пудру и лосьоны для своей белой кожи, и умудрилась, как это умели, да и теперь умеют, такие женщины, говорить с продавцом, ни разу не взглянув на него и демонстративно держа руки на отдалении от его пальцев. Может, это была одна из тех женщин, которые за несколько месяцев до того видели, как юный Кумар шел со мной в аптеку — мы встретились на улице, перекинулись словом, и он предложил донести мне покупки из аптеки в Святилище, а предложил потому, что я в тот день была без провожатого. Мы с Кумаром к тому времени стали друзьями. Я по крайней мере это чувствовала, хоть он-то крепко вбил себе в голову, что у него вообще нет друзей. Когда мы вышли из аптеки, он сказал: «Ну что, убедились? Для белых я стал невидим». Может, он не заметил, как белые женщины на него поглядывали. Может, заметил только, что они оттесняли его от прилавка, или нарочно поворачивались спиной, или подзывали продавца, который его обслуживал. Поэтому он терпеть не мог заходить в лавки в европейском квартале. А между тем его, я знаю, неудержимо тянуло там бывать, чувствовать себя среди своих, ведь Англия была для него единственным знакомым миром, а черный город на этом берегу был ему противен, как всякому белому, только что приехавшему из Англии. Даже больше, потому что в черном городе он был вынужден жить, а не просто проходить изредка по мосту, зажав нос платком, когда возвращался в кантонмент, в мир английского клуба, где собирались белые.
Но Кумар — это из другой оперы, верно? Вы и до него доберитесь. Я вам назову одно имя, которое может вам помочь, его, кроме меня, может быть, никто и не знает, а не то давно забыл. Колин. Колин Линдзи. Кумар рассказал мне про Колина, когда я второй раз видела его пьяным. Из-за Колина Линдзи он и напился в тот первый раз, когда мы нашли его и принесли в Святилище. В Англии Колин Линдзи был его ближайшим другом. Они вместе учились в школе. Колин хотел, чтобы его родители оставили Гари у себя, когда его отец умер и он должен был вернуться в Индию. Когда ему еще не исполнилось восемнадцать лет. Юный англичанин. Английский голос, английская манера держаться, английское имя — Гарри Кумер. Ни одного индийского языка не знает. Англичанин с темной кожей, который в Майапуре стал, по его словам, невидим для белых.
Но не для тех женщин в аптеке. И не для мисс Мэннерс. И не для Меррика. Я вам не досказала про Меррика и про все, что ему уже было известно о дружбе Кумара с мисс Мэннерс. Когда она приходила ко мне проститься, я ей сказала: «Мисс Мэннерс, я должна перед вами покаяться. Меня совесть мучит». И рассказала ей, как Меррик приезжал в Святилище в вечер Бибигхара. И что я тогда не знала, что она знакома с Мерриком ближе, чем все белые знакомы между собой в таком городе, где полно и гражданских служащих, и военных. Но теперь поняла: он интересовался ею не только как полицейский, которому сообщили, что исчезла белая девушка. И, тревожась за нее, забыла, что поминать при нем имя Кумара опасно и особенно опасно хотя бы косвенно упомянуть о Кумаре в связи с ней. И вот — сказала: «Может быть, она заехала к миссис Гупта Сен».
«А почему это вас мучит? — спросила она. — Почему это у вас на совести? Я знаю, что мистер Меррик у вас был, а от вас поехал туда, где жил Гари». «Но позже, — сказала я, — позже он вернулся. Отсюда он поехал в тот дом у базара, спросил Гари, но ему сказали, что Гари нет дома. А потом опять поехал в дом Макгрегора. И узнал, что вы вернулись. В таком состоянии. И сразу вызвал патрули, оцепил весь район Бибигхара и арестовал первых же пятерых юношей, которых там обнаружил. И опять поехал в дом у базара. Поднялся наверх с констеблями и нашел Гари, с синими подтеками на лице, говорят, он как раз мылся, чтобы не так было заметно. А возле дома, в канаве, ваш велосипед».
— Да, — сказала она. — Все так. Откуда вы узнали?
— От мистера де Соузы. У него много знакомых, ему много чего рассказывают. Когда правду, а когда и просто сплетни. Но это-то, очевидно, правда. Вот меня совесть и мучит. Не упомяни я про дом у базара, мистер Меррик не поехал бы туда искать Гари. Ведь вы-то ничего не сказали. Это мы все знаем. Вы им сказали, что не видели, кто на вас напал. Мы знали, что вы никого не припутали. Знали со слов леди Чаттерджи. А я знаю от Анны Клаус. Мы знаем, что вы отказались хотя бы попробовать опознать других арестованных, потому якобы, что не разглядели их в темноте. Мне не дает покоя один вопрос. Если бы мистер Меррик не вернулся в дом Макгрегора и не застал вас в ту минуту, вы и вообще не рассказали бы, что произошло?
Она подумала, прежде чем ответить. «А к чему мне держать это в тайне? Совершено преступление. Мужчин было пятеро или шестеро. Четверо из них совершили надо мной насилие. Что вы пытаетесь мне сказать? Или вы тоже думаете, что Гари принимал в этом участие?»
— Нет, — сказала я. — Не то. Я только пытаюсь облегчить себе душу. И прошу вас помочь мне в этом. Понимаете, я еще вот что помню. В вечер Бибигхара, когда вы пришли в Святилище ждать Кумара. И пока ждали, рассказали мне, что побывали с ним в храме. Пока вы рассказывали, у меня создалось впечатление, что с тех пор вы его не видели. Не видели недели две, если не больше. Что в тот день, когда вы ходили в храм, между вами произошла размолвка. Ссора. Что вы огорчились, но не были удивлены, когда он и в сумерки не явился в Святилище и вам пришлось уехать одной. После вашего отъезда мне пришло в голову, что вы заедете к нему на дом, прежде чем ехать к себе. Повидать его. Уладить то, что между вами разладилось. Поэтому-то я и сказала, когда Меррик меня расспрашивал, что вы, может быть, заехали в тот дом у базара, а это сразу навело его на мысль о Кумаре, потому что он знал, где Кумар тогда жил. Он, конечно, помнил его адрес еще с того дня, когда увез его в участок допрашивать. Я даже самой себе не смогла выразить все это словами, когда Меррик стоял в этой комнате, в вечер Бибигхара. Но слова уже ждали за порогом. Они пришли позже, когда я узнала, что Кумара тоже арестовали и увезли, и вспомнила, как изменилось у Меррика лицо, когда я сказала, что вы, может быть, заехали к миссис Гупта Сен. И он оглядел комнату. Как будто догадался, что вы и Кумар бывали здесь раньше, ждали здесь друг друга, что вы и в тот вечер ждали его здесь. Как будто обнаружил наконец одно из тех мест, где вы с ним встречались. Я поняла, как это для него важно и что он не просто полицейский, наводящий справки об исчезнувшей девушке. Я почувствовала это уже чуть раньше, когда он удивился, узнав, что вы иногда приходите помочь на вечернем приеме. Это было удивление человека, считающего, что он имеет право знать, где и как вы проводите время. Верно я говорю?
— Да, — сказала она. — Он, кажется, считал, что имеет такое право.
— И знал про вас и Кумара?
— На том берегу все про это знали. Мистер Меррик предостерегал меня от этого общения.
— А после этого предостережения, — сказала я, — вы с Кумаром поссорились, когда ходили в храм? И перестали встречаться? Так что мистер Меррик решил, что вы вняли его предостережению?
— Да, — сказала она, — наверно, так все и случилось. Ему могло так показаться.
Так что видите, она не помогла мне облегчить душу. Не сняла с меня вины за то, что я сказала: «Может быть, она заехала к миссис Гупта Сен» — и этим возродила в нем волнующее подозрение, что мисс Мэннерс и Кумар продолжают тайно встречаться здесь, в Святилище. Указала ему способ, как наказать Кумара, которого он уже наметил себе в жертвы. Ибо Меррик был неспособен любить. А наказывать был вполне способен. Я чувствую, что не ошиблась. Меррику нужен был Кумар, а не мисс Мэннерс. И вероятно, именно ее общение с Кумаром заставило Меррика обратить на нее внимание. Вот как я это понимаю. И еще одно я поняла…
А вот что.
Что юный Кумар был в ту ночь в Бибигхаре. Или в какую-нибудь другую ночь. Потому что ребенок, которого она родила, конечно же, был от Кумара. Иначе почему бы она, когда носила его, выглядела как женщина, на которую снизошла благодать? Почему бы отказалась избавиться, прервать, бросить ненавистный зародыш собакам? Почему бы? Неужели же, решившись на прыжок, она приняла все логические последствия своего поступка, включая изнасилование в темноте бандой хулиганов? Вообразила, что в результате такого ужаса носит под сердцем Индию? Но как сочетать это с тем, какой она была, когда приходила проститься, — спокойная, сосредоточенная в себе, мысленно уже пестуя своего ребенка, чувствуя, что, пока у нее есть ребенок, она не окончательно потеряла любовника?
Был один вопрос, который мне безумно хотелось ей задать. Но я удержалась — отчасти потому, что в глубине души и так знала правду, а отчасти потому, что думала, она откажется ответить. Ради Кумара. Ведь бывает, что удается вовлечь другого в свое молчание, вы не согласны? Таким вот молчанием она окружила себя и память о Кумаре. За это они ее и возненавидели. Здешние европейцы. Как осудили и ту женщину из миссии, мисс Крейн, когда она отказалась опознать тех, кто убил учителя. Но с мисс Мэннерс было хуже, потому что одно время она была в их глазах невинной белой девушкой, поруганной черными варварами, и лишь постепенно до них дошло, что гласного отмщения они не дождутся. Ведь она тоже не пожелала никого опознать. Как передавали, она заявила, что, откуда ей знать, может быть, это были английские солдаты, вымазавшие себе лица черной краской, как коммандос. И спросила, все ли арестованные были индусы, а узнав, что да, сказала, что тут какая-то ошибка, потому что один из насильников, во всяком случае, был обрезан, а значит, скорее всего мусульманин. Сказала, что знает, что он был обрезан, и, если угодно, может объяснить, откуда знает. Сказала это при свидетелях, в доме Макгрегора, где проходило закрытое слушание. Провели его, потому что англичане требовали суда. Но какой мог быть суд, если сама пострадавшая грозила во всеуслышание бросить тень на их же солдат? И не постеснялась бы рассуждать о таких нескромных подробностях, как обрезание? Так что суда они не дождались. Да и зачем им был суд? Признать арестованных виновными не требовалось, достаточно было посадить их под замок, а потом услать неведомо куда, как сотни других. А с ними и Кумара.
А потом они, конечно, ополчились на нее. О, не в открытую. Не в лицо. Но между собой. Индийцев они в свои мысли бы не посвятили. Но друг другу впервые задавали вопрос, который индийцы-то задавали с самого начала. Как она вообще оказалась ночью в Бибигхаре? В сад она, безусловно, вошла по доброй воле, ни разу не было высказано предположение, что она просто ехала мимо и ее насильно стащили с велосипеда. А если бы ее стащили с велосипеда, как она могла не увидеть лицо хотя бы одного из тех, кто в этом участвовал? Ведь как раз напротив Бибигхара есть уличный фонарь. А немного дальше, в каких-нибудь ста шагах, у въезда на Бибигхарский мост есть железнодорожный переезд и будка, где живет стрелочник с семьей, и все они клялись, что ничего не видели и не слышали, пока к ним не ворвались патрульные мистера Меррика и не стали допрашивать, выстроив в ряд перед будкой.
А теперь я вам изложу окончательную версию, которую сплетникам британского Майапура и пришлось принять как правду, хоть и горькую. Автора этой версии недалеко искать, думаю, что она исходит от мистера Меррика. Итак, мисс Мэннерс пошла в Бибигхар по просьбе Кумара. Что это был за тип — всякому ясно. Худший вариант образованного индийца. Тщеславный, дерзкий, самонадеянный. Только роман с белой женщиной мог насытить его тщеславие. И только такая простушка, как Дафна Мэннерс, могла клюнуть на его ухаживания. Он так внушил себе, что она выполню любое его желание, что у него хватало наглости не подходить к ней по нескольку дней, даже недель, а то назначить ей свидание — и не явиться, и ссориться с ней на людях, унижать ее. А потом он бросал ей подачку — разрешал опять провести часок в его обществе. И все это время обдумывал самое страшное унижение, и оно совпало по времени — по всей вероятности, не случайно — с тем днем, который выбрали эти индийцы, чтобы показать англичанам, кто здесь хозяин. Много дней перед началом восстания он держался от нее в стороне, разжег ее чувства до предела, а потом послал ей записку с просьбой прийти в Бибигхар. Она полетела на свидание и застала в саду не только Кумара, но и целую банду хулиганов, которые, один за другим, и совершили над ней насилие. А молчала она, потому что была убита стыдом. Какая английская девушка призналась бы в таком позоре? Но юный Кумар переоценил свое коварство. Эти так называемые образованные индийцы все такие. Он до того обнаглел и поглупел, что украл ее велосипед и не догадался бросить его хотя бы не у самого своего дома. Может быть, он решил, что утром все англичане будут думать только о том, как бы спасти свою шкуру. Ведь вот что еще несомненно: такой честолюбивый мальчишка, несмотря на свои так называемые английские манеры, почти наверняка должен был участвовать в восстании на роли изменника. Нет, нет, не тратьте сочувствия на юного Кумара. Как бы круто ему ни досталось в полиции, он все это заслужил. И на нее не тратьте сочувствия. Она тоже получила по заслугам.
Вот как рассуждали англичане. Я говорила об этом с Анной Клаус. Анна хорошо относилась к мисс Мэннерс. Это она оказала ей тогда первую помощь. Я не спросила ее насчет еще одного слуха — что якобы она, Анна Клаус, сказала окружному комиссару, что, по ее мнению, мисс Мэннерс до изнасилования не была intacta. Ведь ни в том, ни в другом случае это не могло никак отразиться на разбирательстве происшествия в Бибигхаре. У комиссара, надо полагать, были свои причины задать этот вопрос. Если правда, что он его задал. Понимаете, когда все утряслось и англичане опять почувствовали себя господами, в Майапуре, пока не нашелся новый предмет для злословия, ощущалось желание изничтожить мисс Мэннерс, ее доброе имя, самую память о ней.
И возможно, это бы им удалось. Если бы не одно обстоятельство. Что Майапур — индийский город. И по прошествии времени, когда страсти улеглись и англичане забыли о трехнедельной сенсации, связанной с Бибигхаром, индийцы продолжали о ней помнить. Они ничего в ней не поняли. Возможно, если вспомнить, какой ценой они за нее заплатили, они тоже предпочли бы забыть. Но от этой истории со всеми ее тайнами у них осталось одно впечатление — пусть смутное, но упорное, как боль от старой затянувшейся раны. Что Дафна Мэннерс их любила. И не предала их даже тогда, когда казалось, что они-то ее предали. Мало кто из индийцев сомневался, что изнасиловали ее их соплеменники. Но они не верили, что в число арестованных попал хотя бы один, из виновных. И это свое убеждение они разделяли с ней. Если хотите — вместе с ней несли этот крест. Вот почему позднее они стали почитать ее за те слова, которые она произнесла и которые сперва возмутили их не меньше, чем англичан. Особенно крепко им запомнилось, что она сказала: «Откуда мне знать, может, это английские солдаты вымазали себе лица черной краской».
Да, чтобы сказать это, нужно было большое мужество. В такие-то дни! Когда в городе было полно белых солдат, японцы грозили вторжением из Бирмы и англичане готовы были усмотреть измену во всем, что нельзя было назвать патриотичным. И вот еще о чем не забудьте. Это были особенные дни. Страшная напряженность объяснялась сдвигом в сознании. Что же это за белая держава, которую могла выгнать из Малайи и прогнать через всю Бирму армия желтолицых? Вот вопрос, который индийцы задавали в открытую. И англичане тоже его задавали, но лишь в непривычной тишине своих сердец. И молились о ниспослании им времени, порядка и преданности, а ведь их нужно сначала посеять, иначе не пожнешь.
Возможно, впрочем, что ваши молитвы были услышаны. Ибо вы удивительная нация. Когда вы гуляете на солнце, вас больше всего заботит, длинную или короткую тень вы отбрасываете.
Часть четвертая. Вечер в клубе
Майапурский округ провинции и теперь, как при англичанах, делится на пять районов. Площадь его — 2346 квадратных миль. Население в 1942 году составляло один миллион двести пятьдесят тысяч. Ныне, в 1964 году, оно достигло полутора миллионов, из которых сто шестьдесят тысяч живут в городе Майапуре и около двадцати тысяч в пригороде Баньягандже, где находится аэропорт. Отсюда самолеты «Викерс» поддерживают ежедневную связь с Калькуттой, а два раза в неделю «Фоккеры» совершают рейсы в Агру с дальнейшей пересадкой на Дели. Кварталы, окружающие аэропорт, стали центром легкой промышленности. Между Баньяганджем и Майапуром расположены современные типовые оштукатуренные дома новой английской колонии, а еще ближе к городу — старый Британско-индийский электрозавод, он теперь расширен, но по-прежнему контролируется британским капиталом. После электрозавода путешественник, прибывший самолетом и знавший Майапур в прежние времена, начинает узнавать знакомые места и здания — в первую очередь краснокирпичный Технический колледж, основанный на средства сэра Нелло Чаттерджи, и кремового цвета Правительственную среднюю школу. Сразу после школы слева к шоссе подходит излучина реки и железная дорога, и отсюда шоссе ведет прямо в старый кантонмент.
* * *
На пути от европейского базара (это до сих пор самый модный торговый центр Майапура) по улице Махатмы Ганди (в прошлом — Виктория-роуд) путешественник увидит с левой стороны старые полицейские казармы, а немного дальше, справа, здание суда и тесное скопище примыкающих к нему домов, осененных деревьями, где размещались и до сих пор размещаются административные органы округа. Тут же, но почти не видное с улицы за воротами в высокой стене, и тоже в тени деревьев, стоит бунгало, некогда известное как «Мальчишня», где останавливались неженатые помощники мистера Уайта — обычно индийцы, удостоенные должностей на гражданской службе провинции, — в перерывах между разъездами по вверенным им пунктам.
Дальше по обе стороны улицы стоят еще несколько бунгало, судя по архитектуре и щедрым размерам тоже реликвии времени британского владычества; в самом просторном из них жил когда-то с супругой заместитель комиссара мистер Поулсон. А напротив, через улицу, высится дом окружного начальника полиции. Еще каких-нибудь четверть мили — и улица Махатмы Ганди выходит с юго-восточного угла на обширную квадратную площадь, майдан, на которой коротко подстриженная травка в сезон дождей зеленеет бархатным ковром, но сейчас уже пожухла. Пройдя дальше на север по Больничной улице, вы выйдете к Майапурской клинической больнице и к городской лечебнице. Если же повернете влево, то есть на запад, Клубная улица приведет вас к стадиону и клубу «Джимкхана». С того места, где сходятся старые улицы Виктории, Больничная и Клубная, видны и больничные корпуса, и здание клуба. И как раз на Клубной улице, фасадом на майдан, до сих пор красуется бунгало окружного комиссара, надежно укрытое за стеной и зеленью сада.
В половине седьмого вечера солнце опустилось за деревья, окружающие клубные здания, и четко вычертило их силуэты. Небо над майданом, бесцветное в течение, дня, словно жара выжгла из него все краски, теперь преображается. В нем наконец проступает синева, но уже подернутая желтыми отблесками солнца, так что она, словно залита поразительной светящейся зеленью и на востоке, где уже ночь, сгущается до фиолетовой тьмы, а на западе, где ночь еще не наступила, загорается красным. По краю майдана растут редкие деревья, жилище хриплых, вечно кружащих над головами ворон, которых какая-то американка, по словам леди Чаттерджи, однажды назвала «эти проклятые птицы». И действительно, в Индии от ворон никуда не деться. Проезжая по Клубной улице с леди Чаттерджи в сером «амбассадоре», принадлежащем адвокату по имени Шринивасан, с которым приезжему еще только предстоит познакомиться, можно пофантазировать о связи того, что теперь доказуемо, с тем, что тогда было неприкосновенно, и единственная одушевленная связь между тем и другим — вот эти вороны, призраки как умерших белых сахибов, так и здравствующих темнокожих наследников. В этот час на майдане людно — индийская буржуазия наслаждается здесь относительной вечерней прохладой. Здесь есть и женщины, и молодые девушки. Они болтают, прохаживаясь или сидя на корточках, и тут же играют их дети. Но общее впечатление — белизны, белизна мужских костюмов и шапок и рубашек на мальчиках, которой, как и бурой траве, вечерний свет придал розовый оттенок, изысканностью напоминающий эту фантастическую птицу фламинго. Те, что здесь дышат воздухом, беседуют негромко, словно ощущают… что ощущают? Какое-то смущение, потому что преступили некую давнюю невидимую границу? Или это только ощущение англичанина, остаточное сознание расового превосходства, официально отмененного, так что в субботний вечер, направляясь в клуб по приглашению адвоката-брахмана, с шофером-мусульманином за рулем и в обществе родовитой индианки, в быстро меркнущем свете, когда прелестный старый Майапур словно подвешен в воздухе между светом и тьмой, он, уже не облеченный ответственностью, а значит, и достоинством, разве что обрел его в самом себе, может почувствовать, что и сам висит в воздухе, подхваченный историей своих соотечественников и мощным течением, которое не стало дожидаться, пока они полностью осознают его силу, и тогда, возможно, он вспомнит с сентиментальным вздохом, что когда-то майдан был святая святых военных и гражданских правителей, и ощутит мимолетное и смутное сожаление, потому что майдан теперь выглядит совсем не так, как в прежнее время, когда здесь в этот час бывало безлюдно, только проскачут порой, возвращаясь по домам, несколько запоздалых всадников.
Правда, и в те дни на майдане собиралось в особых случаях даже больше народу, чем нынче вечером. Англичане проводили здесь свои ежегодные джимкхана — спортивные состязания — и выставки цветов и устраивали всякие зрелища, например тот парад с музыкой, в поддержку «Военной недели», на котором присутствовала Дафна Мэннерс и другие девушки, работавшие в Клинической больнице, и с ними несколько молодых офицеров из военного городка, что виднеется рядом с церковью св. Марии на дальнем конце майдана. Выставка цветов бывает и теперь, говорит леди Чаттерджи. Но розы, которые некогда выращивали англичанки, тоскуя по родине и почти не надеясь там побывать — когда-то еще мужу дадут отпуск, — розы уже не те, что были; и почти все место под тентами занято цветущими кустарниками и гигантскими овощами. Спортивные состязания тоже продолжаются, потому что Майапур все еще военное поселение, другими словами — здесь еще сохранилось уважение к традициям. Самые большие толпы, больше даже, чем в прежние дни, собирает неделя крикета, но и то сказать, теперь любые сборища на майдане более многолюдны, потому что, хотя на английских состязаниях, выставках цветов и крикетных матчах тоже присутствовали индийцы, их присутствие регулировалось приглашениями или ценами на билеты, и майдан бывал обнесен внешним заграждением из канатов на кольях и внутренним — из сетки, натянутой на столбы (только для крикета приходилось обходиться без сетки, поскольку она мешала игре и портила эстетическое впечатление), и при виде этих заграждений случайный прохожий сразу понимал, что ему туда хода нет. Теперь заграждений не возводят, если не считать тех, что на спортивных праздниках отделяют зрителей от участников, и есть в Майапуре влиятельные индийцы, потомственные отцы города, считающие ошибкой допускать сюда кого попало. В прошлом году (рассказывает леди Чаттерджи) спортивный праздник был вконец испорчен случайными людьми, которые просто забрели на майдан, но потом смешались с теми, кто заплатил за места, и даже вторглись в палатки-буфеты, вообразив, что они открыты для всех без разбора. Произошла такая неразбериха, что секретарь клуба мистер Митра заявил, что подает в отставку, но комитет уговорил его отказаться от столь решительного поступка и проголосовал за то, чтобы в дальнейшем вернуться к прежней системе двойных заграждений. Что касается крикета, то за последние пять лет было два случая, когда игроки ушли с поля в знак протеста против буйного поведения зрителей, и во втором из этих случаев зрители в отместку вторглись на поле в знак протеста против высокомерия игроков. Последовало форменное сражение, которое полиция прекратила, пустив в ход бамбуковые палки, точь-в-точь как в те дни, когда бои носили более серьезный характер.
От таких проблем англичане, живущие сегодня в Майапуре, естественно, держатся в стороне — так можно понять из слов леди Чаттерджи (на бестактные вопросы она отвечает односложно, сидя очень прямо, и тут же меняет тему). Лишь очень редко (как можно заключить из ее явного нежелания сказать обратное) англичан можно увидеть на каком-нибудь общественном мероприятии на майдане. Они не участвуют ни в выставках цветов, ни в спортивных соревнованиях, не играют здесь в крикет. Между ними словно состоялся молчаливый уговор, что майдан их больше не касается и упоминать о нем больше незачем, если только нельзя столь же кратко обозначить нечто, всем им одинаково чуждое. Да что там, попробуйте спросить кого-нибудь из них, хотя бы вон ту англичанку, что сидит с приятельницей в баре клуба «Джимкхана», перелистывая не самый свежий номер «Санди таймс» — нынешнего варианта «Болтуна» или «Зрителя», была ли она в прошлом месяце на выставке цветов, и она ответит вам непонимающим взглядом, перебросит ваш вопрос вам обратно, как захватанный, потерявший упругость теннисный мяч, словно вы заговорили на иностранном языке, которому ее обучали, но она не проявила ни способностей, ни желания: «На выставке цветов?» И ваше разъяснение: «Ну да, на выставке цветов на майдане» — не вызовет никакой реакции, кроме вздернутых бровок и дрогнувших губ, но и это будет недвусмысленно означать, что вопрос вы задали просто нелепый.
Кроме этой дамы и ее приятельницы, в баре собралось еще несколько англичан. А леди Чаттерджи — единственная индианка и сидит (вместе со своим гостем) за этим столом только потому, что первым, кого они встретили, когда вошли в клуб и узнали, что мистер Шринивасан еще не приехал, был англичанин по имени Терри — он только что вернулся с теннисного корта и, с ходу попрекнув ее тем, что она так редко бывает в клубе, заявил, что ей необходимо выпить в ожидании пригласившего ее друга, после чего провел ее и ее гостя к столику, где сидели те две англичанки, а сам умчался принять душ и переодеться, покинув леди Чаттерджи, закутанную в сари, и приезжего в полном неведении, и столик в неловком молчании, нарушаемом лишь попытками леди Чаттерджи разъяснить гостю обстановку и его попытками втянуть английских дам в светский разговор, который от недостатка элементарной вежливости все чаще перемежается паузами.
Невольно задаешь себе вопрос — сильно ли изменился клуб со времен Дафны Мэннерс. Лакеи по-прежнему ходят в белых тюрбанах с лентами под цвет широким кушакам, перехватывающим в талии их белые, до колен куртки. Белые штаны хлопают на ходу по голым коричневым лодыжкам и навевают воспоминания о беспрекословном повиновении слуг. Пожалуй, в убранстве именно этого бара можно отметить кое-какие чисто внешние перемены: пластиковая стойка вместо прежней деревянной, требовавшей частой полировки, занавески вощеного ситца, на которых абстрактный узор из спиралей сменил крупные розовые розы, и стулья строгого скандинавского фасона, вызывающие благодарные воспоминания об удобных плетеных креслах с подушками.
Но глупо было бы предположить, что вся эта современщина отражает какие-то знаменательные сдвиги, или торопиться с выводом, будто явное предпочтение, которое немногие члены клуба — англичане отдают этой комнате, само по себе доказывает их подсознательную решимость отождествить себя с чем-то прогрессивным, а значит — достойным уважения. Этот бар, выходящий на веранду, с которой можно смотреть теннис, всегда был излюбленным прибежищем майапурских дам, а сейчас единственные дамы в клубе, если не считать леди Чаттерджи, — англичанки. Если индийские дамы и поныне предпочитают проводить время у себя дома, стало быть, они же и виноваты в том, что этот бар словно бы предназначен только для европейцев.
Ну хорошо, но почему индийцев-мужчин здесь тоже не видно? И почему вон те англичане не сидят в баре со своими женщинами, а выпивают стоя, в соседней комнате, разговаривая с индийцами? И почему (даже издали, если мельком увидеть их через коридор в открытую настежь дверь старой курительной) от них веет чуть ли не стародевской чопорностью, физической щепетильностью, не свойственной мужчинам в мужском обществе? Почему, когда один из них, выпив, пересекает коридор и возвращается в бар к своей даме, он вскоре разражается слишком громким смехом, а она чуть заметно улыбается? Почему теперь он демонстрирует те агрессивные, чисто мужские черты, которых словно стыдился в курительной?
Появление в баре седого, с бледно-коричневой кожей мужчины лет шестидесяти лишь ненадолго прерывает эти недоуменные вопросы. Мистер Шринивасан среднего роста, худой, с безупречными манерами. Кожа у него чистая до блеска. Одет безукоризненно. Легкий костюм, воротничок и галстук — вот, кстати, еще одно любопытное различие. Наследники приходят сюда прилично одетые, а вот англичане словно щеголяют толстыми голыми шеями и мясистыми плечами. Мистер Шринивасан в старомодно учтивых выражениях просит прощения за опоздание, за то, что не прибыл первым и не встретил своих гостей. Он не забывает отпустить шутку (когда-то ходячую среди англичан) относительно майапурского времени, которое, как многие до сих пор считают, отстает на полчаса от индийского стандартного. Приезжий встает, чтобы пожать ему руку, и встречает кроткий, но настороженный взгляд, выражающий готовность дать отпор любому, даже замаскированному оскорблению, буде его обнаружит вскормленная долгим опытом чувствительность. Леди Чаттерджи называет его Васси и говорит: «С женой Терри Григсона вы, конечно, знакомы?» И Шринивасан отвешивает поклон в сторону англичанки, а та, прочно забаррикадировавшись за увлекательными страницами «Санди таймс», словно выходит на минуту из-за прикрытия, чуть подняв голову (это был бы взгляд на мистера Шринивасана, если б одновременно не опустились веки) и пошевелив губами (это могло бы означать «Добрый вечер», если б губы раскрылись чуть пошире). Приятельница, с которой его тоже знакомят, кивает и, по молодости лет, возможно, не столь безнадежно скованная традиционными запретами, готова, кажется, принять участие в общем разговоре, но тут миссис Григсон весьма своевременно пододвигает к ней «Санди таймс» и обращает ее внимание на какую-то интересную деталь собора в Ковентри, так что обе углубляются в иллюстрации к статье о современном англосаксонском искусстве; и посторонний не без цинизма напоминает себе, что для англичан искусство всегда имело и злободневную, практическую ценность.
Наблюдатель мог бы заметить и то, что мистер Шринивасан чувствует себя не в своей тарелке и что, если б ему удалось закончить свои дела не по майапурскому времени, а по индийскому стандартному, он уже ждал бы у подъезда, когда его машина (не самая новая, а вторая, «амбассадор») подкатит к клубу, а тогда сразу провел бы своих гостей в курительную, а не оставил на милость веселого Терри Григсона, чья жена не видит ничего смешного в том, что мистер Шринивасан и его гости из вежливости вынуждены общаться с ней хотя бы до того времени, когда Терри вернется из душевой.
А вот он и возвращается, сияющий, с докрасна растертым лицом, в мятой спортивной рубашке и мятых серых штанах, но мистер Шринивасан уже успел подозвать официанта движением худого, почти туберкулезного пальца, опросить присутствующих, кто что будет пить, и послать официанта за заказом, предварительно выслушав от миссис Григсон и следующей ее примеру приятельницы: «Мне ничего, благодарю вас». Терри появляется между уходом официанта с сокращенным заказом и его возвращением с подносом, на котором одиноко поблескивают три джина с тоником, но мистер Шринивасан уже успел спросить Терри, что тот будет пить, услышал в ответ: «Спасибо, не откажусь от пивка» — и теперь добавляет: «И пива для мистера Григсона». Миссис Григсон пододвигает к мужу свой бокал, со словами: «Закажи и для меня, пожалуйста», и он заказывает молча, только сделав официанту короткий знак. Вторая англичанка, не обладая, как миссис Григсон, талантом откровенно оскорблять людей, осталась бы ни с чем, если б Терри, пока мистер Шринивасан говорил что-то леди Чаттерджи, не спросил: «А вы, Бетти?», что дает ей возможность пожать плечами, скорчить гримасу и уронить: «Ну что ж, давайте». Поскольку на столике еще не видно ни денег, ни счетов на подпись, наблюдатель подумывает, кто же будет за всех платить, но надеется — вид у Терри почти вызывающе надежный, — что позже тот проследит, чтоб счет мистера Шринивасана не осквернила некая сумма, ведь его жена и ее приятельница просто зачахли бы с горя, узнай они, что эти деньги заплатил индиец.
Но вот, соблюдая, быть может, еще одно неписаное правило, а может быть, и повинуясь тайному знаку, толстенькая англичаночка, сидящая неподалеку, перегнувшись через стол, обращается к миссис Григсон с каким-то вопросом, и та, чуть накренившись вбок своим угловатым телом, отчего ее стул чуть заметно повернулся, сумела решительно отмежеваться от своих соседей по столику. Что именно вызвало ее интерес — расслышать трудно, потому что Лили Чаттерджи, мистер Шринивасан и Григсон (к его чести будь сказано) тоже оживленно беседуют, и приезжему остается только наблюдать и делать выводы — возможно, ошибочные; возможно, но едва ли. Ведь ничего не может быть откровеннее, чем светская колкость, колкость, в данном случае адресованная и приезжему, поскольку он явился сюда в обществе индианки и по приглашению индийца.
И в тот короткий перерыв, когда непонятно, кто что говорит, можно приглядеться к не вполне удавшемуся лицу Терри Григсона и прочесть на нем давно знакомое выражение напряженности, глубоко въевшейся скрытности, которое обесценивает улыбку и подчеркивает дипломатический расчет: расчет, который может и не устоять против упорства его надутой жены-расистки. А это достойно сожаления, если вспомнить бесконечные разговоры, которые ведутся дома о важной роли внешней торговли и о необходимости производить хорошее впечатление за границей.
— Да нет, знаете ли, — говорит Терри Григсон в ответ на вопрос мистера Шринивасана, заданный явно для проформы, не согласятся ли он и его жена пообедать в клубе с их трио — Шринивасаном, Лили Чаттерджи и ее гостем. — Вы очень любезны, но мы приглашены на проводы Роджера, надо еще заехать домой переодеться.
Означенный Роджер — это, как можно догадаться, только что ушедший в отставку директор-распорядитель Британско-индийского электрозавода. Чуть ли не каждый месяц кто-нибудь из нынешнего кочевого европейского населения снимается с места, удаляется на покой, возвращается в Англию или переезжает в другой город. Однако каждые проводы компенсируются новосельем или вечеринкой в честь прибытия чьей-то жены к мужу в тот пункт, где ему предстоит ближайший год или два зарабатывать себе на жизнь. И где бы ни протекала эта жизнь — на Британско-индийском электрозаводе, или на каком-нибудь еще промышленном предприятии, или на какой-нибудь мудреной кафедре Майапурского технического колледжа, — заработок этот достанется человеку, якобы способному лучше других руководить, управлять, организовывать или обучать. Он будет представителем нового племени сахибов. Будет, в той или иной области. Экспертом.
— Касательно нынешнего статуса английских экспертов в Индии рассказывают одну очень любопытную, но, несомненно, апокрифическую историю, — произносит мистер Шринивасан своим высоким, хорошо поставленным адвокатским голосом, после того как компания в баре распалась: Терри Григсон поспешно допил свое пиво, а его дамы — джин с тоником, и все трое отбыли переодеваться, чтобы в надлежащем виде пожелать Роджеру счастливого пути. Едва они удалились, как мистер Шринивасан провел леди Чаттерджи и приезжего через коридор в открытые двери уютной старой курительной, где стоят клубные кресла и пальмы в горшках и висят засиженные мухами картины с изображением охоты на тигра и куда медленно крутящиеся под потолком вентиляторы доносят из ресторана пряные запахи карри — и все это вместе вызывает представление о подогретой подливе и холодной баранине. Здесь теперь остался всего один англичанин. Бросив взгляд на мистера Шринивасана и его спутников, он, однако, не назвал себя, не сбросил маску сдержанной отчужденности, словно надетую для защиты от кучки окруживших его молодых, очевидно несведущих индийцев, которые расспрашивают его и высказывают свои мнения. И в связи с тем, что в ответ на вопрос, кто этот европеец, мистер Шринивасан сказал, что не знает, но думает, что он — «гастролирующий эксперт», он и рассказал ту любопытную, но, скорее всего, апокрифическую историю.
— Был тут один англичанин, — говорит мистер Шринивасан, — которому пришло время возвращаться домой, в Англию. Самый обыкновенный турист. Однажды он разговорился с индийским бизнесменом, который уже несколько месяцев тщетно добивался от правительства ссуды на расширение своего завода. Какой-то знакомый просветил его: «Не получите вы никакой ссуды, пока у вас в штате не числится ни одного технического консультанта-англичанина». И бизнесмен задумался: «Где же мне добыть такого консультанта и во что это мне обойдется, ведь он потребует контракт минимум на два-три года». Тут он и повстречался с этим английским туристом, а тот успел истратиться до последней рупии. Индиец и сказал ему: «Сэр, вы, вероятно, не прочь заработать пять тысяч рупий?» Английский турист горячо подтвердил это. «Тогда, — продолжал индиец, — я попрошу вас об одном. Отложите на две недели ваш отъезд, пока я спишусь кое с кем в Дели». И послал в правительство такую телеграмму: «Как насчет ссуды? Я уже трачу деньги на технического консультанта из Англии, а вы все молчите». Ответная телеграмма пришла немедленно — в такой-то день на завод прибудут для инспекции представители правительства. Тогда он пошел к английскому туристу, вручил ему пять тысяч рупий и сказал: «Прошу вас, приезжайте ко мне на завод в понедельник, и, кстати, понимаете ли вы что-нибудь в радиооборудовании?» На что англичанин ответил: «К сожалению, нет. Вот в древних памятниках я кое-что смыслю». «Неважно, — сказал индиец. — В понедельник, всякий раз как я толкну вас под локоть, вы только говорите: „В Бирмингеме это делается именно так“». И вот в понедельник в кабинете директора завода состоялась торжественно обставленная встреча между индийским бизнесменом, который решительно все понимал в радиооборудовании, английским туристом, который не понимал в нем ничего, и правительственными чиновниками, которые тоже ничего в этом не понимали. Перед тем как угостить завтраком, их провели по цехам, и время от времени кто-нибудь из них спрашивал англичанина: «А здесь что происходит?» И тогда хозяин толкал англичанина под локоть, и тот, будучи человеком честным, привыкшим всегда держать слово, говорил: «У нас в Бирмингеме это делается точно так же». После обильного завтрака правительственные чиновники улетели обратно в Дели, английский турист купил билет в Лондон в первом классе самолета БОАК[14], а через неделю индийский бизнесмен получил солидную правительственную ссуду и дружеское письмо от самого премьер-министра Неру.
И по этому поводу позволительно заметить, что новая сатирическая волна докатилась и до индийских берегов и растеклась ручейками в глубь страны, вплоть до далекого Майапура.
* * *
Мистер Шринивасан — старший из всех, кто сидит сейчас в курительной.
— Да, конечно, — говорит он о молодых индийцах, — это все бизнесмены. В наши дни ни один разумный молодой человек не станет служить в гражданском учреждении или заниматься политикой. Эти все как один — будущие администраторы.
На некоторых из будущих администраторов спортивные рубашки, но белоснежные и безупречно отглаженные. Браслеты от часов — накладного золота. Один из них, подойдя к леди Чаттерджи, справляется о ее здоровье. Он отказывается от предложенного мистером Шринивасаном стаканчика — ему надо бежать, у него свидание. Это уверенный в себе, крепко сбитый молодой человек. Зовут его Сурендранат. После его ухода мистер Шринивасан говорит:
— Вот вам пример. Его отец старый работник гражданской службы, юрист, а младший Сурендранат — инженер-электрик или, вернее, юноша с дипломом инженера-электрика и работает личным помощником индийца — помощника коммерческого директора на Британско-индийском электрозаводе. Диплом он получил в Калькутте, а технику сбыта изучал в Англии, тогда как при старом порядке было бы наоборот — диплом он получил бы в Лондоне, а на технику сбыта либо махнул бы рукой, либо овладевал ею на ощупь, постепенно поднимаясь по шаткой лестнице престижа и влияния. Коммерческое чутье у него несомненное, и вообще это весьма передовой молодой человек во всем, кроме личной жизни, то есть своего предстоящего брака, устроить который он с радостью предоставил родителям, вполне полагаясь на их мнение в таких сравнительно мелких вопросах.
И вон тот худощавый, серьезного вида юноша — тоже любопытный пример. Его зовут Десаи. С его отцом мы были вместе арестованы в 1942 году как члены местного подкомитета партии Национальный конгресс, а в прошлом году мы встретились в Дели, и он рассказал мне, что заявил однажды его сын: «Ты побывал в тюрьме и, очевидно, воображаешь, что это дает тебе право считать себя всезнающим». У них тогда шел спор о мистере Неру, и этот кроткий на вид юноша сказал, что мистер Неру страдает манией величия, что он уже в 1948 году изжил себя как полезный член общества, но упорно продолжает жить в прошлом и тянет Индию назад, к условиям, еще худшим, чем при англичанах, потому что ничего не смыслит в мировой экономике и взаимовлияниях. Мой старый друг Десаи был секретарем министра народного просвещения и социальных услуг в конгрессистском кабинете провинции, который пришел к власти в 1937 году, а в 1939 году ушел в отставку. А до этого он работал на гражданской службе провинции, был адвокатом, как и я. А его сын, вот этот самый молодой человек, — специалист по центробежным насосам и уверяет, что именно такие люди, как мы, виноваты в отсталости индийской промышленности и сельского хозяйства, потому что вместо того, чтобы овладевать действительно нужными знаниями, мы зря тратили время, играя в политику с империалистической державой, когда всякому дураку было ясно, что в этой игре нам не выиграть. Такие обвинения отрезвляюще действуют на стариков вроде меня, которые в то время воображали, что делают нужное дело.
А вы, вероятно, заметили, что в этой комнате нет ни одного старика, кроме меня. Где они, мои старые сообщники по политическим преступлениям? Ну, ну, Лили, не надевайте на себя непроницаемую маску раджпутской принцессы. Вы-то знаете ответ на мой вопрос. Умерли, удалились от дел либо попрятались в своих норах и доживают жизнь в полусне, на роли мелких колесиков нашей администрации. Кое-кого из них можно, вероятно, еще увидеть в том клубе. А вы не знали, что есть еще второй клуб? Это довольно-таки интересная история. Мы имеем удовольствие сидеть за столом с дамой, чей муж был одним из его основателей.
— Нелло платил взносы, но бывал там редко, — говорит леди Чаттерджи.
— И, если не ошибаюсь, он же выбрал название клуба?
В иные минуты мистера Шринивасана впору было заподозрить в умышленной автопародии.
Леди Чаттерджи объясняет: — Клуб хотели назвать МИК. Нелло просто уговорил их вычеркнуть «И».
— Так МИК превратился в МК, то есть Майапурский клуб, а с «И» назывался бы Майапурский индийский клуб. Но это неважно. Среди индийских остряков он был известен как Майапурский клуб имени Чаттерджи, сокращенно — МКЧ. Но как ни назови, он всегда был клубом второго сорта. Задуман-то он был, конечно, как клуб английского типа для индийцев — тех, что были достойны состоять членами такого клуба, но недаром было предложено включить в название это «И» — индийский. Он стал местом, где слово «индийский» было вообще важнее, чем слово «клуб». Причем «индийский» не означало «конгрессистский». Отнюдь нет. Прошу отметить это различие. В данном случае «индийский» означало инду махасабха — индийский национализм. Иначе говоря — индийская ограниченность. Это означало — богатые малограмотные баньи. Помещики, говорившие по-английски хуже, чем самый мелкий английский чиновник объяснялся на хинди. Это значило — сидеть на стуле, сняв обувь и поджав под себя ноги, есть только отвратные вегетарианские блюда и пить тошнотворные фруктовые соки. Майапур, сами понимаете, не Бомбей, и Майапурский клуб не был похож на клуб Уиллингдона, который ваш вице-король основал в приступе ярости, когда индийцев, которых он, по неведению, пригласил пообедать в Королевском яхт-клубе, поворотили вместе с их «роллс-ройсами» от подъезда, не дав ему даже времени сообразить, что случилось. Что ж, может быть, нашему милому Нелло Майапурский клуб представлялся как Уиллингдон в миниатюре. Но что случилось на деле? Один за другим индийцы того типа, что всей душой привязались бы к клубу, поскольку в то время это было бы наибольшим приближением к тому, чтобы, помня ваше английское образование, приобщиться к единственно доступной, но важной стороне цивилизованной жизни, — индийцы этого типа один за другим перестали ходить в Майапурский клуб, и чем меньше их там оставалось, тем прочнее и вольготнее чувствовали себя все эти баньи…
— Кажется, в ресторане нас ждут, все готово.
* * *
— Понимаете, — говорит мистер Шринивасан, предварительно извинившись за отсутствие говядины и присутствие баранины во всех видах, — дело в том, что эти старики, мои сподвижники, мои сообщники по преступлениям и невзгодам, те, что еще не умерли и до сих пор живут в Майапуре, теперь не так бросаются в глаза в Майапурском клубе, как здесь. Вы только взгляните на молодые лица, которые нас окружают. Ведь эти мальчики не устают нам объяснять, что не можем мы до бесконечности зарабатывать даровые обеды рассказами о том, как мы боролись с англичанами и заставили их уйти, что некоторые из нас вообще больше не обедают в гостях, кроме как друг у друга, точно старые солдаты, что за стаканчиком вспоминают минувшие битвы. А уж если решат провести несколько часов в клубе, то почти все (я-то нет) выбирают общество людей, которые почили на другого сорта лаврах, с которыми чувствуешь себя свободнее, чем со здешними членами, потому что здесь все рвутся вперед и осуждают наше прошлое. Я хочу сказать, что нам легче, например, общаться с таким человеком, как мистер Ромеш Гупта Сен — теперь это почтенный старец, ему без малого восемьдесят, но он по-прежнему каждое утро отправляется в свою контору над своим же складом у базара Чиллианвалла, К великому, надо сказать, огорчению его сыновей и внуков. А раз в неделю заглядывает в Майапурский клуб обсудить конъюнктуру с людьми, которых и тогда не интересовала политика, и теперь не интересуют ни технические советники, ни теории промышленной экспансии, а интересует их, как и во все времена, только одно — как нажить побольше денег и остаться хорошими индусами.
* * *
Уже съеден салат из креветок. Подают баранину в карри. Подошел метрдотель проследить за этой процедурой, но тут же отходит, чтобы встретить компанию англичан — двух мужчин и двух женщин из тех, что сидели в баре. Метрдотель указывает на столик, который он для них зарезервировал, но они выбирают другой, он им больше по вкусу. Мужчины оба в шортах, с голыми до туфель ногами. У женщин пухлые, с дряблой кожей руки, они в ситцевых открытых платьях. Без вязаных кофточек, которые они дома, безусловно, надели бы вечером поверх этих легких платьев, вид у них какой-то неопрятный, неодетый. Они молоды. Сидят рядом, через стол от своих мужей, бессознательно соблюдая сегрегацию, теперь уже, вероятно, не удивляющую индийцев — они привыкли к новому племени сахибов и мемсахиб из захолустных английских городков, — но до сих пор кажущуюся им странноватой, стоит им вспомнить, как осудительно англичане старого закала относились к индийскому обычаю отделять женщин от мужчин, так что эти англичане лишь очень редко решались собирать у себя в доме смешанное общество.
В ресторане тоже мало что изменилось со времен Дафны Мэннерс. Это квадратная комната, пол вымощен черно-белыми плитками, стены обшиты дубом до высоты плеча, а выше оштукатурены. Потолок опирается на три квадратные колонны, тоже обшитые снизу дубом и расположенные в случайных на первый взгляд, но стратегически важных точках. В зале десятка два столиков, круглых и прямоугольных, и на каждом — белая крахмальная скатерть, мельхиоровые вилки, ложки и судки, салфетки конусом, хромированная вазочка с двумя-тремя астрами и стеклянный кувшин с водой, накрытый муслиновой накидкой. Черная пещера огромного тюдоровского камина частью скрыта от глаз вышитым экраном. Над камином — портрет мистера Неру с выражением безмятежным, но немного растерянным. Можно предположить, что, когда здесь обедала Дафна Мэннерс, из той же рамы и с таким же выражением на нее взирал цветной портрет Георга VI. С потолка свисают на тонких трубках четыре вентилятора, нервно вздрагивая от вращения лопастей. Из двух скругленных сверху дверей одна ведет в курительную, вторая — в большой зал. Есть еще третья дверь, но та ведет всего лишь в кухню. Возле этой двери у стены стоит огромных размеров дубовый буфет. В верхнем его отделении хранятся запасные салфетки, ножи, вилки и ложки, кувшины для воды; в нижнем — корзинки с хлебом, вазы с фруктами, бутылки с соусами и запасные судки. Освещение — стенные лампы в виде свечей и несколько деревянных торшеров с пергаментными колпаками, а днем — большие окна, выходящие на затененную навесом веранду. Сейчас шторы на окнах раздвинуты, чтобы дать доступ вечернему воздуху.
Да, легко себе представить, как все это было много лет назад, особенно в субботний вечер, когда в баре, откуда вынесли старые плетеные столы и стулья, играл оркестр, а в ресторане все было подготовлено для холодного ужина у стойки. Во дворе за домом, окружающем теннисные корты, на деревьях развешаны фонарики, сюда выходили парочки посидеть между танцами, подышать воздухом до следующего фокстрота. Кое-кто плавал в небольшом подсвеченном бассейне позади раздевалок и душевых, сегодня бассейн этот погружен во мрак, его пора чистить (говорит мистер Шринивасан, показывая своим гостям все клубные владения после мороженого, последовавшего за бараниной в карри), и вообще им теперь пользуются мало, поскольку он доступен равно для всех, и ни индийцы, ни белые особенно не жаждут в нем купаться, не будучи уверенными, что последний, кто там плескался, был чистым. Рассказывают, что два-три года назад какой-то англичанин вылил в бассейн все ночные горшки из умывальных кабинок.
* * *
— Но я начал вам рассказывать, — говорит мистер Шринивасан и ведет своих гостей обратно через опустевший бар в курительную, где тем временем собралось порядочно публики, в том числе даже несколько женщин в сари, судя по всему — военных жен, — я начал рассказывать о людях, с которыми нам, взращенным на судебных досье и прецедентах и вскормленным на политике, теперь легче общаться, чем со здешними завсегдатаями.
Мистер Шринивасан поднимает палец, появляется лакей и принимает заказ на кофе и коньяк.
— И я упомянул Ромеша Чанда Гупта Сена, — продолжает он. — Это любопытный тип. Для Ромеша Чанда бизнес всегда стоял на первом месте, а политика на последнем. Нет, даже не на последнем. Ни на каком. Он нажил три состояния, первое еще в довоенные годы, второе во время войны и третье уже при независимости. Ни одному из своих сыновей не разрешил после окончания Правительственной средней школы продолжить образование. Я как-то спросил его, почему так. Он ответил: «Чтобы преуспеть в жизни, надо немножко читать, еще меньше писать, научиться решать простые задачи на умножение и понимать свою выгоду». Он женился на девушке, которая даже свое имя написать не умела. Вести хозяйство она тоже не умела, но этому ее обучила его мать, для этого индийские матери и существуют. Когда его младший брат женился на девушке по имени Шалини Кумар, Ромеш предсказал, что ничего хорошего из этого брака не выйдет, потому что в ее семье образование разрешалось и в результате брат Шалини уехал жить в Англию, а сама Шалини прекрасно писала по-английски. Она рано овдовела. Поверите ли, после смерти ее мужа все женщины из семьи Ромеша Чанда уговаривали ее презреть закон и совершить сатти. Она, разумеется, отказалась. Какой женщине, если она не сумасшедшая, улыбается сгореть заживо на погребальном костре супруга? И отказалась выехать из мужнина дома у базара Чиллианвалла. Это я вам не просто так говорю, это может вам пригодиться.
Не кто иной, как Ромеш Чанд, настоял, чтобы ее англизированного племянника Гари Кумара вернуть в Индию, когда умер ее брат, отец Гари, и мальчик остался без гроша в кармане и без крыши над головой. Мы-то подозревали, что отец Гари покончил с собой, когда убедился, что все его безрассудные спекуляции кончились крахом. Как бы там ни было, когда миссис Гупта Сен узнала о смерти брата, она пошла к Ромешу и попросила у него денег, чтобы Гари мог остаться в Англии, окончить там хорошую закрытую школу и поступить в университет… Какой это был год? Тысяча девятьсот тридцать восьмой. Своих средств у нее почти не было. Жила она как вдова, одна в доме у базара, можно сказать — на иждивении у своего деверя. И только потому, что она всегда хотела иметь сына, собственного ребенка, она согласилась на контрпредложение Ромеша — выписать Гари домой, чтобы жил с ней и научился быть хорошим индусом. Ради такой благородной цели Ромеш даже выразил готовность оплатить Гари проезд в Индию и увеличить ежемесячное пособие миссис Гупта Сен. Она ведь долго прожила одна, почти не выходя из дому. Сама стала без пяти минут хорошей индуской.
Жизнь она вела самую скромную. Юный Гари, должно быть, пережил изрядный шок. Дом, в котором она жила, снаружи выглядел вполне современно. Вы, помнится, называли такие дома солнечными. Новые дома выросли там после перестройки квартала в конце двадцатых годов. А раньше там был пустырь, и назывался он по имени некоего Чиллианваллы, парса, которому принадлежала земля. Парсы тоже всегда отличались деловыми способностями, но они гораздо больше переняли от запада, их и индийцами-то назовешь только с натяжкой. У наследников Чиллианваллы землю купил синдикат майапурских бизнесменов во главе с Ромешом Чандом — сам он ни за что не стал бы жить в одном из модных домов европейского типа, которые там предполагалось возвести, однако в прибылях, которые сулили эти дома, не видел ничего сверхмодного и предосудительного. Мало того, именно с целью вернее обеспечить будущему кварталу необходимые удобства — освещение, водопровод, канализацию, а также правительственную ссуду, — он добился для своего в общем-то никчемного младшего брата, того, что женился на Шалини Кумар, должности в муниципалитете. И со временем там поднялись эти солнечные уроды — солнечные только по названию, потому что, когда кругом столько солнца, его не улавливать нужно, а не впускать, окна, к примеру, делать очень маленькие, раз нет старомодных широких крытых веранд. И в один из этих домов, в дом номер 12, въехал брат Ромеша со своей женой Шалини, и туда же почти десять лет спустя приехал на жительство юный Гари Кумар и наверняка пережил серьезный шок, потому что дома эти темные, душные, с маленькими комнатами, крутыми лестницами и уборными в индийском стиле. К тому же в доме 12 почти не было мебели. Муж миссис Гупта Сен, когда въезжал туда, купил полную обстановку, но заплатил за нее деньгами, взятыми в долг у Ромеша, а тот с тех пор почти всю ее распродал, чтобы не остаться внакладе. И самый дом был заложен. Мне все это известно, потому что я был тем, что вы, англичане, называете поверенным этой семьи.
Да, совершенно верно. Лили меня предупреждала, что вы догадаетесь. Именно так. Это был я. Я был тем адвокатом, за которым Ромеш Чанд послал в то утро, когда сестра Людмила пришла к нему в контору и рассказала, что Гари Кумара забрали в полицию. Они думали, что он арестован. Это, понимаете, было примерно за полгода до того, как меня самого арестовали. Ромеша ни капли не смущало, что политически я неблагонадежен. Пользу политики он понимал так же, как закон сокращающихся доходов. Я побывал в полицейском участке, узнал, что Гари уже отпустили, вернулся к себе в контору и послал своего клерка к Ромешу с запиской, а сам отправился в дом 12 узнать, что у них там произошло.
Гари не пожелал ко мне выйти. Но с его тетушкой мы были добрыми друзьями. Мы всегда говорили с ней по-английски. А с Ромешем приходилось говорить на хинди. Она сказала: «Передайте Ромешу, что это было недоразумение. Зря он только всполошился». Я спросил, правду ли я слышал в полиции, будто Гари напился пьян и эта сумасшедшая принесла его в дом, который называла своим святилищем. Раньше я не слышал, чтобы он напивался. Он доставил своим родичам много хлопот, но в образе жизни казался воздержанным. Она не знала, был он накануне пьян или нет. И сказала еще: «Зато я знаю, что его здешняя жизнь, а значит, и моя становится нестерпимой».
Этот Гари Кумар был, понимаете, как раз из тех молодых людей, каких Нелло имел в виду, когда задумал основать Майапурский клуб. Но ко времени Гари клуб уже заполонили баньи — расселись там, как Будды, созерцающие тайны прибылей и убытков. И конечно, там не было женщин. Не то чтобы этот клуб и был предназначен только для мужчин, но таким он стал, таким остается и по сей день. Отчасти поэтому я и составляю исключение из правила, предпочитаю старый «Джимкхана»! Вон та дама — жена полковника Вармы. Прелестная женщина! Надо вас с ней познакомить. Генерала Мукерджи с женой сегодня здесь нет, но это, наверно, потому, что они приглашены на первые проводы Роджера. В следующую субботу будут вторые проводы, на те даже я приглашен.
— И я тоже, — говорит леди Чаттерджи. — Меня и на сегодня приглашали вместе с остальными попечителями Технического колледжа, но я сказала, что сегодня не могу, так что тоже буду на втором вечере.
— Значит, поедем вместе? Отлично. Ну а пока, сэр, скажите, заметили вы, что здесь совсем не осталось англичан?
— Все поехали к Роджеру?
— О нет. Из тех ваших соотечественников, что были здесь нынче вечером, там будут только мистер и миссис Григсон и ее приятельница. Григсоны — высшая категория. Остальные англичане, которых вы видели, — низшая. Роджер окрестил их «десятниками». Он, говорят, и «Джимкхану» прозвал «Клуб Десятника». Один из этих «десятников» как раз и вылил ночные горшки в бассейн. После чего какому-то его приятелю взбрело в голову устроить небольшое «дивали» — пародию на наш праздник огней, и они достали свечей, прилепили их на дно ночных горшков, зажгли и пустили плавать. Кое-кто из бывших при этом членов-индийцев заявил протест секретарю, а один из них, помоложе и покрепче, заявил протест непосредственно джентльменам, придумавшим себе такое веселое развлечение на наш счет. Но те пригрозили бросить его самого в бассейн, притом в выражениях, которые я не могу повторить. Я, ни в чем не повинный свидетель, расценил всю ситуацию как в высшей степени любопытную. Это был образчик английских клубных забав, о которых многие из нас слышали из вторых и третьих рук, а мне еще невольно вспомнились студенческие шалости в колледже. Однако данное безобразие не было студенческой шалостью. Ну да, они были пьяны, но не забудьте — in vino veritas[15]. Просто у них тормоза не работали. Простите, Лили, я вижу, вам эта тема неприятна. Давайте пригласим сюда полковника Варму с женой?
Полковник — длинноногий, гибкий мужчина, а его жена — изящная, гибкая женщина, и индийскую одежду она, похоже, носит скорее ради театрального эффекта, чем для удобства или из принципа. Прикрывается миссис Варма и тонкой скорлупкой почти мужской жесткости, некогда отличавшей внешность английских военных жен. Какой трепет она, должно быть, вселяет в нежное сердце каждого новоиспеченного офицерика! Ум у нее острый и ранить может так же больно, как парадная сабля ее мужа. Сегодня он, положим, в штатском. Они собираются в кино, на десятичасовой сеанс, — в английское кино «Эрос», а не в индийский «Маджестик». Разговор заходит о Париже, потому что фильм — из парижской жизни. Сюжет, говорят, ерундовый, но операторская работа интересная, а потом муж и жена встают, прощаются. Пора по домам, и Лили уходит напудрить нос.
— Пока ее нет, — говорит мистер Шринивасан, — я могу вам кое-что показать. — И ведет гостя в зал с черно-белым полом, где в стене, между двух буйволовых голов, есть дверь красного дерева с медной ручкой. Как буйволы, так и дверь снабжены надписями. Первого буйвола преподнес клубу майор У. А. Тиррел-Смит в 1915 году, второго — мистер Брайан Ллойд в 1925-м. А на эмалированной дощечке на двери всего одно слово: «Секретарь». Мистер Шринивасан стучит и, не услышав ответа, отворяет дверь, включает свет. В небольшой комнате со стареньким шведским бюро царит запустенье. — Как первый секретарь-индиец клуба «Джимкхана», каковую должность я исполнял с 1947 по 1950 год, — говорит мистер Шринивасан, — я, надо полагать, имею право входить сюда без спроса, — и подходит к шкафу, в котором целая полка ветхих книг отмечает различные стадии в административной истории клуба. Среди них несколько томов, переплетенных как конторские книги, на корешках золотом вытиснено «Члены клуба», а пониже, черным, — две даты.
— Вот это может вас заинтересовать, — говорит он и достает том с пометой 1939–1945.
Страницы разлинованы голубым по горизонтали и красным по вертикали, чтобы разграничить столбцы, где значатся дата, имя члена клуба и имя его гостя.
— Вам могут попасться здесь имена членов-индийцев, — поясняет мистер Шринивасан. — Их немного, и все это, конечно, были офицеры на службе у короля-императора. Эти господа являлись сюда только поиграть в теннис. Когда офицеры этой категории стали появляться в Майапуре, комитет оказался в довольно-таки затруднительном положении. Офицеры здешнего гарнизона всегда могли стать членами клуба. Им даже вменялось в обязанность платить членские взносы, независимо от того, бывали они в клубе или нет. И не пустить их сюда, если это были индийцы, было нельзя, это значило бы оскорбить мундир английского короля. В 30-х годах поговаривали о том, чтобы основать еще один клуб, а «Джимкхану» сохранить только для старших офицеров, тогда сюда, вероятно, не удостоился бы попасть ни один индиец. Но на это не нашлось денег. И офицеры-индийцы сами разрешили эту проблему — ограничили свои посещения клуба теннисными кортами. Они не купались в бассейне, в бар заходили редко, не обедали здесь никогда. С той и с другой стороны находились соответствующие оправдания. Индиец мог притвориться трезвенником — так стоит ли ему приходить в клуб, раз он не может полностью участвовать в клубной жизни? Англичане принимали такую отговорку как вежливый, чисто джентльменский способ не упоминать впрямую, что жалованье индийские офицеры получают меньше, чем англичане в том же чине, а потому и не пытаются с ними тягаться. Если индийский офицер был женат, все выглядело еще проще. Англичане всегда исходили из предпосылки, что индианки терпеть не могут появляться в смешанном обществе, и женатый офицер-индиец появлялся здесь еще реже, чем холостые: ему, видите ли, интереснее сидеть дома с женой.
И право же, это не причиняло особого беспокойства ни той ни другой стороне. Индиец, добиваясь офицерского звания, знал, на что идет. Обычно ему было достаточно сознавать, что забаллотировать его по национальному признаку здесь не могут, англичанам же было достаточно знать, что даже если он появится в «Джимкхане», то долго там не засидится. Ну и конечно, если бы возникли отдельные трения, можно было не сомневаться, что какой-нибудь английский генерал живо все уладит. Лишь когда началась война и гарнизон пополнился не только новыми офицерами-индийцами, но и англичанами — офицерами лишь на время войны — только тогда комитету пришлось собраться и выработать официальное правило. И тут, понимаете, решение подсказал трезвый анализ сложившейся обстановки. Во-первых, приток офицеров превышал физические возможности клуба. Во-вторых, новые офицеры не только имели временное звание, но и сами являлись как бы временными, в том смысле, что их в любой день могли перевести в другое место. И среди них, конечно, были люди, в гражданской жизни занимавшиеся самыми разнообразными профессиями, вплоть до таких, что они, как бы это сказать, могли помешать им чувствовать себя в здешней атмосфере свободно. Так что комитет впервые был вынужден подумать о том, как закрыть доступ в клуб не только индийцам, но и кое-кому из собственных соотечественников. Мы, не претендовавшие на членство, из-за кулис наблюдали их колебания с величайшим интересом. Правило, выработанное комитетом, являло собой великолепный чисто английский компромисс. Сводилось оно к следующему; на то время, пока длится война, будут приняты особые меры, чтобы открыть двери клуба для максимально возможного числа офицеров. С этой целью обязательная уплата членских взносов отменяется для всех, кроме кадровых офицеров, и вводятся два новых типа клубного членства. Временным офицерам предлагалось на выбор либо «специальное членство», предполагавшее уплату членских взносов и рассчитанное, конечно, на привлечение людей воспитанных, умеющих себя вести, либо «временное привилегированное членство», которое давало временным привилегированным членам право пользоваться клубом лишь в определенные дни недели и могло быть аннулировано без предупреждения. Этот последний пункт как будто отражал понимание комитетом временного характера пребывания офицера в городе в связи с военным временем. На самом же деле он давал возможность закрыть доступ в клуб любому офицеру этой категории, уронившему себя недостойным поведением. Привилегированный временный член должен был платить по счетам наличными, кредит ему не открывали. Кроме того, с него взимали сбор за пользование рестораном и так называемый сбор на поддержание клуба — за пользование бассейном и теннисными кортами. Ему разрешалось приводить только одного, «апробированного» гостя с уплатой дополнительного ресторанного сбора. «Апробированный» официально означало санкционированный комитетом, но фактически означало также — одобренный непосредственным начальником данного офицера, а тот, конечно же, разъяснял своим юным балбесам подчиненным, надевшим мундир только в виду чрезвычайного положения, каких именно гостей можно приводить в клуб. Официально это служило гарантией от появления в клубе неподобающего типа женщин. Неофициально это означало запрет приводить индианок и англо-индианок, а также индийцев и англо-индийцев, если только предполагаемый гость сам не был офицером на службе Его Величества. И стоимость одного вечера в клубе была повышена до такого уровня, что чаще одного раза в месяц офицер военного времени не мог позволить себе такое удовольствие, если только не имел средств помимо жалованья. То был период, когда процветал отель Смита. Процветал и военный ресторан, и, разумеется, Майапурский индийский клуб. Китайский ресторан у европейского базара нажил состояние, в кино «Эрос» надо было покупать билеты за два-три дня. Что касается старого «Джимкханы» — что ж, кое-какие неприятные эпизоды он пережил, но в общем сумел сохранить атмосферу и социальной, и национальной исключительности.
Любопытная аномалия, однако, состояла в том, что даже в те сравнительно либеральные дни, о которых твердолобые консерваторы говорили: «Это еще только цветочки!», индийские чиновники гражданской службы, даже высокопоставленные, не допускались в клуб ни как гости, ни тем более в качестве членов. А это означало, например, что окружной судья Менен, такой замечательный человек, не мог здесь появиться, даже если бы его привел окружной комиссар. Писаного правила на этот счет не было. Правило было неписаное, но комитет придерживался его неуклонно, и ни один отвергнутый, если судить по такому яркому примеру, как Менен, не попытался его нарушить.
Впрочем, по этой книге вы убедитесь, что еще в мае 1939 года окружной комиссар мистер Робин Уайт осмелился привести сюда целых трех индийцев, не служивших в армии короля-императора, а именно: министра народного просвещения и социальных услуг в кабинете провинции, его секретаря (моего старого друга Десаи) и меня… Да, разумеется, это почерк самого мистера Уайта. Вы не умеете определять характер человека по почерку? Нет? Ну да ладно, это длинная история, доскажу в другой раз, а то Лили, наверно, уже нас хватилась.
Но приезжий, до того как захлопнуть книгу, пролистал записи 1942 года и нашел кое-какие знакомые имена. Согласно правилам, каждый член клуба расписывался, когда являлся в клуб впервые, а потом — всякий раз, что приводил гостя. В апреле здесь имеется почти неразборчивая подпись бригадного генерала Рида. Робин Уайт расписывался несколько раз, когда его гостями были, по словам мистера Шринивасана, члены секретариата, чиновники налогового управления, а однажды — губернатор с супругой. И — тоже несколько раз — попадается четко выведенная круглым ученическим почерком подпись Роналда Меррика, начальника полиции, и тем же почерком, — имя его гостьи мисс Дафны Мэннерс.
А в один из дней февраля 1942 года здесь расписался капитан Колин Линдзи, надо думать — когда побывал здесь первый раз как временный привилегированный член майапурского клуба «Джимкхана». Подпись капитана Линдзи твердая, трезвая, в отличие от другой — ту нетрудно вообразить, хоть в книге она и не значится, — от подписи его старого друга Гарри Кумера, которого примерно в это же время сестра Людмила нашла мертвецки пьяным на пустыре, где жили в нищете и грязи местные неприкасаемые.
* * *
По вечерам район бывшего кантонмента к северу от реки до сих пор рождает ощущение пространства, еще едва затронутого вторжением кирпича и бетона и цивилизаторских теорий о тактичной, но необходимой урбанизации колониальных владений. От опустевшего, погруженного в тьму майдана, над которым носятся непрерывные потоки теплого, даже сладострастного воздуха, касаясь щеки как едва заметное дуновение скорее нервирующего, чем освежающего ветра, исходит мрак души, какая-то тяжесть проникает в сердце и рождает печаль, и печаль эта въедается в тело человека (из года в год, пока этот груз не становится одновременно невыносимым и драгоценным), если такой человек свыкся, но так до конца и не примирился со смыслом и условиями своего изгнания и в существовании этого, казалось бы, никчемного пространства со странным, но романтическим названием «майдан» видит предусмотрительную заботливость своих предшественников, их привязанность к чему-то, сколько им помнится, типичному для родины, к тишине и мраку, осенявшим неогороженный общинный выгон, хотя бы отдаленно отражающий капризную смену времен года. Чтоб можно было увидеть здесь — дом. А вон там — церковный шпиль. И повсюду — небо. Тихое, синее. А не то, на марше, с бронированными тучами. Или серое, под цвет серому камню норманнской церкви. Или темное: опрокинутый сосуд из черной стали, притягивающий искры света, либо, когда ты в другом настроении, — потрясающую циклораму, освещенную только мерцающими ночными точками на четком, но непостижимом геометрическом чертеже.
И еще — по вечерам усиливается тот особый запах — сухая, обжигающая ноздри смесь из пыли от земли и дыма от костров, на которых жгут нечистоты; запах, к которому не сразу привыкаешь, но со временем он становится неотъемлемой частью того представления об Индии как о стране варварской, если не трагической красоты, что складывается у путешественника, у изгнанника, у старожила. Это запах, словно бы не имеющий определенного источника. Это не только запах жилья. Возможно, это запах многовековой истории страны, ее народа. Он присутствует и там, на безбрежных равнинах, и здесь, в городе. И, вдохнув его чуть более крепкую разновидность, когда машина проносится мимо ларька на углу, еще освещенного масляной лампой, вспоминаешь, что он живет и на равнинах, и еще острее ощущаешь, что он проникает всюду, что он везде, и ощущаешь огромность несчитанных, немереных акров земли и камня, что раскинулись там, куда свет лампы не достигает.
Сейчас они все трое в большой машине, в «студебекере», и домой едут длинным, кружным путем — на север вдоль западной стороны майдана, оставляя слева отель Смита, построенный в стиле швейцарского шале и слабо освещенный, как и подобает заведению, существующему уже много лет, но до сих пор недостроенному. Это Церковная улица, она ведет к церкви св. Марии и к военному городку. По этой улице старая мисс Крейн каждое воскресенье, в любую погоду, проезжала на велосипеде, и вряд ли улица с тех пор сильно изменилась, хотя баньяны, затеняющие ее днем, а ночью смыкающие над головой свои ветви в подобие зеленого туннеля, за последние двадцать лет наверняка пустили в землю немало новых висячих корней. Церковная улица — продолжение той, что ведет к Мандиргейтскому мосту, и в этот час машину задерживают неспешные вереницы телег, запряженных горбатыми буйволами, — они движутся домой, в деревни, разбросанные на равнине к северу от Майапура. В открытые окна «студебекера» доносится звон их бубенцов, приглушенный, но явственно различимый в горячем ветре, залетающем в машину. Телеги возвращаются порожняком. Вся кладь, что была привезена, продана на базаре Чиллианвалла. Теперь они везут груз полегче — городские покупки и детей хозяина. Дети почти все спят, лишь изредка кто из них приподнимется и, словно увидев сон наяву, заглядится на фары.
На мгновение, когда «студебекер», развернувшись на повороте, берет вправо, вдоль северной стороны майдана, приезжий, при виде шпиля св. Марии, тоже окунается в сон наяву — очень уж эта церковь английская. Иллюзия полная. Такой, вероятно, была церковь в другой части Пенджаба, куда давным-давно зашла мисс Крейн в поисках достойного применения своим силам. Тот же серый камень. То же успокоительное чувство, что здесь обитает дух, пекущийся специально об англичанах. Но теперь мало кто из англичан ходит в церковь. Здешние прихожане — это англо-индийская община. Священник — его преподобие А. М. Гхош. Может быть, его святость стала у них предметом дежурной шутки?
Рядом с церковью и прилегающим к ней кладбищем — дом священника. Сегодня в нем, как и в церкви, темно. От церкви несколько бунгало отмечают путь к военному городку. Днем, с самолета, городок являет собой узор из прямых улиц и кучек старых и новых строений: ближе к улице, по которой сейчас катит машина, — красные, обсаженные деревьями викторианские казармы, а за ними низкие новые бетонные дома. Но сейчас, вечером, с улицы кажется, что там пустота, лишь редкие огоньки выдают присутствие человека. Но вот немного дальше появляется большое, в классическом стиле здание бывшего артиллерийского собрания и первые солдаты: два часовых у белого шлагбаума, перегородившего проезд налево, в темноту. В прежнем артиллерийском собрании теперь штаб военного района. А в 1942 году здесь был штаб бригады, которой командовал генерал Рид. Дальше ощущение пустого пространства слабеет. Белые стены, деревья, подъездные дороги — это пригород, где расположены бунгало старших офицеров. А потом впереди возникает освещенный, как океанский лайнер, главный корпус Майапурской клинической больницы. «Студебекер» сворачивает вправо, на Больничную улицу, и вдоль восточной стороны майдана — обратно к слиянию Больничной, Клубной и улицы Махатмы Ганди (бывшей Виктория-роуд), главной магистрали кантонмента.
— Покатаемся еще немножко, — предлагает мистер Шринивасан, — время еще не позднее, — и велит шоферу ехать мимо «Мальчишни», здания суда и полицейских казарм к европейскому базару, а потом опять направо, той дорогой, какой сестра Людмила ходила в Имперский (ныне Государственный) индийский банк, по узким улочкам, где евразийцы жили в маленьких домиках задами на владения железной дороги, и оттуда влево, к Мандиргейтскому мосту, мимо главной миссионерской школы и миссионерской церкви (та и другая до сих пор процветают) — к переезду, где машина останавливается, чтобы переждать почтовый поезд с запада, который вот-вот должен пройти.
За переездом — мост, а за мостом — черный город, еще ярко освещенный и полный жизни. Ступени, ведущие от реки к храму Тирупати, залиты неоновым светом. По ним спускаются и поднимаются люди, входят во двор храма. Отсюда теплый воздух, пахнущий рекой, залетает в открытые окна неподвижной машины.
— Вечно они закрывают шлагбаум точно по расписанию, — жалуется мистер Шринивасан, — а ведь прекрасно знают, что поезд опаздывает на полчаса. Давайте я, чтоб скоротать время, расскажу вам, как Робин Уайт провел министра народного просвещения, меня и моего друга Десаи в клуб в мае 1939 года.
* * *
Мы сидели в бунгало комиссара, и в шесть часов вечера, прозаседав три часа, Робби сказал: «А теперь, пожалуй, пропустим по стаканчику в клубе?» Мы, конечно, подумали, что он имеет в виду Майапурский клуб, но он добавил: «В „Джимкхане“». Мы удивились. Министр вежливо отказался. Может быть, он заподозрил шутку. Но мистер Уайт и слушать не хотел никаких возражений. «Все уже подготовлено, машина ждет. Поехали на часок!» И мы поехали. Это был первый раз, что я туда вошел. Первый случай, что туда вошел индиец-невоенный. Первый и последний, потому что комитет не допустил, чтобы комиссар совершил такую бестактность вторично. Но в тот вечер стоило посмотреть на лицо швейцара, когда он открыл дверцу машины и увидел нас! Робби сказал ему: «Хуссейн, доложи секретарю, что я приехал с министром просвещения и его друзьями». Да, скажу я вам, это была минута! Мы с Десаи медленно двинулись следом за мистером Уайтом и министром, медленно, потому что Робби хотел дать швейцару время добежать до секретаря. На веранде мы все остановились, и, хотя уже почти стемнело, Робби стал неторопливо разъяснять, где расположены какие клубные владения, пока не решил, что секретаря нашли и предупредили. К тому времени я, понимаете, уже сообразил, что наш приезд вовсе не был оговорен заранее, а только представлялся как одна из возможностей. Комиссар с чисто английской осмотрительностью решил сперва выяснить, что собой представляет этот министр, а уж потом пойти на рискованную авантюру, пригласив его в клуб. Но министр не подкачал. Оказалось, что он учился в Веллингтоне и в Оксфорде и, так же как сам комиссар, любит Шекспира, Драйдена и романы Генри Джеймса, а также одобряет Правительственную среднюю школу и деятельность местных органов народного просвещения. Кроме того, они с удовольствием разошлись во мнениях относительно Редьярда Киплинга — мистер Уайт ставил его невысоко, а министр — как впоследствии Т. С. Элиот — очень ценил. Поспорить всегда полезно, это лучший способ проверить, крепко ли человек держится своих убеждений.
И вот появился секретарь. Это был некто Тэйлор, в прошлом выслужившийся из рядовых офицер-кавалерист, достигший положения в обществе благодаря званию поручика квартирмейстерской службы, а положения в клубе потому, что умел, как никто другой, организовать ежегодные спортивные состязания. Я видел, как он вышел из своего кабинета в зал. У Робина Уайта был бесценный дар: он умел видеть затылком. Он обернулся и сказал: «А-а, Тэйлор, добрый вечер. Мы сегодня имеем честь принимать у себя представителей правительства нашей провинции. Разрешите мне, господин министр, представить вам самого важного члена нашего комитета, его секретаря поручика Тэйлора». Это поставило несчастного Тэйлора в безвыходное положение. Индийцев он ненавидел, но зато обожал комиссаров и знаки уважения к своей особе. И Робби это было известно. Сам Робби был одним из старших членов комитета, но у него хватило ума держаться в тени и не заявлять о своих правах без особой надобности. В данном случае речь шла о праве привести в клуб гостей, подходящих под категорию почетных. Даже министр правительства провинции — это как-никак министр, и, сколь бы ни противен был его цвет кожи рядовому колониальному чиновнику, это не меняло того обстоятельства, что свой пост он получил в результате демократических выборов, проведенных с ведома и полного одобрения генерал-губернатора его величества английского короля. Притом в полном соответствии с официальной английской политикой — постепенно, шаг за шагом, продвигать Индийскую империю по пути к самоуправлению и статусу доминиона.
И все же Робин Уайт ставил себя под удар. Клуб — это клуб, частное владение, куда посторонний не имеет права войти даже как гость без разрешения клубного начальства. Вспомните конфуз лорда Уиллингдона в Королевском яхт-клубе в Бомбее. Но Робин знал, с кем имеет дело. Секретарь краснел, бледнел, но устроить скандал побоялся. Он попробовал было провести нас в небольшую гостиную дальше по коридору, но Робин уже знал, что теперь он нас не выставит, и ввалился прямо в курительную, где мгновенно наступило тягостное молчание.
Дорогой мой, я, кажется, до смертного часа буду помнить, какое тогда испытал смущение. Смущение тем более острое, что к нему примешивалась своего рода гордость, которую я и описать не могу. Неужели это действительно я, человек уже не первой молодости, и не чаявший когда-нибудь переступить порог этого храма? И знаете, что меня больше всего в нем поразило? Его старомодное убожество. Чего я ожидал — сам не знаю. Но это был настоящий шок. Попробую выразиться яснее. Такой шок можно определить как шок узнавания. Вероятно, потому, что англичане не пускали нас в клуб, мы вообразили, что это такое место, где их худшие стороны проявляются особенно коварно и злостно. А оказалось наоборот. Мы увидели только то, что давно знали и чего, конечно же, следовало ожидать. Может быть, вам легче будет это понять, если я опишу вам Робина Уайта, каким он мне запомнился. Он был еще молодой, не старше сорока, очень высокий, с одним из тех английских лиц, которые нас отпугивали, потому что не могли, как нам казалось, выразить никаких чувств. И мы гадали: то ли этот человек очень умен и потенциально к тебе расположен, то ли он дурак. А если дурак, то какой, полезный или опасный? Много ли он знает? Что он думает? А когда улыбается, то почему? В ответ на наши шутки или собственным мыслям? Из отвращения ли к нам отгораживается тонким ледяным барьером или от стеснительности? Спокойнее, пожалуй, было иметь дело с английскими лицами другого типа, на которых все написано, хоть мы и знали, что они дай бог полгода останутся открытыми и дружескими. В таких лицах хотя бы не таилось никаких загадок. Различные стадии, которые они претерпевали, легко было не только увидеть, но и предсказать. А вот это узкое, обращенное в себя лицо долго сбивало с толку. Бывало, человек с таким лицом появится и исчезнет, а мы так и не успевали узнать о нем правду. Иногда мы о нем больше и не слышали. А порой узнавали, что он занял какую-нибудь высокую должность, и тогда могли хотя бы убедиться, что дураком он не был, хотя из дальнейшей его деятельности выяснялось, что не был он нам и другом.
Вот, например, с предшественником Робби Уайта, Стэдом, все было ясно. Некоторые члены подкомитета предпочитали правление Стэда, потому что он являл собой прямо-таки карикатуру на холерика-коллектора дней Ост-Индской компании. Мы, бывало, говорили, что он наказывает весь округ за то, что считает несправедливым отношением к себе со стороны своих начальников по службе. Если бы он в 1937 году уже почти не достиг пенсионного возраста, наш первый министр внутренних дел попытался бы добиться его повышения, а на его место продвинул бы индийца. Тогда нам не, видать было бы Робина Уайта. Это было бы, может быть, и не плохо, но, на мой взгляд, не так уж и хорошо. Впрочем, это лично я так считал. Не все разделяли мою точку зрения. Иные, как я уже сказал, предпочитали Стэда, потому что он давал нашему подкомитету столько поводов жаловаться в комитет Конгресса в Дели (что вызывало запросы в так называемом центральном законодательном собрании) и столько поводов окружной и городской управе для жалоб в правительство провинции. Слишком многие из нас предпочитали глодать кость сиюминутного раздора и не держаться дальновидной политики, которая могла бы привести к сотрудничеству и самоуправлению.
Стэд любил мусульман, если так можно сказать о человеке, который всех индийцев считал людьми низшей расы. Он не скрывал своего предпочтения, и это только подливало масла в нелепую межобщинную вражду. Среди его помощников двое были мусульмане. Когда в провинции пришло к власти правительство Конгресса, он перевел одного из этих мусульман из сельского района в Майапур, и таким образом этот человек стал прямым помощником комиссара и по административной, и по судебной линии. К несчастью, этот мусульманин Саид Ахмед был воинствующего толка. В его суде всех правонарушителей-мусульман либо оправдывали, либо приговаривали к самым легким наказаниям. С индусами же расправлялись весьма сурово. В отместку окружная управа, в большинстве индусская, постановила, что в сельских школах дети-мусульмане должны распевать конгрессистские песни и салютовать флагу Конгресса. Межобщинные распри всегда набирали силу очень быстро. Вспыхнули волнения в Танпуре, входившем в юрисдикцию второго мусульманского помощника Стэда, некоего Мохаммед-хана. Наш подкомитет обратился в правительство провинции с заявлением, что и Мохаммед-хан и Саид Ахмед подстрекают мусульманскую общину провоцировать беспорядки. Гражданская служба не была подвластна кабинету провинции, но случались обстоятельства, когда оттуда могли оказать нажим, особенно если удавалось изложить дело достаточно убедительно. В результате Стэд получил указание перевести Саид Ахмеда в Танпур. Мохаммед-хана перебросили в другой округ, и при Стэде остался заместителем молодой англичанин, некто Таптон, переведенный сюда из другого округа. Положение почти не изменилось, потому что Таптону мусульмане тоже нравились больше, чем индусы, так что Стэд только посмеивался, пока не ушел в отставку, а тогда у нас водворился Робин Уайт. Ну а Робин сразу сцепился с Таптоном и добился, чтобы ему дали заместителя, которого он сам выбрал, — молодого Джека Поулсона.
Смею вас уверить, именно после того, как он разделался с Таптоном и приблизил к себе Поулсона, мы убедились, что его приветливое, но на редкость невыразительное лицо — всего лишь маска. Прежде всего, разделавшись с Таптоном, он доказал, что понимает, какой вред может причинить никому не нужный раздражитель. Когда к тому же стало ясно, что он не впадает в другую крайность, не выказывает предпочтения индусам перед мусульманами, а умышленно занял дружескую позицию по отношению и к тем и к другим, мы поняли, что это человек справедливый. И способности государственного деятеля у него были. В самых дипломатических выражениях он предложил окружной и городской управе пересмотреть введенное ими для начальных школ правило об обязательном отдании чести флагу Конгресса. Мне запомнился один кусок из его письма: «Я отдаю себе отчет в том, что за партией Национальный конгресс идет не только большинство индусов, но очень много мусульман. Однако позволю себе заметить, что, хотя Конгресс, по существу, индийская национальная партия и хотя надлежит воспитывать в индийских детях патриотическое сознание своего долга с помощью соблюдения известного ритуала, неразумно, мне кажется, допускать, чтобы у детей создавалось впечатление исключительности, для искоренения которой сам же Конгресс прилагает столь похвальные усилия».
В общем, он, как видите, нашел к нам подход, вернее — к тем из нас, кто способен был оценить тонкости английского языка. Сам я, как член подкомитета — а он догадался послать нам копию своего письма к окружному и городскому управлениям, — как член подкомитета, знакомившегося с этим заявлением, целый час проспорил о значении слов «впечатление» и «исключительность».
Для вас Конгресс, возможно, означает то же, что индуизм. Для нас — вначале — это была всеиндийская организация, основанная, кстати сказать, англичанином[16]. Но поскольку в Индии всегда было больше индусов, чем мусульман, всегда как-то подразумевалось, что большинство ее членов — индусы. Само по себе это еще не значило, что она проводит политику, угодную индусам. Но, к несчастью, между политикой как теорией и ее проведением в жизнь всегда имеется опасная, не обозначенная на карте зона несоответствия. Вы не согласны? Ну что вы, как англичанин, как представитель нации, которая когда-то нами правила, вы бы должны с этим согласиться! Разве не было такой опасной, не обозначенной на карте зоны между вашими либеральными декларациями в Уайтхолле относительно английской политики в Индии и ее осуществлением здесь, на месте? Какое дело было мистеру Стэду до официальной английской политики, которую он только и делал, что нарушал, следуя своим личным пристрастиям и предрассудкам? Неужели вы не согласны, что мистер Стэд и ему подобные посылали к черту всякое указание парламента и Уайтхолла, с которым не желали считаться? Так гарнизон осажденного форта не пожелал бы считаться с приказом поднять белый флаг, когда провизия и боеприпасы еще не были на исходе. Разве такие люди не считали себя тем элементом, что важнее всякой официальной политики, неофициальными, но весьма активными носителями исконных первостепенных достоинств, которые политики, по их мнению, растеряли, а может, никогда и не имели? Неужели вы, мой дорогой, не согласны, что те ваши соотечественники, которых вы могли наблюдать нынче вечером, до сих пор чувствуют себя вправе пренебрегать директивами вашего правительства в Лондоне, когда оно тупо требует — торговать, экспортировать, чего бы это ни стоило? Не кажется ли вам, что нам легче было бы иметь дело с русскими и с американцами?
Так вот, понимаете, так же было и с членами Конгресса. Возможно даже, в большей степени, потому что официальная политика партии колебалась между крайностями: от этого поразительного, не от мира сего человека и до нашего кашмирского мудреца и ученого, всегда считавшего, да и теперь считающего, что лучше получить мало, чем не получить ничего.
Так с чего бы Конгрессу было соблюдать правила, которых никто другой не соблюдал? Не только в Майапуре, но в бесчисленных других местах он замкнулся в своей исключительности, как Стэд в своей непробиваемости, а ваши соотечественники в баре — в своем фарисействе — ведь деньги, которые они зарабатывают, им нужны, и мы готовы эти деньги платить, но они делают вид, что презирают тех, кто им эти деньги платит.
Простите, дорогой, Лили, я вижу, велит мне умолкнуть. Но я старый человек, мне позволительно — или нет? — говорить все, что я думаю, а тем более отвлекаться в сторону. Я ведь начал вам рассказывать про письмо комиссара и прелестную английскую обтекаемость этой фразы: «Неразумно, мне кажется, допускать, чтобы у детей создавалось впечатление исключительности, для искоренения которой сам же Конгресс прилагает столь похвальные усилия».
Он не только призывал нас подтвердить официальную линию партии, согласно которой Конгресс представлял всю Индию, но и напоминал очень тонко о том, что мы в глубине души и сами знали, а именно что наша деятельность на местах нередко противоречит линии партии, если судить о ней по высоким первоначальным критериям, особенно в том, что касается детей. «Неразумно, мне кажется, допускать, чтобы у детей создавалось впечатление…» Это был призыв подумать о тех, на кого мы производим впечатление. О детях. Раз мы поставили себя в положение взрослых, широко осведомленных в партийной политике, но действующих в мире детей, ничего в ней не смыслящих, мы должны считаться и с тем, что эти дети уже давно поставили знак равенства между Конгрессом и индуизмом с пением конгрессистских песен и отданием чести флагу Конгресса в качестве вызова не только британскому правлению, но и националистским чаяниям мусульман. Ведь это мы, старшие, сами и для собственного удобства, так упростили этот вопрос.
К сожалению, мои доводы в поддержку заявления комиссара — доводы за отмену утреннего ритуала в сельских школах — были отвергнуты большинством голосов, пять против двух. И мне же было поручено набросать ответ подкомитета мистеру Уайту. Я запомнил из него только одну фразу, потому что от моего черновика не осталось живого места, и только одна эта фраза уцелела такой, как я ее сочинил. Без контекста она почти ничего не значит, но интересно то, что комиссар угадал ее автора. При нашей следующей встрече он ее процитировал. Вот она: «Отдание чести флагу Индийского национального конгресса не следует толковать в узком, общинном смысле». Он сказал: «Вполне с вами согласен, мистер Шринивасан. Хотя бы по одному пункту ваш комитет ответил на мое письмо». С этой минуты мы стали друзьями, и, когда он узнал, что я буду завтракать с мистером Десаи и министром просвещения, он пригласил и меня в свое бунгало, где им предстояло обсудить расширение начального образования в округе. К тому времени, как вы понимаете, наши провинциальные правительства уже вышли из младенческого возраста. Но это был уже 1939 год, хотя в тот вечер, когда он всех нас потащил в клуб, никто из нас не мог бы предсказать, что к концу года вице-король объявит войну Германии и все кабинеты в знак протеста уйдут в отставку. И что это отбросит нас назад, к самодержавному правлению британских губернаторов и назначенных ими советов. В тот вечер, когда мы сидели в «Джимкхане», нам казалось, что для нас начинается новая эра.
Но я вот к чему веду такими мучительно окольными путями. Только тогда, когда я вошел в клуб с Десаи, министром и мистером Уайтом, — только тогда я по-настоящему понял, за что боролись такие люди, как Робин Уайт, боролись вопреки всяческой узколобой оппозиции. Я имею в виду оппозицию не в Уайтхолле, а здесь. На месте. В Майапуре. Я увидел тогда, что он и клуб — это одно. Клуб казался таким же невыразительным, как его лицо. Был обшарпанный и удобный, вот и все. Но при том внушал почтение — потому, наверно, что сами англичане как правящий класс так высоко его ценили. А между тем большинство тех, кто там находился… ну, понимаете, чувствовалось, они-то считали, что созданы для этого клуба, но клуб-то, в сущности, не создан для них. В клубе — а точнее, в курительной — я впервые увидел за маской Робина Уайта его лицо. Оно было на диво под стать потертым кожаным креслам, на вид устрашающим, а как сядешь в них — поразительно удобным. И Робин, понимаете, он смотрел на слуг, когда обращался к ним. Успевал составить себе ясное представление о каждом как о человеке. Он ощущал себя не выше их, а ответственным за них. И это чувство ответственности позволяло ему принимать собственное привилегированное положение с достоинством. Такая позиция всегда внушает доверие. В какой-то ослепительный миг — прошу прощения за столь напыщенный эпитет, — в этот ослепительный миг мне открылось то, что стояло за пустой болтовней о силе и влиянии англичан в тех редких случаях, когда это не было суесловием. И вот почему я с тех пор люблю этот клуб…
— Даже и теперь?
— Ну, как вам сказать, я люблю его за то, чем он был, да и теперь он тот же, если знаешь, чего от него ждешь. Притворство всегда можно распознать. Просто теперь, когда ответственность с них снята, рядовым англичанам уже нет нужды притворяться. И стала возможна такая весьма любопытная ситуация, когда ночные горшки, вылитые в бассейн, можно истолковать как жест протеста ваших ранее бесправных соотечественников против тех общественных элементов, которые теперь не у дел, но когда-то прочно держали их в повиновении. Уж не посетуйте на меня, но я хочу сказать, что многих ваших нынешних экспертов члены клуба двадцать лет назад никак не назвали бы джентльменами. Английские дамы в Майапуре, скорее, приравняли бы их к унтер-офицерскому составу британской армии. Вот, скажем, вы посылаете такого молодчика к нам, в Майапур, обучить нас обращению с какой-нибудь сложной машиной, и относятся к нему здесь, разумеется, как к представителю высшей расы. Но мне как-то не кажется, что им движет чувство ответственности, скорее — просто желание заработать на жизнь в более или менее приятных условиях, а также убеждение, что то, что для него просто, должно быть просто и для других, а это делает его раздражительным. Мы очень быстро постигаем внешнюю сторону техники, но не ее внутреннюю логику. Это и имеют в виду молодые люди вроде Сурендраната и Десаи, когда говорят, что мы зря тратили время, играя в политику. Так или иначе, наши недостатки дают эксперту ощущение превосходства, а то, что он автоматически получает право стать членом «Джимкханы», ему льстит, хоть он, возможно, слегка и стыдится этого. Он смеется над тем, что олицетворял собой этот клуб: над старомодной чопорностью и притворством англичан из высшего класса, — и потому, очевидно, появляется здесь в шортах и в майке и щеголяет простецкими словечками. Об истории британско-индийских отношений он почти ничего не знает, а все, что с ней связано, списывает со счета как английский снобизм старого толка. Иными словами, списывает со счета и нас. За всем этим, конечно, стоит и другое — врожденная неприязнь к черным, которой он за собою не знал, но обнаруживает в себе, пожив здесь немного, — это недоверие и неприязнь он унаследовал от своих предшественников, но вдобавок он груб и смел и выражает свои чувства в физических действиях, например выливает ночные горшки в бассейн. А есть и еще одна, более сложная загвоздка. В глубине души он разделяет со старым английским правящим классом, который якобы презирает, желание, чтобы за пределами Англии на него взирали снизу вверх, а также разделяет с ним чувство утраты, потому что не смог унаследовать ту империю, в которой всегда видел некий заповедник этого правящего класса. Скажите ему это в лицо — он вас просто не поймет, а если какую-то долю и поймет, то станет отрицать. Но мы-то это понимаем. Для нас это совершенно ясно. А яснее всего, что теперь, когда нет больше ни официальной политики чужеземных правителей, ни мифа о чужеземном руководстве, которые требовали бы притворства и в частной и в общественной жизни, — яснее всего то, что за этим притворством скрывались взаимный страх и неприязнь, обусловленные цветом кожи. Даже когда мы очень любили, оставался страх, а если был страх без любви, то была и неприязнь. В этих неестественных отношениях любви-ненависти мы всегда были в проигрыше, потому что при том, какова была жизнь, да и теперь осталась, мы-то понимали — и до сих пор понимаем, даже слишком ясно, — что вы обгоняли и продолжаете нас обгонять в практическом применении практических знаний, и до сих пор отождествляем светлую кожу с интеллектуальным превосходством. И даже с красотой. Солнце здесь печет слишком сильно. Оно делает нашу кожу темной и подтачивает наши силы. Бледность — синоним житейского успеха, потому что это печать не физических, а умственных усилий, а житейский успех редко когда достигается с помощью мускулатуры… Ну, вот наконец и поезд.
И правда, с механической точностью, за которой угадывается не туземная смекалка, а чужеземный инструктаж, створки шлагбаума раздвигаются, открывая дорогу к мосту, к храму и в черный город. «Студебекер» (тоже импортный, один брахман, знакомый мистера Шринивасана, купил его с большой приплатой у какого-то американца в Калькутте) плавно трогается с места, и там, внизу, излучина реки сверкает искусственными самоцветами ночных огней. Задерживая весь транспорт, навстречу, из черного города, в кантонмент (старые названия держатся крепко) движется другая, покороче, вереница телег, запряженных белыми горбатыми буйволами. Свет фар зажигает в их круглых глазах красноватые отблески.
— Стоп! — внезапно восклицает мистер Шринивасан. — Хотите, посмотрим храм? Что, уже поздно? Да нет же, Лили, давайте покажем ему хоть что-нибудь действительно индийское. — И велит шоферу-мусульманину остановиться, где только найдется местечко.
За мостом, на том берегу, дорога выводит на площадь, в дальнем конце которой священное дерево и алтарь. Слева храм, справа кино «Маджестик», где фильм по эпосу «Рамаяна» идет при переполненном зале. После площади, напомним, одна улица уходит вправо, к тюрьме, а другая влево, к базару Чиллианвалла. Площадь освещает один-единственный фонарь у священного дерева, но здесь не темно, потому что лавчонки без передней стены еще не закрыты щитами, еще торгуют, и в них горят электрические лампочки без абажуров или ярчайшие «молнии». Откуда-то — да вот, из ближайшей кофейни — звучит через усилитель пластинка — народная песня целлулоидной цивилизации — женский голос, высокий, гнусавый, под аккомпанемент струнных, духовых и ударных. На площади много народу, бродят две-три коровы, отдыхают велорикши, и несколько нищенок со спящими детьми на увешанных браслетами руках устремляются к «студебекеру». Их глаза и кольца в носу вспыхивают, гаснут и снова вспыхивают в осколках раздробленного света.
Они окружают машину и следуют за ней то бегом, то замедляя шаг. Когда машина останавливается, их руки тянутся в открытые окна. Мистер Шринивасан вынужден пригрозить, что позовет полицию. Они отступают, но совсем немного, только чтобы дать пассажирам выйти. Шофер остается в машине, его не трогают, но за теми, кто идет теперь пешком, назад к храму, самые назойливые увязались. Только успеешь подумать, что они отстали, как оказывается — нет, вот кто-то коснулся твоей руки, тихонько дернул за рукав. Посмотреть такой женщине в глаза — и ты пропал. В Индии слишком часто приходится отворачиваться. «Ничего им не давайте», — предупреждает мистер Шринивасан. Наблюдающий эту сцену мог бы заметить, что нищенки избрали самый уязвимый фланг того трио, что движется к храму, — европейца. Заметил бы он, вероятно, и то, что женщина, которая выражает свою мольбу этим жестом — этим легким прикосновением к рукаву европейца — и уже не кричит, а настойчиво шепчет одно слово: «Сахиб, сахиб», последней признает свое поражение, когда гости уже почти достигли входа в храм.
— Придется вам снять обувь, — говорит мистер Шринивасан, — носки можете не снимать.
— Носки? Ну да ладно, или все, или ничего.
Через узкий открытый вход попадаешь в коридор в основании высокой каменной башни, отлого поднимающийся между скульптурами, которых сейчас, вечером, не разглядеть. В коридоре храмовый прислужник сидит на корточках у керосиновой лампы среди башмаков и сандалий. Мелком он делает значки на подошвах и протягивает мистеру Шринивасану бумажную полоску. Под босой ногой каменный пол коридора теплый и шершавый. Спуск в главный двор храма — четыре невысоких ступени. Под ногами — песок. Во дворе люди — они ходят, или молятся, или сидят на земле и словно о чем-то судачат. Освещение слабое. В середине двора квадратное здание внутреннего святилища, к нему ведут ступени, и покрытые замысловатой резьбой столбы поддерживают разукрашенную крышу. Вдоль стен, окружающих двор, расположены и другие святилища. Одни погружены во тьму, другие освещены в знак того, что бог или богиня не спит. Фигурки богов, в том числе маленькие, как куклы, раскрашены и увиты гирляндами. В главном святилище звонит колокол, это поклонник бога Венкатасвары дает знать богу, что хочет войти. Трое приезжих, медленно обходя двор, добираются до входа в святилище Венкатасвары. Там, у столба, стоит человек с наголо обритой головой, обнаженной грудью и перекинутой через кофейного цвета плечо кистью из священных нитей. Это один из жрецов храма. Черный, в набедренной повязке проситель стоит перед открытой дверью в святилище в молитвенной позе: руки подняты над головой, ладонь к ладони. Короткая веревка, привязанная к языку железного, свисающего с крыши колокола, еще раскачивается. Внутренность святилища только промелькнула перед глазами — в каменном сердце блеснуло золото, серебро, черное дерево. В воздухе держится приторно-горький запах. Песок под ногами то шершавый, то мягкий, как бархат. Из ворот, выходящих на реку, доносится запах воды.
Во дворе растут деревья. Днем они дают кое-какую тень. Позади главного святилища — святилище спящего Вишну. Здесь каменный пол натерт до черного блеска. В бледном свете укрепленных на стенах керосиновых ламп спит высеченный из камня бог, и вечность дарит ему блаженные сны. Он длинный, длиннее, чем в человеческий рост. Он — часть своей каменной подстилки, врезан в нее, вырезан из нее, неотделим от нее. Он гладкий, нагой, с прямыми плечами и толстогубый, углы губ чуть приподняты в улыбке. Веки сомкнуты, но кажется — вот-вот они дрогнут и раскроются в сладкой истоме. А следующее впечатление — что и в неподвижном теле скрыта гибкость, словно бы он готов потянуться, расправить руки и ноги после долгого сна. Тогда изящно сработанная, но крепкая рука соскользнет с каменной подушки на грудь. И, Может быть, разомкнутся полные губы, и он произнесет одно только слово, произнесет тихо, как во сне, но в одном этом слове откроется тайна, и любой смертный, кому приведется быть этому свидетелем, узнает, как достичь власти в земной жизни и покоя за ее пределом.
— К сожалению, доступ в святая святых вам запрещен, — говорит мистер Шринивасан. — Я мог бы это устроить, если б сумел убедить жреца, что вы буддист, но лучше, пожалуй, в другой раз. Лили, вероятно, устала.
Она не только устала, ей, как это ни странно, здесь не по себе.
— В наши дни, — объясняет мистер Шринивасан, пока разыскивается их обувь, извлекаются из карманов носки и сторожу вручают монету, — все храмы контролирует государство. Жрецы, можно сказать, стали гражданскими служащими. Они получают жалованье, а плату взимают по официальным расценкам. Таким образом, почти не остается места для прежних вымогательств. Это одно из требований, которые выдвигали мы, старые члены Конгресса, — чтобы Индия была светским, демократическим государством, а не автократией под пятой у жрецов.
По дороге к машине их опять осаждают нищенки. В «студебекере», уйдя от опасности, мистер Шринивасан удобно усаживается и говорит: «Что ж, мы теперь, надо полагать, причастились святости. Значит, надо быть милосердным». И бросает в окно горсть мелочи. Женщины кидаются подбирать монетки из пыли, и машина, стряхнув их, трогает и сворачивает от площади влево, как некогда сестра Людмила с кожаной сумкой, прицепленной к поясу. Улочка узкая, но ярко освещена и полна народу. Капот «студебекера» как нос катера, пробирающегося по реке среди скопища лодок. Шофер непрерывно сигналит. В конце улочки, у обнесенного стеной базара Чиллианвалла, внезапно обрывается и свет и жизнь. Рынок кончил торговать. Окна закрыты ставнями. Лишь кое-где мелькнет огонек. От фар рождаются густые ломаные тени. Запах реки пробирается сквозь узкие щели между опустевшими зданиями.
За углом на минуту возникает старый дворец — Женская больница, высокая стена с чугунными воротами, за ней густые деревья, за деревьями светло. Перед носом машины дорогу перебегает желто-белая собака. Небо впереди ширится, предлагает свои звезды взамен товаров, которые были выставлены в лавках. Где-то левее — то место, что когда-то называли Святилищем, а справа — новый квартал Чиллианвалла.
— Она, я слышал, уже много лет как умерла, — говорит мистер Шринивасан про миссис Гупта Сен, в девичестве — Шалини Кумар. Машина движется по прямым, но не заасфальтированным и плохо освещенным улицам, на которых новомодные дома богатых купцов стоят каждый на своем огороженном участке, и в некоторых из них еще светятся окна за железными решетками. Здесь в прогалах между домами гнутся, как пьяные, черные лохматые силуэты кокосовых пальм. Еще поворот, еще. Но все улицы, все дома здесь на одно лицо. И № 12 — еще одно безликое темное пятно. В холодный сезон здесь проводит несколько месяцев один из внуков Ромеша Чанда. По знаку мистера Шринивасана машина останавливается перед воротами, запертыми на висячий замок. И ничего не чувствуешь, кроме ночного тепла, и ничего не видно, кроме теней на участке да желоба, что тянется от шоссе к воротам, пересекая заросшую травой канаву, где нашли велосипед.
А юный Кумар? Что с ним сталось? Шринивасан пожимает плечами. Возможно, умер. Когда Кумара арестовали после случая с изнасилованием в Бибигхаре, Ромеш Чанд от него отрекся. А может, и Кумар отрекся от своих родичей. Что ж, страна большая. В ней легко затеряться. И опять это ощущение бескрайнего пространства (его тяжесть, ровность, отсутствие ориентиров) обволакивает мозг видением почти смертоносной огромности. Здесь, на земле, ничто не кажется вероятным, а возможным кажется все. Только с воздуха можно уловить какую-то систему, какой-то план, неосуществленный человеческий замысел. «Студебекер», загнанный, затерянный, но обреченный на механическое продвижение вперед, выбирается на улицу, которая к югу ведет к бывшим южным воротам старого, некогда обнесенного стеною города и к северному концу Бибигхарского моста.
Мост с низеньким каменным парапетом выгнут дугой, словно его не отпускают ревматические боли — еще бы, сколько лет простояли его опоры в холодной воде! Значит — вниз, к реке, и по мосту, обратно над незримой водой (здесь освещение хуже, и она не искрится), ко второму переезду: от вечного опять к преходящему, от вод, что берут начало у снежных вершин далеких гор, к двум стальным полоскам, уносящим поезда на восток, к невообразимому берегу моря.
И вот она, будка стрелочника у переезда, ныне освещенная неоновой вывеской. Мягкие рессоры упруго подбрасывают машину, на неровных досках, проложенные между рельсами. Нетрудно представить себе, что ощущаешь, проезжая здесь на велосипеде, под зелеными семафорами, когда слева набегает дымный запах железной дороги, одинаковый во всех концах мира и, конечно же, не изменившийся за двадцать два года, так что, глотнув его, можно подумать: вот запах, который она вдыхала, когда возвращалась на велосипеде из Святилища сестры Людмилы.
Но впереди что-то изменилось. Ремонтируют мостовую. Ну как же, леди Чаттерджи об этом упоминала. Горят предупреждающие фонари, высятся горы щебня, и сооружено ограждение — длинные жерди опираются концами на крестообразные козлы. Знакомое зрелище — ремонт, общественные работы. Ремонт прижимает машину к левой обочине, на несколько футов ближе к стене Бибигхара.
Обычная стена, такие можно увидеть в любом уголке Индии, чуть выше человеческого роста, оштукатуренная, посеревшая, облупившаяся. Старая. За ней деревья, а что там дальше — не видно. В машине никто не произносит ни слова, но молчание это говорит больше слов.
Бибигхар.
Со временем даже самое трагичное название обретает своеобразную красоту.
Отсюда машина следует той дорогой, какой бежала во мраке девушка. Да. Вот что она, наверно, чувствовала: за мраком зданий — пространство, беспредельность. Такие обыкновенные улицы, неосвещенные, ничем не примечательные. И все время этот особенный запах — теперь уже не железной дороги, а земли, — который она, возможно, научилась принимать как должное или не замечать, который стал для нее пусть не сладок, но необходим.
Часть пятая. Юный Кумар
Когда отец Гари Кумара умер в Эдинбурге от слишком большой дозы снотворного и юристы сообщили ему, что денег не хватит даже для полного расчета с мистером и миссис Картер, которые ведали их домом в Беркшире, он позвонил своим друзьям Линдзи и спросил, что же ему теперь делать. Несмотря на совет юристов сразу же выбросить такие мысли из головы, у него было старомодное представление, что он ответствен за долги отца, если окажется, что такие долги действительно существуют. Родители Колина Линдзи, так же как и сам Гари, сначала отказывались поверить в банкротство, о котором толковали юристы. Они пригласили его погостить в Дидбери. И пусть не тревожится, мистер Линдзи повидает этих юристов и добьется от них толку.
Смерть отца пришлась на середину пасхальных каникул 1938 года, за несколько недель до того, как Гари минуло восемнадцать лет. Линдзи всей семьей были тогда в Париже. Будь они дома, Гари, вероятно, жил бы у них, и, конечно же, они поддержали бы его на похоронах. Он почти всегда проводил каникулы в их доме. Колин был его самым старым другом. Он и уехал от них только накануне их отъезда на континент. Если б отец не написал ему из Эдинбурга, не предупредил, что приедет в Сидкот обсудить его планы на будущее, он бы уехал с ним в Париж, рассчитывая, как уже было не раз, получить разрешение отца задним числом. Но вот пришло это письмо, и он поехал домой, а отца там не оказалось, и Картеры — экономка и ее муж — пребывали в малоприятном настроении. Его не ждали, они и не знали, что отец собирался уехать из Эдинбурга. Картеров Гари недолюбливал. Прислуга в Сидкоте часто менялась. Картеры прожили там несколько лет, можно сказать — побили рекорд. Он уже не помнил, сколько экономок и садовников перебывало у его отца. Давным-давно, еще до того, как его отдали в подготовительную школу, а потом в Чиллингборо, появилось и исчезло несколько малоприятных гувернанток и гувернеров, а также домашних слуг, порой не скрывавших, что предпочли бы работать у белых господ. Дом отца никогда не был для него родным домом в том смысле, как он понял это слово, когда познакомился с семейством Линдзи. С отцом он виделся три-четыре раза в год, дней по десять, а то и меньше. Матери он не помнил. Ему сказали, что она умерла в Индии при его рождении. Индию он тоже не помнил.
Поверить юристам ему было трудно потому, что денег, казалось, всегда было много. Когда он подрос настолько, что уже мог оценить разные степени достатка, он понял, что отцовский дом в Сидкоте просторнее, и построен более основательно, и обставлен богаче, чем дом Линдзи; а кроме дома в Сидкоте, было еще несколько квартир в Лондоне — отец часто переезжал, следуя какой-то непонятной системе, Гари это не интересовало, он только всякий раз аккуратно записывал новый адрес и телефон, чтобы не пропали его письма и чтобы знать, куда ехать, когда отец звонил в школу и вызывал сына позавтракать у него в Лондоне по окончании триместра. В таких случаях он обычно брал с собой Колина. И однажды Колин, оглядевшись в роскошной, но неуютной квартире, сказал: «Отец у тебя, наверно, ужас какой богатый», и Гари, пожав плечами, ответил: «Да, наверно».
С этой минуты он, видимо, и стал понимать, что не одобряет отца: по-английски тот говорил до неприличия нараспев, и фамилию их писал Кумер, и всем предлагал называть его Дэвид, потому что Дилип, мол, трудно выговорить. Для своего единственного сына (сына, о котором он молился и мечтал, чья жизнь была теперь распланирована до мельчайших подробностей) Дилип выбрал имя Гари потому, что его легко произнести и звучит оно так же, как уменьшительное от сакса Гаральда, царствовавшего в Англии еще до прихода норманнов.
* * *
Если вернуться к началу, то нужно рассказать, что Дилип Кумар против желания родителей и лишь с трудом добившись их на то разрешения уехал в Англию изучать право примерно в то же время, когда мисс Крейн оставила службу у Несбит-Смитов и целиком посвятила себя службе в протестантской миссии, и примерно тогда же, когда умерла в такой же страшной, хоть и не столь неожиданной нищете, как Дилип, мать молоденькой девушки, которая после ее смерти попала в приют, а впоследствии называла себя сестра Людмила.
Кумары владели землей в одном из районов Соединенных провинций. Богатые по индийским понятиям, они были преданы чужеземной короне, расположенной, судя по всему, уважать права собственности. Кумаров было много, но Дилип еще в юности стал замечать, что, с каким бы почтением ни взирали на них люди одного с ними цвета кожи, самый неоперившийся белый чиновник, еще и года не пробывший на гражданской службе, мог нагло их оскорбить, заставить ждать на веранде священного бунгало, из охлаждаемых опахалами комнат которого так и веяло без труда достигнутым превосходством. Власть, чувствовал Дилип, заключена не в деньгах, а в некоем магическом сочетании — знания, манера держаться, белая кожа. Отец его, один из тех, кого частенько заставляли ждать, был с ним не согласен. «В конечном счете все решают деньги, — говорил он. — Что такое наглость? Что такое оскорбление? А ничего. Его и нанести и проглотить ничего не стоит. Раненая гордость быстро излечивается теплом туго набитого кармана. Этот молодой человек, что заставил меня ждать, — набитый дурак. Отказывается от подарков, потому что его научили думать, что всякий подарок индийца — взятка. У себя на родине он бы так не стеснялся. Но через сорок лет он будет бедняком, будет прозябать на пенсии в своем холодном климате».
— Но за эти сорок лет он успеет вкусить власти, — возразил однажды Дилип.
— В чем эта власть? — спросил отец. — Ну, рассудит он несколько земельных тяжб, понадзирает за общественными работами, удлинит дорогу, осушит болото, соберет подати от имени правительства, оштрафует несколько тысяч человек, человек двадцать велит выпороть и человек триста отправит в тюрьму. А ты будешь богат. Твоя власть будет вещественной, видимой глазу, когда окинешь взглядом землю, которой владеешь. У тебя плохого только и будет, что небольшое неудобство — ждать по приказу одного из преемников этого молодого человека, который тоже будет отказываться от подарков и употреблять то, что ты именуешь властью, а к концу жизни у него никакого богатства не останется, только воспоминания о колониальных временах.
Дилип засмеялся. Он смеялся невеселым шуткам отца, но еще больше потому, что сам-то он знал другое. Когда отец умрет, землю, которой он с такой гордостью владеет, поделят между собой его дети, а потом дети их детей, а потом дети детей его детей, и не останется ничего — вся его власть сойдет на нет, поле за полем, деревня за деревней. А в священном бунгало по-прежнему будет сидеть какой-то молодой человек с вежливым, но безразличным лицом, готовый выслушивать рассказы о бедности, лишениях, несправедливости, думая все время о собственной карьере, намереваясь следовать за своим предшественником вверх, ступенька за ступенькой, к теплому местечку в Секретариате, или в Совете при генерал-губернаторе, или в составе Верховного суда.
Дилип Кумар был младшим из четырех братьев и трех сестер. Возможно, семеро детей в семье считалось счастливым числом — после его рождения (в 1888 году) несколько лет казалось, что родители успокоились и дальнейших прибавлений не намечается. Он был последыш, баловень. Внимание и ласки, которые ему доставались, вызывали, возможно, ревность старших братьев и сестер. Во всяком случае, много позже, когда речь шла уже о благополучии его сына Гари, те из них, кто его пережил, не выказали участия, не предложили помощи. Возможно, все сложилось бы даже лучше, если бы никого из Кумаров к тому времени не осталось в живых. Но была еще Шалини, девочка, которую мать Дилипа родила, когда ему шел одиннадцатый год. Младшего сына и младшую дочь связала какая-то особенно крепкая дружба, родившаяся, видимо, из того чувства одиночества, что отделило Дилипа от старших братьев и сестер, когда схлынула первая волна родительской нежности и сам он уже критически взглянул на окружающий его мир и обратил беспокойный взор на более широкий мир за пределами родного дома. Из четырех братьев один только Дилип окончил Правительственную среднюю школу и поступил в Правительственный колледж. Родители его считали, что колледж — пустая трата времени. Они отговаривали его, но в конце концов уступили. Позже он любил цитировать данные переписи, проведенной в то время в их провинции. Население. Мужчин четыре с половиной миллиона, женщин три миллиона. Из мужчин грамотных полтора миллиона, из женщин — неполных пятьдесят тысяч, причем три его старших сестры в это число не входили. Отец и братья были грамотны на родном языке и полуграмотны на английском. Именно потому, что Дилип еще подростком обучился языку администрации, он стал сопровождать отца, когда тот отправлялся просить о чем-нибудь начальника района, и стал догадываться о тайнах, скрытых за непроницаемо вежливыми лицами белых правителей. В нем росла тройная решимость: порвать с помещичьей семейной традицией, стать человеком, который не просит милостей, а оказывает их, и спасти Шалини от невежества и домашнего гнета, который не только его старшие сестры, но и жены старших братьев терпели безропотно, полагая, что больше женщинам в жизни и надеяться не на что. Когда Шалини было три года, он стал учить ее читать на хинди. В пять лет она уже читала по-английски.
Дилипу исполнилось шестнадцать лет. Колледж, куда его приняли, находился за тридевять земель: в ста милях от дома. Мать плакала, провожая его. Братья зубоскалили. Старшие сестры смотрели на него так, словно он пустился в какую-то предосудительную авантюру. Отец не понял, но накануне отъезда благословил его, а наутро сам отвез на железную дорогу в телеге, запряженной волами.
И тут-то, пожалуй, началось то, что можно назвать трагедией Дилипа Кумара. У этого мальчика страсть к достижению всегда немного превосходила умение достигнуть. И страсть эта привыкла к постоянным препятствиям, на которые наталкивалась дома. А здесь, вдали от дома, в обществе мальчиков из непохожих семей, но равно честолюбивых, чувство неудовлетворения, питавшее эту страсть, стало слабеть. Здесь все были в одинаковом положении, но, по мере того как они одолевали программу гуманитарных наук, он стал с тревогой замечать, как постепенно отделяются друг от друга способные и старательные. Впервые в жизни он вынужден был признать, что есть мальчики если не умнее его, то безусловно более способные к ученью. А задумавшись над этим, он быстро нашел объяснение. Все лучшие ученики были из передовых семей, где говорили только по-английски. И большинство преподавателей в колледже были англичане. В средней школе преподавание велось на английском языке, но силами индийцев. Он всегда в точности понимал, что говорили учителя-индийцы, и часто ему казалось, что то же самое он мог бы сказать лучше. Теперь же на лекциях ему все труднее становилось уследить, если не за словами, то за ходом мысли, — ими выраженной. А спросить он боялся. Вопросов никто не задавал. Все внимательно слушали. Прилежно записывали в тетради то, что услышали, и так, как поняли. Задать вопрос значило расписаться в невежестве. А при здешней жестокой конкуренции это было опасно.
Появился, однако, и новый раздражитель: неувязки, происходящие не от косности правоверной индийской семьи, а от самого английского языка. Прислушиваясь к своим однокурсникам, он поразился, что они вроде бы не слышат разницы между тем, как говорят сами, и тем, как говорят англичане. Разница была не только в произношении и в выборе слов. Он был еще слишком молод, чтобы сформулировать эту проблему, но чувствовал, что подошел к разгадке еще одной тайны. А разгадав ее, он надеялся понять и то, что у начальника района казалось откровенным высокомерием, а у преподавателей-англичан — интеллектуальным презрением.
Настало время, когда он мог сказать своему сыну Гари: «Мало того, что, когда ты подходишь к телефону, незнакомый человек решает, что к телефону подошел английский мальчик из высшего класса общества. Важно то, что ты и есть такой мальчик по образу мыслей и поведению. Я в твоем возрасте не только говорил по-английски с еще более выраженным акцентом „бабу“, чем сейчас, но и в речи, а значит, и в мыслях сознательно подражал тем, кто нами правит. Сами мы не всегда это признавали, но они-то, слушая нас, всегда это чувствовали. Обычно это их забавляло. Иногда вызывало раздражение. И сейчас это так. Слушая нас, они неспособны забыть, что мы — подчиненная, низшая раса. Чем больше мы старались щеголять нашим знанием языка, тем наивнее казалось им наше мышление, потому что думали мы на чужом языке, который никогда не сопоставляли со своим. Хинди, видишь ли, язык скупой и прекрасный. На нем можно выражать простые, правдивые мысли. И, говоря друг с другом, облекать эти мысли в скупые, простые, правдивые образы. Английский язык не скупой. Но прекрасный. Правдивым его нельзя назвать, потому что тонкости его неисчислимы. Это язык народа, который потому, вероятно, прославился коварством и лицемерием, что язык у него такой гибкий, так богат утверждениями, которые сегодня значат одно, а через год — другое. Таков он, во всяком случае, в письменном виде, а свои благородные стремления и намерения англичане обычно выражают на бумаге. Написанное выглядит как способ оттянуть время и завоевать доверие. Но в устном виде английский редко бывает прекрасен. Он тогда становится скупым, как хинди, но более жестким. Мы учили английский по книгам, и англичане, зная, что книги — это одно, а жизнь — другое, смеялись над нами. И до сих пор смеются. Они и надо мной смеялись в том индийском колледже, где я учился до того, как впервые и так неудачно приехал сюда изучать право. В колледже я осознал, как важно добиться полного понимания языка, по-настоящему усвоить его, и письменный и устный. Но я, конечно, черпал свои знания почти исключительно из книг. Главу из Маколея было легче понять и настолько интереснее, чем одну фразу из лекции мистера Крофта, нашего преподавателя истории. Я даже стал говорить маколеевской прозой. Позже мне рассказали, что всякий замысловатый способ выразить простую мысль наши англичане-преподаватели называли „кумаризмом“. А еще позже понял, что „кумаризм“ — это нечто не столь достойное восхищения, сколь просто глупое. Но моя сомнительная известность, вероятно, помогла мне как-то дотянуть курс. Среди окончивших я занял далеко не первое место. И все же чувствовал себя победителем».
И в сиянии этой победы, девятнадцатилетний, он возвратился домой — не впервые с тех пор, как уехал на станцию на телеге: он ведь, разумеется, проводил дома каникулы, — но впервые как молодой человек, доказавший, на что он способен, и окрыленный честолюбивой мечтой — переплыть через черную воду в Англию, держать экзамены для поступления на Индийскую гражданскую службу. В те дни эти экзамены принимали только там, что давало возможность значительно ограничивать число кандидатов.
Выяснилось, что его родители не столько ликуют по поводу его академических успехов, сколько озабочены тем, что он до сих пор не выполнил первейшего долга мужчины: жениться, множиться, родить хотя бы одного сына, чтоб было кому совершить над ним погребальный обряд и с честью проводить его в иной мир.
Девушке, которую они для него присмотрели — ее звали Камала, и гороскоп ее, по словам астрологов, благоприятно сочетался с его собственным, — было уже пятнадцать лет, уже почти шестнадцать, поправились они.
— Камала! — вскричал он. — Какая Камала? Что еще за Камала? — А ответа и слушать не захотел.
Усадьба Кумаров состояла из низеньких домов, построенных вокруг внутреннего двора, и была огорожена стеной на большом участке, на краю главной из деревень в их владениях, в пяти милях от того городка, где проживал англичанин, начальник района. Пять миль на телеге до ближайшего аванпоста цивилизации, думал Дилип, тюрьма, да и только! Он играл с Шалини, повторял с ней уроки, радуясь, что она не забыла, чему он обучил ее три месяца назад, в свой последний приезд. Они теперь просто обожали друг друга: она в его глазах — такая хорошенькая, умненькая, ласковая, и он в ее глазах — брат, красивый как бог, но вполне земной и веселый, чья мудрость беспредельна, а доброта не прерывается ни внезапными молчаниями, ни гневом — во всяком случае, когда они бывают вдвоем. Но она слышала, как он кричит на братьев, как ссорится с отцом. А однажды, когда он думал, что рядом никого нет, услышала, что он плачет, и нарвала цветов, чтобы отогнать от него злые чары, чтобы он опять улыбнулся и рассказал ей новую сказку про Раму, царя и бога в одном лице.
В конце концов он решил пойти с родителями на сделку. В теории он согласится на брак с этой Камалой, но о самом браке пусть никто и не заикается, пока он не закончит учение в Англии и не сдаст экзамены. Согласен он только на объявление о помолвке.
И сколько же времени он думает пробыть в Англии? — поинтересовался отец.
Года два, может быть, три. Отец покачал головой. К тому времени Камале исполнится восемнадцать или девятнадцать и она все еще будет жить в родительском доме. Неужели Дилип хочет, чтобы его жена стала всеобщим посмешищем, даже не разделив его ложа? И подумал ли он о том, во что обойдется проезд и учение в Англии? Где, по его мнению, взять столько денег? На это у Дилипа был готов ответ. Он откажется в пользу старших братьев от той доли отцовского наследства, какую сочтут равной стоимости его пребывания за границей.
— Один мешок вмещает столько-то маундов и не больше, — заметил отец, — и нельзя отказаться от того, чего еще не имеешь. К тому же, не будь твоего наследства, родители девушки еще подумали бы, отдавать ли за тебя свою дочь.
— А мое образование, моя карьера для них ничего не значит? — спросил Дилип.
И снова отец покачал головой.
— То, что ты называешь твоей карьерой, еще не началось. Ты, верно, и не подумал, как пригодилось бы в нашем хозяйстве приданое твоей жены? С такой подмогой можно бы набрать и денег, чтобы послать тебя в Англию. Но для этого нужно сначала жениться. Тебе уже девятнадцать лет. Все твои братья, когда женились, были моложе. Твоей нареченной скоро минет шестнадцать. В этом возрасте все твои старшие сестры уже были замужем. Мне пришлось справить уже три приданых. Карман у меня не бездонный. А через несколько лет опять справлять приданое — для Шалини.
На что другое, а на семейные дела всегда хватало времени. Переговоры с отцом растянулись на много дней. Наконец Дилип пошел к нему и сказал: — Хорошо. Я женюсь на Камале. Но после этого сейчас же уеду в Англию.
Беседы эти происходили в комнате, которую отец уже несколько лет как отвел для размышлений, что могло бы насторожить всю семью как предвестие дальнейших событий. Мебели в этой комнате не было. Сидели на полу, на камышовых циновках. Выбеленные стены украшала только ярко раскрашенная олеография Ганеши, бога удачи, в узкой рамке розового дерева, а на подоконнике не застекленного, забранного решеткой оконца стоял оловянный кувшин, и в нем — букет ноготков или красного жасмина.
Теперь у отца нашлось новое возражение: — Я не хочу, чтобы ты поступал на гражданскую службу. Если тебе мало управлять своей собственностью, можешь стать юристом. Этому, сколько я знаю, обучают в Калькутте.
— Чем тебе не нравится гражданская служба? — спросил Дилип.
— Это служба чужеземного правительства. Мне было бы стыдно видеть в ее рядах моего сына. Пусть лучше противостоит ей в судах и тем помогает своему народу.
— Стыдно? — переспросил Дилип. — Но тебе ведь не стыдно, когда тебя заставляют ждать на веранде у маленького бурра-сахиба? Не ты ли говорил: «Что такое оскорбление? Что такое раненая гордость?»
— Мне было бы стыдно, — сказал старый Кумар, — если бы этим маленьким бурра-сахибом оказался мой сын.
Это была непростая логика. Дилипу потребовалось два-три дня, чтобы вникнуть в нее, оценить по достоинству эту неприязнь отца к английским правителям, казалось бы неожиданную, а если нет — то всегда умело скрываемую.
— Хорошо, — сказал ему Дилип через несколько дней. — Я подумал. Стану юристом. Может быть, даже буду выступать в судах. Но для этого мне нужно учиться в Англии.
— И сначала ты женишься на Камале?
— Да, отец. Сначала я женюсь на Камале.
* * *
Из ближайших родственников только мать и одна из теток видели до сих пор Камалу Прасад, его нареченную. Они побывали в гостях у Прасадов. Оставшись довольны тем, что увидели и что узнали о воспитании девушки, они доложили об этом отцу Дилипа. Заверения астрологов сулили удачу, сумма намеченного приданого была достаточная, и теперь, с точки зрения Кумаров (если только Дилип подчинится их желаниям), оставалось лишь скрепить договоренность официальной помолвкой и назначить день свадьбы.
Камала Прасад жила от них милях в двадцати. На обряд помолвки к Кумарам явились только мужские представители семьи Прасадов: отец и дяди будущей невесты и два ее женатых брата. Они привезли сластей и небольшие денежные подарки, но главной их целью было удостовериться, что дом, в котором предстоит жить Камале, соответствует собранным о нем сведениям. Дилип, помнивший, как ту же обязанность выполняли его братья, поклонился будущему тестю, а затем, опустившись на колени, коснулся его ног, что выражало смирение. Тесть начертал у Дилипа на лбу тилак — знак доброго предзнаменования. Гости немного посидели за чинной беседой и угощением, а потом отбыли на станцию и дальше — домой. Вся эта церемония не произвела на него впечатления, показалась какой-то бессмысленной, зато Шалини восприняла ее как чудо, потому что главным героем был Дилип.
— А в день свадьбы ты опояшешься мечом и будешь ехать на коне, как царь? — спросила она.
— Наверно, так, — ответил он и рассмеялся, а про себя подумал: какая комедия! Его сейчас гораздо больше интересовала подготовка к отъезду в Англию — пользуясь советами и помощью директора своего колледжа, он уже предпринял кое-какие шаги, чтобы попасть туда в сентябре, к началу осеннего триместра.
Помолвка состоялась в январе, и тут же возникли затруднения с выбором дня для свадьбы. Астрологи утверждали, что лучшее время — вторая неделя марта. Кумар предложил первую неделю сентября. Пароход, на который он купил билет через агента в Бомбее, отходил на второй неделе. Астрологи закачали головами: если свадьбу не удастся сыграть во второй половине марта, придется отложить ее до четвертой недели октября.
— Чепуха это все, — кипятился Дилип. — Их слова значат только то, что к апрелю будет слишком жарко, а с июня по октябрь — слишком дождливо. — В его расчеты вовсе не входило прожить дома женатым чуть не полгода. В его расчеты вообще не входило спать с этой шестнадцатилетней девочкой, пусть и красивой и хорошо развитой. Он даст совершить над собой обряд. Он даже проведет с ней одну-две ночи, чтобы не опозорить ее. Но любви между ними не будет. Он обойдется с ней ласково, поцелует ее и объяснит, что она еще успеет взвалить на себя обязанности жены и тяготы материнства, когда он вернется из Англии, получив там почетную профессию. Он почти надеялся, что она окажется непривлекательной.
Иногда, проснувшись среди ночи, он мучился мыслью, что все его поступки после колледжа были ошибками. Он отказался от своего плана поступить на гражданскую службу. Обещал жениться, подчинившись воле родителей. Решил готовиться к профессии, к которой не лежит душа. Не отступился только от намерения побывать в Англии. По утрам, вспомнив, что впереди — Англия, он чувствовал в себе достаточно бодрости, чтобы начать новый день, и невольно отзывался на тепло родительского благоволения, которым был теперь окружен. Однажды он услышал, как отец сказал старому своему знакомому: «После свадьбы Дилип, конечно, будет продолжать учение в Англии», словно он сам, а не Дилип на этом настоял, и ему подумалось, что отцовская гордость, подобно доброму семени, прорастет в любой земле, если земля эта смочена потом сыновнего послушания. Но во мраке полусна-полубдения от тщетно искал практического истолкования одного этого дразнящего слова «Англия», — истолкования, которое успокоило бы его, включило нечто большее, чем просто желание там побывать. Власть — в том смысле, как он ее понимал, — как бы заранее потускнела, когда он так легко и двусмысленно согласился пойти на службу правосудию, которое толкует эту власть, может быть, спорит с нею, но никогда впрямую ее не осуществляет. Может быть, думал он, есть какой-то роковой изъян во мне самом, черные корни растения-компромисса, цветы которого неизменно пахнут гнильцой, и, повернувшись на другой бок, он опять засыпал, положив руку на крепкую грудь покорной, любящей молодой жены, чей образ не покидал его теперь даже в сновидениях.
Он добился своего. Астрологи отыскали-таки ранее не замеченное сочетание счастливых звезд. Свадьба была назначена на первую неделю сентября.
— Вот видишь, Шалини, — сказал он сестренке, — все это была чепуха, как я и говорил, — но сдержался и не добавил: «Прасады, как и Кумары, влачат тяжкий груз — избыток дочерей. Им не терпится сбыть Камалу с рук, хотя бы и в дождливый сезон». Взглянув на Шалини, он подумал о том, какой груз уже представляет собой она, девятилетняя, если исчислить этот груз ее приданым и желанием родителей, чтобы она была счастлива и выдана замуж в хороший дом, что принесет им честь, а ей радость, отдана мужу, который одарит ее добротой, которому она сможет ответить любовью и повиновением, так чтобы были довольны и он, и его семья, и ее семья, и она сама. Надеюсь, подумал он еще, вспомнив о своей невесте, что я найду в себе силы не возненавидеть ее.
В первом списке гостей со стороны жениха, составленном отцом Дилипа, значилось около трехсот имен. После переговоров с семьей Прасадов число это сократилось до двухсот. Со стороны невесты гостей набиралось вдвое больше. Для ее семьи издержки предстояли разорительные. В середине августа стали съезжаться Прасады. И Кумары тоже. Они ехали из Пенджаба, из Мадраса, из Бенгалии, из Лакхноу и своей провинции, из Бомбея и даже из далекого Равалпинди: Дилип был последним сыном старого Кумара. В этом поколении предстояла всего еще одна свадьба — свадьба Шалини. Дом был палой, так же как и дом для гостей, построенный за стенами усадьбы, когда выдавали замуж сестер Дилипа.
К Прасадам в Делали выехали в день свадьбы рано утром. Дожди прекратились необычно рано, это сочли добрым предзнаменованием. В доме Камалы обряды начались еще два дня назад. Для жениха и его свиты было закуплено три вагона в местном поезде. На станции Делали их встречала делегация от Прасадов. Дилипа и его семью привезли в дом одного из дядьев невесты. Там Дилипа обрядили в костюм царя-воина — узкие белые штаны, расшитая куртка, плащ и тюрбан с блестками, а поверх тюрбана — мишурная корона, с которой свисали гирлянды роз и жасмина, затеняя его лицо, вливая в ноздри сладкий дурманящий аромат. Когда настал вечер, ему подвели коня под богатым чепраком, и он сел в седло, а позади него в том же седле поместился дружка, один из молодых его родичей. В половине седьмого процессия двинулась к дому невесты. Сопровождали ее люди с фонарями, барабанами, трубами и шутихами. Вечер огласился музыкой и взрывами хлопушек. У Дилипа от этого шума разболелась голова. За свадебной процессией толпой валили жители Делали — всем хотелось посмотреть, какого мужа удалось поймать в сети младшей дочери старого Прасада. Они поливали жениха громкой, но беззлобной бранью, и сторонники Дилипа не оставались в долгу.
У дома невесты он спешился, и его провели в конец участка, в дворик замужних женщин, усадили и подвергли первой пытке.
— Ты, значит, на будущей неделе уезжаешь в Англию, — сказала одна из женщин. — Ты что, так быстро устаешь, что надо спасаться бегством?
— О нет, — отвечал Дилип, стараясь попасть ей в тон. — Но молодому мужу следует признать, что правильно говорится — во всем нужна умеренность.
— Молодая жена может с этим и не согласиться, — сказала другая женщина.
— Мед слаще после долгого воздержания, — сказал Дилип.
— А если мед успеет скиснуть? — спросила еще одна, посмелее.
— Для верного зуба и кислый мед сладок.
Женщины засмеялись и потупились. Дилип — настоящий мужчина. Эту новость тут же передали невесте, которая после очистительного ритуального омовения уже давно сидела у себя в комнате в обществе женщин, в чью обязанность входило обрядить ее в красные одежды, обвешать тяжелыми драгоценностями, разрисовать ей руки и ноги хной и подкрасить веки.
— Красив, как принц, — сообщили они. — И притом смелый. Какие глаза! Но не грубый. Да, тебе повезло. Такие мужья на дороге не валяются. Такого и подождать не грех, сама увидишь, как отведаешь.
Второй пыткой был самый обряд бракосочетания: он должен был начаться в благоприятный час — за полчаса до полуночи, продлиться много часов, как предписано в Ведах. Он сидел в главном дворе рядом с Камалой, лицом к священному огню, по другую сторону которого сидел пандит. На лицо ее спадали складки густого покрывала, голова была опущена. Дилип не решался взглянуть на нее. Но он чувствовал ее запах, и какая она маленькая, и как непрочно ее великолепие. Конец ее покрывала был привязан к рукоятке его меча — в старину ему полагалось бы срубить этим мечом ветку с дерева, чтобы доказать свою силу. Они уже были соединены между собой нерасторжимо, на всю жизнь, а может быть, и за ее пределом. А он еще так и не видел ее лица. И она не знала, какое лицо у него. Ей если сейчас что и видно, так разве что его расшитые золотом туфли да ноги в узких штанинах. А если она подглядывает? Да нет, едва ли. Пандит затянул молитвы. В огонь бросили благовония. Дилип и Камала дважды обошли вокруг огня, в одну сторону первым шел Дилип, в обратную — Камала. В сложенные чашкой ладони ей насыпали риса, она пересыпала его в руки Дилипу, а он бросил в пламя. Рядом они прошли семь положенных шагов, потом пандит огласил их имена и имена их предков, и Камалу увели, и теперь он не подойдет к ней близко до той ночи — не ближайшей, а следующей, когда уже у них дома его мать приведет ее к нему в спальню. Но ведь сейчас уже утро. Значит, завтра Камала прибудет в дом Дилипа в той одежде, что привезли ей в подарок Кумары.
Дилип проснулся поздно, поел и осмотрел приданое, разложенное для обозрения на складных столах во дворе, под навесами, на тот случай, что все-таки прольется предательский дождь и что-нибудь попортит. Была там одежда для него и для новобрачной, драгоценности, сундучки с серебряными монетами и бумажками по сто рупий, фамильные праздничные одеяния, посуда, домашняя утварь и, в отдельной шкатулке, купчие на землю. Спать он лег рано, подавленный таким богатством — ценой, за которую отец покупает девушке мужа, — а утром снова облачился в царский костюм, опоясался тяжелым мечом в бархатных ножнах и сел на разубранного коня, чтобы возглавить шествие на станцию. Его жену — маленькую фигурку в красном, увешанную драгоценностями и все еще укутанную покрывалом, — родители под руки вывели к паланкину. Ему показалось, что в последнюю минуту она заколебалась, заплакала и села в паланкин лишь после того, как мать подбодрила ее какими-то ласковыми словами.
Шторки паланкина закрыли, носильщики подняли его с земли, и женщины запели песню новобрачной, утреннюю песню девушки, отбывающей из родительского дома в дом супруга.
О слуги моего отца, Несите сюда мой паланкин, Я отбываю в дом моего супруга.* * *
За околицей своей деревни, куда они добрались только к вечеру, их встречали чуть не все местные жители. Замужние женщины подходили к паланкину (его обеспечили Кумары, а первый остался в Делали у Прасадов), раздвигали шторки и осматривали новобрачную. По тому, как они потом смотрели на Дилипа, он заключил, что никаких серьезных изъянов они не обнаружили. Из всей семьи одна только Шалини оставалась дома. Теперь она выбежала за ворота и вцепилась в уздечку коня, который, как и новый паланкин, был выслан встречать его на станцию.
— Дилип, Дилип, — восклицала она, — какой ты красивый! Зачем ты на ней женился? Почему не подождал меня? — И гордо, как свою собственность, ввела коня в ворота. Но позже, когда ей уже давно полагалось спать, она прибежала в комнату, где он готовился к ночи, и сказала: — Прости меня, Дилип.
— За что простить? — спросил он, сажая ее на колени. Она обвила руками его шею и призналась: — Я ее видела.
— Ну и что же? — спросил он, и сердце его нестерпимо забилось от боли и неизвестности.
— Она как принцесса, — сказала Шалини. — Ты за нее дрался? Ты убил злых духов и спас ее? Ведь так? Скажи, Дилип, скажи.
— Наверно, так, — сказал он, поцеловал ее и услал спать, а сам стал ждать в той комнате, куда мать теперь уже скоро должна была привести Камалу и вверить его попечению.
* * *
Все горе в том, объяснил он своему сыну Гари много лет спустя, что, едва он снял с Камалы покрывало и увидел ее, он в нее влюбился. Возможно, так оно и было, и этим объяснялось, что его занятия юриспруденцией в Англии заранее были обречены на провал. Бесславное его возвращение было особенно мучительно потому, что отец ни словом не попрекнул его за потраченные даром годы, потраченные даром деньги. В Индии на него навалилось много тягостных дум: его тяготило сознание, что он, как ни старался, не мог угнаться за более способными студентами, что в Англии ему не раз давали поблажки как индийцу, проделавшему долгое и дорогостоящее путешествие и так явно стремящемуся к заветной цели — вырваться из бесправного положения, в котором он родился. И еще тяготило сознание, что родители его не виноваты, если в Англии ему часто бывало холодно, бесприютно и тоскливо, что его приводили в ужас грязь, убожество и нужда, босые дети, оборванные нищие, пьяные женщины, жестокое обращение с животными и людьми, — грехи, которые в Индии, по его понятиям, могли позволить себе и другим только индийцы. Он мог осуждать родителей за то, что они заставили его слишком рано жениться, нарушив все его планы на образование, но не за пережитый ужас и не за постоянные подтверждения того, что, живя среди англичан, общаясь с ними, он все же остался иностранцем. Отношение с их стороны он встречал доброжелательное, даже уважительное, но сдержанное, уважение это было того рода, какого требует хорошее воспитание, а значит — неискреннее. И его частенько тянуло к менее упорядоченной, более суматошной жизни на родине. Он понял, что, если хочешь проникнуть в тайну, понять то английское, что есть в англичанах, нужно жить среди них с детства. Для него это время упущено. Для него, но не для его сына. Он никогда не думал о сыновьях. Один сын — этого довольно. Сын добьется успеха там, где сам он потерпел поражение, если только создать ему благоприятные условия, которых сам Дилип был лишен.
Горе в том, думал Дилип, что Индия наложила на него свою печать, и ее не смыть никаким позднейшим опытом. Под тонким англизированным слоем осталась плотная индийская основа, которую его подневольный брак только укрепил еще больше. «А для индийского индийца, — сказал он Гари, — в англо-индийском мире нет будущего». В одном Дилип был твердо уверен: англичане вопреки их уверениям намерены держаться за свою империю долго, даже тогда, когда его самого, а может быть, и Гари уже не будет в живых. Если и была у него теория относительно ухода англичан, то сводилась она к тому, что они ждут, чтобы индийские юноши стали такими же английскими, как они сами, чтобы можно было передать им бразды правления почти безболезненно, как человек передает приемному сыну деловое предприятие, созданное им на пустом месте в долгом чередовании побед и катастроф.
Вот как просто представлял себе Дилип независимость Индии, для него это был вопрос эволюции, а не политики, в которой он ничего не смыслил. Он верил в интеллектуальное превосходство англичан. Ведь империей они правят не с помощью физической силы, а потому, что вооружены общественным сознанием, перед которым примитивным кажется соответствующий арсенал индийцев. Пример тому — бледнолицый юноша, что сидел на веранде бунгало и не пускал людей на прием к начальнику района. Его-то никто не заставил жениться на шестнадцатилетней девочке. Ему-то, в сущности, все равно, будут ли у него когда-нибудь сыновья и дочери, или он сойдет в могилу без их помощи. Ни его обязанности, ни честолюбивые планы не рассыпались в прах под ударом чисто физического чувства, когда перед ним оказалась девушка, которую втолкнула в комнату его родная мать, девушка, которая, когда спали ее покрывала, пробудила в нем первобытный инстинкт овладеть, забыть, изгнать духов дисциплины, прилежания и безбрачия и вступить в расцвете сил во вторую стадию жизни, где человеком распоряжаются совсем иные духи.
— Влюбившись в твою мать, — рассказывал он Гари, — я доказал лишь одно, а это одно в свою очередь доказало многое другое. Что я — индиец до мозга костей. Молодому человеку не просто представился случай удовлетворить сексуальный инстинкт в том смысле, в каком ты мог бы это понять. Да и какой молодой человек устоял бы против такого соблазна — сняв с девушки покрывало, не испытать разочарования и притом знать, что она принадлежит ему и покорно примет все, что он пожелает с ней сделать? Нет, это было не так просто. В ту минуту я, понимаешь, автоматически вступил во вторую стадию жизни согласно индуистскому своду правил. Я стал мужем и главой семьи. И все мои честолюбивые планы сосредоточились на моей еще не существующей многодетной семье. Понятно это тебе? Эта психологическая подкладка? Конечно, меня ждали и радости, физические радости. Но чем они должны были увенчаться, как не счастьем и благополучием моего потомства? Уж конечно, не новым долгим периодом безбрачия, прилежания, ученья. Эту стадию я миновал. По индуистскому уставу я был уже не учеником, а мужчиной, с ответственностью мужчины, с новыми источниками радости, не такими, как у мальчика и ученика. А между тем, на взгляд западного мира, куда я уплыл, я все еще был мальчиком, учеником. Как говорят английские мещане, я жил двойной жизнью. Разве не так?
Такими рассуждениями Дилип Кумар пытался оправдать свою неудавшуюся жизнь и все же мучился, потому что не услышал от родителей ни слова упрека. Попрекала его, может быть, его жена Камала, тоже вступившая во вторую стадию, когда он овладел ею, грубо разорвал, а потом покинул, оставив ей лишь воспоминание о поразительном и болезненном превращении из ребенка в женщину, которая жила то у своих родителей, то у родителей Дилипа и по возвращении приняла его покорно, но уже как-то устало, и он, почувствовав это, решил, что, погнавшись за двумя зайцами, не поймал ни одного. Он не привез жене ни золота, ни богатых нарядов, никаких средств освободить ее от домашнего рабства, на что его долгое отсутствие давало ей право надеяться. Честолюбивые мечты, связанные с его отъездом, были ей не очень понятны, зато горести, связанные с его возвращением, она уразумела вполне.
— Уезжал от нее грозный, но обожаемый муж-индус, — рассказывал Дилип сыну, — а вернулся какой-то полумужчина, нечистый по индуистским понятиям, потому что уплывал за черную воду. И никаких осязательных выгод это не принесло. Меня уговаривали очиститься, вкусив пяти даров коровы. В их число входит коровий навоз и моча. А мясо, разумеется, нет.
В Англии он никому не рассказал, что женат. Постыдился. Месяца два со страхом ждал известия, что Камала беременна. Потом познал одновременно облегчение и разочарование. Он бы не вынес мысли, что ему предстоит стать отцом, но чувство свободы, испытанное им, когда он узнал, что это ему не грозит, было омрачено некоторыми сомнениями относительно его мужской полноценности. Он скучал без писем, но, получая их, огорчался чуть не до отчаяния. Отец его писал на хинди, а конверты надписывал по-английски печатными буквами, как учат в детском саду. Каждое письмо было проповедью, отеческим наставлением. Редкие письма от Камалы были по младенчески наивны, она трудилась над ними подолгу и с чужой помощью. Только переписка с Шалини доставляла ему удовольствие.
Возвратившись к жене, все еще не подготовленный даже к той работе, к которой не лежала его душа, он попробовал заняться образованием Камалы. Она подчинилась, но неохотно. С нее хватало того, что она уже знала. Ученье она считала пустой тратой времени, к тому же оскорбительной для нее как для замужней женщины. Золовки смеялись над ней, когда заставали с книгой в руках. Когда она говорила Дилипу, что забыла что-нибудь из пройденного накануне, он кипятился: — Глупости, тебе просто завидно, что Шалини умнее тебя.
В старом доме царило безделье. Женщины без конца пререкались между собой. На властный окрик матери они отвечали только угрюмым молчанием — до новой свары. Отец часами предавался размышлениям. Братья били баклуши: играли в кости, устраивали петушиные бои. На какое-то время и Дилип заразился этой апатией. Никакой работы от него не требовалось. Он играл с Шалини, которой шел уже двенадцатый год. Все мы ждем смерти отца, думал он, а когда отец умрет, будет и развлечение — грызня из-за наследства. Погрыземся года три-четыре, а там, глядишь, подрастут дети моих братьев, придется играть свадьбы, и деньги, с таким старанием скопленные, будут истрачены, а земля поделена и распродана — все, как я и предвидел.
В разное время он подумывал, не продолжить ли занятия в Индии, не подать ли прошение о зачислении на гражданскую службу провинции. Подумывал и о том, чтобы забрать жену и зажить своим домом, но оставил эту мысль: жаль было бросать Шалини. В школу родители ее не пустили. Он обратился в миссию Зенана, организацию, направлявшую учителей в правоверные индусские дома обучать женщин, но, когда выяснилось, что учиться будет всего одна девочка, его просьбу оставили без внимания. Он понял, что в ближайшие годы сам должен заняться ее образованием. А Камала забеременела, и он стал строить планы на будущее своего сына, и это будущее порой рисовалось ему весьма далеким от его желаний. Камала, конечно же, не захочет уплыть за черную воду. Да и что за жизнь была бы у нее в Англии? Там он будет ее стыдиться. В Англии она станет посмешищем. А здесь посмешищем стал он, Дилип. Задача представлялась неразрешимой. Сын его будет расти в тех же неблагоприятных условиях, от которых он сам до сих пор страдает. Он мог осуждать себя за брак с такой девушкой. Мог осуждать родителей, толкнувших его на этот брак. Мог осуждать Индию с ее обычаями. Легче было осудить Камалу. Она становилась требовательной, сварливой. Они часто ссорились. Он уже не был в нее влюблен. Порой он жалел ее.
Их первый ребенок, девочка, прожил два дня. Через год, в 1914-м, когда началась война Англии с Германией, родилась вторая дочь, та прожила год. А в 1916 году появилась на свет еще одна девочка, мертворожденная. Казалось, бедная Камала неспособна родить здорового младенца, не говоря уже о сыне. Это новое горе ожесточило их. Она теперь винила во всем его. Родить здорового сына было ее долгом. Она и хотела его исполнить. «Но как я могу исполнить мой долг одна? Это ты виноват. Столько лет читал книги, что и мужчиной быть перестал». В бешенстве он ушел из дому, захватив с собой немного денег, с твердым намерением не возвращаться. У него была смутная мысль записаться в армию, но он вспомнил Шалини и, истратив все деньги, вернулся домой. Вернулся с позором, без гроша в кармане. За тот месяц, что он отсутствовал, для Шалини сыскался жених, некий Пракаш Гупта Сен. Гупта Сены были в свойстве с лакхнаусской ветвью семьи Кумаров.
Шалини пожаловалась ему — не на свою помолвку, а на то, что не вовремя отлучился.
— Почему тебя так долго не было, Дилипджи? — допытывалась она. — Будь ты здесь, ты поехал бы с нашим отцом и братьями в Майапур. И рассказал бы мне по всей правде, какой он, этот Пракаш. Они-то говорят, что он умен и хорош собой. А твоего мнения я не знаю. Тебе я бы поверила.
— И это все, что ты можешь сказать? Все, что тебя интересует? Каков он из себя?
Но она уже рассуждала по-взрослому.
— А что еще может меня интересовать, Дилипджи? Ведь мне уже пятнадцать лет. Нельзя же всю жизнь быть ребенком.
Свадьба ее состоялась почти год спустя — в 1917-м. Дом опять был полон народу. Дилипа удивило, как спокойно его сестра приняла свое новое положение и даже расцвела под лучами обязательной лести, что всегда достается новобрачной. Пракаш Гупта Сен вызвал у него отвращение. Толстый, самодовольный, развратный. Через несколько лет это впечатление подтвердилось. Дилип не мог заставить себя подойти к Шалини. «Я совсем выдохся, — думал он. — Почему я не устрою скандал? Почему допускаю, чтобы эта гнусность продолжалась?» И отвечал самому себе: «Потому что я уже сломлен. Я ничего не жду от будущего. Я лишь наполовину обангличанился. Более сильная половина осталась индийской. Меня утешает мысль, что и другим нечего ждать от будущего».
В ночь после свадьбы Шалини он опять сошелся с женой. Она плакала. Оба они плакали. И обменялись обещаниями впредь не обижать друг друга, прощать и стараться понять. Наутро он вышел к воротам проводить Шалини. Она вошла в паланкин без малейшего колебания.
И Дилип понял наконец одно: что, расширив ее кругозор, он научил ее тому, чему сам так и не научился, — ставить моральное мужество выше физического. После этого он видел ее всего два раза: в первый раз ту неделю, что она после свадьбы провела с Пракашем в родительском доме, а во второй раз — через пять лет, когда накануне своего отъезда в Англию с двухлетним сыном Гари навестил ее в Майапуре во время праздника «Ракхи-бандан», привез ей в подарок что-то из одежды, а от нее получил в подарок браслет из слоновьего волоса, ведь в этот праздник братья и сестры укрепляют связывающие их узы, обмениваются обетами любви и родственного долга. В это время его жена Камала уже два года как умерла, а бедная Шалини все еще была бездетна. Дилип знал, что ее муж чуть ли не все время проводит с продажными женщинами. Года через три он умер от сердечного приступа в доме одной из своих любовниц.
«Вообрази, — написала она тогда брату, — сестры Пракаша всерьез советовали мне совершить сатти в память такого мужа и тем обрести праведность!»
И Дилип ответил ей из Сидкота: «На что тебе Майапур, приезжай к нам в Англию».
«Нет, — отписала она. — Мой долг, какой ни на есть, жить здесь, на родине. Чует мое сердце, Дилипджи, мы с тобой больше не увидимся. А ты этого разве не чувствуешь? Мы, индийцы, завзятые фаталисты. Спасибо тебе, что присылаешь мне книги. Это моя главная отрада. И за снимок Гари спасибо. Какой красавец мальчик! В мыслях я называю его мой английский племянник. Может быть, когда-нибудь, если он приедет в Индию, мы с ним познакомимся, если ему вздумается навестить свою старую тетку-индуску. Ты только подумай, ведь мне уже за тридцать! Дилипджи, я так за тебя рада. Смотрю на снимок Гари и словно опять вижу моего доброго брата, у которого, бывало, сидела на коленях. Ну, хватит болтать всякий вздор».
* * *
Все это Дилип впоследствии рассказывал Гари. А Гари после смерти отца пересказал Колину Линдзи за те несколько недель английской юности, что еще были ему отпущены. Ему казалось, что все эти истории не имеют никакого отношения к его жизни, казалось даже тогда, когда билет на пароход был уже куплен на деньги тетки со странным именем Шалини.
Была и еще одна история. Ее он тоже пересказал Колину. Обоим она казалась невероятной, не потому, что они не могли ее вообразить, а потому, что ни тот, ни другой не мог себе представить, что она произошла в семье Гарри Кумера.
А история была такая. Через две недели после того, как Шалини побывала в родительском доме, и через неделю после ее окончательного отъезда с мужем в Майапур, отец ее объявил о своем намерении отказаться от всего своего имущества, удалиться от семьи, снять с себя всякую ответственность и уйти странствовать, то есть совершить саньяси.
— Я свой долг исполнил, — сказал он. — Это следует признать. Не следует становиться обузой. Теперь мой долг — перед Богом.
Вся семья пришла в ужас. Дилип пытался его отговорить, но безуспешно.
— Когда же ты нас покинешь? — спросил он.
— Я уйду через полгода. До тех пор успею привести в порядок мои дела. Наследство будет поделено поровну между вами, четырьмя братьями. Дом достанется старшему брату. Матери будет разрешено жить здесь, сколько она пожелает, но возглавлять семью будут твой старший брат и его жена. Все будет так, как если бы я умер.
— И это, по-твоему, правильно? — вскричал Дилип. — Это святость? Бросить нашу мать? Заживо похоронить себя неизвестно ради чего? Просить подаяния, когда ты достаточно богат, чтобы прокормить сотню голодающих?
— Богат? — возразил отец. — Что это значит? Сегодня я богат. Одним росчерком пера на документе я могу избавиться от того, что ты называешь моим богатством. Но какой росчерк пера и на каком документе обеспечит мне избавление от тягот новой жизни, когда кончится эта? На такое избавление можно только уповать, только стараться заслужить его, порвав все земные связи.
— Ну и ну, — сказал Дилип. — Вот это интересно. Теперь, значит, тебе уже не было бы стыдно, если б твой сын стал маленьким бурра-сахибом? Теперь тебе, значит, все равно, что я делаю, где живу? И ради этого я тебе уступил? Ради того послушался тебя, чтобы увидеть, как ты от меня отмахнешься и уйдешь от меня, от моих братьев, от матери?
— Пока есть долг, должно быть и послушание. Мой долг перед тобой исполнен. И послушания от тебя больше не требуется. Теперь у тебя другие обязанности. А у меня теперь есть долг еще совсем иного рода.
— Это чудовищно! — вскричал Дилип. — Чудовищно, жестоко, эгоистично! Ты загубил мою жизнь. Я пожертвовал собой, а ради чего?
Как он уже убедился раньше, осуждать других было легче, чем самого себя, но об этой вспышке он пожалел и горько в ней раскаивался. Пытался поговорить на эту тему с матерью, но она в эти дни занималась своими повседневными делами как во сне, немая и недоступная. Когда до ухода отца осталось совсем мало времени, он пошел к нему и попросил прощения.
— Ты всегда был любимым из моих сыновей, — сказал старый Кумар. — Это был грех — любить одного больше, чем других. Лучше бы ты не был честолюбив. Лучше был бы таким, как твои братья. Я невольно был строже всего к единственному из сыновей, который решался мне перечить. И я стыдился своего предпочтения. Возможно, моя строгость была чрезмерна. Отец не просит прощения у сына. Я могу только благословить тебя и поручить твоему попечению эту добрую женщину, твою мать.
— Нет! — взмолился Дилип сквозь слезы. — Этот долг не для меня, а для старшего из братьев. Не налагай на меня и это бремя.
— Бремя ложится на то сердце, что более других готово его принять, — сказал старый Кумар и, опустившись на колени, коснулся ног младшего сына в знак смирения.
Уже в самом преддверии саньяси старый Кумар словно вознамерился нанести своей гордости последний удар. Он не совершил прощальных обрядов. Не облачился в длинное одеяние. Утром в день ухода он появился во дворе в одной набедренной повязке, с посохом и миской для подаяния. В эту миску жена все с тем же каменным лицом насыпала ему горсть риса. А потом он вышел из ворот на дорогу, миновал деревню и побрел дальше.
Какое-то время они следовали за ним на некотором отдалении. Он не оглядывался. Потом братья остановились, а мать все шла. Они молча смотрели ей вслед, поджидая ее. И вот она села на землю у обочины и сидела не шевелясь, пока Дилип не подошел к ней. Он помог ей подняться и повел домой.
— Не поддавайся печали, — сказала она ему позже, лежа на кровати в затемненной комнате, откуда заранее велела слугам вынести все, что напоминало о достатке и комфорте. — Такова воля божия.
* * *
После этого его мать стала жить как вдова. Она отдала ключи ог хозяйства старшей снохе и перебралась в комнату в задней части дома, окном на хижины слуг. Сама готовила себе пищу и ела в одиночестве. Никогда не выходила за ворота усадьбы. Сыновья и снохи скоро примирились с таким положением как с неизбежностью. Поведение матери объясняли тем, что она обретает праведность. Словом, с легкостью о ней забыли. Только Дилип каждый день заходил к ней в комнату — проведать ее, посмотреть, как она прядет кхади. Чтобы как-то общаться с ней, приходилось говорить ей что-нибудь, не требующее ответа, или задавать ей простые вопросы, на которые она могла ответить, покачав или кивнув головой.
Так он сообщал ей новости: о том, что кончилась война Англии с Германией, о коммерческих делах, которыми стал интересоваться, о последней беременности своей жены Камалы, о рождении еще одного мертвого ребенка, девочки. Однажды он передал ей слух, будто один из лакхнауских Кумаров, будучи в Бихаре, увидел на какой-то железнодорожной станции его отца с миской для подаяния, узнал его, но не заговорил с ним. Мать будто и не слышала, даже не перестала прясть. В 1919 году он рассказал ей кое-что о волнениях в Пенджабе, но умолчал о страшной расправе, которую солдаты-гурки под командованием англичан учинили над безоружными жителями Амритсара. В том же году он сообщил ей, что Камала опять ждет ребенка, а через несколько недель после праздника «Холи» — что у него родился сын. Мать его теперь, когда пряла, часто бормотала что-то невнятное. Он уже не был уверен, что она его слышит. Она и не взглянула на него, ни когда он рассказал ей про Гари, ни когда через два дня сообщил ей, что Камала умерла, что теперь у него есть крепкий, здоровый сын, но нет жены. Не взглянула и тогда, когда он засмеялся. А смеялся он, потому что не мог плакать — ни о Камале, ни о сыне, ни об отце, ни о выжившей из ума старой матери.
— Вот видишь, — истерически выкрикнул он по-английски, — она все-таки свое дело сделала. Знала, в чем ее долг. О господи! Она знала, в чем ее долг, и в конце концов исполнила его! Хоть и ценой своей жизни. Все мы знаем, в чем наш долг, разве нет? И я знаю. Наконец-то у меня есть сын, и я знаю свой долг перед ним, но я в долгу и перед тобой, и отец завещал мне его исполнить.
Этот долг он исполнял еще полтора года. Однажды утром, зайдя к ней в комнату, он увидел, что прялка остановилась, а мать лежит на кровати. Когда он подошел к ней, она открыла глаза, посмотрела на него и сказала:
— Твой отец умер, Дилипджи. — Голос у нее после долгого молчания был хриплый, надтреснутый. — Я это видела во сне. Костер уже зажгли?
— Костер, мама?
— Да, сын. Надо разжечь костер.
И заснула. А вечером, проснувшись, опять спросила: — Ну как, сын, костер зажгли?
— Скоро все будет готово.
— Ты меня разбуди тогда. — Она опять заснула, а утром, открыв глаза, спросила: — Огонь хорошо разгорелся, Дилипджи?
И он ответил: — Да, мама, горит ярким пламенем.
— Значит, пора, — сказала она. Улыбнулась, закрыла глаза, шепнула: — Я не боюсь, — и больше не просыпалась…
* * *
Мать умерла в октябре 1921 года. А через год, продав свою собственность братьям и навестив свою сестру Шалини в Майапуре, он увез сына в Бомбей, а оттуда на пароходе в Англию. В то время он был, можно сказать, человек состоятельный, а в последующие шестнадцать лет еще приумножил свой капитал и доход прибыльными вложениями и удачными биржевыми операциями. Возможно, у него и правда было то, что он когда-то называл роковым изъяном, но, если и так, этот изъян вопреки его предположению не толкал его на компромиссы. Да, в юности он пошел на компромисс, но позже, молодым мужчиной, стойко исполнял свой долг. Скорее, изъян этот гнездился в природе его страсти. В ней изначально присутствовала какая-то нечистая струя, или она, возможно, возникла в результате огорчений, которые в другом человеке охладили бы самую страсть, а в нем разожгли и усилили ее до того предела, когда только страсть и направляла все его помыслы и поступки — и все их сосредоточила на Гари.
Посторонний, познакомившись с жизнью, эпохой и характером Дилипа Кумара (впоследствии — Кумера), мог бы увидеть человека, чей жизненный путь и истоки сами по себе, ни порознь, ни в совокупности, не имели никакого единого смысла. Смысл им придавал только Гари. Здоровье Гари, его счастье, власть Гари в мире, где мальчики, подобные ему, ни на какую власть не притязают, — вот зарубки на планке, которой Дилип измерял собственные успехи и неудачи, и не было у него иной конечной цели, какой бы новый шаг он ни предпринял.
Когда отец Колина Линдзи, как и обещал, повидался с юристами и попытался добиться от них толку по поводу нелепых, казалось бы, слухов, будто Дилип Кумер умер банкротом, старший компаньон юридической конторы сказал ему:
— У себя на родине Кумер, вероятно, нажил бы состояние и сохранил его. Он как-то говорил мне, что в молодости хотел поступить на гражданскую службу или стать юристом, а о карьере бизнесмена и не помышлял. Самое интересное, что финансовое чутье у него, несомненно, было. Притом в европейском смысле. В сущности, это была самая английская его черта. На родине он бы заткнул за пояс всех тамошних бизнесменов. Он умел видеть за частностями общую картину. Вернее, с такой позиции он подходил к каждому новому начинанию, но потом все это сводилось к узкой частной цели — как можно быстрее нажить денег для сына, чтобы тот мог стать чем-то, чем сам он не был. Такая жалость! В последние полтора-два года, когда дела его пошли под гору, я снова и снова предостерегал его, пытался отговорить от безрассудных спекуляций. И тут-то, видимо, сказалась кровь, или происхождение, или как ни назови. Он запутался и струсил. Под конец прямо-таки потерял голову, судя по той безнадежной неразберихе, которая после него осталась. И, конечно, не выдержал. С собой он покончил, мне кажется, не потому, что убоялся последствий, он убоялся того, как эти последствия отразятся на его сыне. Домой, в Индию, как побитая собака… Кумеру ведь грозили серьезные неприятности. Сыну я про это ничего не сказал. И пусть остается в неведении. Но в банке считают, что один раз он, несомненно, подделал чью-то подпись.
Мистер Линдзи был потрясен. Увидев выражение его лица, юрист добавил:
— Счастье ваше, что вы не вложили денег ни в одно из его предприятий.
— У меня таких денег никогда не было, — отозвался мистер Линдзи. — Да я почти и не был с ним знаком. Нам жаль было мальчика, вот и все. По правде сказать, я очень удивился, услышав от вас, что он так любил сына. У нас сложилось как раз обратное впечатление. Наша-то семья дружная, мягкосердечная. И сын мой такой. Несколько лет назад он пригласил Гарри к нам на летние каникулы, когда узнал, что тот остается один. С тех пор так и повелось.
— Но поймите, мистер Линдзи, — сказал юрист, — Кумер потому и не навязывал Гарри своего общества, что желал ему добра. Я не хочу сказать, что он нарочно создавал впечатление, будто не заботится о сыне, чтобы люди приглашали его гостить и он мог с детства приглядываться к англичанам. Нет, он держался от Гарри подальше, потому что знал, что если Гарри вырастет таким, каким он мечтает его увидеть, то придет время, когда сын начнет его стыдиться. Взять хотя бы то, как он говорил по-английски. Мне-то казалось, что говорит он очень неплохо, но, конечно, индийский акцент чувствовался. И он не хотел передать его Гарри. Он не хотел, чтобы Гарри перенял у него что бы то ни было. Он сам мне это говорил. Говорил, что предвкушает тот день, когда увидит, что сын тяготится его обществом. Не хотел, чтобы мальчик скрывал, что стыдится его. Он хотел одного — обеспечить сыну самое лучшее английское воспитание и самую лучшую английскую среду, какую можно купить за деньги.
Но одних денег тут мало, думал мистер Линдзи. Горькое семя уже посеяно. Именно это в конце концов убедило его, что он поступил разумно, ответив отказом на ребяческую, вычитанную из книг идею Колина, чтобы Гарри остался у них жить насовсем как член их семьи, — именно это, а не только удар, нанесенный его врожденной порядочности известием, что отец юного Кумера поставил на документе чужую подпись, именно это — что юный Кумер остался один на свете не потому, что отец о нем не заботился, а в результате сознательной тактики, имевшей определенную и не слишком благовидную цель — обеспечить сыну равноправное положение в обществе, в которое он не мог бы его ввести, полагаясь только на собственные возможности.
Теперь Линдзи вспомнил — или, вернее, вызвал из подсознания, где они осели, — некоторые высказывания своих знакомых, чьи суждения он уважал, если они не шли вразрез с его либеральными взглядами (не очень-то прочно прикрывавшими врожденные классовые инстинкты). Дословно он эти высказывания не помнил, но помнил общий их смысл: что в Индии туземцы, если не давать им лениться, очень часто проявляют себя как общественные деятели; что настоящий индиец, достойный наибольшего доверия, — это ваш личный слуга, человек, зарабатывающий на хлеб под вашим кровом, а на следующем месте стоит простой крестьянин, который ненавидит своих отечественных эксплуататоров, плюет на политику, но, как человек разумный, интересуется погодой, состоянием посевов и правилами «честной игры»; уважает справедливость и представляет большинство этой нехитрой нации, верхушка которой на глазах портится от соприкосновения с просвещенными идеями современного западного общества. Меньше всего, говорили эти люди (а им и книги в руки, ведь они сами там побывали, а не они, так их родственники), меньше всего достоин доверия оевропеившийся индиец, потому что это, в сущности, уже не индиец. Исключение составляют только некоторые махараджи и им подобные, с рождения приравнявшие себя к заморским правителям и заинтересованные в сохранении status quo.
Было время, когда его сын Колин воображал, что отец Гарри — махараджа, или раджа, или на худой конец богатый землевладелец, по значению не уступающий махарадже. С годами впечатление это постепенно уточнялось (отчасти с помощью тех же знакомых, утверждавших, что отец Гарри, вероятнее всего, сын какого-нибудь мелкого земиндара, — а кто его знает, что такое земиндар?). Но тогда, значит, первое впечатление было ложным? И все это был обман? Мистеру Линдзи очень не хотелось так думать. Но теперь он именно так и подумал и после разговора с юристом, предпринятого из участия к мальчику, вернулся домой с таким чувством, будто его и его сына обвели вокруг пальца, втянули в некрасивую историю, а все потому, что он всегда готов видеть в людях хорошее и закрывать глаза на дурное и пропускал мимо ушей предостережения людей, которые, видя, как по-родственному вся их семья относится к Гарри Кумеру, порой и не пытались скрыть свое мнение, что добром это не кончится.
В тот вечер за обедом, слушая, как его красивый белокурый сын болтает с черноволосым смуглым Гарри, он с удивлением поймал себя на мысли: «Уму непостижимо! Если закрыть глаза и только слушать, их не отличишь друг от друга. Говорят-то они совершенно одинаково».
Но закрывать глаза он больше не мог. После обеда он отвел Гарри в сторонку и сказал ему:
— Мне очень жаль, старина. Помочь тебе я ничем не могу. Юристы меня в этом убедили.
Гарри кивнул. На лице его изобразилось разочарование. Но он сказал: — Что ж, большое спасибо. За то, что хоть попробовали. — А потом улыбнулся в ожидании, когда рука Линдзи, как обычно, ласково ляжет ему на плечо.
А Линдзи в тот вечер не нашел в себе сил для этого дружеского жеста.
* * *
Резче всего запомнились кучи листьев, холодных и мокрых, как рано утром после октябрьских заморозков. В сердце Гари Англия осталась как чистый, холодный, бодрящий воздух, воздух в движении, заливающий каждую ложбину, метущий вершины холмов — не застойный и тяжелый, источающий зловоние. И еще Англия осталась в сердце как парк и пастбища за домом в Сидкоте, острые фронтоны дома, окна с переплетом ромбовидных стекол и цветущие кусты глицинии.
Просыпаясь среди ночи на узком пружинном матрасе в своей комнате в доме № 12 на новой улице Чиллианвалла, он сражался с москитами, затыкал пальцами уши, чтобы не слышать заунывное кваканье лягушек и отрывистый писк влюбленных ящериц на стенах и под потолком. Каждое утро было мучительным переходом от беспокойных снов к кошмару яви, к отвращению, которое вызывало в нем все окружающее его в этой чужой стране: надрывный крик ворон за окном, жирные рыжие тараканы, которые, неспешно шевеля мохнатыми усами, переползали из спальни в ванную комнату, где не было ванны, а только кран, ведро, медный ковш, цементный пол и склизкий желобок, по которому грязная вода стекала через отверстие в стене во двор, разбрызгиваясь там по спекшейся глине, слой за слоем смывая с него все английское, унося с собой последнюю надежду, что все, случившееся с того дня, когда отец вызвал его письмом в Сидкот обсудить его будущее, окажется лишь плодом его воображения. Будущее? Встреча их так и не состоялась, а значит, и будущего, наверно, никакого нет. Отец не приехал, даже не выехал из Эдинбурга, а умер там в своем номере в гостинице.
Иногда, получив письмо от Колина Линдзи, он смотрел на конверт и твердил себе, что его ожидания и надежды безумны, что письмо это не от отца и не содержит известия, что все было ошибкой. Он страстно ждал писем из Англии, но, когда они приходили и он, разорвав конверт, сперва бегло проглядывал их, а потом перечитывал медленно, ему казалось, что вокруг стемнело и в этом мраке он готов совершить преступление, беспричинное, бессмысленное, лишь бы оно чудом перенесло его домой, в родной климат, на родную землю, к людям, чье поведение не приводит его в ярость. В таком настроении он никогда не отвечал на письма. Ждал, пока утихнет первая острая боль, а дня через два набрасывал черновик ответа, из которого не явствовало бы, что он трус, этого он не мог допустить, это противоречило бы той шкале ценностей, которой он твердо решил придерживаться, чтобы как-то пережить этот кошмар, увидеть его пока еще невообразимый, непредсказуемый, но, надо думать, логически оправданный исход.
Вот почему Колин Линдзи и не догадывался, каким бременем легло изгнание на плечи его друга. В одном из своих писем он написал Гарри: «Я рад, что ты как будто освоился на новом месте. Я сейчас много читаю об Индии, чтобы лучше представить себе, как ты там живешь. Картина получается потрясающая. Хорошо бы я мог к тебе приехать. Охотился ты последнее время на кабанов? Если заколешь хорошего кабана, смотри не оставляй его тушу перед какой-нибудь мечетью, не то сыны Пророка зададут тебе жару. Уж поверь моему опыту! В прошлую субботу мы сыграли с Уорденом вничью. Очень нам недостает кумеровского стиля — этих грациозных подач и медленных классных отскоков вправо. Забавно, что у вас крикет начнется примерно тогда, когда здесь начнется футбольный сезон. Я-то, впрочем, в этом году футбол не увижу. Как у тебя, уже определилось, чем ты займешься? Я твердо решил после летнего триместра распроститься со школой. Папа предложил раскошелиться на репетитора, если я хочу поступать в университет (шансов, считай, никаких), но я решил принять предложение моего дяди — поступить на работу в лондонское представительство нефтяной компании, в которой сам он какая-то шишка».
Переждав несколько дней, Гари ответил так: «Ты ведь помнишь, всегда предполагалось, что я после школы попробую сдать экзамены для поступления на ИГС, сдавать буду в Лондоне, а потом приеду сюда изучать дело на месте. Теперь экзамены можно сдавать и здесь, но я едва ли этим воспользуюсь. Деверь моей тети, уже старик, — глава какой-то фирмы здесь, в Майапуре, и, как я понимаю, хочет взять меня к себе на работу. Но сначала я должен выучить язык. Хоть дядюшка и считает, что мой язык тоже может пригодиться, он говорит, что ему от меня будет мало толку, если я не буду понимать того, что говорят 90 % людей, с которыми мне предстоит иметь дело. Здесь сейчас целыми днями льет как из ведра. Изредка дождь перестает, проглядывает солнце, и тогда от всего идет пар. Но дожди, говорят, продлятся до сентября, потом станет попрохладнее, но только на несколько недель. С самого начала нового года опять наступает жара, а в апреле и в мае люди уже даже не потеют. У меня болит живот, и я потерял аппетит, есть могу только фрукты, хотя по утрам просыпаюсь с мыслью о яичнице с ветчиной. Передай, пожалуйста, поклон твоим родителям, а также приветы Конолли, Джарвису и, конечно, старику Бифштексу».
Однажды, запечатывая такое письмо, он почувствовал сильное искушение разорвать его и заменить другим, из которого Колин мог бы получить представление о том, что значит для него жить на черном берегу реки в таком городе, как Майапур. Тогда он написал бы: «Здесь все, все безобразно — город, дома, река, пейзаж. Все одинаково убого и грязно, и в первую очередь люди, которые здесь живут. Если есть исключения, то разве что на том берегу реки, в так называемом кантонменте. Ты, возможно, в конце концов привык бы к здешней жизни, даже нашел бы в ней что-то хорошее, потому что ты-то жил бы в кантонменте, это было бы твое убежище. А я — здесь, в новом районе Чиллианвалла. Его называют современным. По их понятиям, ты — важная персона, если живешь в одном из этих душных бетонных домов-уродов. А здесь, между прочим, все пропахло канализацией. В моей комнате — если можно назвать это комнатой: окна без стекол, забраны решеткой, больше похоже на тюремную камеру — стоит кровать (деревянная рама с железной сеткой), стул, стол, который тетя Шалини застелила жуткой красной тряпкой, вышитой серебром, и гардероб — называется алмирах, — у которого заедает дверца. С потолка свисает вентилятор. Ночью он, как правило, перестает работать, и просыпаешься полумертвый от духоты. Мы с тетей живем вдвоем. У нас четверо слуг. Они живут на участке позади дома. По-английски не говорят. Когда я спускаюсь вниз, они глазеют на меня в окна и из-за дверей, потому что я — „заморский племянник“. Тетя моя, наверно, добрая женщина. Ей еще нет сорока, а на вид за пятьдесят. Мы не понимаем друг друга. Она больше старается понять меня, чем я ее. Но она хотя бы сносная. Остальных я терпеть не могу. Они хотят, чтобы я пил коровью мочу, мне, видите ли, нужно очиститься, потому что я побывал за границей и переплывал запретную воду. Очиститься! Я сам видел, как мужчины и женщины испражняются прямо на улице, на пустыре у реки. Ночью запах реки проникает ко мне в спальню. В моей ванной комнате в углу есть дырка в полу и две овальные подставки для ног. Там всегда полно мух. И тараканов. К ним можно привыкнуть, но только если придушить свои цивилизованные инстинкты. А сначала они вызывают отвращение. Даже страх. Сначала пользоваться этой уборной — сущая пытка.
Но дом — это еще верх чистоты и тишины по сравнению с тем, что творится за его стенами. Молоко мы получаем прямо из-под коровы. Тетя Шалини, к счастью, кипятит его. Молочник является утром и доит корову прямо на улице, у телеграфного столба. К столбу привязывает чучело теленка, в которое корова тыкается мордой. От этого у нее прибавляется молока. Теленка уморили голодом, потому что этот молочник продавал молоко хорошим индусам. С тех пор как я это узнал, я добавляю в чай только лимон, когда тете Шалини удается купить их на базаре. Я был на базаре всего один раз, в первую неделю после моего приезда, в мае. Жара была 110 градусов. Я еще не осознал тогда, что со мной случилось. Пошел на базар с тетей Шалини, потому что хотел ей помочь, и ей как будто хотелось, чтобы я с ней пошел. Что это было? Страшный сон? Например, прокаженный у входа на базар, на которого никто как будто не обращал внимания. Неужели это было наяву? Оказалось — да. Остаток его руки чуть не задел мой рукав, а тетя Шалини бросила ему в миску монету. Она все знает насчет прокаженных. Видит их изо дня в день. И когда она подала ему милостыню, я вспомнил эту историю, которую мне рассказывал отец, а я рассказал тебе, и ни ты, ни я не могли в нее поверить, о том, как мой дед в один прекрасный день ушел из дому просить подаяния, чтобы обрести праведность и слиться с Абсолютом. Интересно, он тоже к концу жизни стал прокаженным? Или достиг общения с богом?
Чего только отец мне не рассказывал! В то время это воспринималось как сказки. Даже, пожалуй, романтические. Чтобы оценить их по достоинству, нужно вообразить, что происходят они здесь или в каком-нибудь месте вроде этого, еще более первобытном. Я смотрю на тетю Шалини и стараюсь представить себе девочку, которую, не жалея затрат, отдали замуж за этого типа, который потом умер от сифилиса или что-то в этом роде. Во всяком случае, умер в бардаке. Зря мне отец это рассказал. Теперь, когда мы сидим за столом, я ловлю себя на том, что наблюдаю за ней, только бы она чего-нибудь не коснулась, кроме самого края тарелки. Бедная тетя Шалини! Она расспрашивает меня про Англию, а я не знаю, как отвечать, потому что дома о таких вещах вообще не говорят.
Дома! Вот и опять оговорился. Но мой-то дом здесь. В том смысле, что завтра я не проснусь ни в Чиллингборо, ни в Сидкоте, ни в „моей“ комнате в Дидбери, как мы ее называли. Я проснусь здесь, и первое, что я услышу, будет крик воронья. Я проснусь в семь, а в доме все уже не меньше часа будут на ногах. Со двора будет пахнуть чем-то жареным на топленом масле. Меня чуть не стошнит при мысли о завтраке. Я услышу, как перекрикиваются слуги. В Индии все кричат. К воротам подойдет разносчик или нищий и тоже будет кричать. Или тот человек, который визжит. Когда я его в первый раз услышал, то подумал, что он помешанный, сбежал из больницы. А он, хоть и помешанный, никогда под замком не сидел. Его помешательство считается знаком того, что он особо отмечен богом. Поэтому он более свят, чем так называемые нормальные люди. Возможно, за этой идеей, будто он святой, кроется другая идея, что для индийца единственный разумный выход — это сойти с ума, и об этом они все мечтают.
С утра, наверно, будет светить солнце. От него болят глаза, когда смотришь в окно. Никаких постепенных переходов не бывает. То слепящий свет, то вдруг тень, когда набежит туча. Позже пойдет дождь. Если дождь будет сильный, он заглушит крики. Но от шума дождя тоже начинаешь сходить с ума. Я здесь научился курить. Но сигареты всегда влажные. Часов в одиннадцать приходит старец, который называется пандит Бабу-сахиб, якобы для того, чтобы учить меня хинди. За уроки платит тетя Шалини. У пандита грязный тюрбан и седая борода. От него разит чесноком, дыхнет на тебя — хоть вон беги. Уроки эти — какой-то фарс, потому что, когда он говорит по-английски, я ничего не понимаю. Иногда он не является, иногда является с опозданием на час. Понятие о времени у них отсутствует. Вот видишь, для меня они все еще „они“.
Ты спрашиваешь, чем я думаю заняться. Не знаю. Все зависит от того, что надумают родичи тети Шалини по мужу. Как выяснилось, какие-то Кумары еще есть в Лакхнау, и в старом доме Кумаров в Соединенных провинциях еще доживает один брат тети Шалини с женой. Но они не хотят меня знать. Тетя Шалини им написала, когда узнала о смерти моего отца, а они хоть бы что. Папа порвал со всеми родными, кроме тети Шалини. Перед тем как эмигрировать в Англию, он продал свою землю братьям. Тетя Шалини думает, что этот ее брат, который еще жив, боится, как бы я не стал притязать на часть собственности. Она предлагала обратиться к юристу, чтоб проверил, законна ли была первоначальная продажа. В этом она такая же, как все индийцы. Их хлебом не корми, дай ввязаться в долгую, разорительную тяжбу. Но я не желаю участвовать в таких делах. Так что теперь я целиком завишу от нее и от ее деверя Ромеша Чанда Гупта Сена, пока не начал сам зарабатывать. А что я могу заработать, не имея приличной специальности? Тетя Шалини разрешила бы мне поступить в какой-нибудь индийский колледж, но это не в ее власти, потому что деньгами распоряжается Ромеш Чанд (она и сама-то вроде как его собственность). Здесь есть Технический колледж, основанный одним богатым индийцем, неким Чаттерджи. Иногда я подумываю, не попробовать ли поступить туда и получить инженерский диплом, или степень, или как это у них называется.
И знаешь, что самое ужасное? Ну, может быть, не самое, но что особенно меня бесит? Ни тетя Шалини, ни Ромеш Чанд и никто из родных и друзей не знаком ни с какими англичанами — во всяком случае, не общается с ними, разве что с совсем уж мелкой сошкой. Тетя Шалини с ними не знакома, потому что вообще ни с кем не общается, а остальные принципиально даже не пытаются с ними общаться. Это узкий, замкнутый, псевдоправоверный индийский круг. Я начинаю понимать, против чего в свое время взбунтовался папа. Будь у них знакомые среди англичан, я думаю, что скоро нашлось бы кому заинтересоваться моим будущим. Не может быть, чтобы мои пять лет в Чиллингборо ничего не значили, а здесь наверняка имеются всякие стипендии и льготы, которые можно бы для меня выхлопотать. Тетя Шалини ничего про это не знает и спросить, видимо, боится, а Гупта Сены откровенно не желают знать. Ромеш Чанд говорит, что сможет использовать меня в своем деле. Я видел его контору.
Думаю, что я сошел бы с ума, если б пришлось там работать. Главная контора помещается над его складом, окнами выходит на базар Чиллианвалла, и есть еще отделение на подъездных путях к вокзалу. Он подрядчик по поставке зерна и свежих овощей в гарнизон на том берегу реки. Кроме того, торгует зерном от себя. А по словам тети Шалини, имеет долю и еще во многих предприятиях. Ему, например, принадлежит почти вся земля в новом районе Чиллианвалла. Это та Индия, о которой ты не прочтешь в твоих книжках про охоту на кабанов. Это стяжательская, торгашеская Индия, где деньги прячут под половицами, а пшеницу и рис хранят до того времени, когда где-нибудь случится голод и можно будет сбыть их с отменной прибылью, даже если больше половины испортилось. Тогда все это продают правительству, и правительственные закупщики за взятку не замечают, что там полно долгоносика. Или можно продать его правительству, пока оно еще в хорошем состоянии и голода нет, а правительство само его сгноит, если, конечно, его не раскрадут со складов, и не скупят по дешевке, и не придержат до тех пор, пока правительственные агенты за взятку не купят его вторично. Это все я знаю из рассказов тети Шалини. Она очень наивная. Рассказывает мне такие вещи, чтобы повеселить меня. И не понимает, что говорит о людях, к которым мне полагается питать родственное расположение, о таких людях, как, например, ее покойный муж Пракаш Гупта Сен. Так или иначе, я должен выбиться из этого нестерпимого положения. Но выбиться — куда?»
* * *
В самом деле, куда? Колин не помог бы ему ответить на этот вопрос, потому что Гари никогда не задавал его никому, кроме самого себя, и себе-то лишь через несколько месяцев задал его так прямо и недвусмысленно. А раньше не задавал потому, что не мог принять сложившуюся ситуацию как реальность. В этой ситуации был весомый элемент фантастики, иногда смехотворной, а чаще нет: но всегда враждебной той картине будущего, которую она предполагала. Чтобы представить себе приемлемое будущее, нужно было сначала покончить с этой фантастикой. Что-то из реального внешнего мира должно было нанести ей удар и уничтожить ее. Все это время он цеплялся за свою английскость как за защитную броню, цеплялся с отчаянной уверенностью, не менее сильной, чем уверенность его отца в том, что, если хочешь в корне изменить свою жизнь, для этого достаточно жить в Англии. И теперь, чувствуя, что английскость — единственный ценный подарок, полученный им от отца, он старался забыть, что когда-то осуждал отца и год от года все больше стыдился его. Он теперь говорил себе, обнаружив очередное безобразие: «Вот это мой отец ненавидел и так старался уберечь меня от этого, что сошел с ума». Самоубийство отца он не мог объяснить иначе как безумием. И теперь, повзрослев, уже догадывался, что безумию этому способствовало одиночество. Не будь Дилип Кумар так одинок, у него, возможно, хватило бы мужества пережить финансовую катастрофу, в наличии которой юристы сумели убедить его сына, хотя объяснить ее так и не сумели. А Майапуре Гари осмыслил эту катастрофу как работу того же злого духа, который теперь замыслил сгубить и его жизнь.
Почти весь первый дождливый сезон он проболел. Что бы он ни съел, у него расстраивалось пищеварение. В таких обстоятельствах человек поддается малодушию. Из-за недомогания и от отвращения ко всему, что лежало за стенами дома № 12, он по многу дней подряд не выходил из своей комнаты. Когда шел дождь, он засыпал и днем, словно наглотавшись снотворного, и стал бояться той минуты, когда тете Шалини захочется с ним поговорить или прогуляться, потому что дождь, мол, перестал и вечер, по ее словам, выдался прохладный. И они шли к зловонной реке, по улице нового района до Бибигхарского моста, но оттуда сворачивали обратно, словно переходить на другой берег было запрещено, а если не запрещено, то, во всяком случае, нежелательно. За все это время с мая до середины сентября он ни разу не побывал в кантонменте. Сначала не ходил туда, потому что ходить было незачем, а потом — потому что тот берег стал символом свободы, а ему казалось, что проверить это еще не пришло время. Он не хотел искушать злого духа.
Побывал он за рекой на третьей неделе сентября 1938 года, когда дожди кончились, и болезнь прошла, и он уже не мог найти повод, чтобы хоть для виду не угодить дядюшке Ромешу Чанду Гупта Сену; вернее, когда он решил сделать все возможное, чтобы угодить дядюшке, потому что побеседовал с его поверенным, человеком по имени Шринивасан, и тот вселил в него надежду, что удастся уговорить дядюшку разрешить ему поступить в майапурский Технический колледж или в другой колледж в столице провинции. Он сказал себе: «Я стану именно тем, чем мечтал меня увидеть отец, и таким образом разделаюсь со злым духом. Я стану индийцем, которого англичане признают и охотно примут в свою среду».
Смерть отца породила в нем сознание морального долга.
* * *
Ромеш Чанд поручил ему доставить какие-то деловые бумаги мистеру Наиру, старшему клерку на складе у подъездных путей. Он нанял велорикшу. Из той одежды, что он привез с собой из Англии, мало что ему пригодилось. Рубашками и брюками тетка помогла ему обзавестись у базарного портного. Сегодня брюки на нем были белые, суженные книзу. К ним — белая рубашка с короткими рукавами и желтый пробковый шлем. Только ботинки были английские, не фабричные, очень дорогие. Один из слуг тети Шалини начистил их до такого блеска, какого он сам никогда не мог добиться.
У Мандиргейтского моста он попал в затор. Прямо перед рикшей остановился открытый грузовик, нагруженный мешками с зерном. На мешках сидел потный полуголый грузчик и курил «бири». Рядом еще один грузовик, сзади автобус. Рикша остановился как раз против храма. У ворот храма на земле сидели нищие. Он отвернулся, боясь увидеть среди них прокаженного. На том берегу прогремел поезд, но из-за грузовика ничего не было видно. Через пять минут после того, как он услышал шум поезда, транспорт сдвинулся с места. Мост окаймлял парапет из выбеленного камня. Мелькнула вода, открытое пространство, извилистый берег с грязными бухточками, а потом три колеса рикши запрыгали по доскам переезда, и он оказался там, в другой части света.
Острое предвкушение сменилось столь же острым разочарованием. Улица от моста до вокзала была застроена такими же зданиями, как новый квартал Чиллианвалла; но, перед тем как рикша свернул вправо, звонком и криками сигналя какому-то старику, гнавшемуся за осатанелым буйволом, он успел разглядеть впереди деревья, за которыми угадывался простор и воздух. Когда рикша остановился перед зданием склада, неприглядным, казенным, как все такие здания, он велел ему ждать. Рикша, видимо, пытался что-то возразить, но юный Кумар не понял его и ушел, не заплатив: только так он и мог быть уверен, что тот не уедет. Он вошел в здание под вывеской «Ромеш Чанд Гупта Сен и Ко, подрядчики». Внутри пахло джутом и пряностями. Было темно и сравнительно прохладно. Рабочие перетаскивали мешки из большой кучи к озаренным солнцем железнодорожным путям по ту сторону склада и грузили в товарные вагоны. Воздух был мутный от мякины и пыли. В стене рядом с Кумаром была открытая дверь и ряд окон, глядящих в огромную пещеру склада. Это была контора. Освещали ее электрические лампы без абажуров. Он вошел. Старшего клерка здесь не оказалось. Два молодых человека в дхоти и рубашках из домотканого ситца, сидя за складными столами, писали что-то в конторских книгах. Они остались сидеть. В дядиной конторе над складом у базара Чиллианвалла молодые клерки вставали всякий раз, как он входил в их душные, темные каморки. Это его смущало. Но сейчас, догадываясь, что этим клеркам известно, кто он такой, он невольно отметил эту разницу в поведении и почувствовал себя уязвленным. Он спросил, где старший клерк. Тот, к кому он обратился, ответил на его английский вопрос по-английски, но в тоне его прозвучала откровенная наглость.
— Тогда я оставлю эти бумаги у вас, — сказал Кумар и положил бумаги на стол. Молодой клерк небрежно швырнул их в проволочную корзинку.
— Между прочим, на них есть пометка «срочно», — напомнил Кумар.
— Тогда зачеши оставлять их мне? Взяли бы с собой да поискали мистеру Наира в конторе у начальника станции.
— Это ваше дело, а не мое, — сказал Кумар и повернул к выходу.
— Бумаги-то поручили вам, а не мне.
Они уставились друг на друга.
Кумар сказал: — Если вы не знаете, что с ними делать, что ж, пусть лежат в корзиночке. Я ведь только курьер.
Он уже подошел к двери, но тут его окликнул второй клерк: — Эй, Кумар!
Он обернулся, с досадой убедившись, что им действительно известно, кто он такой.
— Если дядюшка спросит, кому вы отдали бумаги, скажите — принял Моти Лал.
Он подумал, что тут же забудет это имя, а между тем у него были основания его запомнить.
Когда он вышел на улицу, рикша взбунтовался. Требовал, чтобы ему заплатили и отпустили его. Кумар сел в коляску и велел ехать к европейскому базару. Эту фразу он мысленно подготовил на хинди. Рикша замотал головой, но Кумар повторил приказание, повысив голос. Рикша ухватился за руль, повернул велосипед, пробежал так несколько шагов и вскочил в седло. Заметив, что он везет его обратно к дому, Кумар накричал на него. Они снова повздорили. Кумар догадался о причине его строптивости. Он не хотел везти так далеко седока-индийца. Седок-индиец не любит платить больше положенной цены.
В конце концов рикша смирился со своей горькой долей и, свернув к кантонменту, повез Кумара по широким улицам, мимо свободно раскиданных особняков. Здесь было тенисто и ощущалось утреннее затишье, какое дома, на каникулах в Дидбери, наступало между первым и вторым завтраком. Середина дороги была гудронирована, а обочины немощеные. В наступившей внезапно тишине слышалось ритмичное звяканье педалей. Он закурил, чтобы приглушить запах кожаных подушек и несвежего пота рикши.
Рикша сворачивал то вправо, то влево, и Кумар подумал, уж не нарочно ли он петляет, но тут улица, по которой они ехали, уперлась в другую, поперечную, он увидел ряд магазинов за аркадой и над одним из них вывеску: «Д-р Гулаб Сингх Сахиб и Ко. Аптека». Они выехали на Виктория-роуд. Он велел ехать налево и потом, стоило рикше оглянуться через плечо, словно спрашивая, не пора ли остановиться, коротким жестом посылал его все дальше вперед. Он хотел посмотреть, что там, за базаром. Хотел увидеть то место, которое, как он слышал, называлось майдан.
Под аркадой на Виктория-роуд было много англичанок. Какие же они все бледные! Их машины выстроились в тени, вдоль одной стороны базара. Попадались здесь и двуколки, запряженные лошадьми. Двуколки весело раскрашены, на сбруях серебряные бляхи и красные с желтым султаны. На некоторых англичанках яркие широкие брюки. Мелькнула мысль, что брюки их уродуют, но сильнее было теплое ощущение, что вот он наконец опять среди людей, которых можно понять. Он переводил взгляд с одной стороны улицы на другую. Вот вывеска «Дарваза Чанд. Портной. Военное и штатское платье». Вот Имперский индийский банк. Вот редакция «Майапурской газеты» — очень интересно, потому что тетя Шалини выписала эту газету специально для него, чтобы он мог читать местные новости по-английски. Все магазины кантонмента помещали там свои объявления. Имена были знакомые. Вот было бы здорово, если б у него была куча денег, можно было бы остановить рикшу у Имперского банка, зайти туда, разменять чек, а потом перейти на ту сторону к Дарвазе Чанду и заказать рубашек и два-три приличных костюма! И еще как было бы здорово набраться храбрости, войти в Английское кафе, выпить кофе, выкурить сигарету и поболтать с теми двумя хорошенькими белыми девушками, что как раз туда входят. И еще хотелось хлопнуть рикшу по костлявой спине, чтоб остановился, зайти в магазин «Все для спорта» и попробовать на вес и на гибкость английские ивовые биты для крикета, которые там продаются, притом недешево. От одного вида этих бит в витрине ему захотелось расправить плечи и послать мяч. А выбрав биту, перейти через улицу в китайский ресторан «Желтый дракон» и поесть по-человечески; а вечером заглянуть в кино «Эрос», где на сеансах 7.30 и 10.30 шел фильм, который он чуть не год назад смотрел со всем семейством Линдзи в «Карлтоне» на Хэймаркет. Хорошо бы Линдзи приехали сюда, в Майапур, опять посмотрели бы вместе. При виде белого здания кинотеатра с входом-гармошкой из стальной сетки, за которым скрывалась темная пещера открытого фойе — оно было построено отступя от улицы, за песчаным двориком, — он особенно остро ощутил горечь изгнания.
Он велел рикше ехать к майдану. Кинотеатр был последним зданием, примыкавшим к базару. Дальше шел кусок обсаженной деревьями улицы. По обе стороны тянулись невысокие стены, а за стенами — бараки и склады Управления общественных работ. Тут рикша покатил быстрей — промелькнули здание суда, полицейские казармы, административные здания, Мальчишня, бунгало окружного комиссара и то бунгало, в котором в 1939 году поселились Поулсоны.
Так Гари Кумар добрался до майдана. Он велел рикше остановиться. Огромная площадь была почти пуста. Двое белых детей катались верхом. За каждым пони бежал слуга-индиец. Вороны кружили над головой и каркали, но уже не казались Гари хищными птицами. Тут царил покой. И Гари подумал: «Да, это очень красиво». За майданом виднелся шпиль церкви св. Марии. Гари вылез из коляски и постоял в тени деревьев, вглядываясь, прислушиваясь. Прямо как на лугу в Дидбери! Трава позеленела после дождей, но этого он не знал, ведь он видел майдан впервые, он не видел его в мае, когда трава выгорает и становится темно-бурой.
Ужасно захотелось вскочить в седло и мчаться, подставив лицо ветру. Интересно, можно тут где-нибудь взять напрокат лошадь? Он оглянулся на рикшу. Спросить невозможно: он не знает нужных слов. Может, их и не нужно знать, и спрашивать не нужно — ответ и так нетрудно угадать. Майдан — заповедник сахибов. И все же ему казалось, что стоит заговорить с одним из них, и его признают, примут как своего. Он снова сел в коляску и велел ехать обратно к базару. Купить что-нибудь в аптеке у д-ра Гулаба Сингха — зубной пасты «Одол», мыла «Перз». Украдкой он проверил содержимое бумажника. Бумажка в пять рупий, четыре бумажки по рупии. Рикша запросит три рупии, но хватит с него и двух.
На обратном пути он заметил, что велорикш здесь очень мало. Были машины, велосипеды, двуколки. Велорикшами пользовались только индийцы. Один из таких пассажиров сидел, задрав ноги в сандалиях на ящик с живыми курами. Поскольку его самого тоже вез рикша, Кумар устыдился этого зрелища, а устыдившись, лишний раз прочувствовал, до чего он чужой в своем черном городе на том берегу, где селились все велорикши.
Перед аптекой Гулаба Сингха он велел остановиться и поднялся по двум ступенькам в тень аркады. В окне у Гулаба Сингха были выставлены патентованные средства, до того знакомые, до того английские, что он чуть не закричал от радости. Или от горя. Он вошел. Помещение было темное, прохладное. Ряды стеклянных витрин на подставках, как в музее. Слабый запах перца и мазей. В одном конце — прилавок. Несколько англичанок бродило среди витрин, каждую сопровождал продавец. Был тут и один англичанин, немного похожий на мистера Линдзи. Глянув на его костюм, Кумар как бы увидел себя со стороны. Одет как туземец. Дешевка с базара. Англичане негромко переговаривались между собой. Он прислушался. Мужчина, похожий на мистера Линдзи, говорил продавцу:
— А почему не поступило? Вы сказали — во вторник. Сегодня вторник. С тем же успехом я мог бы и сам его заказать. Ладно. Давайте что есть, а остальное пришлите на дом, и как можно скорее.
Кумар стоял у прилавка, ждал, когда продавец кончит обслуживать англичанина. Тот взглянул на него и тут же снова перевел взгляд на продавца, завертывавшего какую-то коробку.
— Ну так, — сказал англичанин, забирая покупку. — Остальное жду сегодня к шести часам вечера.
Когда он удалился, Кумар спросил: — У вас есть мыло «Перз»?
Продавец помотал головой и ушел. Кумар не был уверен, понял ли он вопрос. Из двери с дощечкой «Рецептурная» вышел другой продавец, но тот понес какой-то пакет женщине, разглядывавшей товары в одной из витрин. В другом конце магазина находился чуланчик фотографа. Кумар ждал. Когда он снова увидел своего продавца, тот открывал другую витрину, перед которой остановилась группа белых женщин.
Кумар отошел от прилавка и занял позицию, с которой рассчитывал перехватить взгляд «своего» продавца. Это ему удалось. Но продавец, судя по выражению его лица, и не помнил, чтобы кто-нибудь справлялся у него насчет мыла «Перз». Кумар пожалел, что сейчас он обслуживает не мужчин, а женщин, а то он прервал бы их разговор, не совершив при этом бестактности. Теперь же он очутился в незавидном положении наблюдателя, и другой мужчина, пользуясь случаем, прячется от негр за женскими юбками. Он огляделся… Тот продавец, что давеча вышел из рецептурной, возвращался туда. Кумар заговорил с ним: — Я тут спросил кого-то, есть ли у вас мыло «Перз».
Продавец остановился — возможно, потому, что уловил в голосе Кумара сахибские интонации. На мгновение он растерялся, словно не зная, чему верить — своим ушам или своим глазам, потом выговорил:
— «Перз»? Да, конечно, есть. Это для кого?
Такого вопроса Кумар не ожидал. Он даже не сразу его понял. За кого же его приняли? За слугу, которого хозяин послал в лавку?
— Для меня, разумеется, — ответил он.
— Одну дюжину, две?
У Кумара пересохло в горле.
— Один кусок, — сказал он, насколько мог высокомерно.
— Мы продаем только дюжинами, — объяснил продавец. — На базаре, скорее всего, найдете. — И прибавил что-то на хинди, чего Кумар не понял.
— К сожалению, я не говорю на хинди, — сказал он. — Вы что мне хотели сказать?
И до него дошло, что от раздражения он повысил голос и привлек к себе внимание. Он встретил взгляд одной из женщин. Она отвернулась с улыбкой, которую он мог определить только двумя словами — недобрая, насмешливая.
— Я хотел сказать, — ответил продавец, — что, если вам нужен всего один кусок мыла «Перз», вы купите его дешевле на базаре Чиллианвалла. Они там не считаются с твердыми розничными ценами.
— Благодарю, — сказал Кумар. — Вы мне очень помогли. — И вышел на улицу.
* * *
Комната в конторе у базара Чиллианвалла, где работал Кумар, была побольше других. В ней сидели и прочие клерки, говорившие по-английски. Они его боялись, потому что он держался надменно и был в родстве с хозяином. Гордясь знанием языка, который у них считался английским и на складе у Ромеша Чанда требовался не часто, они были обижены его появлением, но, с другой стороны, его присутствие им льстило, как бы возвышало их в собственных глазах. Эти юноши говорили на своем родном языке как можно реже и смотрели сверху вниз на старых служащих в душных конурках, которые и деловые разговоры, и переписку вели на хинди. Когда в их среде появился Кумар, это утвердило в них сознание собственного превосходства, но и заставило дрожать за свои места. При нем они не решались критиковать Ромеша Чанда и старших клерков, полагая, что в его обязанности, возможно, входит и слежка. И, даже убедившись, что это не так, они с тревогой гадали, кому из них предстоит уступить свое место этому обангличаненному мальчишке, который в деле ни шиша не смыслит, а держится как бурра-сахиб. Их обращение с ним было смесью из подозрительности, страха, зависти и подхалимства.
Они были ему глубоко противны. Размазни, хуже девчонок, то хихикают, то дуются. Уследить за их разговором трудно. Все слова сливаются, говорят нараспев, акцент какой-то странный. Сначала он старался их понять, потом увидел, что особенно стараться не стоит — опасно. Долго ли можно проработать с ними и не перенять их манеру говорить и тот чуждый образ мыслей, что отражается в их речи? По ночам, один у себя в комнате, он иногда говорил сам с собой вслух, чтобы уловить изменения в своих интонациях, выговоре, звучании и тут же себя поправить. Сберечь английское звучание своего голоса и английские повадки казалось ему все более важным. Даже после того плачевного эпизода в аптеке Гулаба Сингха. Он вспомнил слова отца: «Когда ты подходишь к телефону, люди думают, что говорят с англичанином»: В доме № 12 телефона не было. А если бы и был, не было англичанина, который бы позвонил или поднял бы трубку. Это полное отсутствие английского элемента в его зримой внешней жизни он воспринимал как логическое следствие той фантастики, что заполняла его жизнь внутреннюю, тайную.
Именно в этот период, после посещения аптеки, зародилась идея, что он стал невидим для белых людей, хотя сформулировал он ее не сразу. Когда он привык переезжать по мосту из черного города к складу у вокзала, привык к тому, что англичане, случайно встретившись с ним взглядом, смотрели как бы сквозь него в пустоту, идея собственной невидимости встала на свое место; но потребовалось еще какое-то время, чтобы он сделал из этой идеи естественный вывод: что, несмотря на все усилия отца, он — ничто; ничто в черном городе, ничто в кантонменте, ничто даже в Англии, потому что в Англии он теперь всего лишь воспоминание, знакомая, но, возможно, уже призрачная подпись в бессмысленных письмах Колину Линдзи, — бессмысленных, потому что с каждым месяцем эти письма все дальше отклонялись от правды. Сказать по чести, эти письма стали для юного Кумара своего рода упражнениями на употребление английских слов и понятий. Он знал, что его письма неинтересны. Улавливал в ответах Колина признаки растущего отчуждения. И все-таки общением с Колином он по-прежнему дорожил. Подпись Колина в очередном письме всякий раз подтверждала, что прожитые в Англии годы не были плодом его воображения.
* * *
Где подвести черту под историей Гари Кумара, Гарри Кумера, под его историей до Бибигхара?
Сестра Людмила сказала, что для нее Бибигхар начался в то утро, когда Меррик увез Кумара в полицейской машине; так что и жизнь Кумара надо довести хотя бы до этого дня или хоть до той минуты, когда мистер Соуза перевернул в темноте его бесчувственное тело и посветил ему в лицо фонарем. Такой мрак, сказала сестра Людмила, — выражение, знакомое ей по лицам многих индийских юношей, но в данном случае особенно красноречивое.
И где искать сведений о Кумаре за время до Бибигхара? Есть, конечно, адвокат Шринивасан. Есть сестра Людмила. Нет уже Шалини Гупта Сен, и никого из Гупта Сенов, кто бы знал или не скрыл, что знает. Есть и другие свидетельства и, между прочим, некая запись в книге членов майапурского клуба «Джимкхана». А еще есть подпись Гарри Кумера в книге членов Майапурского Индийского Клуба за 1939 год. Майапурского Клуба Чаттерджи. МКЧ. Второго клуба. Не главного. И сделана она (в книге, очень похожей на те, что были заведены в первом клубе) в мае 1939 года, как ни странно, чуть ли не в тот же день, когда окружной комиссар, презрев традицию, привел в клуб «Джимкхана» сразу трех индийцев.
«Я рекомендовал юного Кумара в члены Индийского Клуба (рассказал Шринивасан), потому что мне казалось — это как раз то, что ему нужно. До этого я видел его считанное число раз. Боюсь, он не питал ко мне симпатии. Он мне не доверял, потому что я был поверенным его дяди Ромеша. Мне он нравился, если не считать его английской повадки, на мой взгляд — недостаточно скромной, нравился как человек, но не как тип. Если б мы подружились, если б он мне доверился, я, возможно, сумел бы ему помочь — познакомил бы с Лили Чаттерджи, ввел бы в кое-какие смешанные англо-индийские кружки. Но когда он попал в круг дома Макгрегора, как его называли, было уже поздно. Он уже успел восстановить против себя этого Меррика, полицейского, и побывать у него на допросе. Тот вечер в 1939 году, когда я привел его в Индийский Клуб, оказался не из удачных. Баньи были на своих местах, сидели, задрав ноги на стулья. Он пришел в ужас. Думаю, что больше он туда не заглядывал, а через несколько недель бросил работу в конторе у дядюшки. Он прослышал, что Гупта Сены задумали его женить, и потерял всякую надежду на то, что дядюшка разрешит ему поступить в Технический колледж. В общем, плохо бы ему тогда пришлось, если б не его тетка Шалини. Старик только того и хотел, что сбыть его с рук. Помню, как она умоляла его не лишать ее пособия. Пособие он ей сохранил, но сильно его урезал. Она экономила на чем могла, на себя ничего не тратила, лишь бы наскрести что-нибудь для Гари на карманные расходы, ну и конечно, по-прежнему кормила и одевала его, и жил он у нее, как и раньше. Я говорил ей, что этак он никогда не научится стоять на собственных ногах. Ему было уже девятнадцать лет. По нашим понятиям — взрослый мужчина. Но она и слышать не хотела о нем ничего дурного. И поймите меня правильно. Он не сидел сложа руки. Помню, например, как он пытался поступить на Британско-индийский электрозавод. С ним там провели несколько бесед, и одно время казалось, что дело выгорит. Им, естественно, заинтересовались. Недаром он окончил английскую привилегированную школу. А что у него не было специальности — это не страшно, могли бы натаскать его и подготовить к административной работе. Но он там повздорил с одним из англичан — это мне Шалини Гупта Сен рассказала. О причине догадаться нетрудно. В то время, знаете ли, на людей, связанных с коммерцией, смотрели свысока. По колониальной шкале даже школьный учитель котировался выше. Тот человек, с которым Гари повздорил, вероятнее всего, говорил по-английски с акцентом промышленных графств и обиделся, что какой-то индиец говорит как директор-распорядитель.
После провала на электрозаводе я пытался втолковать Ромешу, что способности мальчика пропадают даром. Но буду честен. Я не проводил бессонных ночей, размышляя над этой проблемой. Вы просили меня говорить откровенно. Так вот, говоря откровенно, я не очень-то симпатизировал индийцам того типа, на который равнялся Дилип Кумар, воспитывая своего сына. Не забудьте, мне тогда еще не было сорока, и больше всего меня интересовала политика. А с политической точки зрения Гари Кумар отнюдь меня не устраивал. Отец, несомненно, внушил ему, что политика в Индии — нонсенс, одна видимость. Гари не принимал ее всерьез. Он ничего в ней не смыслил, не представлял себе, например, каким шагом вперед явилось для партии Конгресс участие в управлении провинциями. Он едва ли даже знал, что провинцией, в которой он живет, раньше управлял единолично английский губернатор и назначенный, а не избранный совет. Демократию он принимал как должное. Не испытал на себе, что значит автократия. С политической точки зрения это был младенец. Как и большинство англичан. В то время такие люди меня не интересовали. Теперь-то, конечно, я сам младенец в политике. Эта участь ожидает нас всех, во всяком случае всех, кто в молодости исповедовал крайние политические взгляды. Особенно же это касается тех, кто заплатил за свои взгляды тюремным заключением. Тюрьма наложила на нас свой отпечаток. Заставила нас придавать слишком большое значение тому, что привело нас за решетку».
* * *
Бросив работу у дядюшки, Гари объявил пандиту Баба-сахибу, что больше не нуждается в его уроках. Сделал он это, чтобы избавить тетку от ненужного расхода. Он овладел хинди достаточно, чтобы отдавать распоряжения, овладел в той мере, какую считает для себя достаточной любой англичанин, живущий в Индии. Переговоры на Британско-индийском электрозаводе он вел в 1939 году, в начале сезона дождей. Отказ был для него тяжким ударом, хотя после последней беседы он и не ждал иного. Впервые он написал Колину письмо, из которого юный Линдзи понял — или должен бы был понять, — каково приходится Гари Кумару.
«Одно время казалось вполне возможным, что меня пошлют домой изучить техническую сторону дела (сообщил он своему другу в Дидбери) — сначала в Бирмингем, а потом в Лондон, в контору головной компании. Первая беседа прошла замечательно. Меня принял очень приятный дядя, некто Найт, он учился в Уордене с 1925 по 1930 год, в 1929 году участвовал в матче Уорден — Чиллингборо, в котором они, оказывается, обыграли нас на 22 перебежки. О работе мы, в сущности, и не говорили, хотя именно Найт упомянул про Бирмингем и Лондон и вселил в меня такие надежды. Звучало это как ответ на молитву — ответ, который был под рукой и все эти месяцы меня дожидался. Я ему рассказал все, и про папу, и вообще. Он как будто слушал участливо. Следующая беседа была с директором-распорядителем, эта прошла не так гладко — наверно, потому, что у него, как нечаянно проговорился Найт, за плечами только классическая школа, ну и немножко университетского лоска. Но мне еще казалось, что все идет как надо, несмотря даже на то, что к идее послать меня на подготовку домой он отнесся прохладно. Он сказал, что у них есть договоренность со здешним Техническим колледжем, чтобы индийцев с административными способностями брать в первую очередь из их выпускников, но еще они разрабатывают общую с колледжем программу подготовительных курсов для своих „перспективных“ кандидатов: часть дня обучение на заводе, часть дня занятия в колледже. Если я получу какой-нибудь диплом в колледже, тогда можно будет послать меня домой для усовершенствования. Он очень не одобрил, что я не пошел в университет, и сказал: „В вашем возрасте, Кумар, большинство молодых индийцев имеют степень бакалавра либо гуманитарных, либо естественных наук“. Я чуть не сказал: „Да, только много ли она стоит“, но не сказал, потому что решил, что он сам способен оценить разницу между майапурским бакалавром и выпускником Чиллингборо. В общем, вторая беседа закончилась на оптимистической ноте. Потом я опять поговорил несколько минут с Найтом, и он сказал, что после нашего первого разговора написал кому-то из лондонской конторы, кто связался со стариком Бифштексом, и мне дали хорошую характеристику.
Пришлось ждать еще две недели до беседы № 3, о которой меня предупредили и Найт, и директор-распорядитель, но дали понять, что это не более как формальность. Эту беседу вел со мной некий Стабз, так называемый заведующий техническим обучением, а проще сказать — последний хам и подонок. Для начала он пододвинул мне через свой огромный стол какой-то цилиндрик и спросил, что это такое и для чего используется. Когда я сказал, что не знаю, но похоже вроде бы на клапан, он ухмыльнулся и сказал: „Ты что, с неба свалился?“ Потом взял лист бумаги со списком напечатанных вопросов и стал мне их задавать один за другим. Задолго до того, как он дошел до конца списка, я сказал: „Я уже говорил мистеру Найту, что в электричестве я полный профан“. Он будто и не слышал. Зря я, наверно, упомянул мистера Найта. Он продолжал, пока не дошел до последнего вопроса, и я в последний раз ответил: „Не знаю“. Тогда он выпучил глаза и сказал: „Вы что, комедию играете? Нарочно отнимаете у меня время?“ Я ответил, что это ему решать. Он откинулся в своем кресле-вертушке, и мы молча уставились друг на друга. Наконец он сказал: „Мы с вами одни в этой комнате, Кумар, или как вас там звать. Послушайте меня. Я в своем деле черномазых наглецов не люблю“. Я встал и ушел. Этого он и добивался, а я не мог поступить иначе, если не хотел перед ним пресмыкаться.
Так что теперь, Колин, ты знаешь, что я такое — черномазый наглец. (Помнишь, в первый год в Чиллингборо этого слизняка Пэррота?) Я — черномазый наглец, потому что умею переводить Тацита, но понятия не имею о том, о чем толковал этот Стабз. И этим еще не кончилось. Дня через три я получил от Найта письмо с просьбой зайти к нему. Он мне объявил, что сейчас у них нет вакансий. Это был совсем другой человек. Ему было неловко перед однокашником, он был смущен, растерян, а за всем этим — определенная враждебность. Видно, Стабз им черт-те чего про меня наговорил. А поскольку Стабз белый, они решили, что ему нужно верить. А на то место, куда я метил, у них наверняка было десятка два кандидатов с какими ни на есть степенями, готовых лизать Стабзу пятки.
Что меня удивляет, так это почему именно Стабзу разрешено задавать тон. Не мог же Найт не знать, что это за тип. Но он даже не поинтересовался тем, что я-то мог бы сказать по этому поводу. Он даже не упомянул о моей беседе со Стабзом. Уходя от него, я думал, зачем ему понадобилось вызывать меня к себе. Чтобы отказать мне, хватило бы и письма, а потом сообразил — ему захотелось еще раз взглянуть на меня, взглянуть вроде бы глазами Стабза, помня о том, что Стабз им наплел. И тогда мне стало ясно, что в этот раз я произвел на него неважное впечатление, хотя вины моей тут не было: я, как только сел напротив него, сразу понял, что все пропало, и огорчен был до крайности. И так старался это скрыть, что ему показалось, что мне наплевать. А мне, Колин, было ох как не наплевать! Разговор быстро иссяк, потому что ему больше нечего было сказать мне, а я не мог бы сказать ничего, кроме: „Пожалуйста, сэр, возьмите меня хоть на пробу!“ Может быть, он ждал, чтобы я сказал „сэр“. В той первой беседе я, кажется, ни разу не сказал „сэр“, но тогда он не заметил. А после разговора со Стабзом, очевидно, ждал от меня любых дерзостей. В общем, он скоро перестал смотреть на меня, и тогда я встал и сказал спасибо. Он сказал, что записал мой адрес на случай, если что-нибудь наклюнется, и тоже встал, но из-за стола не вышел и руку не протянул проститься. По-моему, ему захотелось мне напомнить, что мы не в Чиллингборо и пора мне научиться прилично вести себя с белыми. Такое, во всяком случае, витало в воздухе. Нас разделял его стол. Уже то, что я нахожусь в его кабинете, вдруг стало привилегией, которую мне надлежало ценить. Не помню, как я от нею вышел, помню только, как сел на велосипед за главными заводскими воротами и покатил через весь город, а потом по Бибигхарскому мосту на свой берег реки».
* * *
После того, что Шринивасан назвал «провалом на электрозаводе», Гари некоторое время не предпринимал ничего. Он жалел, что написал Колину то письмо, жалел все больше по мере того, как проходили недели, а ответа все не было. Кое-что за это время представилось ему в новом свете, например поведение мистера Линдзи в его последние недели в Англии, которое он раньше объяснял тем, что мистер Линдзи чувствовал себя неловко, оказавшись не в силах помочь ему в финансовом отношении; и как получилось на пароходе, когда англичане, охотно разговаривавшие с ним с самого Саутгемптона, после Суэца стали сбиваться тесными кучками, так что в последние дни пути ему уже удавалось поговорить только с теми из англичан, кто отправлялся в Индию впервые. В каюте с ним было еще двое юношей, студенты-индийцы, возвращавшиеся домой. Он не сошелся с ними сколько-нибудь близко, сразу уловив, что у него нет с ними ничего общего. Они спрашивали его мнения о вещах, о которых он никогда и не думал. В Англии они изучали политическую экономию и теперь собирались преподавать в университетах. Они показались ему нестерпимо скучными и чопорными. Их, видите ли, шокировало, что он спит нагишом и переодевается в каюте, а не в крохотной уборной.
Так Гари шаг за шагом подходил к невеселому выводу, что все планы, которые строил для него отец, зиждились на иллюзии. В Индии индиец и англичанин не могут общаться как равные. То, как человек говорит, как думает, как ведет себя, не имеет значения. Возможно, так же обстоит дело и в Англии, и Линдзи были всего лишь исключением из правила. Отца он не осуждал. Гнев его обратился на англичан — за то, что поддерживали иллюзию, которой поддался отец. Будь у него какие-то теплые чувства к своим соотечественникам, он мог бы попытаться примкнуть к ним, поискать случая отплатить англичанам. Но ни один из встреченных им индийцев не вызывал его симпатий, а то, что он слышал или прочел об их методах сопротивления английскому владычеству, казалось ему глупой детской игрой. И во всяком случае, они ему не доверяли. Как, впрочем, и англичане. Он понимал, что для внешнего мира он — ничто. Но сам он этого не чувствовал. Не чувствовал бы даже, если б был совсем один на свете. А он был не совсем один: оставался Колин — там, дома, а в Майапуре — тетя Шалини. К ней он искренне привязался, хоть и не сразу. Он понимал, что она, всегда оставаясь в тени, печется о его благе не меньше, чем миссис Линдзи, выражавшая свои чувства так открыто и экспансивно. Он знал, что по-своему, молча и смиренно, тетя Шалини любит его. Беда была в том, что эта любовь не могла помочь ему за пределами того единственного тесного мира, который был ей знаком, — мира, в котором он часто задыхался от отвращения. Ему трудно было входить в этот мир даже на короткие минуты, чтобы показать ей, что он отвечает любовью на ее любовь. Входя, он вынужден был защищаться от этого мира презрением и не скрывать своей неприязни к нему. А она принимала и неприязнь, и презрение на свой счет. Когда она давала ему денег, он не мог поблагодарить ее как следует. Деньги были гуптасеновские. Возможно, она ощутила его неприязнь к этим деньгам и как эта неприязнь растет, поскольку он все больше в них нуждается. Она стала класть деньги в конверт и оставлять на столе в его комнате. Его трогало, что на конверте она писала не Гари, а Гарри.
Трогало его и то, что она словно бы видела в нем главу семьи, носителя индийской семейной чести, будущего кормильца, мужа и отца: продолжателя рода. Он не мог вообразить себя женатым человеком. К индийским девушкам его не тянуло. Английские девушки, которых он видел в кантонменте, словно двигались окутанные складками невидимого покрывала, за которыми тела их казались призрачными, бесполыми. Средоточием его плотских желаний стало некое человекообразное существо, чей пол явствовал из очертаний бедер и выпуклой груди, а цвет и привлекал и отталкивал; существо бессловесное, невидимое и недвижимое под его телом, когда он ночью, перенапрягшись во сне или наяву, выбрасывал в пустоту мертвый груз неистового, но неразделенного порыва.
* * *
Через четыре недели после прощального разговора с Найтом Гари попробовал получить другую работу. До этого он все старался вникнуть в логику ситуации, которую уже принял как реальность, а не иллюзию. Драгоценный подарок отца — английскость — во многих отношениях оказалась минусом, однако, по существу, он продолжал считать ее плюсом. Это было единственное, что его отличало. Пусть он крепкий, здоровый, недурен собой — таких вокруг сколько угодно. А вот английским языком никто так не владеет. Логика подсказывала, что этим надо воспользоваться. Ему подумалось, что можно стать частным учителем, давать уроки мальчикам, которым хочется усовершенствоваться в языке, но такая жизнь ему не улыбалась. Какая-то неподвижная, застойная жизнь, и едва ли у него хватит на нее терпения, не говоря уже о педагогических способностях. Гораздо интереснее представлялась другая возможность, единственная, пожалуй, какая у него осталась.
Он уже больше года читал «Майапурскую газету» и теперь решил — вот что ему нужно! Владелец газеты был индиец. Издатель тоже, и, судя по всему, писали ее и редактировали тоже индийцы. Качество передовых и редакционных статей было довольно высокое, зато местные новости нередко вызывали смех (что вовсе не входило в намерения корреспондентов). Гари даже подозревал, что популярность газеты среди майапурских англичан объяснялась тем, что она давала им возможность не только увидеть свои имена в печати, на страницах, посвященных спорту и светской хронике, но и просто посмеяться. В отличие от других газет, которыми владели индийцы, она держалась сугубо нейтральной линии. Политические споры предоставляла нескольким местным газетам на хинди и английской «Майапурский индус», которую иные английские чиновники читали по долгу службы, другие покупали, чтобы сопоставить ее сообщения с кулькуттскими «Стейтсмен» и «Таймс оф Индиа», большинство же просто игнорировало. Издание ее уже несколько раз подвергалось запрету.
Решив попытать счастья в «Майапурской газете», Гари выписал из старых номеров ряд особенно безграмотных корреспонденций, а затем переписал их заново. На это у него ушло несколько дней. Убедившись, что работа, на которую он надеялся уговорить издателя взять его, получается неплохо, он написал ему письмо с просьбой о личной встрече. Письмо он переписал несколько раз, чтобы осталось только самое необходимое. Наверху редакционного столбца на средней полосе стояло имя издателя — Б. В. Лаксминарайан. Гари написал мистеру Лаксминарайану, что ищет работу. Сообщил свой возраст и данные об образовании. Добавил, что, дабы не утруждать мистера Лаксминарайана ответом, он сам позвонит дня через три и тогда, если нужно, договорится о встрече. После некоторых колебаний он решил приписать, что мистер Найт из Британско-индийской электрокомпании, вероятно, не откажется передать ему характеристику, полученную от директора Чиллингборо. Подписался он Гари Кумар, а конверт пометил «лично» — хоть какая-то гарантия, что его не вскроет и не уничтожит какой-нибудь сотрудник из страха самому лишиться места. Не зря он поработал в конторе у дядюшки. Он рассчитал, что мистер Лаксминарайан едва ли знаком с Найтом, а если и знаком, то не настолько близко, чтобы позвонить ему, а если все-таки позвонит, то едва ли у Найта хватит нахальства рассказать индийцу что-нибудь сверх того, что состоялось несколько бесед, но не было вакансии. И еще он понадеялся, что Найт, если они будут говорить как один возможный наниматель с другим, сочтет недостойным джентльмена дурно отозваться о молодом человеке, который когда-то играл в крикет в матче между их двумя школами.
Во втором своем предположении Гари оказался прав. Лаксминарайан был знаком с Найтом, но не настолько близко, чтобы позвонить ему, разве только потребовалось бы проверить какой-нибудь слух насчет деятельности Британско-индийской электрокомпании. В связи с письмом Кумара он, во всяком случае, не стал бы ему звонить. Лаксминарайан не любил мистера Найта, считал, что человек он двуличный, обаяние пускает в ход как метод, а его либеральные склонности уже давно уступили место смертельному страху, как бы не нажить неприятностей, высказавшись слишком определенно. «Найт, — сказал он Гари много позже, — теперь не более как пешка». Он был вынужден так нелестно высказываться о Найте, чтобы не думать столь же нелестно о самом себе.
Письмо Гари Кумара заинтересовало его, но, отвечая ему: «Позвоните безусловно, хотя вакансий сейчас нет», он еще не собирался брать его на работу. Мало того, от Мадху Лала, владельца газеты, жившего в Калькутте, он недавно получил распоряжение сократить накладные расходы и добиться более разумного процента чистой прибыли на вложенный капитал. Сам он считал, что тираж газеты повысится, если станет ясно, что она ратует за дело индийских националистов. Он знал, что сейчас члены местного подкомитета Конгресса ругательски ругают газету, а англичане над ней потешаются. Однако полагал, что еще больше англичан станут ее покупать, если как следует расшевелить их. Теперешние читатели — индийцы со стыдливыми западными замашками и снобы-англичане — никуда не денутся, это публика неприхотливая. Но он был убежден, что за год увеличит тираж газеты еще на пять или даже на десять тысяч экземпляров, если Мадху Лал разрешит ему превратить ее в трибуну для квалифицированных и разнообразных выступлений на местные и общенациональные темы — не индусских, не мусульманских, не британских, а индийских в лучшем смысле этого слова.
Лаксминарайан действительно верил в свою газету. Это позволяло ему верить в себя, а откровенно критиковать ее недостатки было приятнее, чем критиковать свои собственные. Он наловчился возмещать предосудительный образ действий похвальным образом мыслей, что, может быть, не так уж плохо. Достигнув среднего возраста, он так втянулся в непрерывный компромисс, что уже не мог разжечь в себе — с практической целью — бунтарскую искру молодости. С точки зрения Гари, это, безусловно, было не так уж плохо. Стоило Лаксминарайану поговорить с ним несколько минут, как его укрощенный демон проснулся и попытался — безуспешно — подчинить себе его здравое суждение. Демону Кумар не понравился: не понравилась его манера, его голос и как он сидел — нога на ногу, с гордо поднятой головой, положив одну черную руку на стол — этакий эмбрион черного сахиба, — и как разговаривал с апломбом сахиба, с чувством превосходства, ловко затушеванным ради сиюминутной выгоды. Демон притих только потому, что Лаксминарайан уже выработал в себе иммунитет против его ропота, и потому, что в Кумаре он усмотрел потенциальное благо — благо с точки зрения того типа газеты, какого требовал от него Мадху Лал. И когда Кумар подал ему пачку листков как письменное доказательство своих редакторских талантов — заметки и отрывки, в которых он узнал материалы из старых номеров, переведенные на простой, ясный, правильный английский язык, который в периоды всеобщей запарки не давался даже перегруженным редакторам, — он понял, что даст Кумару работу и, скорее всего, уволит кого-нибудь из молодых сотрудников, из тех, кого он любил, хоть и был недоволен их работой, из тех, что не были наделены талантом, но писали с душой и в будущем грозили стать для него обузой.
* * *
Лаксминарайан. Теперь он живет в бунгало, ранее принадлежавшем одной евразийской семье, которая уехала из Майапура в 1947 году, в бунгало на Керзон-роуд. Он уже глубокий старик. Он пишет историю основ индийского национализма, которая, вероятно, никогда не будет дописана, а тем более издана, пишет ее во искупление долголетних личных компромиссов. Он признает, что тактика Мадху Лала оправдала себя, поскольку «Майапурская газета» существует до сих пор. Если б дать волю ему, Лаксминарайану, ее могли бы угробить в 1942 году, когда «Майапурского индуса» прикрыли не то в третий, не то в четвертый раз. Но сейчас его забавляет национально-индусский уклон «Газеты» и как она делает вид, что всегда поддерживала те идеи, что нынче обеспечивают ей популярность. Новый ее владелец — индус, беженец из Пакистана. Новый издатель — родственник владельца. Что касается политики центральной власти, то больше всего места она уделяет речам и делам мистера Морарджи Десаи. На будущий год она собирается выходить параллельно на хинди, а затем и вовсе отказаться от английского издания. Это больше, чем что-либо другое, огорчает мистера Лаксминарайана — ведь его всю жизнь связывала с английским языком некая любовь-ненависть, как он выражается. Английский;—это тот язык, на котором он впервые формулировал свои революционные мысли; язык, на котором так удобно было держаться золотой середины, притом что выглядело это как здравомыслие, а не как трусость.
«Что я теперь? (спросил бы он вас, если б вы вздумали навестить его в его доме, в окружении внучат, чьи звонкие голоса словно доносятся одновременно из всех комнат и из залитого солнцем, порядком запущенного сада). А вот я вам сейчас скажу. Я — старик, переживший один из величайших переворотов современной истории, первый и, думаю, самый бурный из целого ряда переворотов, этих восстаний против владычества белого человека, которые нынче стали до того обычны, что даже наскучили. И пережил, и остался целехонек, хотя столько раз менял кожу. Теперь удалился от дел, получаю пенсию. Пожизненный почетный член Майапурского Клуба, где проводят свой досуг хорошие индусы. Молодые журналисты, когда услышат, что это я провел „Газету“ по ураганным годам перед независимостью, приходят ко мне и просят: „Пожалуйста, сэр, расскажите, как оно было при англичанах?“ Так и ваша молодежь иногда спрашивает: „Как же оно было при Гитлере и Муссолини?“ Прежние колониальные англичане, понимаете ли, уже стали мифом. Наши молодые люди видят новых англичан и удивляются: „Столько было шуму, а из-за чего? Эти люди совсем не похожи на злодеев, и интересы у нас с ними вроде бы общие. Прошлое их не интересует, да и нас тоже, разве что мы вот спрашиваем, из-за чего было столько шума. И мы далеко не уверены в том, что нынешнее правительство лучше, и даже в том, что оно нас действительно представляет. Больше похоже, что оно представляет неустойчивый союз между прежней реакцией и прежними революционерами, а что интересного могут сказать нам такие люди?“
Я взял Кумара на работу, а через некоторое время уволил одного парня, Видьясагара, его арестовали в 1942 году вместе с еще несколькими сотрудниками „Майапурского индуса“, а потом посадили в тюрьму. Во время Бибигхара меня просили что-нибудь предпринять в связи с той некрасивой историей, в которой оказался замешан юный Кумар. А я, признаюсь, отказался. За бедного Видьясагара меня никто не просил хлопотать, ему закатили пятнадцать палочных ударов за какое-то нарушение тюремных правил. Ни тому, ни другому я бы все равно не мог помочь. Но очень уж мне было обидно, что, когда оба оказались под арестом, хоть и по разным причинам, только у Кумара нашлись заступники, они мне уши прожужжали: „Неужели вы не можете вызволить Гари из тюрьмы? Ведь он у вас работал. Неужели вы не можете ничего для него сделать? Неужели не можете доказать, что он и близко не подходил к Бибигхару?..“ Кто это был? Да вот хотя бы леди Чаттерджи. И этот Найт из Британско-индийской, у того, видно, совесть была неспокойна. Даже заместитель комиссара мистер Поулсон присылал за мной и выспрашивал насчет политических связей Гари Кумара. Я сказал: „Мистер Поулсон, он такой же, как я. Никаких политических связей у него нет. Прихвостень англичан, только и всего“. Очень я тогда рассердился. Пальцем бы не пошевелил, чтоб помочь ему. Если англичане сами не видят, что он ни в чем не виноват, я-то кто такой, думаю, чтобы за него вступаться? Он сам англичанин, еще почище их».
* * *
Через неделю после того, как Гари устроился работать в «Майапурскую газету», он получил письмо от Колина Линдзи. Послано оно было в конце июля 1939 года. Колин просил прощения, что долго не отвечал. «Понимаешь, несколько месяцев назад я записался в территориальную армию, и твое последнее письмо мне переслали в учебный лагерь. Там нас здорово гоняли. Если будет война — а похоже, что к тому идет, — попробую получить офицерское звание, а не то так с удовольствием останусь младшим капралом на жалованье рядового (это меня произвели в лагере). Ты, наверно, тоже подумываешь об армии, если что-нибудь случится? Я слышал, что индийская армия — контингент первый сорт и офицеры там теперь не только англичане. Может, приведется встретиться в каком-нибудь блиндаже — помнишь „Конец пути“?![17] Обидно, что у тебя так нескладно получилось на этом заводе или где-то там, не помню. Мне непонятно, почему родичи твоей тети не захотели, чтобы ты шел на ИГС. Папа мне сказал, что слышал от одного знакомого, что индийцы могут стать даже членами Верховного суда, так что, казалось бы, ИГС — самое подходящее дело. Это — или армия. Я бы рекомендовал второе. Житье — лучше некуда. Нет, серьезно, Гарри, из тебя вышел бы отличный командир взвода, я и сам мечтаю таким стать, если война все-таки состоится. Тогда ты мог бы утереть нос этому твоему Стабзу: он-то явно годится только в рядовые. Чует мое сердце, что, когда ты получишь это письмо, я буду во Франции. И почему, черт возьми, обязательно Франция? У нас в части считают, что немцам следовало бы пожаловать сюда. Вот тогда мы бы им показали. Майор Кроу, наш командир, говорит, что со всеми этими разговорами насчет „пушек вместо масла“ они, бедняги, до того ослабели от голода, что не могут ни взять на плечо, ни тем более передвигать вручную свои орудия. Эх, Гарри, старый друг! Хорошо бы ты был здесь. Воевали бы вместе. По-моему, сейчас это единственное, чем стоит заниматься. Любящие родители шлют привет».
* * *
— Однажды он рассказал мне про письмо от этого мальчика Линдзи (сказала сестра Людмила). Почему он решил мне исповедаться? Я этого не заслужила. Он говорил таким тоном, как будто во всем изверился, но это было для него неестественно, он это себе внушил. «Сестра, говорит, что бы вы сделали, если б получили письмо от старого друга и вдруг поняли, что говорите с ним на разных языках?» Я уж не помню, что ответила. Кажется, сказала: «Есть только один язык, язык Господа». Я, понимаете, имела в виду правду, то есть что правда — единственный язык, который имеет значение. Он и себя считал отчасти виновным в том, что случилось, потому что в своих письмах не высказывал этому Линдзи, что у него на душе. Может, он и не мог иначе. Не высказывал, потому что и сам не знал.
* * *
«Майапурская газета» платила Гари шестьдесят рупий в месяц — чуть больше четырех фунтов стерлингов. Половину этих денег он отдавал тете Шалини, потому что в тот день, когда он начал работать у Лаксминарайана, дядя Ромеш сократил ей пособие. За материал, написанный самим Гари, Лаксминарайан обязался платить ему одну анну за строку. Другими словами, за 16 строк он будет зарабатывать одну рупию.
Всё это он сообщил Колину в ответном письме. Возможно, ему хотелось как-то дать понять Колину, что в Майапуре угроза германского вторжения — это нечто из мира фантастики, а геройская поза Колина, на удивление старомодная, никак не вязалась с тем, в чем Гари видел свой непосредственный долг, и с тем презрением к войне, которое, как он ясно помнил, они с Колином дружно испытывали или, во всяком случае, напускали на себя. С Колином что-то случилось. Что именно — Гари не понимал. Было время, когда они даже допускали необходимость занять открыто пацифистскую позицию в знак протеста против того, что называли принудительным физическим насилием в интересах политических и экономических аппетитов государства. А теперь вот Колин предается ностальгическим воспоминаниям о «Конце пути». Неужели военная форма может так исковеркать человека? И прежде всего, Колина-то что заставило добровольно ее напялить? Когда-то Колин сказал, что патриотизм, как и религиозность, есть извращенная форма инстинкта самосохранения. В Чиллингборо выращивали администраторов, а не солдат. В глазах администратора солдаты — это последняя оборонительная позиция, до которой может отступить политик, и такое отступление в общем-то позорно.
«Я очень рад, — написал Гари, — что жизнь в учебном лагере не слишком тебя изматывает…»
Ох уж эти английские тонкости! Ему тут же пришло в голову, что эти слова можно истолковать либо как мужественно сдержанное сочувствие, либо как язвительнейшую критику.
«…и думаю, что, если дойдет до драки, Индия тоже вступит в войну. А это коснется и меня».
Он задумался. Он далеко не был уверен, что это его коснется.
«Трудно применить какую-либо теорию к ситуации, которая требует определенного поведения, — продолжал он. — Ты, наверно, как и я, оказался перед подобным выбором».
Он вспомнил, как когда-то мистер Линдзи называл Гитлера «этот чертов маляр», а позже отзывался о нем как о человеке, который, «что ни говори, а своего умеет добиться». Вспомнил и то, как во время Мюнхена, как раз когда он сам вел «политику умиротворения» с дядей Ромешем Чандом, он получил от Колина письмо, в котором тот выражал облегчение, что здравый смысл мистера Чемберлена предотвратил войну. Для Гари Мюнхен был тогда пустым звуком. Теперь, задним числом, он понимал, что не больше значило это слово и для майапурских англичан, укрытых, как теплым одеялом, чувством своей национальной несокрушимости. Впрочем, он не сомневался, что тон последнего письма Колина в точности отражает настроение огромной массы англичан как в Англии, так и вне ее. Он сам пытался проникнуться этим настроением, но безуспешно. Ничего похожего он не мог почерпнуть ни в черном городе, ни в кантонменте, ни в судах, от мирового до окружного, ни даже на майдане, хотя во всех этих местах он теперь бывал все чаще в связи со своей репортерской работой. А не мог ничего почерпнуть потому, что появлялся в таких местах как индиец. Появлялся с разрешения, а не по праву. То, что он видел, ему не нравилось. И не нравилось то, что он чувствовал, — зависть к англичанам и их установлениям, заполнившую пустоту, которая образовалась, когда он потерял собственную английскую сущность. Ему, как это ни печально, легко было представить себе Колина на месте того молодого англичанина, что сидел в судейском кресле и был волен если не над жизнью и смертью (поскольку полномочия мировых судей ограниченны), то, во всяком случае, волен приговорить человека вдвое себя старше к году тюремного заключения, а печально потому, что в роли того молодого человека и сам Колин, пусть символически, представал в некрасивом свете. С другой стороны, он не мог вообразить себя на месте судьи-индийца, который однажды заменял того англичанина и вел заседание точно так же самоуверенно и издевательски. Гари поймал себя на мысли — по какому праву здесь сидит индиец: этого мужчину оштрафовал, эту женщину упек за решетку, это дело направил в высшую инстанцию? Неожиданно он воспротивился тому, что индиец выполняет работу белого. А немного разобравшись в своих чувствах, понял, что проявил себя как представитель угнетенной расы. Эта мысль не на шутку его встревожила.
* * *
«Столько шуму, — писал он Колину два месяца спустя (когда в далекой Европе война уже началась), — по поводу отставки кабинетов провинций, в которых большинство составлял Конгресс. Можно, конечно, понять обе точки зрения. Вице-король был вынужден объявить войну от имени Индии, потому что он — представитель короля-императора, а немцы теперь числятся врагами короля. Но поскольку английская политика в Индии последнее время заключалась в том, чтобы рассматривать ее как потенциальный доминион, который со временем обязательно получит самоуправление, вице-король мог бы хоть для проформы проконсультироваться с индийскими руководителями. Некоторые утверждают, что по закону 1935 года он был даже обязан это сделать, но, если и нет, насколько же внушительнее это прозвучало бы одновременно с индийским заявлением о согласии на добровольное сотрудничество. Можно понять и то, что, когда столько идет разговоров о целях, которые преследует Англия в этой войне, индийцы считают, что одной из этих целей должно быть предоставление Индии независимости сразу после окончания войны. Оттого, что это не было четко сформулировано, с указанием точного срока, множество индийцев решило, что добиваться независимости следует уже сейчас. Они утверждают, что только свободная страна воюет в полную силу. И боятся, как бы после войны не возобновились отговорки и недомолвки, которые длятся уже десять лет, если не больше. Но по-моему, они сами отчасти виноваты в этих отсрочках. Конгресс утверждает, что представляет всю Индию, а это не так. И их разногласия насчет того, кто что представляет, только на руку тем англичанам, которые не хотят лишиться Индии, про каких мой отец говорил, что они своего не уступят. В общем, он, пожалуй, был прав. Вот, например, сейчас, когда все конгрессистские кабинеты ушли в отставку, большая часть провинций опять оказалась под властью губернатора и его Совета, то есть создалось как раз такое положение, какого всякая разумная партия старалась бы избежать, ведь в политическом отношении это отбрасывает их на много лет назад. А впрочем, в индийской политике я никогда не разбирался и, наверно, так и не научусь. Что касается того, как война подействовала на здешних англичан, то, на мой взгляд, никак не подействовала. Она и правда идет как будто в другом мире, если можно сказать, что она вообще идет. Судя по газетам, ничего не происходит, верно? Здешние англичане уверяют, что Гитлер понял, что зарвался, и в конце концов договорится с Францией и с Англией. Некоторые индийцы говорят, что их вожди, и в первую очередь Неру, уже сколько лет предостерегали Запад об опасности, которую Гитлер представлял с самого начала».
Если не считать коротенького письма, которое Колин написал ему на Рождество 1939 года, когда, закончив курс подготовки младших офицеров, приезжал на побывку домой, Гари почти год не знал о нем ничего. Весной 1940 года мистер Линдзи известил его, что Колин «где-то во Франции», и последнее письмо Гари ему переслали. Он советовал Гари в дальнейшем писать Колину на Дидбери, а они уж будут пересылать письма по нужному адресу.
Гари невольно вспомнилось, как изменился к нему мистер Линдзи после 1938 года. Он объяснил себе эту перемену тем, что мистер Линдзи с тех пор перестал ему доверять. «Что он будет делать с моими письмами? — спросил он себя. — Читать их? Подвергать цензуре? Не пересылать, если решит, что они могут чем-нибудь расстроить Колина, или если ему лично что-нибудь там не понравится?» Чуть он начинал писать, на бумагу падала тень мистера Линдзи, и это нарушало непрерывный поток мыслей, который он изливал на старого друга. Его охватило чувство, что с Колином его разводит в разные стороны не только сила обстоятельств, но и вмешательство того могучего злого духа, что обрек его отца на смерть, а его самого на изгнание. Но письмо, которое он получил в августе 1940 года, как будто доказывало, что, по существу, между ними ничего не изменилось. Характер дружбы люди редко анализируют, разве что под давлением извне, и, когда Гари попробовал проанализировать свою дружбу с Колином, она оказалась чем-то вполне нормальным и несложным. Взаимное притяжение сходных натур, уже давно переросших то нездоровое любопытство, какое в детстве вызывали цвет кожи и тайна генов. Письмо Колина словно обратило время вспять. Гари снова услышал подлинный голос друга. Читая между строк, он понял, что и Колин пережил нелегкое время. Это опять их сроднило. Сведений в письме было мало. Колин побывал в Дюнкерке, а потом «повалялся в госпитале, не потому, что был тяжело ранен, а потому, что долго добирался до мест, где была квалифицированная помощь и перевязочные материалы, и я поболел, но теперь опять в порядке». Писал он из дому, во время коротенького отпуска между госпиталем и возвращением в свою часть.
«Кровавое месиво — вот что это было. Забавно слушать, как папа рассказывает, что его сын побывал в Дюнкерке, точно тут есть чем гордиться. А я не могу отделаться от чувства гнева, но не знаю на кого, потому что невозможно сказать, какой именно человек или какая именно группа людей несет за это ответственность. Скорей всего, это наш старый друг Немезида все-таки нас настигла. Я потерял одного хорошего товарища. На днях ездил навестить его сестру. Нелепо это, когда оказываешься вовлечен в такие банальные мелодраматические ситуации. И она, и я чувствовали себя отвратно. Когда я выписался из госпиталя, папа отдал мне несколько твоих писем, которые до тех пор придерживал. Из-за этого мы с ним немножко поцапались. Что ты мог подумать, не получая от меня ответов! Он сначала сказал, что не хотел меня тревожить, что ты и так, мол, поймешь, где я и чем занят. А потом признался, что прочел письма и обнаружил в них всякие „политические бредни“. Гари, я только для того тебе это рассказал, чтобы ты, если будешь писать мне на адрес родителей, помнил, что письмо могут прочесть. Он обещал больше так не делать и понимает, что это нехорошо, но у него появились какие-то странные идеи. Не хочется его обижать, но в каком-то смысле он стал для меня чужим человеком. А ведь это тоже банальная ситуация, верно? До того банальная, что даже не знаю, как на нее реагировать. Столько он говорит и делает такого, что действует мне на нервы. Повесил у себя на стене карту и втыкает в нее булавки как полководец. На булавке, которая воткнута в Дюнкерк, красуется бумажный британский флажок. Очевидно, он должен изображать меня. Напиши мне что-нибудь толковое».
Что-нибудь толковое? В тот день, когда пришло это письмо, Гари побывал в окружном суде, где разбиралась апелляция на решение мирового судьи в Танпуре, который признал человека виновным в краже коровы и продаже ее другому человеку, отдавшему ее в счет приданого своей дочери. Обвиняемый утверждал, что корова — его собственность, потому-де, что ее владелец давал ей забредать на его землю и она там паслась бесплатно и съела корму на сумму больше ее рыночной стоимости. Жалобщик ссылался на то, что танпурский мировой судья не пожелал выслушать двух свидетелей, готовых подтвердить под присягой, что обвиняемый не раз предупреждал первоначального владельца о своем намерении продать корову. Судья Менен апелляцию отклонил, после чего Гари покинул зал суда, так как на очереди был разбор жалобы на заключение в тюрьму по статье 188 индийского уголовного кодекса, а Лаксминарайан никогда не печатал отчетов о таких спорных случаях.
«Что-нибудь толковое? — написал Гари Колину. — Вероятно, в военное время можно считать толковым и даже правильным сажать человека в тюрьму за откровенные высказывания. Но так поступают не только в военное время. Это давняя практика, предусмотренная уголовным кодексом. Статья 144 дает гражданским властям право самостоятельно решать, что такой-то человек представляет угрозу общественному порядку, и под страхом ареста и тюремного заключения тем самым приказывать ему молчать. Если он ослушается такого приказа, его отдают под суд и карают по статье 188. Насколько я знаю, он может обжаловать приговор вплоть до верховного суда провинции. В тот день, когда пришло твое письмо, я был на выездной сессии окружного суда. Я ушел до того, как судья (индиец) начал разбор такого дела, так что подробностей не знаю. Однако, выходя из зала, я видел подсудимого, он ждал там, стоя между двумя констеблями, и я узнал его, это некий Моти Лал. Он тоже узнал меня и сказал: „Привет, Кумер“, но тут его втолкнули в дверь, через которую в зал вводят подсудимых. Когда я в последний раз видел этого человека, он работал клерком на складе моего дядюшки у вокзала. Вернувшись в редакцию, я навел кое-какие справки. Дядюшка, оказывается, уже несколько месяцев как выгнал его якобы за плохую работу, но из того, что мне сказал мой редактор, я заключил, что причина была другая: дядя узнал от кого-то, что Моти Лал связан с подпольными элементами партии Конгресс. Я спросил у дядиного поверенного, брахмана по имени Шринивасан, за что же все-таки Моти Лал был арестован. Оказывается, он „подстрекал“ рабочих и студентов к забастовкам и бунтам и ослушался приказа, запрещавшего ему выступить на собрании старшекурсников в Техническом колледже. Подозревали его и в том, что он возглавлял группу молодых людей, которые печатали и распространяли подрывную литературу, но доказательств никаких не нашли. Так или иначе, ему дали шесть месяцев. А апелляцию его отклонили. Мне все это рассказал мой бывший коллега по „Газете“ некий Видьясагар, теперь он работает в радикальной газете „Майапурский индус“, я вчера встретил его в суде.
Видьясагар — симпатичный парень, он мне нравится, но я чувствую себя перед ним виноватым. Когда я пришел в „Газету“, издатель первый месяц всюду посылал нас вместе, а потом уволил его. Он сказал, что, когда ему поручили ввести меня в курс дела, он сразу смекнул, чем это пахнет. И еще сказал: „На тебя, Кумар, я зла не держу, потому что ты ничего не знаешь“. Когда мы встречаемся, он подтрунивает надо мной и говорит, что из меня еще может получиться хороший индиец, дай только время.
А я, честно говоря, не знаю, что такое хороший индиец. Тот ли это, кто идет в армию (потому что такова семейная традиция), или тот, у кого хватает денег и честолюбия, чтобы жертвовать в фонд войны, или тот бунтарь, что попадает под арест, как Моти Лал? Или хороший индиец — это Махатма, которого все здесь почтительно называют Гандиджи и который в прошлом месяце, когда Гитлер показал Европе, на что способна его армия, хвалил французов за то, что сдались, и призывал британский кабинет вести войну „более благородным и мужественным методом“ и разрешить державам оси вступить в Англию. Этот „благородный и мужественный метод“ не что иное, как его хваленое ненасильственное сопротивление. Вот тебе как будто хороший индиец. Но есть еще Неру, а тот явно считает его сумасшедшим. И, видимо, хочет воевать с Гитлером. И говорит, что не пристало Индии использовать трудности Англии. Но тут же добавляет, что Индии нельзя помешать бороться за свою свободу. Тогда, может быть, хороший индиец — это бывший член Конгресса Субхас Чандра Бос, который ставит свободу на первое место, а сейчас находится в Берлине, лижет Гитлеру пятки, а нас призывает по радио разбить оковы. Или это мистер Джинна, который в порядке упрощения межобщинной проблемы потребовал отдельного государства для мусульман, если Конгрессу, где большинство составляют индусы, удастся выгнать из страны англичан? Или это один из индийских князьков, который подписал с Британской короной договор об уважении его суверенных прав и не намерен от них отказываться, даже если в Британской Индии верх одержит шайка индийских радикалов? Я раньше и не знал, что это серьезная проблема — раджам, оказывается, принадлежит почти треть всей территории Индии. И опять же, может быть, лучше отбросить все эти умозрительные сомнения насчет того, что есть хороший индиец, и успокоиться на том, что это простой крестьянин, у которого одна забота, как бы избавиться от гнета местного ростовщика и получить право на весь урожай чего бы он там ни выращивал? И какую роль во всем этом играют англичане?
На последний вопрос сразу отвечу — не знаю, потому что здесь я англичанином не числюсь. Я с ними и не встречаюсь, разве что вижу мельком, в качестве репортера, на всяких общественных мероприятиях, которые у вас, в осажденной разумной Англии, вызвали бы смех или ярость. А когда я с ними заговариваю, они глазеют на меня в изумлении, потому что я говорю так же, как они. Если кто-нибудь из них (из мужчин, от женщин не дождешься) спрашивает, как я научился так хорошо говорить по-английски, и я рассказываю, на лице его изображается недоумение, чуть не обида, точно я его разыгрываю и воображаю, что он мне поверит.
Насколько я понимаю, сейчас их особенно злит, что американцы (которые даже еще не участвуют в войне, а может, и не собираются) всюду суют нос и толкают их на уступки индийцам, которых англичане, естественно, считают своей личной собственностью. Англичане прыгают от радости, что Черчилль возглавил правительство, потому что он, единственный из англичан, всегда был против всех либеральных реформ в управлении Индийской империей. Его недавние попытки, после разгрома британской экспедиционной армии во Франции, умаслить индийцев новыми туманными обещаниями — предоставить им больше прав в управлении собственной страной (а сводятся они к тому, чтобы ввести в совет при вице-короле парочку безобидных и приемлемых индийцев) — у радикально настроенных индийцев вызывают только смех. Они вспоминают (это мне мой издатель сказал) все обещания, которые давались во время мировой войны, в которой Конгресс всячески поддерживал Корону, полагая, что после войны Корона в благодарность признает за ними право на частичное самоуправление. Те обещания так и не были выполнены. Наоборот, были приняты еще более суровые меры для подавления агитации, и печальная история обещаний времен мировой войны закончилась в 1919 году избиением в саду Чиллианвалла в Амритсаре, когда генерал Дайер приказал расстрелять толпу безоружных жителей, а те не могли даже убежать и гибли сотнями. То, что Черчилль возглавил британский военный кабинет (чему англичане так возрадовались), на индийцев подействовало удручающе. Думаю, что без эксцессов не обойдется. Я и не знал, что имя Черчилль здесь так ненавистно. Его называют архиимпериалистом. Любопытно, что одно и то же в Англии воспринимается как благо, но отвращает ту часть империи, которую Дизраэли когда-то назвал драгоценнейшей жемчужиной в ее короне. Индийские либералы, конечно, говорят, что Черчилль всегда был реалистом, даже оппортунистом и что у него хватит изворотливости еще раз перекраситься и пойти на либеральные уступки. В подтверждение чего указывают на тот факт, что в кабинет введены члены социалистской оппозиции, чтобы придать британскому правительству видимость национального единства.
Чем это все кончится — не знаю. Мне кажется, что последние двадцать лет англичанам, хотели они того или нет, безусловно, удавалось разделять и властвовать, а разговоры, которые я слышу на этих общественных мероприятиях, таких, как вербовка в армию, благотворительные базары, смешанные крикетные матчи (они обычно кончаются дождем и чаепитием в палатках, незримо помеченных „Только для европейцев“ и „Для других народностей“), убеждают меня, что англичане теперь сильно рассчитывают на то, что раскол в индийских политических кругах поможет им продержаться у власти по крайней мере до конца войны, а может, и дольше. Они открыто говорят, что „нет смысла уходить из этой чертовой страны, поскольку там нет ни одной достаточно представительной партии, которой можно бы эту страну передать“. Мусульман они предпочитают индусам (потому что усматривают больше сродства между Богом и Аллахом, чем между Богом и Брахмой) и расположены к индийским раджам, они готовы умиляться на неприкасаемых и обожать крестьян, для которых всякая власть все равно что бог. Что им не нравится, так это черное отражение их собственного радикализма, который много веков назад вылился в Хартию вольностей. Они не любят вспоминать, что в Европе всегда враждовали с феодальным status quo, а не любят потому, что враждовать с ним здесь — признак дурного тона. На Индию они смотрят как на страну, которой они явились владеть, когда она была совершенно дезорганизована, а посему считают себя неповинными в том, что она дезорганизована и сейчас.
Но неужели за двести лет нельзя было добиться здесь единства? Они не устают хвалить себя за все усовершенствования, которые они здесь ввели. Но можно ли ставить себе в заслугу одно и не признавать себя виновным в другом? Кто, например, пять лет назад слышал о концепции Пакистана как отдельного государства? Я не верю, что Пакистан когда-нибудь станет реальностью, но если так случится, то лишь потому, что англичане своими бесконечными оттяжками дали религиозному меньшинству воспользоваться политически удобным моментом.
Для тебя, наверно, загадка, как могла такая, казалось бы, чисто местная проблема заслонить в нашем сознании то, что только что произошло в Европе. Англичане — с тех пор как вступили в войну — расценивают это чуть ли не как государственную измену. В результате — конфликт, который американцы называют бурей в чашке английского чая и намекают, что англичанам не мешало бы ее усмирить, если они хотят и дальше каждый день в четыре часа пить чай (к чему они пристрастились лишь после того, как открыли Восток для своей торговли). Но угрозу собственной безопасности американцы, конечно, допускают в первую очередь с тихоокеанской стороны своего континента. Им, естественно, хочется видеть Индию сильной и объединенной, на случай, чтобы, если их потенциальный противник (Япония) распояшется, вынудить ее охранять свои владения не только с парадного, но и с черного хода.
Работа в газете заставила меня окинуть взглядом весь мир и попытаться найти в нем какой-то смысл. Но и окинув его взглядом, я продолжаю себя спрашивать, какое я-то занимаю в нем место, а это для меня по-прежнему загадка. Можешь ты это понять, Колин? Сейчас вроде бы нет ни одной страны, которой я должен присягнуть на верность. Возможно, в будущем это ожидает всех людей. Не знаю, вселяет ли эта мысль в меня бодрость или тревогу. Если не будет родины, что же останется, кроме отличительного цвета кожи? А это будет ужасающий конфликт, потому что на этом уровне пришлось бы сводить бесчисленные старые счеты. А может быть, человечество заслужило того, чтобы быть ввергнутым в такой конфликт?»
* * *
Таким образом, ничего «толкового» написать Колину Гари не мог, но оба были довольны уже тем, что, будучи так далеко друг от друга, и во времени и в пространстве, они все еще находят возможным общаться. Недаром многие индийцы любили повторять, что дружба с белым редко выдерживает испытание разлукой и тем более не выдерживает новой встречи на родине индийца.
«Что бы вы сделали, — спросил он сестру Людмилу, — если бы получили от старого друга письмо и вдруг поняли, что говорите с ним на разных языках?» Может быть, странно, что Гари крепко запомнил то более раннее письмо Линдзи с упоминанием о «Конце пути», помнил о нем, когда задавал ей этот вопрос, как будто позднейшее письмо, которое Колин послал ему после своего боевого крещения и в котором просил написать «что-нибудь толковое», было не так важно, как то, давнишнее, так поразившее Гари своим неопатриотическим тоном. Но ведь когда в человеке неожиданно открывается новая грань, это запоминается лучше, чем все свидетельства того, что он не изменился и не изменится. Представление о Линдзи как о человеке, говорящем на чужом языке, оказалось таким прочным, что позже Кумар мог сказать сестре Людмиле:
— Мне бы следовало тогда же все прояснить. Следовало бы рассказать ему, что я на самом деле пережил в Майапуре. Следовало бы сказать: «Оба мы изменились, у нас, наверно, не осталось ничего общего. Предполагать, что, если б я сейчас вернулся в Дидбери, мы бы чувствовали себя легко друг с другом, так же нелепо, как предполагать, что, если б ты приехал в Майапур, ты бы захотел, чтобы нас видели вместе». Да, следовало ему это сказать. А я не сказал, потому что не хотел так думать. Мы продолжали переписываться — с единственной целью убедить самих себя, что было время, когда мы были застрахованы от всяких влияний, кроме влияния невинности.
Когда Колин в 1941 году приехал в Индию и написал мне из Мирута, я чуть с ума не сошел от радости. Но длилось это недолго. Я понял, к чему идет, и смирился. Если б он приехал прямо в Майапур, еще можно было бы на что-то надеяться. Но Мирут был далеко. И казалось невероятным, что его могут перевести в другой гарнизон так близко от Майапура, что мы сможем встретиться. И с каждой неделей он все яснее должен был понимать, какая пропасть разделяет его, человека с белой кожей, и меня, темнокожего индийца без официального положения, который едва зарабатывает себе на жизнь и живет в туземном городе. Он должен был почувствовать, как эта пропасть все расширяется, и увидеть, что ее не перешагнуть, потому что и желания перешагнуть ее не осталось. Я вспомнил, в какой ужас пришел когда-то сам, какое отвращение вызвала у меня вся эта грязь, вонь и убожество, и понял, что Колин должен был почувствовать то же самое. Но ему-то будет куда бежать. Будет где и в чем искать убежища. И это убежище станет ему необходимо, а потом он проникнется сознанием, что его долг — оберегать это убежище от посягательств извне, и постепенно привыкнет к тому, что это и есть настоящая Индия — клуб, офицерское собрание, бунгало, английские цветы в палисаднике, чистенькие слуги в белом, доступные формы отдыха и развлечения, первоочередное обслуживание в магазинах и на почте, в банках и в поездах, — все, что требуется, чтобы не сойти с ума, что способствует утверждению твоего «я» и питает твои предрассудки.
И даже если б у Колина хватило характера устоять против этих физических и психологических искушений и он разыскал бы меня в Майапуре, где мы могли бы встретиться и спокойно, не спеша поговорить? С тех пор как началась война, даже офицерам запрещено появляться в черном городе, кроме как с особыми поручениями. В клуб «Джимкхана» мне хода не было. А как бы он воспринял тот, второй клуб, который мне и самому противен? Если б мы встретились в отеле Смита, могла бы произойти неловкая сцена. Тамошний хозяин, англо-индиец, охотно принимает только важных индийцев, а не какую-нибудь шушеру. В Китайском ресторане офицеров кормят только на втором этаже, а из индийцев наверх пускают только офицеров. Мы могли бы сходить в кино, но ему не понравилось бы сидеть в тех рядах, где разрешается сидеть мне. Есть еще Английское кафе, но оно недаром называется английским. Будь его часть расквартирована в Майапуре, мы, возможно, могли бы встретиться на часок-другой у него. Или он мог бы получить разрешение переехать на тот берег и навестить меня в доме тети Шалини. Все эти возможности я перебрал, все это обдумал. И конечно, пришел к выводу, что единственный неизменный фактор — не столько место встречи, сколько твердая решимость встретиться. Ну может ли какая-нибудь дружба уцелеть в таких условиях?
Из Мирута его перевели в Амбалу, потом куда-то под Лахор. В первом письме он писал, что, судя по карте, Мирут не так уж далеко от Майапура. Во втором писал, что едва ли окажется так близко, чтобы можно было повидаться. В третьем вообще не упоминал о встрече. И тогда я догадался, что худшее произошло, всего за каких-нибудь три месяца. Он увидел то, что мог обозначить как мою Индию. И пришел в ужас. Откуда ему было знать, что и я сначала пришел в ужас? Откуда ему было знать, что я три года надеялся, мечтал о спасении, а спасения ждал от моей английскости и моей дружбы с англичанином? Откуда ему было это знать? В одном отношении я был больше англичанин, чем он. Он, как англичанин, мог открыто говорить о своем отвращении, если не о страхе. Я же, как обангличаненный индиец, не смел и заикнуться об этом в письме к нему, чтобы не услышать в ответ, что все это истерика. И я понял, что произошло самое страшное: увидев своими глазами то, что ему пришлось назвать моей Индией, он только укрепился в подозрении, что я вернулся в родную стихию.
Я сказал, что понял. Но верно ли это? Ведь я все еще старался оправдать и Колина, и себя. Когда не было письма из Лахора, разве я не говорил: «Ничего страшного, он ведь не гражданский служащий, которому только и дела, что встать, поесть, пойти на работу, а вернувшись домой, посмотреть, не принес ли чего почтальон». А когда война придвинулась ближе, когда японцы бомбили Перл-Харбор, вторглись в Сиам, в Малайю и в Бирму и даже переполошили английский курятник в Майапуре, разве я не говорил себе: «Бедный Колин, опять угодил в самое пекло»? И даже стыдно мне было, потому что у меня не хватило мужества сохранить верность чему-то безусловному, моему английскому воспитанию — вступить в армию, воевать за тех, кого я когда-то считал своими, хотя здесь они меня своим не считают. И разве я не понимал, какую никчемную жизнь вел с 1938 года — дулся не хуже этих несчастных клерков, которых сам же презирал, новых друзей не завел, в ответ на доброту тети Шалини не дал ей ничего такого, что она могла бы понять как любовь или хотя бы благодарность!
А потом я увидел их. Английских солдат в военном городке, со знакомым названием полка на погонах. В январе 1942-го. Знакомым по письмам Колина сначала из Мирута, потом из Амбалы, потом из-под Лахора. Капитан К. Линдзи, название и номер полка, адрес и в конце — «Индия».
* * *
— Это он так говорил о Колине (сказала сестра Людмила), когда я второй раз увидела его пьяным. После того как он побывал в храме с ней, с той девушкой. Тут он все это мне и рассказал. А ей не рассказывал. Когда она приходила в Святилище проститься, я ее спросила: «Вы про Линдзи знаете?» А она подумала минутку и ответила: «Нет, расскажите».
Но я сказала: «Неважно». И правда, тогда это уже не было важно. После стольких лет. Вам-то это может быть интересно. «Я его увидел, — сказал мне тогда юный Кумар, — или мне показалось, что это он, когда он вышел из Имперского банка и садился в армейский грузовик, а у грузовика на заднем борту были те же знаки различия, как у британских солдат на рукавах». Но он был не совсем уверен. И все еще пытался его оправдать. В то время, понимаете, когда японцы придвинули войну к самому нашему порогу, Индия уже изменилась. Уже возникла атмосфера военной спешки и секретности, и в тот день, когда ему показалось, что он увидел Колина, он пошел домой, готовый к тому, что его там ждет письмо: «Привет, мы стоим совсем близко от Майапура, я иногда бываю в городе. Где бы нам встретиться?» Но такого письма не было ни в тот день, ни позже. Тогда он подумал: нет, тот человек был не Колин. Колин не мог бы приехать в Майапур и не известить меня. Не могла Индия так его изменить. Это немыслимо. Не могла Индия так изуродовать человека, тем более Колина.
Можете вы себе это представить? Изо дня в день чувствовать, что если сегодня не будет письма, то может произойти случайная встреча где-нибудь там, на северном берегу? Он каждый день ездил на велосипеде в редакцию «Майапурской газеты», а иногда еще из редакции с каким-нибудь репортерским заданием. И вот что еще он мне рассказал. Что даже как репортер он оставался невидим для белых. Где он только не бывал, о чем нужно было писать: джимкхана, выставка цветов, парад горных стрелков, спортивные соревнования Средней школы, выпуск Технического колледжа, крикетный матч Технического колледжа, юбилей больницы! Он знал в лицо и по имени почти всех важных английских чиновников и всех без исключения видных индийцев, но они-то его не знали, потому что на этих мероприятиях, понимаете, неизменно присутствовал так называемый распорядитель, и только он имел дело с юным Кумаром, да и то не всегда, потому что на особо торжественные празднества являлся и мистер Лаксминарайан. В тот день, то есть в тот день, когда он второй раз напился, он мне сказал: «…ну да, было время, когда я думал, что создам себе имя. Люди будут читать „Газету“ и говорить: „Какой отличный английский язык! Просто великолепный. Кто такой этот Кумар?“ А они меня и по имени не знают. В лучшем случае я — „парень из „Газеты““. Моего имени никогда не печатают. Никто не знает, что я вообще существую. Я — всего лишь смутно знакомая внешность. Но это было предрешено. Лаксминарайан меня эксплуатирует. То держит на цепи за столом, чтобы переводил безграмотный английский язык на приличный английский, то пошлет куда-нибудь. Но я всегда — только анонимный винтик в его анонимной машине. Один англичанин как-то сказал ему при мне: „Послушайте, Лаксминарайан, что случилось с вашей газетой? Если не считать „Сюжетов“ за подписью „Прохожий“, она стала совсем не смешная“. А он только посмеялся в ответ. Не стал объяснять, почему не смешная. Это он, понимаете, наказывает меня за Видьясагара, за все на свете, за свои собственные грехи».
* * *
— Вот на одном из таких мероприятий (сказала сестра Людмила) он и увидел этого Линдзи во второй раз. Увидел и узнал, теперь уже без всякого сомнения, тот стоял близко. Кумар без труда разглядел его лицо, выражение, характерную позу, все, что запечатлелось у него в мозгу как подлинный Линдзи… По какому случаю? Забыла. Помню только, что был февраль. Конец февраля. И что он упоминал майдан. Я до сих пор храню это воспоминание, не мое, а его, Кумара. Я получила его в наследство. Как будто я сама там была. И сейчас я там. Под вечер. В теле Кумара. Темное лицо в толпе… Крикетный матч? Вот этого не скажу. Крикет я не понимаю. Но я понимаю, как под вечер, на майдане, расы ненадолго перемешивались в один узор, который сверху, оттуда, где Бог, казался более четким, чем с земли, потому что сверху был виден белый поток и темный, как с утеса в море видны разные течения, а в глазах у Бога — всего лишь сплошная вода.
И вот он видит Линдзи. Подумать только, какие тайны души и тела связывали их в детстве? Он рассказывал мне, как бывает в Англии осенью. Это я тоже понимаю и чувствую. Вижу, как два мальчика, Кумар и Линдзи, бегут домой по озябшим полям, а потом греют руки у жаркого камина, помню блаженное тепло перчаток холодной зимой и как дыхание преображало окно и согревало душу, только другим теплом. Так спокойно, уютно. Быть хозяином в своем крошечном мире. Дыханием преобразить, отдалить, убрать в небытие коробку цукатов в гнездышке из кружевной бумаги. Знать, что они здесь, а как будто их нет. Это — магия, души. Но эту магию Кумар не мог призвать на помощь в тот жаркий вечер на майдане, чтобы заставить Линдзи исчезнуть. Линдзи взглянул на него и отвернулся, не узнав, не разглядев за нелепой одеждой, под дешевеньким шлемом, единственное черное лицо, которое он должен был отличить от всех остальных.
* * *
Я невидим, говорил Кумар, не только для белых, потому что они белые, а я черный, но и для моего белого друга, потому что он уже неспособен различить меня в толпе. Он думает — да, да, Линдзи так думает: «Все они на одно лицо». И я исчезаю. Я — ничто. Он в этом не виноват. Он прав. Я — ничто, ничто, ничто. Я сын моего отца, а его отец покинул свой дом в одной набедренной повязке, с миской для подаяния в руке, благословив детей и приказав им заботиться о матери. Она пошла было за ним, а потом, посидев у дороги, вернулась домой доживать свои дни в никому не доступном мире фантазий.
И вот я ухожу с майдана в моей базарной рубашке, базарных штанах, англо-индийском шлеме, зная, что я неузнаваем, потому что я ничто и, даже узнав меня, никто не обрадовался бы. И встречаю Видьясагара. Он тоже уходит. Он тоже ничто. Дальше не помню. До какого-то момента была ясность. Пили какое-то дешевое пойло в душной комнате в каком-то доме в каком-то переулке на нашем берегу реки. Видьясагар смеялся и говорил другим, что скоро я стану хорошим индийцем, потому что пойло — самогон и мы пьем за счет государства. Другие были молодые парни, одетые так же, как Видья, в таких же рубашках и брюках, как я. Но я помню, что помогал им изничтожить мой шлем как эмблему всех прихвостней правительства. Еще помню, что они все время мне подливали. Решили напоить меня до бесчувствия. То ли по злобе, то ли просто для забавы. В этой тесной комнатенке умещались и рвение, и отчаяние.
* * *
Сестра Людмила сказала:
— Позже он узнал, что они отвели его в новый квартал Чиллианвалла, довели до самого его дома, чтобы он не попался ворам или полиции, и ушли, решив, что он тут же вошел в дом, а он опять вышел на улицу, вернулся к реке и забрел на пустырь. А там, очевидно, споткнулся и упал в канаву, и потерял сознание, а кто-то, кто увидел его и шел следом, украл у него бумажник.
«Кто это?» — спросила я мистера де Соузу. Он ответил: «Не знаю» — и перевернул его, посмотреть, не ранен ли он в спину, а потом перевернул обратно и посветил ему в лицо фонарем. Вот тогда-то, помню, для меня начался Бибигхар. Глаза закрыты, черные волосы вьются надо лбом. И такой мрак! Такая решимость все отринуть.
Мы положили его на носилки и принесли сюда, в Святилище. «Этот мертвецки пьян, сестра, — сказал мистер де Соуза. — Мы принесли домой какого-то пьянчугу». «Так пьян и такой молодой, — сказала я, — наверно, он очень несчастлив. Пусть лежит». И он так и лежал. А я, перед тем как лечь спать, за него помолилась.
Часть шестая. Власти гражданские и военные
I. Власти военные
Выдержки из неизданных воспоминаний бригадного генерала А. В. Рида,
кавалера Военного креста и ордена «За боевые заслуги», озаглавленных «Простая жизнь»
В конце марта 1942 года, когда мы еще стояли в Равалпинди, и очень скоро после известия о том, что наш единственный сын Алан пропал без вести в Бирме, я получил приказ отправиться в Майапур и принять командование пехотной бригадой, формировавшейся в этом районе. Об этом назначении мне сообщил по телефону генерал «Тедди» Картер. Выезжать нужно было немедленно, а Картер знал, что мне потребуется какое-то время, чтобы сообщить мою новость Мег, которая еще болела и не могла меня сопровождать. Мне не хотелось оставлять ее одну в такой тяжелый для нас момент, когда мы и надеялись и страшились узнать что-нибудь новое про Алана. Поговорив с Тедди, я сразу поехал в больницу и рассказал Мег о возложенной на меня задаче.
Она знала, что, не будь этих особых обстоятельств, я обрадовался бы возможности вернуться к настоящей воинской службе. А то уже казалось, что мне до конца войны суждено просидеть за канцелярским столом, и, когда наш сын тоже стал военным, мы почти смирились с этой перспективой и приняли как должное, что рано или поздно возраст и опытность должны уступать место энергии молодости. Но теперь, ничего не зная про Алана, я почувствовал, что какое-то всезнающее божество вмешалось в дело, чтобы восстановить равновесие, и предназначило мне роль, которая — в случае если бы мы узнали об Алане самое худшее — дала бы мне хотя бы то утешение, что я могу нанести противнику ответный удар.
Мег приняла мою новость, как всегда бывало в особенно критические и трудные минуты, так, словно о себе и не думала. Она была очень бледная, выглядела совсем больной, и я пожалел, что не в моих силах привести к ней Алана, живого и невредимого, такого всегда веселого, бодрого, чтобы на щеках ее снова расцвели розы. Благодарю бога, что ей не довелось узнать, что он умер, надорвавшись на бесчеловечном строительстве Бирмано-сиамской железной дороги. Для меня эта весть омрачила дни нашей Победы, но спасибо и за то, что Мег успела вместе со мной порадоваться, когда мы узнали, что он в плену, а не погиб, как мы опасались. Когда я прощался с ней накануне отъезда в Майапур, нас угнетало сознание, что наша родина переживает тяжелые дни. И до победы было еще далеко.
Я прибыл в Майапур 3 апреля (1942) и тут же приступил к первому этапу моей работы, стал сколачивать из (Н-ской) Индийской пехотной бригады боеспособное соединение, которое я мог бы спокойно повести в дело на театре военных действий, где японцы временно добились перевеса. Это была нелегкая задача. Солдаты были по большей части необстрелянные, а окружающая местность, хоть и пригодная для нормальных учений, сильно отличалась от той, — которую нам в конечном счете предстояло отвоевывать.
В Майапуре я бывал за много лет до того. Он запомнился мне как прелестный гарнизонный городок с озерами в местечке под названием Баньягандж, которое славилось охотой на уток. Старое артиллерийское собрание было отличным образчиком англо-индийской архитектуры XIX века, с очень красивым видом на майдан. Начиная с марта там становилось трудновато переносить жару, но было куда спастись: либо вниз, в Муссури, либо наверх, в Дарджилинг. И до Калькутты поездом было недалеко, так что всегда можно было отдохнуть, если позволяла служба.
Теперь-то я не строил себе иллюзий относительно отдыха. Нельзя было не учитывать разницу между городом, каким он показался когда-то младшему офицеру, недавно встретившему девушку, которой он собирался сделать предложение, и тем же городом, куда он вернулся спустя без малого тридцать лет ветераном старшего офицерского состава в момент, когда его родина переживала тяжелые дни, а та страна, которой он посвятил свою жизнь, страна, являвшаяся краеугольным камнем империи, достигла большой степени самоопределения и фактически стояла на пороге независимости, отсроченной еще ненадолго в интересах свободного мира в целом.
Я ехал в Майапур, уповая на наши войска и надеясь, что сам окажусь на должной высоте. Мне отрадно было узнать от Тедди, что в Майапуре есть начальник гарнизона, так что мне не придется осуществлять общее военное управление округом, а также что коллектор — в этой «нестроевой» провинции он назывался комиссаром — еще не старый человек и на хорошем счету как у европейцев, так и у индийцев. Однако я знал, что как старший по званию офицер в округе в конечном счете буду нести ответственность за общественный порядок и за благополучие как войск, так и гражданского населения, и меньше всего мне улыбалось оказаться замешанным в какой-нибудь ситуации, которая отвлекла бы меня от основной работы и потребовала использовать войска для действий, которых при известной предусмотрительности можно было бы избежать.
Ввиду того что по всей Индии тревожные настроения нарастали, я по прибытии в Майапур не замедлил повидаться с комиссаром, фамилия его была Уайт, чтобы услышать его мнение о положении в округе и без обиняков сказать ему, что мы сбережем много времени и сил, если проявим твердость при первых же признаках гражданского неповиновения. Еще до этой встречи я решил ввести в Майапур британский батальон бригады (Н-ский Беркширский), а 4/5 Панкотский стрелковый полк перевести из Майапура, где я его застал, в окрестности Баньяганджа, где до этого стояли беркширцы. Руководили мною два соображения. Во-первых, британский контингент только что прибыл в Индию, и после первой же инспекционной поездки я убедился, что в Баньягандже, где условия расквартирования оставляли желать лучшего, чувствовал себя неважно. Поблизости шло строительство аэропорта (из-за чего, как я заметил, с озера исчезли все утки), и всего в какой-нибудь миле от батальона разместился весьма антисанитарный лагерь рабочих. Для войск уже строили дополнительные домики, но множество солдат еще спали в палатках, а в апреле это была не шутка. Сознавая, что меня могут обвинить в дискриминации, я все же решил, что местный Джонни будет чувствовать себя в Баньягандже не так плохо, как Томми Аткинс. А кроме того, я полагал, что перевод беркширцев в Майапур, их присутствие в кантонменте послужит лишней гарантией против гражданских беспорядков, которых я во что бы то ни стало хотел избежать. И во всяком случае, я уже принял решение — в случае, если гражданские власти попросят военной помощи, в первую очередь использовать именно британских солдат.
Переводя беркширцев в Майапур, я помнил и о том, какое хорошее впечатление это произведет на наших соотечественников, на тех мужчин и женщин, что трудились там в напряженной обстановке военного времени. С этой же целью я приказал провести в конце апреля Неделю Армии, или Военную неделю — по всем правилам, с военным оркестром, — которая и состоялась на майдане и, по общему мнению, прошла с большим успехом. Я чувствую, что без ложной скромности (поскольку идея была моя, но осуществление ее я ставлю в заслугу ее организаторам и участникам) могу сказать, что подъем, который эта неделя вызвала в Майапуре, отвлек внимание от того обстоятельства, что миссия, которую сэр Уинстон (в то время мистер Черчилль) направил в Дели, чтобы сдвинуть с мертвой точки затянувшийся спор между английским правительством и теми индийскими политическими деятелями, которые, претендуя на роль народных представителей, требовали дальнейших шагов по пути предоставления стране самоопределения, никакого разумного соглашения не добилась. Миссия эта известна как «миссия Криппса», потому что во главе ее стоял сэр Стаффорд Криппс, министр-социалист, который позже стал канцлером казначейства, когда после войны наши островитяне так своеобразно отблагодарили человека, которому мы были обязаны нашей победой, сместив его с поста премьер-министра. После провала миссии Криппса в апреле 1942 года мистер Ганди и затеял свою знаменитую кампанию под лозунгом «Вон из Индии!», которую мы, естественно, восприняли как приглашение японскому императору явиться в Индию и взять бразды правления в свои руки!
К несчастью, я убедился, что Уайт не вполне представляет себе, перед какой ситуацией мы можем оказаться, если допустим, чтобы индийские руководители и дальше высказывались против войны и призывали массы к тактике, которая грозила привести всю страну к полному застою. Уайт словно был убежден, что когда Индийский национальный конгресс говорит о ненасильственном сопротивлении, он действительно имеет в виду отсутствие насильственных действий. Он явно, в отличие от меня, верил, что мирная демонстрация способна не поддаться массовой истерии, которая может вмиг превратить ее в дикую, разъяренную толпу, жаждущую отомстить за какую-то воображаемую расправу, якобы учиненную полицией или солдатами. Впрочем, он как будто вообще не ждал сколько-нибудь внушительных демонстраций, разве что они будут организованы исключительно с целью провести «сатьяграху» вопреки Закону об обороне Индии, а тогда уж власти будут вынуждены арестовать демонстрантов, и тюрьмы окажутся переполнены до отказа. Моя первая встреча с Уайтом состоялась до того, как мистер Ганди начал свою кампанию «Вон из Индии!», но, когда уже стало ясно, что миссии, возглавляемой Криппсом, не удается достичь соглашения относительно того, как заставить индийских руководителей действовать в интересах всей страны, Уайт, видимо, все еще надеялся, что в последнюю минуту какое-то рабочее соглашение все же будет достигнуто. Я таких надежд не питал. С самого начала войны с Германией отношения между нами и индийцами неуклонно ухудшались. В первый же период войны члены Национального конгресса вышли из центрального законодательного собрания в знак протеста против отправки индийских войск на Средний Восток и в Сингапур, а конгрессистские кабинеты в провинциях ушли в отставку, потому что вице-король объявил войну, не спросив их совета! Каковы бы ни были наши ошибки в прошлом, я, как простой солдат, не искушенный в политике, не мог не чувствовать, что искренние усилия, которые мы прилагали в предвоенные годы, чтобы расширить права самих индийцев, яснее всего показали, что они еще не достигли политической зрелости, при наличии которой предоставить им самоуправление было бы просто. Закон 1935 года, предусматривавший федеральное правительство в центре, представляющее все сословия и партии Индии, и выборные правительства в провинциях, такому человеку, как я (которому независимость Индии сулила одни убытки и никаких выгод), представлялся мудрым, более того — благородным шагом, которым Британия могла бы гордиться как достойным завершением славной главы в ее имперской истории. К несчастью, результатом его была только грызня за власть, а план центрального федерального правительства так и не был осуществлен. Наблюдая эту грызню, слушая свары, вспыхнувшие между индусами, мусульманами, сикхами, князьями и прочими, трудно было не почувствовать задним числом, что истошные вопли о свободе не следовало принимать всерьез. Конгрессисты, например, откровенно признали, что в провинциях они возглавили кабинеты, чтобы доказать, что план центрального федерального правительства неосуществим и что только они представляют Индию. К несчастью, это их убеждение, будто они — демократическое большинство, как будто подтверждала, хотя бы на бумаге, их победа на выборах, проведенных в провинциях перед их вступлением в должность. Как бы там ни было, можно было ожидать, что два года провинциального правления почти без вмешательства губернаторов, осуществлявших лишь общий контроль от имени центрального правительства и Короны, могли воспитать настоящих государственных мужей, однако их уход в отставку после объявления войны — не оставивший губернаторам другого выхода, кроме как взять управление в свои руки, — большинством англичан, озабоченных теперь главным образом обороной нашего отечества и борьбой с тиранией, был воспринят как доказательство, что до политической ответственности они так и не доросли, а значит, мы не можем больше рассчитывать на то, что «виднейшие» индийцы сумеют достаточно широко взглянуть на проблемы, волнующие весь свободный мир.
Думаю, что не ошибусь, если скажу, что пришли мы к такому выводу неохотно и что мерилом наших все еще не угаснувших надежд на свободу для Индии и нашей готовности терпеть до последнего предела может служить то, что даже в самые мрачные для нас дни — в дни поражения наших вооруженных сил в юго-восточной Азии — мы, по инициативе мистера Черчилля, еще раз вступили в переговоры и стали искать способа подстегнуть индийцев, чего не сделал бы ни Гитлер, ни тем более японцы. Однако нам было ясно, что такие типы, как Ганди, напали на наш след и пустились за нами в погоню, невзирая на злобную желтую свору, которая гналась за ними самими, да и за всеми нами. 6 апреля на Мадрас было сброшено несколько бомб. Даже это не образумило индийцев, мало того, они винили в этом нас, а не противника! Вдохновленные мистером Ганди, они ухватились за идею, что у Индии нет причин ссориться с Японией и что, если англичане сбегут, японцы не нападут на Индию. Правда, немного позже мистер Ганди любезно дал понять, что английские войска могут остаться в Индии и использовать ее как базу в войне с Японией, и изъявил готовность поручиться, что в портовых городах, таких, как Бомбей и Калькутта, не будет никаких беспорядков, а значит, приток оружия и военного имущества не будет прерываться — в том случае, конечно, если мы уйдем из страны и предоставим управлять ею ему и его коллегам. Уйти из Индии, но продолжать использовать ее как базу? Трудно сказать, как он представлял себе стратегическую разницу между этими двумя положениями, с точки зрения японского высшего командования. Большинству из нас было ясно, что его оригинальные теории наконец-то предстали в истинном свете: как далекие от жизни мечты человека, вообразившего, что все люди так же простодушны и наивны, как он. В иные периоды нам, конечно, бывало нелегко оправдывать его речи и писания даже такими доброжелательными доводами.
Глядя на майдан из окна моей комнаты в старом офицерском собрании в Майапуре или разъезжая на машине по улицам кантонмента, я не мог не гордиться теми, кто так долго правил этой страной. Даже в то беспокойное время очарование кантонмента вызывало мысли о чем-то достойном, мудром и непреходящем. Стоило попасть за реку, в туземный город, и становилось очевидным, что в кантонменте мы создали пример для подражания, образчик цивилизованной жизни, который индийцы со временем унаследуют. Странным казалось, что в предстоящей нам битве за то, чтобы все это не досталось японцам, индийцы не на нашей стороне.
Мне живо вспоминались дни, когда я, еще молодым человеком, объезжал на майдане Раджу и тренировался в поло с Найджелом Ормом, адъютантом генерала Грэма, посмертно награжденным Крестом Виктории за Пашендель. Раджа — как читатель, возможно, помнит по одной из предыдущих глав — был моим первым пони для игры в поло, а Найджел Орм — хоть и старше меня по званию — одним из лучших, самых верных друзей, какие у меня когда-либо были. Словно сама судьба привела меня снова туда, где я впервые «ощутил» Индию и впервые осознал, что, какие бы успехи и неудачи ни ждали меня на избранном мною поприще, я навсегда сохраню чувство слитности с этой страной и причастности к нашим чаяниям, связанным с нею. Вспоминалась мне Мег, какой она жила тогда в моих мыслях, столько лет тому назад, — такая спокойная, сдержанная, добрая, великодушная, всегда готовая подбодрить улыбкой, для меня — самая прекрасная девушка в мире. Я думал о нашем сыне Алане и дочке Каролине — та, благодарение богу, была в безопасности у своей тетки в Торонто, где ей не грозили зверства нацистов и японцев. Эти трое поистине были моими заложниками в руках у судьбы, и наш чудесный мальчик уже был, казалось, взят у нас в счет выкупа. Больше всего на свете я желал победы нашему оружию, здоровья и счастья для Мег и воссоединения с ней, и с милой Каролиной, и с моим любимым Аланом. Думается, что нас, солдат старшего поколения, не следует слишком строго судить, если мы в то время чувствовали горькую обиду оттого, что страна, которой правление англичан принесло столько пользы, словно задалась целью помешать нам спасти ее от вторжения в период, когда нам был дорог буквально каждый солдат. Обдумывая эти вопросы в чисто личном плане, я мечтал об одном — чтобы мне дали сосредоточиться на основной моей работе, а политикам предоставили выпутываться своими неисповедимыми методами. Но я знал, что мечтать об этом бесполезно. На моей ответственности была бригада, но также и охрана наших женщин и детей и спокойствие во всем округе. Те из нас, кто был вхож в «верхи», знал, что там считают, что мы должны быть готовы отразить не только угрозу извне, но и более серьезную угрозу изнутри; что враг не только стоит у порога, но уже проник в лагерь; и что не исключена возможность, что Конгресс замышляет открытое восстание, которое может вылиться в такой террор, кровопролитие и междоусобицу, каких мы не видели в Индии со времен сипайского мятежа. Последующие события показали, что эти опасения были вполне обоснованны. Еще до конца лета волнения прокатились по всей стране, а в Майапуре беспорядки вылились в страшные преступления. В этом живописном старом уголке подверглись гнусному нападению две англичанки, одна через несколько часов после другой: сперва пожилая учительница миссионерской школы мисс Крейн, а затем молодая девушка Дафна Мэннерс, на которую подло напали в парке под названием Бибигхар.
Хотя при первом знакомстве с комиссаром мистером Уайтом мы не во всем оказались с ним согласны, я скоро оценил по достоинству его упорство и стойкость. В его физическом мужестве я никогда не сомневался и полагал — правильно, как оказалось впоследствии, — что, какой бы личный протест ни вызывала у него официальная политика правительства, это не помешает ему проводить ее в своем округе. Так, например, когда я напрямик спросил его, как он поступит, если получит приказание арестовать вожаков из местного подкомитета Конгресса (я знал, что начальникам округов дано указание зорко следить за теми из них, чье незамедлительное взятие под стражу могло пресечь беспорядки), он ответил очень просто: «Арестую их, разумеется». Но тут же добавил: «Хоть и знаю, что хуже этого мы ничего не могли бы придумать».
Я спросил, почему он так считает. Он ответил: «Потому что люди того сорта, каких мне пришлось бы арестовать, — это те, кто искренне верят в политику ненасилия и способны подвигнуть массы на самопожертвование, а не на эксцессы. Посадить таких под замок — и толпа пойдет за вожаками совсем иного рода».
Я не мог с ним согласиться, хотя видел, что он действительно так думает. Мне-то, разумеется, массовая «сатьяграха» казалась не менее опасной, чем открытый протест. Я, естественно, спросил, что он думает о тех вожаках, что могут сменить членов Конгресса, в которых он так верит, и как думает с ними поступить. Он сказал: «Ну, это все равно что искать иголку в стоге сена. Некоторые из них известны. Тех можно арестовать. Но другие гуляют на свободе, в том числе, вероятно, самые умные, поскольку у них хватило ума остаться неизвестными. Можно потратить всю жизнь на составление секретного досье — и все-таки упустить главарей, потому что ни Конгресс, ни сами вы их не знаете. К Конгрессу они не имеют никакою отношения. Это люди молодые или средних лет, помешанные на идее, что члены Конгресса — прихвостни английского правительства. У кого же найдется охота и время искать такие иголки в таком стоге сена? Не лучше ли оставить на свободе людей, которым насилие не сулит никаких выгод, и предоставить им вести массы по пути подлинной „сатьяграхи“?»
Я сказал, что доводы его, вероятно, вполне разумны, если вообще верить в концепцию ненасилия, которая мне лично представляется сплошным камуфляжем. В ответ на еще какой-то мой вопрос Уайт признался, что поиски «иголки в стоге сена» он предоставляет своему начальнику полиции, Меррику, человеку, которого я уже видел и сразу проникся к нему симпатией.
Позиция Уайта не вселяла уверенности насчет того, достаточно ли твердые меры примут гражданские власти, если в округе вспыхнут беспорядки, зато в быстрых и толковых действиях полиции я мог не сомневаться.
Психология у Уайта была вполне «современная», типичная для администраторов тридцатых годов, вынужденных принимать в расчет все скороспелые мнения касательно разрешения любой проблемы. Судьей в округе был индиец, некто Менен, индиец старой школы, как я с удовлетворением отметил, но скрытный, как истинный юрист. Из этого триумвирата только Меррик, начальник полиции, как будто готов был воспользоваться большей свободой действий, которую предоставила окружной администрации война и уход в отставку конгрессистских кабинетов в провинциях.
С Мерриком я встретился особо и выразил надежду, что он будет действовать по своему усмотрению, в частности в отношении тех, кого комиссар назвал «иголками в стоге сена». Я без обиняков заявил ему, что мое дело — сформировать и обучить бригаду, с тем чтобы использовать ее против врага, стоящего у порога, и по мере сил не использовать против врага, проникшего в лагерь. И что будет очень хорошо, если он в иных случаях проявит инициативу. И я в нем не ошибся. Он был еще достаточно молод, чтобы проявить в простом вопросе должное сочетание добросовестности и усердия. И я не мог не восхищаться его откровенностью. Происходил он, по его словам, из «очень заурядной мелкобуржуазной среды». Служба в индийской полиции — единственное, на что он считал себя пригодным. Я понял его, и мне понравилось в нем это полное отсутствие притворства. Полицейские обязанности всегда неприятны, но выполнять их необходимо. Теперь, когда мы были в состоянии войны с державами оси, он сожалел, что в силу обстоятельств не имеет возможности сменить полицейский мундир на военный. Он даже спросил меня, нельзя ли нажать какие-нибудь кнопки, чтобы он мог вступить в армию «хотя бы рядовым». Вспомнив про Алана, на которого он внешне был немного похож, я оценил его патриотическую шкалу ценностей, однако не мог пообещать ему никаких шансов на перевод. Про себя-то я понимал, что в нынешней обстановке он приносит своей родине больше пользы на посту начальника местной полиции, чем мог бы принести как младший офицер, не говоря уже о рядовом составе. Он обещал исполнить мою просьбу — неофициально информировать меня о настроениях в округе и как он их расценивает.
Познакомившись и поговорив с Уайтом и с Мерриком, я почувствовал, что сделал пока все возможное, чтобы целиком посвятить себя основной работе, без постоянной оглядки на угрозу нашей безопасности в самом Майапуре. А с прибытием моего третьего батальона (Н-ского Ранпурского) работы мне еще прибавилось. Первоначально мне был обещан батальон сикхов, но нечего говорить, что часть, ранее входившая в мой полк, вселила в меня еще больше бодрости. Одну роту ранпурцев я разместил в майапурских казармах (чем облегчил беркширцам несение караульной службы по гарнизону), а остальные роты и штаб батальона направил в Марпури, к северо-западу от Майапура, в район, который я уже выбрал как лучший из двух, присмотренных офицерами моего штаба. Теперь все мои части были в сборе, и можно было взяться за настоящую работу!
* * *
Беркширцы делали успехи. Перевод из Баньяганджа в военный городок, безусловно, пошел им на пользу. Старые казармы рядом с артиллерийским собранием были просторные, прохладные, и солдатам оказалась доступна, в разумных пределах, непривычная роскошь — туземные слуги, чьи отцы еще обслуживали предыдущее поколение наших Томми. К тому же они оказались теперь ближе к тем развлечениям, которые так охотно устраивали для них наши дамы. К слову сказать, артиллерийская часть была в последний раз расквартирована в Майапуре очень давно, но в свое время артиллеристы завоевали добрую славу, и старое название, естественно, сохранилось. В последние годы в Майапуре размещалось училище сержантского состава и зимние квартиры панкотцев. Когда же началась война, он фактически превратился в район сосредоточения бригады. К несчастью для офицеров моего штаба, полковник — начальник училища, исполнявший также обязанности начальника гарнизона, — как раз в это время находился в отпуске по болезни, и отпуск этот оказался бессрочным, потому что училище перевели в Пенджаб, так что я унаследовал, во всяком случае на бумаге, и роль начальника гарнизона. Правда, большую часть работы, обычно входящую в компетенцию начальника гарнизона, выполнял начальник его штаба (которого мне удалось сохранить). Это был старый офицер, выслужившийся из рядовых, очень старательный и честный работник.
Я предпочел жить в артиллерийском собрании, а не на квартире, которую мог получить, не только потому, что моя бедная Мег не могла ко мне приехать и стать хозяйкой дома, как столько раз бывало раньше в стольких разных уголках Индии, но и потому, что хотел всегда быть на месте на случай тревоги и не давать распускаться своим штабным. Квартира, окнами на майдан, которую я занимал в собрании, в старом крыле для гостей, была просторная, но обставлена просто. В маленькую гостиную, которую я оборудовал под свой кабинет, я мог удаляться от суеты текущих дел и спокойно обдумывать наилучшее решение обступивших меня многочисленных проблем. Но именно в эту комнату в конце июня, когда только начался сезон дождей, мне позвонил Тедди Картер и сообщил, что, по последним сведениям, Алан находится в плену. Я-то все еще смутно надеялся, что он благополучно доберется до Индии с одной из групп военных и гражданских беженцев, которые, несмотря на все опасности и лишения, все же доживали до встречи с теми, для кого разлука с ними была особенно тяжела. Я спросил Тедди, возьмется ли он сообщить эту новость Мег. И Тедди еще раз показал себя добрым и верным другом: хоть и старше меня по званию, он всегда был готов использовать свое старшинство в интересах старого товарища по оружию. Он вызвал меня в Равалпинди, чтобы я сам известил Мег. Меньше чем через 32 часа после его телефонного звонка я уже сидел у ее постели.
Ни у Мег, ни у меня не было иллюзий насчет того, что значило попасть в плен к японцам, но мы утешались тем, что он жив и, скорей всего, не теряет бодрости. Говоря с нею, я испытывал облегчение уже оттого, что могу думать о нем в настоящем, а не в прошедшем времени. В тот вечер Тедди явился в больницу с бутылкой шампанского. Казалось бы, грех пить шампанское, зная, как тяжело приходится нашему сыну, но Тедди хотелось нам внушить, что не все пропало: он поднял бокал и предложил выпить за благополучное возвращение Алана. Я гордился Мег, когда она тоже подняла бокал и сказала просто: «За Алана» — и улыбнулась так, как будто он был с нами в комнате и пили мы по случаю какого-то счастливого события. За те несколько долгих недель, что я был в отлучке, она изменилась ужасно. Похудела еще больше, и глаза потухли. Внезапно я понял, что Тедди вызвал меня в Равалпинди не только затем, чтобы я сообщил ей про Алана, но и чтобы подготовить меня к еще более страшному удару, который мне предстоит пережить.
Когда мы пожелали Мег спокойной ночи, Тедди отвел меня в рабочий кабинет полковника «Билли» Эйткена и там оставил. Билли сказал: «Боюсь, сомнений нет, Мег больна раком». С Билли мы были знакомы много лет. В гражданской жизни он мог бы достигнуть больших высот и стать богатым человеком, но он, как сам не раз объяснял, предпочел лечить тех своих соотечественников (и соотечественниц), которые живут самой обычной, незаметной жизнью за границей, зачастую выполняя скучную и неблагодарную работу, а не прописывать сладкие таблетки разряженным, истеричкам на Харли-стрит. Я спросил его: «Еще долго?» Мы поглядели друг на друга. Он догадался, что я хочу знать правду. Ответил: «Может быть, полгода. Может быть, три месяца. Может быть, меньше. Оперировать будем, но это ее не спасет». И оставил меня одного, за что я был ему благодарен. У меня в голове не укладывалось, что за какие-то несколько минут я должен свыкнуться с мыслью, что милая моя Мег будет отнята у меня судьбой, еще более жестокой, чем та, что отняла Алана. Алан хотя бы сам успел кое-кому надавать тумаков. Кажется, именно тогда, сидя один в кабинете Эйткена, я и понял, что Алана я тоже больше никогда не увижу.
Билли и Тедди вернулись вместе и увезли меня на квартиру к Билли. Тедди спросил, не хочу ли я отказаться от должности и вернуться в Пинди. Он намекнул, что имеется вакансия, и стоит мне сказать слово, как я получу это место вместе с чином генерал-майора. Я просил не торопить меня, дать мне время подумать. Для меня была забронирована комната в клубе. Они отвезли меня туда, и я попытался заснуть, чтобы принять решение, когда голова немного прояснится. А утром я задал Билли самый важный вопрос, который забыл задать накануне: знает ли сама Мег, как серьезно она больна. Он ответил, что не сказал ей, но уверен, что она знает. Я сказал: «Билли, не надо ей говорить!» Тогда он понял, какое решение я принял — вернуться к моей бригаде, и как можно скорее, чтобы ни Мег, ни мне не пришлось слишком долго притворяться. Я знал, что это мой долг. И знал, что Мег считала, что так будет лучше для нас обоих. Когда выбираешь путь в жизни, нужно принять и все вытекающие из этого обязательства. В то время это было очень трудно, но меня поддерживала уверенность, что Мег поймет и сама будет черпать силы в моем решении. И все-таки расставание далось нам нелегко. Позже, в самолете на Калькутту, в который Тедди исхитрился меня втиснуть, я подумал, что мне было бы легче, если б она попросила меня не возвращаться в Майапур. Угнетало ощущение, что мы столько всего не успели сказать друг другу. Перед отлетом Тедди заверил меня, что пришлет мне вызов, чтобы в последние минуты я был с нею, но это оказалось невозможным. Больше я не напишу ее имени. Прощай, милая Мег, дорогая моя жена и мать моих детей. Если будет на то божья воля, мы свидимся вновь в другом, более счастливом мире.
* * *
Я заранее отдал приказ по возможности не прерывать учений и в период муссонов. Постоянно напоминая о себе в соответствующих инстанциях, я добился того, что еще до начала дождей панкотцев в Баньягандже всех до последней роты перевели из палаток в дома. Ранпурцам в Марпури в этом смысле не повезло, но, хотя они там порядком отсырели, их моральное состояние ничуть от этого не пострадало!
В июле началась боевая подготовка в поле, и я мог только радоваться, видя, с каким усердием и офицеры и солдаты действуют даже против «условного» противника. Мой начальник штаба Юарт Маккэй оказался настоящим сокровищем. Кадровый военный, еще молодой, он заражал своим энтузиазмом всех, начиная с офицеров штаба. Общительный, толковый, отличный спортсмен (в первую очередь — блестящий теннисист), это был в то же время честный солдат и, когда нужно, — строгий блюститель дисциплины. Позже, во время войны, он доблестно командовал своим прежним полком (Вторым Муззафирабадским пограничным). Его хорошенькая жена Кристина (старшая дочь генерала Робертсона) сопровождала его в Майапур, и в роли хозяйки дома проявила все свое обаяние и изящество. Кристина и Юарт предоставили в мое распоряжение свое прекрасное бунгало на Форт-роуд, и там Кристина устраивала небольшие званые обеды, что при иных обстоятельствах входило бы в круг обязанностей другой, как никогда прежде дорогой для меня женщины.
Сколь ни порадовала меня моя бригада в тех двух случаях в июле, когда мы проверяли в полевых условиях ее мобильность и слаженность, я не упускал из виду и той роли, которую она призвана была играть для поддержания порядка на местах. Выводя ее в поле, я учитывал, что такая демонстрация военной силы (более эффектная со стороны, чем в глазах участников!) не может не произвести впечатления на жителей, среди которых Конгресс все усиливал антивоенную пропаганду. Одним из самых недостойных пунктов этой пропаганды была басня, будто во время отступления из Бирмы и Малайи власти проявили равнодушие к судьбе индийских войск и туземного населения. Всякому, кто, подобно мне, знал, как заботятся английские офицеры о своих сипаях и младших офицерах-индийцах, смешно и обидно было слушать эти россказни — как индийских солдат бросали без командиров на произвол судьбы в местах, где им грозил плен или верная смерть, или как группы индийских солдат и перепуганных крестьян оттесняли с дорог, от поездов и паромов, чтобы пропустить вперед «удирающих в панике белых».
В середине июля командующий войсками военного района сообщил мне, что гражданские власти на местах получили от губернаторов провинций секретное предписание всеми доступными средствами бороться с вероломной и лживой пропагандой Индийского национального конгресса. В связи с этим я счел нужным еще раз серьезно побеседовать с комиссаром.
Уайт во многих отношениях оставался для меня неизвестной величиной. В полиции я был уверен, так же, как и в лояльности наших колониальных частей. В батальоне беркширцев все были обучены, как действовать в помощь гражданским властям, и при первых же признаках беспорядков патрули и команды особого назначения были готовы вступить в дело. Хотя эти английские юноши (многие из которых год с лишним назад еще и не помышляли об армии и имели лишь очень приблизительное понятие о проблемах управления заморскими владениями империи) сочли обучение «вспомогательной службе» смехотворным, если не бессмысленным, притом что многие их соотечественники уже сложили головы, защищая Индию от деспотизма и нацистов и японцев, однако они быстро приспособились к той роли, которую им, возможно, предстояло сыграть. Проводя с этим батальоном «современных» английских юношей вступительную беседу на тему о военной помощи гражданским властям, я для начала процитировал бессмертные строки солдатского поэта Редьярда Киплинга:
Солдат — такой, солдат — сякой, и грош ему цена. Но он — надежда всей страны, когда идет война[18]и любой психолог, думается, подтвердил бы, что яснее обрисовать им ситуацию было бы невозможно!
Можно сказать, что подготовка военных к подавлению гражданских беспорядков основана на одном весьма простом положении, а именно: если толпа не расходится при появлении вооруженного отряда, превосходящего по численности наличные силы полиции, то лишить жизни одного зачинщика равносильно тому, чтобы спасти много других жизней. В нашей истории были случаи, когда это простое уравнение выглядело на практике не так просто, как в учебниках. Я, конечно, имею в виду cause célèbre[19] генерала Дайера в Амритсаре в 1919 году, когда он оказался в положении, весьма сходном с тем, какого я имел основания опасаться в 1942-м.
В 1919 году, как и в 1942-м, страна была охвачена брожением, и по всем признакам можно было ждать открытого мятежа такой же силы, как мятеж 1857 года. Дайер, получив приказ направиться в Амритсар, сделал из этого вывод, который историки — задним числом, то есть пользуясь преимуществом, которое дает историкам такая позиция, — назвали роковым, вывод, что именно в Амритсаре находится центр вооруженного восстания, грозящего, возможно, гибелью наших людей и нашей собственности и концом нашего имперского владычества. Узнав, что на такой-то час назначено многолюдное собрание на большой, обстроенной домами площади под названием Чиллианвалла Багх, Дайер запретил это сборище в письменной и устной прокламации согласно существующим правилам. Прокламация и предупреждения были оставлены без внимания. Тогда он лично возглавил вооруженный отряд, которому приказал разогнать толпу. Когда и на месте его приказ разойтись не возымел действия, он дал команду открыть огонь. С военной точки зрения Чиллианвалла Багх оказался ловушкой, и погибло много местных жителей, в том числе женщин и детей.
После дела Дайера, которое «реформаторы» не преминули использовать как козырь в борьбе против нас, армия, естественно, стала вести себя сверхосмотрительно, и мы теперь оказались в незавидном положении, буквально связанные по рукам и но ногам.
Прежде всего, если только гражданские власти были налицо и способны функционировать (в противном случае уже можно было объявить военное положение), войска не могли вмешаться до тех пор, пока власти гражданские, обычно глава управления округом, не обратятся к ним с письменной просьбой о помощи. Фактически такая просьба сводилась к призыву быть в готовности. Например:
Офицеру, командующему вооруженными силами.
Я пришел к выводу, что гражданские власти не в состоянии справиться с ситуацией и требуется поддержка армии. Соответственно прошу оказать такую поддержку.
Место Подпись Дата Час ДолжностьТеперь представьте себе, что в момент получения, такой просьбы у меня имеется в готовности взвод пехоты. Гражданские власти могут запросить о поддержке в каком-нибудь пункте, где беспорядки вот-вот вспыхнут либо уже начались. Скажем, к примеру (это один из многих инцидентов, имевших место в Майапуре в августе 1942 г.), что толпа собралась перед главным индусским храмом на площади, к которой через главный Мандиргейтский мост ведет дорога из кантонмента.
Взвод беркширцев, срочно прибывший на грузовиках из управления округа, высадился в 200 ярдах от толпы, двигавшейся по мосту, и спешно построился в каре. (По обе стороны улицы тянулись дома и лавки, окна и крыши которых представляли опасность для наших флангов и тыла.) В центре каре, образованного отделениями взвода, находились следующие лица:
Командир взвода Представитель полиции Представитель гражданской власти Горнист Знаменосцы Санитар Взводный сержант Связист Ответственный за журнал боевых действий.Значение слова «помощь» уточняется, если вспомнить, что наряду с командиром взвода там находится и представитель гражданской власти. В деле у Мандиргейтского моста таким представителем был мистер Поулсон, первый заместитель комиссара.
В случае, который мы разбираем, операция распадалась на три этапа. Первый можно назвать проверкой, второй — принятием решения и третий — действием, логически вытекающим из принятого решения.
В проверку входит прежде всего приказ командира взвода горнисту проиграть сигнал с целью привлечь внимание толпы к присутствию организованного в соответствии с законом отряда противодействия. Сразу после сигнала первый знаменосец поднял знамя, на котором по-английски и на местном языке был написан приказ разойтись. Иногда этого оказывалось достаточно, и толпа повиновалась. После поднятия знамени вторично звучал сигнал и, если, по мнению командира взвода, ситуация того требовала, поднимали второе знамя. На нем, тоже по-английски и на местном языке, было начертано четкое предупреждение, что, если толпа не разойдется, будет применена сила. Поскольку толпа обычно шумела не смолкая, на устные предупреждения нельзя было положиться, что и потребовало процедуры со знаменами.
Как раз в тот момент, когда было поднято второе знамя, командир взвода и представитель гражданской власти и оказались, так сказать, на ничейной земле, то есть перед необходимостью принять решение, которое учебники предоставляют командованию на месте.
По счастью, во время первого выступления толпы у Мандиргейтского моста мистер Поулсон, не колеблясь, передал командиру взвода записку с указанием открыть огонь, если толпа не выкажет намерения отступить или разойтись. К тому моменту, когда все предварительные меры были приняты, всего несколько ярдов отделяло передние ряды толпы от первой шеренги стрелков, и из толпы уже летели камни. Над крышами поднимались клубы дыма, что указывало на уже произведенный где-то поджог. (Это горело «котвали», полицейский участок возле храма.) В это же самое время часть толпы, не замеченная солдатами, направилась к вокзалу вдоль железнодорожных путей, от переезда, где полиция не сумела их остановить, и туда из управления округа устремился еще один взвод беркширцев, чтобы поддержать полицейский отряд (им командовал мистер Меррик, начальник полиции всего округа).
А пока вернемся к нашему взводу на дороге у Мандиргейтского моста; как часто случается, чернь выдвинула вперед старух, чтобы предотвратить стрельбу. Делом командира взвода было выбрать в качестве мишеней одного или двух человек в толпе, которых он, судя по их поведению, счел главарями. Бывают случаи, когда боевые патроны выдаются только одному солдату, заведомо меткому стрелку, но в Майапуре беспорядки уже вышли из той стадии, когда такая гарантия от излишних убийств могла бы считаться разумной. И все же в данном случае младший офицер лично обратился к каждому из солдат в первой шеренге, двоим из них указал выбранные им точные мишени, остальным же приказал, как только он скомандует «Пли!», стрелять в воздух. Чтобы терпеливо выполнить все эти предписания в такой обстановке, требовалось немало выдержки и самообладания, но младший офицер, хоть и раненный в плечо камнем, все это проделал. Вдобавок он должен был помнить, что солдат нельзя называть по фамилии, потому что его могут услышать из толпы, и тогда этому солдату несдобровать! Был дан залп, оба метких стрелка сбили свои мишени, и толпа дрогнула, но тут же вперед протиснулись новые заводилы и стали подзуживать ее любимым лозунгом Махатмы: «Умри, а сделай!» Теперь младшему офицеру не оставалось ничего другого, как скомандовать второй залп, и было убито два местных жителя и ранено пятеро, в том числе, как назло, одна женщина. Командир взвода, перехватив инициативу, приказал наступать, не прекращая стрельбы, но стрелять в воздух, поскольку толпа уже начала отходить. Раненой женщине наш санитар оказал помощь в первую очередь. Рана ее оказалась пустяковой — потому, несомненно, что солдат, чья пуля ее задела, целился в мужчину, который в последний момент передвинулся.
В таких операциях всегда участвовал офицер — обычно из отделения разведки батальона или бригады, — в обязанности которого входило наблюдать и делать заметки для последующего занесения в журнал боевых действий данной части или соединения. Это был беспристрастный фактический отчет, не отражающий, в отличие от доклада самого офицера, хода рассуждений, приведших к тому или иному решению. Кроме того, представитель гражданской власти представлял доклад об инциденте своему начальству, а представитель полиции (инспектор или младший инспектор) — своему. Таким образом, если бы суд, назначенный расследовать жалобы на зверское обращение или превышение полномочий по применению силы, потребовал разностороннего освещения одного и того же инцидента, он мог получить сразу несколько отчетов о происшедшем. Должен, однако, подчеркнуть, что не всегда оказывается возможным точно, до последней запятой, выполнить все предписания касательно использования армии в таких операциях. Даже читатель, не наделенный богатым воображением, согласится, вероятно, что могут возникнуть ситуации, когда не весь потребный личный состав будет налицо, а зато, безусловно, будет налицо необходимость действовать без промедления!
* * *
Я понимаю, что, вдаваясь во все эти подробности, не только отвлекся в сторону, но и довел мой рассказ до того места, когда читатель оказался в гуще событий, еще не зная по порядку всего, что им предшествовало. Поэтому я теперь возвращаюсь к тому дню в июле, когда у меня состоялась еще одна беседа с комиссаром мистером Уайтом, который, как мне было известно, недавно получил указание противодействовать антивоенной пропаганде Индийского национального конгресса и чью позицию я счел своим долгом проверить и, если потребуется, обрисовать командиру моей дивизии, который, будучи в то же время командующим войсками военного района, фактически осуществлял военное управление всей провинцией.
Я убедился, что Уайт несколько изменил свое отношение к ситуации. Сам я почти не сомневался, что какая-то конфронтация неизбежна, и меня порадовало, что комиссар, видимо, тоже считает, что уладить ситуацию мирными средствами уже почти невозможно. Однако он все еще верил, что «волнения», если таковые начнутся, будут носить «ненасильственный» характер, если только руководители Конгресса не будут взяты под стражу, а тогда уж он, по его словам, не может ручаться за мирный исход дела. Я ухватился за эти слова и спросил его напрямик: «Значит, в случае таких арестов вы сочтете целесообразным просить нашей помощи?» Он поспешил ответить, что я понял его слишком буквально. Он явно нервничал, и я решил, что нажимать на него нет смысла, хотя мне и очень хотелось сразу добиться четкой договоренности. Что касается пропаганды Конгресса, он сказал, что побеседовал с издателями ряда местных газет и строго предупредил тех из них, кто в последнее время склонен был держаться «антивоенной» ориентации. Этот шаг я мог только приветствовать. Но я очень просил его по возможности помнить и о моей точке зрения — о точке зрения человека, которого положение в Майапуре интересует в первую очередь постольку, поскольку оно может отразиться на моей программе обучения бригады, а затем и на благополучии наших соотечественников.
Именно в тот раз Уайт сказал одну вещь, которая с тех пор запала мне в память как выражение истинного чувства ответственности, всегда отличавшего лучших из наших администраторов в колониях. «Бригадир, — сказал он мне, — если моя позиция даст вам повод для недовольства, я со своей стороны прошу вас помнить вот о чем: если мы запросим вас о помощи, я уверен, что она будет оказана, и притом с успехом. На будущее это останется для вас неприятной задачей, успешно выполненной, а значит, вы по вашей шкале ценностей, сможете зачислить ее себе в актив. Я же, по моей шкале, убежден, что свое обращение к вам никогда не смогу расценить иначе как одну из моих личных провинностей». Я возразил, что «личная провинность» — это, пожалуй, слишком сильно сказано, но он только улыбнулся и покачал головой. Большинство тех, кого ему предстояло арестовать, если прикажет правительство, были его личными друзьями.
Потом он добавил: «Но вы не волнуйтесь, бригадир. Я смотрю на вещи трезво. Я употребил слово „провинность“, но не такой я человек, чтобы сидеть сложа руки и каяться».
Этим мне пришлось удовлетвориться, да в общем я и был удовлетворен, потому что, как уже сказано, я проникся к Уайту уважением за то чувство ответственности, которое после нескольких встреч вывел из его манеры вести себя — сдержанной, слишком, пожалуй, «интеллигентной», но, когда доходило до дела, весьма твердой и практичной. Уайт, мне думается, был типичен для нового поколения комиссаров, которые сформировались к тому моменту, когда наша Индийская империя должна была вот-вот достигнуть совершеннолетия и получить от нашего правительства на родине «ключ от двери» — может быть, и преждевременно, но как знак нашего терпения, доброй воли и исторических замыслов.
Я помню, что после провала миссии Криппса, положившего начало кампании мистера Ганди под лозунгом «Вон из Индии!», большинство англичан было озабочено тем, удастся ли Ганди убедить Индийский национальный конгресс (безусловно, самую влиятельную политическую группу в Индии) присоединиться к его оригинальной доктрине и тем придать ей силу и натиск организованного общенационального движения. Я никогда не уделял особого внимания маневрам политиков, однако знал, что в прошлом мистер Ганди то состоял в рядах Конгресса, то порывал с ним и проводил свою личную линию, которую Конгресс иногда одобрял, а иногда и нет. Мистер Неру, подлинный лидер Конгресса, казался нам человеком более последовательным и умеренным, он хорошо изучил международный политический язык, и был шанс, что он прислушается к голосу разума. В последние годы он много времени провел в тюрьме, но, сколько помнится, был освобожден, чтобы принять участие в переговорах с правительственной миссией, и все еще находился на свободе, являя собою силу, с которой нельзя было не считаться. Нам было ясно, что мистер Ганди связывает ему руки, и одно время мы надеялись, что его позиция, более практическая и более достойная государственного деятеля, одержит верх.
Здесь, пожалуй, уместно будет коротко повторить, что было поставлено на карту и каким нам представлялось противодействие. Главная опасность грозила нам на Дальнем Востоке, притом что мы еще не сумели снова захватить инициативу и сдвинуть с мертвой точки дела в Европе и в Северной Африке. В любую минуту японцы могли начать операции против нашего восточного оплота — Индии. Победа японцев в Индии была бы катастрофой. С потерей Индии наш вклад в войну, которая к тому времени стала глобальной, свелся бы на суше к обороне островов нашей метрополии и к действиям в Северной Африке, а основное бремя борьбы с фашизмом легло бы на плечи обеих Америк. Мы считали, что «организованное отступление» (к которому призывал нас Ганди) было бы чистым безумием! Помимо стратегической необходимости удержать Индию, речь шла, конечно, еще и о ее богатстве и ресурсах.
Итак, вот что было поставлено на карту. Что же касается противодействия, то оно прежде всего выражалось в требованиях (внушенных мистером Ганди), чтобы мы оставили Индию на волю «бога или анархии», а если нет, нам предлагалось удерживать ее наперекор массовой кампании «ненасильственного сопротивления», а это означало, что туземное население объявит забастовку и палец о палец не ударит, чтобы помочь нам сохранить на ходу огромную страну, где мы могли бы создать, обучить и снабжать всем необходимым армию с целью вышибить японцев с восточного архипелага.
Неужели же, думали мы, такие люди, как Неру, примут столь самоубийственный курс?
И все же в начале августа можно было с уверенностью сказать, что Неру, по ему одному известным причинам, показал себя предателем. Политическая близорукость помешала ему в этот момент устоять перед Махатмой. Теперь все зависело от результатов обсуждения в Центральном комитете Конгресса резолюции мистера Ганди «Вон из Индии!». Это обсуждение состоялось 8 августа.
Впоследствии историки пытались доказать, что резолюция эта сводилась к пустым словам, что мистер Ганди даже для себя не определил точно тех форм, в которые должно было вылиться «ненасильственное сопротивление». Я же полагал, и до сих пор полагаю, что эта кампания была подробнейшим образом разработана подпольными членами Конгресса, которые действовали по указанию людей, желавших выглядеть так, будто они, подобно знаменитым трем мартышкам, «ничего не слышат, ничего не видят, ничего не говорят».
Как иначе мог бы я объяснить те акты насилия, которые были совершены в моем округе уже на следующий день после принятия резолюции «Вон из Индии!» и утренних арестов членов партии Национальный конгресс? Акты насилия, направленные непосредственно на белую женщину мисс Крейн, учительницу миссионерской школы, а затем, в тот же вечер — на беззащитную девушку-англичанку, племянницу человека, который за несколько лет до того снискал добрую славу на посту губернатора провинции; девушку, которая подверглась гнусному нападению и поруганию шайки хулиганов в городском саду под названием Бибигхар? Эти два инцидента были предвестниками еще худших эксцессов и к тому же произошли так быстро один за другим, что я мог сделать только один вывод, а именно что над жизнью англичан, и в особенности наших женщин, нависла серьезная опасность.
* * *
Случилось так, что 9 августа я был у моих ранпурцев в Марпури и там-то ранним вечером получил от помощника начальника моего штаба донесение, гласившее, что в двух отдаленных точках округа, Дибрапуре и Танпуре, произошли беспорядки и что во второй половине дня в ту сторону отбыл из Майапура полицейский отряд, и при нем заместитель комиссара мистер Поулсон, и выручил полицейский патруль и нескольких монтеров, запертых бунтовщиками в помещении полицейского поста в деревне Кандгарх. Следуя по дороге к Танпуру, мистер Поулсон обнаружил сначала сожженный автомобиль, а затем, немного дальше, англичанку, учительницу миссионерской школы, дежурившую у тела мертвого индийца, одного из своих подчиненных, избитого до смерти, очевидно, теми же бандитами. Как позже сказал мне мистер Поулсон, именно эта картина — учительница, сидящая у дороги под проливным дождем, — убедила его в том, что волнения в Майапуре грозят принять более серьезный характер, чем предвидел и он сам, и мистер Уайт. Проведя ночь у ранпурцев в Марпури, я не знал ни о резолюции Конгресса, ни об аресте его видных деятелей до тех пор, пока помощник начальника моего штаба не позвонил мне по телефону поздним утром 9-го. Он, оказывается, получил сообщение из штаба дивизии, а также от комиссара, что многие из местных членов Конгресса взяты под стражу согласно плану. В этом, первом телефонном разговоре помощник начальника штаба сказал мне, что все спокойно и что, по словам комиссара, никаких оснований для тревоги нет. Поэтому я решил остаться в Марпури и провести учения батальона. Но вечером, узнав от него же об инциденте близ Танпура, я решил сейчас же вернуться и назначил ему встречу в доме у комиссара.
Сам я прибыл туда около 9 часов вечера. К этому времени тревожных новостей прибавилось. Мистер Уайт только что узнал, что та молодая англичанка, мисс Мэннерс, «пропала без вести», Меррик, начальник полиции, ее разыскивает. Уайт сказал мне, что, когда распространились слухи об инциденте в Танпуре и о нападении на учительницу, несколько англичанок, проживавших в кантонменте, перебрались в клуб «Джимкхана», один из пунктов сбора, заранее намеченных на случай серьезной угрозы для жизни и собственности. Я отвел Уайта в сторону и спросил, не считает ли он, что нам следует провести совместную демонстрацию силы — пустить по городу смешанные патрули полиции и солдат — либо теперь же, вечером, либо завтра с раннего утра. Он сказал, что едва ли это нужно, раз в городе спокойно. Почти все лавки на базаре закрылись. Это нарушение правил, но, по его мнению, лучше разрешить жителям сидеть по домам и не раздражать их без надобности. Я расспросил его об инцидентах в Дибрапуре и Танпуре. Он расценивал их как непосредственную реакцию на известие об арестах со стороны людей, у которых есть время и охота поозорничать. А сейчас связь с Дибрапуром и Танпуром восстановлена, и тамошняя полиция донесла, что вполне справилась с положением. В Танпуре арестовано несколько человек, и среди них, видимо, один или два из тех, что напали на учительницу и убили ее спутника, индийца. Сама учительница находится в Майапурской клинической больнице, так как заболела от потрясения и долгого пребывания под дождем.
Позднее, когда я уже собрался уходить, появился Поулсон. Он объездил весь кантонмент, переехал по Мандиргейтскому мосту на тот берег и по Тюремной улице доехал до тюрьмы, чтобы проследить за тем, как арестованных членов Конгресса перевезли на вокзал и там благополучно погрузили в особый вагон и увезли в место назначения, которое держится в секрете. Я поговорил с Поулсоном, он явно смотрел на ближайшее будущее не столь оптимистично, как его начальник. Он очень волновался за жену, она тогда была беременна. Одна маленькая дочка у них уже была и находилась тут же, в Майапуре. Двое детей Уайтов, мальчики-близнецы, за год до войны уехали в школу в Англию. Миссис Уайт, несомненно, тяжело переживала разлуку с ними в такое время, но это была женщина неутомимая и решительная, внешне, пожалуй, более властная, чем ее муж, тот, скорее, был из породы «мыслителей». Она никогда не сокрушалась вслух, что не увидит своих сыновей до самой победы, но я знал, как эта мысль ее угнетает.
Я надеялся повидать и Меррика, но он был занят розысками пропавшей девушки, мисс Мэннерс, которая жила у некоей леди Чаттерджи в одном из старых домов недалеко от сада Бибигхар. Леди Чаттерджи была дружна с сэром Генри и леди Мэннерс, когда сэр Генри был губернатором провинции. Сэра Генри уже не было в живых, но с леди Мэннерс я был немного знаком в Равалпинди и вспомнил, что видел эту девушку, мисс Мэннерс, несколько раз и в Пинди, и в Майапуре. В Пинди она жила у тетки, а после переезда в Майапур поселилась у леди Чаттерджи и работала добровольной помощницей в Майапурской клинической больнице. Тамошние дамы были несколько шокированы ее привязанностью к одному молодому индийцу. Я вспомнил, что об этом упоминала Кристина, жена начальника штаба моей бригады. Вообще-то я с приездом в Майапур был слишком занят, чтобы уделять внимание сплетням, но, когда сообразил, кто эта пропавшая девушка, не мог не взволноваться от предчувствия серьезной беды.
Попросив Уайта держать меня в курсе, я вернулся к себе на квартиру и связался по телефону с командующим. Мне было приятно услышать от него, что во всей провинции — более того, во всей стране — царит спокойствие и порядок. Конгрессистские комитеты запрещены правительством, многие их члены в виде меры предосторожности арестованы согласно Закону об обороне Индии. Генерал сказал, что, по его мнению, аресты в корне пресекли мятеж Конгресса и мы теперь можем сосредоточиться на своей основной работе — обучать и снаряжать наши войска. Я рассказал ему о том, что произошло в этот день в подведомственном мне районе, но он сказал, что это всего лишь разрозненные происшествия, вспыхнувшие раньше времени, а теперь те люди, которые, видимо, их готовили, прочно упрятаны за решетку. Я лег спать немного успокоенный и крепко заснул, только теперь почувствовав, как утомил меня выезд к ранпурцам, занявший целые сутки.
Мой ординарец разбудил меня в 7 часов, как я распорядился с вечера, и доложил, что меня желает видеть начальник полиции. Поняв, что дело важное, я велел тотчас провести его ко мне. Он вошел через несколько минут и просил прощения, что потревожил меня так рано. Он был, как всегда, аккуратный и подтянутый, но по его усталому и напряженному лицу я догадался, что он в эту ночь не ложился. Я сказал: «Ну. Меррик, чем порадуете?»
Он рассказал мне, что вчера поздно вечером шайка хулиганов напала на ту пропавшую девушку, мисс Мэннерс, в Бибигхарском саду и изнасиловала ее. По счастью, он во второй раз за вечер заехал к леди Чаттерджи буквально через несколько минут после того, как несчастная девушка вернулась домой в ужасном состоянии, бегом проделав весь путь по безлюдным, почти не освещенным улицам. Меррик тотчас поехал к себе в управление, собрал отряд и помчался в район Бибигхара. Неподалеку от сада, на той стороне от Бибигхарского моста, он обнаружил в какой-то хибаре пятерых мужчин, пивших самогон. Он немедля арестовал их (гнать и потреблять этот напиток, во всяком случае, было запрещено законом), а затем ему посчастливилось найти в канаве, у одного из домов в новом квартале Чиллианвалла велосипед мисс Мэннерс, украденный одним из преступников. Войдя в тот дом, он узнал, что там живет тот молодой индиец, с которым водила дружбу мисс Мэннерс. У этого молодого человека — звали его, сколько помнится, Кумар — все лицо было в синяках и ссадинах. Меррик тут же арестовал его, после чего запер всех шестерых в камерах у себя в управлении.
Я похвалил его за такую оперативность, но спросил, почему он в столь ранний час явился лично ко мне. Он ответил, что на то есть несколько причин. Во-первых, он хотел, чтобы я как можно раньше узнал об «инциденте», который он расценивает как весьма серьезный. Во-вторых, хотел заручиться моим разрешением на перевод арестованных в караульное помещение беркширцев, если сочтет нужным содержать их в более надежном месте. В-третьих, он хотел сообщить мне, что, по его мнению, комиссар явно недооценивает серьезность обстановки — ведь на протяжении нескольких часов произошли зверские нападения на двух англичанок и убийство индийца, сотрудника христианской миссии. Затем он напомнил мне, что я еще в начале лета просил его в случае надобности «проявлять инициативу».
Я не мог удержаться от вопроса, в чем он сейчас видит проявление собственной инициативы. Он сказал, что по его твердому убеждению люди, которых он накануне арестовал, и есть обидчики мисс Мэннерс, но доказать это будет трудно. «Почему же, — возразил я, — ведь бедная девушка сможет их опознать». Но он в этом не был уверен. Он спросил ее, узнает ли она кого-нибудь из задержанных, но она сказала, что нет, потому что «все произошло в темноте» и она даже не разглядела их толком. Поскольку одним из них был человек, с которым она заведомо общалась, Меррик полагал, что она ответила неправду, но не терял надежды, что она изменит свои показания, когда немного придет в себя и поймет, кто ее настоящие друзья. А пока он посадил их под замок и чуть не всю ночь их допрашивал. Они упорно отрицали всякую причастность к этому делу, он же убежден, что они виновны, особенно Кумар, который украл ее велосипед и в момент ареста пытался смыть следы ушибов и ссадин, которые девушка успела ему нанести до того, как он одолел ее.
Я спросил Меррика, известно ли, как мисс Мэннерс оказалась в Бибигхаре. К сожалению, сказал он, похоже на то, что она назначила там Кумару свидание; надо надеяться, что эту сторону дела удастся замять для ее же блага. Сам он несколько раз встречался с ней и считал себя ее другом, во всяком случае, счел себя вправе еще не так давно намекнуть ей, что это ее общение с индийцем следовало бы прекратить. Однако она, видимо, целиком подпала под влияние Кумара. Этого Кумара, сказал Меррик, однажды доставили на допрос, когда полиция разыскивала по всему городу одного сбежавшего из тюрьмы заключенного. На допросе, между прочим, выяснилось, что Кумар знал этого человека, звали его Моти Лал, но в то время не было оснований не поверить его словам, что знакомство это было самое поверхностное. Меррик не скрывал, что в его глазах Кумар, при всех своих западных замашках, в высшей степени отталкивающий субъект, он сознает свою мужскую привлекательность и не задумываясь готов овладеть белой женщиной, чтобы затем с особенным удовольствием опозорить ее. Работал он в одной местной газете, вел себя как будто тихо, но было известно, что до этого он водил дружбу с молодыми людьми, которых подозревали в анархической и революционной деятельности — словом, с молодыми людьми типа остальных пяти арестованных. Некоторых из них и раньше видели с Кумаром, и все они уже были на заметке у полиции Меррик решил, что эти пятеро сговорились воспользоваться знакомством Кумара с мисс Мэннерс. В тот вечер, придя в Бибигхар, где рассчитывала застать только Кумара, она застала там не только его, но и еще пятерых, которые и совершили это подлое и презренное злодейство.
Печальный этот рассказ произвел на меня самое тяжелое впечатление, и я согласился с Мерриком, что, чем меньше говорить о ее увлечении одним из подозреваемых, тем лучше, особенно если дело дойдет до открытого суда. А пока что я согласился с тем, что у него имеется достаточно оснований держать этих людей под стражей по подозрению в одном этом преступлении, и это хорошо уже потому, что стоит распространиться слуху, будто англичанка подверглась такому оскорблению, и во всей стране не останется ни одного белого человека, будь то мужчина или женщина, который не возликовал бы, узнав, что эти люди уже арестованы. И для индийцев, если они узнают, что такие вещи не проходят безнаказанно, это тоже послужит полезным предостережением.
Меррик сказал, что очень рад, что я одобряю его действия. Он считает, что вчерашние события — это лишь прелюдия к целой эпидемии насилий, которая, конечно же, распространится и для борьбы с которой потребуется максимум наших совместных усилий. Он слышал, как я предлагал Уайту держать наготове смешанные патрули из полиции и военных, и сожалеет, что это мое предложение было отвергнуто.
Я пригласил Меррика позавтракать со мной, но он отказался, сказав, что должен вернуться на работу. На прощание я сказал ему, что, если обстоятельства того потребуют, он может перевезти одного или всех шестерых заключенных в караульное помещение беркширцев как более надежное, место, с тем, однако, условием, что полиция сама обеспечит для них охрану и беркширцы не будут нести за них прямой ответственности. Меррик, видимо, опасался, что на его полицейскую тюрьму совершат налет молодчики «Умри, а сделай!» и попытаются освободить людей, арестованных за изнасилование. Он не сомневался, что сейчас, утром, весь город уже узнал про «инцидент». Сохранить что-нибудь в тайне в Индии было почти невозможно. Слухи рождались из перешептывания туземных слуг и разлетались по городу с невероятной быстротой. Но для попытки проникнуть в казармы беркширцев толпе, вознамерившейся спасти своих «героев», потребовалась бы совсем уж исключительная решимость, ведь это означало бы прямое нападение на воинскую часть, на что индийская чернь обычно не отваживалась. Как ни чесались у меня иногда руки немедленно овладеть взрывоопасной ситуацией — а нападение на казармы дало бы мне на это право и без письменного разрешения гражданских властей, — все же на этой стадии мне меньше всего хотелось вмешиваться, почему я и добавил к разрешению перевезти заключенных в военный городок оговорку «если обстоятельства того потребуют». Но я был, безусловно, согласен с мнением Меррика, что изолировать этих шестерых надо как можно надежнее. Чтобы они оказались на свободе и стали похваляться своим нападением на англичанку — этого нельзя было допустить ни в коем случае.
Позавтракав, я позвонил комиссару, рассказал ему, что говорил с Мерриком и узнал от него о нападении на мисс Мэннерс. Я опять предложил смешанные патрули как меру предосторожности, но он ответил, что в округе спокойно и он всячески избегает каких-либо нарушений нормальной атмосферы. В большинстве округов провинции власти пользовались услугами людей, которых, видимо, следует назвать шпионами или осведомителями. Осведомители Уайта сообщали, что среди населения наблюдается не столько злоба, сколько растерянность, неуверенность в том, чего, в сущности, ждут от них арестованные члены Конгресса. И его твердое убеждение, сказал он, что раздражать людей сейчас было бы крайне неразумно. К счастью, мусульманская и индусская общины живут вполне дружно, и хотя, с одной стороны, это плохой знак, поскольку позволяет думать о союзе, направленном против англичан, с другой стороны, это хорошо как гарантия от межобщинных конфликтов, которые грозили бы перерасти в нечто еще худшее.
Разговаривая с комиссаром, я, как всегда, поражался его спокойным и уравновешенным рассуждениям. Я спросил, как он расценивает нападение на мисс Мэннерс, не видит ли в нем прелюдии к нападениям на всех европейцев без разбора. Он сказал, что, скорее всего, это был отдельный эпизод, как и происшествие в Танпуре, дело рук каких-то хулиганов, которые, вероятно, явились в Майапур из какой-нибудь глухой деревни, вообразив, что город охвачен гражданским неповиновением, а когда оказалось, что это не так, решили отыграться на первой попавшейся беззащитной жертве. Я возразил, что, по словам Меррика, виновные — не деревенские жители, а молодые анархисты, живущие здесь же в городе. На это он сразу не ответил, и тогда я спросил, не считает ли он, что арестованные вообще невиновны. Он сказал, что пока не имеет на этот счет определенного мнения, многое зависит от показаний самой девушки, когда она будет в состоянии отвечать на вопросы. Он допускает, что Меррик мог ошибиться, но осуждать его за поспешные действия не берется — во всяком случае, в свете того, что сам Меррик рассказал об обстоятельствах, сопутствовавших аресту.
После разговора с комиссаром я собрал офицеров моего штаба и обрисовал им ситуацию с точки зрения а) Меррика, в) мистера Уайта и с) с моей собственной точки зрения, а именно что потенциально ситуация опасна, однако в настоящее время полностью контролируется теми, в чьи обязанности это входит. Другими словами, сказал я, для нас это означает нормальный рабочий день, и я приказал к 10 часам подать мне машину для инспекционной поездки в Баньягандж к панкотцам. Когда остальные ушли, Юарт Маккэй сказал мне, что он и его жена уже слышали о нападении на мисс Мэннерс и что жена его считает, что несчастная сама на это напросилась, хотя, разумеется, и он, и Кристина очень огорчены и расстроены. Но главное — Кристина Маккэй просила передать мне ее мнение, что нападение на мисс Мэннерс не означает опасности для всех европейских женщин. Она интересовалась, замешан ли тут Кумар, и Юарт сказал, что она будет очень рада узнать, что он арестован.
Другими словами, я получил из этого частного источника подтверждение и того, что личные подозрения Меррика вполне обоснованны, и того, насколько шире и объективнее позиция комиссара. Я поехал в Баньягандж, уповая на то, что мы хотя бы ненадолго можем теперь сосредоточиться на более важных делах. В Баньягандже шло строительство аэродрома. Я всей душой сочувствовал этим нищим простым рабочим, мужчинам и женщинам, дорожащим каждой анной, которую они могли заработать, и вовсе не жаждущим по чьей-то указке побросать свои лопаты и корзины с камнями. И мне думалось, что если бы все эти женщины, так тяжело работающие в жаре и сырости этого августовского утра, в своих рваных, заляпанных глиной сари, поймали Махатму на слове и разошлись по домам прясть, им едва ли удалось бы прокормить своих детей, — детей, ради которых был организован комитет наших, английских женщин, куда входили и молоденькая Мейвис Поулсон, и жена начальника штаба гарнизона, они в то утро с ног сбивались, ухаживая вдвоем за целой оравой орущих мусульманских и индусских младенцев обоего пола и за беременными женщинами, обессилевшими от тяжести корзин. К счастью, поблизости находились наши дюжие молодчики из ВВС, так что миссис Поулсон и миссис Браун ничего не грозило, и я проследовал дальше, к штабу панкотцев. Я приятно провел день, наблюдая их боевые учения.
Поистине то было затишье перед бурей! В Майапур я вернулся около 5 часов пополудни и подвез в город миссис Поулсон и миссис Браун, чтобы избавить их от давки в переполненном автобусе ВВС. Миссис Поулсон, видимо, смотрела на несчастье, постигшее мисс Мэннерс, так же, как Кристина Маккэй. Она сказала, что эта история, должно быть, крайне огорчительна для леди Чаттерджи, она, наверное, чувствует себя ответственной не только потому, что мисс Мэннерс живет в ее доме, но и потому, что она сама индианка. Я спросил, что она знает об этом Кумаре, и она, услышав от меня, что он арестован, сразу ответила: «Ну и правильно. Я таких смутьянов в жизни не видела». Она считала, что, будь мисс Мэннерс хоть немного осведомлена об Индии, ничего подобного не могло бы случиться, и добавила, как это удивительно и вместе с тем как логично, что единственные две англичанки, до сих пор пострадавшие в результате волнений, — обе женщины радикальных, проиндийских взглядов. Миссис Браун, как я заметил, выражалась на этот счет не так решительно, но я приписал это ее застенчивости. Ее муж, как, может быть, помнят читатели, выслужился из рядовых. Я нарочно старался втянуть ее в разговор. Я очень уважал ее мужа как способнейшего офицера. Впрочем, я уверен, что она разделяла взгляды миссис Поулсон, то есть что обе считали поведение мисс Мэннерс безрассудным, но, конечно же, сочувствовали ей в беде и готовы были оказать ей поддержку. Это меня растрогало как еще одно — проявление нашей сплоченности. При таком единомыслии никакие испытания не страшны.
Миссис Браун сошла у европейского базара, ей нужно было кое-что купить, а миссис Поулсон я довез до ее дома. Отклонив ее любезное приглашение зайти и выпить, я с ней простился, и она пошла проследить, как будут укладывать спать ее дочку, которую, если не ошибаюсь, звали Энн, а я велел шоферу везти меня в штаб бригады. Дождь опять перестал, выглянуло предвечернее солнце. На майдане царили мир и покой, и я вспомнил те далекие дни, когда я был молод и не знал никаких забот. В тот вечер после обеда я написал несколько личных писем и рано ушел к себе поработать над планом боевой подготовки в поле, который представили мне на утверждение мои штабные. Я ознакомился с ним, корректив почти не потребовалось, и чувство уверенности во мне укрепилось. Ах, если бы этот план не был только планом! Тогда японцы в эту ночь не спали бы так спокойно!
Однако для меня самого спокойные ночи после этого кончились надолго.
* * *
В личном дневнике, который я вел в то время, страница за следующий день (11 авг.) пустая, а 12 авг. появляется краткая запись:
«Минутная передышка после дня беспрерывных беспорядков по всему округу. Вчера (11-го) в 22.00 я получил от комиссара просьбу о поддержке. Нечего сказать, приятно будет нашим войскам в Ассаме и Бирме узнать, чем приходится заниматься частям, предназначенным для их пополнения!»
Оглядываясь на этот августовский день, когда волнения вспыхнули почти по всей стране, и вспоминая, как с поступлением что ни час новых сведений о беспорядках, бунтах, поджогах и вредительстве росло сознание, что вот оно началось то, чего мы опасались и что пытались предотвратить, я не могу не поражаться тому, что в некоторых кругах все еще господствовало мнение, будто все это — непосредственное проявление народного гнева, вызванного арестами предводителей. Доказательство противного, если таковое требуется, я вижу в словах, с которыми Махатма в момент ареста обратился к сбоим последователям: «Умри, а сделай!» Казалось бы, яснее ясного. Узнал я об этих словах только 11-го, когда толпы, совершавшие налеты на полицейские участки и телеграфные отделения и разбиравшие рельсы на железных дорогах, выкрикивали их как лозунг.
Очагами волнений опять оказались Танпур и Дибрапур, где полиции пришлось особенно трудно. Всю вторую половину дня 11-го майапурская полиция под командой конных офицеров только и делала, что разгоняла толпы. Несколько констеблей получили ранения. Десятка два бунтовщиков были схвачены и препровождены в тюрьму. В одной деревне к югу от Майапура было совершено нападение на индийца — чиновника гражданской службы, его продержали взаперти в помещении полицейского поста до следующего дня, когда ту местность прочесывали уже наши, военные патрули. В деревне был поднят флаг Конгресса, так же как и над зданием суда в Дибрапуре, городе, который на несколько дней был отрезан. Дибрапурскую почту, подвергшуюся налету 9 августа (в тот день, когда пострадала учительница миссионерской школы), на этот раз сожгли дотла. До 17 августа, когда войска восстановили порядок, Дибрапур, отстоящий от Майапура на 70 миль, находился в руках повстанцев. Мало того, один из их главарей объявил себя комиссаром и уверял, что центр округа перенесен из Майапура в Дибрапур! Чиновник, который законно осуществлял управление тем районом (тоже индиец), был сначала схвачен, а затем выпущен и водворен в здании суда как «окружной судья». Позже он заявил, что сотрудничать с самозваным комиссаром его заставили силой и что он сумел спрятать почти все деньги из местной казны, чтобы они не попали в руки бунтовщиков. Возвращение этих денег и безупречный послужной список, вероятно, и спасли его от расплаты за то, что можно было расценить как дезертирство. К сожалению, в других местах бывали случаи, когда чиновники из индийцев, даже высокопоставленные, не решались ослушаться главарей и значительные суммы правительственных денег оказались похищены. Кое-где самозваные чиновники «штрафовали» городских и деревенских жителей и клали эти деньги себе в карман, вместе с податями, которые взимали «именем свободной Индии». Из гражданских служащих — англичан ни один, сколько мне известно, не пошел на такие махинации, и никто из европейцев, благодарение богу, не погиб. Единственное исключение, какое я могу припомнить, — это зверское убийство (не в нашем округе) двух летчиков разъяренной толпой, вообразившей, что они — из экипажа того самолета, который участвовал в карательной операции против какой-то взбунтовавшейся деревни по соседству. Толпа накинулась на них и буквально растерзала.
Но вернемся к 11 августа и к событиям в самом Майапуре. В течение этого дня начальник полиции проявил себя способным командиром. На обеспечение всех угрожаемых участков у Меррика просто не хватало людей, но особенную опасность представляли три пункта: на подходе к Бибигхарскому мосту с юга, на площади перед храмом Тирупати неподалеку от Мандиргейтского моста и на улице, ведущей к тюрьме (я имею в виду ту тюрьму, что на туземном берегу реки, а не камеры при полицейском управлении в кантонменте, где содержались шестеро задержанных по подозрению в изнасиловании). Предполагалось, что главными объектами нападения будут, во-первых, тюрьма и, во-вторых, кантонмент.
С утра в тот день все шло нормально, пока полиция не донесла, что в городе начался «хартал». В 8.00 (примерно в то же время, когда возобновились волнения в Дибрапуре) поступили сведения, что толпа собирается на подходе к Мандиргейтскому мосту. К 9.30 ее разогнали, однако тут же стало известно, что другая толпа скапливается на подходе к тюрьме. По счастью, Меррик, заранее обдумавший, какие шаги предпринять в том случае, если блюстителям закона и порядка будет оказано противодействие, уже отдал своим силам приказ рассредоточиться. Произошло несколько мелких столкновений. В опасности оказалась почта на Тюремной улице, но ее удалось отстоять. Тем временем стали поступать сообщения об «отдельных» актах насилия и вредительства в отдаленных точках округа. В 12.00 младший полицейский инспектор, возглавлявший котвали около храма Тирупати, получил ультимативное предложение присоединиться к силам «свободной Индии» и взаимодействовать в «освобождении шести мучеников Бибигхара». И этот ультиматум был напечатан типографским способом! В этой попытке связать восстание в Майапуре с происшествием в Бибигхарском саду — представить его всего лишь как кампанию за освобождение людей, которых горожане считают безвинно брошенными в тюрьму, — я усмотрел не только хитрый маневр, но и доказательство работы весьма неглупых подпольных руководителей. Меррик со мной согласился. Увидев «ультиматум», он сразу же организовал облаву на помещение газеты «Майапурский индус», выходившей на английском языке, и нашел там печатный станок, на котором, судя по всему, можно было печатать не только газеты, но и листовки на туземном языке. Набор, с которого данная листовка была напечатана и по-английски, и на хинди, уже был «рассыпан», но Меррик счел себя вправе арестовать всех работников газеты, какие оказались на месте, и уничтожить станок, на котором могли печататься такого рода листовки.
Эта операция была закончена к 13 00, всего через 60 минут после того, как листовка была доставлена в котвали возле храма, что доказывает как оперативность самого Меррика, так и эффективность его системы разведки, или «шпионажа». Позже в тот день, когда мы встретились на совещании, собранном комиссаром в управлении округа, Меррик сказал мне, что один из арестованных сотрудников «Майапурского индуса» — близкий друг Кумара, главного из подозреваемых по делу Мэннерс Он считал вполне вероятным, что, допросив этого человека (в дневнике я записал его имя: Видьясагар), сможет доказать все двуличие Кумара.
Сознаюсь, мне очень тяжело было думать о том, до чего же могут дойти эти так называемые образованные молодые индийцы в своих нападках на тех, кто дал им возможность выйти в люди. Угнетала меня и их склонность к насильственным действиям во имя пресловутой сатьяграхи. Я поделился этими мыслями с Мерриком, и он сказал, что чуть не каждый день сталкивается по работе с такими молодчиками. Если ему случается в обход правил отплатить им той же монетой, он утешается тем, что цель оправдывает средства. Он сказал, что отказывается понять, как такая порядочная девушка, как Дафна Мэннерс, которой доступны все преимущества цивилизованной жизни, могла поддаться на обман такого субъекта, как Кумар, хоть он и окончил в Англии привилегированную закрытую школу. Я очень удивился, узнав эту подробность биографии Кумара, и почувствовал, что не так уж хорошо разбираюсь в людях.
В тот же раз (когда мы наспех допивали по чашке чая) Меррик заявил, что Ганди — «выживший из ума старик», воображающий, что все еще кого-то возглавляет, а на самом деле он потерял с этими людьми всякую связь и сам оказался в плену своих «сумасшедших идей и иллюзий» и понятия не имеет, как над ним потешаются молодые люди того типа, каких ему, Меррику, приходится держать в узде.
В тот день на совещании мне показалось, что комиссар воспринимает поступающие сообщения вполне спокойно и трезво. Я сказал ему, что готов приказать начальнику военной полиции оказать содействие при переводе шестерых заключенных в казармы беркширцев. Этого Уайт не ожидал — очевидно, Меррик не обсуждал с ним такой возможности. Он сказал, что поселить шестерых индийцев, подозреваемых в изнасиловании англичанки, под носом у английских солдат — верный способ разжечь расовую вражду, что отнюдь не входит в его намерения. Усмотрев в его словах сомнение в моральных качествах моих солдат, я не на шутку рассердился. Он сказал, что я его неправильно понял, он просто имел в виду, что охрана таких заключенных — неприятная обязанность и может пойти во вред моральному состоянию беркширцев. Если их призовут на помощь, это будет тяжелым испытанием для их выдержки и самообладания. Достаточно плохо уже то, сказал он, что о нападении на мисс Мэннерс стало широко известно. Так есть ли смысл таким соседством напоминать беркширцам о происшествии, способном только пробудить самые низменные инстинкты.
В этом вопросе наши мнения разошлись, и разговор закончился в не слишком любезном тоне. А в 8 часов в тот же вечер я, как и ожидал, получил просьбу о помощи, тотчас приказал одному взводу, который мы уже называли «карательным», явиться в управление округа, а остальным беркширцам пребывать в готовности, сам же поехал к Уайту — он уже вернулся домой и совещался со своими помощниками и с судьей Мененом. У судьи Менена лицо, как всегда, было непроницаемое. Я невольно спросил себя, не скрывается ли за этой важной судейской внешностью сердце, бьющееся в унисон с мечтами его соотечественников о «свободе».
После 4 часов дня Уайт, очевидно, уразумел, что наличной полиции мало для разгона все новых и новых толп, тем более что один отряд городской полиции был направлен в Танпур с заданием усилить тамошнюю полицию и попытаться установить связь с Дибрапуром. Поняв, что настроения в городе позволяют ожидать наутро решительных поползновений проникнуть в кантонмент, и составив себе представление о размахе и характере волнений по сводкам сообщений из его и других округов и провинций, комиссар примерно в 7 30 вечера принял решение запросить о военной поддержке. Я явился к нему в 8.15, и он поблагодарил меня за столь быстрый отклик. Он все еще не терял надежды, что утром можно будет обойтись без новых вызовов. Мы договорились оставить один взвод беркширцев при управлении округа для немедленных действий, а с утра направить небольшой отряд в Дибрапур в сопровождении чиновника гражданской службы и офицера полиции — с заданием ознакомиться там с обстановкой и попытаться усмирить беспорядки. Чтобы не трогать беркширцев, я решил, что в Дибрапур отправлю взвод ранпурцев из Марпури. Они легко переправятся через реку в известном мне пункте в шести милях западнее Майапура и, подойдя с Дибрапуру с фланга, возможно даже, застигнут дибрапурских мятежников врасплох. Этот приказ я тут же передал по телефону дежурному офицеру в Марпури.
Я решил лично присутствовать на месте встречи ранпурцев с обоими представителями гражданской власти и вместе с этими последними отбыл из города на моей штабной машине в 22.00. Связавшись с ранпурцами, я указал им дорогу к мосту в деревне Танипурам, где местные констебли сильно нервничали. Руководивший ими младший инспектор доложил, что с наступлением темноты было замечено, как какие-то люди подошли к мосту, но при виде его патруля тут же скрылись. В деревне весь день прошел тихо, хотя слухи о волнениях в городе дошли и туда. Я приказал ранпурцам продвигаться в сторону Дибрапура, а сам вернулся на место встречи — железнодорожный полустанок, обслуживающий близлежащие деревни. Оттуда я позвонил в Майапур, и мне удалось связаться с управлением округа. Я передал сообщение, что ранпурцы благополучно продвигаются по намеченному пути, после чего, чувствуя, что сделал за этот вечер все возможное, поехал на машине домой. Было уже раннее утро 12-го, лил упорный дождь, и я надеялся, что он поостудит пыл любителей ночных налетов!
* * *
Не проспал я и трех часов, как меня разбудил мой начальник связи и сообщил, что взвод ранпурцев, направлявшийся в Дибрапур, задержался милях в десяти не доходя Дибрапура, встретив на дороге заграждение — сваленное дерево. Людей это бы не остановило, но для транспорта оказалось серьезным препятствием. Дерево оттащили не без труда, поскольку дождь все еще шел и дорога, включая земляные обочины, была очень скользкая. Командир взвода, молодой индиец, предложил выслать вперед пешим ходом два отделения в ближайшую деревню, до которой оставалась одна миля, однако и чиновник и офицер полиции оба настояли на том, чтобы не разбивать отряд, пока заграждение убирают. Если бы молодой офицер не дал себя отговорить, то, возможно, удалось бы приостановить разрушение моста за деревней — моста через приток реки, на которой стоит Майапур. Этот мост был взорван минут через двадцать после того, как они начали расчищать дорогу. Взрыв был отчетливо слышен. Дойдя до деревни (в которой осталось всего несколько стариков и старух), офицер опять доложил через отдел связи бригады, что дорога на Дибрапур непроходима для механизированного транспорта и что он ждет дальнейших приказов.
Вот с какой ситуацией я столкнулся утром 12-го. Взглянув на карту, я тотчас убедился, что всякий другой подход к Дибрапуру означает прежде всего отступление к северу, почти до самого моста в Танипураме, а оттуда дорога пригодна для механизированного транспорта разве что в сухую погоду. Не хватало еще только, чтобы взорвали мост в Танипураме. Я понял, что и так временно лишился двух трехтонных грузовиков, одной тяжелой машины и ценного радиоимущества!
По счастью, мой начальник разведки, немного замкнутый, но в высшей степени толковый молодой человек по фамилии Дэвидсон, уже понял опасность и, не дожидаясь моего приказа, дал полиции указание немедленно связаться с полицейским постом у моста в Танипураме, выяснить, какова там ситуация, и предупредить о необходимости сугубой бдительности. Я позвонил комиссару и сказал, что рискую потерять ценный транспорт и оборудование, если не получу от него carte blanche[20] на обеспечение дороги. Объяснил почему и добавил, что, по-моему, ясно: мятежниками руководят люди опытные и Дибрапур явно выбран ими как опорный пункт восстания в этом округе.
Уайт немного подумал, а затем сказал, что в общем согласен со мной и дает мне carte blanche для обеспечения дороги на время «отвода» ранпурцев. Я возразил, что отводить отряд не собираюсь, а хочу обеспечить дорогу на столько времени, сколько потребуется для наведения нового моста. При такой нехватке необходимого оборудования может пройти несколько часов, прежде чем ранпурцы двинутся дальше, но лучше поздно, чем никогда. Его ответ поразил меня. «Нет, — сказал он, — я требую, чтобы отряд был отведен, но согласен, чтобы вы обеспечивали дорогу, пока люди не переправятся обратно у Танипурама. Я теперь же повторю это распоряжение в письменной форме».
Я спросил: «А если мост у Танипурама уже взорван?»
Он ответил: «Тогда придется заново оценить ситуацию. Пока же у меня сложилось впечатление, что вы умудрились потерять три машины и радиоустановку». И дал отбой. Я поспешно оделся и позавтракал, твердо намереваясь, если окажется, что мост у Танипурама тоже взорван, приказать ранпурцам задать кому следует перцу, невзирая ни на каких чиновников. Но вскоре был утешен звонком из полицейского управления — из Танипурама сообщили, что мост цел и все спокойно.
Еще до этого я решил не отводить ранпурцев, пока не получу от комиссара обещанного им письменного распоряжения. Оно поступило в 8.00, и я сейчас же попросил Юарта отдать приказ об отозвании транспорта и людей.
Затем я обсудил положение в Дибрапуре с Дэвидсоном, моим начальником разведки, и он сказал, что понимает логику комиссара так: если Дибрапур действительно центр восстания в этом округе, так пусть поварится в собственном соку, ведь вооруженных сил как таковых у мятежников нет, а первоочередная забота — это Майапур. Комиссар, видимо, решил, что усмирение округа должно вестись вширь, из Майапура.
Из всех офицеров моего штаба Дэвидсон говорил со мной, пожалуй, откровеннее всех (Юарт не в счет, это был личный друг). Когда я принимал командование бригадой, начальником разведки был молодой еще человек по фамилии Линдзи, к которому я сразу проникся симпатией. Он уже понюхал пороху во Франции, куда попал в составе злополучной Британской экспедиционной армии. С беркширцами он служил в территориальной армии еще до войны. В Индию прибыл с новым батальоном, в должности командира роты. Здесь был направлен на подготовку для работы в разведывательной службе, и, когда он по окончании курса выразил желание служить в каком-нибудь соединении, включающем часть его прежнего полка, его сразу же поставили во главе разведки нашей бригады. А в начале апреля, через неделю после моего прибытия в Майапур, перевели в штаб дивизии. Я было запротестовал, но Юарт уговорил меня не препятствовать этому переводу. По его словам, Линдзи с первых же дней в Майапуре держался как-то неуверенно и беспокойно, и Юарт подозревал, что он сам просил какого-то знакомого в штабе дивизии похлопотать, чтобы его отсюда убрали. Назначенный на его место Дэвидсон сначала показался мне довольно жалкой заменой, и мы с ним несколько раз поцапались. Из-за своего еврейского происхождения он был не в меру обидчив, а я не сразу это понял.
После разговора с Дэвидсоном я решил встретиться с Уайтом. Я поехал к нему на дом и, узнав от миссис Уайт, что он совершает объезд города, но к 10 часам хотел вернуться, решил подождать. Мы с ней побеседовали, и я убедился, что она занимает среднюю позицию между мной и своим мужем. Она сказала: «Робин всегда пытается видеть минимум на год вперед. Он знает, что сейчас нам противостоят те же люди, с которыми нам предстоит жить и нести за них ответственность». Я сказал: «Да, если японцы нас не сменят». Она сказала: «Знаю. Я и сама этого боюсь. Но я-то думаю о своих близнецах, о том, что, может быть, никогда больше их не увижу. И Робин думает о том же, но знает, что ему не за то платят деньги, чтобы он это думал».
Я сразу уловил, что мистера и миссис Уайт связывает такая же взаимная преданность, какой отмечен и мой счастливый семейный союз.
Уайт вернулся в сопровождении Джека Поулсона и сразу попросил у меня прощения за то, что утром, вероятно, наговорил мне лишнего насчет моста и ранпурцев. Я спросил, правильно ли я понял его план — дать Дибрапуру денек-другой повариться в собственном соку в расчете, что с подавлением беспорядков в Майапуре он окажется изолирован и усмирить его будет легче. Он как будто удивился, подумал немного, потом ответил: «Да, по-военному это, пожалуй, можно выразить так».
А на мой вопрос, какими же словами это можно выразить по-граждански, отвечал без запинки: «Спасение человеческих жизней и имущества». Я спросил, значит ли это, что, по его мнению, военным нельзя доверять. Он сказал: «Ваши ребята вооружены. У моих ребят есть кое-какое оборонительное оружие, например взрывчатка, но в остальном — только голые руки и чувства».
Меня удивило, что он назвал мятежников «мои ребята», но потом я сообразил, что Уайт относится к своей доле ответственности так же серьезно, как я — к своей, и почувствовал, какая неприязнь наряду с дружелюбием может возникнуть между двумя людьми одного круга просто потому, что сферы их ответственности не совпадают. И все же, подумалось мне, конечный результат, к которому мы стремимся, один и тот же.
В области гражданской новым в то утро было то, что забастовали служащие Британско-индийской электрокомпании, а учащиеся Правительственной средней школы и Технического колледжа намечают на середину дня массовую сатьяграху в виде похода по шоссе к аэродрому в Баньягандже, где строительство тоже приостановилось, после того как были приняты меры устрашения против землекопов, сперва оставивших без внимания призыв Конгресса прекратить работу.
Уайту претили полицейские меры против учащихся, этих юнцов, от которых, при их изменчивых настроениях, никогда не знаешь, чего ожидать. Возможно, что они пройдут по улицам в полном порядке, пока их товарищей будут арестовывать, вполне довольные уже тем, что доставили беспокойство властям и откликнулись на призыв Конгресса. Но «стоит ветру подуть с другой стороны», как выразился Уайт, и они, безоружные, охваченные массовой истерией, кинутся на полицию или на солдат, что неизбежно приведет к трагедии. Поэтому он теперь желал усилить свои полицейские отряды военными и на командира возложить руководство не только солдатами, но и полицией. А то полиция, сказал он, склонна расправляться с учащимися «очень уж круто». Затем он высказал мысль, что, раз его осведомители так легко разузнали о всех подробностях этого плана, значит, студенческая демонстрация задумана как маневр с целью отвлечь наши основные силы в район Бибигхарского моста и учебных заведений. Он ждал выступлений рядовых горожан за Мандиргейтским мостом, а также нападения на тюрьму и полагал, что они совпадут по времени с походом учащихся.
Я не мог не восхититься такой хладнокровной и, как мне показалось, разумной оценкой ситуации. Я предложил в течение утра огласить по всему городу прокламацию гражданских и военных властей, запрещающую всякие сборища. Он, оказывается, уже думал об этом, теперь подумал еще и наконец сказал: «Нет, это смахивало бы на провокацию и слишком уж напоминает мне прелюдию к избиению в Амритсаре. Боюсь, как бы они тоже о нем не вспомнили. Прокламация им не нужна, они и так знают, что разрешено, а что нет».
Из этого разговора — начавшегося в атмосфере отчуждения, чуть ли не недоверия — я, кажется, узнал о тонкостях гражданской психологии больше, чем за все годы, проведенные мною в Индии. Я проникся глубоким и прочным убеждением, что комиссар печется о благе всего здешнего населения, независимо от национальности, вероисповедания и цвета кожи. Он, должно быть, долго колебался, выбирая наилучший образ действий, и при этом им руководило, как выразилась его жена, сознание, что речь идет о людях, с которыми нам, когда волнения улягутся, предстоит жить в мире. Когда в Майапуре был восстановлен порядок, его, сколько мне известно, упрекали в том, что он «потерял голову». Если так, мне хочется исправить эту ошибку. Уайт до последней возможности действовал в одиночку, взяв на себя всю ответственность, я же в те несколько дней, когда в силу обстоятельств его задача стала почти невыполнимой, только старался не отчаиваться и не падать духом. Хочу также высказать уверенность, что Уайт в лепешку бы расшибся, а продолжал бы гнуть свою линию, если бы вечером 12-го не получил от своего начальника (находившегося от него в 200 милях!) и действовавшего в свою очередь по указаниям губернатора провинции, прямого приказа использовать «в полной мере» имеющиеся в его распоряжении военные силы. Сам я получил соответствующие указания по военной линии. К ночи 12-го провинция в целом была охвачена такими волнениями, что их вполне можно было квалифицировать как восстание, а это вселяло в наших непосредственных начальников серьезнейшую тревогу за ближайшее будущее.
Этот разговор утром 12-го был последней моей встречей с Уайтом, которую я отчетливо помню. Выше, приводя пример подготовки солдат к операциям в помощь гражданской власти, я уже описал эпизод на дороге к Мандиргейтскому мосту, когда толпа, как и предвидел Уайт, решила, что власти заняты разгоном студенческой демонстрации, и попыталась проникнуть в кантонмент, подожгла котвали на площади перед храмом и двинулась к вокзалу. В это же время на туземном берегу полиция из последних сил удерживала тюрьму. Два полицейских было убито, и толпе удалось ворваться в тюрьму и выпустить на волю большое число заключенных, прежде чем взвод беркширцев, брошенный на подмогу, смог выправить положение.
Как, может быть, помнят читатели из моего подробного описания операции на подходе к Мандиргейтскому мосту, отряд «поддержки» использовал преимущество, которого добился, когда толпа, напуганная стрельбой, обратилась в беспорядочное бегство, и стал продвигаться вперед. Таким образом, основные силы бунтовщиков оказались оттеснены за мост, хотя отдельные небольшие группы успели скрыться в боковых улочках.
Остановив отряд по сю сторону моста, командир взвода спросил мистера Поулсона, следует ли ему остаться здесь или же перейти мост и вступить в туземный город для действий на площади перед храмом, где, как ему было видно, новые «лидеры» уже призывали бегущих остановиться и вновь построиться для боя. Поулсон, озабоченный тем, чтобы согласно уставу без нужды не ставить под удар силы закона и порядка, велел офицеру-беркширцу остаться у моста. Теперь стрельба доносилась со стороны вокзала, и Поулсон правильно предположил, что, перейдя мост, толпа сразу же разделилась на две части — одна часть двинулась от моста вперед по улице, а вторая просочилась вдоль железнодорожных путей к вокзалу. Он объяснил офицеру, что если отряд перейдет на площадь, он может оказаться в ловушке между теми бунтовщиками, что уже готовятся там к новым схваткам, и теми, что спасаются от стрельбы у вокзала. И бегущие от вокзала, приблизившись, действительно убедились, что беркширцы преграждают им путь к мосту, единственно возможный для них путь отхода.
К несчастью, несмотря на поспешное указание Поулсона и столь же поспешный приказ командира взвода открыть путь через мост этим безоружным, спасавшимся от опасности людям, те при виде солдат со страху истолковали их маневры как враждебные, когда на самом деле они имели целью очистить для них дорогу. Бежавшие впереди стали пятиться, и их затоптали. Иные кое-как спустились по крутому берегу к реке и пустились вплавь, причем много мужчин и женщин утонуло. Этот инцидент повлек, за собой ряд недоразумений. Впоследствии индийцы обвиняли нас в том, что мы умышленно устроили ловушку и без пощады расправились с теми, кто в нее попался. Нашлись «свидетели», показавшие, что солдаты стреляли по толпе, отчего люди и стали бросаться в воду. Насколько я мог понять, эти «свидетельства» основывались на том, что когда утонувших извлекли из реки, у некоторых из них были обнаружены на теле пулевые раны. А ранены эти люди могли быть только у вокзала, когда толпа, ослушавшись приказа разойтись, стала бросать в солдат камнями и те дали по ней залп. Как я, кажется, уже упоминал, полицией у вокзала командовал Меррик, начальник полиции округа. Он проявил большую энергию и решительность, а себя не берег нисколько. Снова и снова он направлял свою лошадь прямо в толпу, чтобы не дать бунтовщикам сомкнуться. И лишь когда был вынужден отступить, дал кучке своих вооруженных констеблей приказ стрелять, а также разрешил стрелять солдатам.
Тяжкий это был день, и самое страшное наступило, когда мы получили донесение, что не удалось отстоять тюрьму. Лил проливной дождь. Между 5 и 6 часами прогремела гроза, словно отражение той грозы, что бушевала на земле. Вот в этих-то нелегких условиях новый отряд беркширцев (в сопровождении меня и комиссара) был в срочном порядке переброшен в открытых грузовиках за реку и подкатил к тюрьме. Из-за дождя и тревожной вести о неудаче повстанцев в кантонменте народу на Тюремной улице поубавилось, а при виде нескольких грузовиков с вооруженными солдатами, мчавшихся по моему приказу на предельной скорости, заколебались и остальные. И все же, чтобы расчистить подходы к самой тюрьме, пришлось приказать солдатам высадиться и дать несколько залпов в воздух. А овладев подходом к тюрьме, мы были вынуждены, чтобы проникнуть внутрь, сокрушить огромную старую деревянную дверь ломами. Бунтовщики заперлись изнутри. Они также успели овладеть складом оружия, но, по счастью, нашли там винтовки, с которыми не умели обращаться, иначе нашим пришлось бы пробиваться вперед под сильным огнем. И так уже один из солдат был ранен, когда беркширцы под командой своего взводного вступили на тюремный двор.
Не сумев удержать тюрьму, повстанцы поняли, что их надеждам нанесен решающий удар, и, как обычно бывает при таких неудачах, гнев обратился внутрь. В ночь с 12-го на 13-е, когда еще нельзя было с уверенностью сказать, кто одержал верх с гражданской точки зрения, отдельные группы местных жителей временно оставили нас в покое и стали сводить кое-какие старые счеты. В туземном городе начались грабежи и поджоги, но теперь от этих эксцессов страдали туземные дома и лавки и даже отдельные люди. Мертвое тело, найденное утром, ничего не стоило опознать как труп «мученика за дело свободы», забитого до смерти полицией или солдатами! Были кое-какие мелкие происшествия и в кантонменте, где люди, скрывавшиеся по глухим переулкам, с наступлением темноты вышли из укрытий и совершили акты вредительства на железной дороге. И в эту же ночь сгорел один из складов на подъездных путях.
Комиссар к этому времени уже получил директиву бороться с восстанием в округе всеми имеющимися в его распоряжении силами, и я был поставлен об этом в известность моим начальством. А еще я имел секретное указание — в случае если в ближайшие несколько часов я сочту, что гражданская власть уже неспособна выполнять свои функции, я вправе взять командование целиком на себя и объявить военное положение. Однако из сегодняшнего опыта я заключил, что вдвоем с Уайтом мы сумеем восстановить порядок, если только договоримся, что положение ухудшилось настолько, что ни он, ни я уже не обязаны согласовывать каждый свой шаг с уставом. Так я сказал и своему начальнику и добавил, что больше всего меня волнует положение в Дибрапуре, в свете последних событий в Майапуре оно представляется мне особенно серьезным.
Поздно вечером я ненадолго встретился с Уайтом. Это была одна из тех нескольких встреч, которые я не запомнил подробно, потому что происходили они в спешке, в постоянном напряжении, но мне запомнилось его измученное лицо и вопрос, которым он меня встретил: «Ну что, берете командование на себя?» Я сказал: «А вы об этом просите?» Он покачал головой, но согласился на то, чтобы утром я направил в Дибрапур военный отряд прямой дорогой из Майапура на юг. Однако ночью мне опять позвонили из штаба дивизии и передали приказ подходить к Дибрапуру пешим ходом с северо-запада, от взорванного моста, который саперы должны в срочном порядке вновь навести, с тем чтобы, как только Дибрапур будет усмирен, нормальное движение по этой дороге могло возобновиться.
На этом коротком, десятимильном, переходе ранпурцев то и дело останавливали заграждения и самодельные фугаски, на которых подорвалось несколько солдат. Это подтвердило мое предположение, что Дибрапур был выбран как центр заранее спланированного восстания, и только утром 17-го я смог доложить комиссару, что силы закона и порядка одержали в городе полную победу. В помощь ранпурцам мне пришлось послать роту панкотцев прямой дорогой на юг через Танпур, так что в общем операция приобрела характер заправского военного наступления. В Дибрапуре я ввел военное положение в ночь на 14-е, как только ранпурцы вступили в город. Три дня они были заняты восстановлением порядка. 17-го чиновник из штаба комиссара опять стал действовать от имени гражданской власти, а те наши служащие, которые в предыдущие дни сотрудничали с повстанцами (начальник района индиец, один чиновник и несколько констеблей), были доставлены в Майапур, где их для начала допросил комиссар. Тогда-то и случилось, что начальник района избежал судебного преследования, возвратив деньги, которые он якобы припрятал, чтобы они не попали в руки бунтовщиков.
А между тем мятеж во всем округе сперва достиг такого накала, что, казалось, сладить с ним невозможно, а затем перешел в другую стадию, когда мы почувствовали, что страсти, развязавшие его, не выдержав противодействия, пошли на убыль. После всякого вооруженного конфликта самые яркие воспоминания почему-то всегда остаются от эмоций, толкнувших нас на первые активные шаги. А позже вступают в свои права дисциплина и выучка, как элемент необходимый, но не дающий пищи для особенно ценных воспоминаний. Однако я хорошо помню, что 14 августа была предпринята еще одна серьезная попытка проникнуть в кантонмент во имя «мучеников Бибигхара и Мандиргейтского моста».
В тот день нельзя было остаться равнодушным при виде того, как целые толпы людей, в том числе множество женщин, и молодых и старых, добровольно шли навстречу опасности и даже смерти. В событиях 14-го можно усмотреть более точное следование принципу ненасилия, провозглашенному Махатмой. Казалось, эти простые горожане внезапно разочаровались в руководителях, подстрекавших их хвататься за любое оружие и верить, что это поможет им одолеть и полицию и солдат. Теперь это был протест безоружных, они несли плакаты, призывающие нас покинуть Индию и выдать им «безвинно пострадавших в Бибигхарском саду». Толпа, пытавшаяся перейти реку по Бибигхарскому мосту, состояла в большой мере из женщин и детей. Зрелище это было столь трогательное, что наши солдаты не хотели стрелять даже в воздух, хотя, пока женщины оставались в первых рядах, других приказов и не было. Я сам видел, как один из беркширцев нарушил строй, чтобы утешить маленькую девочку, метавшуюся в поисках матери, очевидно одной из тех многих женщин, что распластались на земле с целью преградить путь солдатам, когда те двинутся вперед, чтобы очистить мост.
Можно не сомневаться, что нападение на мисс Мэннерс в Бибигхарском саду многих индийцев объединило под общим лозунгом протеста, но я никогда не принимал всерьез тех доводов, которыми пытались доказать, будто беспорядки в городе были вызваны действиями полиции, предпринятыми «в отместку» за это преступление. И для разговоров о зверском обращении с арестованными не было, конечно, никаких оснований, хотя я еще раз хочу напомнить, что полицейские, не считая старших чинов вроде начальника полиции округа, сами были индийцы, а в нашей истории, скажем прямо, были случаи, когда европейцев огульно обвиняли за действия их подчиненных туземцев, которых им по правилам полагалось контролировать. Думаю, впрочем, что даже индийцы не принимали всерьез басню о том, что то ли одного, то ли нескольких арестованных (все они были индусы) насильно кормили говядиной. Правда, среди полицейских попадается довольно много мусульман, но если бы чернь действительно верила в эту историю с говядиной, это сейчас же породило бы слух, что во всем виноваты полицейские-мусульмане, и как следствие — одну из тех межобщинных свар, от которых мы в данном случае, к счастью, были избавлены. Эти сплетни в связи с бибигхарским делом, несомненно, возникли задним числом, когда все волнения уже улеглись. В то время я лично никаких таких басен не слышал, а когда пошли разговоры, вдаваться в них уже не имело смысла, да и не мое это было дело.
К сожалению, как я теперь считаю, восстание в Майапуре, борьба с которым потребовала всех наших ресурсов и сил, помешало властям подробно расследовать обвинение в изнасиловании, выдвинутое против арестованных, и, поскольку сама пострадавшая не могла содействовать их опознанию, дело это, с юридической точки зрения, осталось незавершенным. Необходимость перевести заключенных для большей безопасности в казармы беркширцев так и не возникла, но, если они действительно были виновны (а я на этот счет не составил себе определенного мнения), они, надо полагать, сочли, что им еще повезло. Единственное, что можно было сделать, исходя из сведений о их деятельности и связях в прошлом, было применить к ним Закон об обороне Индии, что и было сделано. Что же касается нападения на учительницу миссионерской школы и убийства ее помощника — индийца, то и тут не удалось сразу опознать никого из арестованных в тот день в Танпуре, что, возможно, привело еще к одной судебной ошибке, хотя в конце концов некоторые из этих людей подверглись высшей мере наказания.
Согласно опубликованным впоследствии официальным данным, число случаев по всей стране, когда полиция или войска, или и те и другие были вынуждены стрелять в уличные толпы, превысило 500. Свыше 60 000 человек было арестовано, свыше 1000 убито и свыше 3000 тяжело ранено. Индийские власти оспаривают эти цифры в отношении убитых, утверждая, что их было до 40 000! В воинских частях, подчиненных мне лично, цифры были такие: случаев, когда войскам было приказано открыть огонь, — 23 (из них 12 в Дибрапуре); примерное число убитых в результате стрельбы — 12; примерное число раненых — 53. Думается, что эти цифры свидетельствуют о выдержке, проявленной нашими солдатами. Данными о количестве арестов я не располагаю, потому что этим занималась полиция. Нет у меня и данных по округу о тех, кто был подвергнут телесным наказаниям, — на этот счет индийцы никогда не любили распространяться. Ущерб, причиненный городам и отдаленным деревням округа, был огромный, и прошло несколько недель, прежде чем был полностью восстановлен порядок, вернее — то, что гражданские власти согласились бы назвать порядком, а именно: бесперебойная система связи, возможность беспрепятственно переезжать из одного пункта в другой по шоссе и по железной дороге, а также полный полицейский контроль над местными общинами, подведомственными чиновникам, назначенным в согласии с законом. Как сказал Уайт, в конечном счете больше всего от этих перебоев в мирной жизни пострадало само местное население. Уверяют, например, что, если бы не восстание, голод 1943 года в Бенгалии удалось бы если не предотвратить, то значительно облегчить. Было бессмысленно уничтожено множество лавок, складов и зернохранилищ.
Я, пожалуй, непомерно растянул описание того, что на фоне всей моей жизни явилось эпизодом и недолгим, и не таким уж значительным с военной точки зрения. Если он так крепко запечатлелся в моей памяти, то это, вероятно, объясняется тем, что произошел он в пору, когда я со дня на день ждал личной утраты, о которой до сих пор не могу говорить спокойно. Были минуты — пока я занимался этими повседневными обязанностями, — когда мне казалось, что моя жизнь, как ни проста она была, поступила немилосердно, уже отпустив мне все причитающиеся на мою долю награды, и, при виде того, какой мощный вал на нас накатывался, я невольно спрашивал себя: в чем наша вина? В чем я лично дал маху?
18 августа, на следующий день после того, как я смог доложить Уайту, что Дибрапур наконец возвращен под его власть и что, на взгляд моих офицеров, раскиданных теперь по многим уголкам округа, худшая стадия восстания позади, я получил от Тедди Картера телеграмму с приказом немедленно явиться в Равалпинди. Телеграмма задержалась в пути из-за беспорядков, хотя и была отправлена как воинская. Я, конечно, знал, что под «приказом» надо понимать просто приглашение приехать. Я тотчас связался по телефону с командиром дивизии, и мне было разрешено уехать хоть сейчас, любым транспортом. Уже наступил вечер Бригаду я оставил в надежных руках Юарта Маккэя и командира панкотцев и всю ночь ехал до Калькутты в своей штабной машине, не положившись на железную дорогу и, признаюсь, имея в кобуре заряженный револьвер. Со мной, кроме шофера, находился мой ординарец. Ординарец мой был индус, а шофер — мусульманин. Я подумал о том, какой это урок для любителей поболтать о «разногласиях», что вот в одной машине, как лучшие друзья, едут представители трех главных в Индии сил: индус, мусульманин и христианин. Но сама дорога показалась мне бесконечной. В полной темноте, еще скованный напряжением последних дней, я отдался мыслям о необъятности и неповторимой красоте Индии.
Даже сейчас эта ночь вспоминается мне как сон или сказка. До Калькутты мы добрались только утром 19-го, и притом не очень рано, хотя, мой шофер, чувствуя, что меня гнетет какая-то личная забота, гнал как на пожар. Он тоже был вооружен и, думаю, дорого бы продал свою и мою жизнь, если бы мы подверглись нападению. В Калькутте я сразу отправился к моему старому другу подполковнику авиации Джарвису (Тедди предупредил его, и он ждал меня еще накануне утром). Самолет, на котором он забронировал для меня место, отправлялся из Дамдама около полуночи. По счастью, он летел прямо на Чаклалу с одной короткой посадкой в Дели. Рано утром 20-го Тедди встретил меня в Чаклале. Он привез меня к себе домой, а потом в место упокоения, куда она прибыла только накануне, так что на похороны я опоздал, и это явилось облегчением в моем горе, на какое я не смел и надеяться.
В Майапур я вернулся на второй неделе сентября, а еще недели через две получил приказ принять командование бригадой, уже выведенной в поле к востоку от Брахмапутры в предвидении схваток с настоящим противником. Об этой бригаде и о нашей подготовке к операциям против японцев я расскажу в другой главе. Но за этим спасительным переводом на более насущную и ответственную работу я угадал старания моего верного друга из Равалпинди, знавшего, что для меня теперь приемлема только одна дорога.
II. Власти гражданские
Роберт Уайт, КОИИ[21] (ранее ИГС)[22]
Отредактированные письма и запись устных высказываний
1. Я с интересом прочел присланные Вами выдержки из неизданных воспоминаний покойного бригадира Рида, трактующие о его отношениях с гражданской властью в Майапуре в 1942 году. В отличие от Рида я не вел дневника, и я уже давно не думал о тех событиях, но уверен, что с военной точки зрения все описано так, как было. С гражданской точки зрения, если стремиться воспроизвести всю картину в более широком и объективном плане, можно, конечно, отметить у него кое-какие неточности или, вернее, пробелы и кое-где предложить иное истолкование.
Однако сам я после столь долгого времени едва ли могу добавить много нового. В Индии я не был с 1948 года и давно растерял и старых друзей, и старые воспоминания. Могу подтвердить, что Роналду Меррику действительно удалось уволиться из индийской полиции, но сам я не имел к этому никакого касательства и понятия не имел, на каком официальном основании начальство согласилось его отпустить. В армии он, кажется, служил в индийском полку и в 1944-м или 1945-м был ранен в Бирме Сколько помнится, он был убит в 1947 году во время кровопролитий, вызванных разделом.
Мне интересно было узнать, что Вы недавно побывали в Майапуре и что Лили Чаттерджи по-прежнему живет в доме Макгрегора — я и название это успел забыть, но самый дом помню хорошо. И очень рад был узнать, что Шринивасан жив и помнит о нашем знакомстве. Его я не видел с того утра, когда был вынужден распорядиться о взятии его под стражу вместе с другими членами местного подкомитета партии Конгресс. Я почти ничего не знал о «Святилище», которым ведала сестра Людмила, и о нем тоже успел забыть, но рад слышать, что там под вывеской «Мемориальный приют для индийских детей имени Мэннерс» увековечена фамилия семьи, когда-то пользовавшейся в той провинции доброй славой. Вы не упомянули о том, как этот приют был основан. Надо полагать, на деньги, завещанные либо мисс Мэннерс, либо ее теткой леди Мэннерс? И кстати, известно ли, что сталось с ребенком, если он вообще выжил?
Возвращаю рукопись бригадира Рида с большой благодарностью. Некоторые места в ней меня растрогали. Ни моя жена, ни я ничего не знали о болезни миссис Рид, пока не прочли в газете объявление о ее смерти, через несколько дней после того как его отозвали обратно в Равалпинди. Что его сын попал в плен, мы, конечно, знали. Я всегда об этом помнил, когда приходилось иметь с ним дело. Грустно думать, что сын тоже погиб. Рид частенько вызывал во мне досаду (чувство, очевидно, взаимное), а бывало, что и уважение, но, в общем, он по-человечески всегда был мне далек. У нас осталось впечатление, что перевод его на должность командира действующей бригады был продиктован желанием убрать из Майапура человека, чья репутация после подавления восстания вызвала слишком много противоречивых толков. Отрадно было узнать, что сам он этого не почувствовал. Поскольку Вы не прислали мне дальнейших глав его книги, я не знаю, как он отнесся к тому, что в конце концов снова оказался на канцелярской работе. Кажется, он так и не достиг своей цели — не «столкнулся лицом к лицу с настоящим противником». Какое-то время я, естественно, следил за его карьерой с некоторым интересом. Но, повторяю, все это было давно, а несколько лет спустя я и сам распростился с Индией.
Жалею, что больше ничем не могу быть Вам полезен.
* * *
2. Я получил письмо от Лили Чаттерджи, которая, очевидно, узнала мой адрес от Вас. Она пишет, что в конце Вашего пребывания в Майапуре в прошлом году дала Вам, вместе с двумя письмами, дневник, который мисс Мэннерс вела, когда жила в Кашмире у тетки перед рождением своего ребенка. Лили Чаттерджи пишет, что сначала утаила от Вас существование этого дневника и вообще не показала бы его Вам, если б не убедилась, что к так называемой истории в Бибигхарском саду Вы проявляете подлинный, серьезный интерес. Дневник она, как я понимаю, получила от леди Мэннерс через несколько лет после описанных в нем событий, когда леди Мэннерс, уже зная, что и сама скоро умрет, почувствовала, что из всех, кого она знает, может доверить его только Лили Чаттерджи. Лили утверждает, что из дневника с очевидностью явствует все, что тогда произошло.
Как я понимаю, Вы заинтересовались этим делом, когда прочли неизданную книгу бригадира Рида, которая попала Вам в руки, потому что многим известно, что Вы интересуетесь тем периодом британско-индийских отношений. Лили пишет, что Вы не поленились разыскать людей, способных либо по личным впечатлениям, либо на основании сведений из достоверных источников рассказать о тогдашних событиях в Майапуре. Так, например, пытаясь «восстановить» историю мисс Крейн, инспектора миссионерских школ, Вы даже побывали в Калькутте и своими глазами видели в миссии ее невостребованное имущество. Я встречал мисс Крейн несколько раз, а моя жена хорошо ее знала по совместной работе в разных комитетах. Мисс Мэннерс я тоже видел не раз, а вот об этом Кумаре не знал, к сожалению, почти ничего. Видел его только мельком, раз или два. Джек Поулсон мог бы рассказать о нем больше, потому что после арестов я поручил Поулсону провести все необходимые опросы. К сожалению, помочь найти Поулсона я тоже не могу. Он, кажется, эмигрировал в Новую Зеландию, и я уже много лет о нем не слышал. Но вот Лили пишет мне, что Вы разыскали одного друга этого Кумара в Англии, некоего Линдзи — не тот ли это Линдзи из разведчасти бригады, который, по свидетельству Рида, просил, чтобы его перевели куда-нибудь из Майапура? Мне помнится, что Кумара сначала отправили в тюрьму в столицу провинции, но, если, как Вы пишете, его тетка уже много лет как уехала из Майапура и с тех пор о нем не слыхали ни его старик дядя, ни Шринивасан, похоже, что он, отбыв срок, начал совсем новую жизнь где-нибудь в Индии, а может, и в Пакистане.
После всего, что мне сообщила Лили Чаттерджи, я не возражаю против того, чтобы встретиться с Вами лично (предварительно условившись, что памяти моей нельзя доверять на все 100 процентов).
* * *
3. Благодарю Вас за предоставленную мне возможность еще до нашей встречи прочесть короткий отрывок из дневника Дафны Мэннерс, в котором она описывает то, что произошло в Бибигхаре, а также письмо, в котором она сообщила тетке о «предложении» Меррика. И благодарю, что позволили ознакомиться с рассказом этого Видьясагара. Его я не знал, и имя его после стольких лет ничего мне не говорит. Лаксминарайана и его газету я помню. Я с интересом узнал, что Лаксминарайан и сейчас еще живет в Майапуре, и очень рад, что он до Вашего отъезда из Индии свел Вас с Видьясагаром. Мисс Мэннерс, несомненно, говорит правду (то есть написала правду в своем дневнике), и, если рассказ Видьясагара тоже соответствует истине — а сомневаться в этом не приходится: зачем бы ему было лгать, после стольких-то лет? — тогда я могу сказать одно — какой ужас! От собственной ответственности так легко не отмахнешься. Может быть, мне следует, чтобы уравновесить картину, объяснить, почему я считал Меррика усердным и достаточно ответственным за свои поступки работником. А впрочем, из Ваших слов явствует, что на основании различных документов (мемуары Рида, дневник и письма мисс Мэннерс и воспоминания сестры Людмилы, не говоря уже о рассказе Видьясагара) Вы уже составили себе мнение о главных действующих лицах этой истории, и в первую очередь о Меррике, так что мою помощь в Ваших расследованиях лучше ограничить более общими соображениями. Чтение этих документов (которые при сем возвращаю), безусловно, оказало то действие, на которое Вы рассчитывали. Я ловлю себя на том, что вспоминаю подробности, о которых не думал годами, так что все-таки не исключено, что я смогу быть Вам полезен.
* * *
4. Запись беседы.
Опасная зона возможных ошибок между данной политикой и ее осуществлением? Да, Шринивасан вполне мог это сказать. И вот эту-то опасную зону вы хотите нанести на карту?.. Не только это? Понятно. Очень хорошо, остановимся на моих отношениях с Ридом. Но вы задавайте вопросы.
Ну да, я отметил в рассказе Рида кое-какие неточности, но в конечном счете меня поразило другое: независимо от той примитивной солдатской позиции, которая при чтении возмутила меня так же, как в свое время в наших с ним разговорах, он умудрился придать всему случившемуся видимость какой-то логичности, и я все отчетливее вспоминал свое тогдашнее ощущение, что сам я неспособен проследить за цепью событий, которые привели к ситуации как будто и логичной, а на самом деле абсурдной.
Каждый раз как Рид входил в мой кабинет с этаким выражением на лице, будто только о том и мечтает, как бы все разъяснить и уладить, у меня появлялось такое чувство, точно я поймал на крючок рыбу, но еще не знаю, пескарь это или кит, и одного появления Рида или даже звонка от него или от одного из офицеров его штаба было достаточно, чтобы я почувствовал, что меня толкнули под локоть и сейчас объяснят, причем неправильно, в чем я ошибаюсь. У него была поразительная способность пробуждать в человеке самые примитивные эмоции, почему один раз и случилось, что я вспылил и прямо-таки грубо попросил его оставить меня в покое. Об этом он в своей книге умолчал, но я допускаю, что тут пробел объясняется тем, что кожа у него была как у носорога и моя вспышка произвела на него не больше впечатления, чем укус комара… Да, судя по его книге, его нельзя назвать бесчувственным, но чувствителен он в общем-то был только к «высоким материям» и в крупном масштабе. А в повседневном общении с человеком был не прочь показать, что собственный вес расценивает как вес кувалды по отношению к булавке.
При первом же знакомстве с Ридом я решил, что мне понадобится немало терпения и сил, чтобы удерживать его от крайностей. Как часто бывает с людьми, только что оторвавшимися от канцелярской работы, он составил себе твердое представление о том, что любил называть своей ролью или своей задачей, притом четко очерченной и более важной, чем у кого бы то ни было, и я тогда же подумал, что, составив себе это представление, он решил выполнить свою задачу in toto[23], как бы неуместны ни ©казались некоторые ее элементы. Помню, я как-то сказал жене, что, если индийцы не устроят восстания, Риду придется его выдумать — просто для того, чтобы, подавив его, почувствовать, что он выполнил свой долг до конца. Она советовала мне обращаться с ним помягче, мы тогда уже знали, что его сын пропал без вести в Бирме. Я, кажется, не меньше его самого надеялся, что мальчик найдется, а уж известие, что тот попал в плен к японцам, принял едва ли не еще серьезнее, чем он.
Можно, конечно, сказать, что мои отношения с Ридом — типичный пример конфликта между военной и гражданской властью, так что я не менее его повинен в обобщенно шаблонном поведении…
Нет, конечно, спасибо, что поправили меня. Я вовсе не хотел сказать, что гражданские власти всегда были более прогрессивны, а военные более реакционны. Выходит, я сам себе подстроил ловушку. Попробую выразиться точнее. Драма, которую разыгрывали мы с Ридом, — это конфликт между теми англичанами, которые сочувствовали индийцам, восхищались ими и считали их способными к самоуправлению, и теми, которые их не любили, или боялись, или презирали, или, того хуже, были равнодушны, не видели в них живых людей, считали, что они только мешают англичанам жить и работать в этой стране и приемлемы разве что как слуги, или солдаты, или деталь пейзажа. Как правило, гражданские чиновники были куда лучше осведомлены об индийских делах, чем их военные коллеги. В последние годы нашего правления уже трудно было бы найти на гражданских постах человека с такими наивными политическими взглядами, как у Рида…
Указать самое слабое место в его анализе политической ситуации в Индии с начала 30-х годов? Нет, потому что «анализ» — не то слово. У него была определенная позиция, только и всего. У каждого из нас была своя позиция, но его-то казалась мне уж очень ребяческой. Одни эмоции, и никакого анализа. Но меня всегда учили, что политика — это люди, а очень многие англичане думали и чувствовали так же, как Рид, поэтому, даже когда он особенно меня бесил своими разглагольствованиями о том, что англичане и индийцы должны забыть о своих разногласиях, чтобы «расколошматить япошек», я признавал силу его позиции. Как-никак японцы со дня на день могли вторгнуться в Индию, и, хотя Рид, говоря о том, что англичане и индийцы должны забыть о разногласиях, имел в виду, что забыть должны индийцы, отказавшись от своих политических требований, англичане же сохранят status quo и ни о чем не забудут, общая картина представлялась примерно в таком виде: что будет, если жители дома, вечно ссорящиеся между собой, выглянув в окна, заметят, что к двери подбираются громилы или шайка хулиганов готовится поджечь дом? Хозяин тут же почувствует, что обязан взять на себя руководящую роль, и уже не потерпит никаких внутренних разногласий.
Но как ни очевидна эта ситуация сама по себе — прекратить свары и образовать единый фронт для отпора японским разбойникам, — самая очевидность ее зависит от того, какие именно свары происходили в доме, разве не так? Я не большой любитель аналогий, но эту стоит немного продолжить. Вообразите, что население в доме разношерстное, и в последнюю очередь право голоса имеют те, кому дом принадлежал первоначально. Нынешний самозваный хозяин уже много лет твердит, что когда-нибудь, когда он убедится, что они выучились чинить крышу, укреплять фундамент и держать комнаты в порядке, он съедет и вернет им дом, потому что в этом и состоит дело его жизни: учить других, как жить и пользоваться своей собственностью. Он твердил это так долго, что сам в это поверил, но его метод был такой смесью из слов поощрения и мер подавления, что «домочадцы» пришли к выводу, что он их морочит и что понимает он только тот язык, на котором сам говорит, то есть сочетание нажима физического и морального. И он так долго твердил, что уйдет (а сам не двигался с места), что жители нижнего этажа — те, что надеются унаследовать дом или, вернее, снова получить его в собственность, — успели разбиться на фракции. Может, в его намерения и не входило создать такие фракции, но их существование оказалось ему очень на руку. Отказывай людям в их просьбе достаточно долго, и они, естественно, начнут спорить о том, чего именно они просят. Поэтому он с превеликим удовольствием дает интервью всяким депутациям от этих фракций и использует доводы фракций меньшинства в качестве моральных рычагов, чтобы ослабить требования фракции большинства. Он завел привычку сажать под замок слишком горластых членов всех фракций без разбора, обитающих на нижнем этаже, и не выпускать, пока они не объявят голодовку, как обычно поступал Ганди.
В Индии мы были ради того, что могли от нее иметь. С этим теперь никто не спорит, но в истории британско-индийских отношений есть, мне думается, два важных аспекта, которые мы предпочитаем забывать или игнорировать. Во-первых, то, что в самом начале мы были в силах эксплуатировать Индию, потому что первая наша конфронтация — любимое словечко Рида — была между дряхлой, усталой цивилизацией, уже сходившей на нет при Моголах, и совсем новой, энергичной цивилизацией, неуклонно набиравшей силу начиная с Тюдоров. Англичане склонны думать об Индии как о викторианском приобретении, а на самом деле приобретение было еще елизаветинское. И достаточно вспомнить разницу между елизаветинцами и викторианцами, чтобы представить себе, как изменилось наше отношение к этой добыче, а значит, вспомнить и тот второй аспект, который мы забываем или игнорируем, — путаницу вокруг нравственной стороны вопроса. Нравственный фактор рано или поздно обязательно возникает и постепенно выходит на первое место во всяких затянувшихся отношениях между людьми, особенно если статус их неодинаков. Груз морального руководства, естественно, ложится на нацию, которая считается высшей, но если эта нация, сверх меры наделенная властью, может объяснить, что власть ее от бога, и толковать о морали и высокой задаче — избавить от бедности и невежества ту самую нацию, над которой она властвует, — то и эта другая нация, та, что слишком долго подвергалась, как теперь принято говорить, дискриминации, может ссылаться на своего бога. Примерно в то же время, когда англичане развивали свои теории насчет «бремени белого человека», чтобы легче было нести ответственность, индусы и мусульмане попристальнее вгляделись в свои религии — не для того, чтобы объяснить свое порабощение, а чтобы с ним покончить. Вы же знаете, сколько всякого вздора наговорили об общинной проблеме в Индии, словно мы веками тщетно ждали, чтобы под нашим влиянием индусы и мусульмане уладили свои распри, но ведь общинная проблема и проблемой-то стала только в XIX веке, когда у индусов и мусульман, как и у нас, нашлись реформаторы и воскрешатели прошлого и взялись за дело с целью выяснить, какое утешение, поддержку и указания на будущее можно почерпнуть из этих древних учений. Я думаю, что раскол между мусульманской и индусской Индией вызвали англичане, пусть даже несознательно и неумышленно. Уже сравнительно недавно в Кении мы вопили о варварстве племени гикуйю с их террором мау-мау, но что вы хотите? Нельзя без конца бить человека по голове, когда-нибудь он обратится за помощью к народной памяти и племенным богам. Индусы обратились к своим богам, мусульмане к своим. Ганди вовсе не по социальным мотивам отождествлял себя с париями индуизма. В древних формах индуизма неприкасаемость вообще не была известна, и вполне естественно, что в этой попытке порабощенного народа вернуться к истокам своего религиозного чувства именно неприкасаемость была выбрана в качестве жертвы этого движения, и одним из главных догматов неприкасаемости стало возрожденное «ненасилие». У мусульман экскурс в свое религиозное прошлое был более опасным делом, потому что Магомет проповедовал священную войну против неверных. Мне кажется, для англичан мысль об этой опасности имела какую-то притягательную силу. Мне всегда казалось любопытным, что англичане в большинстве охотнее и легче общались с мусульманами, чем с индусами, но ведь в глубине души мы всегда немножко стеснялись «слабости» христианства. В индуизме мы угадывали такую же слабость, зато в религии Аллаха нам виделся некий восточный вариант более полнокровного христианства.
В те дни я не знал, что и думать о Ганди. В общем-то я не доверяю великим людям. Полагаю, что это и не нужно. Ганди я безусловно не доверял, но не так, как, скажем, Рид, по-другому. Я просто отказывался понять, как такой человек, пользуясь таким авторитетом и влиянием, может остаться самим собой и всегда принимать правильные решения исходя из правильных мотивов. И вместе с тем, даже когда его намерения казались мне сомнительными, я чувствовал, что он взывает к моей совести.
О Ганди ходит одна легенда, которую я тогда не слышал. Но с тех пор она меня очень занимает. Может быть, и вы ее слышали?..
Ну да, эта самая. Как вам кажется, знаменательно это? Я в ней вижу ключ к пониманию этого человека. Вы подумайте, собственная община изгоняет его из своих рядов только за то, что он в молодости выразил намерение поехать в Англию изучать право! А это вы тоже знали что главари его общины якобы заранее объявили: всякий, кто вздумает его провожать или пожелает ему счастливого пути, будет оштрафован! Кажется, по рупии с носа. Теперь вспомните, сколько времени он прожил за границей с первого своего отъезда до возвращения — без малого четверть века. Интересно, какой показалась ему Индия после стольких лет в Англии и еще стольких лет в Южной Африке. Не сжалось у него сердце, как вы думаете? Хоть он и вернулся героем после того, что сделал в Южной Африке для индийцев, впервые возглавив там сатьяграху. Ведь климат Индии только бригадир Рид мог назвать целительным. Может быть, Ганди чуть глянул на нее, так сразу подумал: боже правый, это сюда меня так тянуло вернуться? Я упоминаю об этом потому, что мы с вами подошли к важному вопросу о роли сомнения в общественной жизни.
Мне кажется знаменательным и то, что он вернулся в Индию в то время, когда дружественное сотрудничество англичан и индийцев в последний раз достигло сравнительно высокого уровня — в начале первой мировой войны. Сколько помнится, он отплыл из Южной Африки в Англию летом 1914 года и прибыл туда, как раз когда мы объявили войну Германии. Индийским студентам в Лондоне он объяснял, что нельзя рассматривать трудное положение Англии как благоприятную возможность для Индии — мысль вполне здравая, которую двадцать пять лет спустя позаимствовал у него Неру, — и потом, уже в Индии, ратовал за вступление молодых индийцев в армию. В ту войну Индия действительно старалась помогать нам, а не мешать. Индийцы чуяли в воздухе запах свободы и самоуправления, которого они могли добиться, сражаясь против врагов Англии. Ведь мы — если не ошибаюсь, в 1917 году — официально заявили, что наша цель — предоставить Индии статус доминиона. Ганди, помнится, вернулся в Индию в начале 1915 года и даже скрестил шпаги, как выразился бы Рид, с такими людьми, как Анни Безант. Но уже тогда он проявил себя как-то двусмысленно. В первой же своей речи сказал, что ему стыдно — он вынужден обращаться по-английски к аудитории, состоящей чуть ли не из одних индийцев, потому что иначе его не поймут. Большинство индийских лидеров гордилось своим знанием английского. Он раскритиковал какого-то туземного князя, говорившего незадолго до того о нищете Индии, и язвительно сослался на окружающее их великолепие — собрание было посвящено основанию нового университета… В Бенаресе? Да-да, Индийского университета в Бенаресе. Потом сказал, что предстоит еще много поработать, прежде чем думать о самоуправлении. Это была пощечина самодовольству политиканов. И тут же указал на присутствующих в толпе правительственных сыщиков и задал вопрос, почему к индийцам относятся с таким недоверием. Это был щелчок по адресу англичан. Он упомянул о молодых индийцах-анархистах, сказал, что сам он тоже анархист, но не верит в насилие, хотя и понимает, что без насилия анархистам не удалось бы добиться отмены решения о разделе Бенгалии. В общем, мешанина несусветная. Миссис Безант пыталась его перебить, но студенческая аудитория требовала продолжения. Председатель собрания просил его выразиться яснее, и тогда он сказал, что хочет покончить с ужасными подозрениями, которые в Индии подстерегают человека на каждом шагу. Он-де хочет любви, доверия и возможности высказать, что у него на сердце, не опасаясь последствий. Большинство сидевших на эстраде вышли — наверно, почувствовали себя скомпрометированными, или оскорбленными, или просто сконфузились, — тогда он умолк, а потом выступали англичане. Полиция приказала ему покинуть город.
Получилось, наверно, так, как было бы на политическом митинге здесь, в Англии, или в интервью по телевидению, если бы всем известный человек вдруг встал с места или повернулся бы лицом к телекамере и сказал в точности то, что думает, не заботясь о том, сколько в его словах кажущихся противоречий и, уж конечно, не оберегая свою репутацию в подлинно творческой попытке прорваться сквозь ощущение запланированности эмоций и реакций, непременно сопутствующее всякому официальному собранию. В Индии это ощущение запланированности всегда было особенно сильным, потому что в нормальном состоянии индийцы — самые вежливые люди в мире. Оттого-то, вероятно, в критические моменты они оказываются самыми истеричными и кровожадными. Думаю, что привычка изъясняться на чужом языке еще усилила их природную вежливость. Я часто думал, насколько же успешнее мы справлялись бы со своей работой, если бы всем нашим гражданским служащим вменялось в обязанность свободно владеть как хинди, так и языком, преобладающим в той или иной провинции, и только на этом языке вести все, сверху донизу, дела по управлению страной. Ганди, конечно, был прав — ему было чего стыдиться, когда он говорил со студентами на иностранном языке. А вынуждало его к этому не только то, что вся эта молодежь и не попала бы в университет, если бы сначала не выучилась говорить и читать по-английски, но и то, что это, вероятно, был единственный язык, общий для всех, кто там оказался. Для интеграции общин мы, в сущности, не сделали ничего, разве что связали их железными дорогами, чтобы быстрее перекачивать их богатства себе в карман.
Мне, понимаете, всегда казалось, что Ганди — единственный в мире общественный деятель, наделенный высокоразвитым инстинктом и способностью думать вслух, и никакие иные инстинкты и способности не могли, как правило, их заглушить. Это в конце концов и привело к тому, что его перестали понимать. Во всяком общественном деятеле привыкли видеть, как теперь говорят, некий образ, и в идеале этот образ должен быть неизменным. Про Ганди этого не скажешь. Только за годы 1939–1942 он менялся столько раз, что история заклеймила его как политического путаника — то ли приспособленец, то ли блаженный зануда. А по-моему, он только старался вынести на свет свои сомнения относительно идей и позиций, которые всем нам знакомы, но мы предпочитаем о них умалчивать.
И не кажется ли вам, что это можно отчасти объяснить тем тяжелым чувством, которое он испытал давно, еще в девятнадцатом веке, когда увидел, что может покинуть свою родину только как отверженный ею? Не кажется ли вам, что элемент сомнения уже тогда заявил о себе не менее громко, чем по возвращении? Он наверняка себя спрашивал: «Правильно ли я поступаю?» Не забудьте, ему всего-то было тогда девятнадцать лет. Когда он захотел поехать в Англию изучать право, его кастовое общество публично от него отреклось. А каста в те дни должна была иметь для него подлинно религиозное значение. Отъезд же в Англию имел значение лишь в плане его честолюбивых мирских устремлений. Честолюбие в той или иной степени свойственно всем, но мало кто, подобно Ганди, бывал вынужден так серьезно усомниться в том, что оно имеет и хорошую сторону. К концу мне уже казалось, что он в своей общественной деятельности все время печется о спасении души. И конечно, когда человек сомневается в себе, в своих поступках, в своих мыслях, это оказывает сильное, хоть и скрытое от глаз, влияние на события дня. Он правильно делал, что предавал свои сомнения гласности. Он никогда не боялся прямо заявить, что изменил свою точку зрения, или был не прав, или что обдумывает какую-то проблему, а мнение свое выскажет после того, как додумается до определенного ее разрешения.
Что бы случилось, если бы я во всеуслышание поведал о своих сомнениях насчет того, разумно ли было в августе 1942 года арестовать руководителей Национального конгресса. А кто его знает. Я не допускаю мысли, что во всем округе один я чувствовал, что это самое неразумное, что можно сделать, что один я писал на этот счет длинные секретные докладные своему начальству. Но выступить открыто, публично изложить все «за» и «против», связанные с полученной мною директивой, — на это у меня не хватило пороха.
Иногда я жалею, что 9 августа не отправился с мегафоном на площадь перед храмом за Мандиргейтским мостом и не обратился к толпе, которой мог бы сказать: «Дело такое, правительство велит мне арестовать Икса. Игрека и Зета, потому что Индийский национальный конгресс поддержал резолюцию Махатмы, призывающую нас убраться из Индии и бросить ее на произвол судьбы или анархии, а попросту говоря — японцев. Но если я упеку этих людей за решетку, кто вас возглавит? Будете вы рады от них избавиться? Или почувствуете себя брошенными? Конгресс толкует о ненасильственном сопротивлении, но что это значит? Как вы будете сопротивляться? Как откажетесь сотрудничать с нами, не защищаясь от нас, когда мы попытаемся заставить вас сотрудничать? А мы попытаемся вас заставить, потому что верим, что боремся за свою жизнь. А защищаясь, как вы обойдетесь без насилия? Если я сейчас швырну этот мегафон в голову вон тому молодому человеку, что вы сделаете? А если ничего не сделаете и я ударю его еще раз, что тогда? А если буду делать это еще и еще, пока все лицо у него не будет в крови? Пока он не умрет? Вы так и будете стоять столбом? Махатма как будто говорит, что да, а вы что скажете?»
Но я, конечно, не пошел на ту площадь с мегафоном. Сомнения сомнениями, а Икса, Игрека и Зета я отправил в тюрьму. И считаю, что это было ошибкой. Люди, которые приказали мне так поступить, тоже, вероятно, сомневались, прежде чем остановиться на такой тактике, но, после того как она была выбрана, нам ничего не оставалось, как только держаться ее.
Мне кажется, анархия в общественной жизни — это бездействие как результат сомнений в отличие от действий, вытекающих из принятого решения. И разумеется, между сомнениями, решениями, поступками и последствиями и пролегает та опасная зона возможных ошибок, о которой говорил Шринивасан. Что ж, особенного открытия тут нет. Мы все это знаем. Но у Ганди хватило мужества у всех на виду передвигаться по этой опасной зоне, так? Вы к этому ведете? Задним числом мы все умные, а вот в то время никто не удосужился так истолковать его поведение. Если он слишком заметно отступал от приемлемого курса, его сажали под замок, но выпускали, когда казалось, что с политической точки зрения важнее позволить ему открыто проявлять свои таланты.
В чем у меня нет ни малейшего сомнения, так это в том, что мы обрекли его на роль противника нашей политики, применив к нему репрессии согласно закону Роулетта сразу после мировой войны, когда и он, и все индийцы имели полное основание ожидать заметного сдвига в сторону самоуправления в награду за столь чувствительную поддержку в войне против Германии. С ума мы тогда сошли? Или просто сглупили? Или это было вероломство? Или страх? Или просто победа ударила в голову и кожа стала толстая и жалко было выпустить что-то из рук? Какого черта было в 1917 году заявлять, что наша цель — предоставить Индии статус доминиона, а через какой-нибудь год вводить закрытый суд за политические преступления и предоставлять властям провинций право держать людей в тюрьме без суда по закону об обороне Индии якобы в порядке борьбы с так называемой анархией, а на самом деле чтобы сделать всякое выражение собственного мнения юридически наказуемым? Ничего себе «статус доминиона», а?
К чему это привело, вы помните, а потом был генерал Дайер в Амритсаре, и опять волна недоверия, страха, подозрения, и тут появляется Ганди в ореоле Махатмы, единственный, кто мог дать ответ, но теперь уже не британский ответ, а индийский. Простите. Меня до сих пор в жар бросает, как вспомню 1919 год. И до сих пор становится нестерпимо стыдно.
…Нет, для этого я был слишком молод. Я попал в Индию, на гражданскую службу, в 1921-м. Своих мыслей в голове, можно сказать, не было. Я вызубрил, что полагалось, сдал экзамены, прочел легенды и мифы. И мечтал, как буду, сидя под деревом, покуривать трубку и воображать себя многообещающим администратором, который сумеет рассудить и старых и молодых, и сам стану легендой, и меня запомнят и еще через пятьдесят лет после моей смерти будут вспоминать как белого сахиба, который принес деревням мир и благоденствие.
Но я, конечно, сразу столкнулся с действительностью. Не годился я на роль благородного опекуна и наставника. Мои начальники по службе были последними из этого племени. Своего начальника округа я невзлюбил. Наверно, зря. Но я возненавидел Индию, ту, реальную Индию, которая скрывалась за мифом о добром сахибе с трубкой. Я ненавидел одиночество, грязь и вонь и маску превосходства, которую приходилось носить изо дня в день как некую защитную паранджу. Ненавидел индийцев, потому что они были непосредственным объектом для ненависти и не могли дать сдачи, разве что косвенно, скрытно, а за это я ненавидел их еще больше.
А потом, как сейчас помню, я однажды объезжал округ с чиновником по землеустройству, мы с ним ездили из деревни в деревню. Верхом, по старинке. Я был уже сыт по горло деревенскими счетоводами, которые пресмыкались перед нами, и тахсильдарами, которые одновременно и пресмыкались и задирали нос, и не нравилось мне, что мой чиновник ведет себя и, видимо, чувствует себя как бог, который вышел прогуляться, — правой рукой дает, а левой отнимает. Потом что-то не заладилось с организацией ночевки. Мы застряли в какой-то богом забытой деревне и были вынуждены провести ночь в земляной хижине. Я чуть не плакал от досады и чувства собственной беспомощности. Мой чиновник пил пальмовую водку с деревенскими старейшинами и продолжал разыгрывать Христа среди апостолов, и я был в хижине один. Кишечник мой бунтовал, о еде и подумать было страшно, а о водке тем более. Я лежал на койке без москитной сетки и вдруг увидел, что в дверях стоит немолодая индианка и смотрит на меня. Поймав мой взгляд, она сделала «намасте», потом исчезла и тут же вернулась, и в руках у нее была миска с творогом и ложка.
Я тут же напустил на себя важный вид и махнул ей рукой, чтобы уходила, но она подошла к моей койке, взяла на ложку творога и поднесла мне ко рту, точно я был ее племянник или сын, которого надо подкормить. Она молчала, а я боялся даже посмотреть на нее, видел только ее черные руки и белый творог. Меня стало клонить в сон, а когда проснулся, мне было лучше, и я подумал, уж не приснилось ли мне это, но увидел у изголовья миску с остатками творога, накрытую тряпицей, на медном подносе, а рядом с миской — цветок. Было утро, на второй койке храпел чиновник. Я почувствовал, что снова стал человеком благодаря безликой немолодой индианке. Почувствовал, что и творог и цветок были не данью, а знаком любви, такой большой, что в ней вместился и мягкий материнский укор, напоминание, что все мои хвори пройдут, если я перестану воображать, что окружен врагами. Помню, я стоял в дверях, дышал полной грудью и сквозь вонь угадывал благоухание. Они уже приготовили мне для ванны медные кувшины с горячей водой. А до ванны меня посадили на старый деревянный стул и «наи» — цирюльник — побрил меня без мыла, были только его пальцы, да теплая вода, да страх. Он водил бритвой по всему моему лицу, даже по лбу, даже по векам. Я сидел не дыша, ждал, что вот-вот он меня порежет, попадет бритвой в глаз. Но он сделал свое дело осторожно и ловко, словно совершил некий утренний обряд, и я почувствовал, что лицо у меня стало как новое, и пошел в загончик для омовений, где и облился горячей водой из приготовленных там медных кувшинов. Брук хорошо это выразил. «Блаженный дар, горячая вода». Позже я вглядывался в группу женщин, но так и не угадал, которая из них приходила ночью в хижину и кормила меня, как родного сына. На луке моего седла тоже оказался цветок. Это меня смутило. Но и обрадовало. Я посмотрел на своего чиновника. У него цветка не было, и моего он не заметил. Отъезжая, я оглянулся и помахал рукой. Они не ответили, но я чувствовал, что от них исходят добрые напутствия, призыв не грешить против них и против самого себя. Этого я не забыл. А ту миску и ложку, из которой я ел, им, вероятно, пришлось выбросить.
…Нет. В общем-то, действительно, было принято все годы службы проводить в одной провинции, но та деревня была в другом округе, не там, где я впоследствии стал окружным комиссаром. А вы почему спросили? Подумали, что это где-нибудь около Дибрапура?
* * *
5. Благодарю за присылку отредактированной записи нашей беседы. Вы, я вижу, сняли множество повторений и несоответствий, но не смогли скрыть того, как упорно я уклонялся от главной темы. И правильно сделали, что закончили беседу, когда я наконец добрался до событий в Дибрапуре они, надо полагать, требуют более обстоятельного обсуждения.
Про Марию Тюдор и Кале[24], как Вы выразились, я не знаю, но Дибрапур помню хорошо. Там царила ужасающая бедность, как во всякой местности, постепенно теряющей источник своего благосостояния. В XIX веке Дибрапур был центром округа. Не помню точно, когда именно там начали добывать уголь, но со временем залежи его истощились, и богатство унаследовал уже соседний округ. Рабочую силу продолжали черпать из Дибрапура, но в убывающем количестве.
В любом разорившемся районе, в каком бы уголке земного шара он ни находился, чувства и настроения легко выливаются в крайние формы. В одном отношении Рид был прав — в Дибрапуре и правда действовала какая-то организованная сила, но трудно сказать, была ли тут заранее разработанная программа или же искусное использование представившейся возможности. В чем он безусловно ошибался, так это в том, что видел эту силу в подпольной работе Конгресса, и рассказ Видьясагара, на мой взгляд, служит тому подтверждением, а в чем я был прав, так это, думается, в моем убеждении, что Конгресс был способен контролировать любое национальное движение в Индии Большинство индийцев (не считая отчаянных молодых людей вроде Видьясагара) всегда уважали власть — иначе как могли бы мы, силами нескольких тысяч человек, править миллионами? Конгресс был в своем роде «теневым» правительством. Я убежден, что, если бы мы не объявили вне закона комитеты Конгресса и не заключили в тюрьму его лидеров в центре и в большей части провинций, никакого восстания бы не произошло Ганди, как Вы знаете, на этот раз не ждал ареста. С политической точки зрения его лозунг «Вон из Индии!» был не более как пробным шаром. С нравственной точки зрения это был призыв, подобный воплю во тьме. Но даже если бы в таких местах, как Дибрапур, какие-то беспорядки вспыхнули, я убежден и в том, что мог бы прекратить их, стоило мне попросить такого, скажем, человека, как Шринивасан, побывать там, поговорить с людьми и убедить их держаться методов ненасильственного сопротивления, таких, как забастовки, хартал. Я верю, что индийцы органически против насилия, поэтому-то, когда они ему поддаются, оно охватывает их как истерия. Тут уж индиец преступает все обычные границы, ведет себя как сумасшедший, потому что разрушает и собственную веру. А вот мы органически склонны к насилию и должны изо всех сил стараться держать себя в узде. Поэтому-то, вступая в войну, мы всегда испытываем облегчение и заявляем: «Теперь-то мы знаем, как нам быть» — или что-нибудь в этом духе. А еще, говоря об индийцах, во всяком случае об индусах, следует помнить, что их религия учит: человек как таковой есть иллюзия. Я не хочу сказать, что многие из них в это верят, так же как из христиан лишь немногие верят, что Христос был сыном божиим или что он давал практический совет, когда учил подставлять другую щеку. Но мне думается, что, точно так же как христианский идеал присутствует в нашем христианском сознании, когда мы избиваем друг друга до смерти и взрываем на воздух, так что мы знаем, что поступаем дурно, так индийцы, когда начинают избивать друг друга, чувствуют в глубине души, что избиение это не вполне реально. Думаю, что этим отчасти объясняется, почему безоружные толпы всегда готовы были выступить против наших войск и полиции. Они и сами были нереальны, и войска нереальны, и пули свистели, и люди умирали всего лишь в мире, который есть иллюзия. Этим, правда, не объяснишь, какой смысл имело вообще противостоять войскам в этом несуществующем мире.
Но для меня-то жители Дибрапурского района были, разумеется, вполне реальны. Это были неумелые земледельцы и нищие лавочники. То была не их вина. Расцвет угольных копей пришелся на предвоенные годы, но в результате этого расцвета часть земли оказалась необратимо оголенной, и появились невспаханные поля и разбитые семьи. В некоторых деревнях в той местности молодежи вообще не осталось. Все ушли на шахты, в соседний округ. Вы не хуже меня знаете, что произошло. Мы там прилагали особые усилия, чтобы поправить дело, — помню, я как-то рассказывал об этом мисс Крейн, потому что одна из ее школ находилась около Дибрапура, — но наталкивались на апатию, а то и на угрюмый отпор. Молодой индиец, которого я назначил туда начальником района, был человек на редкость умный и способный. Район ему достался самый трудный. Проблем у него было хоть отбавляй, но и здравого смысла хватало. А комиссаром сам себя провозгласил один из тамошних тахсильдаров, одновременно — тамошний помещик. Моему подчиненному и раньше бывало с ним нелегко. Рид в своем рассказе оставляет читателя в некотором сомнении относительно поведения этого индийца во время беспорядков. Я знаю, что в то время было много разговоров насчет того, что, когда все кончилось, он якобы каялся у меня в кабинете, плакал и молил о помиловании. Ничего подобного не было. Мы совершенно спокойно обсудили с ним положение, и я убедился, что он, если и не пожертвовал жизнью — а этого я не стал бы ожидать ни от одного нормального человека, — то совсем неплохо справился с грудной задачей, сумел в какой-то степени обуздать самозваного комиссара, хотя и сам оказался под арестом, потому что числился мировым судьей. И он безусловно сберег для казны крупную сумму денег. Думаю, что слух, будто он плакал, возник потому, что, когда я на прощание пожал ему руку, глаза его действительно наполнились слезами. И кто-то, очевидно, заметил это, когда он выходил из моего бунгало. Я не выказал к нему никакой особенной доброты, а только, надеюсь, поступил по справедливости, но индийцы в ответ на справедливость не стыдятся таких проявлений, каких устыдился бы англичанин.
Но не буду забегать вперед. Я знаю, что нашей разведывательной службе не удалось заранее взять на заметку людей, которые возглавили восстание в Дибрапуре и сумели на несколько дней отрезать этот город от внешнего мира. Видимо, в разговоре с Ридом я действительно назвал таких людей «иголками в стоге сена», но сам я этого не помню. Моральное состояние полиции в Дибрапурском районе было хуже, чем где бы то ни было, — это, пожалуй, неудивительно, ведь у нее и работа была потруднее. Кое-кто из полицейских просто удрал, кто-то перебежал к повстанцам. Как вы уже, вероятно, поняли, все происходило очень быстро, и нашей полиции, и всегда-то немногочисленной, явно не хватало, если учесть площадь района и количество населения. В ночь на 11 августа я дал согласие, чтобы Рид направил туда солдат в надежде, что их появление окажет отрезвляющее действие, как то обычно бывало. Рид преуменьшает попытки гражданской власти проникнуть в тот день в Дибрапур силами полиции и гражданских служащих и обходит молчанием препятствия на главной дороге. Взорванных мостов там не было, но были поваленные деревья, что не позволяло полностью использовать транспорт, и чем ближе полиция подходила к Дибрапуру, тем неохотнее крестьяне помогали ей расчищать дорогу. В тот вечер я получил из Танпура сообщение, что целый грузовик с полицейскими «исчез». Впоследствии оказалось, что их заперли в «котвали» в одной из деревень около Дибрапура. Все провода между Дибрапуром и Танпуром были, конечно, перерезаны.
Известие о взорванном мосте на обходной дороге у Рида было, конечно, серьезным, но меня оно и позабавило — он успел расписать использование этой обходной дороги как исключительно искусный тактический маневр, и вдруг — пожалуйста, ему грозит потеря трех грузовиков и радиоустановки! Зол он был как черт. Надеюсь все же, что не забавность ситуации обусловила мое решение. Я распорядился отвести войска на этой дороге, потому что чувствовал — раз у повстанцев хватило решимости и средств, чтобы взорвать мост (операция сама по себе довольно безобидная — разрушить тонну кирпича и цемента, только и всего!), то столкновение их с солдатами, и так уже раздраженными задержкой, могло вылиться в кровопролитие, а этого я как раз стремился избежать. Знаю, что решение мое можно оспаривать, но я его принял, и не жалею, и считаю, что был прав. Если бы не директива сверху о всемерном использовании войск, я, безусловно, дал бы Дибрапуру еще отсрочку. Этот офицер из разведки, Дэвидсон, совершенно правильно объяснил Риду, что по моей идее усмирение должно распространяться вширь от Майапура. Но у Рида руки чесались. Я этим не оправдываюсь, но допускаю, что это могло повлиять на любое из тех моих решений, в разумности которых я до сих пор сомневаюсь. Когда над душой у вас все время стоит такой Рид, поневоле теряешь способность сосредоточиться. Думаю, что, сколько бы он ни пилил меня, я все же устоял бы, если бы гражданские власти провинции тоже не стали на меня нажимать. Сейчас даже представить себе трудно, до какого накала дошло напряжение за несколько часов, когда одно за другим поступали сообщения о восстании, с которым не удается сладить. Так или иначе, на меня давил Рид, давило начальство из столицы провинции, давили и собственные сомнения. И я предоставил Риду действовать в Дибрапуре, как он найдет нужным. Он дал там миниатюрный бой, но не учинил расправы. В этом смысле я не жалуюсь и ни в чем его не виню. Но не думаю, что он очень уж старался сдерживать своих солдат, и до сих пор считаю, как считал и тогда, что убийства многих мужчин, женщин и детей в Дибрапуре можно было избежать, если бы дать городу «повариться в собственном соку», пока жители сами не успокоились бы (у них это всегда наступало быстро) и не перестроились бы на мирный лад.
Может быть, это несправедливо, что именно действия его отряда в Дибрапуре (о которых он не соизволил сколько-нибудь подробно рассказать в своей книге) и вызвали впоследствии по всему округу толки о том, что «на данном этапе усмирения» (на официальном языке это означало «Будем опять друзьями») он вел себя предосудительно. Мой начальник запросил у меня секретную докладную относительно Рида. Как вы знаете, жалобы на нас, и военных и гражданских, очень быстро доходили до высоких инстанций. Я написал, что, на мой взгляд, Рид ни разу не превысил своих полномочий и служил мне постоянной опорой в выполнении моих обязанностей. И добавил, что, если б нас предоставили самим себе и не приказали всемерно использовать все имеющиеся в нашем распоряжении средства, можно было бы обойтись меньшим количеством солдат и добиться тех же, если не лучших, результатов. Я не видел причин, зачем бы Риду отдуваться за людей, которые запаниковали, сидя в столице провинции. Едва ли это мое мнение пришлось кому-нибудь по душе в высоких сферах. Одно время я ждал, что меня тоже куда-нибудь перебросят, но весь огонь сосредоточился на Риде — если только его перевод и вправду не был вызван хлопотами его друзей, считавших, что после смерти жены ему будет легче играть более активную роль. Ведь это так легко — особенно когда ищешь козла отпущения в событии, в котором и сам участвовал, — выбрать какой-нибудь один эпизод в доказательство того, что козел отпущения найден, когда на самом деле власти всего лишь пожали плечами, а тут примешались чисто личные причины и обеспечили ожидаемый эффект преступления и наказания.
* * *
6. Благодарю Вас за ответ на мои письменные замечания по поводу записи нашей беседы. Мне и самому не нравится этот слишком назойливый мотив «Нет, хотели. Нет, не хотел», у Рида были свои мнения, у меня свей. Нельзя до бесконечности с пеной у рта отстаивать свои мнения и оспаривать чужие, но мне жаль, что оказались почти незатронутыми некоторые пункты, по которым я за последние дни делал заметки в ответ на те или иные утверждения в книге Рида. Хотелось бы, например, решительно опровергнуть инсинуацию Рида, будто судья Менен был настроен в пользу повстанцев. Если Менен и был настроен, так только в пользу закона, в который он, видит бог, особенно не верил, но которому присягнул служить. Неприятно мне и то, что может создаться впечатление, будто я либо действовал заодно с Мерриком в вопросе об обращении с подозреваемыми по бибигхарскому делу, либо закрывал на него глаза. Раз вы намерены обнародовать рассказ Видьясагара, надо бы дать и мне возможность кое-что сказать на этот счет. Видьясагар сам признает, что нарушил закон, так что особого значения это не имеет.
В своем рассказе он явно избегает называть своих сподвижников. Поэтому никто не может с уверенностью сказать, можно ли полагаться на его утверждение, что Гари Кумар не входил в число заговорщиков. Картина, которую мисс Мэннерс рисует в своем дневнике (вернее, в том коротком отрывке из него, который Вы мне показали), сама по себе не доказывает, что Кумар не был причастен к делам, которыми занимался Видьясагар, и, читая его рассказ, легко представить себе, что Видьясагар дал Меррику повод действительно не поверить ему во время допроса. Беспокоит меня мысль, что могут подумать, будто я в какой-либо момент, тогда или после, знал об обращении Меррика с лицами, заподозренными в изнасиловании. Меррик не скрыл от меня, что «нарушил кое-какие правила» в обращении с задержанными, чтобы припугнуть их и заставить говорить правду, например пригрозил им палками, а в одном случае даже приказал «подготовить парня к экзекуции» — так он, кажется, выразился. Он по собственному почину сообщил мне это наутро после арестов, и, когда позже Менен рассказал мне о слухах про то, что юношей били, я мог ему объяснить, как, по-моему, эти слухи возникли, и сказать, что я уже посоветовал Меррику «бросить эти шуточки». Более серьезным мне показался другой слух — что их силком кормили говядиной. Меррик обещал разузнать, в чем там дело, а позже сказал мне, что это враки, но что, возможно, произошла ошибка — говядина предназначалась констеблю-мусульманину, который дежурил в камерах. Рид совершенно правильно отметил, что подавление беспорядков отвлекло наше внимание от юношей, подозреваемых в изнасиловании, а потом найти конкретные доказательства их вины было уже невозможно. Менен, правда, еще пытался разобраться в слухах об избиении и о говядине. Я разрешил ему самому организовать опрос этих молодых людей. Он сказал мне, что юрист, которого он направил в тюрьму для этого опроса, доложил, что ни один из них, в том числе и Кумар, не пожаловался ни на побои, ни на говядину. И ни один ни словом не обмолвился об этом Джеку Поулсону — тот их тоже допрашивал, когда мы готовили против них политическое обвинение. Но до сих пор, после стольких лет, меня не покидает тягостное чувство, что я не до конца расследовал эти слухи. Что с ними обращались безобразно — в этом можно не сомневаться. Но судебной ошибки все-таки, по-моему, не было. Меррик, разумеется, был в ярости, ведь он считал их виновными в нападении на девушку, в которую сам был влюблен. Нам скоро стало ясно, что обвинение в изнасиловании отпадает, но свидетельств о их политической деятельности было вполне достаточно для того, чтобы мы сочли себя вправе подвести их под закон об обороне Индии. Дело было передано моему шефу и выше — губернатору. Подробности этих свидетельств я забыл, но они были вполне убедительны. Поэтому я и сейчас считаю, что те пятеро, которых арестовали первыми, были повинны в преступлениях, предусмотренных этим законом. Только Кумар так и остался для меня загадкой. Если с ним обошлись так ужасно, как передает Видьясагар, почему он умолчал об этом в разговоре с юристом, которого прислал Менен? Почему не пожаловался Джеку Поулсону во время официального допроса? Молчание остальных молодых людей можно понять, если правильно то, что Видьясагар говорит об угрозах начальника полиции. Но Кумар-то уже пострадал и, видимо, мог это доказать, и, конечно же, он был человек совсем иного уровня? Может быть, те страницы дневника мисс Мэннерс, которые вы мне не показали, могут пролить свет на эту тайну?
Видимо, Вы имели в виду молчание Кумара именно по этому поводу, когда писали мне: «Кумар к концу почувствовал, что потерял все, вплоть до своей английской сущности, и после этого мог ответить на любую, даже самую тяжелую ситуацию только молчанием, надеясь извлечь из этого хоть частицу утраченного самоуважения».
Из того, что Вы рассказали мне о Вашей «реконструкции» биографии Гари Кумара, и из тех страниц дневника Дафны Мэннерс, которые я прочел, я понял, что Кумар мог действительно держаться такой линии, но если осведомитель Видьясагара говорил правду, утверждая, что в ночь ареста Кумара по указанию Меррика били палками, «пока он не застонал», я все же склонен полагать, что Кумар воспользовался бы случаем обвинить Меррика, когда юрист, присланный Мененом, прямо спросил, правда ли это. Пожаловаться, что его непростительно жестоко избили во время допроса, еще не значило бы предать мисс Мэннерс, которая велела ему «ничего не говорить». Неужели же нет предела такой дьявольской выдержке?
Однако, скорее всего, эти мои возражения подсказаны нежеланием прислушаться к непроверенным обвинениям против Меррика — или признать, что я в то время сам его не заподозрил. Что касается цитируемой Вами «по официальным источникам» цифры, что после восстания по всей стране (не считая Соединенных провинций) 958 человек были приговорены к порке, могу только сказать, что таково было положенное по закону наказание для участников мятежа. Если б Кумар был арестован во время одного из выступлений, он, вполне возможно, подвергся бы наказанию палками. Вы, очевидно, хотите сказать, что именно ввиду обычности этого наказания Меррик и «нарушил кое-какие правила» и это сошло ему с рук.
В дальнейшем я постараюсь, как Вы просите, ограничиться более общей темой, а впрочем, до того как покончить раз и навсегда с мотивом «Нет, не хотели. Нет, хотел», я еще добавлю, хоть это, может, и лишнее, что не следует путать зыбкость оценок отдельных людей и событий с «опасной зоной возможных ошибок», расположенной между сомнениями, решениями и действиями. Если взять, к примеру, вопрос о принудительном кормлении — оно либо имело место, либо нет. В попытках нанести на карту «опасную зону» нас не должны интересовать факты, достоверность которых сейчас уже нельзя установить, хотя в то время они были кому-то известны.
Я много думал о том, что же такое эта «опасная зона», и скрепя сердце сознаюсь, что не додумался ни до чего, хотя бы отдаленно напоминающего возможную исходную предпосылку. Снова и снова я скатываюсь к прежней картине: утверждение — опровержение — контрутверждение. Взять, к примеру, нудные рассуждения Рида по поводу планов Федерации в 1935 году и его вывод: «Результатом их была только грызня за власть». У неосведомленного читателя создается впечатление, что мы выдвинули благородное предложение, а потом были вынуждены с грустью убедиться, что индийцы не достигли достаточной зрелости, чтобы либо понять нас, либо ухватиться за представившуюся возможность. В ответ я могу только привести другой ряд свидетельств, показывающих, почему индийцы как государственные деятели отвергли федерацию и как все эти федеральные предложения и проекты объяснить по-иному, а именно что мы предложили индийцам конституцию, рассчитывая еще надолго, если не навсегда, сохранить нашу власть и влияние, хотя бы в роли имперских арбитров.
Или еще — опять же если взять мнение Рида как некую исходную норму, можно было бы долго оспаривать сделанный им мимоходом вывод, что миссия Криппса в 1942 году потерпела провал из-за упрямства индийцев, и заявить, столь же кратко, неточно и мимоходом, что это был типичный черчиллевский маневр, имевший целью показать товар лицом и заручиться, после военного поражения в Азии, друзьями и влиянием за границей, а по существу — вынужденное повторение давних обещаний и еще более давних оговорок.
Но ведь это не то, что нам с Вами нужно, так? Хоть и очень соблазнительно взорвать, казалось бы, несокрушимую аккуратную башенку из простых причин и следствий, возведенную бригадиром Ридом, и равновесия ради нарисовать обратную, столь же неточную картину — как деспотическая империалистическая держава эксплуатировала и притесняла своих колониальных подданных.
Мы ведь не ставим себе целью проследить удар за ударом ту политику, которая привела к определенным действиям. Ни один человек не справился бы с такой задачей — если бы ограничился описанием ударов. Ударов было столько, что на описание их ему не хватило бы целой жизни. Чтобы подготовить труд обозримой длины, ему пришлось бы для начала выработать позицию в отношении к своему материалу. Действует такая позиция по принципу решета. Через него просеивается только то, что вам кажется нужным. Остальное выбрасывается. И выходит, что подлинная нужность и правильность того, что проходит сквозь решето, зависит от нужности и правильности самой позиции, разве не так? Но, согласившись с этим, сразу же опять оказываешься в кругу личных предпочтений, даже пристрастий, которые, возможно, не имеют ничего общего с так называемой «правдой».
Ну так вот, попробую вообразить, что я (как Вы советуете мне в письме) готовлюсь писать труд по истории британско-индийских отношений. Для начала я вырабатываю ту или иную позицию в отношении огромного материала, которым располагаю. Какова же эта позиция?
Думаю, что она была бы очень простой, почти детской: я бы исходил из предпосылки, что индийцы хотели быть свободными, и мы тоже этого хотели, но они хотели получить свободу немного раньше, чем мы считали это приемлемым для себя и для них; что при такой ситуации конфликт возник отчасти в результате отсутствия синхронности этих двух желаний, но также и потому, что с течением времени нарушилась синхронность и самих желаний. Индийцы, как свойственно людям, чем дольше им не давали свободу, тем больше хотели ее получить на своих условиях, а чем больше они хотели получить ее на своих условиях, тем больше мы (как тоже свойственно людям) настаивали, что для начала сами продиктуем им условия. Чем больше конфликт затягивался, тем более умозрительными становились условия соглашения, выдвигаемые той и другой стороной. И тут уже шла речь о том, чья нравственная сила прочнее и весомее. Потому-то, конечно, в конце концов верх одержали индийцы.
Выразив все это в таких простых словах (а через такое огромное решето просеялось бы невероятно много подробной информации), я вспоминаю, что Вы сказали во время нашей беседы о «нравственном дрейфе истории», и начинаю думать, что, возможно, этот дрейф в основном обусловлен нашей совестью и что нашей совести естественнее всего работать именно в опасной зоне, с нашего ведома или без оного, обычно без. Горе в том, что слово «опасный» всегда имеет немного зловещий оттенок, словно есть какая-то изначальная связь между «опасностью» и «грехом». Опасность и правда вызывает такие ассоциации, но, думаю, только потому, что, употребляя это слово, мы выражаем нашу боязнь личных последствий той опасности, которой мы сами подвергались бы, если бы всегда следовали своей совести.
Помню, в нашей беседе Вы еще говорили о «шагах и паузах», уподобляя последние незафиксированным моментам истории. Мне очень хотелось бы применить эту теорию к какому-нибудь эпизоду в моей жизни и проверить, почему я выбрал правильный, а не ложный путь, либо применить ее к какому-нибудь эпизоду в жизни Рида. Но всякая попытка рассказать о таком эпизоде вернула бы меня в мир событий, поддающихся описанию. А когда я пытаюсь применить ее ко всем событиям в жизни всех людей, причастных, пусть косвенно и отдаленно, к данному действию, мое сознание просто отказывается вместить весь комплекс чувств, мыслей и реакций, приведших хотя бы к одному из отдельных действий, составивших часть общей картины. Но, может быть, сознание способно откликнуться на чувство всеобъемлющей, безличной справедливости? Той справедливости, что не только определяет явный и огромным большинством принятый курс, но и провидит опасности, грозящие новым дрейфом в неведомое?
III. Приложение к разделу «Власти гражданские и военные»
Рассказ С. В. Видьясагара
На шестнадцатом году я срезался на экзамене и вылетел из майапурской Правительственной средней школы под громкие упреки родителей и без малейших видов на будущее. Около года я вел постыдную, греховную жизнь, знался с беспутными женщинами и губил свое здоровье. Докатился до того, что отец выгнал меня из дому. Мать тайком дала мне сто рупий, которые она копила много месяцев, экономя на расходах по хозяйству. Сожалею, что даже этот знак материнской любви и доверия я растратил на пьянство и разврат. Я много недель пролежал при смерти в моем убогом жилище, но и поправившись ни о чем не думал, кроме женщин и спиртного. Много раз молился я о руководстве свыше и самодисциплине, но, стоило мне увидеть смазливую девочку, я увязывался за нею и у всех на виду говорил ей непристойности, так что слава обо мне пошла самая худая и ни один порядочный человек не хотел со мной знаться. Водились со мной лишь такие же мальчишки, как я сам, чьи родители махнули на них рукой или не знали, какую жизнь они ведут, пока не просветит кто-нибудь из соседей.
Так я дожил до семнадцати лет, а тогда, ужаснувшись своему образу жизни и решив исправиться, вернулся в отчий дом просить прощения. Мать и сестра плакали, но отец встретил меня сурово и велел объяснить мое безобразное поведение. Я сказал, что могу объяснить его только безумием, а теперь надеюсь выздороветь милостью божией и собственными усилиями. При виде моего смирения и скорби отец снова открыл мне объятия. Я начал новую, честную жизнь, с помощью и по рекомендации отца поступил работать клерком и все жалованье отдавал матери, оставляя себе только несколько анн на мелкие расходы. Тогда же я горько пожалел о лени и дурном поведении, приведших к исключению из школы. Я стал читать у себя в комнате по вечерам и засиживался так поздно, что мать просила меня подумать о здоровье и о том, что я рискую заснуть на работе и потерять место.
Тогда, решив не причинять больше горя родителям, я начертил диаграмму и приколол к стене над кроватью: столько-то времени, оставшегося от работы, отвел ученью, столько-то сну, столько-то пребыванию на воздухе. В хорошую погоду я ходил вечером в новый квартал Чиллианвалла, любовался красивыми домами наших богатых соседей и бродил у реки. Там я видел немало девушек, но всегда удерживался от соблазна заговорить с ними или увязаться следом. Я старался не бывать в тех местах, где мог встретить своих прежних дружков, особенно же на той улице, где жило много проституток, чьи взгляды из верхних окон сулили гибель любому невинному и порядочному молодому человеку, случайно оказавшемуся там.
Я теперь не отступал от намеченного образа жизни, физически здорового и духовно возвышенного, и даже на эти прогулки брал с собой книгу и садился на берегу позаниматься, стараясь не глядеть на черные косы и шелковые сари. Так я однажды познакомился с мистером Франциском Нарайаном, это был учитель в школе христианской миссии у базара Чиллианвалла, личность, широко известная в Майапуре. Он разъезжал по улицам на велосипеде и заговаривал с кем попало. И я, разговорившись с ним, рассказал ему о своей прошлой грешной жизни, о своем обращении на путь истинный и надеждах на будущее. Узнав, что я работаю младшим клерком и горько сожалею о провале на экзамене, он сказал, что будет иметь меня в виду, если подвернется какая-нибудь подходящая работа. Я же, ничего не ожидая от этой дружеской встречи, продолжал работать и усердно выполнять свою программу самоусовершенствования и самообразования. Я теперь с нетерпением и жадностью поглядывал на книги в Майапурской книжной лавке у храма Тирупати, мимо которой каждый день проходил по дороге домой.
Мой отец был старшим клерком у одного подрядчика, а контора, где я служил, принадлежала другу его хозяина, купцу с двумя дочками на выданье. Однажды я, как всегда, остановился у Книжной лавки и стал перебирать там книги. Делая вид, что только разглядываю их, я читал, главу за главой, книгу про декларацию о самоуправлении 1917 года. Я уже интересовался политикой. Очень мне хотелось иметь эту книжку, но она была мне не по карману, хоть я и знал, что мать дала бы мне эти деньги, если б я попросил. В тот вечер, читая очередную главу, я заметил, что хозяин и его помощник не смотрят в мою сторону, и без всякого сознательного умысла вышел из лавки, сунув книгу под мышку. В полном восторге, но и в страхе, как бы меня не догнали и не уличили в краже, я шел куда глаза глядят и забрел в свой прежний район. Чей-то голос окликнул меня, и, поглядев в ту сторону, я увидел одного из своих старых приятелей, молодого человека постарше нас, остальных, который беседовал и дружил с нами, но не участвовал в наших попойках и прочих безобразиях. Звали его Моти Лал. Увидев у меня книгу, он взял ее, посмотрел название и сказал: «Так, наконец-то и ты взрослеешь». Он пригласил меня выпить кофе в той лавчонке, из которой меня увидел, я согласился. Он спросил, где я пропадал столько времени, и я ему все рассказал. Он тоже служил клерком, на складе у Ромеша Чанда Гупта Сена. Я спросил, видится ли он с кем-нибудь из нашей прежней компании, но он ответил, что они, как и я, теперь остепенились.
И тут мне вдруг стало ясно, что моя прежняя жизнь была не так уж безнадежно дурна, как мне твердила совесть. Конечно, нехорошо было пить так много скверной водки и водиться без разбору с безнравственными женщинами, но теперь я понял, что делали мы это, чтобы дать выход нашей энергии. Окрыленный этим открытием, я опять пошел в лавку, вернул украденную книгу законному владельцу и сказал, что унес ее нечаянно, по рассеянности. После этого он разрешил мне три часа просидеть в глубине лавки, читая новые книги, только что полученные из Калькутты и Бомбея.
Мне шел восемнадцатый год, когда мистер Нарайан, учитель миссионерской школы, зашел ко мне домой и рассказал, что редактору «Майапурской газеты» требуется энергичный молодой человек с хорошим знанием английского языка, чтобы работал в редакции рассыльным и понемногу обучался репортерскому ремеслу. Мистер Нарайан не скрыл от меня, что это он пишет для газеты очерки или «Сюжеты» за подписью «Прохожий», чтобы пополнить свое учительское жалованье. Мой отец был против того, чтобы я уходил с моей теперешней работы. Он сказал, что со временем, если я буду старательно выполнять мои обязанности, проявлю усердие и постоянство, у меня есть шанс стать старшим клерком и даже жениться на одной из дочек хозяина. Здоровье отца за последние месяцы сильно пошатнулось. Сам он изо дня в день ходил пешком в свою контору, никогда ни на минуту не опаздывал, а часто работал и дольше положенного и, возвращаясь домой, выслушивал жалобы матери, что ужин перестоялся. С тех пор как я стал более по-взрослому смотреть на жизнь, я проникся уважением к отцу, которого раньше только критиковал. И очень ценил его несомненную любовь ко мне. Мне не хотелось его огорчать, но очень хотелось попробовать себя на работе, которую предложил мне мистер Нарайан, уже поговорив обо мне с редактором. Подумав, отец все же разрешил мне обратиться в «Газету». Я очень боялся, как бы он не умер — а умер он уже через полгода, — и не хотел огорчать его на склоне лет и думать, что он может уйти из этого мира, не оставив сына, который совершил бы по нему погребальные обряды. Но я благодарю бога, повелевшего ему уступить моим желаниям. И я был зачислен на работу в «Майапурскую газету».
После смерти отца я стал «главой семьи», мне пришлось выдавать замуж единственную из оставшихся в живых сестер, которой было тогда шестнадцать лет. Эти семейные хлопоты отняли у меня много времени в 1937–1938 годах. Мы с матерью остались жить вдвоем, она все уговаривала меня тоже вступить в брак. Я был в этом смысле наивен. Боялся, что мое общение с безнравственными женщинами не позволит мне безнаказанно стать мужем и отцом, хотя я, благодарение богу, и не заболел неизлечимой болезнью. Но помимо этого, я после смерти отца целиком посвятил себя политике и карьере «растущего» журналиста.
По долгу службы я теперь ежедневно бывал в кантонменте, где помещалась редакция «Майапурской газеты», и понемногу знакомился с жизнью на том берегу. Я и раньше, когда учился в школе, бывал там каждый день, но теперь, в роли начинающего журналиста у мистера Лаксминарайана, я узнавал много такого, что раньше меня не интересовало. Так, например, я много чего узнал об отправлении правосудия, о поддержании законности и порядка, об общественной жизни англичан.
Будучи молодым индийцем без какого-либо общественного веса, я часто подвергался мелким унижениям и с горечью вспоминал, как отцу приходилось отчитываться в каждом пенни, как он боялся хотя бы один день не выйти на работу. Я подружился с несколькими моими сверстниками, возобновил дружбу с Моти Ладом, и мы часто допоздна говорили о таких вещах у меня дома, когда мать уже спала. Но лишь после того, как мистер Лаксминарайан взял на мое место Гари Кумара, племянника богатого купца Ромеша Чанда Гупта Сена, у которого Моти Лал тоже одно время работал, а я перешел в редакцию «Майапурского индуса», я сошелся с группой молодых людей, моих единомышленников, живших без всякого руководства в мире, где их отцы боялись потерять хотя бы один рабочий день и даже политические деятели — индийцы говорили с нами на разных языках. Мы решили быть начеку и ухватиться за первую же возможность приблизить день нашего освобождения.
В то время англичане воевали с Германией, конгрессистские кабинеты ушли в отставку, и у нас хватило ума вообразить, что нашу родину опять заставят внести непомерную долю в расходы на войну, которой мы не искали и от которой не ждали никаких выгод, а только обещаний, остающихся пустыми словами. В те дни нам приходилось быть очень осторожными, чтобы избежать ареста, если, конечно, один из нас не решал нарочно подвергнуться аресту, нарушив какие-нибудь правила. И надо было очень осторожно выбирать новых друзей. Самый невинный на вид юноша мог оказаться полицейским шпионом, двое или трое моих друзей были арестованы на основании сведений, сообщенных по начальству такими людьми, а им иногда только и нужно было, что свести старые счеты, и они выдумывали всякие небылицы, чтобы убедить полицию арестовать кого-нибудь из нас. Моти Лал тоже был арестован, якобы по статье 144, запрещавшей выступать на студенческих сходках. Его посадили в тюрьму, но ему удалось бежать.
Когда японцы вторглись в Бирму и разбили англичан, мы почувствовали, что наконец-то наша свобода близка. Японцев ни я, ни мои друзья не боялись. Мы знали, что сумеем досадить японцам, если они вторгнутся в Индию и вздумают обращаться с нами так же плохо, как англичане. Многие наши солдаты, которых английские офицеры бросили и они попали в плен в Бирме в Малайе, были отпущены японцами на свободу и образовали Индийскую национальную армию под командованием Субхаса Чандра Боса. Если бы японцы выиграли войну, наших товарищей из Индийской национальной армии повсеместно считали бы героями, но вместо этого англичане после окончания войны жестоко их наказали, а наши «национальные лидеры» ничего не сделали, чтобы их спасти.
В те дни мы были уверены, что сделать Индию «великой державой» способны только люди молодые, готовые и пожертвовать жизнью, и, когда нужно, отнять жизнь. Мы не понимали разногласий и колебаний наших лидеров. К несчастью, мы были в силах сколотить лишь очень мелкие группы. Мы говорили друг другу, что стоит народу восстать против угнетателей, и мы, молодые, объединимся и покажем пример решимости и храбрости, который заразит всех.
Таково было положение во время восстания 1942 года. Вместе с еще несколькими молодыми людьми я уже приготовился принести любые жертвы. После ареста у меня часами выспрашивали сведения о «подпольной системе», но, если такая система и была, я ничего о ней не знал, знал только таких же мальчиков, как я сам, готовых идти на врага в первых рядах. В самый день ареста, 11 августа, я с несколькими товарищами обсуждал, как обратиться с призывами к толпам, которые в тот день собирались двинуться походом на кантонмент. Весть об этих планах быстро распространилась по всему городу. Одна толпа еще утром пыталась построиться недалеко от Мандиргейтского моста, но ее разогнала полиция — она всюду как из-под земли появлялась. В этой толпе меня и моих товарищей не было, мы в это время печатали листовки, призывающие народ помочь в освобождении юношей, ложно обвиненных в нападении на англичанку. Одну такую листовку мы закинули в полицейский участок около храма Тирупати, завернули в нее круглый камень и швырнули в открытое окно, чтобы тот из нас, кого выбрали для этого опасного дела, успел уйти незамеченным. После этого мы разошлись, кто по домам, кто на работу. Всего час спустя начальник полиции с целой гурьбой констеблей нагрянул в редакцию «Майапурского индуса», где я работал. Меня и других сотрудников, оказавшихся на месте, тут же арестовали, потому что полиция нашла в одной из задних комнат старый ручной печатный станок и заявила, что на нем печатали подрывную литературу.
Это была неправда, и из всех арестованных, насколько я знаю, только я вообще занимался такими делами, но я это отрицал: — Среди схваченных был и наш главный редактор, он сказал, что я в то утро на работе не был, а на ручном станке печатают только невинные объявления. Об этом я узнал позже, потому что нас держали врозь, а потом узнал, что всех выпустили, однако газету прикрыли. Я и тогда молчал, потому что надеялся сохранить в тайне место, где был спрятан станок, и имена моих сообщников. Из котвали меня перевели в камеры при полицейском управлении в европейском городе, где содержались и юноши, арестованные за два дня до этого близ Бибигхара, но я их там не видел. Меня поместили в отдельную камеру, а после допроса перевели в тюрьму в старом городе. Там я и находился, когда народ напал на тюрьму, одолел охрану и полицию у ворот и ворвался внутрь. Нескольких заключенных удалось освободить, но, к несчастью для меня, этот акт освобождения имел место в другом корпусе, а вскоре тюрьму отбили войска, и нашим недолгим надеждам на свободу пришел конец. В этом сражении погибло много невинных людей, что власти постарались скрыть, сильно занизив данные об убитых и раненых.
Из котвали в полицейское управление меня перевели к вечеру 11-го, а там меня допрашивал сам начальник окружной полиции. Он вел допрос очень ловко, но я уже решил, что ничего говорить не буду. Я уже понял, что мне все равно не миновать тюрьмы, потому что видел у него папку с подробными сведениями о деятельности, в которой меня подозревали. Он знал имена многих моих друзей и даже случайных знакомых, и я все думал, какой же это шпион нас выдал. Раз за разом он спрашивал про Моти Лала. Спрашивал про Кумара и про других парней, арестованных после «нападения» на англичанку. Отрицать, что я знаком с Моти Лалом и почти со всеми этими парнями, не было смысла, потому что у начальника полиции было даже записано, где и когда нас видели вместе или знали о наших встречах, начиная с одного вечера в феврале, когда мы выпивали и Гари Кумар так упился, что мы пошли проводить его до дому, а потом узнали, что он опять пошел шататься по улицам и был арестован и подвергнут допросу. Два других парня, тоже арестованные за «изнасилование», тоже были с нами тогда в феврале, и я невольно подумал: может, это Гари Кумар после допроса согласился стать доносчиком и это ему мы обязаны теперешней нашей бедой. Позже я устыдился этих мыслей, но я должен быть честным и признаться, что одно время имел подозрения.
Никто из арестованных за «изнасилование» не был моим сообщником в нелегальной работе, но у начальника были записаны еще имена трех моих сообщников, и в то утро они были со мной в том месте, где мы после ареста Моти Лала хранили печатный станок. А хранили мы его в доме одной проститутки. Полицейские сами частенько бывали в этом доме, но за другими делами не успевали заметить ничего связанного с печатанием нелегальной литературы.
Когда начальник назвал кое-кого из тех, кто был со мной в то утро, я сказал (как у нас было условлено на случай, если кого-нибудь из нас арестуют), что мы дня три как не виделись. Я ни в чем не сознался. Сказал, что с утра плохо себя чувствовал и на работу ушел поздно, да и вообще боялся выходить, когда в городе так неспокойно.
Я вышел из дома, где мы прятали станок, вынес листовки и передал их товарищам, которые должны были их разнести, а сам предусмотрительно зашел к себе домой и велел матери говорить, что утром я был нездоров и никуда не выходил. Мать очень испугалась, поняв, что я занят чем-то противозаконным, но пообещала сказать, что требуется, если спросят. Это я в первый раз не пошел в редакцию по такой причине, потому и соблюдал сугубую осторожность. Когда начальник спросил, где я был утром, я понял, что редактор или кто-то из сотрудников «Майапурского индуса» уже упоминал о моем отсутствии, но я сказал, что был нездоров, а у него лицо стало недовольное, и я понял, что мою мать уже успели допросить по его приказу. Я горячо надеялся, что мои сообщники, если их тоже успели допросить, все сумели сочинить удовлетворительные ответы.
Я очень боялся этого допроса после того, Что нам рассказали об ужасном обращении с арестованными за нападение на англичанку. После этих рассказов мы и поспешили отпечатать листовки и распространить их в тот же день. А сведения об этих зверствах мы получили от человека, который говорил с одним из сторожей в полицейском управлении, который сказал, что всех этих молодых людей избили до потери сознания, а потом привели в чувство и заставили есть говядину, чтобы вынудить у них признание, но мы не верили, что они виновны, и подозревали, что история про нападение на англичанку сильно преувеличена или даже выдумана, потому что Кумар с ней дружил и англичане за это его ненавидели. Что делал Кумар в ту ночь, я не знаю, но один человек, знавший других арестованных, рассказал, что все они, кроме Кумара, всего лишь пили самогон в старой хибарке, а о «нападении» ничего не знали, пока не ворвалась полиция и не арестовала их. Этот человек и сам с ними пил, но вышел из хибарки немного раньше, притаился где-то и все видел. Он подумал, что их выдал стрелочник на переезде, потому что знал, что они сходятся в этой хибарке пить самогон, и сам иногда к ним заглядывал и требовал себе порцию в уплату за то, что будет молчать об этом их противозаконном занятии. Насчет хибарки и выпивок все правда, я это знаю, потому что несколько раз сам там бывал. Это было не то место, где с нами был Гари Кумар и так упился. Для таких выпивок нам приходилось все время выискивать новые места, чтобы сбить со следа полицию. А хорошее вино нам было не по карману, потому мы и пили эту гадость. Во время моего допроса начальник сказал: «Ведь ты близкий друг Кумара, в ночь на девятое августа вы с ним и с другими приятелями пили в хибарке близ Бибигхарского моста, да? А потом ты ушел, потому что они завели скверный разговор насчет того, чтобы отправиться в кантонмент и найти женщину, разве не так?»
Я понял, что он предлагает мне лазейку, чтобы я мог втереться к нему в милость, дав ложные показания, и, как ни боялся побоев, ответил, что нет, это неправда, а правда только то, что я знаком с Гари Кумаром и некоторыми из тех, кого он назвал, но вечером 9 августа я допоздна работал в редакции «Майапурского индуса», редактировал поступившие за день корреспонденции о беспорядках в Дибрапуре и Танпуре, и мой главный редактор, несомненно, это подтвердит. Я говорил правду, а он злился, потому что знал, что это правда. Он сказал: «Погоди, ты еще пожалеешь, что врал мне». И ушел, оставив меня одного в комнате. Я огляделся, нельзя ли убежать, но не увидел даже окна, через которое мог бы попытаться вырваться на желанную свободу. Комната освещалась одной электрической лампочкой. В ней был стол, стул, на котором начальник сидел во время допроса, и табуретка, на которой сидел я. В углу комнаты стояли железные козлы.
Поняв, что мне не уйти, я стал молиться о ниспослании мне сил, чтобы перенести пытку, не выдав моих товарищей. Я думал, что сейчас за мной придут и что начальник-сахиб уже приказывает все там подготовить. Но он вернулся один, опять сел за стол и стал задавать все те же вопросы. Сколько это длилось — не знаю. Мне очень хотелось есть и пить. Потом он опять ушел, не добившись от меня ничего нового, а за мной явились два констебля, посадили меня в грузовик и отвезли в тюрьму на Тюремной улице. Я еще надеялся, что по дороге наши меня освободят, но машина ехала очень быстро, и никто ее не остановил. В этой тюрьме меня продержали неделю, потом судили и признали виновным в печатании и распространении подрывной литературы. Полицейский шпик показал на суде, что видел, как я забросил листовку в окно котвали. Это была неправда, но доказать это я не мог. Спрятанный станок нашли — тоже, наверно, кто-нибудь навел, и всех моих сообщников схватили. Меня приговорили к двум годам тюрьмы со строгой изоляцией. Отбывать срок отправили в тюрьму около Дибрапура и сначала заперли в грязную, вонючую камеру. Я решил, что майапурский начальник специально приказал, чтобы со мной обращались особенно жестоко. Сначала я, как ни был голоден, не мог есть отвратительную пищу, которую мне давали. Один раз я не выдержал и швырнул миску на пол. На следующий день меня взяли из камеры и сказали, что за нарушение тюремных правил мне полагается пятнадцать ударов палкой. Меня привели в какую-то маленькую комнату, и там я увидел такие же железные козлы, как в той комнате, где начальник меня допрашивал. И показали палку, которой будут меня бить. Палка была длиной фута четыре и в полдюйма толщиной. Меня раздели догола, пригнули к козлам, привязали за лодыжки и запястья и привели «приговор» в исполнение. От боли я лишился чувств.
Позже меня перевели в другую тюрьму. Общаться ни с кем не разрешали, даже с родными. Однажды сообщили, что моя мать умерла. Я плакал и просил у бога прощения за все горе, которое причинил ей моей деятельностью во имя свободы, на которую меня толкнуло чувство долга. Наказания я принимал как должное, ведь я был повинен во всех «преступлениях», за которые меня наказывали. Я-то не считал их преступлениями, а значит, и наказания были не наказания, а часть той жертвы, которую я призван был принести.
Уже к концу моего срока к нам в тюрьму перевели из другого места заключения одного из тех юношей, которых обвинили в нападении на англичанку. Их всех разбросали по разным тюрьмам, потому, наверно, что власти не хотели, чтобы хотя бы двое оказались вместе и могли подтвердить другим заключенным историю их несправедливого наказания. При виде этого юноши я даже закричал от изумления: я-то думал, что их всех уже давно судили и осудили. Мне даже передавали, что их повесили. Но этот сказал мне, что улик против них так и не нашли. Он считал, что все это было состряпано и, вероятно, никакого изнасилования в Бибигхаре вообще не было. И кончилось тем, что их всех упекли за решетку как нежелательный элемент по обвинению или по подозрению в подрывной деятельности. Мы не могли подолгу разговаривать, а про слухи о пытках и осквернении он, видимо, боялся заикнуться.
Когда я отбыл свой срок, дома у меня больше не было. И надо было часто отмечаться в полиции. Мой прежний хозяин мистер Лаксминарайан нашел мне где жить и давал кое-какую работу, чтобы мне не умереть с голоду. Здоровье мое было подорвано, я весил всего 97 фунтов, и кашель меня мучил. Со временем я немного окреп и здоровье частично вернулось.
Из всех, кто был арестован по бибигхарскому делу, я потом видел только одного, он потом вернулся жить в Майапур. Тот самый, которого я встретил в тюрьме. Узнав, что он опять дома, я пошел навестить его и спросил: «Почему ты так боялся говорить со мной?» Ему и тут не хотелось отвечать. Он много выстрадал и боялся полиции, говорил, что за ним до сих пор следят. Ведь англичане в те дни все еще были у власти, и притом уже выиграли войну, так что в будущее мы смотрели без особой надежды, хотя многие говорили, что теперь-то англичане действительно готовятся убраться вон.
Как-то вечером в конце 1946 года этот человек разговорился со мной и вдруг сказал: «Я тебе все расскажу». Говорил он долго. Сказал, что в вечер Бибигхара, когда его и тех четверых, с которыми он выпивал в хибарке, арестовали, их сразу привезли в полицейское управление и заперли в камере. А они смеялись и шутили, потому что ничего не знали, кроме того, что их накрыли с самогоном. Потом привели Гари Кумара. Лицо у него было в синяках и ссадинах. Они подумали, что это дело рук полиции. Один из них окликнул: «Эй, Кумар!», но Кумар точно и не слышал. После этого никто из них, кроме моего собеседника, уже Кумара не видел. А мой собеседник сообщил мне все это по секрету, так что я лучше скрою его настоящее имя. Сейчас обо всем этом уже давно забыли, мы теперь живем другой жизнью. Нынешняя молодежь такими вещами не интересуется. Так я назову моего знакомца Шарма, это имя вымышленное. Шарма был парень видный, крепкий, в юности, как и я, не дурак по женской части, но потом тоже немного угомонился. Его и остальных, кроме Кумара, заперли в одной камере и вызывали по одному. Один за другим они уходили и не возвращались, и оставшиеся уже перестали смеяться и шутить. У них и от вина голова трещала, и жажда мучила. Наконец остался один Шарма. Когда пришла его очередь, два констебля отвели его в подвал и велели раздеться. И когда он стоял там голый, один из констеблей постучал в дверь в дальнем конце комнаты, открыл ее, и вышел начальник полиции. Шарме было очень стыдно стоять в таком нескромном виде, тем более перед белым человеком. Констебли завели Шарме руки за спину, после чего начальник, у которого была в руке палочка, подошел, приподнял палочкой его половой член и некоторое время разглядывал. Шарма не понимал, почему его подвергают такому унижению. Он спросил: «Зачем вы это делаете, начальник-сахиб?» Тот не ответил. Он осмотрел одежду, которую Шарме было приказано снять, тоже переворачивая ее палочкой, и вышел. Позже Шарма, конечно, понял, что тот искал следов женской крови. Когда начальник вышел, констебли велели Шарме надеть трусы, но остальную одежду не вернули. Потом его через другую дверь увели в камеру, где уже находились его собутыльники, тоже в одних трусах. Кумара с ними не было. Они еще пробовали шутить, почему, мол, сахиба так интересуют некоторые части их тела, но им уже было не до смеха. Потом их опять увели одного за другим, и они не вернулись. Когда настала очередь Шармы, а он опять был последним, его привели в комнату, где заставляли раздеться, начальник сидел там за столом. Думаю, что это была та самая комната, где начальник и меня допрашивал два дня спустя. Но Шарме не дали табуретки. Ему велели стать перед столом. И стали допрашивать. Он не понимал вопросов, потому что думал, что разговор идет только о незаконном потреблении самогона. Но вдруг начальник спросил: «Откуда ты знал, что она будет в Бибигхарском саду?» — и тогда, по слову «она» и по унижению, которому его перед тем подвергли, он начал понимать, что кроется за этой комедией. Но все еще не до конца понимал, к чему клонит полицейский начальник, пока тот не сказал: «Я расследую преступное нападение, совершенное сегодня вечером на английскую девушку, которая думала, что твой друг Кумар и ей тоже друг». Потом пошли вопросы вроде таких: «Когда Кумар предложил вам всем пойти вместе? Она уже была там, когда вы пришли? Сколько времени вы ее ждали? Кто первый на нее бросился? А привел вас Кумар, да? Если бы не Кумар, вам бы и не вздумалось идти в Бибигхар, да? Тебе велели сторожить, так что сам ты ею и не попользовался, верно? Зачем же тебе страдать за других, если ты только сторожил? Так сколько раз ты ею попользовался? А Кумар? Чего ты боишься? Когда парень выпьет, его и на женщину тянет, разве не так? Чего же ты себя коришь за такое естественное дело? Не надо было столько пить, а раз выпил, сам видишь, что получилось. Будь же мужчиной, признай, что перепил и разогрелся, а? Ты же не заморыш какой-нибудь, а здоровый, нормальный парень. Что ж ты стыдишься признаться в таких естественных желаниях? Я, когда перепью, и сам этим грешу. Следов крови ни на тебе, ни на твоем белье нет. Значит, она была не девственница, так? А ты был первый, потому что был самый страстный и не мог ждать, разве не так? Или, может быть, ты догадался вымыться? Или переменил белье? Знал, что за это по головке не погладят? Знал, что, если поймают, тебе плохо придется? Ну так вот, тебя поймали, так признай, как мужчина, что заслуживаешь наказания. Если признаешь, очень плохо тебе не будет, потому что я такие вещи понимаю. И она ведь не была девственницей? Спала с каждым мужчиной, какой приглянется? И любила черномазых? Это тебе Кумар рассказал? Так или нет? Так или нет?»
Понимаете, вот это Шарма лучше всего запомнил. Как начальник все повторял: «Так или нет?» — и стучал палкой о стол, теряя терпение, потому что Шарма твердил одно — что не понимает, о чем начальник-сахиб ведет речь.
Наконец начальник бросил палку на стол и сказал: «Я вижу, тебя только одним способом можно сломить» — и вызвал констеблей, они вывели Шарму в соседнюю камеру, а через нее еще в другую. Там освещение было еще темнее, но он увидел Кумара, голого, привязанного к железным козлам. В таком положении трудно дышать, я по себе знаю. Шарма сказал, что не знал, сколько времени Кумар был так привязан, но слышал, как надсадно он дышит. Он не сразу и понял, что это Кумар. Видел только кровь у него на ягодицах. Но тут вошел главный начальник и сказал: «Кумар, тут твой приятель пришел послушать, как ты будешь признаваться. Скажи только: „Да, это я подбил всех, чтобы ее изнасиловать“ — и тебя отвяжут и больше не будут бить». Шарма сказал, что Кумар только «издал какой-то звук», и тогда начальник-сахиб дал команду, и один из констеблей подошел и несколько раз ударил Кумара палкой. Шарма крикнул Кумару, что ничего не знает и ничего не говорил. И еще крикнул: «Зачем вы с ним так обращаетесь?» А констебль продолжал бить Кумара, пока он не застонал. Шарма не мог смотреть на это страшное зрелище. Его увели и заперли одного в камере. А минут через десять опять привели в комнату, где он видел Кумара, но теперь там никого не было. С него сняли трусы и привязали его к козлам. Накрыли, так он почувствовал, мокрой тряпкой и ударили девять раз. Он сказал, что боль была такая невыносимая, что он не мог понять, как Кумар мог терпеть так долго. А мокрой тряпкой его накрыли, чтобы не порезать кожу и не оставить рубцов на всю жизнь. После наказания его опять оттащили в камеру. А позже перевели в другую, где были его приятели. Кумара с ними не было. Он рассказал им, что делали с ним и с Кумаром. Тех других не били, но они боялись, что придет и их черед. Самый младший заплакал. Они не понимали, что делается. Между тем настало утро. В камеру вошел начальник с двумя констеблями и велел констеблям показать, во что превращаются у человека ягодицы даже после девяти ударов через мокрую тряпку. Они раздели Шарму и показали всем. А потом начальник сказал, что если хоть один из них, хоть кому-нибудь, хоть когда-нибудь во время «предстоящего допроса, суда и наказания» хоть словом обмолвится о грубом обращении, то всех ждет такое же наказание, только еще построже, какое Шарма может им описать по собственному опыту и по тому, что видел своими глазами.
Через полчаса им принесли поесть. Они были голодные, усталые, запуганные. Начали есть. Их тут же стало рвать. «Баранина» в карри оказалась говядиной. Два тюремщика-мусульманина, стоявшие тут же, глядя на них, засмеялись и сказали, что теперь они отверженные и даже бог отвратил от них свое лицо.
Часть седьмая. Сад Бибигхар
Дневник Дафны Мэннерс (написанный для леди Мэннерс)
Кашмир, апрель 1943
Прости меня, тетечка, за все хлопоты и огорчения, которые я тебе причинила. Я уже пыталась просить у тебя прощения, когда тетя Лили привезла меня к тебе в Равалпинди в октябре прошлого года, но ты не захотела слушать. Так вот, я опять прошу меня простить — не за мое поведение, а за то, как оно отразилось на тебе, ничем не заслужившей нашего изгнания. А еще я хочу тебя поблагодарить за твою любовь и заботу, за то, что ты сама предложила ухаживать за мной и ни разу не дала мне почувствовать, как это для тебя тяжело, и что здесь, где ты почти ни с кем не видишься, тебе не легче, чем было в Пинди, где от тебя отвернулось столько старых друзей. Иногда я пытаюсь поставить себя на твое место и вообразить, что значит быть «теткой этой девицы». Я знаю, что меня так называют и такой считают меня и что это и на тебя бросает тень. И забыто все то хорошее, что вы с дядей Генри сделали для здешних англичан, чтобы облегчить им жизнь в Индии. Потому я и прошу прощенья, прощенья за то, что оставила последнее слово за людьми, которые критиковали тебя и дядю Генри, за то, что вроде как доказала, что все, к чему вы с ним стремились, было неправильно.
Самое ужасное, что, если ты когда-нибудь это прочтешь, меня уже не будет, я не смогу улыбнуться и все мои извинения покажутся какими-то надуманными. Если я выкарабкаюсь из того, что мне предстоит, мы, наверно, опять заживем так, как сейчас, будем всячески избегать разговоров о том, что может напомнить тебе или мне, почему мы, собственно, здесь очутились. Тогда ты этого не прочтешь, ведь я пишу это только для того, чтобы молчание когда-нибудь кончилось. Пишу, потому что предчувствую, что не выкарабкаюсь, и очень уж не хочется умереть, зная, что даже не попыталась рассказать все как было и нарушить молчание, которое мы с тобой словно признали наилучшим выходом для живых, если не для мертвых. Прости за похоронную ноту. Настроение у меня не похоронное, я просто к этому готова. Может, я все время это чувствую, с тех самых пор, как тот врач в Лондоне посоветовал мне не надрываться и бросить работу на «скорой помощи» при затемнении. Может быть, мысль о том, что мне надо втиснуть как можно больше своей жизни в возможно более короткий срок, и толкнула меня на поступки, которые люди, уверенные, что проживут свои положенные семьдесят лет, сочли бы поспешными и безрассудными.
Если я права и мои предчувствия не просто болезненные фантазии, странно подумать, что человек, на вид вполне здоровый и крепкий, на самом деле всего лишь неправильно решенная задачка по физиологии! После маминой смерти я боялась, что заболею раком. Потом боялась опухоли мозга, думала, не от этого ли мое плохое зрение и головные боли. Всеми этими премудрыми болезнями болеют и индийские крестьяне, но они — только цифры в статистике, показатели рождаемости, смертности и средней продолжительности жизни. Я часто жалею, что не могу думать о себе как о ком-то столь же безымянном, кого сразила рука божия (если я окажусь сраженной), а не что-то такое, про что врачам все известно и к чему они могут тебя подготовить.
Но тут вот еще что: с медицинской точки зрения у меня, я чувствую, только один изъян, и объясняется он тем, что я сложена не наилучшим образом. Доктор Кришнамурти, как и тот врач в Пинди, поговаривает о кесаревом сечении. Я сказала, что не хочу. Может, это тупое упрямство, но ты не представляешь, насколько для меня важно проделать все как следует. Не хочу я, чтобы меня разрезали и вынули ребенка искусственно. Я хочу его родить. Хочу сама дать ему жизнь, а не так, чтобы ему, или мне, или нам обоим жизнь спасали умелые врачи. Хочу с чистой совестью довести до конца то, что и начала с чистой совестью. Мне кажется, доктор Кришнамурти это почти понимает. Он так странно на меня поглядывает. И вот еще за что я тебе так благодарна — что ты никогда даже в мыслях не делала разницы между английским врачом и индийским и уж тем более не возражала против того, чтобы я обратилась к индийцу. Давным-давно (да, кажется, что очень давно, а ведь с тех пор прошло чуть больше года) я тебе писала из Майапура, как я рада, как мне повезло, что перед этим я пожила у тебя, а не у каких-нибудь Суинсонов (я их всегда вспоминаю как «моих первых колониальных англичан», и в какой же ужас они меня повергли!). Будь я их племянницей, они, если б даже не сплавили меня куда-нибудь подальше от греха, нипочем не подпустили бы ко мне никакого врача, кроме белого. Но может быть, будь я племянницей Суинсонов, мне и самой не пришло бы в голову обратиться к доктору Кришнамурти. Или я вообще не «влипла бы в эту историю», как, наверно, выражаются Суинсоны.
Как ни странно, в Майапуре тоже был доктор Кришнамурти, коллега доктора Анны Клаус. Я спросила нашего доктора Кришнамурти, не родственник ли он тому, майапурскому, и он сказал, что общие предки у них, скорее всего, есть. Я сказала, что рада, что его так зовут, потому что для меня это имя — связующее звено с Майапуром. Его это удивило и вроде бы смутило. Пожалуй, он был даже шокирован, что я так спокойно произнесла слово «Майапур». Что он вынужден меня касаться — это его больше не смущает, но продолжает смущать то, чем я, видимо, являюсь в глазах не только англичан, но и индийцев. Теперь это непонятное явление перешло из чисто умозрительной стадии в очень даже физическую. Я еще в Пинди замечала, что те немногие, кто еще приходил к нам в гости — вернее, приходил к тебе в гости, несмотря на меня, — не могли оторвать взор от моей талии. А теперь, конечно, изменения, вызванные неизвестным младенцем (неизвестным, нежеланным, нелюбимым для всех, кроме меня), сразу бросаются в глаза. Если бы я не отсиживалась дома и в саду, а ходила на базар, я бы брала с собой колокольчик, как прокаженные, чтобы люди могли убежать и переждать за дверями, пока я не пройду! Если бы на меня напали мужчины моей расы, я была бы предметом жалости. Люди религиозные, вероятно, восхищались бы мною за то, что не захотела сделать аборт. Но они были не моей расы. Поэтому в Пинди даже индийцы отводили глаза, когда встречали меня в кантонменте, точно боялись, что с меня перейдет на них какая-то страшная кара.
Даже ты, тетечка, последнее время избегаешь окинуть меня взглядом с головы до ног.
* * *
Конечно, я не была девственницей. Анна Клаус позже сказала мне, что ее об этом спрашивали, и она ответила. Она хотела, чтобы я знала, что этот вопрос возникал. Никаких подробностей она не выспрашивала. И я ничего не добавила. Но тебе я поведаю, тетечка, ведь я хочу рассказать все как было. Моим первым любовником был товарищ Дэвида, моего брата. А вторым — один человек, которого я встретила в Лондоне, когда работала шофером на «скорой». Два любовника, но ненастоящих. Между нами все было, но любви не было, хотя одно время мне казалось, что в первого я влюблена.
Любила я только Гари. Больше всего на свете мне хочется говорить с тобой о нем, пусть хотя бы так: «Да, вот и Гари говорил что-то в этом духе» или «Там я один раз была с Гари». Лишь бы произнести его имя, вернуть его в повседневный мир моей жизни. Но не могу. Я знаю, что у тебя сейчас же сделалось бы непроницаемое лицо, а этого я бы не выдержала, чтобы ты вот так его выключила. Достаточно его отовсюду выключали. Если я плачу — а это бывает, — так потому, что знаю: я и сама его выключила. Интересно, знаешь ты, где он сейчас? Мне все кажется, что знаешь, и знают столько людей, которых я считаю моими друзьями, а от меня скрывают. Но я тебя не виню. Ты молчишь, потому что думаешь, что так для меня лучше, а я молчала, потому что думала, что так лучше для Гари. Право же, ведь и раньше бывали романы между людьми его и моего цвета кожи, и даже браки, и дети, и счастье, а не только трагедии. Но наш роман с самого начала был обречен. Я перестала надеяться, что когда-нибудь еще его увижу.
Вот почему ребенок, которого я ношу, особенно мне дорог. Хоть я и не могу сказать с абсолютной уверенностью, что ребенок его. Но думаю, что так. Верю, что так. А если и не так, все равно это ребенок. Кожа у него, может быть, будет темная, как у Гари, а может быть, почти такая же светлая, как у меня, а может, что-то среднее между тем и другим. Но каким бы он, или она, ни оказался, это будет моя кровь и плоть, моя собственная посильная жертва будущему!
* * *
Уже два дня ничего не записывала. Пишу я обычно по ночам, закутавшись в твою дубленку, сидя у камина, где дотлевают дрова. Поразительные контрасты в этой стране. В Майапуре вечер сегодня, наверно, жаркий. Люди сидят под вентиляторами, все окна настежь. А здесь, если подойти к решетчатому окошку и раздвинуть ситцевые занавески, на горах виден снег. Но через какой-нибудь месяц всю долину заполнят отпускники. Они будут купаться в озерах, на реках будет тесно от их «шикар». Мы тогда переедем в Сринагар, правда, тетечка? И будем жить на яхте, и всю ее заполним цветами, и нам будут предсказывать будущее, да?
* * *
Ноготки! Как Бхалу обижался, когда я в нарушение его исключительных прав рвала их рано утром, чтобы за завтраком поставить в вазочке около прибора Лили! Бхалу не мог мне простить, что я как-то наступила на клумбу и нарезала букет ноготков в тот день, когда Гари первый раз пришел в дом Макгрегора. Оттого что я никогда не говорю с тобой про Гари, я не знаю, много ли тетя Лили тебе рассказывала. Но вскоре после того, как мы с ней приехали в Майапур, кто-то, а вернее, не кто-то, а Анна Клаус спросила ее, не знает ли она мистера Кумара, или Кумера, как его иногда писали, и не может ли она узнать у судьи Менена, за что этого мистера Кумара схватила полиция и какой-то младший инспектор ударил его при свидетелях, а потом его увезли «на допрос»? Лили особенно об этом не распространялась, и я поняла только, что она принимает участие в каком-то молодом индийце, который попал в беду, потому что надерзил кому-то или что-то в этом роде. Это все было от ее сдержанности, которая нам с тобой так знакома. Как в Лахоре, когда мы ехали в Майапур и она сидела в купе, делая вид, что все в порядке, а в это время те две англичанки только что не обвиняли ее во всеуслышание, что она украла их несчастный саквояж. Ты ведь знаешь, тетечка, из Лили слова не вытянешь о том, что приходится терпеть индийцам, но это не значит, что она относится к таким вещам равнодушно или что, если можно помочь кому-то, кто попал в беду, как Гари, она будет сидеть сложа руки, точно это ее не касается.
Всю историю «ареста» Гари я узнала долго спустя, он сам мне все рассказал как-то вечером, когда мы вместе побывали в храме Тирупати. А до этого я даже не знала, что допрашивал его не кто иной, как Роналд Меррик. Я тогда ужасно расстроилась, почувствовала, что от меня нарочно это скрыли. Тетя Лили, Анна Клаус, судья Менен, даже сестра Людмила — особенно сестра Людмила — ведь все произошло в Святилище, у нее на глазах. А расстроилась потому, что дружила и с Гари, и с Роналдом, и получилось, что все, к кому я относилась с симпатией и доверием, отмалчивались и только ждали, что будет дальше. Позже я поняла, что дело обстояло не совсем так. Произошло всего-навсего то, что всегда бывает в Индии с людьми, и англичанами и индийцами, когда они пытаются жить вместе вне своих замкнутых кружков. Внутри этих кружков не смолкают сплетни, и все про всех всё знают. Но вне их почва до того зыбкая, что на нее и ступить опасно. Вчерашние недоразумения и обиды лучше сразу же забывать. Из них извлекаешь урок, но молчишь об этом и только надеешься, что другие тоже извлекли урок. Главное — не оставлять вокруг себя пустого пространства, а стоит заговорить о чем-нибудь, кроме самого злободневного, как тебя подстерегает опасность, что люди опрометью бросятся назад, в свои норки, где можно болтать что угодно, потому что там, внутри, все притворяются, будто и думают обо воем одинаково.
Но когда я узнала от Гари, что это Роналд Меррик взял его под стражу и допрашивал и не помешал младшему инспектору ударить его, я почувствовала, что меня одурачили. Мне всегда казалось, что Роналд — слишком важная персона, чтобы лично заниматься такими пустячными делами, как задержание и допрос «подозреваемого лица». Я рассердилась на Роналда, как он мог предостерегать меня от общения с Гари (всего за несколько дней до того, как мы ходили в храм!) и даже не потрудился упомянуть, что сам лично арестовал его и допрашивал. Я на всех рассердилась, а больше всего, наверно, на себя. Но из того, что я в тот вечер сказала Гари, он заключил, что я сержусь только на него и даже обвиняю его в притворстве, которое всякая нормальная англичанка старой школы считает типично индийским недостатком. Наверно, моя обида тоже показалась Гари типичной — типичной для бесцеремонной английской мемсахиб. Когда мы расстались, я хотела откровенно всё выяснить с тетей Лили, но она пришла домой поздно, и я пошла спать. Я очень долго сидела и перебирала в памяти все случаи, когда Роналд Меррик бывал в доме Макгрегора, и все случаи, когда бывал Гари (одновременно они никогда не бывали). И подсчитала, что тот вечер, когда Роналд был приглашен к обеду вскоре после того, как я водворилась у Лили (помню, в первом письме тебе из Майапура я упоминала, что мы ждем в гости начальника окружной полиции и мне надо нарядиться), был всего через два-три дня после того, как звонила Анна Клаус и просила Лили поговорить с судьей Мененом насчет «мистера Кумара или Кумера», потому что хорошо помню, что это было в первые же дни после моего приезда. Может, если б я успела здесь оглядеться, я бы больше расспросила про Гари — кто он такой и что с ним случилось. Но я не расспрашивала. А в тот вечер, когда Роналд у нас обедал и были еще гости, Лили, конечно же, знала, что Роналд сам и забрал Гари, и, скорей всего, знала, что он не вмешался, когда тот младший инспектор его ударил. Но видимо, она ничего ему не сказала про это ни тогда, ни позже. И Гари она ничего не сказала — во всяком случае, при мне — в те считанные разы, когда он потом к нам заходил.
Я все старалась понять почему. Почему она от меня все это скрыла. И пока искала ответ, сообразила, что из всех, кто знал, никто не сказал мне ни слова. Я знала только, что после того, как Гари в первый раз у нас побывал, Лили почти перестала упоминать о нем. Я чувствовала, что он ей не понравился. Потому и сама помалкивала о том, что Роналд изволил назвать «моим общением с мистером Кумаром». Я увидела, каким огромным молчанием окутано это общение и как я сама невольно этому способствовала. Ведь я утаила — от всех, кроме тебя, — и то, что Роналд делал мне предложение, и это молчание было сродни тому.
Вот тогда-то я и поняла, что люблю Гари, хочу, чтобы он всегда был рядом, но тогда же стала и бояться за него. Все мои знакомые как будто сговорились молчать и ждать затаив дыхание. Может, они были и не против того, чтобы Гари мне нравился сам по себе, но страшились последствий, и еще их пугало другое — вдруг меня соблазнит нарушить приличия, просто так, из озорства, а это, конечно, повредило бы ему больше, чем мне. Но заговор этот был вроде бы подсказан любовью, а не только страхом. Мне казалось, что в моем романе с Гари они видят логический, но устрашающий результат их собственных попыток вырваться за пределы своих тесных кружков и научиться жить всем вместе — устрашающий потому, что даже они не в состоянии были хладнокровно отнестись к нарушению самого главного закона — что если белый мужчина и может ухаживать за черной женщиной, то общение черного мужчины с белой женщиной до сих пор под запретом.
И тогда мое решение наутро все выяснить с тетей Лили отпало. Отчасти потому, что выяснять, в сущности, было нечего, отчасти потому, что побоялась. Не могла я говорить об этом с Лили, ведь это значило бы затрагивать такие стороны моего «общения», которые не имели ничего общего с моим чувством к Гари. А подумав о своем чувстве к нему и взглянув в зеркало перед тем, как улечься в постель, я подумала: да, а он-то любит меня? Что я, собственно, такое? Верзила с белой кожей, которую мать не зря ругала за нескладность, а отец и брат терпели и даже любили, как мужчины в семье всегда относятся к дочери и сестре, которая в общем-то молодец, но не более того.
Прости меня, тетечка. От тебя я никакого особенного отношения не жду. Я просто говорю правду и объясняю, какие ужасные сомнения меня одолевали — что, может быть, люди-то правы и если цветной приударяет за белой женщиной, так только с определенной целью.
* * *
Когда я увидела его в первый раз, он показался мне до противности колючим. Он был приглашен вместе со своей тетей Шалини, но пришел один и чувствовал себя неловко. Позже тетя Лили сказала, что не удивилась, что он явился один — наверно, эта тетя Шалини из тех скромных, не в меру застенчивых индийских женщин, которые нигде не бывают, а уж если куда придут, на всех нагоняют тоску. Я к тому времени успела забыть все, что Лили говорила мне про «мистера Кумара». Дело было уже в марте, она решила пригласить кое-кого на коктейли. Составляя список гостей, она сказала: «И юного мистера Кумара позовем, посмотрим, какой он из себя». Я спросила: «Какого мистера Кумара?» Она ответила: «Ну, помнишь, о котором меня просили поговорить с судьей Мененом, когда его по ошибке арестовали». И потом добавила: «Только, ради бога, не вздумай с ним про это заговорить». Ты ведь меня знаешь, тетечка, я всегда умела ляпнуть что-нибудь не к месту. А раньше было еще хуже. Я так ужасно стеснялась, чувствовала себя такой нескладной, а чтобы не казаться нескладной, не могла придумать ничего лучше, как тараторить без умолку, болтать все, что придет в голову, а это обычно оказывалось некстати.
Я уже почти всех забыла, кто у нас был в тот вечер. Была доктор Анна Клаус, это я помню, потому что я с ней тогда познакомилась, хотя видела ее и раньше, когда она приходила к нам в больницу, она тогда разговаривала с доктором Мэйхью насчет какой-то консультации. И заведующая наша была. И Васси (это адвокат мистер Шринивасан, он был другом и Лили и Гариных тети и «дядюшки»). Должен был прийти Гарин редактор из «Майапурской газеты» мистер Лаксминарайан, но не пришел — вероятно, потому, что узнал, что Гари тоже приглашен, и решил, что встретиться на равных со своим подчиненным будет ниже его достоинства. Так мне, во всяком случае, объяснил это Гари, уже позднее. Помню, что на полчаса заглянули Уайты, и еще было несколько преподавателей из Средней школы и Технического колледжа.
Он пришел одним из последних. Сначала вообще не хотел идти, но потом решил — была не была. Он стыдился своего костюма и никого толком не знал, кроме Васси, а они друг друга недолюбливали. Я сказала — никого не знал, но это не так. С виду он знал многих, это входило в его репортерские обязанности. Он и тете Лили проговорился, что они уже встречались, что она ответила на какой-то вопрос, который он ей задал, когда она получила второй приз на выставке цветов. Я в это время стояла с ней рядом. По его тону выходило, что она должна бы его помнить. Она и притворилась, что помнит, но я поняла, что ей неприятно, что ее заставили притвориться, и пошла она на это только потому, что подумала, что он обиделся, что его не узнали. А он понял, что она притворилась. И тут-то сразу стал колючий.
А я и тут умудрилась подпортить. Говорил он совсем как англичанин. Я и ляпнула: «Где это вы научились так хорошо говорить по-английски?» Он только глянул на меня и сказал: «В Англии». Я, конечно, сконфузилась, с перепугу изобразила страшное удивление и интерес, всячески старалась говорить как можно дружелюбнее, а получилось только, что я не в меру любопытна. Лили увела меня занимать других гостей, а когда я опять его увидела, он стоял более или менее один, неподалеку от группы преподавателей. Я подошла к нему и сказала: «Пойдемте, я покажу вам сад». Уже начало темнеть, а мы и так были в саду, так что прозвучало это, наверно, очень глупо. Но только тут я заметила, какой он красивый. И высокий. В Индии многие мужчины, с которыми я говорила, были ниже меня ростом на дюйм или два, и если это было на каком-нибудь вечере, где я и так стеснялась, то от этого мне становилось совсем невтерпеж.
Но он разрешил мне показать ему сад. Поэтому я и помню, что в то утро навлекла на себя неудовольствие Бхалу. Я показала ему клумбу, на которую наступила, когда тянулась за ноготками. И спросила, хороший ли у него был сад, когда он жил в Англии, и он ответил, что сад, наверно, был как сад, но он как-то не обращал на него внимания. Тогда я спросила: «Но вообще по Англии вы скучаете?» И он очень быстро ответил: «Теперь уже нет» — и как-то отодвинулся от меня и добавил, что ему пора уходить. Мы повернули к дому. Гости уже расходились. Он простился с тетей Лили, поблагодарил ее довольно-таки отрывисто, а мне просто кивнул на прощание. И помню, когда он ушел, а несколько человек, все индийцы, остались обедать, меня вдруг осенило, что, если не считать цвета кожи, он вообще не индиец — в том смысле, как я это понимала.
Когда все ушли и мы с Лили выпили по рюмочке на сон грядущий, она сказала: «Ну, какое впечатление у тебя осталось от этого мистера Кумара?»
Я ответила: «По-моему, он бесконечно печальный человек». Это было первое, что пришло мне в голову, хотя до этого я такими словами о нем не думала. И Лили больше ничего не сказала, кроме своего обычного: «Допивай, и пошли-ка мы спать».
* * *
Я рада, что решила писать. Даже если ты этого не прочтешь, это помогает мне кое-что понять. Я, кажется, осуждала Лили за ее антипатию к Гари. Нет, надо быть честной. Мне это не кажется, я действительно ее осуждала. И, как видно, зря. Вновь пережив нашу с ним первую встречу, я теперь понимаю, что Лили, считая себя ответственной за меня перед тобой, заметила, наверно, как мы с ним вдвоем отправились осматривать сад, и безошибочно услышала звоночек, предупреждающий об опасности, ведь она научилась к нему прислушиваться. Вспоминая, сколько всего замечательного Лили сделала в жизни, я поняла, что ошибалась, не могла она держать зла на Гари за то, что он отнесся к ней критически в те первые несколько минут, когда явился к ней в гости. И между прочим, Лили ведь тоже женщина. Она не могла не почувствовать его чисто физической привлекательности. И когда мы с ним уединились (всего-то на десять минут!), не могла остаться равнодушной при мысли, какое впечатление он должен был произвести на меня.
Раньше я объясняла то, что она «отмахнулась» от него после первой же вполне благожелательной попытки включить его в круг людей, вхожих в дом Макгрегора, только тем, что ее покоробила его «колючесть», или же той чопорностью, которая многих в ней удивляет, когда люди, по ее мнению, нарушают правила «хорошего тона». И, помня, что в прошлом, еще ничего о нем не зная, она искренне постаралась ему помочь, я подумала, что ее обидело, что он никак не выразил ей благодарности, даже, прощаясь, не сказал (а мог бы, при том, что нужные слова и интонации были бы для него так естественны): «Благодарю за приятный вечер и вообще за всё».
Возможно, эта кажущаяся невежливость и восстановила ее против Гари, но теперь-то я уверена: если б мы с ним только обменялись светскими улыбками, она после его ухода первым делом сказала бы что-нибудь такое, например: «Бедный мистер Кумар плохо воспитан. Надо нам посбить с него заносчивости. В сущности, это даже не его вина». Но она поняла, что заносчивость Гари — чепуха по сравнению с той опасностью, которая грозит мне, грозит ему, если наша нелепая, но безобидная прогулка по саду перерастет в дружбу, а Лили, как светская женщина, сразу усмотрела такую возможность.
* * *
И сны мои, кажется, вернулись как раз в это время. Помнишь, тетечка, я когда-то писала тебе про мои сны? Сны, которые одолевали меня, когда я только приехала в Индию, и опять вернулись, когда я переселилась из Пинди в Майапур? Сны про лица. Неизвестно, чьи лица, воображенные, выдуманные, созданные из ничего, но отчетливые до ужаса, потому что абсолютно реальные? Чужие лица, которые преследовали меня даже во сне, потому что наяву мне казалось, что все, кто меня окружает, чужие?
Первые недели две в Майапуре, когда все еще было мне внове и я только приглядывалась, они мне не снились. Но потом, как я тебе и писала, был период, когда новизна уже немного стерлась и я все возненавидела, потому что все меня страшило. Наверно, это и началось с того сборища с коктейлями. Мне хотелось поскорей уложить чемоданы и вернуться в Пинди, и это было странно, потому что, когда в Пинди на меня напала тоска по родине, мне хотелось поскорей уложить чемоданы и вернуться в Англию. И как ты тогда, кажется, догадалась о том, что со мной творится, так теперь, наверно, догадалась и Лили. Но в какой мере приписала мою нервозность (которую я так старалась скрыть) мыслям о мистере Кумаре? И в какой мере она действительно была вызвана этими мыслями?
Как раз тогда я нарушила мое обещание никогда не ходить в клуб, потому что Лили не могла бывать там со мной. Девушки, с которыми я работала в больнице, все звали меня туда, пойдем да пойдем. А с ними было так легко разговаривать. Это было такое облегчение — сесть на велосипед, прикатить в больницу, а там не надо думать, что и как говорить, можно плюхнуться в кресло и пожаловаться на жару, и знать, что каждое твое движение, и шутка, и выражение лица будет понято как надо.
Какое это блаженство — быть вполне естественной. Не оставаться в долгу, если кто ругнется или подденет. Самой поддевать и ругаться. Дать себе волю, отпустить тормоза.
И вот с некоторыми из них я стала иногда по дороге домой заглядывать в клуб промочить горло. Примерно в половине шестого за ними обычно заходили молодые офицеры из казарм. Ничего серьезного тут не было. Просто молодые люди и девушки вместе проводили свободное время, а может, и переспать успевали, если было где. В клуб мы ехали в тонгах либо в армейских грузовиках, если мальчикам удавалось «организовать транспорт», как они выражались. Потом усаживались там в баре, или в курительной, или на террасе. Была еще гостиная, и в ней патефон и уйма старых танцевальных пластинок: Виктор Сильвестер, Генри Холл — и кое-какие новые: Дина Шор, Вера Линн. Примерно в 6.30 я незаметно скрывалась и ехала в тонге домой. Мне было ужасно стыдно, ведь я говорила Лили, что ноги моей не будет в клубе. Она-то только смеялась: «Не дури. Конечно, бывай там, и почаще». И я всегда ей признавалась, только первый раз всю дорогу выдумывала причины, почему опоздала. Ну а когда призналась, пойти во второй раз было уже легче. И не так стыдно, и в клубе я все больше чувствовала себя как дома. Несколько раз я даже оставалась там обедать, а тетю Лили только в последнюю минуту предупреждала по телефону.
А однажды один из мальчиков, когда подвыпил и непременно пожелал проводить меня к телефону, спросил: «Ведь на самом деле она вам не тетя?» Я сказала: «Нет, а что?» — «Да я так и думал, что в вас здешней крови ни капли нет, даже пари держал». И тут сразу стали понятны разные мелочи — не столько то, что болтали молодые, сколько о чем упоминали (или, вернее, умалчивали) вполне взрослые женщины. Какие у них делались лица, когда они спрашивали, где я живу, а я отвечала: «В доме Макгрегора». И как их мужья вмешивались в разговор и спрашивали про тебя и про дядю Генри, как будто хотели убедиться (это я только теперь поняла), что я действительно племянница бывшего губернатора, а не ошибка молодости самой Лили Чаттерджи.
Но тут вот еще что, тетечка. Все это, наверно, было бы мне до лампочки, если б за веселым времяпрепровождением в приятной компании не скрывалась какая-то страшная скука, вроде паралича. Мне претило, что после нескольких рюмок все, что говорили эти ребята, отдавало сальной двусмысленностью, как у школьников. Постепенно мне стало ясно, что вся эта легкая дружба — никакая не дружба, потому что стоит узнать друг друга поближе, и люди начинают понимать, что их, в сущности, ничто не связывает, кроме чисто внешних обстоятельств, а значит, этой дружбе грош цена. Все мы были в плену у этих обстоятельств, и все было противно, а оторваться не решались. Я дошла до того, что сидела, слушала, что говорят, и думала: «Нет, так не годится. Только зря тратить время. Нет у меня на это времени».
В тот вечер, когда я поехала в клуб с майдана, где был парад Военной недели, я наконец ясно все это осознала. Может, это было просто случайное совпадение, что в тот день я опять видела Гари, в первый раз после того сборища у нас? Думаю, что нет. То и другое было связано — вторая встреча с Гари и то, как я огляделась в клубе, прислушалась к разговорам и сказала себе: «Нет у меня на это времени». И конечно, тот, второй человек тоже был в клубе. Роналд Меррик. Может быть, это тоже было не случайное совпадение.
* * *
На парад Военной недели я поехала в субботу днем, часа в четыре, с несколькими девочками из больницы и тремя офицерами-беркширцами. Нам хотелось посмотреть парад и послушать военный оркестр — гвоздь всей недели. И еще предстояли финальные встречи боксеров и борцов. Боксеры почти все были англичане, а борцы — индийцы из одного из индийских полков. Одна девочка заявила: «Нет, этих я смотреть не желаю», и мы пошли на бокс и поглядели, как наши солдатики расквашивают друг другу физиономии. А потом двинулись в чайный павильон. Парад должен был начаться в 5.30. Ничего подобного этому чайному павильону я в жизни не видела. Полно цветов. Длинные столы под белоснежными скатертями. Серебряные самовары. Мороженое, взбитые сливки, желе, бисквит с кремом. Один из наших мальчиков сказал, что это «какой-нибудь туземец-подрядчик расстарался и заработает на этом хороший куш». Так оно, наверно, и было, и это сразу отмело представление, будто только англичане едят досыта, хоть и не отмело представления о том, как дома, в Англии, они бегают из магазина в магазин со своими мизерными продовольственными книжками. И не отмело мысли о всех тех, кого не пустили в павильон — не потому что у них не хватило денег на билет, а потому, что этот павильон был «Только для офицеров и их гостей». Там было несколько индианок, жен индийских офицеров, но огромное большинство физиономий были белые, если не считать слуг, которые с ног сбивались, стараясь обслужить всех сразу. А «офицеры» — это был только деликатный синоним для слова «европейцы», потому что там хватало и штатских с женами, но белых, таких, как комиссар и несколько человек, которых я узнала, потому что они бывали у Лили, — преподаватели или служащие Британско-индийского электрозавода.
Мистер Уайт стоя разговаривал с командиром бригады и окликнул меня: «Привет, мисс Мэннерс. С бригадиром Ридом вы, кажется, знакомы?» Почему это было мне так приятно? Потому что наши мальчики сразу вытянулись в струнку, а девочки напустили на себя самый невинный вид. Оказалось, что бригадир Рид раньше служил в Пинди и видел нас на каком-то приеме, но помнили мы друг друга лишь очень смутно. Он справился о тебе, потом Уайт спросил: «Как Лили?», я ответила: «Лучше некуда» — и почувствовала, что отомщена и уже не считаюсь в нашем кружке странной девушкой, которая живет у «этой индианки». Ну еще бы. Хоть она и была «этой индианкой», сам комиссар назвал ее Лили! Меня взяла досада, потому что Уайт не спросил: «А где Лили?» Он сам знал, что едва ли увидит ее в этом павильоне, а значит, она вообще не приехала на майдан, потому что пить чай «в соседнем павильоне» не захочет.
Я представила ему моих мальчиков и девочек, и для них эта минута стала самой памятной за весь день, так же как и для меня немного позже, когда мы пересекали майдан по дороге к трибунам и я увидела Гари, подошла к нему и мы поговорили с ним минут пять, а они покорно ждали и готовы были ждать сколько угодно, потому что не могли догадаться, кто он есть, если я только что запросто болтала с комиссаром и с командиром бригады. Когда я к ним вернулась, один из офицеров спросил: «Это кто же?», и я ответила небрежно: «Так, один мальчик, он учился в Чиллингборо», как будто я была с ним знакома еще тогда, как с товарищем моего брата или еще какого-нибудь близкого родственника. Они и прикусили языки, ведь из них никто в такой замечательной школе не учился. А я совсем зарвалась. Точно похвалялась своим снобизмом. Ведь это было их оружие, а не мое. То есть это было их оружие тогда, и только в Майапуре, а не в Англии. Мне приятно было хоть на минутку перевернуть их мир вверх тормашками.
* * *
Гари был на параде Военной недели от своей «Газеты». Сначала я его не узнала — и потому, что без очков вообще плохо вижу, но главное — потому, что он стал совсем другой. До меня только после еще нескольких встреч дошло, что он потратился на новую одежду: брюки теперь были не белые и не мешковатые, сидели гораздо лучше. Хоть он тогда у нас держался так неловко, он, очевидно, ждал новых приглашений и приоделся, хоть это было ему не по карману, чтобы чувствовать себя свободнее. Как-то раз, уже позже, я ему сказала: «Вы же раньше курили. Я помню вас с сигаретой», и он этого не отрицал, но сказал, что бросил курить. И я тогда не сразу сопоставила новые брюки с деньгами, сэкономленными на куреве, и не поняла, как все это связано с надеждами, которые заронило в нем приглашение Лили.
Он прожил в Англии всю свою жизнь, во всяком случае с двухлетнего возраста, когда его отец продал свои земли в Соединенных провинциях и навсегда уехал из Индии. Мать его умерла, когда он только родился, и, переселившись в Англию, его отец порвал связь со всеми родными, кроме одной сестры, этой самой тети Шалини, которую в шестнадцать лет выдали замуж за некоего Гупта Сена, брата одного майапурского богача. В Англии отец Гари нажил много денег, но потом разорился и умер и оставил Гари бездомным и нищим. Он уже перешел в последний класс в Чиллингборо, а тут остался совсем один на свете. Тетя Шалини заняла денег у своего богатого родича и оплатила Гарин проезд обратно в Индию. Одно время он работал в конторе этого дядюшки, у базара, но в конце концов получил работу в газете, потому что хорошо знал английский. Все это мне вкратце рассказала тетя Лили (а ей рассказал Васси), но я очень долго считала, что, раз его родственник так богат, деньги для него не проблема и в газете он работает по призванию, а не ради денег. И далеко не сразу взяла в толк, что все планы, которые они с отцом строили насчет его будущего, пошли прахом, потому что дядюшка Ромеш не пожелал дать ему ни пенни на дальнейшее образование, а сразу запряг в работу, а у тети Шалини своих денег фактически не было. И еще, конечно, трудно было сразу осознать, что в Индии все его английские качества ничего не значили, потому что он жил у тетки в одном из домов у базара Чиллианвалла, то есть на туземном берегу реки.
Когда я подошла к нему в тот день на майдане, я сказала: «Мистер Кумар, если не ошибаюсь?» — и многие из белых, стоявших поблизости, очевидно, это заметили. Я не поняла, почему он промолчал и так неохотно пожал мне руку. И продолжала: «Я Дафна Мэннерс, мы познакомились у Лили Чаттерджи», и он сказал, что да, помнит, и справился о ее и моем самочувствии. Мы еще немножко поболтали, то есть болтала по преимуществу я, и притом все больше ощущала себя помещичьей дочкой, которая снизошла до беседы с сыном арендатора, — а он как будто хотел мне внушить такое ощущение. Почему — я не могла понять. Наконец я простилась, но сначала сказала еще: «Заходите в любой вечер. Мы всегда рады гостям», и он поблагодарил, но по лицу было видно, что он, конечно, не решится прийти без особого приглашения, да и то неизвестно, придет ли, потому что мои слова он расценил как пустую вежливость.
Ну так вот, вернулась я к своим и целый час просидела, глядя на парад и слушая оркестр. А вечером осталась обедать в клубе, и разговоров только и было что о военной выучке и маршировке. Все мужчины задирали нос от гордости за боксерские рекорды и молодцеватый вид беркширцев. Так и чувствовалось, что повсюду кругом реют флаги. Когда в клуб явился Роналд Меррик, он сразу подошел ко мне, это было что-то новое. До тех пор, после званого обеда у тети Лили, на котором мы не произвели друг на друга сколько-нибудь сильного впечатления, мы всего-то обменялись несколькими словами да раз или два, столкнувшись в клубе, выпили по рюмке для приличия. Он всегда был как будто занят и чем-то озабочен и лучше всего чувствовал себя в курительной, где вечно вступал в споры с другими мужчинами. Он прямо-таки прославился как задира и спорщик, и никому он особенно не нравился, кроме тех девиц, которые за ним охотились. Но в тот вечер он подошел прямо ко мне и сказал: «Ну как, полюбовались парадом? Я видел вас на майдане». Он подсел к нам и выпил, и тут-то вроде как пригласил меня зайти к нему как-нибудь послушать пластинки Сузы, и, когда он ушел, наши девочки стали меня изводить, вспомнили старую шутку насчет того, чтобы «никогда не доверять полисмену». Одна сказала: «Дафна, как видно, подобрала ключик к мистеру Меррику. Я-то эту рыбку уже сколько времени ловлю, и ничего не выходит», а один из мальчиков сострил что-то насчет «ключика», ну и дальше пошел обычный треп. По случаю субботы в клубе танцевали, и у бассейна творилось обычное безобразие. А на террасе можно было не только «почувствовать», что реют флаги, но и увидеть их воочию — целые гирлянды флажков. И общее настроение — под знаком «Мы им покажем». Офицер, с которым я танцевала, сказал, что теперь, после Военной недели, эти чертовы индийцы подожмут хвосты. После чего стал лезть ко мне, так что пришлось его отпихнуть. Я ушла в дамскую комнату, заперлась в уборной, слушала, как злословят за стеной, и думала: «Нет, не годится так, не годится». А позже, вернувшись в бар, оглушенная джазом, подумала: «Нельзя тратить на это время. Нет у меня на это времени».
И мне казалось, что клуб — океанский лайнер, вроде «Титаника» — полное освещение, играют оркестры, и вся эта громада несется во тьму, а на капитанском мостике — никого.
* * *
Тетечка, обещай мне одно. Если ребенок выживет, но тебе будет невмоготу иметь его около себя, ты позаботишься о том, чтобы на деньги, которые после меня останутся, обеспечить ему хорошее детство. Я все думаю, куда ему, маленькому, деваться, если он выживет, а я нет. Я не жду, что твоя любовь ко мне перейдет на существо, которое только наполовину моя кровь и плоть, а наполовину чья-то, кого ты не знаешь, кого и я, может быть, не знаю, какого-нибудь подонка. Я уже приучила себя к мысли, что ты не захочешь держать его у себя в доме, так что на этот счет ты не беспокойся. Что ребенок, зачатый при таких обстоятельствах, должен в какой-то мере пострадать за мою вину — это неизбежно. Да и кроме того, не будем себя обманывать — ты едва ли доживешь до того времени, когда уже не будешь нужна ему, если он, еще живя под твоей крышей, научится понимать и помнить. Думаю я о Лили. Но не уверена. Может быть, он окажется похож на Гари. Я-то на это надеюсь. Это было бы моим оправданием. Меня как кошмар преследует страх, а вдруг он вырастет ни на кого не похожий — безнадежно черненький, дитя мрака, крошечное отражение той страшной ночи. А между тем это все равно будет ребенок. Богоданное существо, если только бог есть, и даже если нет — имеющее право на всю любовь, какую мы способны ему уделить.
Моего ребенка — если меня не будет и я не смогу сама его выкормить, — наверно, отдадут в приют. Нельзя ли сделать так, чтобы это был отчасти и мой приют? В Майапуре есть женщина, которую называют сестра Людмила. Я как-то спросила ее, не нужны ли ей деньги. Она ответила, что нет, но обещала сказать, если деньги понадобятся. Может, ближе к старости (сколько ей лет, я не знаю) она уделит немножко заботы и новорожденным, а не только умирающим. Это было бы логично.
Под «хорошим детством» я разумею не обстановку, не образование, а гораздо более простые вещи — тепло, уют, сытную еду и ласку и участие. Все то, что на меня было потрачено даром.
Если будет мальчик, прошу тебя, назови его Гарри или Гари, если кожа у него окажется достаточно темной, чтобы сделать честь такому написанию. Если девочка — не знаю. Еще не решила. Я никогда не думаю о нем как о девочке. Только, пожалуйста, не Дафна. Ведь Дафна — это та девушка, которая убегала от влюбленного Аполлона и была превращена в лавр! А со мной-то получилось наоборот. Крепко вросши в землю, я воображала, что бегу, гонюсь за богом солнца. Когда я была еще подростком, мама как-то сказала: «Ради всего святого, перестань ты топотать». Это меня удивило, а потом ужасно обидело. Я-то думала, что раз я высокого роста, то и грациозна как Диана — длинноногая, стройная, быстрая, легкой поступью мелькаю в чаще леса! Бедная мама! Удивительно она умела всех обескуражить. Дэвид объяснил мне, в чем тут причина. Сказал, что она никогда не знает, чего хочет и чего захочет через минуту, и поэтому ей чудилось, что вокруг нее все делается не так, как надо, и она накидывалась на первого, кто казался ей виноватым, обычно на папу, а часто и на меня. Но Дэвида она обожала, потому он, вероятно, и раскусил ее лучше, чем я и папа. С ним она никогда не надевала маску. И потому, наверно, что, даже прожив много лет безбедно в Англии, она продолжала говорить об Индии так, будто только что оттуда вырвалась, я стала жалеть, что пришлось оттуда уехать, а потом полюбила ее и стала туда стремиться не только ради папы, но и ради себя. Когда я подросла и уже кое-что понимала, он показывал мне картинки и фотографии и рассказывал удивительные истории о стране, «где я родилась». Поэтому, когда я сюда вернулась, я все искала ту Индию, которую, как мне казалось, знала, потому что давно видела ее в воображении как некий мерцающий мираж на горизонте, где с далеких гор веют напоенные ароматом ветерки.
* * *
Забавно, ведь знаешь, кажется, что в Индии бывает сезон дождей, а представляется она как сплошь высохшая, сожженная солнцем земля, огромная могольская пустыня с редкими, обнесенными стеной городами, где все дома похожи на мечети, с арками, разукрашенными каменной резьбой. Изредка за окном вагона — как в том поезде, которым я в первый раз ехала в Пинди, — мелькнет та страна, что жила в твоем воображении. Я рада, что приехала не в разгар дождей, а раньше. Самое лучшее — это сначала измучиться от жары, от которой распускаются пунцовые цветы «гол мох ура» — лесного огня (до цветения это такое мертвое, сухое, скучное дерево), — только тогда прочувствуешь всю прелесть первых гроз и ливней, когда все сразу зазеленеет. Это — моя Индия. Индия дождей.
* * *
Есть еще одно слово, кроме имени Гари, которого мы никогда не произносим. Бибигхар. Так что если ты и была когда-то в Майапуре и, может быть, даже заходила в этот сад, я не знаю, сохранилось ли у тебя о нем какое-нибудь воспоминание. Вот уж где сплошная зелень. Даже в самые жаркие, сухие месяцы там все зеленеет, пусть это зелень немного пожухлая, усталая, но все же зеленая, разросшаяся, запущенная, окруженные стеной заросли деревьев и кустов с тропинками и неожиданными лужайками там, где сто лет назад были, наверно, цветники и фонтаны. До сих пор еще виден фундамент старого дома (дом-то и назывался Бибигхар). В одном месте сохранился мозаичный пол, и к нему ведут ступеньки, похоже, что там был парадный вход. Позже вокруг мозаики поставили колонны и накрыли крышей, так что получилось что-то вроде беседки или павильона. Раза два в год приходят рабочие из Управления общественных работ, прочищают кустарник и срезают ползучие растения. В глубине участка стена разрушена, можно выйти прямо на пустырь. А со стороны улицы в стене проделана арка, но ворот нет. Так что сад всегда стоит открытый. Но туда мало кто ходит. Дети считают, что там водятся привидения. Ребята, которые посмелее, играют там по утрам, и в сухую погоду богатые индийцы иногда устраивают там пикники. Но по большей части там пусто. Лили мне рассказывала, что дом был построен каким-то раджей, а разрушил его этот Макгрегор, чьим именем назван ее теперешний дом, а его жена Дженет в роли семейного привидения бродит иногда по нашей веранде, прижав к груди мертвого младенца. Лили первая и сводила меня в Бибигхар. Гари что-то слышал о нем, но даже не подозревал, что длинная стена, которая тянется вдоль улицы, ведущей к Бибигхарскому мосту, — это и есть стена Бибигхара, и в саду, конечно, не был, пока я его туда не привела. Когда я в первый раз была там с Лили, там играли дети, но при виде нас убежали, решив, вероятно, что мы дневные привидения. А после этого я там вообще ни разу никого не видела.
* * *
Мы с Гари стали ходить в Бибигхар и сидеть там в беседке — это было единственное место в Майапуре, где мы могли быть вместе и держаться совершенно естественно. И даже там нас не оставляло ощущение, что мы вынуждены скрываться от любопытных, или насмешливых, или осуждающих взглядов. Особенно сильно это ощущение — что мы хотим спрятаться или только что прятались — бывало, когда мы сворачивали под арку или когда вставали с места перед тем, как двинуться домой. Да и пока мы там сидели, вдруг начинало казаться, что надо быть начеку на случай, что кто-нибудь застанет нас вместе, хотя ничего плохого мы не делали, а просто сидели рядом на краю мозаичной площадки, свесив ноги, как ребята на стенке. Но хотя бы в одном мы могли быть уверены — что ни один белый туда не зайдет, ни мужчина, ни женщина. Они и не заходили. Этот сад как-то невольно связывался только с индийцами, как майдан — только с англичанами.
Ты, может быть, скажешь — но ведь в том, что тебе хотелось быть с Гари, а ему хотелось быть с тобой, не было никакого преступления и было сколько угодно мест, где вы могли бы спокойно встречаться. А скажи-ка, где именно? В доме Макгрегора? Да. У него в доме, близ базара Чиллианвалла? Да. А где еще? Где еще, тетя, милая? Где еще на нас не стали бы глазеть, не вынудили бы краснеть от смущения и заранее вооружаться в предвидении оскорблений или скандала? Клуб отпадал. Был еще второй клуб, так называемый Индийский, но туда Гари не хотел со мной идти, потому что там все эти баньи, что сидели задрав ноги на стулья, стали бы глазеть на меня. Английское кафе отпадало. Китайский ресторан отпал — после одного раза, когда ему не разрешили пройти со мной наверх. Я там была как-то раньше с одним офицером и тут, не подумав, стала было подниматься по лестнице. Так что пришлось нам сидеть внизу, и я слышала нелестные замечания, произнесенные громким шепотом теми, кто поднимался в верхний зал, и ловила на себе любопытные поганые взгляды английских нижних чинов, сидевших, как и мы, внизу. Отпало даже наше жалкое кино, потому что я не осмелилась бы привести Гари на тесный «балкон», а он не захотел бы, чтобы я сидела с ним на деревянной скамье в партере. Не захотел он идти со мной и в индийское кино напротив храма Тирупати, хоть я его и просила. Он сказал: «Зачем? Чтобы высидеть там, зажав нос, четыре часа „Рамаяны“, набраться блох и искупаться в собственном поту?»
Тетечка, в Майапуре нам абсолютно негде было просто побыть вместе, для этого всякий раз требовались особые планы и приготовления. Несколько вечеров мы провели в доме Макгрегора, когда тетя Лили уезжала играть в бридж, и еще несколько вечеров — у его милой, доброй тети Шалини, но ведь дружбу между двумя живыми людьми нельзя обставлять такими рогатками, верно? И нельзя пройти мимо того, что за такую дружбу обоим надо бороться что есть сил.
* * *
И конечно, я знала, что делала, когда затеяла эту дружбу. Как я и думала, он не принял всерьез мои слова, что мы «всегда рады гостям». Я рассказала Лили, что встретила его на майдане и приглашала зайти в любой день. Теперь, задним числом, я вижу, что она отнеслась к этому так, будто подсознательно меня одобряет, но опасается последствий или если и не опасается, то одобряет далеко не безоговорочно. Она мне еще кое-что про него рассказала. Может, она хотела меня предостеречь, но только подлила масла в огонь, мне уже не терпелось покончить со всей этой косностью. Про то, что он учился в Чиллингборо, она, очевидно, говорила мне еще до нашей встречи на майдане, потому что у нас он тогда ни словом о Чиллингборо не обмолвился, это я хорошо помню. Но в остальном я уже забыла, когда именно составила о нем более или менее цельное представление. Одно я знаю и признаюсь в этом — что тогда на майдане я смутно сознавала, что делаю доброе дело. Сейчас эта мысль мне глубоко противна. Я не могу себе простить, что, пусть даже неумышленно, вроде как снизошла к человеку, которого полюбила.
Когда прошло больше двух недель, а он все не показывался, я написала ему письмо. Адрес его я нашла у Лили в записной книжке. Ты знаешь, что как партнер в бридж я безнадежна, а она обещала в субботу быть у Уайтов, ее пригласили поиграть с ними и с судьей Мененом, у него жена в это время была в больнице. И выходило, что вечером я буду дома одна. В клуб меня не тянуло после той патриотической демонстрации с флагами. Я сама не знала, чего хочу. Я подумала о Гари. Я и до этого много о нем думала. И в субботу утром написала ему и велела одному из наших слуг отнести письмо по адресу. Слуга вернулся и сказал, что Кумар-сахиба не было дома, но письмо он оставил. Так вышло, что я не знала, придет Гари вечером или нет, и от этого я еще острее почувствовала молчаливое осуждение Лили и еще тверже вознамерилась на всякий случай подготовиться. Я заказала обед на двоих — куриный плов с маринованным луком, и горы горячих чаппати, и пива со льдом, а на сладкое — то, что я называла «манго-мельба». Проверила шкаф с ингредиентами для коктейлей и послала боя подкупить еще джина. Потом сама съездила в универмаг и купила комплект пластинок, только что полученных, и коробку иголок, а то Лили вечно забывала их менять и сыгранные хранила вместе с новыми. У нас был граммофон «Декка» — Лили привезла его из Калькутты, когда последний раз туда ездила. А вернувшись домой, я стала носиться по всему саду и нарвала столько цветов, что Бхалу только глазами хлопал! Ни дать ни взять Чио-Чио-Сан в ожидании Пинкертона! Лили уехала к Уайтам в половине седьмого, когда я принимала ванну. Она зашла в мою комнату и крикнула: «Дафна, меня нет, вернусь, наверно, часов в двенадцать. Желаю хорошо провести время». Я ответила: «Обязательно! Всем от меня привет». Она еще прибавила: «Надеюсь, он понимает, что не прийти было бы неприлично». Я крикнула в ответ: «Ну конечно, придет, иначе уже известил бы запиской». Бедная Лили. Ведь она думала, что он не явится. И я тоже так думала. Я надела свое отвратное платье электрик, которое при лампе кажется грязно-зеленым, но мне было все равно, как я выгляжу. Я знала — что ни надень, я всегда буду выглядеть такой, как есть. И в этот раз я радовалась, что мне все равно, что я такая, как есть, и все тут.
Но он явился — в 7.30, минута в минуту, прикатил в тонге. Чтобы нанять извозчика, он, наверно, прошел пешком до вокзала, потому что на том берегу обычно бывали только велорикши. А может быть, он ехал от европейского базара, из мастерской Дарваза Чанда, и дожидался там, пока ему дошивали новую рубашку, в которой от него так славно пахло чистой, нестираной материей.
* * *
В своем письме я немножко схитрила — не сказала определенно, что буду одна. Почем я знала, вдруг он из тех молодых индийцев, которые считают, что обедать вдвоем с женщиной предосудительно, а если не он, так вдруг тетя Шалини его не пустит, если узнает, что Лили не будет дома. Сначала он был как на иголках — очевидно, ждал, когда покажется Лили. Мы сидели на веранде. Раджу подал коктейли. В тот раз я, наверно, и предложила ему сигарету, а он сказал, что бросил курить. Оттого что он не курил, он еще больше нервничал, и вдруг я тоже почувствовала себя как на иголках, потому что сообразила, какую ловушку сама себе подстроила. Ведь он мог подумать, что Лили уехала, чтобы не встретиться с ним, потому что не одобряет его появления у нее в доме к обеду, или, того хуже, что я тайком пригласила его в такой вечер, когда ее не будет дома, потому что знала, что она бы этого не одобрила. И тогда я, пока не поздно, рассказала ему все как есть — что по субботам Лили почти всегда играет в бридж, а я бридж терпеть не могу и мне захотелось спокойно пообедать с кем-нибудь, с кем можно поговорить об Англии, а в письме схитрила, чтобы он или его тетя не сочли странным, что девушка приглашает к себе молодого человека вечером, когда заведомо будет одна.
Сначала это его как будто озадачило. Ему, наверно, уже года четыре ни одна англичанка не говорила таких вещей, которые дома, в Англии, прозвучали бы привычно и естественно. Мне было противно даже сознавать это, но, что уж тут притворяться, я это сознавала.
Даже в тот первый вечер нам пришлось вырабатывать какую-то основу для нормальных человеческих отношений, а ведь это как раз был единственный вечер, когда мы не ощущали непосредственного осуждения или давления извне. Я увидела, что, когда до него дошло, что Лили нет дома, он уже минуты через две стал оттаивать, стал забывать о себе и перенес свое внимание на меня. Мы выпили по три коктейля, а потом пошли в дом и сели обедать рядом, близко друг к другу, на одном конце стола. Я уже заранее сообразила, что хоть мне и хотелось бы сказать Раджу, чтобы только принес еду, а подавать я буду сама, но все же для душевного спокойствия Гари будет лучше, если нам обоим будут прислуживать на равных. Раджу, конечно, попробовал было кольнуть Гари, обратившись к нему на хинди, но скоро бросил эту затею, убедившись, что Гари владеет этим языком ничуть не лучше, чем я! И приятно было видеть, как Гари оттаял, когда мы пошутили по этому поводу и принялись за еду. И он и я. Точно двое ребят за руку вошли в воду. На обедах у Лили я замечала, что мужчины-индийцы вроде как нарочно себя ограничивали, точно считали, что есть с аппетитом в смешанном обществе нетактично. А я раз за разом посылала Раджу за новой порцией чаппати, и Гари уплетал их без зазрения совести. Позже, когда я обедала у его тети Шалини, я убедилась, что у них готовят не так, как у нас, и поняла, почему Гари так наслаждался моим обедом, точно месяца два не ел досыта. Я, например, никогда не могла есть ничего приготовленного на топленом масле, у меня от него сразу печень начинает бунтовать, а в некоторых из блюд, которыми нас угощала миссис Гупта Сен, несомненно, было топленое масло.
Но это я забежала вперед. Отдав должное обеду, мы, совсем обессиленные, перешли в гостиную. Раджу подал туда коньяк и кофе, а Гари занялся граммофоном. Весь обед мы проговорили об Англии. Мы с ним ровесники, почти день в день, так что помнили то же самое в том же возрасте — как, задрав головы, смотрели на Р-101, и самолеты, и Джима Моллисона и Эми Джонсон. И как Амелия Эрхарт погибла в Тиморском море. И фильмы — «Дождь», «Мата Хари». И крикет — Джек Хоббс, Уимблдон — Бенни Остин и Бетти Натолл, автомобильные гонки и сэр Малькольм Кэмбл, «Арсенал» и Алек Джеймс и концерты в бедном разбомбленном Куинс-холле, хотя Гари там никогда не бывал, потому что серьезную музыку он не любил, а только джаз и свинг.
Когда мы начали ставить пластинки, сразу было видно, какое это для него удовольствие, но видно и то, как вся его нервозность вдруг вернулась. Он проиграл две, поставил третью, Виктора Сильвестера, и только тут собрался с духом и сказал: «Я совсем разучился, да и никогда не блистал, но, может быть, потанцуем?» Я сказала, что меня тоже когда-то называли стреноженным слоном, но вместе, может, будет легче, и мы поднялись с места и приготовились. Сначала он держал меня слишком на отлете, и мы все время смотрели друг другу на ноги и извинялись, и все так серьезно, и, когда пластинка кончилась, он, кажется, ждал, что я сяду или предложу выйти на веранду — не только потому, что ничего не вышло, но и потому, что я, может быть, согласилась с ним танцевать, чтобы было не слишком явно, до чего мне противно, что меня обнимает индиец. Но я попросила его найти пластинку «В этом настроении», в ней музыка, как тебе, вероятно, не известно, быстрая, легкая, сама тебя ведет, и опять потащила его танцевать, и теперь мы смотрели друг другу не на ноги, а через плечо, и держались ближе, и постепенно нашли какой-то общий ритм.
* * *
Если ты когда-нибудь это прочтешь, твое осуждение не огорчит меня, ведь меня уже не будет. Я могу тешить себя мыслью, что снова все это переживаю ради того единственного человека, который знает, как бледно такой пересказ отражает то, что было. Может быть, для меня это не только страховка от вечного молчания, но еще и утешительный приз, возможность снова ощутить его присутствие, пусть неосязаемое, но все же более отчетливое, чем в одних воспоминаниях. Все же это лучше, чем почти ничего, чем всего лишь незакрепленные мысли. О, я могла бы вызвать его к жизни вот этим моим затупившимся пером в другом виде, более приемлемом для тебя, но, может быть, не так точно соответствующем тому, каким он был на самом деле. Да, могла бы, если б умолчала о неуверенности, которую тогда чувствовала, о неловкости, которую мы оба ощущали; если б притворилась, будто с той минуты, как мы друг друга коснулись, мы оказались во власти простого чисто физического притяжения. Но простым оно никогда не было. Разве что если сказать, что встречные сложности аннулировали друг друга, с его стороны — та сложность, что обладание белой женщиной могло помочь ему утвердить свое «я», а с моей стороны — странный, почти сладкий страх перед его цветом кожи. Иначе как объяснить, что, когда мы танцевали второй раз, мы смотрели (упорно!) друг другу через плечо, словно боялись взглянуть в глаза друг другу?
В третий раз мы не пошли танцевать, но теперь, когда мы сидели и только слушали музыку, он уже не мог заподозрить во мне физического отвращения, как было бы, если б я отказалась танцевать с самого начала или после той первой, неуклюжей, безличной попытки. Когда мы, расставшись, уселись каждый в свое кресло, это было обоюдное бегство от опасности, опасности для себя, но и для другого, потому что ни он, ни я не были уверены, что другой эту опасность видит и понимает, какую роль притягательная сила опасности может сыграть в наших отношениях.
Вот так нас и застала Лили, когда вернулась, — мы сидели и болтали по-приятельски, явно довольные проведенным вместе вечером, а напряженность была скрыта так глубоко, что мы даже не знали, оба ли ее чувствуем.
После ее возвращения он побыл еще минут десять, не больше, и за это время, пока она с ним разговаривала, я словно видела, как он опять слой за слоем натягивает свою защитную оболочку, а Лили переходит с холодноватого тона на дружеский и обратно на холодноватый, словно в какой-то момент, перед тем как он окончательно спрятался, она углядела в нем уязвимую точку, которой опасалась, и сама поспешила прикрыть дверь — не затем, чтобы оставить его на улице, а чтобы удержать меня в доме, разлучить нас, чтобы всех уберечь от беды.
Обычно не придаешь особого значения тому, как люди действуют друг на друга, если ни того ни другого не любишь. А тут я, наверно, уже любила их обоих.
* * *
Военную неделю провели в конце апреля, так что обедал у меня Гари, очевидно, где-то в начале мая. В мае некоторые девочки из больницы уехали в отпуск в Дарджилинг и другие места. В Майапуре стояла невероятная жара. Луна была какая-то кривобокая, ты, помнится, говорила мне, что такое впечатление создается от пыли, которая скапливается в атмосфере. Вообще-то в отпуск уезжали немногие — из-за всяких политических кризисов, которые то вскипали, то затихали, то опять вскипали. Моя заведующая сказала, что может предоставить мне отпуск недели на две, и Лили, вероятно, была бы не прочь уехать ненадолго в горы, но в больнице персонала и так было в обрез, да я и не считала себя вправе брать отпуск, когда еще так мало поработала. Я предложила Лили поехать одной, но об этом она и слышать не хотела. Вот мы и продолжали жариться, как, впрочем, и почти все, начиная с окружного комиссара. Даже для устройства приемов было слишком жарко — раза два пообедали в гостях, раза два пригласили гостей к обеду, вот и все.
Гари на следующий день после того, как побывал у меня, прислал мне записку с благодарностью за вчерашний вечер, а через несколько дней я получила приглашение от миссис Гупта Сен — пообедать у нее в следующую субботу. Лили тоже была приглашена, но сказала, что ее зовут только из вежливости, да к тому же она опять играет в бридж, так что это исключается. Я приглашение приняла, после чего получила вторую записку, на этот раз от Гари, он писал, что, поскольку их дом трудно разыскать (номера расположены как попало в Чиллианвалла Багх — не одна улица, а несколько улиц и проездов), он, если я не возражаю, заедет за мной на тонге примерно в 7.15. Он выразил надежду, что мне будет не очень скучно, ведь граммофона у них нет. Я спросила Лили, надо ли понимать это как намек, что неплохо бы мне захватить наш граммофон и несколько пластинок, но она сказала — нет, ни в коем случае: мало того, что миссис Гупта Сен может не одобрить появления у нее в доме такого предмета (тем более что музыка у нас вся европейская, а она, вероятно, переносит ее с трудом), она еще, скорее всего, воспримет это как обиду, как критику того гостеприимства, какое она в силах оказать. Я послушалась Лили и думаю, что она была права.
Тетя Шалини была прелесть и очень хорошо говорила по-английски. Она рассказала, что английскому ее еще в детстве обучил отец Гари и как ей приятно, что Гари живет у нее, теперь у нее есть возможность вспомнить то, что успела забыть, и улучшить свое произношение. Показала мне много снимков Гари, сделанных в Англии, их время от времени посылал ей ее брат Дилип, отец Гари. Несколько раз он был сфотографирован в саду перед домом, в котором они жили в Беркшире, прямо-таки маленький дворец. Были и более поздние снимки — Гари с английскими друзьями по фамилии Линдзи.
Я сильно нервничала в предвкушении этого визита в Чиллианвалла Багх, особенно когда Гари опоздал за мной заехать и я ждала его одна на веранде. Лили уже укатила играть в бридж. Она посоветовала мне выпить до приезда Гари на тот случай, если миссис Гупта Сен окажется трезвенницей, и я, из-за того что пришлось прождать эти лишние двадцать минут, выпила побольше, чем следовало. Гари был ужасно расстроен, что опоздал, — наверно, боялся, что я расценю это как типично индийскую оплошность. Он сказал, что никак не мог найти тонгу — точно их все расхватали, чтобы попасть на первый сеанс в кино. Я вздохнула с облегчением, когда села в тонгу и увидела на сиденье холщовую сумку, а в ней, по всей видимости, завернутые в бумагу две бутылки — с джином и с лимонным соком. Когда мы ехали по Бибигхарскому мосту, уже почти стемнело. В тот раз, проезжая вдоль стены Бибигхара, я и спросила его, какого он мнения об этом парке. Мы посмеялись, когда выяснилось, что он там ни разу не был и не знал, что это он и есть. Я сказала: «Я живу в Майапуре всего несколько месяцев, а вы уже четыре года, а город-то знаю лучше. Вот так же люди живут в Лондоне, а побывать в Тауэре не удосужатся».
Мы свернули к новым кварталам Чиллианвалла. Улицы были освещены плохо, и от реки шел ужасный запах. Я подумала, господи, куда меня занесло, и, признаюсь, сердце у меня сжалось. Оно, правда, немножко разжалось, когда я увидела, какого типа здесь дома — построены впритык друг к другу, но культурного и современного вида, сплошь кубы и квадраты. Забавно было слушать, как Гари объяснялся с извозчиком на ужасном ломаном хинди, не лучше моего. Я его поддела на этот счет, и он постепенно оттаял.
Но когда мы остановились перед его домом, он опять закостенел, потому что кто-то из слуг догадался закрыть ворота. Он крикнул, но никто не вышел, а извозчик не проявлял желания сдвинуться с места, так что пришлось Гари самому вылезать и открывать ворота. От ворот было всего несколько шагов до крыльца, освещенного лампочкой без колпака, и мы прекрасно могли бы дойти пешком, что, вероятно, было бы и лучше, потому что извозчик стал ворчать, что там тесно, лошадь негде повернуть, и Гари пришлось с ним пререкаться. Оттого что он так плохо говорил на хинди, я все понимала и поняла, что Гари обещал приплатить, если тот вернется за нами, а до тех пор не заплатит ничего.
Мне вдруг стало невтерпеж от того, в какое дурацкое положение ставит Гари какой-то несчастный тонга-валла, и я чуть не воскликнула: «Да скажите вы этому болвану, что я лучше пешком пойду домой, чем его утруждать!», но вовремя спохватилась — ведь это значило бы проявить инициативу, это лишь ухудшило бы дело, и я смолчала, а когда тот тип нехотя пообещал-таки приехать в одиннадцать часов, небрежно сказала: «Какие они все канительщики!» — как будто я к таким вещам привыкла (а он, конечно, знал, что это не так), и вышло, будто я показала себя туристкой, заглянувшей в трущобы, и вроде как подсмеиваюсь над Гари. Сообразив, что натворила, я едва удержалась от желания догнать тонгу, уехать домой и напиться до бесчувствия.
Вместо этого мы вошли в дом, оба мрачнее тучи, словно в предвидении катастрофы, а если не катастрофы, так дикой скуки, неловкости, скованности. И тут, о счастье, в переднюю вышла тетя Шалини, как маленькая княгиня-раджпутка, искусно, едва заметно подкрашенная, в бледно-сиреневом сари, очень простом, из хлопчатобумажной ткани, но дивно прохладном на вид. Она пожала мне руку, чем свела на нет мою слабую, неловкую попытку изобразить «намасте». Сказала: «Входите, выпьем» — и провела в гостиную, маленькую, но очень красивую, а главное — там не было ничего лишнего. Два ковра, диван и одно крошечное, но очень удобное плетеное кресло, в которое она меня и усадила, пока Гари, как она сказала, «колдовал» у столика с напитками — это был бенаресский медный поднос на подставке черного дерева, инкрустированный перламутром, и на нем стояли три стакана и те бутылки, которые Гари достал из холщовой сумки, стараясь, чтобы я этого не заметила. Пока она со мной говорила, мне бросилось в глаза, что Гари на нее похож, несмотря на ее миниатюрность. По сравнению с ней я чувствовала себя дылдой, толстой, нескладной, одетой и недостаточно легко, и слишком голо. На Гари был легкий серый костюм, но пиджак он скоро снял, потому что вентилятор работал только вполсилы.
Не успели мы выпить по одной порции (а мне явно требовались две), как она встала, сказала: «Пошли обедать?» — и повела нас в соседнюю комнату, маленькую, как коробочка, — столовую. Она крикнула бою, чтобы включил вентилятор, и мы принялись за еду.
И как же она постаралась с сервировкой, чтоб мне все понравилось! Посредине стола стояла чаша с водой, в ней плавали цветы красного жасмина. И у каждого прибора кружевная, собственной работы салфеточка под тарелки. Каждое блюдо она называла, но почти все названия я уже забыла, некоторые было трудно произнести. Когда появилось главное блюдо — куриное тандури, — она обратилась к Гари: «У нас ведь есть пиво со льдом?» Он встал и вышел, а вскоре вернулся, принес пиво в бутылках, а слуга нес за ним стаканы на подносе. Она сказала: «У нас ведь есть стеклянный кувшин, Гари?» Он послал слугу за кувшином и сам опять вышел, унес бутылки, а бой принес пиво, уже перелитое в кувшин. Остальные слуги глазели с порога и через решетчатые окошки без стекла из других комнат. Тетя Шалини не пила ничего, даже воды, так что пиво пили только мы с Гари. Мне достался старинный стакан с квадратным римским орнаментом, а ему стакан поменьше и потолще. Он ни на минуту не забывал о тех мелочах, которыми стол отличался от того, к чему он когда-то привык в Англии и чему я, как он думал, придавала значение, но к концу обеда, когда я невольно наблюдала за ним, поймал на себе мой взгляд и, кажется, понял, что все, что я могла отметить как недочеты, только помогало мне чувствовать себя свободнее. И чувствовать, что он и его тетя оказывают мне почести, чем выражают какую-то, еще робкую надежду, что когда-нибудь разница в наших обычаях потеряет всякое значение, как в тот вечер она потеряла всякое значение для меня.
Обед кончился, и вот тогда она показала мне снимки. Мне безумно хотелось покурить, но я не решалась открыть сумку. И вдруг она сказала: «Гари, ведь у нас где-то есть виргинские папиросы, угости мисс Мэннерс!» Просто чудо, как она улавливала любую перемену в настроении своих гостей! Как терпима была к их вкусам, которые ей-то казались верхом безвкусицы, — к курению, к спиртному. Мне кажется, даже Гари был удивлен тем поразительным тактом, с каким она принимала у себя англичанку, как потом выяснилось — впервые в жизни. А Гари я оценила за то, что он не уговаривал меня выпить и покурить, а предоставил все это ей как хозяйке дома, до чего, наверно, не додумался бы какой-нибудь толстокожий молодой хвастунишка, желающий во что бы то ни стало доказать свое английское воспитание. И еще я очень оценила, что он тоже взял папиросу, чтобы не дать мне почувствовать, что одна я плохо себя веду, но я заметила, что он не выкурил толком свою папиросу, а дал ей догореть в пепельнице. Боялся, как бы опять не войти во вкус.
Единственное, что сошло не совсем гладко, это визит в уборную! Когда мы встали из-за стола, Гари ненадолго исчез. Он, вероятно, наказывал тете Шалини, чтобы она в это время предложила мне прогуляться, но она не осмелилась. Когда я была у них в следующий раз, она уже преодолела свою застенчивость, но в тот первый вечер мысль, что я «там» не побывала, видимо, сильно беспокоила Гари. Где-то около половины одиннадцатого эта мысль и меня стала беспокоить. Я уж подумала, может, у них и нет такой уборной, куда, по их мнению, можно бы меня пригласить. Оказалось же, что такое помещение имеется, и даже на первом этаже, насчет второго не знаю. Унитаза не было, но тетя Шалини позаботилась поставить на скамеечку ночной горшок, которым я не решилась воспользоваться, и на столе, который, судя по всему, обычно там не стоял, приготовила таз и кувшин с водой, полотенца, мыло и ручное зеркало. Я там побывала, когда мы услышали, что подъехала тонга и Гари вышел на крыльцо. Я встала и спросила: «Можно где-нибудь попудрить нос на дорогу?» И тут она провела меня коридором мимо кухни, открыла дверь и включила свет. И сказала: «Вот пожалуйста, и на будущее имейте в виду». По полу бегали тараканы, но это меня не смутило. Лили при виде таракана визжит как зарезанная, а я, когда приехала в Индию, только в самом начале ужасалась, обнаруживая их в уборных и в ванных, а потом ничего, привыкла.
Когда мы прощались, мне очень хотелось нагнуться и поцеловать тетю Шалини, но я побоялась, что это ее обидит. Гари пожелал обязательно проводить меня в тонге до самого дома, но в дом не вошел, хоть я и предложила ему выпить на сон грядущий. Мне кажется, он старался не сделать ничего такого, что можно выразить словами «Уф, с этим покончено, теперь можно и отдохнуть». Так что, когда он укатил, я села на веранде, всласть напилась холодного «нимбо» и стала ждать, когда вернется Лили.
* * *
На следующий день я послала к тете Шалини слугу с огромным букетом цветов и благодарственной запиской. Бхалу сильно разгневался на меня за опустошения, произведенные в саду, так что я дала ему немного мелочи и просила не жаловаться «мэм», на что он, старый плут, ответил широченной улыбкой. После этого он мог из меня веревки вить, как, впрочем, и я из него. Ведь мы оказались соучастниками в преступлении, — преступлении, потому что Лили всем слугам платила больше обычного, когда у нее кто-нибудь гостил, а сами гости на чай не давали, так было заведено. Лили он на меня больше не жаловался, но первого числа каждого месяца, получив жалованье, улыбался мне и кланялся, пока я не дам ему пару монет. На первую незаконную получку он купил себе новые сандалии и выглядел в них очень франтовато, но более, чем когда-либо, смахивал на черепаху — защитные шорты, шишковатые голые черные ноги, и эти огромные, военного образца сандалии постукивают по гравию. Сразу было видно, что ходить босиком ему удобнее, но сандалии льстили его самолюбию. Ведь в прошлом он работал садовником у какого-то полковника Джеймса в Мадрасе, и с тех самых пор домашний уклад полковника Джеймса остался для него эталоном красивой жизни, хотя он, мне кажется, понимает, что такой сад, как при доме Макгрегора, его прежним хозяевам и не снился, потому он, возможно, и решил, что этот сад — его личное владение, и ухаживает за ним из уважения не столько к Лили, сколько к Джеймсу-сахибу.
* * *
Заболталась я, тетечка, верно? Все откладываю ту минуту, когда надо будет писать о том, что тебя действительно интересует. Но это не пустая болтовня, ведь очень трудно отделить все хорошее и радостное от плохого и безрадостного. И понимаешь, что бы ни думали те, кто только наблюдал и выжидал, во мне-то все время нарастала радость.
Весь Майапур стал для меня другим. Теперь это был не только дом, дорога на европейский базар, дорога в больницу, больница, майдан и клуб. Теперь он перекинулся на тот берег реки, а от этого разросся во все стороны, протянулся за огромную равнину, на которую я смотрела с балкона своей комнаты, то снимая, то надевая очки — упражняя глаза, как говорила Лили. Я чувствовала, что Майапур стал больше, а сама я соответственно меньше, и жизнь моя распалась на три части. Была моя жизнь в больнице, включавшая и клуб, и нашу компанию, и веселое времяпрепровождение, совсем, в сущности, не веселое, а просто самое легкое, не требующее усилий, если забыть, что удовлетворяло оно лишь весьма неприхотливые запросы. Была моя жизнь в доме Макгрегора, где я жила с Лили и встречалась с индийцами и с англичанами из тех, что пытались сработаться. Но это сближение было таким же искусственным, как и сегрегация. В клубе об этом заявляли во весь голос, без обиняков. В доме Макгрегора об этом молчали, держались нейтрально. С Гари я стала чувствовать, что вот оно, наконец, мое личное убежище, где я могу говорить естественно, своим голосом. Может быть, поэтому мне и казалось, что Майапур стал больше, а я меньше. Мое общение с Гари — единственное, что обещало мне возможность снова почувствовать себя человеком, — было так стеснено, ограничено, зажато в тиски, что, только став совсем крошечной, можно было туда протиснуться и распрямиться — пленницей, но свободной, сдавленной всем тем страшным, что осталось снаружи, но не сдавленной изнутри. А это самое главное, поэтому я и говорю о радости.
Иногда, зная, каких усилий мне стоило протиснуться в этот тесный, опасный уголок, я пугалась, как в тот вечер, когда Роналд Меррик сделал мне предложение и привез меня домой, и мне захотелось сбежать обратно по лестнице и позвать его, и я боялась увидеть призрак Дженет Макгрегор. Все это — его предложение после обеда, и возвращение в дом Макгрегора, и мой страх — произошло в середине июня. Дожди запаздывали. Все мы измучились от жары, все нервничали. Этим тоже, наверно, можно объяснить, почему я так испугалась в тот вечер. Этим и ощущением, что Роналд олицетворяет собой нечто не вполне понятное мне, но, вероятно, достойное доверия. Роналд до сих пор лежит у меня на сердце тяжким грузом. Мне все кажется, что так же, Как тебе и другим известно, где Гари, так же про Роналда известно что-то, о чем при мне никто не говорит. Он как черная тень на обочине моей жизни.
Тетечка, может, он сделал что-нибудь особенно ужасное во вред Гари? Но все это скрыли, во всяком случае от меня. А расспрашивать я не посмела. После той ночи в Бибигхаре я сама присоединилась к общему решению держать меня в доме Макгрегора как в тюрьме. Всего два раза и выходила из дому: один раз к тете Шалини, которая не захотела меня видеть, и еще раз, перед тем как Лили увезла меня в Пинди и я пошла в Святилище проститься с сестрой Людмилой. У сестры Людмилы Роналд тоже был на совести. Она, оказывается, не знала, что мы с ним довольно близко знакомы, но поняла, что я могла не знать, что это Роналд увез Гари на допрос в тот день, когда застал его в Святилище. Но к тому времени я уже боялась допытываться, я ни на кого не могла положиться. Только на собственное молчание. И на молчание Гари. Но я вспомнила, что после Бибигхара был случай, когда мы встретились с Роналдом и он все отводил от меня глаза — это было в тот раз, когда к нам приехали заместитель комиссара, судья Менен и молодой чиновник-англичанин, чтобы провести нечто вроде расследования, на котором Роналд изложил обстоятельства дела, а я всех вогнала в краску, а может, и рассердила ответами на их вопросы.
Прежде чем рассказать тебе, что именно произошло в Бибигхаре, я должна еще кое-что сказать про Роналда и кое-что про сестру Людмилу. Мне кажется, Роналд по-настоящему обратил на меня внимание в тот день, когда я была на майдане на параде Военной недели. А все потому, что видел, как я подошла к Гари и заговорила с ним, хотя, кроме меня, с ним говорили и другие англичане. Если он уже тогда видел в Гари потенциального бунтовщика (ничего более нелепого не выдумаешь, но Роналд помнил о своих обязанностях), он и к моему разговору с Гари отнесся как полицейский, но еще и как англичанин, которому не хотелось, чтобы английская девушка водила дружбу с «нежелательными» индийцами. Поэтому, может быть, он, увидев меня вечером в клубе, подошел прямо ко мне и сказал: «Ну как, полюбовались парадом? Я видел вас на майдане». Ведь до этого мы только здоровались на ходу или он предлагал мне выпить, если уж не предложить было бы невежливо.
Ему, вероятно, казалось, что меня нужно предостеречь для моего же блага, но, кроме того, он, как добросовестный полицейский, не хотел упустить возможность получать от меня кое-какую информацию относительно Гари. Помнишь, я когда-то писала тебе, что Роналд не умел ни с кем быть до конца искренним? Он относился к своей работе так серьезно и, по-моему, считал, что должен все время доказывать, чего он стоит, поэтому у него ничего не получалось естественно или непосредственно, легко или радостно.
Я все спрашиваю себя, может быть, после того как он захотел по-дружески предостеречь меня ради моего же блага, он неожиданно для самого себя действительно увлекся мною как женщиной? Как бы там ни было, после этого он безусловно начал за мной ухаживать. И хотя в то время я этого не оценила, теперь-то я вижу, что для меня он стал новым связующим звеном с тем миром, который являл собою клуб, с жалким мирком, где размахивали флагами, только чуть-чуть облагороженным его точкой зрения, с миром Дебюсси и рисунков Генри Мура. Единственной постоянной величиной в моей жизни оставалась Лили и дом Макгрегора, а переменными были, с одной стороны, Гари, с другой — Роналд. Эти двое, казалось, отстояли друг от друга так далеко, что я, по-моему, ни разу даже не упомянула одного из них в присутствии другого. Но они вовсе не отстояли далеко друг от друга. Поэтому-то я так и разозлилась и почувствовала себя такой дурой, когда узнала правду — что они уже давно были… кем, врагами? — с того самого дня в Святилище, когда Гари толкали и били, и все это на глазах у сестры Людмилы.
* * *
Она одевалась, как сестра милосердия, носила такой огромный белый крылатый чепец. Я раза два видела ее на европейском базаре, когда она шагала впереди парня, вооруженного палкой, придерживая кожаную сумку, которая висела на цепочке у нее на поясе. Первый раз со мной была одна девочка из больницы, и я спросила ее: «Это еще кто же?» Она сказала: «Это та сумасшедшая русская женщина, которая подбирает мертвых, и никакая она не монахиня, только носит такую одежду». Меня это не так уж заинтересовало, и не только потому, что в Индии хватает чудаков и с черной, и с белой кожей, а потому, что это был как раз тот период, когда мне все вокруг было противно. А через несколько недель я опять ее встретила и упомянула о ней в разговоре с Лили, а Лили сказала: «Она безобидное создание, Анна Клаус иногда помогает ей и хорошо о ней отзывается, но меня в дрожь бросает, когда подумаю, как она бегает по ночам подбирать умирающих».
Тетя Лили ненавидит все безобразное и убогое, правда? Она мне сама рассказывала, как плакала, когда еще молоденькой девушкой в первый раз попала в Бомбей и увидела трущобы. Мне кажется, у богатых и привилегированных индийцев, таких, как Лили, укоренилось чувство вины, которое они прячут под показным равнодушием, потому что так мало могут сделать, чтобы облегчить весь этот ужас и нищету. Они жертвуют на благотворительные цели, добровольно выполняют кое-какую работу, но понимают, что это все равно как пытаться запрудить реку тонкими прутиками. А у Лили это еще, по-моему, отвращение к смерти. Она мне рассказывала, как в Париже побывала как-то раз в морге со студентом-медиком и как после этого ее мучили кошмары — будто все мертвецы привстают, потом опять падают на спину и опять привстают, — потому-то она потом терпеть не могла, когда Нелло демонстрировал свои часы с кукушками в домашнем музее в доме Макгрегора. В той комнате, где он хранил под стеклом старую трубку дяди Генри, которую дядя Генри ему подарил, чтобы пародия получалась убедительнее.
Один раз я водила Гари в этот музей — это когда мы уже стали понимать, что нам обоим хочется бывать вдвоем, но негде, кроме как у него дома или у Лили. Бибигхар начался немного позже. Когда я показывала ему «музей», мы много шутили, но уже чувствовали, что хитрим, что вынуждены хитрить и прятаться, покупать себе время, покупать уединение, а в уплату за них поступаться своей гордостью. Я еще тогда подумала: «Мы с Гари тоже экспонаты. Могли бы стоять здесь на подставке, а карточка гласила бы: Типы противоположностей. Раздел Индо-британский. Ок. 1942 г. Руками не трогать. Тогда те люди, что пялились на нас в кантонменте, а чуть посмотришь на них, отводили глаза, могли бы приходить сюда и пялиться, сколько влезет». Мне кажется, Гари тоже подумал что-то в этом роде. Больше мы в ту комнату не ходили. Я сказала: «Пошли, Гари, тут всякая рухлядь и мертвечина» — и машинально протянула ему руку, а потом вспомнила, что, если не считать того раза, когда мы танцевали, да еще изредка, на секунду, когда он, например, помогал мне влезть в тонгу, мы никогда не касались друг друга, даже как друзья, а тем более как мужчина и женщина. Я чуть не отдернула руку, потому что чем дольше я держала ее на весу, а он не решался к ней притронуться, тем многозначительнее становился этот мой жест. Он вовсе не был задуман как многозначительный — просто что-то ласковое, теплое, вполне естественное. Наконец он взял меня за руку. И тогда мне захотелось, чтобы он меня поцеловал. Это было бы единственным продолжением, которое оправдало бы первый шаг. Держаться за руки и не целоваться — в этом было что-то нехорошее, потому что неполное. А неполным оно не было бы, если бы он сразу взял мою руку. Когда мы вышли из той комнаты, он ее выпустил. Я почувствовала себя покинутой, брошенной на растерзание, как было со мной однажды в школе, когда я созналась в какой-то шалости, в которой участвовала вместе с другими девочками, а больше никто не сознался, и выглядела я в результате не героиней, а дурой. Вот когда такое получалось с Гари, когда я снова и снова очертя голову подвергала себя опасности, — вот такие случаи иногда и рождали у меня такое чувство, как в тот вечер, когда я поднималась по лестнице после того, как Роналд Меррик сделал мне предложение, — такое чувство, будто никуда это не годится, что я общаюсь с Гари Кумаром, причем это было еще до того, как Роналд выразил эту мысль словами. И все сводилось к трудной задачке с таким вопросом: «Так что же я для него, в конце концов, — я, белая женщина с большими руками и ногами и ни с какой стороны особенно не интересная?»
* * *
А потом начались дожди. Свежие, чистые, бурные, для всех без разбора. Они преобразили сад, весь город, весь ландшафт. Смыли с неба эту ужасную гнетущую бесцветность. Ночью я просыпалась дрожа, потому что температура сразу упала, и слушала, как дождь хлещет деревья, как чудесно рокочет и раскатывается гром, смотрела, как временами вся комната освещается словно от взрыва и мебель вдруг отбрасывает пылающие тени, черные призраки, застывшие среди сложного танца, некоего тайного ночного действа, в которое они включались после каждой новой вспышки света, а через минуту, пойманные им, снова замирали в неподвижности.
В последний вечер засухи я была у Гари. До этого уже два вечера сверкали зарницы и вдали погромыхивал гром. Это было в конце июня, через неделю, а может, и меньше, после моего обеда у Роналда Меррика, когда он, проводив меня домой, сказал: «Есть вопросы, на которые сразу не ответишь». Теперь, сидя с Гари и тетей Шалини, я понимала, какой нереальной стала моя жизнь — я не видела впереди никакого будущего, желанного и достижимого. Почему? Одной рукой я на ощупь тянулась вперед, а другой назад, не решаясь оторваться от знакомого, привычного. Напрягаясь до предела. Делая вид, будто оба мира неразрывны, а на самом деле между ними все время была пустота.
В одиннадцать часов прибыла тонга, и по дороге домой мы вдруг при свете зарницы увидели ее, сестру Людмилу, белые крылья ее чепца, впереди нее какой-то мужчина, а позади другой, несет на плече как будто шест, на самом деле — сложенные носилки. Я в тот раз придумала — не хотелось, чтобы вечер кончался, — «Поедем обратно через базар и мимо храма, хорошо?», и он согласился, а меня стала мучить совесть, ведь так извозчик запросит дороже, а я теперь уже не обольщалась насчет Гари, знала, что у него каждая рупия на счету. Но сама не посмела бы предложить ему ни единой анны. В тот день, когда мы пошли в Китайский ресторан, я ляпнула, не подумав: «Закажем китайское рагу, только чур, каждый платит за себя», и лицо у него сразу погасло, как у Роналда Меррика, когда я ему отказала. Выход в Китайский ресторан вообще был не из удачных, сначала я оскорбила Гари, предложив заплатить за себя, а потом нас обоих оскорбил хозяин, не пропустив его со мной в верхний зал.
Я сказала: «Это та помешанная русская женщина, которая подбирает умерших?» Она в это время свернула в переулок и не могла меня слышать. Гари сказал, что она не помешанная и едва ли русская. И добавил: «Мы зовем ее сестра Людмила». Он, оказывается, написал для своей газеты очерк про Святилище, но редактор отказался его поместить, потому что из него явствовало, что люди умирают на улицах по вине англичан. Гари переделал очерк, он не это имел в виду. В переделанном тексте получалось, что до этих несчастных никому нет дела, даже самим умирающим, — никому, кроме сестры Людмилы. Но редактор все равно его не напечатал. Сказал, что сестра Людмила — юродивая. Я спросила Гари, нельзя ли мне побывать в Святилище. Он обещал меня туда сводить, если мне так хочется, но чтобы я не огорчалась, если она встретит меня не слишком радушно. Живет она очень замкнуто, сказал он, и, в сущности, ее интересуют только умирающие, которым негде умереть по-человечески, однако у нее еще бывает вечерний амбулаторный прием для больных людей, которые днем работают и не могут себе позволить пойти к врачу в рабочее время, а еще она в определенные дни бесплатно раздает немного риса, главным образом детям и матерям. Я спросила, как он с ней познакомился, и он ответил одним только словом: «Случайно».
* * *
У нее был резанный по дереву Шива, танцующий в круге космического огня, и библейский текст в рамке: «Кто сеет скупо, тот скупо и пожнет; а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет. Каждый уделяй по расположению сердца, а не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». Между христианским текстом и индуистским изображением была, казалось, какая-то связь, потому что этот Шива улыбается. И то, как лихо у бога раскиданы ноги и руки, производит какое-то впечатление радости, правда? Единственное, что недвижимо, — это правая пята (даже правая нога, согнутая в колене, словно пружинит). А правая пята попирает скрюченную фигурку демона, потому она и должна быть твердой и неподвижной. Левая нога вскинута, первая пара рук жестикулирует, сдержанно, но призывно, а вторая пара держит огненный круг, держит на отлете, но одновременно и не дает погаснуть огню. И бог, конечно же, с крыльями, что создает ощущение воздуха, полета, так и кажется, что с ним можно низринуться во тьму и не разбиться.
Это были единственные украшения в ее выбеленной «келье» — Шива и текст из Библии. Когда мы виделись в последний раз, текст она мне подарила, сказала, что сама давно знает его наизусть. Но я как-то стеснялась показать его тебе, мне и сейчас кажется, что я не заслужила такого подарка. Он в моем большом чемодане, в том, который с ремнями.
Это была поразительная женщина. По вечерам я все думаю — вот сейчас она собирается в путь, обыщет всякие темные тупики и закоулки, заглянет на пустырь между храмом и Бибигхарским мостом. Я ездила к ней примерно раз в неделю прямо из больницы — помогать на вечернем приеме, а не только потому, что могла там встречаться с Гари. Один раз я спросила, нельзя ли мне как-нибудь отправиться с ней в такую ночную экспедицию. Она засмеялась и сказала: «Нет, это работа только для таких людей, которые ничего другого дать не могут». Я поняла, что она имеет в виду деньги, но она сказала, что денег у нее достаточно, более чем достаточно, однако обещала дать мне знать, если деньги понадобятся и я не передумаю.
Мы с ней близко сошлись. Сначала она понравилась мне тем, что хорошо относилась к Гари и не видела ничего дурного в том, что мы бываем у нее вместе. Она разрешала нам посидеть в конторе или у нее в комнате. Когда становилось темно, мы возвращались на велосипедах в дом Макгрегора, но к нам он в этих случаях обычно не заходил. В те дни, когда я собиралась побывать в Святилище, я уезжала в больницу на велосипеде, старалась выехать пораньше, чтобы меня не застала машина, которую присылал за мной мистер Меррик. Так же и после работы. Оставляла для шофера записку, что либо ушла, либо работаю допоздна. А иногда доезжала до дому на машине, а уж оттуда ехала на велосипеде в Святилище. Я не хотела, чтобы в больнице знали, что я помогаю сестре Людмиле принимать больных. Это бывало нечасто, но я боялась, что это могут счесть нарушением больничных правил. Однажды я встретила там Анну Клаус и просила не выдавать меня. Она посмеялась и сказала, что, по всей вероятности, это и так известно — в таком городе, как Майапур, почти невозможно что-нибудь скрыть.
Но не все, кому это могло) быть интересно, знали. Не все из тех, кто жил на нашем берегу реки, как, например, Роналд Меррик. От Роналда я это скрыла, потому что это была та часть моей жизни, которой я ни с кем не хотела делиться. Роналд был частью другой жизни. А Лили — третьей. Я и сама не знала, что разгородила свою жизнь этими герметическими стенками, то есть не знала умом. Бессознательно — это да, и чувствовала, что пошла на обман, но в те дни еще не хотела называть это обманом, во всяком случае до того вечера, когда мы пошли с Гари в храм и я узнала, какую роль Роналд сыграл в его аресте, а тогда почувствовала, что обманывали все, и я в том числе, и мне стало страшно, и оказалось, что мне и до этого было страшно, что я, как и все, все время боялась дерзнуть, оторваться от привычного, а это, согласись, уже смешно, ведь когда-то я тешила себя мыслью, что все должны поступать именно так, что я сама именно так и поступаю. А я-то, оказывается, когда тянулась к новому, одной рукой крепко держалась за старое.
Все, что со мной случалось, я, вероятно, воспринимала тогда как приключение. Вечер в доме Макгрегора с Лили и небольшой «смешанной» компанией гостей, вечер в клубе с Роналдом или с нашими мальчиками и девочками, два часа в амбулатории у сестры Людмилы, утренняя воскресная прогулка с Гари в Бибигхар. Но ведь это и были приключения, правда? Ведь каждый раз что-то одно — пусть неумышленно, но бесспорно — делалось наперекор всему остальному. Я только и знала, что нарушать правила. Самое забавное, что люди не могли сказать с абсолютной уверенностью, какое именно правило и как именно я нарушала в каждом случае, потому что сами они были до того связаны каждый своими правилами, что могли только издали наблюдать, видели, что я что-то нарушила, и ушла, и на время стала невидимой, а когда возвращалась, когда опять включалась в их жизнь, не знали, где я побывала и чем там занималась, а значит — и в чем меня можно обвинить, кроме как в самых общих словах, что я… неустойчивая? лезу на рожон? хочу быть лучше всех? Все это, конечно, плохо, но люди предпочитают поточнее определять, в чем выражается у их ближних неустойчивость и желание выделиться, а если это им не удается, то из одного страха перед тем, каким чудовищем ты можешь оказаться, снова и снова пытаются обратить тебя в свою веру.
Чтобы тебя заклеймили и отвергли — а это, наверно, самый легкий способ добиться известности, — нужно открыто сказать или сделать что-то, противоречащее тому, во что они, как им кажется, верят. Чтобы тебя приняли как свою, нужно, чтобы все видели или слышали, как ты отстаиваешь то, во что они, как им кажется, верят. Когда нет ни того, ни другого, это, очевидно, непростительно.
Но пойми, тетечка, мне было ужасно трудно. Мне в самом деле нравились некоторые из тех мальчиков и девочек, с которыми я встречалась в клубе. И в самом деле нравился Роналд, когда он старался держаться со мной легко и естественно и это ему почти удавалось. Он нравился мне даже тогда, когда бывал мудреный и «официальный», потому что я думала, что знаю, в чем тут причина. И я любила Лили, даже когда она напускала на себя надменность, когда давала о себе знать ее голубая раджпутская кровь и она как бы брезгливо подбирала юбки (извиняюсь — сари). Мне нравилось, как англичане веселятся, пока это веселье не становилось наигранным, или вульгарным, или грубым, нравилось простое, почти детское веселье индийцев и их серьезность, пока они не начинали томно вздыхать, иронизировать и дуться не хуже англичан. С Гари я никак не могу связать слово «нравиться», потому что тут неизбежно вторгалась его физическая притягательность, а значит, это была уже любовь, что не мешало мне видеть и его колючесть, и тупое упрямство. И в результате на бумаге я выгляжу как эталон добродетели и широты взглядов, пока не вспомнишь, какой гнусностью все это обернулось по моей вине.
* * *
Глупо это, когда при виде некоторых людей, или мест, или предметов мы машинально говорим: «Вот это Индия. Вот это Англия». Когда я в первый раз увидела Бибигхар, я подумала: «До чего же индийский сад!» Индийский не в том смысле, как я представляла себе все индийское, пока сюда не приехала, а каким оно мне показалось тогда. Но если говоришь такое и при таких обстоятельствах, этим хочешь определить привлекательность какого-то места, которое по видимости чужое, а по существу выражает что-то всеобщее и вездесущее. Ужасно трудно сформулировать это ощущение словами. Ну вот, скажем, про Тадж-Махал говорят, что он «типично индийский». Памятник могольской эпохи, запечатлен во всех учебниках. Но сердцем на него откликаешься потому, что в нем воплотилось чувство человека, боготворившего свою жену, а это чувство не индийское — и не антииндийское, а общечеловеческое, только выраженное в данном случае «по-индийски»! Вот так у меня было с Бибигхаром. Он рождал ощущение, что в прошлом там произошла какая-то трагедия, которая длится и до сих пор, но ее можно искупить, если бы только знать, как и чем. Такое можно вообразить в любом месте, но, вообразив это именно там и чувствуя, что трагедия жива до сих пор, я сказала: «Вот она, Индия!» Это было первое место в Майапуре, которое именно так меня поразило, и от удивления я, видимо, решила, что набрела на что-то типичное, а типично это было не для какого-то определенного места, а всего лишь для человеческих поступков и желаний, которые порой оставляют после себя самый неожиданный, а то и жуткий след.
Обычно мы с Гари бывали там утром, по воскресеньям, но однажды нас загнал туда дождь, уже перед вечером, мы влетели в ворота на велосипедах и взбежали по ступенькам с лужайки в «павильон», под крышу над мозаичным полом. Мы постояли там, я закурила. Ехали мы пить чай к тете Шалини. Была суббота. В больнице я работала полдня, а потом поехала на европейский базар узнать, готовы ли эти несчастные снимки — помнишь, я прислала тебе на день рожденья, снялась у Субхаса Чанда, у него еще был чуланчик в аптеке Гулаба Сингха. Я увидела Гари, он как раз выходил из редакции своей «Газеты», окликнула его и сказала: «Пойдем, поможете мне выбрать снимки для тети Этель, если вышло хорошо, могу подарить и вам». И мы вошли в чуланчик и стали разглядывать пробные снимки. Я только вздыхала сокрушенно, но Гари сказал, что снимки неплохие, и помог мне выбрать тот, с которого заказать фото кабинетного формата. Потом я потащила его с собой к Дарвазе Чанду, выбирать для тебя отрез на платье. В магазинах в этот час было совсем мало народу. Редкие покупатели, как полагается, пялились на нас. Я взглянула на часы, увидела, что уже четыре, и пригласила его к нам пить чай, а он сказал: нет, поедем к тете Шалини. Я не была у него в доме с того вечера, еще до дождей. Я сказала, что поеду с удовольствием, только надо бы переодеться, но он сказал: «Зачем? Или нужно предупредить леди Чаттерджи?» Но Лили в тот день заседала в своем комитете при Женской больнице, предупреждать Раджу было необязательно, и мы поехали. Той дорогой, что вела к Бибигхарскому мосту. По Мандиргейтскому мосту он терпеть не мог со мной ездить, там приходилось ехать через базар. И вот тут-то, около Бибигхара, нас настиг дождь. Обрушился стеной, как здесь всегда бывает, и мы помчались под крышу в полной уверенности, что минут через двадцать потоп кончится. Но дождь все лил и лил, и поднялась буря.
Я рассказала ему про мои мысли насчет Бибигхара. Очень это было странно — сидеть на мозаичном полу и стараться перекричать дождь и ветер, а потом молча выжидать, пока станет потише. Я просила его, чтобы он тоже снялся, но он сказал, что выходит отвратительно. Я сказала: «Ничего подобного. А как же те снимки, что мне показывала тетя Шалини?» Он сказал, что «был тогда моложе». Я спросила, поддерживает ли он связь с этими своими друзьями Линдзи, но он только пожал плечами. Он и тогда ежился, когда тетя Шалини о них упоминала. Я решила, что они перестали ему писать и это ему обидно, но по одному вопросу, который мне задала сестра Людмила в нашем последнем с ней разговоре, почувствовала, что дело тут серьезнее, что-то связанное с этим мальчиком, Колином Линдзи, которого тетя Шалини всегда называла самым близким другом Гари в Англии.
В общем, в Бибигхаре мы застряли прочно, и уже стало темнеть. Чай мы пропустили, а мне к семи надо было поспеть домой и переодеться к обеду, потому что Лили пригласила судью Менена с женой отметить возвращение миссис Менен из больницы. Я продрогла, меня стало знобить. Хотелось, чтобы он согрел меня. Англичанин на его месте уж наверняка примостился бы поближе, а мы все сидели на расстоянии двух футов друг от друга. Я стала нервничать. Очень хотелось взять его руку и прижаться к ней щекой.
* * *
В тот вечер, когда мы вышли из Бибигхара после того, как спасались там от дождя, у меня было такое чувство, точно мы поссорились, хотя никакой ссоры не было. И опять я подумала: нет, так не годится, не годится, так ничего не выйдет. Он проводил меня домой, и, хотя это было под воскресенье, ни он, ни я не заговорили о следующей встрече. Я вернулась за несколько минут до Лили и уже залезла в ванну, когда услышала, как она с площадки зовет Раджу. Такой знакомый, домашний голос, я так обрадовалась, будто сто лет его не слышала. Гари я после этого не видела больше недели. Два вечера за это время провела в клубе — один раз с Роналдом, другой с нашей компанией, а остальные вечера с Лили. Но все время думала о Гари, хотела его увидеть и ничего для этого не предпринимала. Все равно как в детстве: сидишь, бывало, на пляже, смотришь на море — и хочется войти в воду, и страшно. Обещаешь себе, вот уйдет это облако, выглянет солнце, тогда войду в воду. И облако уходит, и солнце уже светит тепло и ласково, а море все пугает холодом.
Я внушала себе: плохо то, что мы исчерпали все места, куда можно пойти без риска, что на нас будут пялиться, что возникнет щекотливая ситуация. В клубе женщины, уже не скрываясь, отворачивались от меня. Я все думала, где же еще можно спрятаться, и так набрела на мысль о храме Тирупати.
Я спросила тетю Лили, пускают ли туда англичан. Она сказала, что понятия не имеет, никто, наверно, этим и не интересовался, ведь туристы в Майапуре не бывают и храм не знаменитый, но можно спросить у кого-нибудь из преподавателей Средней школы или Технического колледжа — уж если кто из англичан там побывал, так, скорее всего, учитель либо человек, изучающий индийское искусство и культуру. Я сказала, пусть не беспокоится, я спрошу Гари. Она сказала, да, можно, наверно, и так, и по выражению ее лица я поняла, что она готова углубиться в проблему, связанную с Гари, так что поспешила переменить разговор, стала рассказывать ей, как прошел день в больнице.
Я написала Гари письмо, всего несколько слов: «Мне бы очень хотелось побывать в храме Тирупати. Нельзя ли нам как-нибудь пойти туда вместе? Лучше вечером, потому что при искусственном освещении такие места всегда выглядят эффектнее».
Дня через два он позвонил мне из редакции. У тети Шалини телефона не было. Он застал меня перед самым уходом в больницу и сказал, что, если мне правда хочется туда пойти, он спросит дядюшку. Дядюшка его из тех людей, которые платят много денег жрецам в надежде купить себе праведность, обретать которую иным способом им некогда. Так, во всяком случае, объяснил это Гари. Я сказала, что пойти мне правда хочется, и, если он это устроит в субботу вечером, можно бы сперва спокойно пообедать у нас, а вернувшись, послушать пластинки. Голос его звучал холодновато. Я подумала, что, может, зря попросила его сводить меня в храм. Но все же мы ориентировочно сговорились на следующую субботу, когда Лили, я знала, будет играть в бридж. О более близкой встрече ничего не было сказано, но я думала, что он, может быть, зайдет во вторник в Святилище. Он не зашел и не давал о себе знать до пятницы вечером.
За это время я встретила в клубе Роналда и пообедала с ним там. Он отвез меня домой и по дороге пригласил пообедать у него в субботу. Я сказала, что не могу, потому что надеюсь в субботу попасть в храм. Когда он затормозил перед нашим домом, на крыльце никого не было. Раджу куда-то испарился. Но Роналд не вышел из машины открыть мне дверцу, а только спросил: «Кто вас туда поведет, мистер Кумар?» Я сказала, что да, и тогда он выложил все, что, по его словам, уже давно хотел мне сказать, — что о моей дружбе с индийцем идут разговоры, и это всегда небезопасно, а в такое время тем более, особенно если у человека «неважная репутация» и он «пытается спекулировать на том, что какое-то время прожил в Англии», и воображает, что от этого сам стал англичанином.
* * *
И дальше Роналд сказал: «Вы знаете, как я к вам отношусь. Поэтому я до сих пор не говорил ничего. Но мой долг — предостеречь вас от этого общения с мистером Кумаром».
Вот тут-то я рассмеялась и сказала: «Да не изображайте вы из себя полисмена!»
Он сказал: «А между прочим, это отчасти касается и полиции. Он одно время был на подозрении, оно и сейчас не снято, но вы, надо полагать, все это знаете».
Я сказала, что ничего такого не знаю и знать не хочу, я познакомилась с Гари в доме Макгрегора, и, раз Лили считает, что его можно пригласить в гости, для меня этого вполне достаточно. Сказала, что не желаю выслушивать наставления насчет того, с кем мне можно дружить, а с кем нет, и мне лично все равно, какого цвета у человека кожа, — а люди лезут в бутылку только оттого, что у Гари темная кожа, что он индиец.
Роналд сказал: «И кто только выдумал эту чушь, будто цвет кожи ничего не значит. Очень даже значит, черт возьми! Это основа основ».
Я стала вылезать из машины. Он попробовал удержать меня, схватил за руку, сказал: «Я плохо это выразил. Но молчать не могу. Даже мысль об этом мне глубоко противна».
Почему-то мне стало его жалко. Может, из-за его честности. Какой-то детской. Как у ребенка, который весь сосредоточен в себе. Мы называем это наивностью. Но это еще и невежество, и жестокость. Я сказала: «Не сердитесь, Роналд. Я понимаю».
Он выпустил мою руку, точно обжегся. Я захлопнула дверцу и сказала: «Спасибо за обед и что довезли до дому», но почувствовала, что не нужно было это говорить, а что еще сказать — не знала. Он уехал, а я вошла в дом.
* * *
В пятницу вечером Гари прислал мне записку, в которой сообщал, что нам разрешено посетить храм завтра вечером, от 9.30 до 10.30, и я с тем же посыльным отправила ему ответ, что жду его в 7.30, а обед будет в 8.
Настала суббота, и он явился минута в минуту, словно хотел замолить прошлые грехи. Он нанял велорикшу, поэтому, наверно, и поспел вовремя, но я усмотрела в этом еще и желание подчеркнуть разницу между его жизнью и моей. И эта разница стала как бы лейтмотивом всего вечера. Он нарочно старался меня отвадить. Я это точно знаю. Он опять закурил — дешевые индийские папиросы, не «бири», но очень вонючие и невкусные. Я попробовала одну, но тут же бросила и курила свои. Еще он привез пластинки, сказал, что это мне подарок. Я хотела сразу их проиграть, но он сказал: нет, это когда вернемся из храма, и посмотрел на часы. Было только без четверти восемь, но он сказал, что пора бы и за стол. Я спросила: «А еще стаканчик?» Он отказался, но выразил готовность подождать, пока я допью, хотя было видно, что ему и ждать неохота, и я сказала Раджу, чтобы он сказал повару, что можно подавать обед, и мы пошли в столовую. Там он стал ворчать, что вентилятор крутится слишком быстро. Я велела Раджу сбавить обороты. Стало очень жарко. Когда подали еду, он не взял вилку, а стал подбирать подливку кусками чаппати. Я последовала его примеру. Он крикнул Раджу: «Бой, воды», и я чуть не поперхнулась от смеха, потому что вспомнила, как мы с тобой обедали в Дели и за соседним столиком сидела богатая индийская семья и как меня поразило, до чего грубо отец семейства обращался к официанту — «Бой, того. Бой, сего». Но ты мне объяснила, что это точный перевод их сахибского «пани лао». Я решила, что Гари затеял какую-то игру, имитирует индийских буржуа, может быть, выпил дома? Пальцы и губы у нас были все перемазаны жиром. Раджу — он все подмечал, хотя ничего и не понял, — принес нам салфетки и миски с теплой водой, и мы умылись. Я так и ждала, что Гари сейчас срыгнет и потребует зубочистку. Имитация была по-своему превосходная. Обычно он улыбался Раджу, но тут, если не считать этих отрывочных приказаний, будто и не замечал его присутствия. И я ломала себе голову — кто у кого перенял эту манеру, индийцы у англичан или англичане у индийцев, а может, это повелось с тех времен, когда слуг нигде не считали за людей, а в Империи этот обычай поддерживают только белые сахибы и их жены да еще современные индийцы, желающие показать, что и они не хуже.
И Гари, кроме всего прочего, изображал вот такого индийца, с виду очень вежливого, а по сути — самодура и эгоиста, который всем распоряжается, а на других ему плевать — прервал предобеденную выпивку, раньше времени уселся за стол, а теперь хочет раньше времени ехать в храм, но тут вышло наоборот, потому что в последнюю минуту он сказал, что лучше, пожалуй, сперва послушать пластинки, которые он купил, — это, мол, создаст нужное настроение — забавная перекличка с той танцевальной пластинкой, но я, заметив это, сразу насторожилась, почувствовав, что сейчас-то настроение у Гари не веселое, а скорее язвительное.
И даже с этими пластинками он умудрился разыграть нечто вроде современного индийского фарса. Он велел Раджу принести граммофон, но завести не дал — оттолкнул его и завел собственноручно, а Раджу послал за иголками, которые преспокойно лежали тут же в ящичке, где им и полагалось быть. Первую пластинку он поставил нарочно так неловко, что поцарапал, и потом делал вид, будто не замечает, как отвратительно она стучит каждый раз, как иголка подскакивает на зазубрине. И музыку он выбрал индийскую — что-то ужасно трудное, вечернюю «рагу», совершенно нескончаемую. Но одного он не предусмотрел — что мне она безумно понравится. А когда заметил это, остановил пластинку, не дав ей докрутиться, и поставил другую, но та захватила меня еще больше. И что удивительно — я увидела, что он, задумав разозлить меня, сам разозлился до бешенства, а значит, никакая это была не игра и не шутка. У меня сердце упало. Я поняла, что он на свой лад тоже пытается меня отвадить, чего добивались и Роналд, и все остальные, а меня самое он так полюбил, что уже не сомневался, что все, что ему ненавистно — и эта музыка, и есть руками, — должно быть ненавистно и мне. А обнаружив, что это не так, что мне это, наоборот, нравится или же безразлично, воспринял это как лишнее подтверждение того, что нас разделяет пропасть, и это уж можно объяснить только тем, что я белая, а он черный, а раз мне нравится то, что ему ненавистно, что он и не пытался и не хочет полюбить как свое, то выходит, что даже его черная кожа — маскарад, будто он загримирован для какой-то роли.
Вторую пластинку он дослушал до конца, и тут уж я перехватила инициативу, сказала: «Ну, теперь едем» — и послала Раджу принести мне шарф. Я подумала, что, может, в храм не пускают с непокрытой головой. А Гари, как выяснилось, захватил зонт на случай дождя. Почти всю дорогу до храма мы молчали. На велорикше я ехала в первый раз. Чтобы сдвинуть с места двух седоков, бедному малому пришлось приподняться над седлом и всей тяжестью налегать то на одну, то на другую педаль. Но мне такое передвижение понравилось больше, чем в тонге, потому что сидишь лицом вперед. Когда едешь в тонге, лицом назад (затем, наверно, чтобы меньше чувствовать запах лошади), всегда кажется, что глядишь в прошлое, жалеешь, что оно исчезает из глаз. А на велорикше ощущение было обратное — смотришь вперед, и дорога знакомая, и не страшно, что пора вылезать.
* * *
У входа в храм нас ждал служитель, который немножко говорил по-английски. Мы разулись под аркой главных ворот, и Гари заплатил что-то из тех денег, которые ему дал его дядя. Сколько — я не разглядела, но, судя по тому, с каким вниманием к нам отнеслись, — немало, больше, чем дядюшка давал ему когда-либо раньше.
Ну, ты бывала во всяких храмах. Ведь правда удивительно, при том, какой шум стоит на улице, что сразу оказываешься в совсем обособленном месте, не то чтобы тихом, но совсем обособленном, предназначенном для какой-то человеческой деятельности, для поддержания которой другой человеческой деятельности не требуется. В церквах бывает тихо, но это потому, что там обычно нет людей. А в храме не было тихо. И люди были. Но это был совсем обособленный мир. Пройдя через арку, человек как бы вступал в идею тишины. Я была рада, что рядом со мной Гари, потому что вдруг всей кожей ощутила страх, хотя внутри страха не было. Меня удивило, сколько народу во дворе храма, под деревьями — и мужчин, и женщин, сидят на корточках, как все индийские крестьяне, ноги согнуты в коленях, руки протянуты вперед. Сидят и судачат. Сперва это меня резануло, но потом я вспомнила, что самый храм — это здание посередине двора, а вокруг него — как возле наших церквей, где прихожане по воскресеньям задерживаются после обедни потолковать с соседями.
Вдоль стен, окружающих двор, расположены кумирни разных индуистских богов. Одни из них были освещены и бодрствовали, другие спали в темноте. Эти изваяния, похожие на кукол, наводят на мысль о том, что пуритане называли католической мишурой, правда? И куклы как будто это сознавали и даже выводили мораль — как бессмысленна тяга нищих, темных людей к зримым изображениям бога. Гари сказал: «Гид спрашивает, хотим ли мы поклониться великому Венкатасваре».
Войти в святая святых? Я прямо задохнулась от волнения. Я никак не ожидала, что меня туда пустят, и вполне оценила такую исключительную милость. Время от времени у входа в центральное святилище вдруг звонил колокол. Там ждало много мужчин и женщин. Наш гид протолкался с нами вперед. Мне это было очень неприятно. Он сказал что-то жрецу, который стоял и смотрел на нас, а потом подошел и обратился к Гари с каким-то длинным и замысловатым вопросом. К моему удивлению, Гари, видимо, его понял. Когда он ответил, мне стало ясно, что Гари успел выучить хинди получше, чем притворялся, и только здесь, в храме, отбросил притворство. Он повернулся ко мне и сказал: «Мне полагается позвонить, чтобы предупредить бога, что мы здесь. После этого прими молитвенный вид. Что будет дальше — понятия не имею».
Я накинул на голову шарф. Жрец все это время не отрываясь смотрел на нас. Колокол свисал на цепи с крыши святилища, над верхней ступенькой. Я заглянула внутрь. Там узкий коридор вел в ярко освещенную пещеру, и виден был идол с черным лицом, в позолоченных одеждах, с серебряными украшениями. Гари протянул руку и дернул за веревку, привязанную к языку колокола, потом сложил руки ладонями вместе. Я тоже сложила руки, закрыла глаза и дождалась, пока он сказал: «Ну, входим».
Он вошел первым. Коридор перегораживали обычные металлические трубки. Мы расположились перед этой оградой в ряд с еще несколькими людьми, как в церкви перед алтарем, только что стояли на ногах, а не на коленях, а за оградой оставалось место, куда пришел из пещеры жрец. Пока мы располагались, он ждал у выхода из пещеры, а потом подошел ближе, с золоченым кубком в руках. Мы протянули руки, как за облаткой во время причастия, и он налил каждому в ладони немного какой-то жидкости. Сначала он оделил индийцев, чтобы мы запомнили, что нужно делать. Мы поднесли ладони к губам. Жидкость оказалась кисло-сладкая на вкус и немного щипала, может быть потому, что губы пересохли. Потом нужно было поднять руки к голове — что-то вроде крестного знамения. Жрец исчез и вернулся с золоченой шапкой вроде миски и, держа ее над нами, прочел над каждым молитву, а после этого поставил шапку обратно на золоченый поднос. На подносе были еще кучки какого-то яркого порошка и лепестки. Он стал макать палец в порошок и каждому сделал отметину на лбу. А лепестки оказались маленькой гирляндой из розочек, и он подарил ее мне, надел мне на шею. Все это совершилось невероятно быстро, в какие-то несколько секунд. Выходя, Гари положил еще сколько-то денег на поднос, который держал другой жрец, стоявший у входа.
Во время обряда я ничего не чувствовала. Но во дворе губы все щипало, и от всего исходил этот кисло-сладкий запах. Я подумала: уж не дали ли нам глотнуть коровьей мочи. Люди глазели на нас. Я чувствовала себя защищенной от их неприязни — если то была неприязнь, а не простое любопытство, — защищенной отметиной на лбу и гирляндой из розочек. Розовые лепестки я сберегла, тетечка. Они в белом бумажном пакетике в чемодане, там же, где текст сестры Людмилы. Уже высохли, побурели. От малейшего ветерка развеются в прах.
Оставалось посмотреть еще только одно: изображение спящего Вишну. Великий Венкатасвара, бог этого храма, — одно из воплощений Вишну, но эта черная фигура в серебре и золоте плохо вяжется с обликом охранителя жизни. У спящего Вишну была своя отдельная пещера позади главного храма. Пещера встроена в наружную стену. Входишь в нее, заворачиваешь за угол, и там он спит на своем каменном ложе. Войти туда одновременно могут человека четыре, не больше. Там прохладно, горят керосиновые лампы. А бог на первый взгляд прямо-таки страшный. Ждешь чего-то изящного, миниатюрного, а тут возлежит этот огромный, больше человеческого роста идол, и кажется, что во сне он еще могущественнее, чем когда проснется, и какие же сладкие сны ему снятся! Недаром он улыбается во сне.
Я могла бы смотреть на него без конца, но Гари подтолкнул меня и сказал шепотом, что другие тоже хотят войти. Мы протиснулись мимо них обратно во двор и прошли к другим воротам, тем, что ведут к ступеням, спускающимся к реке. Обряд полагается закончить омовением, но мы увидели там всего одного человека. Он стоял по пояс в воде. Голова обрита наголо. На берегу была площадка под навесом, там работали храмовые цирюльники и молящиеся оставляли свои волосы как жертву богу.
Гари сказал: «Ну что, пойдем обуваться? С меня хватит». Я почувствовала, что и с меня хватит, потому что внешняя сторона всего этого меня вообще не затронула. Мне казалось, что я незаконно вторглась в чужие владения. И мы пошли обратно через двор и получили свою обувь. Опять промелькнули какие-то деньги. Все это, наверно, идет в карман жрецам. За воротами нас обступили нищие. Рикша нас дожидался и увидел нас раньше, чем мы его. Он двинулся к нам с криками, звоня в колокольчик, опасаясь, как бы нас не перехватил другой рикша. Опять вокруг было шумно и грязно. Из кофейни через улицу неслась музыка. В туфлях сразу почувствовалось, что на ноги налипла пыль и песок. Чулки я нарочно не надевала.
* * *
Дома мы уселись на веранде. Я попросила Гари послать нашего рикшу на кухню, чтобы его там покормили. Ему было лет семнадцать, не больше, такой славный, веселый паренек, он, видимо, считал, что для него наступила полоса везенья — шутка ли, на целый вечер наняли. Я отлучилась на минуту, вышла на заднее крыльцо и велела Раджу привести мальчика. Он вынырнул как из-под земли, точно дожидался меня. Я дала ему десять монет. Целое состояние! Но он их заслужил. А для меня весь обряд без этого остался бы вроде незавершенным. Раджу, кажется, не одобрил меня. Может, он взял с мальчика за комиссию. Или плохо накормил. Или совсем не накормил. Сил нет терпеть эту черствость одного индийца к другому. Лучше уж не знать, что делается.
Пошел дождь и загнал нас с веранды в комнату. У Гари настроение резко изменилось. Вид у него был измученный, точно его постигла полная неудача — не только в том, что он затеял на этот вечер, но во всем, к чему он стремился. Я хотела объясниться с ним начистоту, но не знала, как начать. И начала не с того конца, спросила: «Ты очень старался меня оттолкнуть?»
Он сделал вид, что не понял. «Оттолкнуть? Как это оттолкнуть?» И мне стало так обидно, что я заговорила вроде бы сердито: «Ну да, оттолкнуть. Меня оттолкнуть. От тебя, как все стараются». Он спросил, кто это «все».
Я сказала: «Вообще все. Например, мистер Меррик. Он считает, что на тебя ставить рискованно».
Гари сказал: «Что ж, ему, наверно, и книги в руки».
Я сказала, что он говорит ерунду, только он сам может знать, рискованно на него ставить или нет. Он сказал: «Не понимаю, о чем вообще разговор. Что значит „ставить“? Что я, скаковая лошадь? Или акции, в которых сомневаешься, вложить в них деньги или воздержаться?»
Я еще никогда не видела его рассерженным. А он меня. Мы совсем зарвались, потому я и забыла, по какому поводу обвинила его в том, что он осуждает человека, которого, наверно, и в глаза не видел, и тут-то выяснилось, что это сплошное недоразумение, потому что никто мне не сказал, что это Роналд взял его под стражу и дал одному из своих подчиненных ударить его. Я только и могла выговорить: «Как, сам Роналд?» — и помню, какое у него сделалось удивленное лицо, когда до него наконец дошло и он понял, что я действительно этого не знала.
Если б только я тогда сдержала свою злость! Я и пыталась, ведь я злилась не на него, а на Роналда, на других, в том числе и на себя. Я спросила: «Где же это случилось?», и он опять удивился и ответил: «Да в Святилище, разумеется». Это был еще один удар. Я просила его рассказать все толком.
Он, оказывается, напился. Почему — не сказал. Пьяный вдрезину пошел бродить и свалился в канаву на этом страшном пустыре у реки, и его подобрала сестра Людмила со своими помощниками: они подумали, что он ранен, или болен, или умирает, и принесли в Святилище. Там он проспался, а утром туда явился Роналд с констеблями — они искали какого-то человека, который сбежал из тюрьмы, и думали, что он скрывается в Майапуре, потому что раньше он там жил. В Святилище его не оказалось, но оказался Гари. Ну, это ты, наверно, можешь вообразить — как Гари реагировал на то, что ему устроил разнос такой человек, как Роналд. Младший инспектор, который его сопровождал, ударил Гари по лицу за то, что отвечает «непочтительно», и его уволокли и пинками и тычками затолкали сзади в полицейскую машину.
И надо же было случиться, что Гари знал того человека, которого разыскивала полиция. Это выяснилось, когда Роналд допрашивал Гари в участке в присутствии того младшего инспектора. Знал-то он его только как одного из клерков на складе у его дядюшки. И еще Гари вздумал нарочно морочить полицию насчет своей фамилии. Кумер. Кумар. Сказал, что сгодится и так и этак. В конце концов Роналд выслал младшего инспектора из комнаты и стал говорить с Гари с глазу на глаз, во всяком случае попробовал, но это, наверно, было нелегко, потому что Гари уже был настроен против него. Почему Гари напился — я не знаю. Может быть, потому, что перед тем на него сыпалось столько шишек, что ему уже все стало безразлично и он уже во всем изверился. Он сказал мне, что был уверен, что его все равно посадят, поэтому и не стеснялся в выражениях. Мне кажется, он пытался с моей помощью найти для Роналда какое-то оправдание, которого сам найти не смог. Роналд спросил его, почему он напился и где. Гари не сказал где, потому что считал — и так и сказал, — что Роналда это не касается. А почему — объяснил охотно. Потому напился, что ненавидит всю эту проклятую вонючую страну, и тех, кто в ней живет, и тех, кто ею правит. Сказал даже: «А это относится и к вам, Меррик». Фамилию Меррика он знал, потому что как репортер часто бывал в суде. Меррик только улыбнулся, когда он это сказал, а потом отпустил его, даже извинился — в насмешку, конечно, — «за причиненное беспокойство». Вернувшись домой, он узнал, что сестра Людмила подняла тревогу, просила всяких влиятельных людей навести справки насчет его «ареста», но это его только позабавило, если можно употребить такое слово, когда на самом деле ему было совсем не весело. Он сказал, что его позабавило, что в результате Лили пригласила его в гости, и позабавило, как Меррик наблюдал за мной, когда я в тот день подошла к нему на майдане. Я и не знала, что Роналд это видел, но это было вполне в его стиле. Гари думал, что вся эта история мне известна и что я только из сострадания к нему бросила ненадолго белых офицеров и белых сестричек, чтобы хоть немножко его подбодрить.
Я спросила: «И тебе было забавно всякий раз, как мы где-нибудь бывали вдвоем?»
Он сказал: «Да, можно сказать и так. Если угодно. Но это свидетельствует о большой доброте, и я благодарен».
Я сказала, что доброта моя ни при чем, и встала. Он тоже встал. Ему стоило только прикоснуться ко мне, и все это идиотство сразу бы кончилось, но он ко мне не прикоснулся. Побоялся. Слишком остро сознавал, что это было бы вызовом, нарушением того правила, которое Роналд всего за несколько дней перед тем назвал «основой основ», а такого мужества у него не было, потому и мне его не хватило. Вызов должен был исходить от него, тогда все было бы по-человечески, было бы правильно.
Я сказала: «Спокойной ночи. Гари». О господи, ведь я не сказала «прощай», даже тут еще оставила ему лазейку. Но я его не виню. У него было много оснований бояться. Я перебирала их в уме, когда сидела потом у себя в комнате, сидела, ждала, решала поговорить начистоту с Лили. А когда услышала, как велорикша выезжает за ворота, решимость моя пошла на убыль, и меня охватила тревога за него, потому что такому человеку было бы ужасно трудно спрятаться, а мне казалось, что он именно это и задумал. Спрятаться. Раствориться в море коричневых лиц.
Роналд Меррик употребил правильное слово — общение. Мы с Гари могли быть врагами, или чужими, или любовниками, но только не друзьями, потому что никакая дружба не выдержала бы этих непрестанных помех. Мы все время спрашивали себя: «А стоит ли?» Все время доискивались мотивов, почему нас так тянет друг к другу. С моей стороны мотивом было физическое влечение, но я не решалась думать, что это взаимно. Впрочем, моего чувства это не меняло. Я его любила. Хотела, чтобы он был рядом. Уверяла себя, что на чужие мнения мне наплевать. Наплевать на то, что он сделал или в чем его подозревают и на что считают способным такие люди, как Роналд Меррик. Я хотела уберечь его от опасности. Если для него лучше, чтобы нас больше не видели вместе, — я была готова отпустить его, дать ему спрятаться. Но так как я была в него влюблена, я тешила себя мыслью, что разлука будет не навек, и это хоть немного помогло мне принять решение, что следующий шаг должен исходить от него.
Когда Лили наутро спросила меня про наш поход в храм, я наболтала ей всяких пустяков, как будто ничего не случилось. Несколько раз у меня на языке вертелся вопрос: «Вы знали, что это Роналд арестовал Гари?» Но я не хотела услышать от нее, что да, знала. Не хотела наводить ее на разговор, в котором ей пришлось бы признаться, что у нее зародились кое-какие сомнения насчет Гари, что она жалеет что поспешила встать на защиту человека, совсем ей незнакомого, а потом узнала про него кое-что и чувствует, что Роналд имел основания его заподозрить и не совершил ничего постыдного, когда увез его на допрос.
Если от Гари долго не будет писем или мы долго с ним не увидимся, думала я, Лили живо сообразит, что между нами что-то произошло. Мне было ясно, что своим молчанием я помогаю ему, отвлекаю от него внимание, но я не понимала, что предаюсь своей неутоленной страсти, когда тку для него защитную оболочку, внутри которой и для меня самой нет места. Я тогда не чувствовала, что для меня там нет места. Потом-то почувствовала.
Я продолжала работать, жить как всегда. От него — ни строчки. Чтобы избежать вопросов Лили в случае, если бы она вздумала их задавать, я почти все вечера проводила в клубе. И люди это заметили. Раз я в клубе — значит, не с Гари. Когда я в первый раз встретила там Роналда, он подошел ко мне и спросил: «Ну как, интересно было в храме?» Я пожала плечами и ответила: «Да, довольно интересно. Но какая обираловка! За каждый шаг тянут деньги». Он улыбнулся. То ли был доволен, то ли озадачен — не разберешь. Я подумала, что он, пожалуй, понял, что я притворяюсь, а потом решила — неважно, даже если понял, все равно он не знает, что за этим притворством кроется. В тот вечер я его ненавидела. Ненавидела и улыбалась ему. Соблюдала правила игры. И опять убедилась, как это легко и просто — приспособляться. Ведь приспособиться надо было всего лишь к абстракции. Вся игра шла вокруг двух слов: превосходство белых.
И все время тосковала по Гари. Мне чудилось, что он смотрит на меня из-за плеча всех этих белолицых мужчин, а на лице каждого белолицего было написано, как он старается делать вид, что такие, как он, и есть весь мир. Мерзость. Врожденный порок. И вот-вот взорвется, как порох, стоит только поднести спичку.
Мне казалось, что вся эта злосчастная проблема — мы в Индии — раскалилась до предела. Иначе и быть не могло, раз в основе ее — насилие. Когда-то, возможно, тут сработала не только физическая, но и какая-то моральная сила. Но моральный элемент прогорк. Уже давно. И это отразилось у нас на лицах. На женских лицах это выглядит хуже, чем на мужских, потому что сознание физического превосходства женщинам не свойственно. Белый мужчина в Индии может ощущать свое физическое превосходство, не чувствуя, что перестал быть мужчиной. А что происходит с женщиной, если она постоянно твердит себе, что 99 % мужчин, которых она каждый день видит, — вообще не мужчины, а особи какого-то низшего вида животных, чей отличительный признак — цвет кожи? Что происходит, когда на целую нацию смотрят как на нацию кастратов? А мы ведь это самое и делаем, разве не так?
Одному богу ведомо, что тогда происходит. Что произойдет. Пока все идет только хуже и хуже, из года в год. С обеих сторон — нечестность, потому что моральная сила и в них прогоркла, а не только в нас. Мы скатились назад, к примитиву, к примитивному вопросу о том, кто говорит «Гоп!», а кто прыгает. Какими бы красивыми словами это ни прикрывать, пусть даже это называется «величайшим с времен дохристианского Рима экспериментом в области колониального управления и цивилизующего влияния», как говаривал наш старый приятель мистер Суинсон. Все свелось к тому, что они тупо рвутся к власти, а мы столь же тупо и нагло за нее держимся. И чем они тупее, тем мы наглее. Теперь уже этого не скроешь, потому что нравственный элемент, если он когда-нибудь существовал, отпал начисто. А отпал он по нашей вине, потому что мы были обязаны его лелеять, а мы все ужимали и ужимали его тем, что говорили одно, а делали другое. Происходило это потому, что здесь, в Индии, где мы были обязаны подтверждать слова поступками, и так, чтобы все это видели, мы всякий раз поддавались дикарскому инстинкту — с ходу крушить все, чего мы не понимали, что казалось — да и было — не таким, как у нас. И одному богу ведомо, на сколько веков нужно вернуться вспять, чтобы проследить до истоков их страх перед людьми, у которых цвет кожи светлее, чем у них самих. Да поможет нам бог, если они когда-нибудь избавятся от этого страха. Может быть, страх — это не то слово. Во всяком случае, применительно к Индии. Это такое первобытное чувство, а их цивилизация такая старая. Лучше, пожалуй, сказать так: да поможет нам бог, если их страх когда-нибудь поборет усталость. Но и усталость — не то слово. Может, у нас и нет слова для обозначения того, что они чувствуют. Может, оно скрыто в каменной статуе спящего Вишну, который, кажется, в любую минуту может пробудиться и под раскаты веселого грома всех отправить в небытие.
* * *
В этом, значит, и была разница между мной и Гари? Что он мог ждать, а я не могла? В конце концов я не выдержала этого молчания, бездействия, искусственности своего положения. Я ему написала. К самопожертвованию я не склонна. Это, наверно, англосаксонский недостаток. Нам все время нужны доказательства, сейчас же, безотлагательно, — доказательства, что мы существуем и что-то сделали в жизни, ярлыки, которые можно повесить на шею, чтобы все знали, кто мы, чтобы не заблудиться в страшных джунглях безымянности.
Но была в моем нетерпении и англосаксонская привычка планировать, заглядывать вперед, и сознание, что время движется по расписанию, для уловления которого изобретены часы и календарь. Чем дальше от экватора, тем явственнее ощущаешь ритм света и тьмы и как он, то убыстряясь, то замедляясь, организует смену времен года, так что само Время облекается в какую-то специфическую форму и заставляет прислушиваться к его бессмысленным, но дотошным требованиям. Будь я индийской девушкой, я бы, может быть, написала Гари: «Сегодня же, очень прошу». А я предупредила его дня за три-четыре. Не помню точно, и это показывает, что количество дней не имело значения, да и самый день тоже, хотя нет, день я помню. Как и все, наверно. 9-е августа. Я написала, что жалею, если произошло недоразумение, и хочу с ним поговорить. Что вечером буду в Святилище и надеюсь с ним там встретиться.
Ответа я не получила, но в назначенный день проснулась в веселом, даже приподнятом настроении. Только села завтракать, как зазвонил телефон. Я подумала, что это Гари, и бросилась наперерез Раджу снимать трубку. Это был не Гари, это миссис Шринивасан спрашивала Лили Я послала Раджу наверх, сказать Лили, чтобы взяла отводную трубку. Когда я зашла к ней проститься перед уходом, она сказала: «Васси арестован».
Ну, эта сторона тебе известна. Мы этого ждали, но, когда оно случилось, все же были потрясены. В больнице девочки держались так, будто это они лично спасли положение, упрятав в тюрьму Махатму и его коллег и видных конгрессистов по всей стране. А за год до этого большинство из них даже не знало, что такое Конгресс. Настроение в больнице в то утро было примерно такое же, как в клубе в конце Военной недели. Одна сестричка сказала: «Вы санитаров заметили? Поджали хвосты, негодяи», и после этого девочки одна перед другой старались их как-нибудь унизить. И в их отношении ко мне обозначилась едва уловимая перемена, точно они хотели дать мне почувствовать, что я несколько месяцев ставила не на ту лошадь.
Трусить они начали только во второй половине дня. Сначала распространился слух о беспорядках в округе, потом стало точно известно, что заместитель комиссара укатил с полицейским патрулем выяснять, почему прервалась связь с городком под названием Танпур. Пошел дождь. А примерно без четверти пять, когда я уже готовилась смениться с дежурства, начался переполох, потому что мистер Поулсон доставил в больницу учительницу миссионерской школы мисс Крейн. Мы сперва думали, что ее изнасиловали, но потом мистер Поулсон рассказал мне, что случилось. Я его встретила, когда шла в кабинет заведующей. Мисс Крейн, оказывается, подверглась нападению по дороге домой из Дибрапура — ее машину подожгли и на ее глазах убили другого учителя, индийца. Она пережила кошмарные минуты и к тому же простудилась. Сколько времени просидела у дороги, охраняя мертвое тело. Я когда-то познакомилась с мисс Крейн в гостях у комиссара, поэтому заведующая разрешила мне к ней зайти. Но у нее уже мысли путались, и она меня не узнала. Я думала, что она не выживет. Она все повторяла: «Мне так жаль. Так жаль, что я опоздала», и бормотала что-то насчет того, что чаппати слишком много, ей одной не съесть, и спрашивала, почему я не съела ни одной, осталась голодная. Я взяла ее за руку, пробовала объяснить, кто я, но она все твердила: «Мне так жаль, что уже слишком поздно!» Потом вдруг сказала: «А я — Эдвина Крейн, и моя мать умерла так давно, что и вспомнить страшно», а потом стала бредить про ремонт какой-то крыши и что ничего не может сделать. Раз за разом повторяла: «Ничего. Ничего не могу».
* * *
Когда я вышла из больницы, дождь все лил[25]. Ни Роналдова шофера, ни его машины не было видно. Но у меня был велосипед, и я захватила с собой накидку от дождя и зюйдвестку. Лили я сказала, что заеду в клуб, и девочкам обещала там встретиться, но из-за мисс Крейн я задержалась и покатила прямо в Святилище — по Больничной улице, и Виктория-роуд, и через реку по Бибигхарскому мосту. То ли из-за дождя, то ли из-за тревожных слухов люди попрятались по домам, на улицах почти никого не было. В Святилище я попала около шести часов. Дождь к тому времени немного отпустил.
Я тебе, по-моему, никогда не описывала Святилище? Так вот, с той улицы, что ведет к новым кварталам Чиллианвалла, сворачиваешь на дорогу вдоль пустыря у реки, где живут в ужасающих лачугах самые жалкие, нищие неприкасаемые. Потом доезжаешь до участка, обнесенного стеной, а за стеной стоят три старых здания, построенных еще в начале девятнадцатого века. В одном — контора, в другом — амбулатория и «келья» сестры Людмилы, а в третьем, самом большом, она ухаживает за больными и умирающими. Участок занимает примерно пол-акра. Там царит полное запустение, и почти все время чувствуется запах реки. Но внутри все чисто и аккуратно, все помещения прибраны, вымыты, побелены.
У нее есть один постоянный помощник, гоанец, по фамилии де Соуза, и еще она нанимает разных мужчин и женщин, те временные. Меня всегда занимал вопрос, откуда у нее деньги.
Гари там не было. Я сначала прошла в контору и поздоровалась с мистером де Соузой. Он сказал, что сестра Людмила у себя, а на вечерний прием никто пока не приходил — тоже, наверное, из-за тревожных слухов. Я прошла в амбулаторию и постучала в ее дверь. Я ее не видела с той недели, когда мы ходили в храм. Она знала, что мы туда собираемся, и теперь пригласила к себе в комнату и просила рассказать про наш поход.
Дождь перестал, минут через десять выглянуло солнце, как часто бывает после дождливого дня, но оно, конечно, клонилось уже к закату. Она спросила: «Гари тоже придет?» Я сказала, что не уверена. Тогда она стала расспрашивать про храм. Я рассказала, как мы поклонялись великому Венкатасваре, и про статую спящего Вишну. Хотела было спросить ее про ту ночь, когда она нашла Гари пьяным в канаве на пустыре, но не спросила. Время шло, а его все не было, и я подумала — вот, все уже ускользает, уходит, а я и прикоснуться к этому не успела и не успела понять. Я смотрела на деревянного танцующего Шиву. Мне показалось, что он движется. Я чувствовала, что не могу больше на него смотреть, а то сама потеряю способность двигаться. Он точно пригвоздил меня к месту.
Я повернулась к сестре Людмиле. Она всегда сидела очень прямо, на жестком деревянном стуле, сложив руки на коленях, так что видно было обручальное кольцо. Я никогда не видела ее без чепца, так что не знаю, стриглась она или нет. Когда я бывала у нее раньше, ее простая, голая комната казалась таким спокойным, безопасным убежищем, но в тот вечер я подумала: «Нет, впечатление безопасности исходит от нее, а не от комнаты». Я почувствовала, что и это от меня ускользает. Мне столько хотелось о ней узнать, но я только один раз задала ей личный вопрос. Она говорила по-английски очень хорошо, но с сильным акцентом. Я спросила, у кого она училась. Она ответила: «У моего мужа. Его фамилия была Смит». О ней рассказывали множество всяких историй — например, что она еще юной послушницей убежала из монастыря и одевается как монахиня в надежде заслужить прощение. Я не думаю, что это была правда. Не верю ни в какие басни про нее. Правдой было только ее милосердие. Для меня оно всегда перевешивало мое любопытство. Говоришь с ней — и не чувствуешь никакой тайны. Ничем другим, кроме нее самой, ее и не требовалось объяснять. А это редко бывает, верно? Чтобы человека можно было объяснить им самим, тем, что он есть и что делает, а не тем, что делал раньше и чем был и что о нем думают и что ему пророчат другие люди.
Я просидела у нее час, уже стало темнеть. Я подумала, что Гари задержался на работе, но ведь это не объясняло его молчания. Подумала — может, его опять арестовали, но решила, что это мало вероятно. Арестовали в тот день видных деятелей местного комитета Конгресса, таких, как Васси. Подумала заглянуть к тете Шалини, но уже по дороге раздумала и свернула в сторону Бибигхарского моста. Уже почти стемнело. На случай, что опять пойдет дождь, я не стала привязывать плащ и зюйдвестку к багажнику, а надела на себя. Было тепло и волгло. Я проехала по мосту и через переезд. У фонаря напротив входа в Бибигхар я остановилась, сняла плащ и повесила на руль. А потом перевела велосипед через улицу и заглянула в ворота. Я еще когда остановилась, ясно почувствовала, что Гари там, сидит один в павильоне, не ждет меня, но думает обо мне, гадает, а вдруг я приду.
Я вошла в ворота, прошла по дорожке до того места, где мы всегда оставляли велосипеды: там их можно было прислонить к стене и из павильона было видно. Тут велосипеда не было. Я посмотрела в сторону беседки. Сначала не увидела ничего, а потом разглядела огонек сигареты. От дорожки, которая идет вдоль стены, до павильона ярдов сто. Можно пройти прямо — пересечь заросшую лужайку и подняться по ступенькам. Потому мы и оставляли велосипеды у стены, чтобы не втаскивать их на ступеньки. А можно пройти и дорожкой в обход лужайки. Я не была уверена, что в беседке Гари, поэтому пошла дорожкой.
Подойдя к павильону сбоку, я увидела, что на мозаичной площадке кто-то стоит. Я окликнула: «Гари, это ты?» Он ответил: «Я». Я погасила фонарь, прислонила велосипед к дереву и пошла к беседке. И тут только заметила, что захватила плащ.
Я сказала: «Разве ты не получил мое письмо?» Но вопрос был бессмысленный. Он не ответил. Я стала искать сигареты, потом вспомнила, что у меня их не осталось. Попросила у него. Он дал мне сигарету. Я сразу закашлялась и выкинула ее. Села на пол. Крыша там выступает над полом, и мозаика всегда сухая. Плащ был не нужен, я положила его рядом с собой. Когда вокруг столько деревьев, слышишь шум дождя еще долго после того, как он перестанет. Капает с деревьев, капает с крыши. Гари тоже сел и опять закурил. Я сказала: «Дай и мне еще». Он протянул мне пачку. Я взяла сигарету. А потом взяла его руку, ту, в которой он держал сигарету, и прикурила. Курила не затягиваясь. Он помолчал, потом сказал: «Ты что хочешь доказать? Что тебе не противно меня касаться?»
Я сказала: «Я думала, что это пройденный этап».
«Нет, — сказал он. — Этот этап никогда не будет пройден».
Я сказала: «Но мы-то его прошли. Я по крайней мере. Да это никогда и не было препятствием. Для меня, во всяком случае».
Он спросил, почему я пришла в Бибигхар. Я сказала, что целый час ждала его в Святилище, а потом заглянула по дороге — думала, может, он здесь.
Он опять помолчал. «Нельзя тебе сегодня быть одной на улице. Я провожу тебя домой. Брось эту гадость».
Он подождал, потом наклонился ко мне, крепко сжал мне запястье, вынул из пальцев сигарету и бросил в траву. Невыносимо было чувствовать его так близко и знать, что сейчас я его потеряю. За руку он меня схватил нетерпеливым жестом любовника. И сам это ощутил. Мысленно я молила его — не отпускай. Была секунда, когда я испугалась, может быть, он этого хотел. Но тут мы стали целоваться. Рубашка у него задралась, потому что он носил ее поверх пояса, и я коснулась рукой его голой спины, и тут нас обоих закружило. Он овладел мной неласково, почти грубо. Я почувствовала, как он подхватил меня, опустил на мозаичный пол. Он рвал на мне белье, навалился на меня всей тяжестью. Но это уже не было отдельно — я и Гари. Я вскрикнула. И стало одно — мы.
* * *
Они появились, когда мы сквозь сон слушали кваканье лягушек, его рука лежала у меня на груди, моя под его черными волосами гладила это чудо, его черное ухо.
Пять или шесть мужчин. Внезапно. Взобрались на площадку. Лица из моих кошмаров. Даже не лица. Черные дьяволы в белом, в рваной вонючей одежде. Они кинулись к Гари. Оттолкнули его. А потом — мрак. И знакомый запах. Только жаркий, душный. Накрыли меня с головой. Я стала вырываться, без мыслей, с одним желанием — выпростать голову.
Ее опутало что-то знакомое, но я его не узнала, потому что оно душило меня. А потом было мгновение — наверно, тогда, когда человек, который придавил меня к земле и укутал этим страшным, но таким знакомым, приподнялся, — мгновение, когда я все забыла и только чувствовала свою наготу. А приподнялся он, наверно, тогда, когда остальные покончили с Гари и пришли ему на помощь. Что-то сдавило мне колени и лодыжки, а потом и руки, и страшное ощущение полной беспомощности, а потом эти жуткие толчки, пародия на любовь без капли человеческого чувства.
* * *
Лица мне больше не снятся. В кошмарах я теперь обычно бываю слепая. Все начинается с Шивы. Я вижу его только памятью. Он внезапно выходит из своего огненного круга и накрывает меня в темноте, держит мои руки и ноги. Я украдкой отращиваю себе еще одну руку, чтобы оттолкнуть его или обнять, но и у него всегда находится лишняя рука, чтобы придавить меня, новое семя взамен истраченного. В конце этого сна я уже не слепая и вижу его лицо, на нем написано и отпущение грехов, и призыв. Тогда я просыпаюсь и вспоминаю, как, когда они ушли, я прижимала к себе свою накидку, дышала, сознавая, какое это счастье — воздух, которым можно наполнить легкие, и думала: «Это моя, моя собственная накидка, я надеваю ее от дождя, она часть моей жизни!» Я крепко держала ее, прижимала к телу, куталась в нее. Я думала, что я одна. Мне мерещилось, что Гари ушел вместе с ними, потому что был одним из них.
Но потом я его увидела — он, как и я, лежал на мозаичном полу. Они заткнули ему рот, связали руки и ноги полосками ткани, может оторвали от своей одежды, и положили так, что он, только зажмурившись, мог не увидеть, что делалось.
Я подползла к нему и долго мучилась, пока развязала узлы, — долго, потому что узлы были затянуты туго и потому что я все старалась накрыться плащом. Сначала я освободила ему рот, чтобы не задохнулся, потом лодыжки, потом руки. А он лежал неподвижный и безвольный, и я обхватила его руками, потому что не могла этого выдержать. Не могла выдержать, что он плачет.
* * *
Плакал он, наверно, от стыда и от того, что случилось со мной и чему он не смог помешать. Он сказал что-то, чего я не уловила, потому что голова не работала, но теперь, когда вспоминаю, не сомневаюсь, что это была невнятная просьба простить его.
Мне вдруг стало холодно. Он почувствовал, что я вся дрожу. Тогда уж он сам меня обнял, и мы лежали обнявшись, как дети, когда боятся темноты. Но я не могла унять дрожь. Он натянул мне плащ на плечи и на грудь. Потом встал и стал собирать мои вещи, а я ощупью брала их у него из рук. Он сказал: «Обними меня за шею». Я послушалась. Он поднял меня и осторожно понес вниз по ступенькам. Я вспомнила, сколько шагов от павильона до ворот, потом вспомнила про велосипед. Я думала: он понесет меня через лужайку, но он свернул к дорожке. Когда он прошел мимо того места, где я оставила велосипед, я сказала: «Нет, он где-то здесь». Он не понял. Я объяснила: «Мой велосипед». Он опустил меня на землю, но продолжал поддерживать. Сказал, что ничего не видит, что те люди, должно быть, увели его или спрятали. Сказал, что вернется завтра и поищет. Я спросила, а где его велосипед. Он, оказывается, отдал его в починку на базаре. Еще с утра. Он опять взял меня на руки и понес по дорожке. Я чувствовала, как ему тяжело. Просила отпустить меня. Он отпустил на минутку, а потом опять подхватил на руки. Пока мы были в саду, я не спорила. Попроси я его донести меня до дома Макгрегора, он бы, мне кажется, и это сумел. Но когда мы дошли до ворот и он поставил меня на ноги, чтобы передохнуть, вновь заявил о себе тот мир, что был за стенами сада. За воротами начиналось то, что для другой белой девушки означало бы спасение. В каком-то смысле это было спасением и для меня. Но не для него. Когда он опять протянул ко мне руки, я его оттолкнула — как ребенка, который тянется к чему-то, обо что можно обжечься или порезаться. При виде ворот я сразу представила себе, как он несет меня по улице, на свет, в кантонмент.
Я сказала: «Нет, домой я должна прийти одна. Мы не были вместе. Я тебя не видела».
Он пытался взять меня за руку. Я отодвинулась от него. Сказала: «Нет. Ты ко мне не подходил. Ты ничего не знаешь. Не говори ничего». Он не хотел слушаться. Пытался обнять меня, но я вырвалась. Мысль о том, что они с ним сделают, ужасала меня. Мне никто не поверит. Он сказал: «Я должен быть с тобой. Я тебя люблю. Не гони меня, ну пожалуйста».
Если б он этого не сказал, я бы, возможно, уступила. Мысль, что он был прав, а я не права, что единственный выход был в том, чтобы все узнали правду, эта мысль до сих пор терзает меня, это бремя, такое же тяжкое, хотя и не такое заметное, как мой неродившийся ребенок. Тебя, может быть, удивит, почему, когда он сказал, что любит меня, вся моя решимость сразу не растаяла. Но ведь любовь не в этом, правда? Такая любовь была не для меня. Она меня оглушила. Мне только становилось все страшнее от того, что они с ним сделают, если он им скажет: «Я ее люблю. Мы любим друг друга».
Я стала его бить, не чтобы от него спастись, а чтобы спасти его. Пыталась вбить в него хоть каплю благоразумия и хитрости. И твердила свое: «Мы не встречались. Ты был дома. Ты ничего не знаешь. Обещай мне».
И бросилась бежать, не дожидаясь его обещания. Он догнал меня, пытался остановить. Я опять стала просить его отпустить меня, умоляла отпустить, ничего не говорить, ничего не знать — ради меня, если уж ради себя он неспособен молчать. На секунду я припала к нему — это был последний раз, что я его касалась, — потом выбежала за ворота и бежала, бежала — в освещенный круг у фонаря и опять во тьму, благодарная за тьму, бежала куда глаза глядят, не разбирая дороги. Один раз остановилась, прислонилась к какой-то стене. Захотелось вернуться. Сознаться, что одна я не справлюсь. И хотелось, чтобы он знал, что я усомнилась в своей правоте. Ведь он не знал, что я пережила, чего боялась. Я выбилась из сил. Мне было больно. И страшно. Так страшно, что я не вернулась.
Я сказала: «Я ничего не могу сделать. Ничего, ничего»— и успела подумать, где же я недавно слышала эти слова, и опять побежала по этим ужасным, пустынным, почти не освещенным улицам, которые должны были привести меня домой, а вели неизвестно куда, в безопасное место, которое не было безопасным, потому что за ним начиналась равнина, открытое пространство, и казалось — если бежать все дальше, свалишься за край света[26].
* * *
Тогда это казалось так просто — сказать: «Гари там не было» — и вообразить, что этим уберегла его от опасности. А сейчас слишком легко думать, что единственное спасение было в правде, как ни опасна правда не оказалась бы для него. Будь это англичанин — например, тот офицерик, который стал ко мне лезть во время танцев в честь Военной недели, — правда помогла бы, да нам, наверно, и не пришло бы в голову ее скрывать. Поняв, чем мы занимались в Бибигхаре, люди поддержали бы нас, если б дело дошло до суда, а если бы преступников не нашли, а значит, и суда бы не было, дали бы нам понять, что теперь наш долг — во всяком случае, мой — помалкивать.
Но он не был англичанином. И конечно, некоторые люди сказали бы, что с англичанином такого вообще бы не случилось, и, наверно, они были бы правы, потому что нам не нужно было бы ходить в Бибигхар, чтобы побыть вдвоем, и мы не оказались бы там вечером, когда стемнело. Он соблазнил бы меня в закрытом грузовике в гараже при клубе «Джимкхана», или за раздевалками у бассейна, или в какой-нибудь холостяцкой квартире, или даже в моей спальне в доме Макгрегора в какой-нибудь вечер, когда Лили уезжала играть в бридж. А некоторые люди сказали бы, что, даже если бы мы с этим офицериком занимались любовью в Бибигхаре, никакая шайка хулиганов-индийцев на нас не напала бы. И это тоже, вероятно, правда, только вот основание для такого их мнения было бы ошибочным. Они бы приписали офицерику сверхчеловеческую силу, которая позволила ему в два счета расправиться с бандой черномазых, тогда как на самом деле их победил бы страх перед белыми. Мисс Крейн несколько раз ударили, но убили-то ее спутника, индийца. И на меня они набросились, потому что застали меня с индийцем и я уже не была для них табу.
Гари, наверно, это понял. Потому ему, наверное, и было стыдно, потому он и просил прощения. А я поняла только, какая опасность ему грозит, если увидят, что он, черный, выносит меня на руках в ворота, ведущие в мир белых людей.
Я все ищу сравнений, метафор, чтобы яснее выразить мою мысль, но ничего не нахожу, потому что ничего и нет. Просто индиец несет на руках англичанку, с которой у него была любовь и над которой у него на глазах надругались другие, несет ее туда, где она будет в безопасности. Это и есть метафора. Этим сказано все, что нужно, правда? Если развить эту ситуацию, представить себе, что он донес меня до дома Макгрегора, сдал на попечение тете Лили, позвонил доктору, позвонил в полицию, отвечает на вопросы, которые ему задают как моему спасителю, получится что-то совершенно неправдоподобное, какой-то абсурд. Когда додумаешь до того места, где Роналд, скажем, отводит Гари в сторону и Гари ему отвечает: «Да, у нас там было свидание», Роналд должен сочувственно кивнуть головой, но не кивнет, если не выбелить Гари кожу, чтобы она стала не просто как у белого, а как у белого, потрясенного до такой степени, что другой белый не может не пожалеть его, как бы ни осуждал.
Вот потому я с ним и боролась, и била его, и твердила: «Мы не виделись. Ты ничего не знаешь».
Так легко сказать: «Я не видела Гари Я его не видела с тех пор, как мы были в храме». Я так и сказала Лили, когда лежала на диване в гостиной. Она поняла наконец, что случилось, и спросила: «Это был Гари?» И я ответила слишком, пожалуй, поспешно, но твердо: «Нет-нет, Гари я не видела. Я его не видела с тех пор, как мы ходили в храм».
Она спросила: «Так кто же это был?» Я отвела глаза. Сказала: «Не знаю, пятеро или шестеро. Я не видела. Было темно. Они замотали мне голову».
Раз ты их не видела, как ты можешь знать, что одним из них не был Гари Кумар? Вот вопрос, на который мне пришлось бы ответить. Лили его не задала. Только спросила: «Где?», и я ответила: «В Бибигхаре». И опять мог последовать вопрос «Что ты там делала, в Бибигхаре?» Но и этот вопрос не был задан. Лили его не задала ни тогда, ни позже. Но капкан уже был поставлен. С той самой минуты, когда я споткнулась и упала на ступеньки веранды.
Я сильно ушибла колено. На несколько секунд, вероятно, потеряла сознание. Когда я очнулась и попробовала встать, рядом была Лили, она смотрела на меня как будто не узнала. Помню, она сказала. «Раджу». То ли позвала его на помощь, то ли он вышел на веранду следом за ней. А потом уже помню гостиную и как мне дают коньяку. Очевидно, меня внесли в дом Раджу и Бхалу. Помню, что Бхалу стоял на ковре босой. Его черные ноги. И Раджу босиком. Черные руки. И черные лица. Когда я выпила коньяк, Лили попросила их отнести мемсахиб наверх. Они приблизились ко мне, но я закричала, просила ее услать их прочь. Вот тут-то Лили поняла, в чем дело. Когда я опять открыла глаза, мы были одни и мне было стыдно смотреть на нее. И тут она спросила: «Это был Гари?», и я поспешила с отрепетированным ответом.
Мне до сих пор стыдно, что я так закричала, когда Бхалу и Раджу подошли ко мне. Ведь я закричала, потому что они были черные. А стыдно потому, что, несмотря на мою любовь к Гари, я не сумела побороть этот идиотский первобытный страх. Из Гари я сделала исключение. Я не хочу сказать, что любила его, несмотря на его черную кожу. Цвет кожи был частью его мужской привлекательности. Наверно, я хочу сказать, что, когда я его полюбила и потянулась к нему, я наделила его черноту каким-то особым значением, изолировала ее от естественной среды, вместо того чтобы отождествить себя с ней в ее среде. Был в моей любви какой-то элемент самодовольства, предвзятости, гордыни, потому что мне казалось, что любовь помогла мне преодолеть и личный, и социальный барьер. А она его не преодолела. Нет, это тоже не совсем верно. Отчасти она его преодолела. Достаточно для того, чтобы мне сразу стало стыдно, и я просила Лили вернуть Бхалу и Раджу и пусть они помогут мне добраться наверх. Я поблагодарила их и пыталась показать, что раскаиваюсь. Наутро на моем подносе лежали цветы — Лили сказала, что это Бхалу нарезал их в саду специально для меня.
* * *
Еще до того, как они перенесли меня наверх, Раджу позвонил доктору Клаус. Поднимаясь по лестнице, Лили сказала: «Сейчас приедет Анна. Успокойся, Дафна. Она уже едет». Лили осталась у меня в комнате. Мы услышали, как подъехала машина, и Лили сказала: «Вот, наверно, и она». Через несколько минут в дверь постучали, и Лили крикнула: «Входите, Анна». Я даже Анну не хотела видеть и отвернулась к стене. Но когда дверь открылась, я услышала голос Лили: «Нет, нет, сюда нельзя». Она встала, вышла из комнаты и затворила дверь. А вернувшись, сказала, что это Роналд, что он уже заезжал к ней, когда искал меня. Я сказала, что это очень любезно с его стороны, но теперь я вернулась, так что все в порядке. «Но не очень-то все в порядке, моя хорошая, да?» И опять стала меня расспрашивать, задавать те вопросы, которые ей задал Роналд. В Бибигхаре, но когда? Сколько их было? Каких? Я кого-нибудь узнала? Смогу опознать? Как я добралась домой?
Потом она вышла на несколько минут и что-то говорила Роналду за дверью. А потом вернулась, молча села ко мне на постель и взяла меня за руку. Мы услышали, как машина Роналда отъехала. Очень быстро. Не глядя на Лили, я спросила: «Вы ему сказали, что это не Гари?»
Она ответила, что да, из чего я заключила, что он это спрашивал. То, что они оба сразу заподозрили, что здесь замешан Гари, лишь утвердило меня в намерении врать без зазрения совести.
После этого оставалось только ждать Анну. Я была рада, когда она приехала, рада, что со мной обращаются как с очередным пациентом в больнице, без всяких эмоций. Когда она кончила, я попросила ее передать Лили, чтобы она велела кому-нибудь из прислуги напустить ванну. Мне казалось, что если я час полежу в теплой воде, то хоть немножко отмоюсь. Она сделала вид, что послушалась, а сама тем временем уже дала мне сильнодействующее снотворное. Я помню шум воды и как я задремала, воображая, что слышу дождь. Она и открыла кран только для того, чтобы меня успокоить. Проснулась я утром. Она по-прежнему сидела у моей постели. Я спросила: «Вы тут всю ночь просидели?» А она, конечно, побывала дома, но рано утром опять приехала. Анна мне всегда нравилась, но до этого утра я и побаивалась ее, как боишься людей, у которых была очень тяжелая жизнь. Боишься задать им лишний вопрос. Я никогда не спрашивала Анну о Германии. А теперь и спрашивать было не надо. Мы нашли что-то общее. Потому и смогли улыбнуться друг другу — нерешительно, коротко, словно связь между нами еще только-только наметилась.
* * *
Я рассказала всю правду, тетечка. Рассказала как умею. Жаль, что так поздно. Ведь я ненавижу ложь. Но думаю, что эту ложь повторила бы. После Бибигхара не случилось ничего такого, что доказало бы мне, что я была не права, когда из страха за Гари отрицала, что мы с ним виделись. Я не сомневаюсь, что он пострадал. Что он подвергся наказанию. Но не разрешаю себе думать, что наказание было бы менее суровым, если бы люди узнали правду.
Стоит мне вспомнить, как они изощрялись, стараясь уличить меня во лжи и запутать его, меня дрожь берет при мысли о том, что бы с ним случилось, если б я хоть раз, хоть нечаянно проговорилась и признала, что мы были в Бибигхаре вместе.
Но от этого мне не легче сознавать, что безвинно пострадали те, другие мальчики. Как можно наказывать ни в чем не повинных людей? Я знаю, что в конце концов их приговорили к тюремному заключению по причинам, якобы не связанным с Бибигхаром. Но думаю, что, если б не Бибигхар, они сейчас были бы на свободе. Я уверена, что их арестовали по ошибке. Да, я сказала, что не видела тех, и это правда. Но какое-то впечатление о них у меня осталось — от их одежды, их запаха, и что это были не мальчики, а взрослые мужчины. Хулиганы из какой-нибудь деревни, забрели в Майапур поозорничать. А те мальчики, которых арестовали, судя по всему, совсем не были похожи на хулиганов.
Об арестах я узнала только к вечеру следующего дня. Анна и Лили уже о них знали. Роналд заезжал еще раз накануне вечером и сообщил им, что уже посадил преступников под замок. Они мне ничего не сказали — ни вечером, потому что я уже спала, ни наутро, потому что одним из арестованных был Гари. В половине первого Лили зашла ко мне вместе с Анной и сказала: «Приехал Джек Поулсон. Ему нужно с тобой поговорить, но он может говорить при Анне». Я просила ее тоже остаться, но она сказала, что хватит и Джека с Анной. Когда Джек Поулсон вошел в комнату, вид у него был как у христианского мученика, которого только что безуспешно убеждали отречься от бога. Я стеснялась его, а он меня. Анна остановилась у открытой двери на балкон, и Джек не отходил от нее, пока я не предложила ему сесть. Он рассыпался в извинениях и объяснил, что мистер Уайт «уполномочил его собрать показания свидетелей», поскольку дело это касается не только полиции, но и гражданской власти в целом.
Я за это время успела подумать, прикинуть, на какие вопросы из тех, что Лили не задала мне вчера вечером, так или иначе придется отвечать. Что я делала в Бибигхаре? Откуда я знаю, что Гари там не было, раз я не видела тех, кто на меня напал? И я поняла, что единственный способ выдержать допрос, не припутав Гари, — это заново проиграть в уме весь вечер и представить себе, что бы случилось, если б Гари там действительно не было.
Мой вариант выглядел так: навестив мисс Крейн, я поехала из больницы в Святилище. Тут я нарочно попросила Джека Поулсона по возможности не распространяться про Святилище, потому что езжу туда помогать на амбулаторном приеме и боюсь, как бы в этом не усмотрели нарушения правил, хотя в больнице я работаю сестрой добровольно и без оплаты. Он улыбнулся, что мне и требовалось. Но потом перестал улыбаться и своим молчанием вынудил меня перейти к самой трудной части рассказа.
Из Святилища я уехала, когда почти стемнело. Было уже ясно, что на прием никто не придет из-за тревожных слухов. Во всем городе было непривычно тихо. Точно жители сами ввели комендантский час. Но меня это не испугало, а, напротив, вселило в меня какое-то неоправданное ощущение безопасности. Я чуть не впервые почувствовала себя в Майапуре полной хозяйкой. Я поехала по улице в сторону новых кварталов Чиллианвалла, потом по Бибигхарскому мосту и через переезд.
Тут Джек Поулсон перебил меня вопросом: «У переезда вы никого не видели?»
Я подумала, прежде чем ответить (ведь про аресты я еще ничего не знала). До сих пор мы держались фактов, держались правды, но мне нужно было решить, до какого предела я могу себе разрешить быть правдивой. Пока я еще не усматривала в правде никакого риска и постаралась точно восстановить в памяти, как ехала по мосту и через рельсы, а уж тогда ответила: «Нет. Там никого не было. Семафор был зеленый, и, кажется, в будке стрелочника горел свет и слышались голоса. Вернее — детский плач. Какая-то семейная ссора. Я проехала не останавливаясь. А у фонаря напротив Бибигхара остановилась и слезла с велосипеда».
Джек переждал немного и спросил почему.
Я сказала: «Сперва остановилась, чтобы снять накидку. Я надела ее, когда уезжала от сестры Людмилы, думала, что опять будет дождь, но дождя не было, а дождевик без дождя, сами знаете, выглядит нелепо».
Он кивнул, потом спросил, остановилась ли я точно под фонарем. Я подумала, значит, кто-нибудь меня видел или они стараются установить, мог ли кто-нибудь меня увидеть. Это меня не смутило, я пока все еще говорила правду. Но я стала осторожнее и порадовалась, что полуправда, которую я сейчас произнесу, все же ближе к истине, чем та басня, которую я успела сочинить, но теперь отставила — будто я остановилась у Бибигхара, чтобы надеть накидку, потому, что думала, что будет дождь, или потому, что дождь уже пошел и я решила ненадолго укрыться в Бибигхаре. А отставила я эту басню потому, что дождь и не намечался, и никакого дождя не было, и проверить это было бы легче легкого.
Вот я и ответила, что да, я остановилась под фонарем и сняла плащ. И зюйдвестку. Засунула ее в карман плаща, а плащ повесила на руль.
Мистер Поулсон спросил: «Что вы имели в виду, когда сказали, что „сперва“ остановились, чтобы снять плащ?»
Вот когда я действительно рисковала попасться. Я опять порадовалась, что отставила мелодраматический вариант о нападении таинственных незнакомцев, которые силой затащили меня в Бибигхар. Я сказала: «Вы подумаете, что это ужасная глупость или что я поступила очень неосмотрительно». Теперь, когда я наконец начала врать, я почувствовала, что эта ложь удивительно соответствует тому представлению обо мне, которое у людей сложилось. Так типично для этой бестолковой, нескладной Дафны Мэннерс! Глядя Джеку Поулсону прямо в глаза, я выпалила: «На улице было так тихо, безлюдно, я подумала — а вдруг увижу привидения?»
Он переспросил: «Привидения?» — и пытался сделать строгое лицо, но тон у него получился не строгий, а растерянный. Я сказала: «Ну да, бибигхарские привидения. Я никогда не бывала там в темноте (это было рискованно, но проехало), а слышала, что они там водятся. И я вроде как сказала себе: „Смелей на приступ!“ — перешла через улицу и вошла в сад. Туда можно когда угодно зайти, ворот-то нет. Я еще подумала — как забавно, приеду домой и скажу Лили: „Ну вот, с бибигхарскими привидениями все ясно. Теперь не испугаюсь и Дженет Макгрегор“. Я довела велосипед до павильона, потом прислонила его, погасила фонарь и поднялась на мозаичную площадку».
Но мистер Поулсон никогда не бывал в Бибигхаре. Потом-то, когда потребовалось обследовать место происшествия, он там побывал, но в ту минуту мне пришлось объяснить ему, что это за площадка. «В общем, — продолжала я, — я уселась на площадке, закурила (это сорвалось само собой и тоже было рискованно, потому что, если бы какие-нибудь окурки уцелели после ночных дождей, они оказались бы не английскими, а местными) и стала ждать, когда появятся привидения. Говорила про себя всякую ерунду, вроде: „Ну, где вы там, привидения, выходите!“, а потом вспомнила про мисс Крейн и подумала, что, пожалуй, поступила как последняя дура. В самом деле, находиться там именно в этот вечер было верхом безумия. Но я как-то не приняла всерьез того, что творилось далеко от города, а вы? За мной, наверно, следили. Я ничего не слышала, кроме капели и кваканья, то есть как капало с деревьев и с крыши и квакали лягушки. А люди появились внезапно. Как из-под земли».
У мистера Поулсона лицо опять сделалось как у христианского мученика. Он спросил: «И вы их не видели?» Это тоже был рискованный момент. Я сказала: «Разве что в первую секунду. Все произошло так быстро. Я опомниться не успела, как они меня окружили».
Эта часть моего рассказа, конечно, интересовала Джека Поулсона больше всего, но от смущения он даже не мог смотреть на меня. Он все поглядывал на Анну, в поисках моральной поддержки, и я, помню, еще подивилась, почему она стоит неподвижно, хотя явно прислушивается, почему неотрывно смотрит в сад, точно этот допрос ее не касается, точно она — безликая кукла, которая оживет и снова станет Анной Клаус, только если различит в голосе своей пациентки мольбу о помощи.
Джек Поулсон сказал: «Мне очень тяжело задавать вам эти вопросы, но скажите, помните вы хоть что-нибудь про этих людей или хотя бы про одного из них, что-нибудь такое, что поможет вам их опознать?»
Чтобы оттянуть время, я сказала: «Да, по-моему, нет. Ведь они все на одно лицо, верно? Особенно в темноте» — и почувствовала, что сказала что-то нескромное и к тому же нетипичное для меня. Он спросил, как они были одеты. Мне запомнилось что-то белое, из дешевой ткани — ну знаешь, как у крестьян, дхоти и рубахи со стоячим воротом, грязные и вонючие. Но тут опять прозвенел колокольчик — сигнал опасности. Я поняла, что грозит Гари, если этих людей когда-нибудь изловят. Думаю, что, если б меня вечером привели в Бибигхар и показали мне их, я бы их узнала. Ведь людей можно бывает узнать, даже если не запомнишь определенных признаков, даже когда впечатление осталось самое мимолетное, какого и описать не сумеешь. Я боялась, что мне их покажут и я вынуждена буду сказать «Да, это они». И тогда они станут оправдываться, бросятся на колени, будут на крик просить пощады и скажут, что такого никогда бы не случилось, если б белая женщина еще до них не лежала с индийцем.
Вот теперь капкан и правда мог захлопнуться. Только начни врать, конца не будет. Я уже довралась до того, что спастись могла не иначе как правдой. А сказать правду не решалась, так что мне оставалось только сбивать людей с толку и вызывать их ненависть, да еще твердить и твердить до полного изнеможения, что Гари там не было, и сделать все, чтобы моих обидчиков невозможно было обвинить и привлечь к суду, поскольку они знали, что главный свидетель обезвредит любое оружие, какое они попытаются пустить в ход.
Но я, конечно, забыла или не учла, что обвинить и наказать можно и без суда, по одному лишь подозрению. Был момент, когда я увидела, как может повернуться дело, и чуть не сказала правду. И хорошо, что не сказала, — они наверняка сумели бы как-нибудь доказать, что Гари виновен в изнасиловании, поскольку он там был и первым овладел мной и подбил других последовать его примеру. Моя ложь избавила его хотя бы от наказания за изнасилование. Как и тех ни в чем не повинных мальчиков. Я не спрашивала, какое за это полагается наказание. Смертная казнь? Пожизненное заключение? Многие говорили, что их надо повесить. Или привязать к жерлу пушки и выстрелить, как мы поступали с мятежниками в девятнадцатом веке.
Так что когда Джек Поулсон спросил, как они были одеты, я сказала, что точно не помню, но тут же решила, что лучше сказать правду — как крестьяне, — чтобы у него не осталось впечатления о людях, одетых, как Гари, в рубашках и брюках.
Мистер Поулсон спросил: «Вы уверены?», что было мне очень на руку, потому что по его тону можно было понять, что мой ответ опровергает версию, которую он сочинил или другие для него сочинили, будто центральной фигурой был Гари. И я повторила: «Да, как крестьяне или батраки» — и еще добавила для полноты картины: «И пахло от них соответственно», что было правдой. Он спросил: «А спиртным от них не пахло?» Я вспомнила, как сестра Людмила нашла Гари пьяным на пустыре. Мне показалось, что сейчас безопаснее сказать правду, и я сказала, что запаха спиртного не заметила.
Мистер Поулсон сказал: «Простите, что подвергаю вас такому испытанию». Я сказала, что это ничего, я понимаю, что это необходимо. И мы в первый раз за все время подольше посмотрели друг на друга. Он сказал: «Вот еще один важный вопрос — велосипед. Вы говорили, что оставили его на дорожке недалеко от павильона. И плащ вы оставили на руле?»
Я не сразу поняла смысл этого вопроса. Мне казалось: он должен знать, что плащом мне обмотали голову, ведь я сказала это Анне и Лили, а он все такие детали у них выспросил. Про самое нападение он не задал мне ни одного вопроса. Бедняга. Он, наверно, скорее бы умер, хоть и выполнял некоторые функции мирового судьи. Но поруганию-то подверглась английская девушка, и тут уж судейское хладнокровие ему изменило. Насчет плаща я решила не врать и ответила: «Нет, я почти уверена, что взяла его с собой на площадку. Даже вполне уверена. Взяла на всякий случай, чтобы подстелить, если пол будет сырой. Но под крышей было сухо, и я просто положила его рядом с собой».
Это, видимо, его устроило, и позже, когда всплыла вся история с велосипедом, я поняла, чего он от меня добивался. Он пробовал установить, когда именно «они» нашли велосипед. Если б я оставила плащ на руле, это значило бы, что они увидели велосипед еще до того, как напасть на меня, так как использовали плащ. Если я не оставила его на руле, это могло значить, что велосипед они нашли, только когда уже убегали по дорожке. А это значит, что скрылись они не через ворота, а через пролом в задней стене сада. Правда, никаких следов остаться не могло, потому что дорожки там все посыпаны гравием, и притом еще прошел дождь и полиция все там вытоптала в темноте. Следующий его вопрос был такой: «Вы говорите, что вас внезапно окружили. Надо это понимать так, что они подошли к вам сразу со всех сторон?»
И опять прозвенел колокольчик. Если б я сказала: «Да, со всех сторон», следующий вопрос был бы вообще не вопрос, а утверждение, притом неопровержимое. «Значит, у вас не осталось совсем никакого впечатления от того или тех мужчин, которые подобрались к вам сзади?»
Я поняла, как трудно будет рассеять представление, будто одного из них я совсем не видела, особенно если он нарочно держался у меня за спиной, чтобы я его не узнала. Например, Гари. Павильон ведь без стен, кругом открытый. Чтобы уменьшить опасность, я могла только сказать: «Нет, не со всех сторон». Я сначала сидела на краю площадки, потом бросила сигарету и повернулась, чтобы встать на ноги. Они приближались ко мне сзади. Не знаю, может, я все-таки услышала какой-то звук, потому и решила уходить. Там и правда было жутковато. А когда я повернулась, эти двое уже стояли на площадке во весь рост, а остальные трое или четверо вспрыгнули на нее.
Вскрикнула ли я? Нет, я просто онемела от изумления. А они что-нибудь сказали? Кажется, один из них усмехнулся.
Мистер Поулсон стал уточнять, что значит «трое или четверо». Сколько же именно — трое, четверо? А всего их было пять или шесть? Я сказала, что не могу вспомнить. Помню только это ужасное ощущение, что на меня набросились все, сколько их было. Такие вот люди — батраки, хулиганы, и пахло от них ужасно. Я сказала, что меня точно втолкнули в вагон третьего класса индийского поезда. И что больше говорить об этом я не желаю.
Тут и Анна ожила. Отвернулась от окна и сказала этим своим четким немецким голосом: «Да, мистер Поулсон, пожалуй, хватит». Он сейчас же встал, сам, наверно, был рад отделаться хотя бы на время. Анна проводила его до двери. Заглянула ко мне еще на минутку, потом оставила одну. Лили принесла мне на второй завтрак фруктов и творога, после чего я продремала часов до пяти. А когда проснулась, Лили была у меня в комнате, а Раджу только что принес чай и вышел.
Когда я выпила чашку чая, Лили сказала: «Зря, по-моему, мистер Поулсон тебе не сказал. Вчера вечером арестовали нескольких молодых людей. Среди них был и Гари».
* * *
Оказалось, что мой велосипед нашли в канаве перед домом Гари. Я сначала не поверила, это было так чудовищно, так нелепо! Я сказала: «Но его там не было. Это не Гари». Ей хотелось мне поверить. Я старалась не поддаться панике. Раз кого-то арестовали, я решила, что это те самые и что они уже рассказали про индийца, которого застали со мной в Бибигхаре. И теперь мне предстоит это отрицать раз за разом и только надеяться, что Гари сдержит свое обещание — ничего не говорить, ничего не знать. Я считала, что это обещание он мне дал. Я спросила Лили, когда он арестован, и кем, и за что. Когда я усвоила, что его арестовали вчера вечером и по распоряжению Роналда и что велосипед нашел Роналд, я сказала: «Он лжет. Велосипед он нашел в Бибигхаре, привез его к Гариному дому и подбросил в канаву».
Лили страшно возмутилась, потому что знала, что так могло быть, но верить этому отказывалась. У нее не укладывалось в голове, что англичанин, на ответственной должности, мог унизиться до такого. Но для истории с велосипедом возможны только три объяснения, и только одно из них сколько-нибудь правдоподобно. Я прислонила велосипед к дереву около дорожки. На дорожке было очень темно. Без фонаря и не зная точно, где он должен быть, его вполне можно было не заметить. Я думаю, что, когда Гари нес меня по дорожке, мы прошли мимо этого места еще до того, как я сказала: «Он где-то здесь». Гари велосипед не интересовал. Он думал только о том, как доставить меня домой. Может быть, у него и мелькнула мысль, что, если велосипед здесь, он сможет посадить меня на седло и так довезти до дому. Но это было бы затруднительно, сама понимаешь. Он и не стал его искать. Я думаю, что, когда Роналд нагрянул в Бибигхар со своим патрулем, велосипед был там, где я его оставила, они сразу же его нашли, и Роналд погрузил его в машину, поехал к Гариному дому и бросил там в канаву. Я думаю, что такой офицер, как он, давал своим подчиненным известную свободу действий, а за это мог заставить их состряпать любую улику и держать язык за зубами. Помнишь, как его помощник ударил Гари и это сошло ему с рук? Связать Гари с бибигхарским преступлением позволяло только то, что Гари был со мной знаком, и об этом знали, и Роналд меня ревновал, а к нему относился подозрительно и предвзято. Иначе зачем бы ему было ехать к Гариному дому? И зачем бы ему там тратить время на поиски велосипеда? Ведь если б он лежал там в канаве, его пришлось бы искать, разве не так?
Если велосипед был там еще до приезда Роналда, кто-нибудь из его подчиненных мог его обнаружить во время каких-нибудь поисков, которые им полагается производить, когда их посылают взять человека под стражу по подозрению. Но у меня еще до так называемого расследования сложилось впечатление, что, если верить Роналду, они и в дом-то вошли потому, что обнаружили велосипед, и Роналд только тогда узнал, что это дом Гари. Если и у других сперва сложилось такое впечатление, значит, он, очевидно, неважно соображал, ведь он не был обязан объяснять англичанам, зачем он пошел к Гари. Он, видимо, уже побывал там в тот вечер. А соображал он плохо, наверно, потому, что Лили пересказала ему то, что слышала от меня, — что Гари со мной не встречался, что Гари к этому непричастен. А ему было нужно, чтобы Гари оказался причастен. И когда понадобилось все изложить по всей форме, ему пришлось кое-что поменять местами — сказать, что он явился к Гари на дом, а уж потом нашел велосипед, а не наоборот.
Я готова допустить, что Роналд, когда заехал в дом Макгрегора и узнал, что со мной случилось, помчался в свое управление, собрал патруль, кинулся в Бибигхар, ничего там не нашел, стал обыскивать всю округу, арестовал этих мальчиков, которые пили самогон в хибарке на том берегу, а потом устремился прямо к дому Гари и застал его с израненным лицом, а его подручные нашли велосипед. Он поехал туда, потому что думал, что я лгу, знал, что я лгу, и потому что было известно, что мальчики, которых он арестовал в хибарке за рекой, знакомы с Гари. Но главным образом потому, что ненавидел Гари. Хотел доказать, что Гари виновен. И тогда для велосипеда остаются только два объяснения. Либо Гари вернулся за ним, когда я от него убежала, приехал на нем домой, а потом понял, как это опасно, и запрятал в канаву, а это значило бы, что он совсем потерял голову, ведь если он понимал опасность, то не оставил бы велосипед так близко от своего дома. Либо один из моих обидчиков знал Гари, знал, где он живет, украл велосипед и бросил у дома Гари, догадываясь, что полиция туда явится, — но это значит, что человек, знавший Гари, знал и то, что мы с ним друзья. Но такой человек должен был предвидеть, что мы в этот вечер будем в Бибигхаре. А этого мы и сами не предвидели. Но чтобы один из тех, кто оказался в ту ночь в Бибигхаре, узнал Гари в темноте и у него хватило ума тут же украсть велосипед и оставить у его дома — это уж ни в какие ворота не лезет, верно? Да и кто это мог быть? Один из слуг тети Лили? Или из слуг миссис Гупта Сен? Кто-нибудь, кто сумел прочесть мое письмо, английское, в котором я просила Гари встретиться со мной вечером 9 августа в Святилище? Нет, это отпадает. Отпадает, даже если предположить — как я на минуту предположила, — что этим очень смекалистым или очень уж везучим человеком был один из тех санитаров, которых сестра Людмила нанимала всегда только на несколько недель, потому что после этого им становилось скучно и «недолго было свернуть на дурную дорожку». В тот день, когда я ходила к ней проститься, я заметила, что у нее опять новый помощник. Она мне рассказала, что эти ребята, уехав от нее, пишут ей письма и что только один из них один раз пришел и попросил денег. И мне подумалось, не этот ли парень был с ней и с мистером де Соузой, когда они принесли в Святилище Гари. Такой мог заинтересоваться Гари, выслеживать его, изучил бы его привычки, мог бы даже знать, что мы встречаемся в Бибигхаре. Но зачем? Вернувшись к себе в деревню, такой парень мог наболтать про индийца и белую женщину, и привести в Майапур целую банду таких же хулиганов, привлеченных слухами о беспорядках и возможностью поживиться, и проникнуть в Бибигхар сзади, с пустыря, чтобы укрыться там на ночь, и увидеть Гари со мной и подглядеть за нами. Те, кто на нас напал, безусловно, за нами подглядывали. Но такое совпадение было бы чудом. Те люди были хулиганы. А велосипед подбросил Роналд Меррик. Это я знаю. Я не думаю, чтобы у Гари было много друзей, но и врагов у него не было, кроме Роналда, таких, которые приложили бы столько усилий, чтобы погубить его.
А если не Роналд, тогда, значит, Гари сам забрал велосипед, а потом с перепугу бросил около дома. Но я не думаю, чтобы Гари перепугался.
А вот я запаниковала. Я попросила Лили уйти. Стала думать, и картина постепенно прояснилась. Да, Роналд обыскал Бибигхар, нашел велосипед, погрузил в машину, потом поехал через мост в сторону базара Чиллианвалла, допросил стрелочника у переезда, нашел «приятелей» Гари, арестовал их, доехал до Гариного дома, подбросил велосипед, а потом ворвался в дом. А когда Гари арестовали, в его комнате, наверно, учинили обыск. Успел ли он уничтожить мое письмо с просьбой прийти в Святилище? Наверно, успел, потому что об этом письме никто ни разу не упомянул. Может быть, он только это и успел сделать, если, конечно, не уничтожил его еще раньше. Фотография, которую я ему подарила, упоминалась. Роналд забрал ее как «улику» — ту самую фотографию, которую я послала тебе, которую Гари помог мне выбрать из пробных снимков в чуланчике у Субхаса Чанда. На неофициальном расследовании в доме Макгрегора мистер Поулсон сказал: «В комнате у мистера Кумара была ваша фотография. Это вы ему подарили?» Понимаешь, он как будто старался установить, что Гари мною бредил и украл фотографию, чтобы молиться на нее по ночам, и как будто давал мне возможность публично отречься, перейти на их сторону, разделаться с моими дурацкими понятиями о лояльности и, не выдержав этой канители, признаться, что была влюблена, что Гари беззастенчиво и расчетливо играл на моих чувствах, что для меня счастье рассказать наконец всю правду, что я одумалась, уже не боюсь его, а тем более не влюблена, что он грубо надругался надо мной, потом подверг последнему унижению — уступил меня своим дружкам и потом пробовал запугать, грозил убить, если я его выдам, и угрозу эту, мол, нетрудно выполнить, раз англичан не сегодня завтра отсюда вышвырнут. О, я знаю, что было у них на уме — хоть это, может быть, и шло вразрез с их личными мнениями, — знаю, во что они считали себя обязанными верить ввиду сложившейся обстановки. В комиссию по неофициальному расследованию, или как она там называлась, вошли трое: мистер Поулсон, один весьма растерянный и смущенный молодой чиновник-англичанин, фамилии не помню, и судья Менен; и только судья Менен — председатель комиссии, сохранял полное спокойствие. Мне показалось, что спокойствие это порождено усталостью, чуть ли не безнадежностью. Но все-таки его присутствие подбодрило меня — не только потому, что он индиец, но и потому, что я была уверена: его бы здесь не было, будь у них хоть капля надежды, что обвиняемые предстанут перед ним в окружном суде. Если б расследование привело к результатам, на которые комиссия уже не надеялась, но которых английская община все еще требовала, дело пришлось бы передать в верховный суд провинции. Но я забежала вперед. Надо вернуться к вечеру 10-го, когда я попросила Лили уйти и в полном ужасе стала думать и прикидывать, что они могли найти такого, что указывало бы на Гари, и кого арестовали, кроме него, и что те люди могли сказать. И тут мне открылось, до чего же тупо, чисто по-английски я решила, что у Гари все будет в порядке, если я скажу, что он не виноват. Я убежала от Гари, вообразив, что помогу ему уже тем, что не буду с ним рядом. Но теперь я представила себе, как он стоит у ворот Бибигхара, совсем один. Тетя, милая, что он стал делать? Пошел искать велосипед и увел его, вообразив, что этим поможет мне? Или двинулся домой пешком? Когда я вернулась домой, у меня на лице и на шее была кровь, это мне Анна сказала. Наверно, Гари прижался ко мне лицом, когда обнял меня. В темноте я не видела, сильно ли они его поранили. И не спросила. И не подумала. Когда Роналд к нему ворвался, он, оказывается, как раз умывался. Они, конечно, пытались доказать, что это я его поцарапала, когда отбивалась от него. Но я теперь могу думать только о том, как бездушно я его бросила, и ему пришлось в одиночку все скрывать, все отрицать, потому что я его об этом просила, но скрывать и отрицать с этими ссадинами на лице, которых он не мог ничем объяснить. Когда на расследовании разговор зашел о том, что лицо у него было поранено, я сказала: «Почему вы спрашиваете об этом меня? Спросите мистера Кумара. Я не знаю. Его там не было». Мистер Поулсон сказал: «Его спрашивали, он отказался отвечать» — и перешел к другому вопросу. Роналд как раз в это время делал свое сообщение. Я в упор на него посмотрела, но он отвел глаза. Я сказала: «Может быть, он повздорил с полицией. Это было бы не первый раз, что его ударил полицейский чин». Не помогло. И не надо было это говорить в ту минуту, в той обстановке. Это вызвало сочувствие не столько ко мне, сколько к Роналду. Но мне было все равно, я так и этак уже ненавидела себя. Ненавидела, потому что поняла, что Гари поймал меня на слове и не сказал ничего, буквально ничего. Так-таки ничего, хотя против него нашли столько улик, а я не предусмотрела такой возможности, когда убежала и бросила его одного.
Они, наверно, мучили его? Может быть, даже пытали? А он не сказал ничего, ничего. Когда его пришли арестовать, он так и стоял — лицо в ссадинах, мой портрет у него в комнате, мой велосипед у его дома — и не сказал ничего. Как-то раз, во время этих бесконечных вопросов и ответов, Лили мне сказала: «Он не хочет рассказывать, где был и что делал. Он отрицает, что был в Бибигхаре. Говорит, что не видел тебя с того вечера, когда вы с ним были в храме. Но не говорит, как провел время после того, как ушел из редакции, и до начала десятого, когда вернулся домой. А вернулся он, очевидно, почти одновременно с тобой, Дафна».
И конечно, было еще много такого, чего я не учла или не знала. Что Роналд еще до того побывал у миссис Гупта Сен, и в доме Макгрегора, и в Святилище. Когда мы с Гари расстались, он, наверно, решил, что ему нужно только притвориться, будто он весь вечер был дома, убедить тетю Шалини поклясться, что он был дома, если ее об этом спросят, а не то выдумать еще какую-нибудь басню. Но Гари был не мастер выдумывать басни. Я не дала ему даже возможности успокоить меня, сказать — как я разрешила бы сказать англичанину: «Ну сама подумай, если я не был здесь, в Бибигхаре, так где я, черт возьми, был? Как ты предлагаешь мне объяснить, почему у меня распухла губа, или подбит глаз, или щека рассечена» — или что там с ним было.
Я не дала ему такой возможности, потому что даже в минуту паники мной руководило ощущение превосходства, уверенность, что я-то знаю, как будет лучше для нас обоих, потому что благодаря моему цвету кожи я автоматически оказывалась в лагере тех, кто никогда не лжет. Но эту простенькую колониальную схему мы давно переросли. Мы создали робота-судью, весьма несовершенного. Остановить его работу мы не можем. Он работает на нас даже тогда, когда нам этого меньше всего хочется. Мы создали его, чтобы доказать, какие мы справедливые и цивилизованные. Но это белый робот, он неспособен отличить изнасилование от любви. Он понимает только физическую близость и понимает ее только как преступление, потому что и существует только для того, чтобы карать за преступления. Он покарал бы и Гари, и, если считать, что физическая близость между людьми разных рас — преступление, кара была бы справедливой. Возможно, когда-нибудь кто-нибудь перепутает провода или подключит к нему специальное устройство, чтобы он сделался беспристрастным и перестал различать цвета, и тогда он, вероятно, разлетится вдребезги.
* * *
После того как я узнала от Лили, что Гари арестован, и немного подумала, я вызвала Раджу и сказала, что хочу видеть Поулсона-сахиба. Свой страх я подавила. Я была очень рассержена, сердилась даже на Лили. Мне казалось, что она подвела меня, раз допускает, чтоб Гари держали под стражей. Она была со мной очень терпелива, но мы, как никогда раньше, стали чужие друг другу. Она сказала, что, если я правда хочу поговорить с мистером Поулсоном, она ему позвонит. Наверно, подумала, что я решила во всем признаться. Она знала, что до тех пор я лгала. Но для нее правда была бы не лучше, чем моя ложь. Ведь это она ввела Гари в наш дом, а он был индиец. Ее соотечественник. Дня два после Бибигхара я чувствовала себя втирушей, одной из ее «гарпий», которая каким-то непостижимым образом вторглась в жизнь индийской семьи, а теперь отсиживается у себя в комнате, охраняя то, что еще осталось от ее расовой неприкосновенности.
Мистер Поулсон явился вечером. Лили привела его ко мне. Спросила меня, уйти ей или остаться. Я ответила, что, пожалуй, лучше нам с мистером Поулсоном поговорить вдвоем. Как только она ушла, я спросила: «Почему вы мне не сказали, что вчера вечером арестован Гари Кумар?» Вообще-то он мне нравился, но в тот день я его презирала. Как, впрочем, и всех на свете. Он готов был сквозь землю провалиться. Сказал, что Гари арестовали, потому что улики указывали на него, хоть я и «полагаю», что он не виноват. Я сказала: «Какие улики? Какие улики могут перевесить мои показания? Вы все, наверно, с ума посходили, если думаете, что можете что-нибудь ему пришить».
Он сказал, что накануне вечером против Гари нашли много улик и исключить его присутствие в Бибигхаре не представляется возможным, хоть я и полагаю, что его там не было.
Я сказала: не в том дело, что я «полагаю». Неужели он правда считает, что я не узнала бы Гари, если б он действительно был в числе моих обидчиков? Тут он струхнул. Испугался, что сейчас услышит что-нибудь интимное. Когда я это уловила, мне показалось, что теперь я знаю, какой линии следовать — надо все время держать их в страхе перед тем, что я способна ляпнуть на суде. Я спросила про других арестованных. Он сказал, что ничего о них не знает. Я улыбнулась и сказала: «Роналд, значит, свои сведения держит при себе? Ну что ж, это неудивительно. Ведь всякому ясно, что велосипед он сам подбросил».
Лили возмутилась, когда я ей это сказала, ну а Джек Поулсон, тот был просто убит. Он сказал: «Боже мой, с чего вы взяли?» Я сказала, пусть спросит Роналда. Мне показалось, что лучше на этом остановиться: задала мистеру Поулсону задачку — и ладно. Перед тем как ему уйти — а он собрался уходить, потому что, «на его взгляд, продолжать этот разговор сейчас нецелесообразно», — я сказала: «Гари там не было. Думаю, что и никого из тех, кого вы арестовали, тоже не было. Обычная история, верно? На англичанку совершено нападение, и все как с цепи сорвались. Если Роналд или кто-нибудь из вас воображает, что вы можете подвести под наказание первых попавшихся несчастных индийцев только ради того, чтобы доставить удовольствие европейской общине, так вы очень ошибаетесь. Передать это дело в суд вам не удастся, потому что на суде выступлю я и повторю то, что вам сейчас сказала. Только еще добавлю кое-какие подробности».
Он встал и промямлил что-то насчет того, что очень сожалеет, что все понимают, какие страшные минуты я пережила, и, конечно же, если человек не виноват, он не понесет наказания. Я сказала: «Тогда скажите мне вот что. Забудьте про одного из невиновных, которых вы держите под замком. Ну а остальные подходят под мое описание?»
Он сказал, что не знает. Он их не видел. Но я решила, что так легко он не отделается. Я шла на риск, но дело того стоило. Я сказала: «Да бросьте, Джек. Прекрасно вы все знаете. Даже если вы их не видели, вы не можете не знать, какие они. Такие, как я сказала? Грязные батраки? Вонючие крестьяне? Или такие мальчики, как Гари? Какие мистеру Меррику, очевидно, особенно не по нутру?»
Я попала в точку. Но он продолжал твердить, что не знает. Кажется, некоторых из них подозревают в политической деятельности «анархического толка». Я за это ухватилась. «Ага, значит, это образованные юноши? Не вонючие крестьяне?»
Он покачал головой, ничего не отрицая, но в знак того, что говорить больше не о чем.
* * *
Теперь, задним числом, мне жаль бедного Джека Поулсона, очень уж я безжалостно над ним издевалась. Но это было необходимо. Ручаюсь, что, уходя от меня, он думал: не пройдет этот номер. Зря Меррик их забрал. Не знаю, что он сказал, когда вернулся в бунгало комиссара, куда, несомненно, держал путь. Мистер Уайт, вероятно, не ждал от него подробного доклада, хватило нескольких слов вроде: «Либо она лжет, либо Кумар невиновен, но, если она лжет и будет продолжать в том же духе, он остается невиновным, поскольку доказать его виновность мы не можем. То же относится и к остальным. Меррик дал маху».
Робин Уайт устранился от этого дела, препоручил Джеку Поулсону вести его до тех пор, пока не придется принять окончательное решение. Будь он таким человеком, как его предшественник мистер Стэд (которого Васси и ему подобные люто ненавидели), одному богу известно, что бы случилось. Робину нападение на дуреху англичанку не казалось, вероятно, таким уж важным событием по сравнению с другими делами, требовавшими его участия. Не знаю, рассказал ли ему мистер Поулсон про велосипед и про то, в чем я обвинила Роналда. Это было бы ему нелегко. На расследовании велосипед не фигурировал, а Гари был упомянут только раз, когда Роналд докладывал об арестах. Он отвечал на вопросы, которые Джек Поулсон, очевидно, тщательно обдумал заранее. Его доклад показался мне просто нелепым. Мистер Поулсон прочел список арестованных и спросил Роналда, в какой день и час их взяли под стражу и чем они в это время занимались. Я уже знала со слов Лили, что те бедняги распивали самогон в хибарке вблизи Бибигхарского моста, но тут, на расследовании, особенно остро ощутила, до чего несправедливо с ними обошлись. Гари, по словам Роналда, был взят в своей комнате, когда «умывался, потому что лицо его было в порезах и ссадинах». Я чуть не перебила его вопросом: «А велосипед?» Но придержала язык. То, что о велосипеде не было сказано ни слова, показалось мне хорошим признаком. Я подумала, что, может быть, Джек Поулсон поговорил с Роналдом наедине и на основании его ответов решил, что дело о велосипеде лучше замять — не только ради Роналда, но и ради чести мундира, и британского флага, и прочих таких вещей. Но одно я им все-таки выдала: напомнила, как Джек Поулсон меня спрашивал, не «оцарапала» ли я кого-нибудь из тех, кто на меня напал, а я высказала предположение, что Гари повздорил с полицией.
После так называемого доклада об арестах Роналда отпустили и опять занялись моими показаниями и стали задавать вопросы, и я поняла, что доклад Роналда был так неубедителен, что ничего не доказал, однако же мог доказать что угодно. Судья Менен до сих пор молчал, то есть не задавал мне вопросов, но к концу сказал: «Я должен вас спросить, почему вы отказались хотя бы попытаться опознать арестованных» — а оно так и было. Когда волнения в Майапуре немного утихли, они хотели было поскорее довести это дело до конца и больше к нему не возвращаться. Я ответила: «Я потому отказалась от попытки опознать их, что это, безусловно, не те люди. Если нужно, я и в суде это повторю».
Судья Менен сказал, что в отношении «этого Кумара» он меня понимает, но что мой отказ опознать остальных может быть истолкован как преднамеренная обструкция со стороны главного свидетеля, что, возможно, позволит обвинению поступить вопреки показаниям этого свидетеля, поскольку может быть признано, что он вообще не заслуживает доверия.
Я обдумала его слова. Мистер Поулсон немного приободрился. Его не смущало, что Менен — индиец и, возможно, не должен бы так говорить с белой женщиной. Сейчас устами Менена говорил Закон. Он, видимо, решил, что умный старый судья припер меня к стенке с помощью юридической закорючки, напомнив мне, что даже главный свидетель не имеет права мешать Короне при отправлении правосудия. Но мне показалось, что я вижу Лазейку. Да я и не была убеждена, что сам судья Менен чувствует себя так уж уверенно. Я сказала: «Если мои показания можно поставить под сомнение по этой причине, неужели они станут более надежными, когда я разыграю некий фарс — посмотрю на этих людей без малейшего намерения сказать, что я их узнала? Вам хочется, чтобы я разыграла этот фарс? Ведь вам пришлось бы положиться только на мои слова. Если я просто на них посмотрю, разве я этим заслужу больше доверия?»
Лицо у Менена даже не дрогнуло. Он сказал, что они по-прежнему будут исходить из предпосылки, что я говорю правду, напомнил мне, что все расследование строится на этой предпосылке, а вопрос о надежности моих показаний мог возникнуть только в связи с моим отказом от попытки опознания. И продолжал: «В своих показаниях вы сказали, что какое-то мимолетное впечатление от тех, кто на вас напал, у вас осталось. Они запомнились вам как крестьяне или батраки. Так почему же, если у вас создалось такое впечатление, вы отказываетесь по мере сил помочь нам в важном деле — установить, есть ли достаточно оснований держать этих людей в заключении?»
Глядя на него, я подумала: «Ты тоже знаешь, что это не те люди. Ты хочешь, чтобы я отправилась в тюрьму, поглядела на них и сказала: „Нет, те мне запомнились совсем не такими“. Либо тебе нужно это, либо чтобы я вас убедила раз и навсегда, что с такими подсудимыми, как эти мальчики, передавать дело в суд — безнадежная затея».
Но я все еще боялась встретиться с ними лицом к лицу. Была уверена, что они ни при чем, а все же… Не хотела я на них смотреть. Если б это оказались они, была опасность — хоть и небольшая, — что при виде меня они струхнут и припутают Гари. Если это окажутся они и я их узнаю, мне придется ответить: «Нет, это не они», а этого я тоже не хотела. Я не была уверена, что сумею это произнести как надо, даже ради Гари. Такая ложь мне претила. Одно дело — попытаться пресечь несправедливость, а другое — ставить палки в колеса правосудию.
Я сказала: «Нет, помогать вам я не буду. Один из этих людей невиновен. Если один невинный будет осужден, виновность других меня уже не интересует. Я категорически отказываюсь даже близко к ним подойти. Мужчины, которые меня изнасиловали, были крестьяне. Мальчики, которых вы держите под замком, — нет, так что они почти наверняка тоже невиновны. И между прочим, они ведь все индусы?»
Мистер Поулсон подтвердил: да, все индусы.
Я улыбнулась — ай да я, здорово я это подстроила — и сказала: «Тогда вот еще что. Один из тех мужчин был мусульманин. Он был обрезан. Если вам интересно, откуда я это знаю, могу объяснить, но предпочла бы не вдаваться в подробности. Один из них был мусульманин. И все они были хулиганы. Сверх этого я ничего не могу вам сказать. Все, что могла, сказала. Впечатление, которое от них осталось, достаточно сильное, чтобы я могла сказать „Нет, это не они“, но недостаточно сильное, чтобы сказать „Да, это они“. Почем я знаю, может, это английские солдаты зачернили себе лица. Сама я не очень-то в это верю, но, если такое мое заявление может убедить вас, что хотя бы один из задержанных вами невиновен, тогда я это заявляю».
Мистер Поулсон и тот молодой человек, чью фамилию я не запомнила, были явно потрясены. Менен пристально посмотрел на меня и сказал: «Благодарю, мисс Мэннерс, больше вопросов у нас нет. Мы сожалеем, что были вынуждены подвергнуть вас этому допросу».
Он встал с места, и мы все встали, как будто находились в зале суда, а не в столовой дома Макгрегора. Но на этом сходство кончилось. Судья Менен не вышел из комнаты, а остался стоять, ясно показывая, что предлагает мне выйти первой. Когда я дошла до двери. Джек Поулсон обогнал меня и отворил дверь. Чисто автоматический жест, колесико в англо-индийском механизме. Но я нюхом чувствовала, до чего он ошеломлен. Точно проглотил какую-то горькую ароматическую травку, вызывающую паралич.
* * *
Я пошла наверх и налила себе джину. Я воображала, что все позади, что я победила и Гари выпустят через несколько часов или на следующий день. Вышла на балкон, как часто выходила за последние две недели. Во время беспорядков оттуда были слышны крики, стрельба и грохот грузовиков и машин, носившихся по всему кантонменту. Последние два-три дня у наших ворот дежурили полицейские. Говорили, что наш дом в опасности, но мы тревожились не столько за себя, сколько за Анну Клаус. Одно время она оказалась как в плену в Женской больнице на туземном берегу реки, мы несколько дней ничего о ней не знали. Миссис Уайт предлагала нам с Лили переселиться к ним, но Лили не захотела. И я тоже. Вот тогда и появилась полицейская охрана. При виде ее я и сама чувствовала себя пленницей. Роналд не появлялся. Он поставил на мне крест. Я чувствовала, что почти вся европейская колония тоже готова от меня отречься, если уже не отреклась. Это меня не смущало. Я уже считала, что всем нам, белым, недолго осталось здесь властвовать. Это тоже меня не смущало. Однажды вечером Лили рассказала мне, что мятежники ворвались в тюрьму. Я подумала — вот и хорошо. Они освободят Гари. Я тогда не знала, что он содержится в другой тюрьме. Но подумала: теперь власть возьмут в свои руки индийцы. Может быть, они меня не тронут. Может быть, Гари придет к нам. Но отчетливо представить это не могла. Все это были фантазии. Уже вызвали солдат, в городе стреляли, и для нас это был только вопрос времени, а для них неизбежное поражение. Робот работал.
А за Анну и за сестру Людмилу я очень тревожилась. Из всех белых, с которыми я была знакома, только они жили и работали на том берегу. Позже сестра Людмила рассказала мне, что она, невзирая на комендантский час, каждый вечер выходила с мистером де Соузой и носильщиком. Работы им хватало. Раза два полицейский патруль заворачивал их обратно, но обычно им удавалось улизнуть. «Дом смерти», как его называли, не пустовал. И каждое утро туда являлась полиция и женщины, чьи мужья или сыновья не вернулись накануне домой.
И за тебя я тревожилась, пока Лили не сказала мне, что Робин Уайт по ее просьбе передал тебе через официальные каналы, что я жива и здорова. Они сделали все возможное, чтобы мое имя не появилось в здешних газетах. Из этого, конечно, ничего не вышло. Счастье еще, что мы успели поговорить по телефону еще до того, как мое имя стало известно. Я и так боялась, что ты примчишься в Майапур. Спасибо тебе, что не приехала, что поняла. Будь ты со мной, я бы этого просто не вынесла. Я должна была справиться с этим одна. И Лили, спасибо ей, тоже это поняла. За ее спокойствием я сперва увидела осуждение, потом это чисто индийское безразличие к физической боли. Но ее безразличие, конечно же, было вполне «европейское», цивилизованное, как у тебя, как у меня самой. Бывает такая боль, и своя и чужая, которой лучше не касаться — не от черствости, а из деликатности. Спокойствие Анны было немного другое — тоже европейское, но еврейское, с примесью чувства самосохранения, словно она избегала напоминаний о боли, потому что такие напоминания переключили бы ее сочувствие ко мне на память о собственных страданиях. Соблюдая такую дистанцию, она сумела установить между нами дружбу, доверие, уважение — уважение того порядка, какое может возникнуть между чужими людьми, когда они почувствуют друг в друге силу характера. Большего и желать нельзя. Но любовь питается из других источников, правда? Вот как у нас с тобой, и ведь это не только родственное чувство, такая же любовь связывает меня с Лили. Она может все преодолеть. Она существует, но объяснить ее можно не всегда, потому что доверие в нее не входит, разве что в том смысле, что доверяешь потому, что любишь. Начинаешь доверять уже после того, как научилась любить.
Такой любви я к Анне никогда не испытывала. И она ко мне, я думаю, тоже. Но мы были добрыми друзьями, понимали друг друга и доверяли. В отношении людей вырабатывается какой-то инстинкт. А говорю я об этом потому, что когда я стояла на балконе, прихлебывая честно заработанный джин с лимонным соком, то увидела, как Роналд и мистер Поулсон вместе вышли из дома и сели в Роналдову машину. Судьи Менена с ними не было. Он остался выпить стаканчик с Лили.
И я подумала: как забавно, Роналд и Джек Поулсон для меня просто люди. Я не держала на них зла, даже на Роналда, не говоря уже о Джеке, который явно укатил куда-то с Роналдом делиться впечатлениями. Но я знала, что они — вне того круга людей, с которыми «стоит знакомиться», как сказала когда-то мама, вероятно имея в виду нечто совсем другое. Я-то имела в виду очень простую вещь: я этих людей уже знала. Насчет них все было ясно, потому что они служили роботу. Что скажет робот, то скажут и они, как поступит робот, так и они поступят, и во что верит робот, в то и они верят, потому что такие же люди, как они, и вложили в него эту веру. И пока робот работает, они всегда будут правы, потому что робот — эталон правоты.
Никакие личные страсти ими не руководили. Все, что они могли ощутить как личное, погибало, как только сталкивалось с ощущениями, которым робот был обучен. На расследовании только судья Менен прорвался сквозь возведенный роботом барьер, если так можно выразиться о человеке, который даже встать со стула мог так, будто заранее взвесил, какое это произведет впечатление. Только что он сидел на их стороне, на стороне робота, и вот — прорвался. И меня с собой прихватил, либо я уже там была, толкуй как хочешь. И теперь мне казалось вполне закономерным, что он остался выпить стаканчик с Лили, чтобы рабы робота могли без его помощи договориться о том, как сделать вид, будто робот довел расследование до какого-то логического завершения. Ведь на карту была поставлена репутация робота, а не только их собственная.
Странно было поймать себя на таких мыслях применительно к мистеру Поулсону. И мистер и миссис Уайт были о нем самого лучшего мнения. Он был еще достаточно молод, чтобы вести себя осмотрительно, что звучит парадоксом, а на самом деле понятно, потому что, пока человек молод, он должен зарабатывать на жизнь, содержать семью, строить карьеру. Но наверно, чтобы отделить людей-автоматов от таких, что способны выразить свой личный протест, требуется что-нибудь вроде того, что впоследствии назвали происшествием в Бибигхарском саду. Вот так я себе представляю и роль судьи Менена. Самое интересное, что и форму своего протеста он выбрал безошибочно. Наверно, только долголетний опыт мог подсказать ему, как и в какую именно минуту выразить свой протест и закончить расследование. А он знал это так точно, что в конце концов передал свое оружие мне, чтобы я пустила его в ход вместо него, отчего испытал особое удовлетворение. Он знал, что единственный способ хотя бы на время вывести робот из строя — это коснуться самой сути того, что приводит его в действие, того колесика судебной процедуры, которое было в него вмонтировано с расчетом, что стоит пустить его в ход — и оно не остановится, пока правосудие не свершится. Проникнув в самую суть механизма, он обнажил эту суть и дал мне возможность вывести его из строя, задав ему непосильную задачу — задачу понять, справедливо ли он поступает, и доказать, что его понятие справедливости не хуже моего, если не лучше. Но вышел он из строя только на время.
Еще задолго до того, как судья Менен уехал, я ушла с балкона и приняла ванну. Я уже была одета к обеду, когда пришла Лили и спросила, как я себя чувствую и не хочу ли повидать Анну — она заехала по дороге домой из своей больницы. Я спросила: «Судья Менен еще здесь?» Она сказала, что он минут десять как уехал. И просил передать мне привет. Я еще никогда не видела Лили взволнованной. Она бывала или веселой, или язвительной, или недовольной, или невозмутимо спокойной. Наверно, это судья Менен взволновал ее чем-то, что сказал ей, или, вернее, из-за этого она разволновалась, как только увидела меня сразу после их разговора. Что он ей сказал — я не знаю. И никогда не узнаю. Это так типично для Лили. И для него тоже. И было что-то до ужаса английское в том, что мы с Лили вроде бы отдалились друг от друга, а на самом деле опять сблизились.
Мы вместе сошли вниз, я поздоровалась с Анной, Лили предложила ей с нами пообедать, и она согласилась. Для меня это был неожиданный праздник, как для ребенка, которому золотым летним утром сказали, что его возьмут на пикник. Когда Лили пошла сказать Раджу, чтобы сказал повару, что обедать будут трое, я подлила Анне тоника. Она сказала: «Вид у вас получше. Пожалуйста, ведите себя так и дальше».
И я сказала: «Постараюсь. По-моему, мы победили». Я сказала «мы», потому что Анна все время меня поддерживала. Я знала, что ей еще до расследования был задан вопрос: «Как ваше мнение, до этого мисс Мэннерс была intacta?» И знала, что она ответила. Когда я сказала: «По-моему, мы победили», она подняла свой стакан.
* * *
Это был мой последний счастливый вечер. После этого я еще не теряла бодрости, но счастья не было. Потом и бодрость пропала. Мне нужен был Гари. Нужна была и Лили, и Анна, и ты, но больше всего — Гари. Я возвела вокруг себя тесный кружок, понимаешь. И внутри его чувствовала себя в безопасности. Безопасный островок на ничейной земле. Где бы мы ни были, что бы ни делали, мы огораживаемся этой иллюзорной стеной. Проходили часы. Дни. Прошло больше недели. Я не выходила из дому. Когда кто-нибудь приходил, спасалась у себя в комнате. Постепенно дом Макгрегора опять наполнился теми вибрациями, источник которых я раньше никак не могла определить, а теперь определила как неотделимые от него: доверие, компромисс, что-то ищущее и неуловимое, словно люди, приходя туда, старались чему-то научиться, а не научить, старались не обвинять, а прощать. Помнишь, есть такая скверная старая поговорка: «Когда от насильника не убежишь, смирись и получай удовольствие». Так вот, насильник был не один, а несколько. Не могу сказать, тетечка, что я получила от них удовольствие. Но Лили пыталась получить удовольствие от того, что мы сделали с ее родиной. Не по злобе сделали. Может быть, тут была и любовь. Где-то в прошлом, да и теперь, и в будущем, — такая любовь, как у нас с Гари. Но насильники все еще здесь, верно? Такие люди, как Суинсоны. Как те две стервы, что ехали до Лахора. Как Роналд Меррик. Как тот идиот, что вместил всю историю своего родного островка в одну фразу, когда присвистнул и изрек: «Какой-нибудь туземец-подрядчик заработает хороший куш».
Однажды меня пришла навестить Конни Уайт. И привела с собой Мейвис Поулсон. Но минут через десять ей стало ясно, что это ничего не даст, — привести ко мне нервозную, добродетельно беременную Мейвис было ошибкой. И она услала ее домой. Как жена комиссара, она могла себе это позволить, ведь она рисковала только гем, что два-три дня Мейвис будет на нее дуться. Когда мы остались одни, она сказала: «Мой муж не знает, что я здесь. Я и не расскажу ему, что была у вас. И конечно, это не мое дело. Но Гари Кумара выслали из города. Его и других юношей посадили в тюрьму».
Я не ахнула. Я была к этому готова. Меня к этому подготовило упорное молчание Лили. Я не поняла, но это было не то же самое, что не верить в такую возможность. Я спросила, за что его посадили в тюрьму. Она ответила жестом, показывающим, что и спрашивать, и отвечать бесполезно. Сказала: «Все бумаги пошли по инстанциям, теперь это уже не в наших руках. Я только хотела узнать, нет ли чего-нибудь такого, что вы можете сказать мне, но не захотели сказать ни Джеку, ни Робину, ни Лили?»
Я сказала: «Боже милостивый, что же, например?»
Она опять сделала этот жест — мы, мол, с вами понимаем. И сказала, что только я могу на это ответить. Я заподозрила ловушку. Улыбнулась ей. Она сказала: «Ну, вы же знаете, что такое мужчины. Они уверяют себя, что любопытство для них недозволенная роскошь. То есть любопытство в отношении людей. Да, разумеется, они решают всякие сложные проблемы, доказывают, что мы состоим из воды и газа и не знаю чего еще и что вселенная движется от центра к периферии со скоростью стольких-то миллионов световых лет в секунду, что само по себе безумно интересно, но для нас практической пользы не имеет, когда приходится ублажать слуг, чтобы не разбежались со скоростью стольких-то миль в час».
Я рассмеялась. Умора, правда? Светская болтовня. Шуточки. Милая Конни. Это был ее арсенал. А ключом — щелкой в броне — было слово любопытство. Я знала, чего от меня ждут. «Что же вас интересует?» — спросила я и опять рассмеялась. Она, наверно, решила, что я спятила. Говорят, бедная мисс Крейн к концу помешалась. Лили как-то навестила ее, пока я еще там жила. Кажется, даже два раза. Не помню. Мы особенно об этом не разговаривали. Мисс Крейн сняла со стен все свои картины, хотя никуда не собиралась уезжать. А потом совершила сатти. Ты, помнится, прочла б этом в «Таймс оф Индиа». Я тоже прочла. Но ни ты, ни я об этом не упомянули. Может быть, Лили сообщила — тебе какие-нибудь подробности в письме. «Совершить сатти» — это, кажется, неправильно. Ведь сатти — это, по-моему, состояние супружеской верности, так что его не совершают, его достигают. Хорошая вдова-индуска становится сатти. Может быть, и мне это предстоит? Может быть, Гари умер? Сейчас мы с тобой живем такими отшельницами, что нас можно причислить к саньяси. А впрочем, нет. По меньшей мере один долг мне еще нужно выполнить.
И по отношению к Конни Уайт у меня был долг. Отсмеявшись, я спросила: «Ну так что же вас интересует?»
За шутки приходится платить. Какую цену ни назначат.
Она сказала: «Насколько я понимаю, все началось с одного человека — по имени Моти Лал».
Я ни о каком Моти Лале и не слыхала, но оказалось, что он — тот человек, которого Роналд разыскивал, когда в первый раз арестовал Гари. Моти Лал когда-то работал у Гариного дяди. Он вел агитацию среди студентов и молодых рабочих. Когда он задумал организовать служащих там, где работал, старый Ромеш Чанд его уволил. Кроме того, его предупредили, по 144-й статье уголовно-процессуального кодекса. Кажется, этого добился Роналд. Это ведь когда берут подписку, что обязуешься воздерживаться от действий, которые могут повлечь за собой беспорядки, так, кажется? В общем, он, как и многие другие, кто не прочь был насолить англичанам, не успокоился, и тогда его судили по 188-й статье уголовного кодекса и приговорили к шести месяцам тюрьмы. Всю эту тарабарщину я запомнила, потому что, пока слушала Конни, думала, что это поможет мне понять, какая участь ждет Гари. Помочь это не помогло, но потом я все проверила по юридическим книгам в библиотеке у Лили.
Моти Лала отправили в тюрьму в Алигарх. Он сбежал. И Роналд разыскивал его, когда явился в то утро в Святилище и застал там Гари, когда он только что проспался. Я спросила Конни, какое отношение вся эта история с Моти Лалом имеет к тому, что ни в чем не повинного человека упекли в тюрьму за преступление, которого он не совершал. Она сказала: «В том-то и беда. Гари держат в тюрьме не за изнасилование, а по политическим причинам. Он был знаком с Моти Лалом».
Я опять расхохоталась и сказала: «Гари был знаком с Моти Лалом. Я знакома с Гари. Почему бы и меня заодно не упечь в тюрьму? Остальные мальчики тоже, наверно, были знакомы с Моти Лалом?»
Она сказала, что остальные мальчики ее не интересуют. На каждого из них заведено полицейское досье. Мистер Поулсон их всех допросил. И Джек и ее муж считают, что если б их не взяли в ночь Бибигхара, то все равно арестовали бы через день-другой за подстрекательство к мятежу или вредительство. Даже если считать, что с ними обошлись несправедливо, в нынешней обстановке они так или этак мозолили глаза, и спокойнее было убрать их подальше.
Я сказала: «Вот-вот, мозолили глаза, теперь их и освободить было бы неловко, так? Их арестовали за самое ужасное преступление, это всем известно. То же относится и к Гари, так? Только для Гари это еще хуже, потому что всем известно, что мы с ним дружили».
Она согласилась, что для Гари это хуже, или, вернее, было хуже, когда еще думали, что он, может быть, участвовал в нападении на меня. Но в этом никого из них уже не обвиняют. Хотя дело не закрыто. Полиция еще работает над ним. Но очень мало вероятия, что виновных поймают, разве только они вздумают хвастать либо когда возвратятся в свои деревни, либо в тюрьме. Не исключено, что они оказались в числе арестованных во время беспорядков. Полиция надеется, что они не попали в число убитых. Конни не считала это вероятным, потому что «такого рода люди» едва ли станут рисковать жизнью в схватке с солдатами. Если их арестовали, так, скорее, за участие в грабежах. Если они еще на свободе, то могут, конечно, быть где угодно, и единственная надежда, что найдется осведомитель, кто-нибудь, кто имеет на них зуб и услышал, как они хвастают. Плохо только, что в Индии такого рода сведения очень уж ненадежны.
Я не знаю, чего добивалась Конни. Хотела избавить меня от тревоги, что Гари все еще грозит кара за изнасилование? Или предостеречь меня, потому что догадалась о главном, а значит, и о том, что я не хочу, чтобы этих людей поймали, а то они припутают Гари? Или, наоборот, хотела поймать меня врасплох, в надежде, что я одним неосторожным словом сведу на нет все то хорошее, чего сумела добиться? А может, никаких таких мыслей у нее не было. Когда сама столько врала, начинаешь чуть не каждого подозревать в хитрости, недомолвках, обмане. Пожалуй, у нее это было просто любопытство, и она, как и говорила, пользовалась своим женским правом утолить это любопытство, раз мужчины свое дело сделали и изменить уже ничего нельзя.
Она сказала, что Моти Лала так и не нашли. Он ушел «в подполье». Те мальчики, которые пили самогон, когда их арестовали, клялись, что не видели Моти Лала после того, как его забрали. Джек Поулсон считает, что они лгут. Плохо то, что в ходе всех этих допросов и разговоров Гари Кумар постепенно предстал как «молодой человек, вызывающий серьезнейшие подозрения» (это тоже прозвучало как формулировка самого Джека Поулсона). Полиция следила за ним уже несколько месяцев. Его привозили на допрос еще в то время, когда искали Моти Лала. Он «делал тайну» из своего имени, сперва назвался неправильно, что само по себе противозаконно, но Роналд Меррик не возбудил против него дела, потому что проступок был чисто технический. Однако были записаны слова Гари: «Ненавижу всю эту проклятую страну, и всех, кто в ней живет, и всех, кто ею правит». Он работал в той же конторе, что и Моти Лал. Был одно время сослуживцем одного молодого анархиста по имени Видьясагар, арестованного за распространение подрывной литературы и за то, что передал в полицию листовку с призывом сотрудничать «в освобождении мучеников Бибигхара». Когда Гари арестовали, в его комнате учинили обыск. Полицию удивило, что там не было писем. Нашли только одно письмо — от кого-то из Англии, кто остался неизвестным, потому что подписался без фамилии, но из письма явствовало, что он военный и проделал Дюнкерк. Дюнкерк он назвал кровавым месивом. Просил Гари помнить, что его письма могут вскрыть. Некоторые из них его отец вскрыл, пока сын был во Франции, и не переслал ему, потому что там было «полно политических бредней». Никто не мог понять, почему Гари сохранил только это одно письмо, ведь он, несомненно, получал и еще письма от разных людей. Никто, конечно, не собирался выяснять, кто такой этот его «левый» приятель. Достаточно того, что, судя по этому письму, Гари и сам был левый. Без особого труда был подобран материал, показывающий, что Гари Кумар, хоть и носил личину скромного, воспитанного, далекого от политики юноши, на самом деле был одним из вожаков группы опасных смутьянов, которым только арест помешал открыто выступить против войны. Бумаги по делу Кумара и остальных юношей направили выше по начальству, и шеф Робина Уайта санкционировал решение, которое тот принял «скрепя сердце», — решение заключить этих юношей в тюрьму по закону об обороне Индии.
Когда Конни дошла до этого места своей вдохновенной речи, я уже смеялась так, как смеются, чтобы не заплакать. Я поняла, кто был этот молодой англичанин, и воскликнула: «Но это же фарс! Это нелепо! Гари может доказать, что это чудовищный фарс!»
Она сказала: «Дорогая моя, вот это меня и смущает». Остальные юноши всё отрицали, то есть всё, кроме того, что знали друг друга — этого они просто не могли отрицать. Они кричали, плакали, клялись, что если и виновны, так только в том, что пили самогон. И мы знали, что они лгут. А с Гари было не так. Джек Поулсон сам его допрашивал, и он ни на один вопрос не ответил. Ни да, ни нет. В свою защиту он сказал только: «В Бибигхаре я не был. Я не видел мисс Мэннерс с того вечера, когда мы ходили в храм». А на все другие вопросы твердил одно: «Мне нечего сказать». Это неестественно. Мне, во всяком случае, кажется неестественным. Его молчание истолковали как признание вины. Будь я мужчиной, и я бы, пожалуй, так решила. Но я, как и вы, женщина. Я думаю про Гари Кумара, слушаю, как Джек говорит о нем с Мейвис, как мой муж говорит с Мененом, и думаю: «Тут что-то не так. Мужчина не молчит, если сам не стремится сунуть голову в петлю. Он борется за свою жизнь и свободу. На то он и мужчина».
Мы сидели на веранде. Все было как всегда — плетеные кресла, столик с чайным подносом, благоухание цветов, запах Индии, ощущение прочности, незыблемости, и в то же время — странное чувство, будто ничего этого нет, потому что все началось не так как надо и продолжалось не так, а значит — уже кончилось, и даже кончилось не так, потому что для меня этот конец был далеким и нереальным, хоть и полным, потому что уже перешел в новое начало. Как мы мучимся от непрестанной надежды! Наверно, дом Макгрегора и построен был на таком основании. В нескольких шагах от меня были ступеньки, где я тогда споткнулась и упала. Я никогда не видела призрака Дженет Макгрегор, но она-то мой призрак, вероятно, видела.
Конни сказала: «Глупо, наверно, с моей стороны, но, понимаете, будь Гари англичанин, я бы еще могла понять его молчание, хотя и англичанин мог бы так молчать только по просьбе женщины».
Я опять засмеялась, потому что поняла — теперь уж я решительно ничем не могу помочь ни Конни, ни себе, ни Гари, вообще никому. Мои ноги, голые до колен, были уродливым анахронизмом. Чтобы разыграть эту сцену более или менее достоверно, мне требовалось белое муслиновое платье до полу и круглая соломенная шляпка на голове. И сознание того, сколь возвышенна эта ситуация, и умение сказать: «Но Гари — англичанин!», а затем встать, взять в руки мой изящный зонтик и удалиться от Конни Уайт так, чтобы она все поняла, но ничего не сказала, потому что в том мире мужчины умирают на людях, а женщины плачут в одиночестве, а королева сидит на своем троне как умудренная жизнью старая леди и тем доказывает недоказуемое — что есть мир, в котором продажность тоже задыхается без воздуха, пусть и зловонного.
Да, это было здорово, верно? Я сижу в одном кресле, Конни Уайт — в другом, выставив напоказ голые бледные руки и ноги, потея под мышками, а Гари потеет в какой-то мерзкой тюрьме, куда ни мне, ни ей не проникнуть, и размышляет, много ли проку ему было оттого, что он поступил, как надлежит поступить белому мужчине, когда девушка связала его обещанием — ради него же, но и ради себя. Он был ей нужен. Чтобы был рядом и опять обнимал ее. Это было чудо. Потому что он — черный. Он был мне нужен, а он был черный, и, значит, его чернота тоже была мне нужна. Сидя на веранде с Конни, заходясь от смеха, я какую-то минуту тешила себя горькой, эгоистичной надеждой, что он страдает так же, как я, за то, что проклятая благоприобретенная английская гордость перевесила в нем влечение ко мне. Я мысленно пожелала ему утешаться его нелепой шкалой ценностей. Подумала: «До чего типично! Сказали индийцу, чтобы ничего не говорил, и он понял это буквально».
Позднее до меня, конечно, дошло, что он не понял это буквально. Он нарочно это так истолковал. Чтобы наказать себя. Еще за что-то над собой поиздеваться. Когда Конни ушла, так ничего и не выведав, но убедившись, вероятно, что у меня не все дома, Лили поднялась ко мне в комнату и застала меня в слезах: смешливое настроение улетучилось, на смену мелодраме пришла не трагедия, а просто жизнь и все эти дурацкие течения, которые швыряют тебя как попало, от одной мысли к другой, но не дают утонуть. Утонуть не удается. Никогда. До самой смерти. Так что толку, пока жив, бояться правды?
Но когда Лили подсела ко мне на кровать, чтобы и утешить меня, и пожурить за нелепое поведение, я была как ребенок — плакала, кричала: «Хочу, чтоб он был тут! Верните мне его, тетечка! Помогите его вернуть!»
Она молчала. Как Гари. Им, наверно, и в самом деле нечего сказать. За всем этим индийским гомоном и насилием какое царит глубокое, вековое безмолвие! В нем танцует Шива. В нем спит Вишну. Даже музыка их безмолвна. Единственная известная мне музыка, о которой хочется сказать, что она нарушает молчание, а отзвучав, в него же возвращается, точно доказывая, что всякий звук, созданный человеком, — иллюзия.
Странная это концепция. Нам ее никогда не понять. Они, по-моему, и сами ее не понимают. Не в поисках ли этого понимания сестра Людмила подбирает на улицах мертвых и умирающих? Или истоки этой концепции в каком-то давно забытом первобытном опыте боли и страдания? Я потому это спрашиваю, что через несколько недель, когда я поняла, что беременна, и попросила Лили послать за Анной Клаус, мне подумалось, не существует ли Анна где-то на грани между иллюзией и реальностью, потому что она столько выстрадала и всего лишилась — и все-таки живет. Она всегда ратует за наркоз, никогда не скупится на снотворное. Помню, как она стояла у меня в комнате и, озабоченно сдвинув брови, рылась в своем черном чемоданчике. Сколько же компромиссов они вмещают, эти докторские чемоданчики! Мне казалось, что она где-то очень далеко от меня, но притом уводит меня за собой — по бесконечным туннелям, выложенным белой плиткой, подземными путями человеческого унижения, куда не проникает грязь, потому что мы, северяне, научились делать боль асептичной и незаразной. Мне было почудилось, что она готовит мне какое-то снадобье, чтобы избавиться от ребенка. Я спросила: «Что это? Что?» Она сказала: «К чему такой переполох? Я только хочу, чтобы вы спокойно проспали ночь. Беременным женщинам показана созерцательная жизнь. Как монахиням».
И я перестала трепыхаться. Но вдруг сказала: «Что мне делать, Анна? Я не могу без него жить».
Она не смотрела на меня — отмеряла дозу. И заговорила, обращаясь не ко мне, а к лекарству. Ведь это единственное, во что она могла по-настоящему верить, что могла любить. Она сказала: «Этому вам и надо научиться. Как жить без него».
Протянула мне стакан и не отошла от меня, пока я не выпила все до последней капли.
Приложение к части седьмой
Письма леди Мэннерс к леди Чаттерджи
Сринагар, 31 мая 43 г.
Дорогая Лили!
Надеюсь, ты не сердишься, что я не пригласила тебя приехать сюда в прошлом месяце, как ты предлагала, и что с тех пор молчу, если не считать двух телеграмм. В последней телеграмме я обещала тебе написать. Так вот, если хочешь, приезжай в июне. Я буду на озере.
Предстоят, очевидно, бесконечные юридические сложности. Бедная Дафна умерла, не оставив завещания, так что деньги, сколько я понимаю, остаются под опекой на имя ребенка, если ту их часть, которую Дафна унаследовала от матери, не востребуют племянники и племянницы миссис Джордж. У миссис Джордж Мэннерс была замужняя сестра, Дафна помнила ее как тетю Кейт, она погибла в дорожной катастрофе. Ее муж женился вторично, но от первого брака было не то двое не то трое детей, с которыми Дафна играла в детстве. Очевидно, если бы Дафна умерла без завещания, но и бездетной, эти кузены или кузины могли бы предъявить какие-то требования. Как обстоит дело, когда ребенок есть, но незаконнорожденный, я точно не знаю. Всем этим должны заняться юристы в Лондоне, и деньги так или иначе лежат в тамошнем банке. Дафна очень благоразумно распоряжалась своим маленьким наследством. Основной вклад не трогала, а проценты получала через здешний банк. Для начала я просила мистера Доэрти в Пинди разобраться в этом. Но пройдет еще много времени, прежде чем мы узнаем, сколько причитается ребенку, и еще больше, прежде чем узнаем, как эти деньги можно использовать здесь.
А пока вся ответственность за девочку лежит на мне. Когда ты приедешь, Лили, ты мне, может быть, скажешь, можно ли считать отцом Гари Кумара. У меня есть причина этим интересоваться. Причина, не связанная ни с какими юридическими обвинениями или претензиями. О том, чтобы установить отцовство, не может быть и речи. Мистер Кумар недосягаем как для наших обвинений, так и для нашей помощи, и этого я менять не хочу. Но, оставив ее у себя и окружив заботой ради Дафны, да и ради нее самой, я была бы спокойнее, если б знала, что ее происхождение хоть и трагично, но хотя бы не сомнительно. Ты, конечно, понимаешь, что мне нужно именно твое мнение и что, если определенного мнения у тебя не будет, я не хочу, чтобы ты притворялась только для того, чтобы успокоить меня.
Она прелестная, милая малютка. Кожа у нее будет светлой, но не настолько, чтобы она могла сойти за белую. Я этому рада. Когда она подрастет, у нее не будет соблазна притворяться англичанкой. Хоть от этого она будет избавлена — от мучительных унижений, уготованных стольким евразийским девушкам. Я намерена воспитывать ее как индианку, отчасти потому и назвала ее Парвати. А отчасти потому, что Дафне, думаю, понравилось бы это имя. Парвати Мэннерс. Фамилию она вольна впоследствии переменить.
Ей не хотелось появляться на свет, но, раз появившись, она, видимо, твердо решила здесь обосноваться. Доктор Кришнамурти нашел ей кормилицу, миловидную молодую кашмирку, которая только что потеряла собственного первенца и всю любовь изливает на Парвати. Из нее вышла бы идеальная айя, но она не хочет уезжать из Сринагара. Ее муж во время сезона работает гребцом на здешних лодках, и я обещала дать ему работу, как только переберусь на озеро. Может быть, уговорю их обоих в сентябре приехать в Пинди. На вид он ужасный мошенник, но они — красивая пара, и она держит его в узде. Умилительно смотреть, как они играют с Парвати, будто это их дочка. Пока она кормит, он стоит рядом, на страже. Процесс кормления и завораживает его, и конфузит, но он явно гордится талантом жены, так же, надо полагать, как и тем, что сам способствовал появлению молока, которое теперь достается чужому младенцу. И деньги, которые она зарабатывает, они, наверно, воспринимают как некое возмещение за свою утрату, как подарок Аллаха.
Дафне тоже приятно было бы на них посмотреть. Ведь малютку она видела всего какие-то секунды. Роды продолжались сорок восемь часов. Ни у тебя, ни у меня не было детей, так что мы с тобой понимаем в этом деле, можно сказать, не больше, чем мужчины (врачи, конечно, не в счет). Доктор Кришнамурти был выше всяких похвал. Бедная Дафна, посмотреть на нее — крупная, крепкая, такой бы народить дюжину детей, но подвело строение таза, и положение плода было неправильное. Кришнамурти хотел, чтобы она легла в больницу, там бы плод повернули, но она отказалась. Тогда он проделал это здесь, явился с двумя медсестрами, анестезиологом и целой кучей всякого оборудования. Это было за две или три недели до ожидаемого срока. Мне он сказал, что сделал поворот, но в любую минуту ребенок может опять повернуться и принять неправильное положение. Сказал, что советовал ей не дурить, а согласиться на кесарево сечение, чтобы сделать его, как только начнутся схватки. Но она отказалась. Вбила себе в голову, что должна вытолкнуть из себя ребенка, как предписано природой. Мы с Кришнамурти с самого начала говорили без обиняков. Грустно думать, что потребовался весь этот ужас, чтобы мы стали друзьями. Я сразу рассказала ему то, что тебе под секретом сообщила ваша доктор Клаус, что у Дафны что-то неладно с сердцем. Обследовав ее, он сказал, что само по себе это не опасно, однако предположил, что именно по этой причине лондонские врачи запретили ей работать шофером на «скорой помощи». Странно, что она об этом не упоминала. А впрочем, почему странно? Скорее типично. Она всегда говорила, что «уволена в отставку» по зрению. Как бы там ни было, но при родах сердце не явилось осложнением, а всего лишь, как выразился Кришнамурти, «небольшим добавлением к дебетовому сальдо».
За эти ужасные сорок восемь часов была минута, когда мне показалось, что она хочет, чтобы ребенок умер, либо сама хочет умереть. Но теперь я так не думаю. Она просто хотела «все сделать правильно». А младенец повернулся-таки — наверно, потому, что никак не мог выбраться наружу. Предусмотрительный Кришнамурти опять доставил сюда все оборудование. Превратил спальню в операционную. Бедная Дафна уже не была compos mentis[27] и не понимала, что происходит. Разрешение на операцию дала я.
Так что это у меня на совести. Ее следовало перевезти в больницу. Кришнамурти принял все меры предосторожности. Но она умерла от перитонита. Несколько дней после этого я даже смотреть на ребенка не хотела. Я видела, как его извлекали. Кришнамурти разрешил мне присутствовать. Меня нарядили в белый халат, рот и ноздри закрыли марлевой маской. Мне нужно было увидеть эту сторону жизни. Я бы не простила себе, если б малодушно спасовала. Когда операция началась, я думала, что не выдержу. Это было непристойно, точно ножом вскрывали банку, что вполне пристойно, но не тогда, когда вместо банки человеческий живот. Но когда банку вскрыли и я увидела, что оттуда вынимают, я словно сама родилась заново. Это было чудо и навело на мысль, что чудо не может быть прекрасно, потому что оно принадлежит к тому уровню человеческого опыта, где такие слова, как «красота», вообще не имеют смысла.
И никакого смысла я не увидела в том, что у скрюченного комочка, который вынули из Дафны (может быть, вернее сказать — выудили, они в своих длинных резиновых перчатках как будто искали его, даже убеждали даться в руки), кожа была явно не такого же цвета, как у его матери. Разница в цвете была так невелика, так неуловима, что, если б у меня тогда не мелькнула одна мысль, я бы сейчас была уверена, что потому не усмотрела в этой разнице никакого смысла, что просто не заметила ее. Но я ее заметила. А мысль мелькнула такая: «Ну да, понятно, у отца кожа была темная». В то время это не вызвало никаких эмоций. Заметила — и забыла. А вспомнила, когда Дафна уже умерла и мне пытались показать ребенка, чтобы хоть чем-то отвлечь. Но я не потому не хотела его видеть. Я была в таком состоянии, что винила его в смерти Дафны, потому и не хотела видеть. Пожалуй, этот индийский оттенок кожи и пробудил во мне жалость и заставил осознать, что ребенок — девочка. Я подумала: бедная кроха, какое беспросветное будущее ее ждет.
Я уже сказала, что Дафна видела ее несколько секунд — когда к ней ненадолго вернулось сознание. Сестра поднесла к ней малютку совсем близко. Она попыталась коснуться ее, но сил не хватило. Но улыбнуться ей удалось. Вот почему я и хочу, чтобы ты сама увидела
Парвати и решила, есть ли в ней хоть какое-то сходство с Гари Кумаром. Дафну я в ней не узнаю. Может быть, ты узнаешь. Родственники вообще хуже всех замечают семейное сходство.
Твоя Этель.* * *
Равалпинди, 5 авг. 47 г.
Дорогая Лили!
Я решила расстаться с Пинди. Не хочу жить и районе, жители которого одним росчерком пера будут объявлены врагами Индии — страны, которой мой муж так старался служить, — и, можешь быть уверена, «враги» — это не преувеличение. Пакистан — это итог и венец всех наших неудач. Это невыносимо. Дать Уэвелу уйти в отставку было непростительно. Единственным нашим оправданием за двести лет владычества было объединение страны. А мы раскололи сложную нацию надвое, и в Англии все только о том и толкуют, какой молодец новый вице-король, что так быстро все уладил. Быстро-то быстро, но он молодец двадцатого века, а Индия еще живет в девятнадцатом, и такой мы ее и покидаем. В Дели он их всех обворожил. То есть индийцев. Чего они не поняли, так это того, что ему была предназначена всего лишь роль роскошного манекена в витрине, на украшение которой мы не жалеем сил с той самой минуты, как кончилась война. А за витриной — лавка, и там все тот же девятнадцатый век, правда его радикальная ипостась. Лозунг все еще узкоостровной: независимость Индии любой ценой, не ради Индии, ради нас.
Я уезжаю в Гопалаканд, куда меня пригласил старый друг Генри, сэр Роберт Конуэй, советник при тамошнем махарадже. Князей тоже бросают на жертвенный костер — в общем-то по их собственной вине, — однако ножом орудуют старые фабианцы и закоренелые тред-юнионисты в Лондоне, а отнюдь не Конгресс. Может, повидаемся в Гопалаканде? Крошка Парвати шлет поклон тете Лили. Я тоже.
Твоя Этель.* * *
Нью-Дели, июнь 1948.
Дорогая Лили!
Приезжай ко мне сюда! Я живу в летнем дворце (более чем скромном) его высочества князя Гопалаканда. Чувствую себя неважно и о многом хотела бы с тобой поговорить. Хочу также показать тебе — а может быть, и отдать — кое-какие вещи, оставшиеся после Дафны, ее заметки, письма и дневник.
Я составила новое завещание, по которому обеспечила Парвати и предназначила некую сумму на основание и содержание детского приюта, тем выполняя желание Дафны. Тебя я включила в число попечителей и предлагаю назвать его так: Мемориальный приют для индийских детей имени Мэннерс. Так и Дафна не будет забыта, и название «Мемориальный приют имени Дафны Мэннерс» не будет смущать людей, наделенных хорошей памятью. Я предлагаю основать этот приют в Майапуре. Мы с тобой могли бы обсудить, нельзя ли использовать для него владение под названием «Святилище». В прошлом году ты мне говорила, что эта женщина почти ослепла. Если Святилище подойдет как база для будущего приюта, одним из условий должно быть, чтобы сестре Людмиле было предоставлено право жить там бесплатно до конца дней.
Когда ты прочтешь дневник бедной Дафны — я еще никому его не показывала, но ты, по-моему, догадывалась, что какие-то такие записки существуют, — тебе станет яснее, почему все это меня занимает. А еще мне нужно обсудить с тобой будущее Парвати. Я не хочу нагонять на тебя тоску, но не секрет, что недалеко то время, когда она останется совсем одна на свете. Я по-прежнему думаю, что не следует даже пытаться разыскать человека, которого и ты и я теперь уже без всяких сомнений считаем ее отцом. Каждый раз как ты ее видишь, ты говоришь, что она становится все больше похожа на Гари. Это меня утешает, ведь я знаю, что это правда: ты не стала бы меня просто успокаивать; но это не значит, что беднягу нужно выследить и показать ему результат его провинности. Думаю, что ты со мной согласна. Я без труда могла бы устроить это, пока он был в тюрьме, и, если он жив, могла бы, вероятно, устроить и теперь, хотя его должны были выпустить уже два или три года назад. Думаю, ты правильно предположила, что, когда его тетя Шалини в 1944 году уехала из Майапура, она вернулась в их старый дом в Соединенных провинциях именно для того, чтобы ему было куда вернуться после тюрьмы, хотя бы ненадолго. Кто-то, безусловно, знает правду, скорее всего этот Ромеш Чанд Гупта Сен. По утверждению твоего приятеля-юриста Шринивасана — когда он сам вышел из тюрьмы и справился о миссис Гупта Сен, — Ромеш Чанд отмахнулся от этого вопроса и заявил, что она уехала в свою деревню и что с семьей Кумаров он порвал всякие отношения, но думаю, что со стороны старика это была всего лишь попытка скрыть тот факт, что он все знает, но не хочет говорить. Я же лично думаю, что Гари, когда его освободили, побывал у тети Шалини, но потом куда-то перебрался, возможно даже, переменил имя. В новой Индии у молодого человека, отсидевшего срок за преступление, которое ему приписали, не будет недостатка в друзьях. А с родными он, думаю, рад был распроститься. Возможно, его уже нет в живых, он вполне мог стать жертвой этого страшного варварства — прошлогодней мусульманско-индусской резни, отметившей конец нашей миссии «объединить и цивилизовать», конец нашей власти и влияния.
Нет, моя дорогая, пусть Гари Кумар сам ищет путь к спасению, если еще жив и если для таких, как он, спасение вообще возможно. Он пережиток, осколок нашего владычества, один из тех, кого мы сами создали, вероятно, с наилучшими намерениями. Но, даже признавая, что Неру может проявиться как крупная моральная сила в международных делах, я не вижу в Индии ничего способного противостоять тому расколу, который мы, англичане, позволили ей осуществить и за который несем моральную ответственность. Допустив его, мы создали прецедент для разделов в такое время, когда требовалось как раз обратное, допустили — опять-таки с наилучшими намерениями — от великой усталости, моральной и физической, оттого что не хватило сил заглянуть в будущее и понять, чем чревато наше отречение от престола на условиях, продиктованных Индией, а не нами. Может быть, к концу мы уже и не могли предъявить никаких условий, потому что не сумели сформулировать их на языке двадцатого века, и теперь мир начнет дробиться на отдельные островки враждующих догматов, а те обещания, что маячили даже за худшими проявлениями нашего колониализма, развеялись в прах и останутся в истории как некая имперская мистика, которой зачем-то приукрашивали сугубо практическую и своекорыстную политику.
Помнишь, как наш милый Нелло расхаживал по комнате, зажав в зубах трубку, подарок Генри, и вопрошал, подражая его голосу: «Политика? Политика? К черту политику! Каковы твои мысли и чувства, друг мой, вот что важно. Не будем зря тратить время на мелкотравчатые рассуждения о том, что „может случиться“. Подумаем о том, чего случиться не может и что будет дальше». Как я тогда смеялась! Теперь, вспоминая это, я не смеюсь. Упустить такую изумительную возможность! Своими руками все испортить. Индийцы тоже это чувствуют, да? Хоть и очень лестно, выпятив грудь, усесться свободными людьми за собственные столы, чтобы выработать себе конституцию. Не обернется ли эта конституция своего рода любовным письмом к англичанам, из тех, какие брошенная любовница пишет, когда роман закончился вполне достойным и пристойным, по современным понятиям, обоюдным признанием несовместимости? В мире, который разом опустел и померк, потому что любимый, слава богу, умчался предлагать свою роковую, непостоянную, эгоистичную любовь другим, пытаешься воскресить в памяти те минуты высокой радости, пусть даже не разделенной, которые как-никак были. Но воскресить их невозможно. Тогда соглашаешься на меньшее — быть благодарной за то, что было, забыть о том, на что надеялась и что могло бы быть, и в результате остаешься ни с чем, потому что «меньшее» — это есть у всех, и всякий дурак может это тебе дать, и всякий дурак может унаследовать.
Ужасает меня мысль, что, когда останутся позади пышная процедура цивилизованного развода и взаимные уверения насчет того, чтобы остаться друзьями, постепенно проявится подлинная враждебность, которую оба наших народа хотя с трудом, но сдерживали, пока были основания полагать, что она не может пойти на пользу ни господам, ни рабам. Я, понятно, имею в виду антипатию и страх между белыми и черными. Это гаденькие страсти, годные только для нации грубых лавочников и для нации толстопузых банья. Помню, в тот раз, когда Нелло пародировал Генри, какая ошарашенная физиономия была у одного из его адъютантов (очень воспитанного молодого человека, чей дед разбогател на каких-то бутылках для соуса, в чем не было греха, плохо только, что выше этого он так и не поднялся) и как он, пока я еще смеялась, повернулся ко мне, точно хотел сказать: «Боже мой! Леди Мэннерс! И вы допускаете такое в гостиной у сэра Генри?!» А смысл этих слов был бы тот, что у Нелло кожа была коричневая, а у Генри белая или, точнее, серая, желтая, больная, ведь ему уже недолго оставалось жить. Вот так и все в конечном счете сводится к этому. Это последняя черта раздела, верно? Я имею в виду не смерть, а цвет кожи.
Ну, мы-то с тобой всегда старались не видеть этой черты. Тебе, боюсь, еще долго предстоит закрывать на нее глаза. А письмо это, Лили, вот о чем: когда я умру, ты приютишь у себя Парвати?
Целую. Этель.* * *
Итак, представьте себе плоский ландшафт, который, поворачиваясь и вздыбливаясь, следует задним ходом за поворотами и зигзагами обслуживаемого «викерсами» ночного рейса 115 на Калькутту, — ландшафт темный, хотя прямо под вами являющий собою узор из огней, разбросанных гроздьями вокруг центральной галактики с несколькими мелкими созвездиями по краям — посадочной полосы аэродрома в пригороде Баньягандж, отрезанного от самого города, потому что шоссе, связывающее его с Майапуром, не освещено, если не считать ночного транспорта (крошечных фар, бегущих, как кажется даже с такой высоты, на удивление быстро), да еще небольшого светлого островка примерно на полпути, где новая английская колония расположилась в удобной близости к Техническому колледжу, заводам и аэропорту, которым пользуются теперь так же привычно, как автобусной станцией.
Кроме нашего знакомца, рейсом 115 летит еще только один англичанин — тот самый, что тогда вечером в клубе все поглядывал на Шринивасана и его гостей — не столько из любопытства, сколько из желания немного передохнуть от умственного напряжения, в котором его держали бесконечные вопросы разговорчивых молодых людей вроде Сурендраната и Десаи, спешивших наверстать время, упущенное, как им кажется, их отцами.
В аэропорту, в зале ожидания, этот англичанин тоже был окружен молодыми людьми, теперь же он сидит в полупустом салоне воздушного лайнера через несколько кресел от нашего знакомца. Остальные пассажиры — индийские бизнесмены. Сидя тоже отдельно друг от друга, они летят на деловые переговоры в Западную Бенгалию. Когда погаснет световое табло на стене (Застегните ремни! Не курить!), они откроют портфели и углубятся в деловые бумаги. Перелет такой короткий, передышка эта так же нужна человеку, как то время, которое он у себя дома посвящает чтению утренних газет, чтобы узнать, что случилось вчера, и прикинуть, как оно может отразиться на том, что случится сегодня. Один из них — тот, что сидел в зале ожидания, подобрав под себя ног и, — одет в дхоти. Самолетное кресло не так просторно, чтобы он мог и здесь расположиться с таким же комфортом, и наш знакомец этому рад, ведь как знать, где эти ноги побывали за последние сутки?
Самолет как будто набирает высоту с трудом. В овале иллюминатора опять появляется взлетная полоса, не намного дальше, чем была в прошлый раз, а потом опять огни Майапура, слегка размытые, наверно оттого, что стекла двойные, но они хотя бы на своем месте в общей знакомой картине, и теперь смотрящий их узнает, потому что успел сориентироваться.
Можно даже сообразить, где находится майдан — темное пространство, обведенное ровным светящимся пунктиром, — Больничная улица, Клубная, Церковная (ее не переименовали, хотя Виктория-роуд стала улицей Махатмы Ганди) и Артиллерийская. Самолет делает вираж, оказывается носом к востоку, почти следуя излучине реки, ведущей к тому морю, что не давалось воображению мисс Крейн. Увидеть сотворенный мир с этой высоты Божьего полета ей не привелось ни разу, о чем, пожалуй, можно пожалеть, потому что топография, так затруднявшая ее когда-то на уровне земли, сверху и на такой скорости оказывается случайной, лишенной какого-либо плана, созданной людьми, не умевшими смотреть дальше своего носа, способными думать лишь о самом насущном.
Неоновая вывеска, освещающая верующим путь от храма Тирупати к реке и обратно, видна довольно отчетливо, и, мысленно связав ее с неоновой вывеской над будкой стрелочника у переезда к северу от Бибигхарского моста, наш знакомец (а он возвращается в Калькутту, чтобы еще раз порыться среди рассыпающихся в прах миссионерских реликвий) может приблизительно установить, где находится сад Бибигхар и где дом Макгрегора.
Бибигхар тонет во мраке (сейчас, как и тогда), а дом Макгрегора ярко освещен, как и обещала Лили Чаттерджи: горят все лампы в обитаемых комнатах и все прожекторы в саду; отсюда они кажутся тусклыми, но вдруг вспоминаются так явственно, что начинаешь вглядываться, не увидишь ли и саму Лили, и воображать, что вот она, стоит с Парвати у ступенек веранды, глядя вверх на мигающие красные, зеленые и янтарные бортовые огни воздушной колесницы бизнесменов.
* * *
Да, это завершающая картина — дом Макгрегора, в котором живут звуки, выдающие присутствие здесь не только Лили и Парвати, — звенит разбитое стекло, кто-то, стуча уличными ботинками, поднимается от черно-белых плиток холла в верхний коридор, из которого двери красного дерева с медными бляшками ведут в комнаты, где человек, ненадолго здесь поселившись, волен перебрать в памяти все, что для него реальность, а для кого-то было мечтой, и спокойно обдумать скрытый смысл всего, Что лежит за пределами дома.
Сегодня случайный посетитель объяснит эти звуки присутствием в доме Парвати, а не ее матери. Но Парвати ступает легко и никогда ничего не разобьет (разве что сердце какого-нибудь молодого человека). Парвати — это другая повесть, и присутствует она здесь как бы начерно, что, впрочем, вполне ее устраивает, поскольку она застенчива и, видимо, еще не сталкивалась с жизнью всерьез, а тем более не преобразила ее силою своей личности. Неожиданно набрести на нее, когда она стоит, одна в какой-нибудь из комнат дома Макгрегора или сидит в тени в саду, обрывая лепестки цветка, — увидеть ее лицо, выражающее глубокую, но смутную радость (смутную потому, что при всей глубине этой радости источник ее далеко отсюда, в каком-то ей одной ведомом мире, что колеблется на грани между девичьими иллюзиями и более взрослыми суждениями), услышать, как она рано утром или вечером упражняется в пении, с каким усердием и серьезностью приступает к трудной фразе, как тихонько вскрикивает от огорчения, когда фраза не удалась, и начинает сначала, — значит унести с собой из дома Макгрегора образ Парвати, девушки, как нельзя лучше вписавшейся в свой антураж, где всегда можно ждать, что любая повесть не кончена, а будет иметь продолжение, и образ леди Чаттерджи — хранительницы традиции, рожденной из уважения не столько к прошлому, сколько к будущему.
— Вот уж не знаю (говорит леди Чаттерджи, когда напоследок обходит с гостем свои владения, опираясь на его руку, свободной рукой заслоняясь от предвечернего солнца, а Шафи уже подал машину, чтобы заблаговременно доставить его в аэропорт). Хранительница — это вроде как хранилище, склад, куда сдаешь мебель, когда переводят в другой гарнизон. Англичанин, наверно, мог бы сказать, что вся Индия стала таким хранилищем. Вы все ушли, но оставили после себя столько всего, что не могли с собой унести, а теперь тем из вас, кто возвращается, обычно не до того, чтобы подумать об оставленном добре, и уж подавно не до того, чтобы попросить ключ и пойти рыться среди старых чехлов, проверять, все ли уцелело и не превратилось в труху! — И спрашивает после паузы: — Парвати с вами простилась как полагается?
Да, Парвати простилась и теперь сбегает по ступенькам веранды (с опозданием, потому что живет по майапурскому времени, а не по индийскому стандартному), бежит на вечерний урок к своей гуру, которая пела в Лондоне, Нью-Йорке и Париже, а теперь берется обучать только самых перспективных учениц, девушек, наделенных и талантом и трудолюбием, которого должно хватить на восьмигодичный курс обучения. Возможно, когда-нибудь и Парвати будет петь в этих западных столицах, а потом и сама станет гуру и будет посвящать новое поколение девушек в технические трудности исполнения тех песен, про которые ее мать-англичанка когда-то сказала, что это единственная в мире музыка, которая словно сознательно нарушает тишину, а отзвучав, возвращается в нее обратно. Перед тем как ее бледно-розовое сари исчезает за калиткой, она чуть замедляет бег и машет рукой, и гость машет ей вслед, желая удачи на вечернем уроке. Дважды в день она так бегает, а в промежутках часами упражняется у себя в комнате. Иногда появляется молодой человек с двойным барабаном «табла» и помогает ей, отбивая такт, в другие же дни она сама себе аккомпанирует, четко ударяя гибкими пальчиками по струнам пузатой «тампуры». Кожа у нее самого бледного коричневого оттенка, а в длинных черных волосах при определенном освещении переливаются рыжеватые блики, что чаще можно увидеть на севере.
О слуги моего отца, несите сюда паланкин, Я отбываю в дом моего супруга. Все мои подруги разлетелись, Разъехались в разные стороны. Утренняя песняПримечания
1
Кантонмент — при английском правлении в Индии — европейская часть индийского города, где были расположены военные и административные учреждения, магазины и рестораны европейского типа, церкви, а также дома, в которых жили в основном англичане. — Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Вот и хорошо; ладно.
(обратно)3
Перевод Л. Мотылева.
(обратно)4
Северо-западная пограничная провинция.
(обратно)5
Анни Безант (1847–1933) — англичанка, участница национально-освободительного движения в Индии. В 1917 году была председателем партии Индийский национальный конгресс, активно ратовала за предоставление Индии самоуправления.
(обратно)6
В чистом виде (лат.).
(обратно)7
Нравы, представления (лат.).
(обратно)8
В 1950-х годах знаменитый французский архитектор Ш. Э. ле Корбюзье (1887–1965) возглавил группу индийских и иностранных архитекторов, построивших большой городской ансамбль в Чандигархе (северо-западная Индия).
(обратно)9
Кливден — родовое поместье Асторов в Англии. Леди Нэнси Астор (1879–1964), первая англичанка, ставшая членом палаты общин, создала в Кливдене политический салон, где обсуждались главным образом вопросы международной политики.
(обратно)10
«Галерея злодеев» — хранящиеся в полиции сборники портретов известных преступников.
(обратно)11
Суза, Джон Филип (1854–1932) — американский композитор и дирижер военных оркестров. Прославился в США и в Европе как «король маршей».
(обратно)12
Лунный свет (франц.).
(обратно)13
Дешевая папироса из скрученных листьев табака, перевязанных ниткой.
(обратно)14
Британская заморская авиатранспортная компания.
(обратно)15
Истина в вине (лат.).
(обратно)16
Имеется в виду Аллен Октавиан Юм (1829–1912). Английский чиновник в Индии, он в 1882 г. вышел в отставку, занялся общественной деятельностью и был одним из инициаторов создания в 1885 г. партии Индийский национальный конгресс.
(обратно)17
«Конец пути» — антивоенная пьеса Роберта Шериффа (1928), действие которой происходит в офицерском блиндаже во Франции в течение трех дней в марте 1918 года. По ходу пьесы, между прочим, выясняется, что молодой офицер, присланный на пополнение поредевшего офицерского состава роты, учился с командиром роты в одной и той же закрытой школе в Англии. Пьеса с огромным успехом шла на английской сцене в первой половине 30-х годов.
(обратно)18
Перевод С. Маршака.
(обратно)19
Нашумевшее дело (франц.).
(обратно)20
Полная свобода действий (франц.).
(обратно)21
Кавалер Ордена Индийской империи.
(обратно)22
Чиновник Индийской гражданской службы.
(обратно)23
Целиком, с начала до конца (лат.).
(обратно)24
В 1558 г. в царствование Марии Тюдор, Англия потеряла город Кале, свой последний оплот на европейском континенте. Узнав об этом, королева якобы сказала: «Когда я умру, вы увидите, что на сердце моем начертано слово „Кале“».
(обратно)25
Здесь начинается выдержка из дневника, которую дали прочесть Робину Уайту. — Примечание автора.
(обратно)26
Конец той части дневника, которую дали прочесть Робину Уайту. — Примечание автора.
(обратно)27
В здравом уме (лат.).
(обратно)
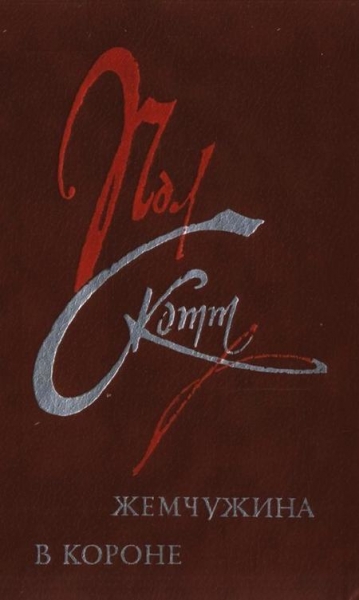







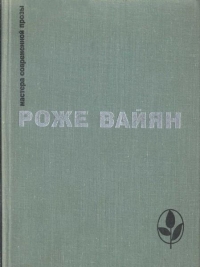
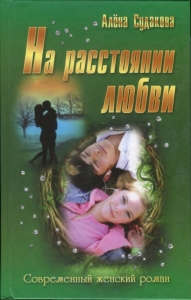
Комментарии к книге «Жемчужина в короне», Пол Скотт
Всего 0 комментариев