Эдуард Тополь Московский полет
Часть первая
1
В баре было полутемно. За стойкой, на высоких табуретах, сидели два мужика, один из них в техасской шляпе и высоких рыжих бутсах, другой – в шортах и черной безрукавке с надписью «Давайте убьем всех адвокатов!». Они пили пиво и смотрели бейсбол по телевизору.
Я сел на крайний табурет, сказал толстой барменше-пуэрториканке:
– Бренди, плиз.
– What? – спросила она.
– Бренди… – повторил я.
– What?
Она наклонилась, положив передо мной на стойку свои пудовые испанские груди.
– Бренди, – сказал я в третий раз, внутренне закипая.
– What does he want [Что он хочет?]?[1] – повернулась она к двум мужикам. – I don’t understand [Я не понимаю].
Я почувствовал, что побледнел, но, сдержав себя, сказал:
– Би – ар – эй – эн – ди – вай.
Тут барменша посмотрела на меня с еще большим недоумением:
– What? What?
Я психанул, взял у нее из нагрудного кармана авторучку и написал на салфетке:
BRANDY
– He wants brandy [Он хочет бренди], – прочел барменше тот, кто хотел убить всех адвокатов.
– О, бренди! – воскликнула барменша и отошла с таким видом, словно я говорил с ней по-китайски.
Конечно, она принесла мне рюмку бренди, но это уже не помогло мне. В этой ё… Америке даже безграмотная пуэрториканка считает меня человеком второго сорта, поскольку за десять лет я не научился говорить слово «бренди» так, как она. А как я сказал, ф… йо мазер! Бренди есть бренди – или нет?
Я залпом выпил это вонючее бренди, швырнул на стойку три доллара и ушел, хлопнув дверью. И с узкого тротуара сразу шагнул на мостовую, но тут же испуганно отпрянул – мимо, с оглушительным воем и ослепив меня фарами, промчалась машина, потом – вторая, третья.
– F… your [Вашу мать]!.. – громко крикнул я им и услышал хлопки петард, а вдали, над Бостонским заливом, в черноте неба вдруг рассыпались огненные шары фейерверка. Я вспомнил, что сегодня 4 июля и, наверно, там на набережной, среди праздничной публики, смотрят сейчас фейерверк Лиза и Ханочка. И я с ненавистью сказал этим огненным шарам фейерверка: – F… you too!
И пошел прочь – к причалу яхт-клуба, к темной воде, от которой пахло гнилыми крабами. Отсюда не был виден этот сраный Бостон с его праздничным фейерверком, потому что огромный утес, как верблюжий горб, торчал почти на берегу и перекрывал перспективу. Днем во время отливов вода тут отступает настолько, что можно посуху пройти на этот утес, и я часто приходил сюда с дочкой; мы назвали этот утес «Ханочкин остров». Лежа на теплом граните, я рассказывал ей про собак, кошек, воронят и ежей, с которыми дружил когда-то, в своей прежней жизни – в России…
А по ночам на этом Ханином острове устраивается молодежь – любители пива, марихуаны и рок-музыки. Но сейчас все они там, на празднике, и я мог легко приступить к тому, что задумал. Однако эта сволочь барменша выбила меня из колеи, я был так взбешен, что уже не мог топиться. Да, да, наверно, в бешенстве можно выброситься из окна или вскрыть себе вены, но топиться нелепо – это я понял сразу, как только пришел на берег.
Но куда мне деться? Как жить? Десять лет я писал книги об империи зла с такой страстью желчного еврейского сердца, что советские газеты утверждали, будто их распространяет ЦРУ. Подобные комплименты поднимали меня в собственных глазах, и моя работа казалась мне борьбой Давида с Голиафом. Но теперь Голиаф рухнул и книги об издыхающем пугале советской империи уже никому не нужны – впереди тупик. И вообще, говорил я себе в ожесточении, ты стал писателем на волне холодной войны, а теперь холодная война кончилась. И кончились твои гонорары, и спрос на тебя кончился даже в твоей собственной семье! Но разве ты писал настоящую литературу? Ведь настоящая литература – это когда про людей, а не про империи.
И вдруг…
«Моя дорогая, моя дорогая дочка! – вдруг написал я мысленно. – Сегодня тебе исполнилось восемнадцать лет, банковский клерк поздравит тебя с днем рождения, проведет в Safety Deposit[2], откроет мой ящик и достанет эту Рукопись. И ты наконец узнаешь правду – правду, только правду и ничего, кроме… Ты узнаешь, почему мы разошлись с твоей матерью и почему ты осталась без отца…»
Да, именно так! – решил я у черной воды Бостонского залива, пахнущей дохлыми крабами. Я не покончу жизнь самоубийством, пока не напишу эту Книгу! Это будет роман-письмо самоубийцы, которое дойдет к дочери через тринадцать лет. Вся история нашей эмиграции – вся наша еврейская дорога из России в Америку через Австрию и Италию под конвоем австрийских солдат и итальянских карабинеров, которые охраняли нас от палестинских террористов, и моя первая встреча с Лизой, и даже наша с ней первая ночь, – все будет в этом письме, я ничего не скрою от дочери. Это будет мой лучший фильм на бумаге! И если сегодня Лиза забрала у меня дочку, то через тринадцать лет эта Книга вернет мне ее – даже если меня уже не будет в живых! А меня не будет, – ожесточенно и обрадованно подумал я, – не будет, это уж точно! Ведь когда я допишу эту Книгу и отправлю рукопись в банк, что же мне еще останется делать, как не покончить с собой?
И плотная ткань будущего романа, полная драм и комедий эмигрантской жизни, вдруг ясно развернулась передо мной на темной глади Бостонского залива, и моя личная история пролегла по воде, как лунная дорожка, которая, завораживая и колдуя, тянет вас на смертельную глубину. И впервые в жизни я не пожалел, а обрадовался, что я писатель. Кто еще может так отомстить жене?!
Радуясь своему замыслу, я прямо тут, у воды, стал набрасывать в уме план книги: первая глава – выезд из СССР, шереметьевская таможня, где издеваются над эмигрантами. Вторая глава – полет в Вену в сопровождении гэбэшных бугаев, которые даже в самолете следят за каждым жестом русских эмигрантов. А третья глава…
Но третью главу я не успел продумать: рядом со мной в масляной черноте июльской ночи вдруг ослепительно вспыхнули мощные фары и цветная вертушка полицейской машины – прямо мне в глаза.
Я встал и пошел с пляжа, неся в себе новый замысел, как трепетную свечу. Но тут же услышал мужской радиоголос:
– Эй, ты! Стой! Не двигайся!
Я остановился. Правая дверца машины открылась, и темная фигура, слепя мощным фонариком и хрустя ботинками по песку, стала медленно приближаться. В опущенной правой руке этой фигуры я даже в темноте угадал пистолет.
– Don’t move, – сказала фигура. Голос был женский, с негритянским тембром.
Я не двигался.
Фигура замерла в трех шагах. За ее спиной в машине сидел еще один полицейский и что-то говорил в микрофон радиотелефона.
– Как зовут? – спросила меня баба-полицейский.
Я назвался.
– Где живешь?
– Два квартала отсюда…
– Адрес!
Я сказал свой адрес.
– Что ты здесь делаешь?
– Праздную… – усмехнулся я.
– Празднуешь что? – требовательно, как ворона, каркнула она.
Я пожал плечами и сделал неопределенный жест рукой, который она тут же оборвала окриком:
– Не двигайся! Кругом!
Я повернулся.
– Подними руки! Раздвинь ноги!
Я поднял руки и расставил ноги.
Она осторожно подошла ко мне сзади и положила на землю фонарик так, чтобы он освещал всю мою невзрачную фигуру. Затем одной рукой похлопала меня сначала под мышками, потом – по карманам джинсов и, наконец, промеж ног и ниже – до щиколоток. Рука у нее была жесткая, как палка, и вообще мне вдруг показалось унизительным, что молодая черная баба шлепает меня по яйцам и другим местам – меня, писателя, который только что обдумывал роман века!
– Ладно, – сказала баба-полицейский. – Можешь повернуться.
Я возмутился:
– С чего это ты меня проверяешь?
– Мы ищем кой-кого, – примирительно сказала она, поднимая свой фонарик. – Ты русский?
– Нет, я еврей! – возразил я с вызовом, не принимая ее примирительного тона.
– Не важно. Все евреи из России, – сказала она небрежно. – Можешь идти. Спокойной ночи.
И ушла к своей вспыхивающей мигалкой машине, а я остался в темноте, гадая, как она могла определить, что я из России. Неужели это русское клеймо вибрирует даже в тембре моего голоса, как в ее голосе – клеймо негритянской крови?
2
Домой идти было незачем, самоубийство я отложил, а в баре даже барменша-пуэрториканка отнеслась ко мне как к недоразвитому.
Я ожесточенно шагал по тусклым марблхедским улицам – прочь от набережной, от фейерверка, от праздничной жизни. Мне нет там места. Мое место на свалке макулатуры, среди мусорных урн и бездомных нищих. Но – вашу мать! – именно там, на обочине жизни, я напишу свою Главную книгу!
Подстриженные газоны. Флаги в честь Дня независимости. Двухэтажные особняки. «Вольвы» и «форды» на парковках. Уютные огни за шторами, запах барбекью с задних дворов, голоса теледикторов и смех телешоу… Черт возьми, куда я иду? В моем доме на углу Розен-стрит – черные окна, пустой гараж и тихо, как в могиле. Я прошел мимо, отшвырнул с тротуара во двор цветной Ханин мяч. Этот дом стоит двенадцать сотен в месяц, но он не принес мне счастья. «О, это настоящий дом любви! – говорила хозяйка, когда мы с Лизой пришли смотреть его два года назад. – Моя мать прожила здесь тридцать лет, это были лучшие годы ее семейного счастья!»
F… your mother’s love house [В гробу я видел дом любви твоей матери]! Именно здесь ко мне каждую ночь приходит огромная, как пантера, черная кошка, прыгает на грудь и когтями рвет мое горло так, что кровь брызжет из вен.
Я свернул за угол, вышел на Атлантик-авеню и через пару минут вдруг оказался перед ярко освещенными окнами нашей синагоги. Я остановился. Кто может быть в синагоге поздним вечером в День независимости?
Я пересек подстриженный газон и подошел к окну. В молельном зале сидели двое – ребе Зальц, которого я знаю давно, и незнакомый мне лысый толстяк. Они сидели за Торой, но не молились, а что-то весело обсуждали, жестикулируя руками. Десять лет назад, когда я приехал в Америку и ходил по Нью-Йорку в надежде встретить миллионера и соблазнить его своим гениальным, как у каждого эмигранта, кинопроектом, этот ребе Зальц дал мне первую работу. Не знаю, как в других странах, но в США человека, который дал вам первую работу, помнят всю жизнь – как первую женщину. Тогда, летом 1979 года, кто-то сказал мне, что еврейской организации «Призыв» нужен русский редактор, и так я попал на угол Двадцать пятой улицы и Пятой авеню, в офис Зальца.
Зальц – высокий, похожий на грача 40-летний раввин в отличном темно-синем костюме с узкой д’артаньяновской бородкой, большим простуженным носом и перхотью на плечах – глянул на меня неожиданно весело и открыто. Перед ним стоял худой и голодный русский еврей, потный от августовской жары, с лица которого даже бритвой «Шик» невозможно было сбрить отчаяние первых месяцев эмиграции. Он сказал:
– Я знаю несколько русских слов – «еп твой мать», «жидовска морда» и «п…».
От изумления у меня отвисла челюсть: наконец хоть один американец сразу, с первых слов, заговорил со мной как с равным. И не начал рассказывать мне о том, как в двадцатых годах его родители-эмигранты работали в Америке за полдоллара в день, и потому мне нужно начинать с того же.
Уже через минуту я узнал, что ругаться по-русски ребе Зальца научили лучшие специалисты в этой области – киевские гэбэшники. Оказалось, что пять лет назад Зальц побывал туристом в СССР и, находясь в Киеве, поехал в Бабий Яр, постелил там на земле коврик и стал молиться в память о тех 200 тысячах евреев, которых немцы расстреляли здесь во время второй мировой войны. Но не успел Зальц дочитать Кадиш, как подкатила черная «Волга», киевские гэбэшники бросились на него, скрутили, привезли в подвал украинского КГБ и ровно трое суток били и пытали голодом и холодом, требуя признания в том, что он американский шпион. За трое суток ему сломали два пальца на левой руке, научили материться по-русски и сделали из него профессионального антисоветчика – вернувшись в США, Зальц немедленно основал организацию «Призыв» и на тонкой папиросной бумаге стал печатать еврейские религиозные брошюры на русском языке, а потом по каким-то секретным каналам засылать эти брошюры в СССР.
Я тут же зауважал этого простуженного грача. Но когда открыл одну из его брошюр, мое лицо свело, как от зубной боли: они были написаны жутким языком и с таким количеством грамматических ошибок, что вряд ли кто-то в России читал их дальше второй строки.
– Well, – сказал Зальц, увидев выражение моего лица. – Конечно, это нужно слегка подредактировать. Ты сможешь? Я буду платить тебе сто пятьдесят долларов в неделю.
Я понимал, что эти книжки бесполезно редактировать – их нужно писать заново. Но в это время я жил на доллар в день, и сто пятьдесят в неделю были для меня как контракт с Голливудом. Потом за пять следующих недель я прочел в библиотеке манхэттенской иешивы штук сорок книг по еврейской религии, изданных в России и в Польше еще в двадцатые годы, и написал современным русским языком пять брошюр – о еврейских праздниках, о кошерной пище, о субботе и еще толстый сборник избранных еврейских сказок из «Агады». После этого Зальц сказал, что я обеспечил их работой на год вперед, выдал мне последний чек, и я снова оказался на улице. Но моя маленькая брошюра «Шабат в еврейской жизни» довольно лихо разошлась тогда в СССР по каналам еврейского самиздата, и Зальц запомнил меня. Когда в прошлом году я случайно встретил его в аэропорту Логан, он сказал: «О, мистер Плоткин! Я слышал, вы стали автором бестселлеров! Где вы живете? В Беверли-Хиллз?» Я сказал, что как раз ищу какое-нибудь жилье в Бостоне. «Только не в Бостоне! – воскликнул Зальц. – Летом вы задохнетесь в Бостоне! Настоящий писатель должен жить в Марблхеде! Поезжайте и посмотрите сами – там море, там пять яхт-клубов. И у меня там синагога!»
Он был прав: настоящий писатель действительно должен жить в Марблхеде, иметь свой дом на берегу моря, пару «ягуаров» в гараже и яхту на Грет-Нек. А поскольку у меня нет ни дома, ни «ягуара», ни яхты, то какой же я на х… настоящий писатель?
Я отошел от окна синагоги и собрался двинуться прочь, как вдруг новая идея пришла мне в голову. Я усмехнулся. Черт возьми, у меня же есть вопрос к ребе Зальцу! Очень серьезный и неотложный вопрос!
Затоптав ногой сигарету, я открыл тяжелую дверь синагоги.
– О, мистер Плоткин! – воскликнул ребе Зальц и повернулся к лысому толстяку. – Познакомьтесь, это наш писатель, он написал книгу «Шабат в еврейской жизни».
Тем самым Зальц дал понять, что все остальное написанное мною – не книги. А вот тоненькая брошюра о субботе…
Но я не обиделся, он прав: все, что я написал, – действительно дерьмо, и не о чем разговаривать. Между тем лысый толстяк повернул ко мне круглое бритое лицо и стал разглядывать меня своими маленькими глазками, рыжими, как новенькие пенни.
– Познакомьтесь, – сказал мне Зальц, – это ребе Голд из городского раввината.
– Очень хорошо, – сказал я решительно. – Значит, мне повезло: вас тут даже не один, а два раввина! Вы можете мне сказать, в чем секрет семейного счастья?
Они переглянулись в некотором смятении.
– Ну… – Я попробовал смягчить свой требовательный тон. – Помню, когда я писал еврейские брошюры, где-то вычитал, что каждый человек умирает один раз. Но если человек несчастливо женат, он умирает каждую ночь?..
– Это в Торе написано, – сказал ребе Зальц осторожно и чуть откинулся на стуле, как врач, принимающий своего первого шизофреника.
– Точно! – сказал я. – Но я нигде не читал, в чем секрет семейного счастья. Не может быть, чтобы в еврейской религии не было ответа на этот вопрос.
– А вы почему спрашиваете? – вдруг спросил ребе Голд, обменявшись взглядом с ребе Зальцем. – Просто из любопытства или у вас есть личная причина?
– Ну, и то и другое… – ответил я нетерпеливо.
Накануне ночью, с трудом отодрав от себя черную кошку-пантеру, я проснулся в холодном поту, с жутким сердцебиением и, лежа в постели, стал думать о своей неудавшейся семейной жизни. Почему она развалилась? Я вдруг физически ощутил, что вокруг меня, в звездной черноте марблхедской ночи, сотни людей тоже не спят, но они любят друг друга, занимаются любовью, обнимают друг друга, целуют. Так в чем же секрет их семейного счастья?
И тут – я даже сел рывком на кровати – я разом придумал целый кинофильм! СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ! Конечно! – воскликнул я мысленно и тут же схватил сигарету. Почему у меня разбилась семейная жизнь, это никому не интересно. Но вот почему у других не разбивается – это может быть интересно миллионам! И значит, нужно пройти с кинокамерой по синагогам, церквам, костелам и мечетям и спросить у знатоков национальных традиций: в чем секрет семейного счастья? Наверняка у каждого народа и в каждой религии будет свой ответ. И можно проехать по разным странам – Японии, Китаю, Тибету – и записать правила семейной жизни древних народов. А потом взять интервью у знаменитых счастливых семейных пар – у Рональда и Нэнси Рейган, Пола Ньюмана и его жены, Джорджа и Барбары Буш, Роберта Рэдфорда…
Зальц не отвечал на мой вопрос, а выжидательно смотрел на Голда, передавая ему как старшему право на ответ. Так два хирурга стоят над неизлечимым раковым больным, не решаясь приступить к заведомо безнадежной операции, а больной глядит на них в упор и требует: режьте! Мне уже все равно не жить, так режьте же, черт возьми!
И тогда ребе Голд, член городского раввината, потрогал пухлой рыжей рукой воротник своей рубашки и сказал:
– Ну-у-у, во-первых, секрет семейного счастья – это секрет! А во-вторых…
Дальше он стал рассказывать, что по еврейскому закону нужно ежемесячно 12 дней воздерживаться от половой жизни, и тогда жена приходит к мужу свежая, как невинная девушка. Что, по статистике, в религиозных семьях значительно меньше разводов, чем в нерелигиозных. Ну и все такое прочее, что я уже не слушал, – это я и сам писал, когда редактировал в «Призыве» брошюры о еврейской религии. А вот ответ раввина, что «секрет семейного счастья – это секрет», развеселил меня до истерики – это была последняя капля в психическом перенапряге этих дней.
Я вышел из синагоги, сел на подстриженный газон и стал хохотать, как сумасшедший. Да я и был в эти дни сумасшедшим – чего там! Каждый из нас бывает таким: одни – минуту, другие – несколько дней, третьи – всю жизнь. И не говорите себе, что вы не сумасшедший, никогда не говорите – просто ваша минута еще не пришла…
«Секрет семейного счастья – это секрет!»
Вашу мать!
Я пришел за Откровением, за Спасением, за Словом Божьим, а оказывается – это секрет! Моя жизнь и так превратилась в ничто: я теряю семью и единственную дочку, я пишу книги, которые уже никто не помнит, кроме московского КГБ, а когда я придумал сюжет про нормальных людей – это секрет!
Я катался по траве и хохотал, как плакал…
– Папа! Папочка! – вдруг услышал я голос дочки.
Я сел, вытирая с лица слезы смеха.
Рядом, в пяти метрах, стояла моя бывшая «тойота-корола», за рулем сидела моя бывшая жена Лиза, а с заднего сиденья через открытое окно выглядывала моя пятилетняя дочка Хана – обе в купальниках и резиновых шапочках.
– Папа, что ты там делаешь? Ты такой смешной! Ты поедешь с нами на пляж? Мы едем купаться перед сном!
Я смотрел на дочку, пытаясь понять, откуда она тут взялась и о чем спрашивает. Но Лиза не стала ждать моего ответа. Перед ней на траве газона лежало Ничто – сумасшедший, которого она уже списала из своей жизни. Презрительно отвернув голову, Лиза дала газ, и машина, чиркнув колесами по асфальту, покатила прочь по Атлантик-авеню. Маленькое белое личико Ханочки удивленно смотрело на меня через заднее стекло.
3
И вот это состоялось – мы складывали вещи. Мы складывали их в картонные фруктовые коробки из Смарт-маркета. Я – в своей комнате, а Лиза – на кухне. Лиза с Ханочкой тоже съезжали из этого «дома любви» – в Салем, в другую квартиру, дешевую.
– Вадим, у тебя есть сигареты?
– Да. Вот на столе…
– У меня будет маленькая квартира, твои вещи там не поместятся.
– Но тут всего пять коробок с книгами!
– Там очень маленькая квартира.
– О’кей! О’кей!
Конечно, дело не в коробках, подумал я. Просто ей не терпится отрезать меня окончательно. И еще ее возмутило, что я не повесился и не утопился, а, наоборот, купил себе машину. Да, пошел вчера к дилеру и на «Мастер-кард» купил себе «тойоту-терсел». Правда, нормальные люди покупают машину на банковский кредит, но я для банка, как и для жены, человек ненормальный: у меня нет постоянной работы. Писатель! Кто в Америке считает это работой? Если ты не Стивен Кинг и не Том Кланси, но при этом называешь себя писателем, тебе говорят: «О, поздравляю! А на что ты живешь?..» А если ты продолжаешь утверждать (да еще на плохом английском), что живешь на свои литературные гонорары, то с тобой рвут отношения, потому что в Америке не любят, когда люди лгут прямо в глаза. Скажи им, что ты заправщик на бензоколонке, или развозишь пиццу, или продаешь айсберги в Новую Зеландию, – и тебе любой поверит, и банк откроет кредит. Но если ты снимаешь дом в Марблхеде и при этом говоришь, что ты только русский писатель, – well, – или ты агент КГБ, или ты в каком-нибудь нелегальном бизнесе, это ясно.
Короче, когда банк отказал мне, я купил машину на свою кредитную карточку. Конечно, это был поступок шизофреника, потому что на счете у меня было всего семь сотен – ровно половина следующей месячной выплаты алиментов, а мой агент вот уже полгода не может продать мой последний роман о падении Горбачева – ни один американский читатель не хочет, чтобы Горбачев проиграл даже в романе! А этого я как раз не учел! Я не учел, что, если пророк хочет преуспеть коммерчески, он должен угадывать не столько будущее, сколько желание клиента. Скажи человеку, что он через десять лет станет миллионером, и он радостно отдаст тебе последнюю десятку и уйдет счастливым, да еще пришлет к тебе всех своих родных и знакомых. Но попробуй сказать ему, что он разорится или заболеет раком, – таких пророков в древности били камнями! Два года я сочинял роман о перестройке и ничего, кроме гражданской войны в России, у меня из этой перестройки не получилось. Теперь ни один из моих издателей не дает за этот роман и цента, как будто я виноват в том, что в России действительно начинается гражданская война!
Но без машины мне сложно навещать дочку, если я собираюсь жить в Нью-Йорке. И отправляясь к ближайшему автомобильному дилеру, я мрачно подумал, разве вся Америка не живет в долг? Пора и мне усвоить эту психологию…
Я отнес ящики с книгами в свою «терсел», повертел в руках старую кинохлопушку, вывезенную из России как память о моем последнем фильме «Зима бесконечна», и швырнул ее в мусорный ящик, где уже находились все сто двадцать папок с вырезками из последних советских газет про шахтерские забастовки в Донбассе, национальные волнения в Прибалтике и Армении, выборы в советский парламент, с речами Горбачева и т. п. Все это мне уже не понадобится никогда. Я вздохнул и позвал дочку в свою опустевшую комнату.
– Сядь, Ханочка, на этот стул, – сказал я. – А я сяду на этот.
– Зачем? – сказала Ханочка.
– Ну, так полагается. Перед дорогой надо посидеть.
Она полезла на стул, говоря:
– А мы завтра тоже едем на новую квартиру, в Салем. И там у меня будет новый папа.
Я обмер. Так вот почему Лиза настояла, чтобы я съехал из дома на день раньше нее!
– Ханочка, кто тебе сказал про нового папу?
– Никто. Я сама знаю.
– Детка, я хочу, чтобы ты запомнила навсегда. – Изо всех сил я старался говорить ровным тоном. – У мамы может быть другой муж или друг, но никто из них не будет твоим папой. Папа бывает только один. Только один бывает папа. Тот, который научил тебя ходить, говорить, любить сказки… Понимаешь?
– Понимаю, папочка. А почему ты не хочешь с нами жить? Ты нас больше не любишь?
Я смотрел ей в глаза. Конечно, она повторяет то, что ей сказала Лиза. «Новый папа»! Значит, Лиза уже учит Хану называть «папой» ее, Лизиного, будущего (или уже существующего) хахаля!..
Но я приказал себе сдержаться. У детей короткая память, и ты ничего не помнишь, да и не можешь помнить, моя дорогая дочка. Ты не помнишь, как во Флориде Лиза схватила тебя, пятимесячную, и уехала от меня в Торонто к своей матери, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов в день за пишущей машинкой и не уделяю ей, Лизе, внимания. А потом в Нью-Йорке, когда тебе было десять месяцев, Лиза просто выгнала меня из квартиры, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов за IBM Typewriter и не уделяю ей, Лизе, внимания. А потом в Торонто, в Канаде, когда тебе было четыре года, Лиза взяла тебя, два чемодана и улетела от меня в Бостон к подруге, потому что я эгоист, я сижу по двенадцать часов за компьютером и не уделяю ей, Лизе, внимания. И каждый раз я догонял вас, находил и добивался примирения с ней – ради тебя, Ханочка! Ведь я назвал тебя именем своей матери, как же я мог бросить тебя? Пока мне фартило, пока печатали мои книги, Лиза целыми днями смотрела по телевизору «The Young and The Restlles», «As the World Turn» и прочие «мыльные оперы», а в перерывах меняла домработниц и рисовала абстрактные картинки. А теперь она считает, что я погубил в ней великую актрису, потому что я занят только своими книгами и сведением счетов с КГБ за то, что он запретил мой фильм и практически выгнал из России. А если бы я думал о своей жене, то мог бы написать для нее пьесу, устроить жену в театр или по крайней мере научить ее писать книги…
– Ханочка, дорогая… – Я взял маленькую дочкину ручку, доверчиво-легонькую и прохладную, как ландыш. И от этого у меня совершенно сжало душу, и я сказал: – Когда ты вырастешь, ты все-все узнаешь, я тебе обещаю! А сейчас послушай меня внимательно. Раньше я любил и маму, и тебя. И делил мою любовь – тебе половину и маме половину. Понимаешь? А теперь вся моя любовь будет только твоей. Не половина любви, а вся любовь – только твоей. Понимаешь?
– Понимаю, папочка. А как ты поедешь? Смотри, какой ветер.
Я глянул в окно. Действительно, ветер уже рвал с деревьев листву – это, как еще с утра обещали по радио, с Атлантики шел ураган «Глория».
– Ничего, дочка, – сказал я и стал целовать ее маленькую легкую ручку. Этот разговор уже так давил мне на душу, как тяготит плохая сцена в сентиментальном фильме. И Хана, словно чуткая актриса, сделала личико грустным-грустным. Но я взял ее на руки: – Не грусти, Ханочка! Я приеду к тебе на день рождения. Это очень скоро. И я куплю тебе новый велосипед, как обещал. Мы пойдем в магазин, и ты сама выберешь велосипед, какой тебе понравится. О’кей?
Тут она увидела деньги на пустом подоконнике, центов двадцать там валялось.
– Папочка, ты деньги забыл!
– Нет, мне не надо… – отмахнулся я.
– А можно я возьму?
– Возьми.
Она живо высвободилась из моих рук, собрала с подоконника монетки и выбежала из комнаты.
– Мама! Смотри, сколько мне папа денег дал!
Я горестно опустился на стул и почувствовал себя как актер в пошлом спектакле. Мамочка, что мне делать?
Я обвел глазами пустую комнату. Теперь – без белья и покрывала на кровати, без компьютера на столе, без фотографии дочки на стене и без книг на полках – здесь было сиротливо, как в тюремной камере. Все мои вещи: компьютер с русской программой, книги, одежда – уже были в машине. Но вдруг я почувствовал, что нас тут в комнате двое: я, уходящий из семьи муж и отец, и еще один я – писатель, который следит за первым и регистрирует каждое его движение.
– Пошел на х… – зло сказал первый «я» второму, вытащил из кармана чековую книжку и стал выписывать Лизе первый чек на содержание дочери – 1400 долларов. Когда-то, давным-давно, пять лет назад, когда за «Пожар в тайге» я получил сто тысяч долларов, менеджер банка сам предложил мне постоянный банковский кредит аж в десять тысяч и попросил дать автограф. А теперь тот же менеджер проверил мои доходы за последние пару лет и отказал мне в займе даже на «тойоту-терсел»! Но «Кредит-лайн» они еще, слава Богу, не отняли, и я могу выписать Лизе чек, а через месяц – еще один. А там будет видно…
Держа в руке чек, я вышел из комнаты.
Ханочка была в детской, а Лиза на кухне. Стоя перед пустыми кухонными полками, она заворачивала тарелки в газеты и складывала их в коробки. Этими коробками, мешками и чемоданами был полон уже весь дом.
– Мне плевать, кто будет перевозить тебя завтра и с кем ты будешь жить, – сказал я и положил чек на кухонный стол. – Но у моей дочки будет только один отец. Тебе ясно?
Она разогнулась, посмотрела на чек, а потом мне в глаза. В ее взгляде не было даже привычной мне ненависти, а было только усталое отвращение и желание, чтобы я уехал, исчез, сдох. От этого долгожданного мгновения ее отделяло последнее усилие – молча переждать еще минуту.
– Тебе ясно? – повторил я в бешенстве.
Она протянула мне тарелку.
– Хочешь разбить?
Я молчал.
– Уйди уже! – произнесла она с тоской.
– Гуд бай! – сказал я и пошел из кухни на улицу.
– Счастливо… – бросила она мне в спину.
4
В черноте вечера ветер кинул мне в лицо крупные капли дождя, но не остудил бешенства. Я сел в машину, набитую вещами, и поехал. В Нью-Йорк, к приятелю-художнику, который живет один. Вот и весь итог моей семейной жизни, думал я по дороге, вот и все, что я имею в свои пятьдесят лет: старый компьютер, пять коробок моих никому не нужных книг и долг за машину. Вот и все, что я имею на всей этой ё… планете. Ни дома, ни семьи, ни дочки, ни работы…
Ураган «Глория» был не так ощутим в узких марблхедских улицах, но стоило мне выехать за город, как ветер и дождь стали сечь машину, хлестать ее по лобовому стеклу и сдувать с шоссе. Сражаясь с ливнем, скрежетали по стеклу щетки «дворников», и сквозь этот звук я слышал слова дочки: «А мы завтра тоже едем на новую квартиру, и там у меня будет новый папа…» И вместо того чтобы сбросить скорость, я, растравляя себя, все больше жал на газ, тараня машиной ночь, ураганный ветер, слепящий ливень и свою судьбу. Семьдесят миль… восемьдесят… девяносто…
Иногда я замечал, что стрелка спидометра уже полезла на цифру «100», и испуганно сбрасывал ногу с педали газа. Но через минуту Лиза издевательски протягивала мне тарелку: «Хочешь разбить?» И я, сатанея, снова жал на газ. «Тойота» летела сквозь ночной ураган, как маленький снаряд, «дворники» с жалобным скрипом метались по лобовому стеклу, захлебываясь дождем, а впереди, в рябой черноте ливня, в опасной близости от меня, возникали мощные грузовики на тяжелых крыльях воды. Я упорно гнал трепетную «тойоту» – прямо на эти валы, на таран. «Ах, эта с… хочет, чтобы я сдох, разбился, умер от разлуки с дочкой – черта с два! Я выживу! И я еще напишу роман «Письмо к дочери»! Дорогу мне, мать вашу так!..»
Конечно, если бы не полицейский патруль, я бы разбился в ту ночь – нет сомнений. Но моя милая мама всегда спускается ко мне с небес на опасных поворотах моей судьбы – она спасла и на этот раз: сирена полицейской машины и яркие цветные огни настигли мою машину, я глянул в зеркальце заднего обзора, громко сказал: «S-s-shit» [Дерьмо]! – и, сбросив скорость, покорно свернул на обочину.
Верзила-полицейский, завернутый в плащ, как русское мороженое эскимо в серебряную фольгу, прошел сквозь дождь от патрульной машины к моей, посветил фонариком через опущенное стекло и наклонился ко мне:
– May I see your driver’s licence [Покажите свои права].
Я протянул свои права и только теперь увидел второго полицейского – он оказался черным, лет тридцати пяти, высоким, круглолицым, со щеточкой черных усов. Своими широкими ноздрями он осторожно принюхивался к воздуху в салоне машины. Везет мне на черных полицейских, невесело подумал я. А полицейские, не уловив запаха спиртного, уже уходили с моими правами назад, к своей машине. Дождь колотил меня по плечу и шее, я поднял стекло и откинулся затылком на сиденье. Закрыл глаза. Какая у меня была скорость – восемьдесят? девяносто? сто? Да черт с ним, какая разница! Я протянул руку и выключил двигатель. Но в машине, как ни странно, стало еще шумнее – это дождь барабанил по жестяной коробке дешевенькой «тойоты», как по пустой консервной банке. Я не мог этого слышать и включил радиоприемник.
Он отозвался оглушающей кантри-мюзик, я покрутил ручку настройки, и в машине зазвучал Григ, Вторая симфония. Я снова откинулся на сиденье. Под музыку и шум дождя бешенство стало стекать с меня, как вода с машины, я даже задремал.
Нетерпеливый стук в стекло заставил меня очнуться.
– Подпишите здесь и здесь, – сказал полицейский.
Я, не глядя, расписался на желтом бланке штрафа. Полицейский протянул мне права:
– Езжайте осторожно.
– У тебя есть семья? – вдруг хмуро спросил я, пряча права.
– Есть. А что? – удивился полицейский.
– А дети?
– Конечно! – В голосе полицейского прозвучало возмущение – разве может семейный мужчина, да еще черный, не иметь детей!
– Значит, у тебя хорошая семья, верно? – желчно продолжал я.
– Думаю, что да, – насторожился полицейский. – А что?
– Ты можешь сказать мне, в чем секрет семейного счастья? – Я посмотрел ему прямо в лицо.
– I see… – сказал он, по-новому увидев хозяина «тойоты». – Ясно… У тебя проблемы дома, да?
– Yes… – криво усмехнулся я, подражая негритянскому сленгу. – Ты знаешь секрет семейного счастья?
– Ну… Мы спорим время от времени… – честно признался он. – Чего ж ты мне с самого начала не сказал?
– Что?
– Что ты оставил семью. Есть дети?
– Да. Дочка пяти лет… – Сам не зная почему, я вдруг захотел именно этому, стоящему под дождем черному полицейскому рассказать все – и про Лизу с ее мудацкими актерскими амбициями, и про Ханочку, и про мои ненаписанные фильмы-романы, на которые уже нет сил.
– Ладно. Знаешь, я не могу просто порвать твой штраф, он уже выписан. Но если ты приедешь в суд, я попрошу судью отменить этот штраф… Куда ты едешь?
– В Нью-Йорк.
– Я надеюсь, все обернется к лучшему для тебя. – Полицейский искренне сожалел, что выписал штраф. – Только езжай поосторожнее. Обещаешь?
– Обещаю. Спасибо! – усмехнулся я.
Полицейский отступил от «тойоты» и светящимся жезлом стал махать идущему сквозь ливень потоку машин, сгоняя их с правой полосы на левую, чтобы я мог выехать на шоссе.
Я дал полный газ. Малышка «тойота», взвизгнув колесами по мокрому асфальту, юзом вымахнула на шоссе и, набирая скорость, понеслась прочь, в мокрую черноту ночи. В зеркало заднего обзора я еще некоторое время видел фигуру черного полицейского. Даже в наклоне его головы было сомнение, и я понял, о чем он думает. Этот русский, думал он про меня, типичный самоубийца и вряд ли доедет до Нью-Йорка. И все из-за этих баб. «Секрет семейного счастья»! И-эх…
А я ехал и думал: «Черт возьми, если бы мне действительно удалось найти продюсера на фильм «Секрет семейного счастья», то я первым делом поехал бы в Грузию. В Грузии, на горной дороге, я, конечно, тоже буду ехать не со скоростью 60 километров в час. И меня остановит грузинский милиционер. Наверное, это будет высокий грузин лет сорока, с черными глазами, черными усами и лысый под своей милицейской фуражкой. Как тот знаменитый грузинский актер, который 12 лет назад снимался в моем последнем фильме.
– Та-а-ак… – скажет он нараспев, предвкушая солидную взятку. – Нарушаем, значит?
Потом он увидит мои американские водительские права и его аппетит разгорится еще больше.
– Вай-вай-вай! – покачает он головой. – В чужой страна приехал и уже нарушаешь! Придется арестовать…
– Задумался, товарищ милиционер… – скажу я хмуро.
– Панимаю, – скажет он насмешливо. – Мислитель, значит? Философ?
– Слушай, – скажу я. – У тебя есть семья?
– Канэшно, есть.
– И дети?
– Канэшно, трое детей! Какой грузин без детей?!
– Тогда скажи мне: в чем секрет семейного счастья?
Он посмотрит на меня своими бархатными черными глазами, думая, что я хочу отвлечь его и увильнуть от штрафа.
А я скажу:
– Понимаешь, я делаю кино. «Секрет семейного счастья» называется. Вот ты знаешь, в чем этот секрет?
– Ты хочешь сказать, что приехал из Америки в Грузию, чтобы узнать секрет семейного счастья?
– Да.
– А в Америке никто не знает?
– В Америке мне сказали, что секрет семейного счастья – это секрет.
– Капиталисты! – скажет он возмущенно. – Нет, мы, грузины, не такие! Мы открытый народ! Садись в мой машину, генацвале! Садись, ты мой гость!
И он посадит меня в свою милицейскую «Волгу-24», включит сирену и повезет меня по грузинским селам. Там мы будем есть шашлыки и пить веселое грузинское вино и седобородые грузинские старики будут долго рассказывать красивые старинные легенды и притчи о тайнах семейного счастья…»
5
…Кудлатая русая голова. Мятая шапка-ушанка где-то на затылке, в отлете. Потный, оцарапанный лоб. Прозрачно-голубые дерзкие глаза с красными алкогольными прожилками. Круглое молодое лицо со злыми небритыми скулами и мокрыми губами. Расстегнутый грязно-серый кожух с висящей на последней нитке верхней пуговицей. Большие обветренные руки сжали деревянные колодки и, опираясь на них, подняли обрубок тела с прикрученной к культям деревянной платформой на стальных колесиках. И глубокий, как на холстах Рембрандта, черно-багровый фон, из которого, как из прошлого, вылетает вперед этот дикий безногий варвар с мокрыми губами. «Россия» – назвал картину художник.
Было в этой нищей и захламленной мастерской еще несколько неоконченных работ – Троица, Георгий Победоносец и другие русские святые, – но эта, самая большая картина, натянутая на подрамник и тоже не законченная, стояла в центре. От прямого закатного солнца, уходящего за мост Джорджа Вашингтона, холст укрывала тяжелая и пыльная оконная штора. Рядом стоял мольберт с красками и кистями, на полу – множество банок с кистями. С потолка свисала на шнуре большая пыльная лампа без абажура. Второе, восточное, окно квартиры выходило на Бродвей в районе Сто восьмидесятых улиц. На этом окне стоял квадратный вентилятор и с шумом гнал в комнату душный бродвейский воздух, гудки машин, вой полицейских сирен, крики пуэрториканской пацанвы, сорвавшей водопроводный кран, и оглушительный ритм ударника, летящий из динамиков открытой машины. За рулем этой машины, застрявшей у светофора, в такт ударнику дергался черный гигант, а банда мальчишек мыла стекла его «бьюика» мыльной пеной.
– Конечно, я пробовал стать американцем! Пробовал!.. – Полуголый, в одних шортах, я выплеснул из бутылки остатки дешевой водки «Попов» в два стакана, внимательно посмотрел, поровну ли, и понес стакан Максиму, у которого теперь жил. Максим – бородатый сорокалетний русак со спокойными карими глазами на широком, как у татарина, лице – голяком сидел в темной глубине комнаты на брошенном у стены матраце. Когда-то, в нашей прошлой жизни, он был заметным московским художником, а теперь живет на вэлфер[3] и все свое время делит между пением в русском церковном хоре и этим мольбертом. Сейчас на полу перед ним стояла большая кастрюля. Полуобняв ее волосатыми ногами, он ложкой доставал из кастрюли перловый суп и ел его с хлебом, аккуратно оберегая курчавую черную бороду от хлебных крошек.
– Да, я пробовал стать американцем – писал то, что можно продать, – продолжал я в приступе хмельной откровенности. – И это не стыдно здесь, это не аморально! Но внутренне я не смог измениться. Даже субботние дни – простые еврейские субботы, когда в каждом доме должен быть семейный праздник, – я не смог сделать семейной традицией. И знаешь почему? Я вырос в стране, где религию подменили «моральным кодексом строителя коммунизма». Посмотри на свою «Россию» – это же наш портрет! Это ты, я, даже моя жена! Мы такие сюда приехали – калеки! Моральные инвалиды!
– Господи благослови! – сказал Максим, перекрестился и залпом выпил полстакана теплой водки.
– Лэ хаим! – сказал я и тоже выпил, но закашлялся и заметался по комнате – из одного окна в комнату валил жаркий бродвейский воздух с оглушающим боем ударника, а на втором была тяжелая штора. Кашляя, я выскочил на замусоренную кухню, схватил со столика чашку и сунул ее под водопроводный кран. С глухим выхлопом оттуда вырвалась лишь струя воздуха, выбила из чашки таракана, потом кран заурчал, как пустой желудок, – воды не было. Наверно, это потому, что на улице мальчишки-пуэрториканцы сломали водопроводную колонку и теперь купались в мощном фонтане.
Отшвырнув чашку и все еще надрывно кашляя, я очумело оглядел кухню с отлипающими от стен обоями, подбежал, согнувшись, к холодильнику, распахнул дверцу и сунул голову внутрь – в холодильнике по крайней мере было прохладней. Отдышавшись, я взял морковку с единственной нижней полки холодильника (еще там лежали картошка и лук), вытер эту морковку о шорты и, хрупко надкусив, пошел в «свою», вторую в этой квартире комнату. Здесь, у закрытого и наглухо занавешенного газетами окна, выходящего на пожарную лестницу, стояли самодельные деревянные козлы, на которых лежала комнатная дверь, снятая с петель. А на двери стоял мой компьютер Compaq-Portable. Теперь это был мой письменный стол, или, как говорят в Америке, my desk. Остальные вещи находились на полу, в картонных коробках. И здесь же, на полу, лежал толстый квадрат поролона, на котором я спал. Порывшись в коробках и спьяну расшвыряв свои, в пестрых обложках, книги, я извлек со дна одной из коробок пачку старых фотографий и пошел к Максиму.
Он по-прежнему молча ел перловый суп с хлебом.
– Вот! – Я показал ему старую, двадцатилетней давности, черно-белую фотографию. На ней я стоял в обнимку с молодыми и смеющимися женщиной и мужчиной. – Видишь эту пару? Они жили на Урале. Михаил был режиссером телевидения, зарабатывал сто шестьдесят в месяц. А это его жена Лариса. Она работала где-то за шестьдесят рублей в месяц. Короче, нищая жизнь в промороженном сибирском городе – в магазинах годами ни мяса, ни овощей. Когда я прилетал туда из Москвы, я привозил им мясо в чемодане, и это было для них праздником! И однажды я видел, как Михаил пришел с работы. Он шел с автобусной остановки десять кварталов по жуткому морозу, но когда вошел в квартиру, Лариса уже ждала его с тазом горячей воды. Она встала перед ним на колени, сняла с него промороженные ботинки и стала греть ему ноги в этой воде. При мне. Эту сцену я никогда не забуду, и ты, кстати, можешь ее нарисовать! Называется «Возвращение мужа с работы, или Секрет семейного счастья». – Я усмехнулся, но тут же пьяно махнул рукой, досадуя, что отвлекся от главной идеи. – Дело не в этом! А в том, что у Михаила была другая женщина, Елена, и он уже собирался уйти к ней от Ларисы. Но муж Елены написал на него донос в КГБ. Он написал, что Михаил – диссидент, сионист, слушает «Голос Америки», ведет антисоветские разговоры и так далее. Конечно, частично это было правдой – Михаил слушал «Голоса» и читал самиздат. А кто из нас не читал самиздат и не слушал «Голос Америки»? И вот его вызвали в КГБ и сказали: или говори, с кем из диссидентов связан и где берешь Солженицына и другой самиздат, или мы скажем твоей жене, что у тебя есть любовница. И представь себе: когда он отказался давать показания, они действительно пришли к Ларисе, показали ей фото той женщины – Елены. Но Лариса выгнала их из квартиры! Гэбэшников спустила с лестницы, представляешь! И они с Михаилом остались вместе – он расстался с Еленой и остался с Ларисой. И если бы я делал фильм о секрете семейного счастья, я бы, конечно, взял у нее интервью…
– Нам с тобой жены не будут ноги мыть. Ни тебе, ни мне, – сурово сказал Максим.
Я хотел выяснить, почему он так думает, но в эту минуту за моей спиной прозвучал телефонный звонок. Я откинулся на матраце, разгреб рукой груду одежды – джинсы, мятые рубашки, носки – и наконец извлек оттуда трубку дребезжащего телефона.
– Алло?
– Mister Plotkin? – раздался в трубке вкрадчивый голос.
– Да, это я.
– Добрый вечер. Это Ниоси Йосито из журнала «Токио ридерз дайджест». Вы помните меня?
– О, yes, yes! – воскликнул я с преувеличенным энтузиазмом. Год назад этот Йосито дважды брал у меня интервью, и оба раза «Токио ридерз дайджест» заплатил мне совсем неплохо – по пятьсот долларов. За такие деньги я готов помнить даже японские фамилии. – Конечно, помню! Как поживаете?
– Хорошо, спасибо. Вас нелегко было отыскать… – Вкрадчивый голос выдержал паузу, предоставляя мне возможность объяснить мой переезд из богатого пригорода Бостона на нищую окраину Нью-Йорка. – Н-да, – сказал голос после паузы. – Наш журнал хочет предложить вам поехать в Москву в составе международной делегации журналистов…
– Куда??? – изумился я.
– В Москву. Наш журнал оплатит всю вашу поездку, а вы напишете нам рассказ об этом путешествии.
– Вы шутите? Я автор «Гэбэшных псов»! Они никогда не дадут мне въездную визу! А если и дадут, то для того, чтобы КГБ арестовало меня, как только я приземлюсь в Москве!
– Ну, это не обязательно… – мягко сказал голос. – Они утверждают, что у них там гласность и горбачевская перестройка. И наш журнал хочет проверить, насколько это соответствует действительности… – Вкрадчивый японец знал английский не намного лучше меня и поэтому говорил старательно и медленно. – Мы будем платить вам пятьсот долларов за тысячу слов, и вы сможете написать нам очерк до десяти тысяч слов. Ну, как?
Мерзавцы, мысленно восхитился я и снова закрыл трубку рукой, поскольку из туалета донесся шум спускаемой воды. «Автор «Гэбэшных псов» в Москве!» – неплохой заголовок для богатого японского журнала, и ради этого я должен на своей шкуре проверить, реальная ли в СССР гласность. Гэбэшники могут уколоть меня зонтиком, как они отравили болгарского диссидента Георгия Маркова, могут убить, как двух сотрудников радиостанции «Свобода» в Мюнхене. Могут столкнуть под поезд в метро, или подсыпать яд в ресторане, или просто поломать мне ребра в якобы случайной уличной драке с хулиганами. И все это – за пять тысяч долларов! Но с другой стороны, пять тысяч – это алименты за три месяца, это три месяца свободы!..
– Mister Plotkin? – напомнил о себе японец в телефонной трубке.
– Извините, я не могу поехать, – сказал я, почему-то разом охрипнув.
– Что ж… Конечно, мы не будем настаивать. Но и вам не нужно спешить с окончательным ответом. Если вы передумаете, то наш офис помещается теперь в Рокфеллер-центре. Мой телефон 678-91-02. Спокойной ночи.
Я положил трубку и сел на пол перед картиной своего приятеля.
Россия – хмельной безногий варвар в заломленной на затылок шапке – летела на меня из подрамника. У нее было мучительно знакомое лицо. И вдруг я вспомнил, на кого похож этот краснорожий калека. На Алешу, вот на кого! На улыбчивого мерзавца Алешу, русского таможенника, который…
Поздним вечером в Вене, в крошечной, как пенал, комнате дешевого отеля «Цум туркен», я взглянул на себя в зеркало и замер от изумления: поперек моей левой щеки легла глубокая, как у старика, морщина. Как шрам. Как окоп. А еще утром в Москве, когда я брился перед отъездом, у меня были гладкие щеки.
«Цена эмиграции – шрам эмиграции», – подумал я и даже записал фразу в дневник. Мол, в этот день неизгладимый шрам лег поперек моей щеки и поперек биографии. И виновата в этой отметине шереметьевская таможня…
– Эй, вы! Как вас там? Фельдман? Идите к четвертой стойке, вас там будут досматривать!
Сутулая старушка Фельдман, вытягивая, как черепаха, тонкую шею из узких плеч, волоком потащила к таможенной стойке два тяжелых фибровых чемодана. Но когда дотащилась, веселый таможенник в сером кителе крикнул через зал своему коллеге:
– Алеша, я занят, возьми ее себе! Идите к первой стойке, Фельдман! Живей, живей!
Старуха Фельдман снова впряглась в свои чемоданы, но у нее уже не было сил сдвинуть их с места. А из-за каната, перегородившего вход в таможенный зал, из толпы провожающих растрепанная женщина кричала:
– Мама, брось эти чемоданы! Брось! Пустите, я помогу ей!
– Провожающим в зал нельзя, – встала на ее пути грудастая дежурная в таможенной форме: кителе, юбке и хромовых офицерских сапожках.
Наконец старуха сдвинула с места один чемодан и, напрягаясь, толчками покатила его к первой стойке. Там работал таможенник, которого почему-то боялись все эмигранты, хотя называли его только по имени – Алеша. Он был русоголов, голубоглаз, с юношеским пушком на розовых щеках – просто царевич из русских сказок. Сейчас перед этим Алешей лежала груда детской одежды и распахнутый саквояж, а сбоку, в нескольких шагах, на другом столе – еще один распахнутый чемодан, и над ним стояла женщина-инспектор – тоже молоденькая, не старше двадцати трех. Вдвоем они вели досмотр ручного багажа веснушчатой тридцатилетней шатенки в потертой рыжей куртке и стоптанных сапогах. К ногам шатенки жалась худенькая пятилетняя девочка в расстегнутой кроличьей шубке, она держала в руках облупленный черный футляр скрипки-четвертушки, а из рукавов ее шубки почти до пола свисали красные рукавички на резинке.
– Идите сюда! – властно позвал шатенку Алеша, вынимая из ее саквояжа очередной пакет. – Это что у вас?
– Это лекарство для ребенка.
– Лекарства вывозить нельзя.
– Идите сюда! – тут же, без паузы, включилась таможенница за вторым столом, вынимая из чемодана коробку со стиральным порошком. – Это что?
– Это стиральный порошок, вы же видите.
– Стиральный порошок нельзя вывозить в фабричной упаковке. Пересыпьте в полиэтиленовый пакет…
– Но где я тут возьму полиэтиленовый пакет?
– Это нас не касается.
– Идите сюда! – опять позвал Алеша. – Быстрей! Это что? – И скосил глаза на старуху Фельдман, которая пошла за вторым чемоданом.
– Это бутерброды, для ребенка, – сказала шатенка и показала на дочку.
– Никакие продукты вывозить нельзя.
– Но это же для ребенка!
– Вам же сказано: никаких продуктов. А это что?
– Это кофейная чашка, треснувшая, осталась от мамы…
– Это предмет старины. Где разрешение Министерства культуры на вывоз? Вы! – Алеша повернулся к старухе, которая подтащила к его стойке второй чемодан. – Идите к третьей стойке, мы тут заняты!
– Но… меня… сюда… послали… – негромко сказала старуха, хватая, как рыба, воздух узкими сухими губами. Ее редкие седые волосы прилипли к потному лбу, и нос был в росинках пота, а норковый воротник темно-синего пальто уже наполовину оторван.
Однако Алеша не смотрел на нее, вдвоем с молодой таможенницей они все убыстряли темп, гоняя эту шатенку туда-сюда, им доставляло удовольствие гонять этих жидов все быстрей и быстрей – до пота.
– Идите сюда! Что это за картины!
– Это детские рисунки, вы же видите…
– А где разрешение на вывоз?
– Какое разрешение? Это она рисовала, дочка!
– Без разрешения Министерства культуры никакие рисунки вывозить нельзя!
– Эй! Сюда! А где разрешение на вывоз скрипки? Ага, вижу. Откройте футляр! А где фотография смычка? Разве это тот смычок, что на фотографии? А пошлину вы уплатили?
– Сюда! Идите сюда! Это что за фотографии?
– Это семейные, – уже мертвым голосом ответила загнанная шатенка.
– Столько фотографий вывозить нельзя, возьмите только половину…
И такая же игра идет между третьей и четвертой стойкой, только здесь у таможенников добыча покрупнее – пожилая пара в дубленках. Их багаж – не стиральный порошок и не детская скрипка, а сияющий перламутром аккордеон «Вельтмастер» и в чемоданах – сервиз, нитки с янтарем, льняные простыни, дорогое нижнее белье, куклы-матрешки, добротная одежда, несколько абстрактных картин. Таможенный инспектор не спеша извлекает из чемоданов каждую вещь, прощупывает швы в одежде, в нижнем белье и говорит:
– За вывоз аккордеона вы должны заплатить пошлину – его полную стоимость.
– Но ведь мы купили его в магазине, вот квитанция.
– Вы купили, чтобы пользоваться здесь. А если вывозите – платите пошлину. Это что за картины?
– Это мои, вот моя подпись.
– А где разрешение на вывоз и квитанция об уплате пошлины?
– Но это я сама рисовала! Сама!
– Картины мы не пропускаем.
– Подождите! Позвольте вам сказать! Эти картины не брали ни на одну выставку, потому что это абстракция. Мне говорили, что это антихудожественно, никому не нужно. Почему же теперь я должна платить вам за свои работы?
– Или вы оставляете картины, или вы не летите. А что это? Серебро?
– Вилки…
– Ага, серебряная посуда. Будем оформлять акт за попытку провоза контрабанды.
– Какой контрабанды? Эти вилки лежат открыто, я ничего не прячу! Каждый имеет право вывезти до двухсот граммов серебряной посуды!
– Здесь не двести граммов, а все полкило! Сейчас мы взвесим.
– Но нас же трое! Я, муж и мать! Вот она сидит…
– Это лежало в одном чемодане! Или вы оставляете серебро, или мы снимаем вас с рейса за провоз контрабанды! А вы, Фельдман, я же вам русским языком сказал: идите к первой стойке! И отрежьте норку от пальто, норку мы не пропускаем!
– Я… уже… не могу… – без голоса шепчет старуха Фельдман и мертво оседает на свой свалившийся набок чемодан.
Тут, прорвав заграждение, к ней подбегает растрепанная дочка, подхватывает под мышки.
– Мама!..
– Патруль! – зовет грудастая дежурная, мимо которой прорвалась дочка старухи. – Выведите ее!
– Но я только помочь! Она же не может таскать эти чемоданы! – пробует объяснить женщина двум солдатам с автоматами.
– Не может – пусть не летит. Освободите таможенный зал!
А рядом, за веревочным барьером, отгораживающим эту часть таможенного зала от всего остального мира, движется на регистрацию билетов поток иностранных туристов. Немцы, французы, американцы, арабы, турки, шведы, канадцы – лучась инеем меховых шуб, цокая каблучками итальянской обуви, увешанные японской фотоаппаратурой и русскими сувенирами, сотни иностранцев катят на тележках свой багаж мимо любезных за теми стойками таможенников, кассиров, пограничников: «Пардон… Силь ву пле… Пер фаворе… Мерси боку…»
Мир разгорожен только этой веревкой, но чистые, вымытые иностранцы с непроницаемыми лицами отводят глаза, когда натыкаются взглядом на этот другой мир, где дотошные таможенники потрошат чемоданы у потных и дурно пахнущих людей. Иностранцы считают, что власти не станут просто так, без причины, проверять невинных людей. Право, если их проверяют – значит, они drug-smagglers [перевозчики наркотиков] или кто-нибудь в этом роде, ведь во всех аэропортах мира именно такую грязную публику чаще всего и проверяют на наркотики…
Я стоял перед канатом в плотной еврейской толпе, вторые сутки ожидая своей очереди на досмотр багажа. Все эмигранты знали, что таможенники нарочно тянут время, чтобы последний десяток пассажиров-эмигрантов оказался в цейтноте: самолет вот-вот улетит, а вещи еще не проверены, и остаться нельзя – все билеты на Вену проданы на месяцы вперед, квартира сдана, паспорт и советское гражданство тоже, и вы уже не имеете права находиться в СССР после отлета этого рейса – мосты сожжены!
Оказавшись в таком цейтноте, люди бросают таможенникам свой багаж и улетают. С пустыми руками.
А чтобы избежать этого, эмигранты приезжают в шереметьевский аэропорт за двое, а то и за трое суток до вылета и живут здесь в очереди – спят на своих чемоданах, едят на них же, нервничают, обмениваются информацией об очередных кознях таможни и ждут, когда утром в 8.00 появится очередной «товарищ таможенный инспектор» и объявит надменно:
– Ну, кто тут на Израиль?
Таможенникам нравится произносить это слово с ударением на конце – так им кажется презрительней.
Но меня не утомляло стояние в этой круглосуточной очереди. Наоборот, как киношник, я видел, что на меня буквально со всех сторон прет новый, яркий, почти фронтовой материал: эти взмыленные эмигранты, остервеневшие в боях с ОВИРом, жэками, отделами кадров, Министерством культуры и таможнями, навьюченные детьми, родителями и вещами. Эти чистенькие, как с другой планеты, иностранцы. Эти молодые веселые мародеры-таможенники и их прихвостни – небритые мордастые грузчики, которые вьются меж эмигрантов, нашептывая сомнительные предложения пронести в самолет что угодно или «договориться» с таможенным инспектором, чтобы он не открывал ваш чемодан.
И – разговоры, разговоры:
– Сейчас они отправят эту женщину на гинекологический осмотр! Вот увидите! За то, что ее муж не подписывает акт про контрабанду серебряных вилок. Позавчера было то же самое, я сам видел. Только не из-за вилок, а из-за ложек, и они тоже прицепились – «контрабанда». А женщина говорит мужу: «Слушай, мы оставили им квартиру, машину, деньги в банке и мебель. Так брось им эти ложки, пусть они подавятся!» И что вы думаете? Они ее за это отправили на гинекологический осмотр. И заставили сидеть в гинекологическом кресле до отлета самолета! Фашисты!
– А вы знаете, что делают на ленинградской таможне? У моего брата были краски – обыкновенные краски в тюбиках. Они спрашивают: «Вы художник?» – «Да. Я художник». – «Ага. Хорошо. Где ваша палитра?» – «Вот». И знаете, что сделал таможенник? Он прокалывал каждый тюбик и выжимал краски на палитру. Формально – искал бриллианты, а на самом деле – просто издевался, вы же знаете, что такое найти у нас хорошие краски! Дефицит хуже мяса! Брат все деньги потратил на эти краски, ничего не вез с собой, кроме них, – художник! А этот мерзавец нарочно, как садист, выдавливал каждый тюбик на палитру – все выдавил, без остатка!..
– Ой, вы бы видели, как они издеваются в Одессе! Когда я сдавал грузовой багаж, они отняли у меня ковер – обыкновенный ковер, из магазина, тысячу двести рублей стоит. Тоже сказали – контрабанда. Так я пошел жаловаться начальнику таможни. Я показал ему свои документы – я всю войну прошел капитаном артиллерии, имею два ранения и восемь боевых орденов. И знаете, что он сказал? Он говорит: «Скажите спасибо, что мы только берем с вас штраф за попытку провоза контрабанды!» – «Но при чем тут контрабанда? – говорю. – Я же не прятал этот ковер! Я его сдавал в багаж!» – «Все! – говорит. – Идите!» И знаете, что я ему сказал? Я сказал: «Хорошо! Вы будете иметь мой ковер, но вы будете иметь и мое горе! Бог есть!» И я вам говорю – вон лежит мой сын, он умирает, у него лейкемия, ему каждый час нужно принимать по десять таблеток, а они не пропускают никакие лекарства, я уже ходил к начальнику таможни. Я говорю ему: «Пропустите хоть двадцать таблеток, на два часа до Вены! Иначе парень умрет по дороге!» Знаете, что он ответил? «Не летите!» Вот и все, представляете? «Не летите!» Но я вам скажу: они будут иметь наши ковры и наши ложки, но они будут иметь и наше горе! Очень скоро! Бог есть!..
Я впитывал в себя эти разговоры, лица, детали: мучнистую белизну лба огромного двадцатитрехлетнего сварщика с лейкемией, который лежал на полу, на брезентовых носилках, почему-то босой, но в пальто и с кислородной маской на лице… потерянное черепашье лицо старухи Фельдман… истерические поцелуи взасос шестнадцатилетней еврейской девчонки и семнадцатилетнего русского парнишки, расстававшихся навсегда (казалось, они трахнутся прямо сейчас, стоя, на глазах у родителей и у всего мира)… красные варежки, свисавшие из рукавов кроличьей шубки девочки со скрипкой… мембранный, с потолка, голос объявлений о посадке в самолеты на Токио, Монреаль, Париж, Прагу, Хельсинки… хрипло орущего, потного грудного ребенка и над ним – огромную бледно-синюю женскую грудь, которую толстая жена умирающего одесского сварщика поминутно мяла и совала ребенку в рот… бесконечные маятниковые раскачивания взад-вперед старика с пейсами и в ермолке, приехавшего в Шереметьево из Бухары еще неделю назад… бутерброды с красной икрой и шампанское у какой-то шумной, пьяной компании провожающих… красивую бледную брюнетку с большими черными бездонными, как ствол гаубицы, глазами, багаж которой потрошат теперь таможенники, высоко поднимая над ее чемоданом какие-то платья, кофточки, туфли и колготки…
Я, тоже потный под свитером и курткой, небритый после бессонной ночи, жевал вчерашний бутерброд и ногами продвигал к таможне свой чемодан, рюкзак и пишущую машинку. И вертел головой из стороны в сторону, панически боясь, что забуду массу примет этого всеобщего остервенения последних, прощальных дней. А записать нельзя: таможенники проверяют даже телефонные книжки и уничтожают все рукописи, записи, письма. И я мысленно надиктовывал впрок своей памяти все, что видел. Фильм, новый фильм, который я тут же назвал «Еврейская дорога», родился во мне, и теперь я нянчил его в душе, как новорожденного ребенка, и ликовал от своего замысла. Если записать все, что творится сейчас и случится потом с тремя дюжинами эмигрантских семей по дороге Москва – Вена – Рим – США и Москва – Вена – Израиль, если записать все до мелочей – и разбитые надвое семьи, и мимолетные дорожные романы, и мародерство таможенников, и встречу с новым миром, – это же кинороман, это еврейские «Унесенные ветром», «Доктор Живаго», «Блуждающие звезды»!..
И все, что я сделал в кино до этого, даже мой последний фильм, арестованный КГБ и запрещенный цензурой, – все показалось мне мелким и малозначительным. Здесь, в потной, орущей очереди эмигрантов, я вдруг почувствовал, что «Еврейская дорога» – это моя миссия! Само Провидение бросило меня сюда с пишущей машинкой, чтобы я поплыл с потоком эмигрантов, стал хроникером этого потока, а потом снял эту еврейскую киноэпопею с достоверностью исторического документа. И теперь я взмывал душой над толпой, чтобы все увидеть, ничего не забыть.
– Слушайте, почему, уезжая, мы, каждый – даже эта девочка со скрипкой! даже этот ребенок с соской во рту! – должны платить им по пятьсот рублей за потерю советского гражданства? Они лишают нас гражданства, и мы же должны им за это платить?!.
А ведь и правда, подумал я. Они уже отпустили нас, уже не властны над нашими жизнями и душами, но, как собака хватает за штанину и дергает и рвет, так и это государство и каждый его чиновник пытаются – с матерным лаем и хамством – вырвать из нас на прощанье еще что-нибудь: золотые запонки, вилки, смычок от детской скрипки и даже стиральный порошок!..
– Мужчина! Вы собираетесь лететь, или вы передумали?
Я очнулся от диктовки – черт возьми, оказывается, подошла моя очередь! Забросив на спину брезентовый рюкзак, я потащил в таможенный зал свой чемодан и машинку.
– К первой стойке! – приказала грудастая дежурная.
Но у первой стойки инспектор Алеша, уже закончив досмотр багажа бывшего капитана артиллерии, вдруг сказал ему:
– А ну-ка снимите пальто с вашего сына!
– Да вы что? – испугался отец умирающего. – Он же на полу лежит, его продует!
– Я должен проверить его пальто, иначе не полетите, – отрезал Алеша и приказал мне: – А вы идите к четвертой стойке, я занят.
«Так, – подумал я, – теперь они возьмутся за меня!»
Я сбросил со спины рюкзак и, оставив вещи посреди зала, пошел к четвертой стойке. Там, напротив высокой стройной брюнетки с тонким лицом и огромными черными глазами-гаубицами, стояли сам начальник таможни майор Золотарев – худощавый альбинос с заячьим профилем – и еще два таможенных инспектора в погонах лейтенантов. Перед ними на широком таможенном столе, рядом с выпотрошенными чемоданами, были разложены какие-то рекламные плакаты, театральные афиши и программки. И с каждой афиши смотрели огромные глаза этой молодой брюнетки, и тут меня что-то толкнуло: Господи! Да это же… Как ее? Актриса из Минска… Я видел ее в спектакле «Любовь одна» и в «Царской милости»!
– Та-ак… Значит, вы и есть Лиза Строева, – говорил актрисе начальник таможни, держа в руках зеленый листок ее выездной визы с чернильными печатями ОВИРа и австрийского посольства. – Ну-ну… Значит, у нас играла русских цариц, а сама, значит, Лиза Соломоновна. А? Как же так? – И он требовательно посмотрел на побледневшую актрису, словно уличил ее в провозе контрабанды.
– Последние триста лет русскими царями были немцы, – вдруг вырвалась у меня.
У майора зарозовели белые и по-заячьи пухлые щечки, он посмотрел на меня прозрачно-синими глазами и бросил сквозь острые зубки:
– Пшел вон!
И столько властного презрения было в этом даже не «пошел!», а именно «пшел!», что меня словно дерьмом облили.
Впрочем, я и сам уже испугался своей выходки и сказал:
– Я, собственно, хотел…
– Вон!!! – гаркнул майор.
Я пожал плечами и отошел к своим вещам, стараясь не оборачиваться на красивую актрису. Но и спиной почувствовал, как майор провожает меня тяжелым, цепким взглядом. Я понял, что теперь проверкой моего багажа займутся всерьез. Но что с меня взять? Я не везу с собой даже афиш своих фильмов. Если они не разрешают вывозить фильмы, то какой смысл везти афиши, да еще русские! И пока Алеша брезгливо извлекал из моего рюкзака старую брезентовую куртку на меховой подкладке, туристический спальный мешок, стоптанные альпинистские бутсы, высокие эскимосские сапоги из оленьей шкуры – «кисы», трехногий стальной стульчик из моржовых костей и прочие заполярные сувениры моей последней киноэкспедиции, я, уже чтобы самому себе доказать, что их не боюсь, открыто наблюдал, как у соседнего стола они проверяют второй чемодан актрисы. Теперь таможенник вынимал нижнее белье, трусы, ночные рубашки, бюстгальтеры и спрашивал с явной издевкой:
– А это что?
– Трусики… – беззвучно отвечала актриса.
– Так… – Таможенник тщательно прощупал каждый шов в этих белых трикотажных трусиках, затем сложил свои пальцы – большой и указательный – в колечко и медленно, словно сквозь удушающую петлю, пропустил через него ночную сорочку актрисы. Затем стал прощупывать утолщения в новоизвлеченном бюстгальтере. – А это что?
– Лифчик…
– Что-что? Не слышу. Громче!
– Бюстгальтер… – По щекам актрисы покатились черные от туши слезы. Я проследил за ее взглядом и понял, почему она плачет: по ту сторону каната стояла очередь идущих на посадку иностранцев, и они, эти иностранцы, во все глаза зырились на ее нижнее белье – нижнее белье советского производства.
– Откройте машинку, – приказал мне таможенник Алеша.
Я открыл футляр пишущей машинки.
Алеша пробежал пальцами по клавишам, вздымая рычажки букв, потом взял рукой один из рычажков и с силой надломил его. Рычажок хрустнул пополам.
– Что вы делаете??? – вскрикнул я.
Алеша хладнокровно поднес обломок рычажка к глазам и улыбнулся:
– Я думал, что рычажки золотые. От вас можно всего ожидать.
Он бросил сломанную букву в футляр машинки и надломил еще одну, испытующе глядя мне в глаза. То, что я мучительно вздрогнул от хруста рычажка, словно это не машинке, а мне самому выламывали пальцы, показалось Алеше подозрительным. Он достал из ящика стола напильник и поскреб надлом рычажка, всем своим видом показывая, что ищет золото. Потом, снова глядя мне в глаза, сломал еще одну букву…
Но я уже не вздрагивал. Машинка, на которой я собирался писать сценарий своей киноэпопеи, умирала на моих глазах, превращаясь в кусок железа. Конечно, я и до этого знал, что они варвары и фашисты, но чтобы до такой степени?!.
Сломав еще пару букв, Алеша усмехнулся:
– Можете закрыть футляр. – И показал на оленьи сапоги. – А это что?
Однако теперь я молчал. Слепо, трясущимися руками я закрывал футляр убитой машинки.
– Эти сапоги – предмет национальной культуры, – сказал Алеша про оленьи «кисы». – У вас есть разрешение на вывоз?
– Нет. Можете взять себе.
Алеша сунул руку в «кисы» и скривился от запаха слежавшейся оленины.
– Ладно, это можете везти, – сказал он брезгливо. – А это что?
– Стул.
– Я вижу. Из моржовой кости? Обработанную моржовую кость вывозить нельзя.
– Это необработанная.
– Кому вы врете? Смотрите, какая полировка!
– Эта полировка натуральная – это кости моржовых пенисов, – сказал я. И не удержавшись, добавил с издевкой: – У нас с вами в пенисах нет костей, а у моржей есть, потому что им приходится сношаться в Ледовитом океане.
Алеша оторопело посмотрел на меня, потом на стульчик. Ножками этого стульчика служили три полуметровые кости толщиной в человеческую руку и с лукообразными утолщениями на концах. На губах Алеши заиграла грязная улыбка, глаза жадно оживились, но он тут же согнал это с лица, сказал:
– Порнографию мы на Запад не пропускаем, – и решительно отложил стульчик в сторону. – Эй, вы куда?
Но я не обернулся. С демонстративным спокойствием я уже шел от Алешиного стола к актрисе, которая, кое-как затолкав свои вещи в чемоданы, пыталась дотащить их в другой конец зала, к весовой стойке. Там принимали ручную кладь. Однако сил у нее оставалось не больше, чем у старухи Фельдман, ее щеки были в разводах от слез и поплывшей косметики.
– Разрешите помочь вам, – сказал я и, не дожидаясь ответа, взял из ее тонких белых рук чемоданы и потащил их к весовой стойке.
Затылком я чувствовал, как она удивленно смотрит на меня гаубицами своих огромных глаз.
– Эй, вы! – крикнул мне в спину Алеша. – Вернитесь к вашему багажу!..
6
Теперь я каждое утро бегал делать зарядку под мост Джорджа Вашингтона. По крутому спуску к Гудзону с битым стеклом на грязной бетонной дорожке Сто восьмидесятой улицы – мимо угнанных, разворованных и дотла сожженных автомобилей, каждый день других. Затем – по стальному ржавому виадуку над Риверсайд-драйв. Потом – по щербатой лестнице, поросшей пыльной травой. Далее – по гулкому каменистому туннелю под Генри-Гудзон-Парк-вэй, в этом туннеле на кусках картона почти всегда валялся черный заспанный бродяга с расстегнутой ширинкой и громадным черным членом наружу. После этого туннеля – еще одна каменная лестница, и – наконец! – я попадаю в зеленый парк вдоль Гудзона, к опорным колоннам гигантского моста Джорджа Вашингтона.
Здесь царит идиллия. На кортах, разгороженных металлическими сетками, мужчины в белых шортах играют в теннис – их стремительные ракетки отсвечивают на солнце, как шпаги. За кортом в росистой траве змеится беговая дорожка, по ней, громко дыша, бегут высокие потные атлеты с цветными повязками на лбу. За дорожкой, в аллее, под широкими кронами деревьев, молоденькие няни-бэбиситерши выгуливают черных и белых детишек и пьют воду из каменного фонтанчика. Рядом, на бейсбольной площадке, какой-то молодой отец учит сына отбивать мяч тяжелой для малыша битой.
А снизу, с юга, из тонущего в летнем мареве Манхэттена, медленно плывет по слепящему берегу Гудзона баржа, нафаршированная новенькими разноцветными автомобилями. Над баржей в ожидании еды летят тяжелые, как гуси, гудзонские чайки, но, когда баржа приближается к мосту Вашингтона, чайки отваливают в сторону, к нью-джерсинскому берегу. Гигантский, как Асуанская плотина, мост вздымается из воды стометровыми стальными опорами и ажурно, как космическая гусеница, змеится на этих опорах от берега до берега, наполняя воздух мощным гулом сотен машин, катящих по открытым жилам его ребристого туловища.
Утреннее невысокое солнце, слепящая зыбь воды, постоянный рокот машин и дрожь резонирующих стальных опор создают впечатление, что мост живет, пульсирует, извивается и плывет.
В тени береговой опоры, на росистой зеленой лужайке, почти всегда торчит полицейская машина с распахнутыми дверцами. Два здоровенных полицейских, лениво развалясь на передних сиденьях, жуют сандвичи, пьют кофе из термоса и наблюдают, как я, стервенея от собственной слабости, отжимаюсь от земли на своих муравьиных руках, бегаю, приседаю, выжимаю булыжники и, расставив скобкой ноги, с гортанным криком выбрасываю вперед руку как бы с клинком – отрабатываю приемы дзюдо. Когда-то, тридцать лет назад, меня обучали этим приемам в Советской Армии, и теперь, готовя себя к встрече с московским КГБ, я пытаюсь вспомнить все, что может защитить, если она состоится. Особенно – как локтем бить под дых, если тебя схватили сзади…
О, конечно, я согласился с предложением «Токио ридерз дайджест» поехать в Россию. Но, Боже мой, как я боюсь этой поездки! По ночам мне снятся допросы на Лубянке и камеры лефортовской тюрьмы, в которых сидели Матиас Руст и Николас Данилофф. Снятся отравленные зонтики и архивы московского КГБ, в которых лежат «Гэбэшные псы», «Кремлевские лисы», «Атака на Швецию» и другие мои антисоветские книги, изданные на двенадцати языках.
Но чем страшнее по ночам, тем яростнее я отжимаюсь по утрам на набережной Гудзона и тем подозрительнее смотрят на меня полицейские. Может быть, своими ожесточенными тренировками я напоминаю им Ли Освальда или героя фильма «Taxi driver», который в течение всего фильма тренировался, чтобы убить президента.
Но мне плевать на этих ментов. Япония, страна восходящей Иены, скупающая за миллионы долларов картины Ван Гога, Гогена, Пикассо и т. д., назвала мою сегодняшнюю цену – пять тысяч долларов. Дешевле шемякинского эстампа, дешевле самой дешевой корейской машины. Пять тысяч за Вадима Плоткина, автора бывших бестселлеров «Гэбэшные псы» и «Кремлевские лисы»! Пять тысяч – раз! Пять тысяч – два! The call, леди и джентльмены? Кто больше? Никто! Запад дал мне последнюю цену – пять тысяч долларов! Еб… мать! Пять тысяч – моя красная цена в базарный день!
Ладно! Я возьму эти деньги. Возьму. Но поеду в Россию вовсе не за ними. О нет! Где-то там, под Москвой, на пыльных полках Госфильмофонда в поселке Белые столбы, или на темных складах рязанской кинокопировальной фабрики, или в запасниках Министерства кинематографии лежит моя последняя козырная карта – мой фильм «Зима бесконечна». Я найду его! И как знаменитый теперь на Западе «Комиссар» вытащил из небытия Витю Аскольдова, так моя «Зима» вернет меня на орбиту жизни. Этого «Комиссара» гэбэшники арестовали 20 лет назад, а режиссера Аскольдова выбросили из кино, и он все 20 лет проработал администратором какой-то филармонии. Год назад гласность сняла запрет с десятков фильмов, и теперь Аскольдов ездит со своим «Комиссаром» по всем международным кинофестивалям, собирая призы и лавровые венки.
И если Аскольдов раскопал свой фильм двадцатилетней давности, неужели я не найду свой – арестованный всего одиннадцать лет назад? Может быть, именно сейчас, в этот момент, когда я отжимаюсь тут под взглядами нью-йоркских ментов, там, в Москве, на Лубянке какой-нибудь гэбэшник как раз смотрит этот фильм.
Почему бы и нет? Ведь они уже получили из Вашингтона запрос на визы для делегации американских журналистов, они уже наткнулись в этом списке на твою фамилию, затребовали из своего архивного отдела твое личное дело и с интересом читают твою первую публикацию на Западе.
…Но вот наконец вся советская власть осталась внизу, на первом этаже шереметьевского аэровокзала, за границей паспортного контроля. А здесь, на втором этаже, импортной чистотой сияют паркетные полы и стеклянные стены, импортно растут цветы и пальмы в просторных кадках, импортно, без суеты, прогуливаются чистенькие иностранцы и с импортной вежливостью их обслуживают русские сувенирные магазины. И все это должно помочь почувствовать смятому и минуту назад ограбленному эмигранту, что он уже почти за границей. Но он озирается, еще не веря своей удаче. Он боится шагнуть по натертым до зеркального блеска полам, он с опаской, на краешек, садится в эти мягкие кресла, он осторожно делает первый глубокий вдох и ждет объявления посадки в свой самолет.
А рядом – балкон или, точнее, широкая балюстрада, нависающая над первым этажом вокзала. О, этот знаменитый балкон, о нем даже песни написаны! Потому что отсюда пассажиры могут последний раз махнуть рукой своим провожающим, остающимся внизу, в Советском Союзе. Можно даже крикнуть «Прощайте!», «До свидания!» или даже «В будущем году в Иерусалиме!» Правда, сегодня этот балкон почему-то огорожен канатом, а перед ним стоят два солдата-пограничника с автоматами на груди…
Измочаленная таможенным досмотром шатенка в рыжей куртке из кожзаменителя берет за руку свою пятилетнюю дочку и направляется к балкону. Но молодой пограничник преграждает им дорогу.
– Стоп! Туда нельзя!
– Почему? – округляет глаза шатенка. – Ведь недавно было можно.
– А теперь нельзя! – И второй солдат подходит к первому, и они становятся рядом, с автоматами на груди, словно готовясь отразить вооруженную атаку.
Шатенка смотрит в глаза этим восемнадцатилетним русским парням и говорит просительно:
– Ну, ребята! Пожалуйста, пропустите!.. Ну, хорошо, я не пойду туда, но разрешите моей дочке, у нее там внизу стоит отец. Пусть она ему хоть рукой помашет! Ася, – и шатенка наклоняется к дочке, – попроси дядю, чтобы он пустил тебя сказать папе «до свидания».
И девочка – не по годам серьезный ребенок – говорит этим солдатам:
– Дяди, пожалуйста, пропустите меня. У меня там папа. Он русский, он не едет в Израиль.
И я вижу, что эти ребята колеблются под просящим взглядом ребенка и даже делают какое-то движение, собираясь расступиться. Но в этот миг подходит женщина в форме капитана таможенной службы и суровым тоном говорит шатенке:
– А ну отойдите от государственной границы! Не положено тут стоять! Идите отсюда! – И, прямая, уверенная в непререкаемости своего приказа, удаляется с гестаповским стуком хромовых сапожек, подбитых стальными подковками.
Круглое лицо шатенки вдруг заостряется злостью. Быстрыми нервными движениями она открывает футляр детской скрипки, сует эту скрипку своей дочке, повязывает ей на плече крохотную подушечку и говорит с яростью:
– Играй! Сыграй им, Ася! Только громко! Полным звуком! Чтобы твой папа услышал! Он услышит! Он услышит и поймет, что это ты играешь для него! Играй, Ася! Вот смычок!
– А что играть, мама? – Девочка устраивает скрипочку на плече, на подушечке, и опломбированным смычком трогает струнки своей опломбированной скрипки.
– Генделя! Шестую сонату! – нетерпеливо говорит ей мать.
Но девочка вдруг отводит смычок от скрипки:
– Третья струна расстроена, слышишь?
– Не важно! – нервно торопит мать. – Ты играй!
– Нет, я так не могу играть, – говорит ребенок, и видно, что она не капризничает, а просто обучена относиться к музыке профессионально. И только когда ее мать подтянула струну, провела по ней смычком и спросила у дочки: «Так?» – девочка кивнула и заиграла.
– Полнее! – требует мать. – Полнее звук! Громче!
И я вижу торжество на ее лице – она ответила таможне за все унижения!
Звуки детской скрипки заполнили разом зал. Они были такие не по-детски мощные, что, конечно, легко преодолели Государственную границу СССР – никакие солдаты не смогли их остановить. И уже иностранцы стали останавливаться возле шатенки, недоуменно глядя на крохотную девочку, игравшую Генделя, и на двух солдат, возвышающихся над ней с автоматами на груди.
В это время по радио объявили посадку на рейс номер 228 «Москва – Вена». Стоявшая поодаль, у лестницы, группа эмигрантов подхватила свои сумки, детей и старух и поспешила на посадку. Девочка отняла смычок от скрипки, перестала играть, вопросительно посмотрела на мать.
– Играй! – торжествующе сказала шатенка. – Играй, Ася!!!
Но из глубины зала поспешной солдатской походкой уже возвращалась к месту происшествия все та же женщина-капитан. Ее лицо пылало от гнева. Она подошла к шатенке и спросила зажатым голосом, чтобы не слышали иностранцы:
– Это что за концерт?!
– Это не концерт, – громко ответила шатенка. – Это репетиция. У нее режим – она должна каждый день заниматься, сейчас как раз время ее урока.
Они стояли друг против друга: прямая, как штык, женщина, офицер таможенных войск КГБ в сером кителе с натертыми до блеска пуговицами, и сутулая шатенка в рыжей куртке из кожзаменителя и в стоптанных сапогах. И между ними – пятилетняя девочка с маленькой скрипкой на плече и замершим в воздухе смычком. А они, две взрослые женщины, все смотрели друг другу в глаза – долго, упорно, с ненавистью. Несколько иностранцев стояли в стороне и ждали, чем это закончится.
На часах в зале было 12.20, через двадцать минут мы должны были улететь в эмиграцию, это были наши последние минуты на советской земле.
– Это вам объявили посадку? – спросила у шатенки женщина-капитан.
– Да!
– Вот и летите! Там будете концерты давать.
– Да! – победно усмехнулась шатенка. – Там будем концерты давать! Для того и летим.
Женщина-капитан ничего ей не ответила. Она взяла у ребенка скрипку и смычок, осмотрела пломбочки на них. Все было в порядке, не придерешься – маленькие свинцовые пломбочки с печатью Министерства культуры СССР висели на тонких стальных проволоках, обжимая гриф скрипки и смычок, как маленькие кандалы. Капитан положила скрипку и смычок в футляр и ушла, бросив взгляд на иностранцев, стоявших рядом.
«Заканчивается посадка в самолет, следующий рейсом номер двести двадцать восемь по маршруту «Москва – Вена», – снова прозвучало по радио.
Боже, подумал каждый из нас, неужели сейчас мы действительно улетим от всего этого? От проверок, досмотров, запретов и фашистских охранников этого коммунистического рая?
Девочка взяла свою скрипку и пошла с матерью к выходу на посадку. Но здесь был затор. Оказывается, наши испытания еще не кончились. Оказывается, даже здесь, в последнюю минуту уже при выходе на посадку, нас подстерегала еще одна ловушка. Таможенники, стоявшие при арке микроволновой проверки на металл, остановили молодую актрису.
– Стойте! Что у вас на руке?
– Как что? Обыкновенное кольцо. Обручальное.
– Но вы же едете одна!
– Да, я развелась с мужем. Но вывезти кольцо я имею право.
– Нет, это контрабанда.
– Какая контрабанда? Что вы! Нам разрешено иметь при выезде женских украшений не дороже 250 рублей.
– Это кольцо стоит дороже.
– Что вы! Оно стоит 120 рублей.
– У вас есть справка из магазина? Ах, нет справки? Значит, вы не летите. Мы снимаем вас с рейса за провоз контрабанды.
– Но у меня же билет!
– Это нас не касается. Можете оставить кольцо и лететь. Иначе – нет.
Что делать? Что делать людям, когда у них уже отобрали все еще раньше, а самолет в Вену – вот он, за окном, и до отлета всего восемь минут, а эти молодые таможенники смотрят на вас спокойными глазами мародеров? Да подавитесь вы этим кольцом, нате!
И красивая актриса, ломая пальцы и морщась от боли, рвет кольцо с тонкой руки и швыряет им, собираясь идти наконец на посадку.
– Нет! – усмехаются они. – Это не все. Раз вы отдали кольцо, значит, вы признали, что это контрабанда. И в таком случае платите штраф за попытку провоза контрабанды – сто рублей. И спешите, самолет сейчас улетит. А за вами люди стоят…
– Но у меня нет рублей! – отчаянно восклицает актриса. – Откуда? Ведь советские деньги нельзя вывозить!
– Платите долларами. Вы же поменяли на доллары девяносто рублей. Вам дали за них в банке сто тридцать шесть долларов. Вот и платите сто тридцать шесть долларов. И быстрее, мы из-за вас самолет задерживать не будем. Давайте ваши доллары, быстро!
И растерянная актриса какими-то заторможенными, как в ступоре, движениями отдает им последние деньги, а они прячут за щеки свои ухмылки, а в карманы ее кольцо и ее доллары. И если вы не были ярыми антисоветчиками до отлета, то вы станете ими в эти дни, когда это «прекрасное» государство, уже не стесняясь, показывает вам свое истинное лицо мародера.
А часы идут – шесть минут до отлета, пять…
Мы нетерпеливо топчемся у спуска на летное поле, как вдруг на лестнице, ведущей из таможенного зала, появляется странная процессия: два грузчика, сцепив руки замком, несут сидящую на их руках девяностолетнюю старушку, седую и легкую, как одуванчик. Они вносят ее на второй этаж, сажают в кресло, подходят к таможенникам и объясняют, что старуха летит к своим детям в Израиль, но она парализована, вот справка от врача, а вот квитанция об уплате за «сервис» – они отнесут ее прямо в самолет. Конечно, мы все понимаем, что эта старушка заплатила грузчикам бешеные деньги за сервис и они поделятся с таможенниками. Потому те согласно кивают, грузчики возвращаются к старушке, берут на руки и вне очереди, впереди всех нас, несут ее на посадку.
И вот когда мы выходим на летное поле, а потом подъезжаем автобусом к самолету и до трапа остается десять шагов, старушка-одуванчик вдруг властно останавливает своих носильщиков:
– Отпустите меня! Отпустите!
Недоумевая, они приспускают ее к земле, а она вдруг с мучительной натугой разгибает свои тонкие парализованные ножки, становится на них и идет, шатаясь, к самолету. Мы все бросаемся к ней, боясь, что она упадет, кто-то подхватывает ее под локоть, но она отнимает свой старческий локоток и жестко говорит:
– Не надо! Я сама уйду с этой земли!
И сама, поверьте, сама – мы только шли по бокам старухи, – поднялась в самолет по трапу.
Господи, подумал я, какую же силу ты даешь порой этому маленькому народу и какую же ненависть надо было скопить к этому государству, чтобы он мог вот так разогнуть парализованные ноги, встать наконец и уйти с этой земли!..
– He! You are workin hard [Эй ты, надорвешься]!
Отжимаясь от земли, я увидел перед собой шнуровку тупоносых черных ботинок и задрал голову вверх. Надо мной, заслонив солнце, стоял полицейский в отглаженных брюках; на его широком поясе висели пистолетная кобура, резиновая дубинка, коробка с патронами, уоки-токи, стальные наручники и кожаный планшет.
– В чем дело? – спросил я не вставая.
– Встань…
Я встал, краем майки утер пот со лба. Полицейский был выше меня на голову и вдвое шире в плечах.
– Твое гражданство?
– США. А в чем дело?
– Ты живешь в этом районе?
– Да. На Cто восьмидесятой улице. А что?
– Ты видел этого мужика? – Полицейский достал из планшета фоторобот – портрет не то негра, не то испанца.
– No, – сказал я.
– Посмотри внимательно! – приказал он.
– Тут не на что смотреть. Вы даже не знаете, он черный или испанец.
Полицейского это озадачило.
– Откуда ты это знаешь?
– Глянь на эти губы, – сказал. – Это губы черного или испанца?
Полицейский посмотрел на фоторобот.
– Well… – сказал он в затруднении. – Н-да… Кажется, ты прав. Ты кто по профессии?
– Я писатель.
– Писатель? Если ты писатель, чего ты надрываешься, как спортсмен?
– Я собираюсь в командировку в Россию.
– Ясно. У них там столько же преступности, сколько у нас?
– Больше.
– Да ладно! – не поверил полицейский. – Я видел Горбачева по телику. Он замечательный мужик, не так ли?
Я поглядел на полицейского снизу вверх. Ему было лет сорок, у него была красная шея и конопатое лицо огайского фермера, но акцент негритянский – скорее всего от постоянной работы в Гарлеме. Прочесть ему лекцию о России и Горбачеве или не ввязываться в дискуссию? Эти американцы знают о России столько же, сколько я о Тунисе или Индонезии.
– Может быть… – сказал я уклончиво и кивнул на фоторобот, который полицейский уже прятал в планшет. – А кто это?
– Насильник и перевозчик наркотиков. А наркоманы есть в России?
– Конечно. Наркоманы, насильники, грабители, рэкетиры и даже мафия. И плюс – КГБ.
– Так зачем туда ехать в таком случае?
– Я должен.
– Ладно. Желаю удачи. Только будь там осторожен.
– Thanks, – сказал я и побежал домой – через туннель, где валялся черный бродяга с вывалившимся из ширинки членом, по загаженной бетонной дорожке вверх – мимо разворованных и сожженных автомобилей, по Сто восьмидесятой улице, мимо ватаги черных и испанских подростков, которые при красном светофоре стремительно набрасываются на машины и мыльной пеной замазывают стекла еще до того, как водители успевают сказать, нужно ли им мыть машину… Потом, задыхаясь, я взбежал по пыльной лестнице дома, где я жил теперь у Максима, – мимо груды мусорных мешков на каждой лестничной площадке…
Еще не вставив ключ в замочную скважину, я услыхал за дверью телефонный звонок. Никто не снимал трубку – Максим еще с ночи ушел в церковь к утренней службе. Второй звонок, третий. Наверно, это Лиза по поводу денег или у Ханочки простуда. Быстрей!
Наконец я открыл три замка на обшарпанной двери, вбежал в квартиру, огляделся – где же этот f… телефон? С некоторых пор я обнаружил, что стоит мне поговорить даже недолго по-английски, как я мысленно перехожу на английский, и особенно на мат.
Телефон стоял в кухонной раковине. Я схватил трубку.
– Алло!
– Mister Plotkin? – сказал бодрый мужской голос.
– Yes.
– Это Барри Вудстон из Вашингтона, из Международной ассоциации журналистов. Поздравляю! Я был в советском посольстве, хотел получить визы для нашей делегации. И – вы не поверите! – ни одна виза не готова, кроме вашей! Только ваша! Так что готовьтесь! Вполне может случиться, что вы поедете один и будете представлять там всех нас! Ха! Ха! Ха! Вы рады?
– Yes, thank you [Да, спасибо]… – сказал я помертвевшим голосом и сел на стул. Я все понял. Еще ни одному туристу, а тем более русскому эмигранту, советское посольство не давало въездной визы так быстро. Обычно они тянут до последнего дня и даже натуральным американцам дают визу лишь за несколько часов до вылета. А мне – за неделю! Все ясно, они оформили мне визу раньше всех, потому что для КГБ я «the Most Wanted Man» – тот, кого разыскивают. То есть все мои ночные страхи подтвердились! КГБ хочет заполучить меня в СССР, а эти девчонки-секретари в посольстве случайно прокололись и выдали своих боссов. Но как же мне теперь отказаться от поездки? Ведь японцы уже заплатили три тысячи долларов за мой билет и за отель в России. Где я возьму деньги, чтобы вернуть им такую сумму?
– Так что увидимся в аэропорту! – бодро сказал в трубке голос Барри Вудстона из Вашингтона. – Пожалуйста, приезжайте туда за два часа до вылета, хорошо?
– All right… – без голоса отозвался я. И сидел, не опуская трубку и не слыша, что в ней уже давно гудят гудки отбоя.
…Он уже был в автобусе, который подъехал к выходу на летное поле, чтобы везти нас к самолету. Высокий крупный шатен лет тридцати восьми – стальные глаза, квадратный подбородок боксера, нос, как у Хруща – картошкой, политбюрошная шляпа, узкий серый галстук и потертый пиджак на бычьей груди, расширенный пистолетной кобурой, спрятанной под мышкой, – стоял в этом промороженном, в белом инее на заклепках, автобусе, стоял, возвышаясь у первого ряда кресел, и молча наблюдал, как мы рассаживаемся. Ася, маленькая скрипачка, влезла в автобус первая и побежала вперед, чтобы сесть у окошка, как это любят дети. Но он жесткой, сильной рукой отодвинул девочку назад – без единого слова, как вещь. Он стоял лицом к нам, как статуя на площадях народных гуляний, все эти пятьсот метров между аэропортом и самолетом. А в самолете прошел в самый конец салона и сел в последнем ряду, чтобы видеть нас на протяжении всего полета.
Но нам уже было наплевать на него!
Мужчина, у которого отняли серебряные вилки, сказал громко и вызывающе:
– Я не понимаю! Они что – боятся, что мы угоним этот самолет обратно в Россию?
Жена испуганно дернула его за рукав:
– Тихо! Не дразни их. Черт с ними!
– Но я уже свободный человек! – воскликнул он.
– Этого я еще не знаю… – осторожно ответила она.
И действительно, почему даже в самолете нас посадили отдельно от остальных пассажиров… СССР – страна всеобщего равенства, и в советских самолетах теоретически нет деления на первый и второй класс. Тем не менее в первом салоне огромного «Ту-124» летели всего четыре советских дипломата, отстраненно-надменных, в одинаковых серых костюмах (даже проходя через наш салон в туалет, они старательно избегали встречаться с нами глазами, делая вид, что нас не существует). В третьем салоне были только иностранцы – австрийцы и немцы. А мы, двадцать семь измочаленных эмигрантов, включая грудного ребенка, парализованную старуху, умирающего от лейкемии одесского сварщика, 16-летнюю девчонку с распухшими от поцелуев губами и пятилетнюю скрипачку, оказались в полупустом среднем салоне. Единственным советским пассажиром, который летел с нами, был наш вышибалоподобный страж. Он сидел в одиночестве на шести задних сиденьях. Между нами было несколько рядов пустых кресел, и через эту нейтральную полосу он, словно лагерный часовой, молча наблюдал, как из третьего салона к нам приближались два австрийца – они оказались врачами и примчались спасать умирающего от лейкемии. Таможня так и не разрешила отцу этого парня взять для него лекарства. Теперь этот обреченный гигант лежал на двух сиденьях с откинутыми спинками, припав к кислородной подушке, а его отец и мать каждые пять минут трогали его желтые, как из слоновой кости, босые ноги, торчащие из штанин, – проверяли, не холодеют ли.
Австрийцы-врачи, открыв свои докторские чемоданчики, бессильно лепетали что-то по-немецки, отец больного отвечал им на идиш, а позади них, в следующем ряду, сидела молодая толстая жена сварщика с младенцем. Почему-то этот крикливый ребенок, часами изводивший нас своим ором на вокзале, мгновенно умолк, едва мы вошли в самолет. Возможно, он родился антисоветчиком и там, в СССР, от всего советского у него были колики в животе. Или, может быть, с молоком матери ему передавалась и ее нервозность – то-то в Шереметьеве он с отвращением выталкивал изо рта ее большую синюю грудь. Едва мы зашли в самолет, как малыш вдруг смачно засосал эту же грудь своими плотоядными губами и через минуту уснул, зарозовев щечками…
Девять семей, двадцать семь человек, включая двух старух и младенца, – неужели в КГБ считали, что мы представляем опасность для других пассажиров? И в чем, собственно, могла заключаться эта опасность?
– Интересно, у него пистолет справа под мышкой, – вдруг громко сказал задира мужчина, у которого отняли серебряные вилки. – Значит, он левша!
– Заткнись! – локтем толкнула его жена.
Но тот продолжал как ни в чем не бывало:
– Понимаешь, я читал в «Неделе», в рубрике «Люди редких профессий»: такие охранники самолетов должны заранее наметить, в кого они начнут стрелять в случае инцидента. Он просто обязан это сделать – это азбука его работы! Поэтому он и был с нами в автобусе. Интересно, кого он выбрал?
– Тебя, конечно! – сказала жена.
– А я думаю, что он может начать с детей. Чтобы сразу потрясти нас всех…
– Идиот! – сказала его жена, увидев, как мать младенца и мать девочки-скрипачки непроизвольно повернулись к гэбэшнику.
– А что я такого сказал? – Мужчина пожал плечами. – Они нас всех держали под прицелом с момента рождения, разве нет? И для каждого грели под мышкой пули…
– Слушайте, прекратите! – вдруг раздраженно бросил этому задире отец умирающего сварщика. – Нам тут только скандала не хватает! Если они задержат вылет еще на двадцать минут, я не довезу сына живым…
Мужчина с обидой на лице отвернулся. Неутоленная месть за отнятые вилки еще клокотала в нем, но спорить с отцом умирающего он не стал. Тем более что тот добавил примирительно:
– Мы уже выше этого, понимаете? Мы уже улетаем… Посмотрите в окно!
Мы посмотрели в окно и увидели, что наш самолет на взлетной полосе. В этот миг двигатели взревели, сотрясая самолет лихорадочной дрожью, потом сорвали его с места и…
Последние метры советской земли побежали за иллюминатором, съедаемые скоростью. Тяжелый, как гусь, «Ту-124», казалось, еле отрывался от щербатой бетонки взлетной полосы. А мы, сидя в креслах, мысленно подталкивали его вверх: «Ну! Ну! Ну же!..» И вдруг – тряска кончилась, мы – взлетели!
– Ур-р-ра! – заорал мужчина, у которого отняли вилки, и обнял свою жену.
– Ура! – подхватили мы, а я подумал: Господи, ведь мы и вправду уже улетаем от них! От ГУЛАГа, погромов, психбольниц, допросов КГБ, доносов в парткомы, прописок, пятого пункта, процентной нормы, принудительного распределения на работу, профсоюзных, комсомольских и партийных поручений, «добровольных» субботников, подписки на «Правду», уборки картошки за колхозников, изучения брежневских речей и «Морального кодекса строителя коммунизма». Теперь от всего этого набора позади нас оставались всего-навсего девять граммов свинца под мышкой у этого гэбэшника! Да плевать нам на это – мы взлетели, ВЗЛЕТЕЛИ!
И тут все, даже мужчина, у которого отняли серебряные вилки, стали громко шутить и еще громче хохотать, вспоминая шереметьевских таможенников, изображая их в лицах, как в пьесе. Даже отец умирающего сварщика показал, как я взбесился, когда Алеша сломал первую клавишу у моей пишущей машинки. «Я решил – все, золотые клавиши, сейчас рейс задержат! – сказал он. – А оказалось! Да я вам их в Вене на спичках припаяю!..» Мужчина-задира вдруг сам стал хохмить по поводу своих пропавших вилок: «Вообще-то это тещины вилки, а она мне никогда не приносила счастья! Так что даже хорошо, что тещино несчастье осталось!
Сейчас, вспоминая эти шутки, я не нахожу в них ничего смешного. Но я хорошо помню, что там, в самолете, мы смеялись так, словно накурились марихуаны. А может, мы и вправду были пьяны свободой, как зеки, удачно бежавшие из тюрьмы. Мы хохотали, хлопали друг друга по плечам, делились бутербродами и настойчиво угощали австрийцев шоколадом «Аленка» и конфетами «Мишка косолапый», которые все-таки удалось пронести в самолет. При этом мы с нелепой гордостью говорили австрийцам: «Русские конфеты! Russian чоколадо!» – по советской привычке считая, что русский шоколад самый лучший в мире.
Австрийцы вежливо откусывали подтаявшую, в мятой обертке «Аленку», с интересом посматривали на нашу актрису, сидящую у окна, и уже через полчаса полета уговорили командира самолета радировать в Вену, чтобы прямо в аэропорту, у трапа, нас встречала ambulance с аппаратом переливания крови. При этом все мы вызывающе демонстративно игнорировали теперь этого гэбэшника в конце салона. После двух суток совместного пребывания в шереметьевском аэропорту мы, совершенно незнакомые люди, вдруг стали одной семьей. Ведь мы уже все знали друг о друге: кто откуда, с кем прощался, куда летит, в Америку или в Израиль, и что каждый везет в своих чемоданах, – мы даже видели нижнее белье нашей актрисы! Два инвалида – парализованная старушка и умирающий сварщик – стали теперь нашими общими родственниками, а двое детей – грудной ребенок сварщика и Ася-скрипачка – нашими общими детьми. Мы поминутно смотрели на них: младенец спал на руках матери, а Ася – уронив голову набок, на свою белую кроличью шубку. Оба дышали глубоко и спокойно, губы были полуоткрыты. И видя этих сладко спящих детей, мы гордо переглядывались, как бы говоря: да, все-таки мы добились своего, главного – мы вывезли с этой гибельной земли юные еврейские корни! Конечно, там, на Западе, их ждут проблемы роста – мы знаем, мы читали в газетах про наркотики и все прочее. Но мы верили, что никто там не станет внушать нашим детям любовь к дедушке Ленину, никто не заставит их доносить на родителей, не бросит в ГУЛАГ или в психбольницу и не будет всю жизнь держать их затылки под прицелом холодных гэбэшных глаз.
Кажется, даже врачи-австрийцы поняли, о чем мы думаем, глядя на наших детей.
– Мазл тов, – вдруг сказал нам один из австрийцев, и мы дружно расхохотались, и я еще раз и с удовольствием попробовал на языке это давно забытое еврейское слово, которое слышал только в далеком детстве, от дедушки: мазл тов, счастливчик…
В Вене, в аэропорту, едва к самолету подали трап, наш охранник первым пошел к выходу – его миссия закончилась! Он пробежал вниз по трапу и вошел в пустой австрийский автобус, сияющий чистотой, как концертный рояль. Но не мог уехать сразу, потому что этот автобус ждал нас, а не его. И теперь этот гэбэшник был вынужден наблюдать, как мы выходим из самолета в новый мир.
Здесь, в этом новом мире, было удивительно тепло и солнечно, словно мы перелетели на другую планету. Только значительно позже я сообразил, что Вена просто много южнее Москвы. А в те минуты я лишь изумлялся.
Здравствуй, новый мир! Какой ты?
Поодаль от самолета, метрах в двухстах, виднелось стеклобетонное здание аэропорта с надписью «Вена». А под самолетом рядом с автобусом стояли белые машины «скорой помощи», и два санитара с носилками уже бежали по трапу, чтобы забрать нашего умирающего.
И мы, все еще ощущая себя одной семьей, первым делом вынесли из самолета наших детей и старуху. Я помог шатенке спустить разморенную сном скрипачку из самолета в автобус и, полный знобяще-веселого возбуждения, тут же – навстречу красивой актрисе – взбежал обратно в самолет, поднял там на руки парализованную старушку и понес вниз по трапу. Старушка обняла меня за шею – она была легче перышка. А может быть, это Бог дал мне тогда силы даже не почувствовать ее тяжести. Я посадил старушку на кресло в автобусе и опять побежал вверх по трапу, но внезапно ощутил какой-то холодок в затылке.
Я оглянулся и встретил холодные, светлые гэбэшные глаза. О, это были еще те глаза! Теперь наконец в них появилось выражение – выражение чистой, как шведская водка «Абсолют», ненависти. С каким удовольствием, нет, с наслаждением, он вытащил бы сейчас свой теплый пистолет и разрядил в меня всю обойму! Почему? Да потому, что я таки ушел от их власти, да еще помогаю теперь уходить другим, и открыто, победоносно радуюсь свободе!
Я прочел его взгляд, улыбнулся ему и побежал вверх по трапу с новой энергией.
Внутри самолета санитары укладывали гиганта-сварщика на высокую тележку-носилки. Его отец и мать молча стояли рядом, а толстая жена рыдала в своем кресле, держа проснувшегося младенца на животе.
Я взял, а точнее, выхватил у нее ребенка и сказал жестко:
– Пошли!
Когда женщины плачут, необходим строгий повелительный тон. Она встала и послушно пошла за мной к выходу, уронив с колен детскую соску и запасную пару крохотных белых детских ботиночек.
Я вышел из самолета, держа на руках еврейского младенца. И уже сам нашел взглядом этого гэбэшника. Я демонстративно выносил еще одного ребенка с советской территории, как выносят из радиоактивной зоны, и не было в тот момент на земле мужчины сильней и счастливей меня! Я чувствовал себя сионистом, солдатом, бойцом, гранитным памятником в Трептов-парке! Если бы этот гэбэшник поднял сейчас пистолет, я с ликующим криком прикрыл бы этого ребенка своей грудью. Да, есть вещи, о которых люди пишут с гордостью, а есть – о которых умалчивают от скромности. Я же горжусь, что в тот момент чувствовал себя стопроцентным евреем и стопроцентным мужчиной.
Я шел по трапу с ребенком на руках и смотрел этому гэбэшнику прямо в глаза. И было такое напряжение в нашей молчаливой дуэли, что все обратили на это внимание и замолчали на миг, а мать девочки-скрипачки сказала мне:
– Умоляю, не дразните его!
– Почему? – улыбнулся я и, не отводя взгляда от светло-голубых глаз гэбэшника, передал жене сварщика ее грудного ребенка.
И тут гэбэшник отвернулся.
Он отвернулся с полным безразличием на лице, но мы-то с ним уже поняли друг друга!
Он отвернулся, вышел из автобуса и направился к служебному мини-автобусу, который прикатил за советским экипажем – пилотами и стюардессами.
Он присоединился к ним, к советской команде, и мини-автобус повез их куда-то в глубину аэропорта. Но в самый последний миг, когда автобус уже сворачивал за угол аэровокзала, гэбэшник вскинул глаза и глянул на меня с таким прищуром – именно прищуром! – с каким смотрят сквозь прицел снайперской винтовки.
* * *
Тут с Бродвея ворвалась в окно очередная не то полицейская, не то медицинская сирена. Я посмотрел на телефонную трубку в руке, она уже давно пищала короткими гудками. Я вспомнил, что советское посольство выдало мне визу на поездку в СССР. Мне, единственному из всей делегации.
Я дал отбой, прокашлялся и потом медленно набрал на телефонном диске бостонский код 617 и номер своего адвоката.
– Attorney Breslaw’s office (Офис адвоката Бреслава), – тут же отозвался молодой звонкий женский голос.
– May I talk to Mr. Breslaw [Господина Бреслава, пожалуйста], – сказал я, все еще представляя себе глаза того гэбэшника.
– Who is calling, please [Кто спрашивает]?..
– Vadim Plotkin.
– Just a second [Секундочку], – почти пропела секретарша, и в трубке тут же зазвучал мужской голос:
– Hallo, Mister Plotkin! What can I do for you [Алло, мистер Плоткин. Чем могу быть вам полезен]?..
– I want to draw up a will, – сказал я. – How much would it cost [Я хочу составить завещание. Сколько это будет стоить]?
7
– Если меня убьют в Москве, – сказал я в Бостоне тому самому адвокату, который оформлял наше с Лизой соглашение о разводе, – то скандал подтолкнет издателей переиздать мои книги. Но я не хочу, чтобы Лиза растранжирила мой гонорар на шмотки и рестораны. Я хочу, чтобы Хана получила эти деньги в день своего совершеннолетия…
Подписав завещание, я вышел на раскаленную улицу и как-то по-новому, будто в перископ, увидел свою новую родину.
Раскаленный и душный воздух плыл над Chesthut Hill, два потока машин медленно двигались в этой сауне.
Ровно десять лет назад в Нью-Йорке, за окнами кабинета кинопродюсера Лео Алтмана, стояла такая же жара, а по стенам кабинета бродили гигантские летающие муравьи – огромные, как крокодилы, – именно такими они были изображены на афишах – крылатые муравьи-динозавры, налетевшие на Нью-Йорк, – которыми были обклеены стены кабинета. Я никогда не видел этот фильм, но слышал, что он имел кассовый успех. Правда, судя по тому, что афиши изрядно выцвели, после «Муравьев» независимая кинокомпания «Алтман продакшн, инк.» значительных успехов в кино не имела. Может быть, поэтому мистер Алтман согласился принять советского эмигранта-режиссера, у которого «есть замечательная идея для фильма». А может быть, мисс Санди Копелевич, моя ведущая в HIAS[4], была его родственницей. Не знаю. Знаю только, что тогда, летом 1979 года, у меня произошла небольшая «война» с этой мисс Копелевич. Потому что еврейская организация HIAS, получая от United Jewish Appeal[5] и от американского конгресса деньги на устройство еврейских беженцев, считает себя не только опекуном, но и рабовладельцем.
– Америке не нужны режиссеры! – раздраженно сказала мне мисс Копелевич, молодая худенькая брюнетка с манерами капризной восточной принцессы. И бросила через стол рекламную страницу «Нью-Йорк таймс». – Смотрите! Здесь нет ни одного объявления про режиссеров! Видите? Америке нужны механики, токари, сантехники, чертежники и банковские кассиры. А вы даже для этой работы не годитесь! Поэтому вам придется начинать на фабрике конвертов, четыре доллара в час. Между прочим, мой дедушка тоже начинал с четырех долларов, когда приехал сюда из Германии. Только ему платили четыре доллара не за час, а за день! Вот адрес этой фабрики, запишите!
– У меня есть замечательная идея для фильма, и я хотел бы встретиться с каким-нибудь продюсером, – сказал я, покрываясь испариной от собственной настойчивости.
– Мистер Плоткин! – Мисс Копелевич откинулась в кресле, на ее лице появилась гримаса великомученицы, словно она разговаривает с дебилом. – Только в этом месяце у меня было шесть режиссеров, восемь кинооператоров, четырнадцать артистов, сорок журналистов и тридцать семь художников! Are you crazy [Вы что – сумасшедшие]? Зачем вы все сюда едете? Или вы думаете, что мы тут живем без кино, без театров, без искусства? Возьмите адрес этой фабрики – это лучшее, что я могу вам предложить!
Я встал со стула.
– Спасибо. «Нью-Йорк таймс» я могу и сам посмотреть в библиотеке.
Она презрительно фыркнула:
– Вы же не умеете читать по-английски!
– Я прочту со словарем…
– Если не пойдете на эту работу, я сниму вас с пособия, – сказала она и нервно бросила себе в рот зеленую освежающую пилюльку «Тип-топ».
– А если пойду?
– Well, одиноких мужчин мы не держим на пособии больше двух недель. Ваш срок кончается через неделю, в следующий понедельник вам придется освободить отель. Где вы будете жить, если не возьмете эту работу?
Я кивнул за окно, которое выходило на Юнион-сквер.
– На скамейке. У меня есть спальный мешок. По крайней мере там не будет тараканов, как в вашем отеле.
Она уставилась на меня своими еврейскими глазами, разгорающимися, как угли. Уж если я умею читать в глазах русских, украинцев, азербайджанцев и всех остальных, населяющих СССР, то читать в еврейских глазах мне положено по происхождению. В глазах мисс Копелевич я прочитал: «FUCK YOU! Я ВАС ВСЕХ НЕНАВИЖУ И ПРЕЗИРАЮ! ВАШИ ПРЕТЕНЗИИ, СМЕШАННЫЕ С ЗАПАХОМ ПОТА, ВАШИ ПРОВИНЦИАЛЬНЫЕ РУССКИЕ АМБИЦИИ, ДИПЛОМЫ, НАУЧНЫЕ ЗВАНИЯ – ДА ЧТО ОНИ СТОЯТ У НАС В АМЕРИКЕ?! ПОЧЕМУ Я, САНДИ КОПЕЛЕВИЧ, ДОЛЖНА ВОЗИТЬСЯ С ВАМИ? FUCK YOU AGAIN! ИДИТЕ И РАБОТАЙТЕ ГРУЗЧИКАМИ, НАЧИНАЙТЕ С НУЛЯ! ИЛИ КАТИТЕСЬ К Е… МАТЕРИ!»
Даже не зная английского, я понял это без перевода и без словаря. Но ведь и она, наверно, увидела кое-что в моих глазах. И кажется, я даже знаю что. Потому что хорошо помню, о чем я подумал в ту минуту. Я подумал о том, как под ее темной свободной блузкой, от закипевшей во всем ее естестве ненависти, топорщится маленькая грудь и что именно такие худенькие, плоскогрудые девки совершенно сатанеют в постели, а еще больше на полу, на столе, на подоконнике… Господи, всего несколько месяцев назад в Москве, в Ленинграде, в Новосибирске, в Свердловске и еще в сотне других русских городов я мог иметь таких девок сколько душе угодно! Ведь при одном слове «кино» у них все начинало вибрировать. Но теперь все поменялось местами, и теперь она посылает меня к такой-то матери. И я сам это устроил себе – сам! – ведь никто не выгонял меня из СССР – только запретили фильм. Но если бы я согласился его переделать, я мог бы и сегодня, сейчас, выламывать вот такую Копелевич где-нибудь на «Мосфильме» или на Одесской киностудии, да разве ее одну?!
И вдруг мне стало до того горько за самого себя, что перспектива ночлега на Юниор-сквер меня даже обрадовала. Страдать – так страдать! До конца, по русской традиции!
Я не знаю, что именно мисс Копелевич прочла в моих глазах – некий сексуальный мираж или реальную возможность оскандалить HIAS первым еврейским эмигрантом-бродягой, но она вдруг сказала:
– Выйдите в коридор и подождите. Моя ассистентка позовет вас.
Я вышел, а через пять минут был позван назад.
– Here is a deal [Давайте договоримся], мистер Плоткин, – сухо сказала мисс Копелевич, пряча глаза в какие-то бумаги. – Я отправлю вас на интервью к известному кинопродюсеру. Но при одном условии: если он не возьмет ваш проект, вы пойдете на первую же работу, которую я вам предложу. Deal [Договорились]?
И вот я сижу в кабинете мистера Алтмана. На стенах афиши с гигантскими летающими муравьями-крокодилами, за окнами – Бродвей в районе пятидесятых улиц, а на необъятном письменном столе хозяина – завал сценариев, режиссерских разработок и бестселлеров в ярких обложках. Сбоку – два каких-то приза. Не Оскары, но фестивальные призы с золотыми монограммами. Короче говоря, вот твой шанс, Плоткин, не упусти судьбу из рук!
И я, потный от возбуждения, прорывал свою немоту в английском языке неистовой жестикуляцией и почти актерским показом всей фабулы «Еврейской дороги». Впрочем, никакой немоты не было – я говорил! Я – по-английски! – говорил без остановки ровно сорок минут! Из пятидесяти известных мне в то время английских слов я комбинировал речи, диалоги, ремарки и описания персонажей от цвета босых ног умирающего сварщика до красочной, как мне казалось, сцены отправки эмигрантов из Вены в Италию: посреди мирной Европы 1979 года австрийские солдаты с овчарками оцепили наш поезд на случай атаки арабских террористов! И наконец, я даже перевел ему с итальянского смысл транспарантов, которые несла гигантская демонстрация итальянских медсестер по виа Венето в Риме: «Мы хотим, чтобы нам давали мясо два раза в день, как медсестрам в СССР!» Когда мы, эмигранты, только что вырвавшиеся из России, увидели море красных знамен с серпами, молотами и идиотские транспаранты, мы чуть не бросились бить этих итальянских идиоток в черных рясах…
Это был фильм одного актера. Я бегал по кабинету, показывая, как старуха Фельдман ползала в шереметьевской таможне от одного таможенника к другому. Я садился на пол, изображая, как сутками сидят эмигранты в венском отделении HIAS. Я сворачивался бубликом, как в багажниках машин сворачиваются нелегальные эмигранты, когда их провозят из Италии в ФРГ. И я танцевал фрейлехс, как мы – впервые в жизни! – танцевали его в римской синагоге на Пурим. При этом я еще все озвучивал музыкальным сопровождением, «ловил» ракурсы видеокамеры и воспроизводил звуковые эффекты…
Мистер Алтман – высокий, сутулый, похожий на Пастернака еврей лет 60, – не перебивал меня, а только одобрительно кивал после каждого эпизода, и это прибавляло мне сил и вдохновения. А когда мое кино подошло к концу, я рухнул в глубокое кожаное кресло с сознанием, что только что поставил своей первый фильм в эмиграции.
– Good! – энергично сказал мистер Алтман. – Отлично! Мне это нравится. Правда, мне это очень нравится! Принеси мне сценарий!
– По-русски? – спросил я.
– Well. К сожалению, я не читаю по-русски. Но ты найдешь переводчика, нет проблем. Сколько нужно иметь времени, чтобы написать сценарий?
Я пожал плечами:
– Написать я могу за месяц. Но перевести…
– Еще месяц. Я подожду, – сказал Алтман. – Мне нравится этот проект. Позвони мне, когда у тебя будет готово. Приятно было познакомиться!
Я выскочил на Бродвей с легким звоном в голове и побежал в HIAS. Был август, и те, кто летом 79-го был в Нью-Йорке, не забудут жуткой жары – даже по ночам. Но у меня все равно не было ни денег, ни времени ехать в HIAS сабвеем или автобусом. И я побежал. До отъезда из СССР я ежедневно бегал три – пять километров, и теперь это пригодилось. Я бежал сначала вниз по Бродвею, потом – по Сорок второй улице, потом – по Пятой авеню. На Сорок второй какие-то негры пытались на ходу продать мне наркотики, на Пятой авеню меня чуть не сбило такси, а на углу Семнадцатой и Парк-авеню я резко обогнал дюжину полицейских в касках и бронежилетах и перепрыгнул через какой-то полосатый барьер, стоявший между двумя полицейскими машинами. «Хэй! Стоп!» – крикнули мне вслед, но мне некогда было с ними разговаривать, кинопродюсер уже ждал от меня сценарий! И я побежал вниз по пустой Парк-авеню, недоумевая, почему вокруг меня вдруг установилась мертвая тишина. На бегу я посмотрел по сторонам. То, что я увидел, заставило меня похолодеть, несмотря на жару. Оказывается, я налетел на ограбление Сити-банка. В то лето в Нью-Йорке чуть не каждый день грабили банки, и на углу Семнадцатой и Парк-авеню полицейские устроили засаду на грабителей, которые были внутри Сити-банка. Весь квартал был окружен. Полицейские в бронежилетах и касках прятались за машинами, никого не пропуская, и держали двери банка под прицелами своих автоматов и пистолетов. За опущенными жалюзи банка стояли грабители и держали полицию на мушках своих пистолетов. А на крышах окружающих домов лежали и стояли полицейские снайперы… И вдруг откуда ни возьмись – потный идиот перескакивает через барьер и бежит по нейтрально-мертвой зоне неизвестно куда! Я даже кожей почувствовал, как сошлись на мне прицелы их автоматов, пистолетов и снайперских винтовок. Но что мне оставалось делать? Глядя прямо в дула пистолетов, направленных на меня из окон банка, я добежал до полосатых барьеров на углу Шестнадцатой улицы, перепрыгнул один из них, получил жуткий подзатыльник от какого-то полицейского и влетел в подъезд HIAS – дом номер 200 на Парк-авеню. А еще через минуту я прямо из лифта ворвался в кабинет мисс Копелевич.
– Я выиграл! Он хочет, чтобы я написал сценарий!
– Я знаю. Поздравляю… – сказала она сухо.
Неужели, пока я бежал сюда, этот Алтман позвонил ей и сказал, что ему нравится моя идея?
– Но кто-то должен перевести мой сценарий! Вы заплатите за перевод?
– Мы не вкладываем деньги в кино, – еще суше сказала мисс Копелевич.
– Но это же в долг! Я отдам с гонорара! – Я вытащил из брюк подол рубахи и утер пот со лба и шеи, что вызвало у мисс Копелевич приступ душевной и физической боли.
– Мне кажется, – сказала она, страдая не то от моего запаха, не то от моего успеха у кинопродюсера, – мне кажется, у меня есть работа для вас. Книжному магазину «Харпер энд Роу» нужен грузчик. Подождите, не спорьте! Вы знаете, что такое «Харпер энд Роу»? Это самое знаменитое издательство в Америке. Может быть, там вы найдете себе переводчика…
– Сколько? – спросил я нетерпеливо.
– Сколько – что?
– Сколько они платят?
– Пять пятьдесят в час. И у них там есть переводчики со всех языков…
Я мгновенно сосчитал: 5.50 на 8 на 6 – при восьмичасовом рабочем дне я буду иметь больше 25 долларов в неделю! Если половину откладывать на переводчика…
– Я согласен! – крикнул я. – Я беру эту работу!
Мисс Копелевич быстро написала что-то на клочке бумаги и протянула мне:
– Вот адрес. Пятьдесят третья улица между Мэдисон и Парк-авеню. Завтра в 11.00 утра. Менеджера зовут мисс Родригес. Только запомните: в Америке нельзя опаздывать на апойтменты и положено приходить в костюме, белой рубашке и галстуке. Обязательно купите себе дезодорант и примите утром душ. Вы меня слышите?
Я простил ей эту шпильку. Черт с ней! Мы потные, мы не пользуемся дезодорантом «Секрет» и не освежаем поминутно рот мятными пилюльками «Тип-топ», но у нас есть идеи, на которые с первого же захода клюют ваши продюсеры! И мы еще посмотрим, нужны мы Америке или нет!
Назавтра, ровно в 10.30, неся в руках пиджак от шерстяного костюма-тройки, купленного еще в Италии, в нейлоновой сорочке и при галстуке, я вышел из сабвея в Манхэттене и, стараясь не дышать, чтобы не потеть, пошел по Пятьдесят третьей улице в поисках книжного магазина «Харпер энд Роу». Магазин оказался в середине квартала, поразительно красивый, с сияющими зеркальными витринами и высокой стеклянной дверью. Я надел пиджак, быстро вошел в магазин и… оказался в раю! Да, в то время каждый дом с кондиционером был для меня признаком другой, райской, роскошной, жизни, ведь мы, эмигранты, жили в дешевом, с тараканами, отеле в Бруклине, мы ездили на сабвеях маршрутом RR – без кондиционеров, а на работу нас брали только на самые низкооплачиваемые места, где о кондиционере нечего было и мечтать. И вдруг – «Харпер энд Роу». Прохлада! Книги! Тихая музыка! Господи, я согласен начать тут грузчиком! Где ваш менеджер?
Менеджером оказалась красивая испанка – госпожа Родригес.
– Вы говорите по-английски? – спросила она.
– Слегка! – ответил я с гордостью.
– А по-испански?
Я удивился:
– Как я могу говорить по-испански? Я только что из России…
– Извините, но нам нужен двуязычный грузчик.
– Я двуязычный! Я говорю по-русски и по-английски!
– Извините, нам нужен грузчик, который говорит по-английски и по-испански. До свидания.
И она ушла внутрь прохладного книжного рая, а я, обливаясь потом в своем шерстяном итальянском костюме, тупо пошел назад к сабвею. Я пошел по Манхэттену, по его узким колодцам между стеклянными небоскребами, и почувствовал себя маленьким, потным и беспомощным крабом на дне душного аквариума, отравленного выхлопными газами. И все десять лет после этого я пытался выбраться из этого аквариума, выкарабкаться по стеклянным полированным стенам куда-то наверх, наружу, где другая жизнь и другой воздух…
Но теперь, в Бостоне, я жадно вдохнул именно эту распаренную духоту американского континента и прощальным жестом мысленно похлопал по горячим крышам кативших по улицам машин. Полицейский «форд» торчал на углу 9-й дороги, и два полицейских в нем внимательно следили, как я перестраиваю свою «терсел», чтобы войти в поток. Они были похожи на того полицейского, который десять лет назад дал мне подзатыльник на Парк-авеню, но теперь я уже любил и полицейских. Когда вы подписываете завещание, вы начинаете видеть жизнь как бы с той, загробной, стороны. И от этой перемены поле вашего зрения расширяется и перед вами вдруг распахивается вся объемность и пространственность жизни, ее наполненность солнцем, травой, запахами и возможностью простого счастья быть. Например, по 128-й дороге я мог свернуть на Масспайк и укатить в Буффало, на Ниагарский водопад или мог поехать в Атлантик-Сити, а по 93-й – на Кейп-Код. И тут я подумал, что за десять лет своей жизни в Америке я никогда не был даже в Сан-Франциско. А может быть, уже никогда и не буду…
Нет, я не свернул на Масспайк, а с тупым русско-еврейским упрямством поехал по 128-й на север, в Салем, где Лиза сняла дешевый таун-хаус. Я ехал и думал о местах, в которых так и не успел побывать в этой жизни. Я не был в Диснейленде, в Лас-Вегасе, на Гавайях и даже в Атлантик-Сити. Я не был в Африке, в Австралии, в Японии и даже в Мексике. Так на кой черт я еду в СССР?! Чего я там не видел? Очередей за продуктами? Кирпичных рож московских милиционеров? Лязгающих засовов Лефортовской тюрьмы?
Черт возьми, как мне выжить в этой поездке? Как обхитрить гэбэшников и вернуться к дочке живым? Наверное, они не арестуют меня сразу и не станут колоть отравленными зонтиками в первый же день, иначе вся делегация – все тридцать западных журналистов поднимут скандал.
Итак, самое опасное для меня – последние три дня, когда наша делегация будет уже не в Москве, а в Таллинне, столице Эстонии. Да, Таллинн – это для них удобно. Там сейчас заваруха антирусских волнений, и под шумок можно в самый последний день пырнуть ножом в уличной драке автора антисоветских романов или подсыпать ему какой-нибудь медленно действующий яд, чтобы он, сволочь, отбросил копыта на следующий день, уже на западной территории. Значит, моя задача – не есть и не пить ничего в Таллинне!
Я свернул со 128-й в Салем, проехал мимо старого краснокирпичного Музея салемских ведьм, остановился у Смарт-маркета и купил две коробки хлопьев, пять пакетов сухофруктов, две пачки растворимого завтрака и три бутылки «Пепта-бистол»[6]. Если все три дня нашего пребывания в Таллинне я не буду есть ничего советского, а буду только жевать всухую хлопья и калифорнийские сухофрукты, то, может быть, я еще обману КГБ и выживу!
– Только не напивайся там допьяна и не подхвати сифилис у своих любимых русских женщин! – сказала мне Лиза, когда я, обняв дочку, сообщил ей, что еду в СССР.
У Лизы всегда были свои представления о целях моих деловых поездок.
Хотя теперь-то ей какое дело?
Часть вторая
8
В Баку, в городе, где азербайджанцы вырезали сейчас всех армян, в пору моей юности бушевали совсем иные страсти. Группы молодежи праздно стояли тогда на уличных углах или сидели на скамейках приморского бульвара и жадными глазами провожали каждую молодую блондинку или – иногда – брюнетку: «Вах, вот эта хороша!.. Вах, вот эту бы!.. Вах! Вах! Вах! За этой я пошел бы на край света!..»
Мне кажется, что придумывать книги или фильмы – такое же приятное занятие. Идея новой книги вспыхивает перед тобой, как соблазнительная блондинка на высоких ногах, и ты провожаешь ее загоревшимся взглядом: «Ах, вот эту книгу я бы написал!» Порой ты даже бежишь за ней, как воспаленный кавказский мальчишка, и лепечешь-записываешь какие-то глупые или дерзкие слова. Но блондинка уходит, не удостоив тебя ответом, а ты еще и ночью помнишь ее вызывающую походку, абрис крутого бедра и думаешь жарко, как онанирующий подросток: «Ах, я бы начал эту книгу вот так! А потом – вот так!..»
Но утром, вместо того чтобы сесть и писать, ты опять идешь на угол своей будничной жизни и стоишь праздным зевакой или суетно шляешься по бульварам и переулкам своих рутинных дел, и вдруг новая блондинка выходит на тебя из-за угла, как сноп яркого света в темноте южной ночи.
Да, придумывать книги приятно.
И совсем другое дело – выбирать ту, которую будешь писать. Это даже страшнее, чем жениться на красивой блондинке, – это, скорее, как выбрать себе тяжелую болезнь сроком эдак на год, а то и на два. Впрочем, в молодости этот срок короче, молодые писатели болеют своими первыми книгами горячечно, как дети гриппом – с высокой температурой. Но и выздоравливают так же быстро. А вот после сорока болеть труднее – и гриппом, и книгой.
Но если я прав, что написание книги – это тяжелая болезнь, некая форма шизофрении со старательной фиксацией на бумаге ежедневных галлюцинаций, то можно ли требовать от писателя примерного исполнения общественных правил или супружеских обязанностей? И не рискованно ли разрешать писателю воспитывать детей или водить машину? А если он становится угрюмым, скандальным, капризным и депрессивным, можно ли обижаться на него как на здорового человека?
Написать книгу про то, как писатель пишет книгу и как по мере создания этой книги разрушаются его личная жизнь, семья, социальная сфера вокруг него, – вот еще одна блондинка, которая выскочила сейчас передо мной, словно из-за угла, но уже, уже уходит, уходит в тенистую аллею подсознания…
Хорошо (хотя что ж тут хорошего?), если книга, из-за которой развалилась личная жизнь, – настоящая, хорошая книга и интересна читателям. А если это еще и неудачная книга?
Или если никто – ни один издатель – не хочет ее издать? Как себя чувствует автор?
…Я пишу это запоздалое предисловие из робости. Потому что сейчас мне предстоит прыгнуть в книгу. Предыдущие главы были только подъемом к сюжетному трамплину, а когда идешь в гору, то смотришь себе под ноги и не трусишь. Но, поднявшись на вершину, неуверенный лыжник топчется перед крутым спуском и делает петли на горной макушке, притворяясь, что проверяет лыжные крепления. Так и я подхожу теперь к краю обрыва-завязки и в страхе смотрю – неужели прыгну? Но отхожу и завариваю себе новую чашку кофе, откашливаюсь и пишу запоздалое лирическое предисловие, чтобы отложить свой прыжок еще на час, на день…
Но если так страшно написать: «Глава восьмая. Полет в Москву», – то представьте, каково было мне в реальной жизни протянуть дежурному в аэропорту Кеннеди посадочный талон и пройти – самому пройти – в «боинг», вылетавший из Нью-Йорка в Россию!
О, я помню, как это было – улыбаешься, как при прыжке с трамплина, а у самого от страха спина вспотела…
Мы шли…
Мы шли в самолет…
Нет, не так! Понятие «мы» к нам не подходило, мы еще не были тем единым и гордым «We are», с которого начинается американская конституция. Мы даже не были группой, потому что понятие группы предполагает какое-то единство, а мы были просто толпой в тридцать человек и не знали друг друга даже по имени. Все, что нас связывало, – бирки с надписью «International Press Association», которые навесил нам на пиджаки Барри Вудстон, когда мы в очереди других пассажиров подходили к стойке регистрации билетов на Москву. Барри – высокий толстяк тридцати двух лет с живыми темными глазами и пеной светлых кудряшек до плеч – стоял (конечно, в пиджаке, белой сорочке и галстуке) возле стойки австрийской авиакомпании со списком в руках, заглядывая в билеты, которые мы клали на стойку. Увидев мой билет, он тут же воскликнул:
– О, мистер Плоткин! Рад вас видеть! Как поживаете? Вот ваша нагрудная бирка. Увидимся в самолете!
Такое же единство было у наших чемоданов – на них тоже висели одинаковые бирки с номером нашего рейса. Так можно ли про них написать «мы, чемоданы»?
Однако другого местоимения у меня нет, а потому продолжим.
Итак, мы, единые только общностью своих бирок, медленной цепочкой шли на посадку в самолет. Честно говоря, я был настолько удивлен своей собственной безрассудностью, что воспринимал эту посадку как полуреальность. Ну подумайте: поедет ли беглый каторжник на экскурсию в свою зону? Или бывший заложник иранских террористов, рассказавший миру о том, как над ним издевались, – полетит ли он в Иран проведать своих стражников?
Я шел в самолет, как дети в Диснейленде идут в зал ужасов – им страшно, но они твердят себе то, что моя дочка, когда смотрит фильмы про монстров: «Papa, don’t worry, it is not real [Папа, не бойся, это же понарошку]!» Мне все казалось, что сейчас разобьется какая-нибудь ваза, лопнет окно, рухнет потолок – и я проснусь. Ведь ровно три года – все три первых года пребывания в Америке – мне еженощно снилась Москва. Я иду по улице Горького, а вокруг – люди, но они молчат. Они знают, что я эмигрант, «предатель Родины», но молчат и ждут, когда меня схватит милиция или КГБ. И я жду того же и мысленно шарю по карманам: где же мой американский паспорт? Страх, что я потерял паспорт, забыл, выронил, – этот страх душил меня, и я просыпался с диким сердцебиением, потный от удушья.
А теперь я сам, по своей воле, шел в этот сон.
Весело, как по льду.
И, видно, улыбка на моем лице была такая идиотская, что стоявшая при входе в самолет стюардесса спросила:
– Вы с этого рейса?
– Надеюсь, что нет, – ответил я.
Она заглянула в мой посадочный талон и решила, что я пошутил.
– Yes, you are! – воскликнула она радостно. – 16-D. This way, please [Да, с этого! Ваше место 16-Д. Сюда, пожалуйста].
Ее рука в белой перчатке указала мне проход к креслу в шестнадцатом ряду. Кажется, это было единственное, что я видел в те минуты – только руку в белой перчатке, – ни лиц своих попутчиков, ни лица той стюардессы.
Да, хотя по всем правилам писательского ремесла я уже давно должен был представить вам хотя бы несколько членов нашей делегации (с тем чтобы потом наравне со мной стали главными персонажами этой книги), я не видел в те минуты ни одного лица вокруг себя. И даже когда улеглась суета посадки и австрийские стюардессы, высокие, плоскогрудые и одинаково красивые, как новые карандаши в пенале, стремительно захлопали над нашими головами гнутыми козырьками багажных панелей и возникла надпись: «Fasten Seat Belts [Пристегните ремни]», – я все не верил в то, что это я, Вадим Плоткин, сам пристегиваю себя ремнем к креслу самолета, летящего по маршруту Нью-Йорк – Вена – Москва. Может быть, потому, что у меня еще был шанс сбежать из этой поездки в Вене или я подсознательно надеялся на чудо – мол, в венском аэропорту что-то оборвет этот дурацкий сон.
И только когда при мощном и крутом взлете «боинга» меня вжало в мягкую спинку и накренило чуть ли не вверх ногами, я впервые почувствовал свою обреченность и бессилие перед судьбой.
Хруст закопченного снега под валенками, сапогами, ботинками.
Морозный пар изо ртов в свинцовом полумраке сибирского рассвета…
Темные стеганые ватники, короткие полушубки, шапки-ушанки…
Мятые, серые лица… Колонна хмурых, невыспавшихся мужчин и женщин…
Никаких разговоров, только простуженный кашель, папиросы в стальных зубах, хруст шагов на промороженной улице…
Низкий, тягучий заводской гудок…
То был последний съемочный день в моей жизни, но я еще не знал об этом. В Свердловске, индустриальном центре Урала, мы поставили три кинокамеры в кабину подъемного крана за центральной проходной знаменитого завода Уралмаш и снимали, как утренняя смена идет на работу.
Никаких операторских изысков, никаких сногсшибательных ракурсов или съемок в движении. Три статичные камеры и… двадцать тысяч в темных стеганых ватниках и шапках фигур идут на вас из промороженных улиц в свинцовом полумраке сибирского рассвета. А над ними – крыши домов, укрытые коростой снега, прокопченного фабричным дымом. На трех фонарных столбах тускло тлеют желтые уличные фонари, остальные разбиты… И хриплый раструб радиодинамика выплевывает утренние позывные и первые такты гимна Советского Союза…
Юноша-подросток с простудными фурункулами на шее, жуя на ходу кусок хлеба, сбился с шага…
Женщина в мужском ватнике, с металлическими зубами сказала ему что-то злое, матерное…
(Господи, почему у них у всех металлические зубы? От этих свинцовых дымов над Уралмашем?)
А они все идут – темное, простуженное, прокуренное стадо, обреченное на восьмичасовую работу. Они втекают, как зеки в рабочую зону, в широкие ворота с надписью на арке: «УРАЛЬСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ СЕРГО ОРДЖОНИКИЗЕ». Слева от них, на кирпичной проходной, – огромный барельеф с фигурами вдохновенных мускулистых рабочих и работниц и надпись: «ПАРТИЯ ВЕДЕТ НАС К КОММУНИЗМУ». А за воротами, на заводском дворе, их встречает статуя Ленина с простертой рукой и еще одна гигантская надпись: «ВЕРНОЙ ДОРОГОЙ ИДЕТЕ, ТОВАРИЩИ! В. И. ЛЕНИН».
Я стоял в кабине подъемного крана, смотрел в окуляр одной из камер, и жуткое ощущение, что я читаю новый том «Архипелага ГУЛАГ», еще не написанный, но уже запрещенный, росло во мне вместе с мелодией музыки к моему фильму. Нет, вдруг подумал я, никакой музыки, а именно эти плывущие над людским потоком простуженно-бодрые позывные московского радио и до оскомины притворно-возвышенный голос диктора: «Доброе утро, дорогие товарищи! Вчера в Кремле состоялось чествование выдающегося деятеля международного коммунистического движения, последовательного ученика великого Ленина, руководителя нашей партии Леонида Ильича Брежнева. В ознаменование его неустанной государственной деятельности Президиум Верховного Совета СССР наградил нашего дорогого Леонида Ильича Брежнева третьей звездой Героя Социалистического Труда…»
А они все идут…
Мутные глаза…
Черные ватники и бушлаты…
Небритые щеки…
Господин Кампанелла, вот твой «Город Солнца»! Я буду держать этот кадр на экране три минуты, четыре, пять, пока жуть всех ассоциаций – с Освенцимом, с «Архипелагом», с «Городом Солнца» – не дойдет до каждого зрителя, не начнет душить его. И это будет рамкой моего фильма, его началом и концом, а вся середина уже снята – простая мелодрама из жизни сибирских рабочих и шоферов на таежных зимниках…
– Вадим, вам срочная телеграмма! – Молоденький администратор, простуженный, как и вся киногруппа, поднялся в кабину крана и протянул мне желтый квадратный бланк.
«СВЕРДЛОВСК ГОСТИНИЦА «БОЛЬШОЙ УРАЛ» КИНОГРУППА «ЗИМА БЕСКОНЕЧНА» РЕЖИССЕРУ ВАДИМУ ПЛОТКИНУ ДИРЕКТОРУ КАРТИНЫ КОНСТАНТИНУ ЗАЙКО
УКАЗАНИЕМ ОБКОМА ПАРТИИ ФИНАНСИРОВАНИЕ СЪЕМОК ВАШЕГО ФИЛЬМА ПРЕКРАЩЕНО ТЧК НЕМЕДЛЕННО ВОЗВРАЩАЙТЕСЬ ЛЕНИНГРАД СО ВСЕМ СНЯТЫМ МАТЕРИАЛОМ ТЧК НЕВЫПОЛНЕНИЕ ПРИКАЗА В 24 ЧАСА ПРИВЕДЕТ К УВОЛЬНЕНИЮ ВАС СО СТУДИИ ТЧК ДИРЕКТОР СТУДИИ ЛАПШИН»
Я сунул эту телеграмму в карман мехового полушубка – это была четвертая телеграмма: две первые мы с Костей Зайко просто проигнорировали, а после третьей Костя организовал мне больничный лист – липовую справку от врача о том, что у меня воспаление легких. Хотя само появление этих телеграмм и шквал телефонных звонков со студии говорили о том, что нужно спешить снять все, что задумано, то есть потянуть еще съемку хотя бы два дня. Любой ценой! Может быть, даже мне лечь в больницу и из больницы руководить съемками…
Но тут на «козле» прикатил Костя Зайко. Есть два сорта административных гениев в советском кино. Первые – это жулики, которые используют идиотскую бюрократическую систему кинопроизводства для денежных махинаций (например, оформляют съемку многотысячной массовки, а обходятся сотней человек и разницу в оплате кладут себе в карман). А вторая категория – подвижники искусства. Тридцатилетний Костя Зайко был из второй категории, и всю свою молодую энергию он употреблял на то, чтобы мы сделали Кино – именно Кино, с большой буквы. И если для этого нужно было в Якутии остановить работу алмазного рудника и получить на съемки все шестьдесят сорокатонных «БелАЗов», работавших в алмазорудном карьере, – это мог сделать только Зайко. И когда нужно было получить полк солдат стройбата и за неделю построить в тундре настоящий ненецкий поселок, а потом еще и заселить его настоящими ненцами, – это мог сделать только Зайко. И когда понадобилось прямо в тайгу доставить вертолетом из Хабаровска врача-гинеколога, чтобы, не срывая графика съемок, сделать аборт нашей московской актрисе, – это тоже смог устроить только Костя Зайко…
При этом он никогда не присутствовал на съемках. «У киногруппы должен быть один лидер, как в армии должен быть один командир, – говорил он. – Моя задача – обеспечить вам завтрашнюю съемку, а на сегодняшней мне делать нечего». И он свято соблюдал эту заповедь и появлялся на съемочной площадке только в самых исключительных случаях – например, когда я снимал пьяную драку бичей на зимнике (в этом эпизоде принимали участие только два профессиональных актера, а остальные сорок девять были подлинные сибирские бичи и шоферюги).
Поэтому, когда из кабины подъемного крана я увидел «козлик» Кости, подкативший из бокового переулка к проходной Уралмаша, я понял: что-то случилось. Я отлип от окуляра и нервно закурил. А внизу Костя выпрыгнул из «козла» и по узенькой лесенке стал торопливо взбираться на подъемный кран. Он был даже без пальто, а в своем стильном двубортном итальянском костюме и в белой рубашке с французским галстуком, которых у него, на зависть всей студии, было три дюжины. И вообще, мой Костя был образцом нового типа советского бизнесмена семидесятых годов – он свободно говорил по-английски, регулярно читал голливудскую газету «Вэрайити», играл в теннис, курил только «Мальборо», носил итальянские костюмы и французские галстуки и два раза в неделю бывал в сауне «Интуриста», закрытой для простых советских смертных. Но сейчас, позабыв о своем импортном лоске и даже о своих кожаных итальянских перчатках, он голыми руками спешно перебирал промороженные стальные ступеньки вертикальной лестницы, а в большой холщовой сумке через плечо он зачем-то поднимал к нам на кран металлические блины – кассеты с кинопленкой.
– Ну? – сказал я нетерпеливо, когда его голова достигла дверцы кабины.
– В Питере КГБ арестовало материал.
– Что? Что?
– Час назад на студию приехали гэбэшники, зашли в монтажную и изъяли весь материал нашего фильма, даже шумовую фонограмму, – сказал Костя, запыхавшись.
– А негатив?
– Все подчистую. На нас настучал партком студии.
У меня перехватило дыхание.
– Они отвезли материал в Смольный, Романову, – продолжал Костя и зачем-то глянул на свои ручные часы «Сейко». – Он сейчас его смотрит.
– Кто смотрит?
– Романов, дубина! Романов сейчас лично смотрит материал нашей картины!
– Откуда ты знаешь? – не поверил я.
Романов, первый секретарь Ленинградского обкома партии, был знаменит своей ортодоксальной партийной консервативностью. Я бы сказал, что он был Лигачевым эпохи Брежнева.
– Знаю, – сказал Костя. – У меня свои источники информации.
– Но что он может понять? – сказал я. – Ведь фильм еще не смонтирован, без звука!
– То, что им нужно, они понимают. Мы с тобой через сорок минут вылетаем в Питер.
Питером, то есть Петербургом, Костя всегда называл Ленинград – как многие коренные ленинградцы.
– Я никуда не полечу, я должен доснять эпизод. А потом пусть они меня хоть сажают!
– Ты не успеешь доснять эпизод.
– Почему? У нас есть пленка и допуск на завод.
– Семь минут назад свердловское КГБ получило телефонограмму из Ленинграда изъять у нас всю отснятую пленку и выгнать нас с завода. Они будут здесь через несколько минут. Скажи оператору, пусть разрядит камеры и сунет туда эти кассеты. – И Костя протянул мне сумку с принесенными им кассетами.
– А это что за пленка? – спросил я, даже не усомнившись в точности его сведений. Я знал, что в каждом городе, где мы снимали, Костя первым делом кадрил местных телефонисток. Таким образом вся киногруппа и особенно падкие на любую юбку осветители и ассистенты оператора меньше рисковали прихватить триппер, а Костя Зайко получал бесперебойную связь с Ленинградом.
– Это чистая, засвеченная пленка. – Он сунул мне в руки принесенные кассеты. – Быстрее, Вадим! Мне еще нужно подумать, как вывезти нашу пленку из Свердловска. Нас с тобой будут обыскивать в аэропорту.
– Но какой смысл спасать эту пленку, если весь фильм арестован?
Он покосился на оператора и двух его ассистентов, стоявших поблизости, и сказал мне шепотом:
– Ты имеешь дело со мной, не так ли? – И вдруг впервые за все время нашей совместной работы сорвался на крик: – Я вам приказываю сдать мне всю снятую пленку! Я представитель администрации студии!
Я изумленно уставился на него, а он добавил сквозь зубы:
– Дурак! Делай, что я говорю! Быстро!
Внизу по боковому переулку уже катили к проходной завода две черные «Волги» – верный знак свердловского КГБ. А от здания управления Уралмаша к подъемному крану бежали три каких-то типа. Они так спешили, что, как и Костя Зайко, были даже без пальто и шапок…
9
– Советский – режиссер – должен – знать – на кого – он – работает!
Кулак Павлаша, министра кинематографии, увесисто отбивал по столу паузы после каждого его слова. Костя Зайко сумел-таки вытащить наш фильм из Смольного и из ленинградского КГБ – он сыграл на ведомственных амбициях министра кинематографии, в дела которого вдруг вмешался Романов, «провинциальный» секретарь обкома. Но, как говорится, хрен редьки не слаще. Теперь я сидел напротив холеной морды министра, между ним и мной была лишь полированная крышка его министерского стола, а по бокам от меня сидели Николай Лапшин, директор Ленинградской киностудии, и Станислав Межевой, главный редактор сектора художественных фильмов Министерства кинематографии. Павлаш только что просмотрел материал моего фильма в своем персональном кинозале на третьем этаже министерства, а точнее – ушел с просмотра посреди фильма, после эпизода пьяной драки в общежитии сибирских шоферов. Постукивая кулаком по столу, он синхронно с ударами произносил каждое слово отдельно:
– Даже – иностранные – корреспонденты – уже – не порочат – нашу – жизнь – так – как вы – в этом фильме!.. Кто – дал – вам – право – так – снимать – нашу – жизнь?
– Я снимал по сценарию, который вы утвердили.
– По каждому сценарию можно снять пять разных фильмов. Можно снять, как рабочие идут на работу летом, при теплом солнце, а можно, как вы, – зимой и ночью! – И Павлаш повернул свою бульдожью рожу к директору студии: – Вы что – не видели, что он снимает?
– Эпизод пьяной драки можно сократить, мы предлагали режиссеру… – испуганно сказал Лапшин.
Действительно, еще два месяца назад, до ареста фильма, все руководство студии просило меня вырезать этот и шесть других эпизодов, потому что заранее знали: министр не примет фильм в таком виде. Он просто не может принять его в таком виде, ведь по вечерам в Барвихе, райском правительственном дачном поселке под Москвой, он показывает каждый новый советский фильм своему тестю – члену Политбюро Кириленко и его закадычному другу Леониду Брежневу. Именно по этим фильмам Политбюро судит о жизни советского народа. И когда им показывают, как хорошо, как замечательно живут советские люди под их мудрым руководством, как энергично и самозабвенно строят коммунизм, – авторы таких фильмов, директора киностудий и сам министр кинематографии получают премии и правительственные награды. Но если показать Брежневу, Черненко, Кириленко, Андропову, Романову, Гришину и остальной партийной хунте, что под их «мудрым» руководством страна спивается, голодает, дерется, насилует жен и природу, не верит ни в какой коммунизм и от безысходности и всеобщего вранья снова пьет, дерется и вырождается… – что будет за это министру кинематографии? Так не лучше ли ему самому запретить очередной «очернительный фильм» – и черт с ними, с деньгами, которые на этот фильм потрачены! Эти деньги можно взыскать с киностудии, которая недобдила, не пресекла, не остановила зарвавшегося режиссера.
За семнадцать лет своего министерствования Павлаш отправил в небытие 120 художественных фильмов – и каждый стоимостью в полмиллиона рублей. А про мой сказал:
– В этом фильме нужно сократить все – включая титры…
– Извините, – мягко начал Стас Межевой, главный редактор сектора художественных фильмов. – Мне кажется, если мы дадим им возможность кое-что переснять и озвучить, чтобы несколько переставить акценты… – И тут же умолк под бычьим взглядом Павлаша.
– То что? – сказал ему Павлаш в упор. – Что они могут тут переставить? Какие акценты? Каждый кадр этого фильма пронизан клеветой на наш строй, а каждый эпизод – это социальная помойка! – И повернулся ко мне и Лапшину. – Или вы думаете, мы не понимаем, что вы нам приносите? «Зима бесконечна» – это ведь что значит? Что после хрущевской оттепели наступила бесконечная зима! Вот что это значит! Но мы даем вам деньги не для показа грязного белья нашего общества! Мы даем вам деньги на фильмы социалистического реализма! А вы тратите наши деньги на съемки своих сюрреалистических миражей!
– Это не ваши деньги, – вдруг сказал я. Не знаю, что на меня нашло, но со мной так бывает – в самом неподходящем месте я вдруг могу ляпнуть, что думаю.
Павлаш посмотрел на меня в недоумении, словно не поверил своим ушам. Даже его кулак повис в воздухе над столом.
Межевой и Лапшин с двух сторон больно пнули меня ногами под столом, да я и сам уже понял, что эта короткая – всего из четырех слов – фраза может стоить мне всей кинокарьеры. Но я уже не мог остановиться. Я вложил в этот фильм год жизни, я мордовал всю киногруппу в сибирских и уральских снегах на пятидесятиградусных морозах, я три месяца чуть ли не силой выбивал из актеров, художника и оператора их привычку «сделать красиво» и, наконец, увлек две сотни людей простой идеей «сделать так, как есть». Актеры, операторы, ассистенты, директор фильма и даже осветители поверили мне, и там, в Сибири, на съемках, мы все вместе вдруг распробовали этот наркотик – наркотик создания на экране правды. Не правдоподобия, а именно правды всей нашей нелепой жизни, состоящей из громких лозунгов, повсеместного вранья, водки и вырождения. Да, Павлаш был прав: в нашем фильме ничего нельзя было переделать или перемонтировать. Потому что каждый кадр был самой жизнью, без единой виньетки соцреализма. Но знал бы ты, бульдожья морда, сколько труда вложила киногруппа в этот каждый кадр! Не актеры, а настоящие геологи, бурильщики, шоферы, бичи и проститутки играли себя в массовых сценах за три рубля в день и еще говорили мне спасибо после каждой съемки – спасибо за правду об их собственной жизни! Так неужели я вырежу из этого фильма хоть один метр?
– Я сказал, что вы даете нам не свои деньги, – с упрямым остервенением повторил я Павлашу. – Вы даете нам деньги того народа, жизнь которого мы показали в фильме. И за эти деньги вы хотите получать от нас так называемый «сосилистический» реализм. Но ведь народ-то знает правду о своей жизни. Так зачем же врать?
Павлаш окаменело глядел на меня изумленным взглядом, как на человека, который вдруг свихнулся. А вокруг меня – и слева и справа – вдруг возник вакуум, словно Межевой и Лапшин отодвинулись от меня на километр, как от чумного. Еще бы! Ведь я даже слово «социалистический» произнес под Брежнева!
И вдруг я всей кожей ощутил смысл павлашевского взгляда – ему хотелось тут же, сейчас, позвонить Андропову, чтобы меня увезли в психушку.
Кремлевский барин, он сдержался и не унизился ни до крика, ни до доноса.
– Вы свободны, – произнес он спокойно. И срезанным подбородком указал нам на дверь.
В тот же день все киностудии Советского Союза получили приказ номер 78/612 по Министерству кинематографии СССР. Согласно этому приказу ни одна студия страны не имела права брать на работу бывшего режиссера Вадима Плоткина. А весь материал фильма «Зима бесконечна» был просто смыт.
…Каким-то образом члены нашей делегации обнаружили меня в углу кафетерия.
– А когда вы уехали из России?..
– А вам легко разрешили уехать?..
– Вы уехали один или с семьей?..
– Мне кажется, я читал вашу книгу «Гэбэшные псы». Конечно, я читал! Марта, это мистер Плоткин, он автор «Гэбэшных псов». Ты помнишь эту книгу?
– А почему вы эмигрировали в Америку, а не в Израиль?..
Журналисты, подумал я. Еще минуту назад у них не было никакого дела и они ленивыми мухами слонялись по венскому аэровокзалу. Но вот их ноздрей коснулся запах какой-то истории, и они тут же воспрянули и с удовольствием разминают на мне свое мастерство перекрестного интервью-допроса. Так футболисты, начиная тренировку, пасуют друг другу мяч – в одно касание, несильным ударом.
– Мистер Плоткин, что вы думаете о Горбачеве? Он победит?
– А вы не боитесь возвращаться? У вас там есть родные?
– Слушайте меня! Я поехал в советское посольство за визами для всей делегации, но у них там ничего не было готово, как всегда. И только виза для мистера Плоткина была готова! Ну, я позвонил ему и говорю: «Поздравляю, вы получили визу! Вы счастливы?» Он говорит: «Да». Но это «да» – я никогда не слышал такого мертвого голоса!
– Мистер Плоткин, а сколько вы не были в России?
– Вадим, могу я купить вам дринк? Что вы пьете? Немецкое пиво?..
Я пил немецкое пиво, скупо отвечал на их вопросы и видел, как рассеянное по всему аэропорту стадо делегации постепенно стягивается к нашему столику.
– Хай, можно тут сесть? Я Сэм Лозински, редактор «Милитэри ньюс» Шестого американского флота. Как вас звать?
– Дайана Тростер из «Хантсвилл войс», Алабама. А это мистер Плоткин, он русский эмигрант.
– О, действительно? Рад познакомиться. Что вы пьете, Дайана?..
– Извините, вы из Техаса?
– Нет, Колорадо! Роберт Макгроу, издатель. А вы?
– Мичико Катояма, «Джапан нэтворк ньюс».
– Рад познакомиться. А это мистер Плоткин, он русский. Он не был в России десять лет, а теперь едет с нами. А это Норман Берн, гражданский защитник из Флориды. Что вы будете пить, Мичико?..
– Хай, тут свободно? Я Дэнис Лорм, политический обозреватель. Только что прочел в «Бильд»: завтра в Москве будет первое заседание ельцинской оппозиции. Вы читаете по-немецки! О, конечно, я читал книги Плоткина, я же специалист по России! Нет, спасибо, я не пью алкоголь. Кстати, мистер Плоткин, вы знаете, что ваша книга «Атака на Швецию» до сих пор продается в лондонском аэропорту? Я сам видел неделю назад…
– Мистер Плоткин, меня зовут Ариэл Вийски. Только не «виски», а Вийски. Я из Южной Дакоты, профессор политологии и регулярно пишу в «Дакота кроникл». Скажите, в Москве можно пить водопроводную воду? Вы пили? Но все-таки лучше пить минеральную, правда?
– А какие шансы у балтийских республик выйти из СССР? Вы когда-нибудь были там? Что? Служили в армии в Эстонии? Братцы, давайте сдвинем столы, а то здесь не слышно…
Они сдвигали столики, обменивались визитными карточками и задавали мне вопросы. Шумно встречали европейских журналистов, которые присоединились к нашей группе в Вене, и задавали мне вопросы. Начинали флиртовать с дамами и задавали мне вопросы.
– А у вас есть семья?
– А в Москве менять деньги на улице опасно?
– А вы уже американский гражданин?
– А что вы думаете про русских националистов и про эту организацию, как ее – «Памьят»?
– Но в Ленинграде воду пить нельзя, правда?
– А вы знаете про шахтерские забастовки в России?
Самые сильные игроки довольно быстро поняли, что из меня не вытянешь материал для статьи, и оставили мяч на поле для игроков среднего калибра. Ведь в каждой группе именно среднее звено рано или поздно определяет своих лидеров и шутов. В нашей группе лидеров еще не было, а на роль если не шута, то юродивого было сразу два кандидата – Ариэл Вийски, с его поминутными вопросами «а мы не опоздаем на посадку?» и «можно ли пить воду в Москве?», и ваш покорный слуга. И кажется, я лидировал.
– О, Вадим, ваш английский вполне хорош! Если бы я могла так говорить по-русски! Между прочим, познакомьтесь, это мой муж, Грегори Огилви, мы преподаем в «Вильям энд Мэри колледж», Вирджиния. А чем вы зарабатываете на жизнь? Вы пишете в газеты?
– А почему вы не эмигрировали в Израиль?
– А сколько вам лет?
– Вы родились в Баку? Где это – Баку? О, это же там, где национальный конфликт!..
– Вадим, еще пива?
– Как называется его книга? «Гэбэшные псы»? Вадим, а вы уверены, что вас пустят в Россию после такой книги?
– Они же дали ему визу!
– Ну и что? Они могут устроить ему провокацию, как Нику Данилоффу. Вы же знаете КГБ! Я думаю, мы должны о нем позаботиться. Чтобы он там не оставался один. Мистер Вудстон! Барри! Это верно, что у нас назначена пресс-конференция с генералом КГБ?
– Абсолютно! Завтра, в 12.00. И еще, друзья! У нас будет встреча с лидерами русского национально-религиозного возрождения! Но это тайно от КГБ, прошу иметь в виду!
– О, как интересно! Мистер Плоткин, вы когда-нибудь были в КГБ?
– Нет, но собираюсь побывать. Я хочу задать им пару вопросов.
– О чем?
– Одиннадцать лет назад они арестовали мой фильм. Я хочу узнать, есть ли он у них.
– Как это – «арестовали фильм?» Арестовать можно человека, не фильм.
– В СССР можно арестовать что угодно…
– Еще одно объявление, друзья! – крикнул Барри Вудстон. – Внимание! В Москве, в нашей гостинице, я заказал аренду сейфа. Если кто-то имеет при себе драгоценности или ювелирные изделия…
Через час я начал различать, кто из них кто. Конечно, легче всего было запомнить Роберта Макгроу из Колорадо – это был двухметровый голубоглазый и громкоголосый мужчина в ковбойской шляпе, в ковбойских сапогах и с широким ковбойским поясом на белых джинсах. Его пояс и сапоги были декорированы серебряными заклепками, а белая рубашка – цветными вышитыми узорами. И хотя ему было куда больше шестидесяти, он пил, мне кажется, все подряд – виски и пиво, джин и пиво, бренди и пиво… При этом его крупное загорелое лицо совершенно не менялось от количества алкоголя. Правда, по мере нагружения дринками он все ниже расстегивал кнопки на своей рубахе, обнажая медно-загорелую грудь, покрытую седым пушком…
Вровень с ним пила только Дайана Тростер из «Хантсвилл войс», Алабама. Но она пила только водку со льдом, ничего, кроме водки. И в отличие от Роберта после каждого дринка на ее тонком лице выступали белые пятна, а после пятого или шестого стакана ее лицо побледнело целиком и на длинном носике появились росинки пота. Она аккуратно промокнула их салфеткой и заказала себе новый дринк.
Сэм Лозински – стройный сорокалетний, в темном блейзере и строгом галстуке, полковник и редактор «Милитэри ньюс» Шестого американского флота, Норман Берн – невысокий, но крепко сбитый, с живыми бархатными глазами адвокат-защитник из Флориды и молчаливый тяжеловес Джон О’Хаген – мэр города Мэдисон из штата Огайо, пили поровну – примерно один дринк в пятнадцать минут. С такой же скоростью поглощала дринки наша молодежь – шестеро 25-летних журналистов из Вашингтона, Лос-Анджелеса и Торонто, которые еще в нью-йоркском аэропорту объединились вокруг очень симпатичной Моники Брадшоу, полуфранцуженки-полушотландки с карими глазами и хорошенькой фигуркой. На плечиках своей кегельной фигурки Моника постоянно носила целую тонну фотоаппаратуры – она была фотокорреспондентом какого-то питтсбургского журнала.
Не больше двух дринков за все время нашей стоянки в Вене выпили администратор нашей делегации Барри Вудстон и совсем молоденький, в джинсах и кроссовках, черный журналист из Нью-Йорка Гораций Сэмсон, который трижды спросил меня, почему я эмигрировал в США, а не в Израиль.
При этом количество вопросов было обратно пропорционально количеству выпитых дринков. То есть больше всех меня допрашивали те, кто пил только минеральную воду, – Ариэл Вийски, профессорская пара Огилви из «Вильям энд Мэри колледж», четверо японцев и похожий на австрийского медвежонка вундеркинд Дэнис Лорм, который, кажется, знал о России абсолютно все – размеры безработицы, алкоголизма, численность КГБ, цифры национального дохода, количество политических заключенных и так далее, вплоть до процентов татарской, шведской и еврейской крови у Владимира Ленина и точной формы пигментного пятна на голове Горбачева.
– По данным ЦРУ, военный заговор против Горбачева невозможен, но консервативное крыло партийной номенклатуры с помощью саботажа в снабжении населения продуктами создает в стране ситуацию, на гребне которой они могут в будущем опрокинуть перестройку…
Вот так, словно по писаному, Дэнис говорил не замолкая и при этом поминутно поворачивался ко мне за подтверждением: «Верно? Вы согласны? Так?..» Даже когда нам объявили посадку, он, наспех досматривая кипу немецких, французских и английских газет, продолжал без остановки:
– Я согласен с вами на сто процентов! Горбачев начал перестройку, чтобы немножко починить старую систему. Абсолютно! Но когда он открыл капот советской экономики, то увидел, что там все сгнило и по всему телу системы – метастазы рака. Однако он сам такой же продукт системы, как Хрущев или Брежнев, и боится оторваться от КГБ и партийной бюрократии…
Под это журчание в окружении всей нашей группы я пошел на посадку в самолет, совершенно забыв, что это последняя остановка перед Москвой. Перед Москвой! Где-то сбоку, поодаль, промелькнула вывеска «Lost and Found»[7], и я мимоходом вспомнил, что десять лет назад это была первая в моей жизни вывеска, которую я самостоятельно прочел по-английски, усмотрев в ней какой-то скрытый шифр всей своей жизни. Но уже в следующий миг поток нашей делегации увлек меня дальше. И я – так же мельком, с недоумением – подумал, что этот аэровокзал как-то ужался за десять лет, стал меньше. Но предаться воспоминаниям я уже не успел – мы входили в наш «боинг».
Всего два часа назад мы сидели в нем, разбросанные по всему салону, и выходили в Вене совершенно незнакомыми, разрозненными людьми. А теперь, неся в руках свои недопитые дринки, мы вошли в самолет одной шумной компанией, на ходу обсуждая европейские события, политику Белого дома, роспуск венгерской компартии, рост цен на бензин и еще черт-те что, вплоть до вкуса немецкого пива. И я был в эпицентре этого клубка реплик, монологов, шуток, касаний плечом и паров алкоголя. Не прерывая разговоров, мы расселись в салоне одним плотным массивом, почти бесцеремонно меняясь местами с пассажирами не из нашей группы, и только после взлета я вдруг осознал, что – елки-палки! – я лечу в Москву, в Москву!
Но страха не было.
Я даже с удивлением поискал его внутри себя, потом глянул в иллюминатор – неужто мы уже летим? И тут же встретил вопросительный взгляд флоридского Нормана Берна.
– Вадим, не беспокойся! Если что – я буду твоим адвокатом! – сказал он. – Чиирс!
Мы чокнулись. И в тот же миг о наши стаканы ударил стакан полковника Сэма Лозински.
– Имей в виду, Вадим, – сказал он. – Шестой американский флот на твоей стороне!
– Спасибо.
– Вэлл, Вадим… – неторопливо произнес с заднего сиденья двухсоткилограммовый Джон О’Хаген, из штата Огайо. Кажется, он впервые открыл рот за все время нашего полета. Но слова его прозвучали весомо: – Если что-то случится с тобой в Москве, мы просто не дадим им зерно. Вот и все.
Они все говорили «Вадим» – с ударением на первом слоге. Но мне это уже не мешало. Ощущение того, что за моей спиной действительно стоят Шестой американский флот, фермеры Огайо и две дюжины американских, японских и европейских газет (плюс, конечно, эффект нескольких дринков), подняло мой дух почти на ту же высоту, на какой он был десять лет назад, когда я в этом венском аэропорту выносил из советского самолета еврейского младенца.
10
В начале нашего века супергигантская колония саранчи неожиданно перелетела из цветущей Абиссинии в пустыню Джибути, где вся тут же издохла от жары и голода. Французские ученые посчитали тогда, что масса саранчи превышает даже запасы африканских месторождений меди! И никто не мог понять, что же подняло такую тучу саранчи и понесло ее через море не на новые луга и зелень, а прямо на погибель. А русский ученый Вернадский, случайно наткнувшись в газетах на это сообщение, сформулировал наличие особого вида энергии – биохимической энергии живого вещества. Когда эта биохимическая энергия кончается, например у леммингов, они собираются в стада, идут в океан, не могут остановиться и тонут. И муравьи, исчерпав запасы этой энергии, вдруг вылезают из своего муравейника и движутся колонной по амазонским джунглям, пока не сдохнут…
Но это я уже цитирую другого ученого, Льва Гумилева, сына русского поэта Николая Гумилева, расстрелянного большевиками в 1921 году. Как потомок «врага народа», Лев Гумилев еще в юности попал в сталинские лагеря. И вот в 1939 году в общей камере ленинградской тюрьмы «Кресты», сидя на нарах, этот Гумилев размышлял об истории человечества. Почему Александр Македонский пошел в Индию, которая была ему абсолютно не нужна? Что его толкнуло на эту бессмысленную войну, после которой он тут же умер от ран и переутомления? Почему Ньютон отказался от семьи, от потомства, от любимой женщины и даже с гордостью написал: «Я всю жизнь работал ради науки и не пролил ни капли семени!»? Почему Наполеон повел солдат на Россию, которая была ему нужна так же, как Индия Македонскому?
И тут Гумилев с криком «Эврика!» вскочил с нар – он открыл явление, которое назвал «пассионарность». Иными словами, он открыл синдром, который появляется у некоторых людей или даже общества в результате мутации. Но зеки посмотрели на Гумилева как на идиота, и он опять залез на нары и смог рассказать о своем открытии только через 50 лет – в цикле лекций, которые прочел в 1989 году по ленинградскому телевидению.
Я не хочу вникать в тонкости теории Гумилева, но доскажу вам его вывод. По Гумилеву, Македонский, Колумб, Кук, Ньютон, Наполеон и так далее – отступление от человеческой нормы, уроды, плод неправильной мутации и травмы в генах. Травмы, которая могла случиться в результате, например, жесткого космического облучения, выброса солнечного протуберанца, кратковременной микродыры в земной ионосфере. «Все пассионарии – это, конечно, уроды, – говорит Гумилев. – Их устраняет естественный отбор. Но они успевают рассеять свой генофонд и оставить после себя памятники».
Я летел в Москву, не оставив после себя памятника. А с «уродами» Македонским, Колумбом, Наполеоном и прочими пассионариями меня роднило только одно – честолюбие. Честолюбие, которое в Нью-Йорке оказалось сильнее трусости и простого голоса разума. Именно эта сила подняла меня и понесла через океан в СССР. Однако на подлете к Москве, где-то над Брянском или над Можайском, моя духовная связь с Македонским, Наполеоном и другими великими пассионариями вдруг оборвалась. Я тут же понял состояние муравья или лемминга, который со всей стаей движется в гибельном направлении. Держу пари: в предчувствии смертельной опасности эти муравьи и лемминги начинают хохмить без остановки. И чем ближе к гибельной аравийской пустыне, тем громче шутит саранча. А лемминги с хохотом входят в гибельные воды. Точно так же, как я при посадке в шереметьевском аэропорту, когда колеса нашего «боинга» чиркнули по посадочной полосе и за иллюминаторами в вечернем сумраке помчались еловые леса Подмосковья.
– O.K.! Enough! Now I see my lovely Motherland and that is enough for me! Let’s go back [Все! Хватит! Я уже увидел мою любимую родину, с меня достаточно! Полетели обратно]! – вопил я, притворяясь, что шучу. – Barry! Tell the captain I’m not leaving the plane! I’ll go back with the crew [Барри, скажи капитану самолета, что я не выхожу на этой остановке! Я полечу назад с пилотами]!
Но когда самолет остановился и я увидел под его крылом двух солдат с автоматами на груди, мне стало не до шуток. Я сглотнул ком в горле и, старательно подбирая английские слова, сказал нашему ковбою из Колорадо:
– Мистер Макгроу, у меня в Москве много друзей, и я везу им всякие мелкие подарки. Но я не знаю, разрешат ли мне пронести столько подарков через таможню. Могу я отдать вам часть?
– Sure! No problem! – ответил он с легкостью, которую обретаешь только после дюжины пива. И небрежно швырнул мне через проход пустую сумку от видеокамеры.
По моим представлениям, Роберт Макгроу в своей ковбойской шапке, сапогах, да еще явно «под мухой» мог больше всех рассчитывать на снисходительность советских таможенников: в России обожают американские фильмы о ковбоях и с традиционной симпатией относятся к выпивохам. Я достал из-под сиденья свою дорожную сумку и стал горстями пересыпать в сумку Макгроу зажигалки, магнитофонные кассеты, калькуляторы, косметические наборы, женские колготки, баночки с кофе, презервативы, сигареты «Мальборо» и всякую ерунду, которая в Москве – жуткий дефицит.
Между тем все уже двигались к выходу. И только у меня вдруг ослабли ноги – я все не решался встать с кресла и сидел в нем с какой-то глупо-рассеянной улыбкой. Тут Норман Берн тронул меня за плечо.
– Я с тобой, пошли! – сказал он и крикнул вперед, Сэму Лозински: – Полковник, подожди! Ты идешь первым, Вадим за тобой, а я – за ним! Роберт, ты с нами?
– Yes, sir! – Роберт Макгроу браво расправил плечи и плотней надвинул на глаза свою ковбойскую шляпу.
– Let’s go [Вперед]! – приказал Берн.
И мы пошли к выходу – в эту трубу, соединяющую самолет с аэровокзалом, – как маленький взвод в атаку.
Прямо за порогом самолета стояли два русских солдата в зеленых погонах и с автоматами на груди. Зеленые погоны – это погоны пограничных войск, а пограничные войска в СССР – это часть КГБ. Держа руки на прикладах «калашниковых», эти два пограничника встречали каждого пассажира каменными лицами и напряженными взглядами, как потенциального террориста.
Но когда я перешагнул порог самолета, маленькая старушка Огилви из колледжа «Вильям энд Мэри» вдруг храбро подошла к этим солдатам:
– Hi, boys! How are you? Can I take a picture of you [Привет, ребята! Как поживаете? Можно я вас щелкну]? – И вскинула свой «Кэнон», отвлекая их внимание от меня, Лозински и всей нашей группы.
– No! No фото!!! – тут же рявкнул старший из них, с лычкой сержанта на погонах.
– Oh, sorry… – сказала храбрая миссис Огилви и с сознанием отлично выполненной миссии пошла за нашим «боевым» взводом.
Мы прошли в коридор и оказались в пустом и плохо освещенном зале, возле двух черных спящих питонов – транспортеров выдачи багажа. Я настороженно огляделся, словно попал в тот же окоп, где когда-то меня уже накрыло вражеским снарядом. Шереметьево! В сердце каждого русского эмигранта это слово торчит, как осколок последней гранаты, брошенной в него на прощание советской властью. Где-то здесь, за стеной, в соседнем зале вспарывали подкладку моего чемодана, прощупывали каждый шов в одежде и сломали буквы в пишущей машинке. Правда, не устроили проверку анального отверстия. Однако теперь, после публикации в двенадцати странах моих «Гэбэшных псов», что они мне устроят?
Впрочем, пока все было поразительно тихо и даже как бы безучастно. В огромном зале выдачи багажа царили полумрак и пустота. Ни нашего багажа, ни таможенников. Даже за витринами Duty-free Shop не было ни одного продавца. Только рядом с этим, уже закрывшимся на ночь магазином сидели в креслах пять русских грузчиков, одетых не в форму, а кто во что. Вытянув ноги и положив их на багажные тележки, они с напускным безразличием разглядывали нас из-под козырьков своих надвинутых на глаза кепок. Я тут же вспомнил рассказы советских туристов об этих грузчиках. Именно они и таможенники шереметьевского аэропорта связаны с московскими рэкетирами и сообщают им, что именно человек привез из-за рубежа в своих чемоданах. Охота идет в основном за компьютерами, звуковой техникой и киноаппаратурой. Получив от грузчиков «наводку», московские бандиты нападают на людей по дороге из аэропорта или являются к ним в квартиры с пистолетами и забирают компьютер, который сейчас стоит в СССР 50 тысяч рублей – четыре годовых зарплаты президента[8]…
Тут, прервав мои размышления, ко мне подошел двухметровый Роберт Макгроу. Он наклонился и сказал так, что эхо прокатилось через весь зал и загудело в коричневых трубах, которыми декорирован потолок шереметьевского аэровокзала.
– Вадим, – сказал Макгроу, – а что скажут таможенники, когда увидят у меня десять дюжин этого добра? Мне уже больше шестидесяти, мы приехали в Россию на девять дней, а у меня десять дюжин презервативов! Что я могу сказать – зачем мне столько?
– Дашь таможеннику пачку презервативов, он пропустит тебя без проблем, – нервно ответил я, оглядываясь на грузчиков. Ведь среди них обязательно должен быть гэбэшник, понимающий по-английски.
– Но зачем тебе столько гондонов? Ты хочешь умереть здесь? – не унимался Роберт. Из-за его громового голоса на нас оглянулись даже две японки из нашей делегации, стоявшие по другую сторону багажных транспортеров.
– Это не мне, – сказал я, краснея под перекрестными взглядами японских журналисток и русских грузчиков. – У меня много друзей в Москве. А согласно советской статистике, в СССР на одного мужчину приходится три презерватива в год! В Воронеже мужчины вообще пользуются надувными шариками вместо презервативов, я сам читал об этом в советской газете.
– Come on! – не поверил мне Роберт. Как все американцы, он считал, что эмигранты всегда преувеличивают негативную информацию о стране, из которой они бежали.
Японки отвернулись от нас, сохраняя на своих круглых личиках бесстрастное выражение, но грузчики продолжали из-под своих кепок рассматривать меня и Роберта. У него через плечо висела видеокамера. Я процедил ему сквозь зубы:
– Держи свою камеру.
– Не беспокойся, друг мой! – пробасил он на весь аэропорт.
Тут неожиданно дернулась лента транспортера и с ржавым металлическим урчанием стала выбрасывать наши чемоданы из черной глотки, завешанной резиновыми языками-полосками. А грузчики продолжали сидеть в своих креслах без движения, держа ноги на багажных тележках. Барри Вудсон подошел к ним, взялся рукой за одну тележку, но хозяин тележки сказал ему коротко:
– No. Rent.
– How much? – легко согласился Барри.
– One rouble.
– Но у нас еще нет советских денег, – растерянно сказал Барри по-английски. – Как насчет долларов?
– No. Forbidden [Запрещено], – так же кратко ответил грузчик.
Те, кто стоял рядом, досадливо крякнули и сами потащили свои тяжелые чемоданы к выходу с надписью «Nothing to declare». А Барри растерянно оглянулся – его чемоданы даже на вид были неподъемными. Я поспешил к нему на помощь и сказал грузчикам по-русски:
– Ребята, он вам даст доллар. Это же десять рублей!
– Мы не можем, – лениво ответил один из них. – Нам запрещено брать валюту.
– Но откуда у нас рубли? – сказал я. – Мы еще не прошли таможню! Доллары на рубли можно менять только после досмотра, вы же знаете!
– Сигареты, – коротко бросил сквозь зубы один из грузчиков, и я понял их игру. В СССР на черном рынке пачка «Мальборо» стоит 20 рублей, и для грузчиков такой вид расплаты «сувенирами» безопасней, чем носить в кармане валюту, полученную путем явного шантажа.
Мы дали им по пачке «Мальборо», сами нагрузили свои вещи на тележки и сами покатили их к выходу, к будке паспортного контроля. Ни один из грузчиков не поднялся помочь даже дамам, хотя получил за аренду тележки в двадцать раз больше, чем положено. Впрочем, слово «положено» здесь тоже неуместно, потому что тележки эти не принадлежат грузчикам, а выдаются им для обслуживания пассажиров. Но вместо обслуживания они выдумали свою систему эксплуатации капиталистов – не отрывая своих пролетарских задниц от кресел…
– Слушай, помоги хоть японкам! – сказал я одному из этих грузчиков, возясь с чемоданами старой миссис Огилви. Наши миниатюрные японки вдвоем поднимали на тележку один чемодан.
– Да пошли они на х… – небрежно отозвался грузчик, и я узнал голос милой родины.
– Vadim, may I ask you something [Вадим, можно вопрос]? – подошла ко мне Дайана Тростер, «Хантсвилл войс», Алабама. – У меня при себе шесть тысяч долларов наличными. Думаешь, мне нужно записать их в декларацию?
– O God! – У меня даже плечи опустились от досады. – Зачем вам столько денег в России?
– Well, я не знаю. Может, я куплю что-нибудь. Икону…
– Я не знаю насчет декларации, это зависит от вас. Но никогда не носите при себе больше сотни, ну – двух сотен. Остальное отдайте Барри Вудстону – я слышал, что он собирается арендовать в гостинице сейф…
– I see. Thank you… – сказала она с сомнением и отошла. Для меня это был последний повод задержаться в зале выдачи багажа.
Я набрал воздух в легкие и покатил свою тележку к очереди, стоящей перед будкой паспортного контроля.
– Вадим, сюда! – позвал меня Норман Берн из середины очереди.
– Ничего, я тут… – отозвался я не столько из скромности, сколько потому, что именно эта будка паспортного контроля обозначала роковой рубеж – Государственную границу СССР. Господи, сколько раз за последние три недели я прокручивал в уме этот момент перехода советской границы! Что будет, когда сидящий в будке пограничник увидит мой паспорт, где черным по белому записано: «Place of birth: U.S.S.R.»? «Вот он берет мой американский паспорт, – думал я, – видит, что я родился не в США, а в СССР, и тут же набирает мое имя на компьютере. А если у них еще нет компьютеров, листает спрятанную под стойкой картотеку! И конечно, вот он я, в списке: Вадим Плоткин, most wanted man!»
Что произойдет дальше, после того как пограничник найдет мою фамилию в списке людей, интересующих КГБ, я не знал. На меня наденут наручники? Меня окружат и уведут на допрос куда-нибудь в глубину аэровокзала? А может, меня сразу отвезут на Лубянку, во внутреннюю тюрьму КГБ? Или сначала, для проверки моих чемоданов, у меня «найдут» марихуану, кокаин, взрывчатку?
Я мог ожидать от КГБ всего – особенно после того, как мне первому оформили визу.
И, оттягивая переход через этот рубикон, я встал в очередь последним, после двух наших миниатюрных японочек. Но тут из середины очереди ко мне решительной походкой Юла Бриннера подошел Норман Берн.
– Come on! Let’s go! – сказал он непререкаемым тоном адвоката.
– Но я после этих леди!
– Все все понимают… – процедил он сквозь зубы, решительно взял мою тележку и покатил ее в середину очереди, где стояли полковник Сэм Лозински, ковбой Роберт Макгроу и огайский мэр-тяжеловес Джон О’Хаген.
И только тут я обратил внимание, что вся наша делегация – все тридцать человек! – словно бы невзначай, вполоборота, искоса, исподлобья или через плечо смотрят на меня. Даже те, кто уже прошел паспортный контроль, – даже они не ушли к стойке проверки багажа, а стоят возле будки паспортного контроля и – якобы роясь, кто в сумке, кто в карманах, – держат меня в зоне своих взглядов.
Я не понял, что это значит, и с недоумением осмотрел, ощупал себя и вытер вспотевшее лицо.
О’Хаген положил мне на плечо свою пудовую руку:
– Не волнуйся. Мы с тобой.
И только тут до меня дошло, что они, все до одного, даже те, кого я еще не знал по имени, даже наши миниатюрные японочки, даже зануда Ариэл Вийски, «вели» меня с момента моего выхода из самолета. Так во время второй мировой войны русские солдаты иногда подбирали во фронтовой полосе мальчишек-сирот, кормили их, одевали в военную форму, зачисляли в свою часть «сыновьями полка» и заботились о них как о родных детях. Пятнадцать лет назад я даже сделал фильм о таких мальчишках, это был мой первый фильм, он назывался «Юнга торпедного катера». А теперь, в возрасте пятидесяти лет, я вдруг сам превратился в такого же «сына делегации»…
Тем временем Сэм Лозински положил перед пограничником свой паспорт.
Мы ждали.
У Сэма польская фамилия, но она звучит и как русская. К тому же он полковник американской армии. Что будет?
Но пограничник бесстрастно шлепнул штамп в его паспорт:
– Проходите.
Теперь – моя очередь.
Я вдохнул воздух, словно собрался нырнуть, и шагнул к пограничной будке, положил свой паспорт на окошко.
Полная тишина воцарилась в зале – такая, что даже сержант-пограничник удивленно поглядел по сторонам. Но наши сделали вид, что и не смотрят на него. Тогда он открыл мой паспорт, глянул на фотографию, потом – пристально на меня. Не знаю, зачем американские фотографы просят вас улыбаться даже для паспортных фотографий. Теперь, чтобы соответствовать идиотской улыбке на своей паспортной фотографии, мне пришлось с усилием раздвинуть губы.
Пограничник опять взглянул на мое фото, удостоверился, что я это я, взял правой рукой штамп и шлепнул им по паспорту.
– Проходите.
Я шагнул от его будки, выдохнул воздух и вдруг…
– Hurray!! – раздалось со всех сторон.
Это вся наша делегация аплодировала моему мирному переходу советской границы.
Сержант-пограничник выглянул из своей будки, недоумевающе хлопая белесыми ресницами.
А еще через минуту мы с такой же легкостью прошли таможенный досмотр – таможенники даже не открывали наших чемоданов и сумок, а просто штамповали таможенные декларации:
– Проходите… Следующий… Проходите, пожалуйста…
Встречавшая нас молоденькая гидша «Интуриста» изумленно всплеснула руками:
– Господи, так быстро через таможню не проходила ни одна моя группа! Это, наверно, потому, что вы журналисты! Добро пожаловать в СССР!
– Это потому, что завтра у нас интервью с генералом КГБ, – сказал я ей по-русски.
Она глянула мне в глаза и тут же отвела взгляд – мы с ней сразу поняли друг друга. Генерал КГБ, с которым мы должны встретиться завтра, не хотел, чтобы эта встреча началась с жалоб на таможню, и приказал своим ребятам пропустить нас без помех. Но именно эта легкость, которая изумила даже советскую гидшу, подтверждала мою уверенность в том, что КГБ ведет нашу группу.
11
– Congratulations! You are home [Поздравляю, вы дома]! – Тихий голос миниатюрной японки прозвучал рядом со мной.
– Yes, I am, – сказал я. – Thank you…
– Are you o’key?
– Congratulations!..
Все – даже Гораций Сэмсон, даже Ариэл Вийски – пожимали мне руку, хлопали по плечу и поздравляли.
Да, я был дома. Я понял это вдруг, разом, когда через открытое окно автобуса на меня пахнуло родным запахом теплой московской пыли. Только теперь я вспомнил, что именно этот неповторимый запах возникал в моих первых ностальгических снах о России. А потом, чрез пару лет жизни в Америке, этот запах пропал, я забыл о нем напрочь. И даже не упоминал о нем в своих книгах! И вдруг снова эта теплая московская пыль, смешанная с пухом цветущего тополя и запахом жженого бензина, заполнила мои легкие, как воздушный шар летучим газом. Может быть, для кого-то воздух ничто, простая и даже вредная смесь пыли и газов, но именно эту смесь я вдохнул, когда родился, в этом воздухе я летал в своих детских снах, и этим воздухом я задыхался, когда целовал свою первую женщину. Конечно, есть в мире места, где воздух чище и ароматней, но, извините за патетику, нет для меня места родней.
Правда, здесь меня обзывали жидом… И здесь, точно в таком же переулке, мальчишки поймали меня, шестилетнего, повалили на землю и намазали губы салом: «Ешь, жиденок, сало! Ешь!»… А вот тут, у метро «Сокол», в магазине «Овощи», в двухчасовой очереди за сливами я сделал замечание ленивой продавщице: «Почему вы все болтаете по телефону? Мы стоим уже два часа!» И вдруг вся очередь повернулась ко мне и закричала: «Тебе не нравится – поезжай в свой Израиль!»… И это здесь, в Москве, уничтожили мой лучший фильм… И здесь, в ОВИРе, когда я подал документы на эмиграцию, меня назвали предателем Родины…
И все же нет для меня места родней, думал я, глядя на проплывающие за окном темные улицы ночной Москвы. Я даже снова впал в патетику – что за свойство у этого воздуха и этой земли?
– Congratulations! You are home! – сказал полковник Лозински. – Чувствуешь что-нибудь?
Я пытался заставить себя уснуть. Я внушал себе, что должен выспаться, ведь завтра трудный день – брифинг у американского посла, интервью с генералом КГБ, встречи с друзьями и еще нужно найти какой-то интересный материал для японского журнала, который заплатил за мою поездку.
Но на соседней кровати храпел гигант Макгроу, а за окном была Москва. И я не мог уснуть. Да и можно ли приехать на родину, где не был ровно десять лет, и тут же уснуть? К тому же я только что больше часа просидел у телефона и, несмотря на полночь, обзвонил почти всех моих московских друзей. Правда, оказалось, что половина из них в командировках на Западе или на дачах по случаю выходных. Ведь с приходом Горбачева именно люди моего поколения пришли в СССР к власти, да и сам-то Горбачев старше меня всего на 8 лет. И теперь именно те, с кем я жил в студенческом общежитии и в поисках работы обивал пороги киностудий, стали министрами, руководителями киностудий, главными редакторами газет и депутатами советского парламента. Они обзавелись дачами, машинами, детьми и титулами. Конечно, те, кого я застал в эту ночь дома, тут же кричали в телефон: «Когда ты приехал? На сколько? Мы должны завтра же встретиться!» И я всем назначил на одно время – в четыре дня в ресторане возле Дома кино. А потом, лежа в постели, я все прокручивал в памяти оттенки их голосов, реплики, вопросы… И невольно думал: а если бы я не уехал тогда? если бы остался? кем бы я был сегодня в России?..
Так провертелся я в кровати час или полтора, а потом встал и подошел к окну.
Сизый московский рассвет чуть проступал на горизонте. Первый трамвай проклацал внизу, в темноте, мимо станции метро «ВДНХ». Слева взлетела к небу подсвеченная прожекторами гигантская пенисообразная титановая стрела памятника космонавтам, которую выстроил еще Хрущев, а московские таксисты прозвали «мечтой импотента». Прямо за станцией метро простиралась огромная, больше чем Центральный парк в Нью-Йорке, «потемкинская деревня» Выставки достижений народного хозяйства. Каждая республика и каждая отрасль сельского хозяйства имеют здесь свои выставочные павильоны, помпезные, как дворцы Шехерезады. Говорят, что Сталин сам дорисовывал башенки и колонны на проектах этих павильонов и собственной подписью утверждал монументы перед ними, включая бронзовую корову перед павильоном животноводства.
Но совсем не этот предутренний московский пейзаж заставил меня одеться и выйти из гостиницы. Справа от нее была не видимая из моего окна улица Довженко. Там, за желтым кирпичным забором, стояли павильоны Киностудии детских и юношеских фильмов имени Горького, в которых я снимал свой первый фильм «Юнга торпедного катера». А за ними, на маленькой тихой улочке имени Эйзенштейна, располагался Всесоюзный государственный институт кинематографии – альма-матер всех советских киношников. И моя в том числе.
Я вышел из гостиницы, пересек трамвайные рельсы, миновал метро «ВДНХ» и прошел по сырому асфальту на север, к улице Эйзенштейна. Двадцать пять лет назад, после окончания киноинститута, я проделывал этот путь от ВГИКа до метро пешком почти каждый день, потому что в ту пору у меня часто не было денег на трамвай. И тогда я пешком обходил все московские киностудии, пытаясь соблазнить их своим сценарием «Зима бесконечна». Но даже в те времена хрущевской оттепели редакторы студий шарахались от этого сценария как черт от ладана. А точнее – как ангел от греха. Натасканным чутьем слуг Политбюро они уже тогда видели в этом сценарии то, что через 15 лет взбесило Павлаша, – правду. Вместе со мной слонялись тогда по студиям еще несколько молодых и голодных сценаристов и режиссеров, в том числе мой сокурсник Стасик Межевой со сценарием об алтайских раскольниках, Сема Шульман (муж легендарной советской кинозвезды Тани Самойловой) со своим эпохальным проектом «Ядерный век» о советско-американской гонке в создании атомной и водородной бомбы, Родик Тюрин с гениальным сценарием «Протопоп Аввакум» о первом русском религиозном диссиденте XVII века, Артур Пелишьян, чей студенческий фильм об Армении уже тогда собрал чуть ли не все международные призы. И Витя Мережко с тремя сценариями об украинском селе. В брюках, пузырящихся на коленях, держа под мышками папки со своими заветными сценариями, мы чуть не каждый день сталкивались в студийных коридорах и курилках, ревниво выясняя, кому, где, что сказали. Чаще всего студийные редакторши заявляли нам, что мы вообще не умеем писать по-русски. Обложив их крепким матом, мы скидывались последними пятаками и шли в буфет пить пиво. В ту пору в студийных буфетах еще продавали пиво, порой – даже чешское! А пропив последние пятаки, мы снова топали через всю Москву пешком: я, Стасик Межевой и Витя Мережко – в студенческую общагу ВГИКа, а другие – по своим московским квартирам.
Теперь я шел той же дорогой и думал: Господи, как разбежались наши пути! Стасик Межевой первый сошел с той волчьей тропы и стал редактором Госкино. Эпохальный проект «Ядерный век» нагло украл у Семы Шульмана один из знаменитых советских режиссеров, и Сема с горя разошелся тогда с Таней Самойловой, женился на какой-то иностранке и уехал из СССР в Австралию. Тюрин лет пять или шесть ходил в ореоле голодного гения и дошел до того, что согласился экранизировать «Целину» Брежнева. Знаменитого армянского художника, о котором мечтал сделать фильм Артур Пелишьян, убили гэбэшники, бездарно повторив сталинское убийство Михоэлса, – грузовиком влепили художника в стену; на этой почве Артур сам заболел манией преследования. А Витя Мережко, про которого редакторши чаще всего говорили, что он не умеет писать по-русски, стал самым кассовым советским драматургом. Мне же понадобилось сделать три компромиссных фильма, в которых реальная жизнь была упакована в глянцевую обложку социалистического реализма, чтобы усыпить бдительность редакторов и сделать свою «Бесконечную зиму». «Вадим! – говорили мне редакторы. – Как вы могли написать такую ужасную сцену: пятеро подростков пьют вино и играют в карты на деньги! Это же порочит нашу действительность! Нет, эту сцену нужно выбросить!» – «Но смотрите, у меня же написано: они играют в карты, а за ними по улице идет пионерский отряд с барабанами и знаменами! То есть плохих подростков всего пять, а хороших – сто! Даже не сто – двести!» – «Да? К-хм… Знаете что? Давайте так: мы вам разрешим оставить этот эпизод, если плохих подростков будет не пять, а три. Пять – это слишком много для одного города». – «А вы знаете, какова реальная статистика детской преступности в нашей стране?» – «Ну хорошо, Вадим, четыре. Договорились?»
Да, мне пришлось сделать три таких фильма, чтобы усыпить их бдительность и получить разрешение ставить «Зиму», за которую меня потом просто выбросили из кино…
– Эй! Скинемся на троих? – вдруг прервал мои воспоминания хриплый голос.
Прямо передо мной на влажном предрассветном асфальте стоял худой, тщедушный мужичок с дерзкими синими глазами, небритым круглым лицом и копной нечесаных пепельных волос. За ним, справа, у входа в магазин «Пиво – воды», толпилось человек сорок явных алкашей, терзающихся похмельной жаждой. Я хотел молча пройти мимо того мужика, но вдруг меня осенило, что надо же отметить встречу с родиной.
– А разве с утра продают водку? – спросил я, вспомнив горбачевскую антиалкогольную кампанию.
Он осмотрел меня с ног до головы, и что-то ему не понравилось во мне – не то мой иностранный вид, не то мой нос. Но молча повернулся и двинулся прочь. Но я остановил его:
– Подожди! Держи! – И протянул ему рубль.
Он посмотрел на рубль, потом на меня. Мой чистый русский язык убеждал его, что я свой, но этот рубль…
– Ты что? С Луны упал? – сказал он. – По рублику теперь на семерых скидываются!
Я вспомнил, что в целях борьбы с алкоголизмом Горбачев не только запретил продавать водку утром, но и втрое повысил цены на спиртное. Я вытащил из кармана тонкую пачку крохотных, как монопольные деньги, советских купюр, которые несколько часов назад получил в гостинице в обмен на двадцать долларов, и протянул мужику пятерку. Конечно, я мог дать ему и десятку, но я уже перевел свои мозги на путь его мышления и не хотел выглядеть перед ним полным идиотом.
Его глаза впились в эти бумажки – синюю пятерку и желтый рубль: жуткое умственное напряжение отразилось на гладком доселе челе – ему показалось диким, что я открыто вытащил из кармана пачку денег и даю ему аж шесть рублей! Но не взять деньги он не мог, ведь шесть рублей – это почти бутылка водки! К тому же вся очередь алкашей разом двинулась к нам, держа мои бумажки в скрещенье своих голодных взглядов.
Мужик выхватил у меня деньги, сунул их в карман вспученных на коленях брюк и гордо, как Наполеон перед битвой, встретил надвигавшуюся толпу:
– Отвали, шакалы! Это мой кореш!
Они остановились, и только тут я понял, на кого он похож – на того безногого инвалида, которого рисовал в Нью-Йорке Максим!
– Иди за мной! – приказал мне мужик и, словно прикрывая от стаи волков, прошел со мной плечом к плечу мимо очереди. Затем свернул в какую-то подворотню, увлекая меня за собой все дальше – во двор, в какой-то подъезд.
В подъезде было полутемно, грязно и пахло мочой. Стены были исцарапаны похабными надписями, дверцы почтовых ящиков разбиты. Я насторожился, жалея, что ввязался в эту историю. Потому что тут меня могли пырнуть ножом, стукнуть по голове или просто ограбить – без всякого КГБ. Но мой «кореш» уже тянул меня за руку наверх, и мне пришлось подчиниться. Мы взбежали на площадку второго этажа, он остановился перед какой-то обшарпанной дверью, сунул руку в свой бездонный карман, пошарил там и выгреб мои шесть рублей и кучу мелочи. После этого уверенно нажал кнопку звонка.
Я взглянул на часы – было пять утра по московскому времени.
Шаркающие шаги прозвучали за дверью, женский старческий голос спросил:
– Кто?
– Это я, Чумной!
– Чего тебе?
– Пузырь! – сказал мой «кореш», нетерпеливо переступив с ноги на ногу.
Дверь открылась ровно на ширину ладони, и в просвете стали видны не одна, а три – на разных уровнях – цепочки. Чумной протянул туда кулак со всеми деньгами. Я удивился: в мое время «пузырь» стоил всего 1 рубль 60 копеек, а он отдает больше шести рублей. Тем временем дверь закрылась, за ней послышалось бренчание мелочи, потом голос:
– Еще сорок копеек…
– Еще сорок копеек! Быстро! – лихорадочно сказал мне Чумной.
Я порылся в карманах. У меня не было советской мелочи, а было только два квотера – две монетки по 25 центов.
– Сойдет! – сказал Чумной, выхватил из моей ладони квотеры, сунул их в дверную щель и приказал: – Два стакана и закусить на валюту.
Через ту же щель в двери он получил неполную поллитровую бутылку, заткнутую тряпичной пробкой, два граненых стакана и мокрый соленый огурец.
Внизу гулко клацнула парадная дверь.
– Шакалы идут! Быстрей! – Чумной опять схватил меня за рукав и потянул вверх по лестнице.
Перепрыгивая через две ступеньки, мы взбежали на шестой этаж. Снизу были слышны шаги нескольких человек.
– Подсади! – торопливым шепотом приказал мне Чумной и взглядом показал наверх, к люку на чердак.
– Нет, я первый! – сказал я, поняв, что он может сбежать через чердак, а меня оставить.
Он хмыкнул:
– Башка варит! Давай! – И пригнулся, подставив мне спину.
Я влез на него, дотянулся до крышки люка, сдвинул его и, напрягшись, подтянулся.
– Быстрей! Руку! – приказал он снизу, сунул бутылку, огурец и два стакана в свои бездонные карманы и протянул мне вверх свои руки.
Снизу все ближе громыхали шаги алкашей.
Лежа в чердачной пыли, я потянул своего «кореша» в люк. Он прошаркал ногами по стене, потом влез в люк, тут же отодвинул крышку обратно и заложил ее толстой доской, подсунув эту доску под вбитые по бокам стальные скобы.
– Видал? Моя работа! – гордо показал он на эти скобы и сказал удовлетворенно: – Все! – Х… им, шакалам! Пошли! – И уверенно повел по темному и пыльному чердаку куда-то вглубь, где открыл дощатую дверцу – выход на крышу.
Стая сонных голубей шумно и неохотно взлетела из-под этой дверцы, оставив перед нами на шифере пятна жидкого помета.
– Б… Стрелять эту «птицу мира»! – сказал Чумной, перешагивая через помет. – Не свалишься?
– Постараюсь…
Я осторожно шел за ним, боясь поскользнуться на покатой и влажной от утренней росы шиферной крыше. Взглянув вперед, я увидел, куда он меня ведет – к крохотной площадке с двумя дюжинами телеантенн, похожих на вздыбленные половые щетки. «Неужели они до сих пор не имеют общих антенн?» – подумал я.
А мой «кореш» уже уселся на этой площадке, вытащил из карманов нашу бутыль, два стакана и огурец.
– Первую без закуси! – сказал он.
Я кивнул.
Тридцать лет назад, в Сибири, в тайге выше Полярного круга, геологи – разведчики тюменской нефти после целого дня работы на сорокаградусном морозе поставили на стол ящик с десятью бутылками питьевого спирта и сказали мне, двадцатилетнему: «Ну что ж, проверим тебя на спирт!» Затем налили мне и себе по полному стакану 96-процентного спирта и подожгли его в этих стаканах. Я оторопел, а они с усмешкой показали, как надо пить горящий спирт – выдохом через нос сбивать пламя, а губами пить…
Но то, что разлил сейчас по стаканам Чумной, не было похоже ни на спирт, ни на водку. Это была какая-то мутная, сизая жидкость.
– Что это? – спросил я.
Вместо ответа он нетерпеливо опрокинул в себя весь стакан, и я услышал, как жидкость забулькала в его горле. Потом он откинулся. Лег на спину и блаженно закрыл глаза.
Я понюхал свой стакан и посмотрел его на просвет. Это был картофельный самогон.
– Ты жид, что ли? – вдруг спросил меня сбоку Чумной.
Я глянул на него и увидел, что он смотрит на меня одним прищуренным глазом.
– Я такой же жид, как ты кацап, – сказал я.
– Ага. Понял. Из Канады?
– Дай выпить сначала. Не порть встречу с родиной.
Я поднял стакан и посмотрел вниз, вокруг себя. Было что-то невероятно обыденное в том, что меня окружало внизу – совершенно не изменившиеся, только еще более облупленные стены съемочных павильонов Киностудии имени Горького… четырехэтажное здание моего родного Института кинематографии, а напротив, через улицу, за кирпичным забором с колючей проволокой – приземисто-тяжелая коробка Института марксизма-ленинизма… и поливальная машина между ними, на улице Эйзенштейна… и первый утренний автобус, остановившийся напротив ВГИКа…
Как будто я никуда не уезжал, как будто не прошло десяти лет и не было в моей жизни никакой Америки.
Я шумно выдохнул родной московский воздух и залпом выпил стакан картофельной сивухи. Здравствуй, Россия!
– Пошла? – спросил Чумной.
Я послушал, как обжигающе-наждачный ком покатился в желудок, и лег на спину рядом с Чумным. Высокие июльские облака плыли над нами, первые блеклые лучи солнца освещали их с востока. Я закрыл глаза, чувствуя, как тихо и сладко поплыла моя голова. «Даже дети мои будут скучать по этой земле, – вспомнил я слова одного эмигранта. – А внуки – уже нет…»
– Ну, чего? Еще по одной? – предложил Чумной.
– Вон на той автобусной остановке я влюбился, – вдруг сказал я расслабленно. – Двадцать пять лет назад. С первого взгляда и – навсегда. Ее звали Анной.
– Так ты за ней приехал? – спросил Чумной.
– Нет.
– А зачем?
– Так… Посмотреть, как вы живете.
– Х…во живем, скоро воевать будем, – сказал Чумной, сел и вытащил из кармана складной нож-финку.
– С кем воевать?
– А сами с собой. Гражданская война у нас будет, – обыденно сообщил он, разрезал на колене огурец и разлил из бутылки еще по полстакана сивухи. – Сначала ваших будем резать, явреев, а потом друг друга. Аня твоя из наших была, русская?
– Да.
– Красивая?
– Очень.
– Эх… – Он огорченно крутанул головой. – И почему наши красивые бабы всегда с жидами?
Я не ответил. Я сидел и смотрел вниз, на автобусную остановку напротив ВГИКа. Двадцать пять лет назад она вышла из автобуса походкой Мэрилин Монро, и с тех пор во всем, что я делал – в моих фильмах и книгах, – главные героини носят ее имя.
– Ладно, выпьем за твою Аню, – сказал Чумной.
– Спасибо.
Через час я с пьяной сосредоточенностью вернулся в гостиницу, поднялся лифтом в свой номер, прошел мимо спящего Макгроу прямиком в туалет, сунул два пальца поглубже в рот, за язык, и вырвал в унитаз всю выпитую с Чумным сивуху. Потом прополоскал рот, разжевал большую таблетку «Пепта-бисмол», закусил таблеткой «Алка-зельтцер» и лег спать. Рядом, разметав по кровати свое двухметровое тело, храпел Макгроу.
…Она вышла из автобуса походкой Мэрилин Монро и пошла через улицу к парадному входу нашего института. На ней было открытое желтое платье, а под мышкой, под персиковым локтем левой руки, – какая-то папка. Прямые и тонкие, как шелк, русые волосы падали на обнаженные плечи, удлиняя ее круглое лицо с зелеными глазами и полными детскими губами.
Был конец июня, я только что защитил диплом и стоял на автобусной остановке, собираясь ехать на «Мосфильм». Но автобус ушел, а я остался стоять с открытым ртом, думая, что так не бывает, не может вот так обыденно выйти из автобуса живая принцесса моих детских снов – сказочная Аленушка, героиня всех русских сказок, которые я, еврейский вундеркинд, знал, конечно, в детстве наизусть…
Но это было, было! Живая Аленушка плюс Наташа Ростова плюс Белоснежка плюс Татьяна Ларина плюс Красная Шапочка плюс бедная Лиза плюс Снегурочка плюс Соня Мармеладова и так далее, и так далее, уходила от меня через улицу имени Эйзенштейна. И ровно через десять шагов должна была смешаться с толпой длинноногих принцесс и поблядушек, которые именно в это время, в июне, тысячами съезжаются в наш ВГИК со всей страны в надежде поступить на актерский факультет и стать кинозвездами. Старшекурсники постоянно выуживали среди них самых роскошных и длинноногих, готовых на все ради эфемерной помощи на вступительных экзаменах. Вот и сейчас там, в этой толпе у входа во ВГИК, уже котами ходят наши армяне с третьего курса режиссерского факультета. Конечно, они немедленно подвалят к «Аленушке» и…
Я побежал через улицу, схватил ее за локоть:
– Девушка, минутку!
Она обратила ко мне зеленые глаза, в них не было ни испуга, ни удивления.
– Что?
– Я… это… Я подумал… – замямлил я, ощутив вдруг слабость в коленках. От полного совпадения этой девушки с идеалом детских, еще досексуальных, снов я вблизи нее совсем потерял голову. И промямлил самое банальное: – Я только что защитил диплом режиссера. Может быть, вам нужна помощь для актерского показа?
– Спасибо. Но я не поступаю на актерский факультет.
– На какой же? – изумился я.
– На редакторский. Видите ли, мне уже девятнадцать лет, а на актерский берут только до восемнадцати.
– Понятно… – смешался я. И поскольку сказать мне было больше нечего, промямлил тупо: – Тогда это… Извините… Всего хорошего…
– Подождите! – вдруг сказала она. – А как вас зовут?
– Вадим, – вспыхнул я. – Вадим Плоткин. – И, зная, что всех иногородних абитуриенток поселяют на первых двух этажах нашей общаги, добавил: – Я живу в общежитии, комната четыреста один. А вы? Вы откуда приехали?
– Ниоткуда. Я москвичка. Мне кажется, вы сейчас пропустите второй автобус. Меня зовут Анной. Анна Муравина. Вы будете за меня болеть? – В ее зеленых глазах было все – и веселое девичье кокетство, и вызов, и страх абитуриентки, и летняя истома ее персикового тела, и спокойная уверенность неотразимо красивой женщины.
От этой смеси мои ноги стали ватными, а руки и живот покрылись гусиной кожей.
– Конечно! – сказал я замороженным голосом. – Когда у вас первый экзамен?
– Через две недели, русская литература. Вы придете?
– Обязательно! Спасибо! – выкрикнул я и в панике от ее русалочьих глаз убежал к подходившему автобусу…
Как будто можно сбежать от судьбы!
За двадцать пять последующих лет я сбегал от Анны десятки раз – к другим женщинам, в другие города и даже в Америку. Но вот я опять в России – и кто же мне снится в первую ночь, едва я закрыл глаза?..
…Я лежал на своей койке в пустой комнате студенческого общежития, ковырял из стены известку, жевал ее и думал о том, какой я дебил. Вот уже неделю я каждый день хожу во ВГИК, но нет в этих списках никакой Муравиной! А я, кретин, даже не спросил у нее телефон! Ну разве из такого тюфяка может выйти режиссер? Встретил женщину своей жизни и тут же бежал, даже не спросив номера телефона! А из восемнадцати Муравиных, указанных в московском телефонном справочнике, восемь номеров не отвечают, а десять послали меня к чертям. Как же мне найти ее? На редакторский факультет ВГИКа принимают, как известно, только детей нашей кремлевской элиты, так неужели она одна из них и телефон ее папаши засекречен?
Лежа у открытого окна, я в отчаянии грыз выцарапанную из стены известку и материл себя как мог. Кто-то постучал в дверь, я не ответил – пошли они все, я не хочу никого видеть, я хочу сдохнуть!
Дверь со скрипом открылась, и я уже собрался встретить матом очередную просьбу соседей о соли, чае или спичках, но первое же слово комом застряло в горле.
В дверном проеме стояла Анна. Солнце било через окно прямо ей в глаза, она близоруко прищурилась:
– Извините, здесь живет Вадим Плоткин?
Она пришла – ко мне?!
Я сел, поперхнулся:
– Да… Ззз-за-заходите…
– Ой, это вы! Я не вижу против солнца! Вы предлагали мне помощь, вот я и пришла. У меня через неделю экзамен по литературе, и я подумала…
Всю неделю до экзамена мы ходили с ней по Москве, и я рассказывал ей историю русской литературы. Пушкин и Лермонтов, Толстой и Достоевский, Гоголь и Салтыков-Щедрин, Фет и Тютчев, Кольцов и Некрасов, Надсон и Бальмонт, Маяковский и Хлебников, Пастернак и Платонов, Мандельштам и Ахматова… – все классики русской литературы шли за нами по набережным Москвы-реки, по Чистым прудам и по Гоголевскому бульвару. Я тащил их через всю Москву без устали, как бурлак, я потрошил их произведения, я сталкивал их с царями и революционерами, я цитировал их наизусть целыми кварталами, проспектами и бульварами. При этом контраст между юной и царственно-русской красотой Ани и моим нищенским еврейским видом был такой, что я постоянно наталкивался на выражение шока в лицах прохожих. Но чем голоднее становился я к концу дня, тем ярче и вдохновеннее звучали мои лекции…
Через неделю на письменном экзамене по русской литературе Аня получила двойку. Она была не в ладах с правописанием и сделала в своей работе больше сорока грамматических ошибок.
Но мы продолжали встречаться. Я приходил на эти свидания пешком, а она приезжала на такси, и после нескольких часов прогулки она, словно ненароком, заводила меня в какое-нибудь модное кафе или ресторан и заказывала сациви, шашлыки, «Цинандали». То, что платила она, а не я, убивало! Откуда у нее деньги? Я уже знал, что она была год замужем за известным актером, а теперь разводится с ним и живет у матери в рабочем районе, на окраине Москвы, и что рой сынков партийной элиты чуть не каждый день появляется под ее окнами на «мерседесах» и «жигулях». И я подозревал, что деньги, которые она тратила на меня в ресторанах, – от них. А эти ребята даром не платят…
Потому после каждого нашего свидания я переставал звонить ей – пробовал вырвать ее из своей души. Обычно эта бессонная и кровавая, как аборт, работа продолжалась неделю, а затем, не выдержав, я говорил себе: «Ладно, позвони ей! Позвони, и ты увидишь, что ее нет дома, что она уехала кутить на какую-нибудь правительственную дачу!» Но она оказывалась дома, и мы снова встречались. И как я ни сопротивлялся, мы опять попадали в ресторан «Метрополь» или «Националь», и опять она тратила на меня за вечер столько, сколько средний рабочий заколачивает за две недели.
В конце концов я принял соломоново решение: я позвонил ей в субботу, в 11.30 вечера, твердо рассчитывая не застать ее дома. А когда она сонно ответила на звонок, я сказал, что должен видеть ее немедленно. И не где-нибудь, а в центре Москвы. Мой расчет был прост: если у нее ночует мужчина, она ни за что не поедет в центр, это почти час на метро.
Но она приехала. И тогда, в час ночи, сидя на скамейке перед Большим театром, я сказал:
– Я не могу без тебя жить, и я не могу сейчас сделать тебе предложение, потому что я нищий и безработный. Но дай мне полгода! Обещай, что за следующие шесть месяцев ты не выйдешь замуж! Можешь делать, что хочешь, можешь встречаться, с кем хочешь, – я не буду тебе ни звонить, ни мешать. Но дай мне полгода! Я должен знать, что, если я за полгода пробьюсь в кино, ты еще будешь свободна! Я люблю тебя!
– Хорошо, Вадим, – сказала она, зябко кутаясь в какую-то кофточку от сырости той сентябрьской ночи. – Если ты хочешь, я могу подождать полгода. Но почему мы должны были встретиться сейчас, срочно?
– Потому что я схожу с ума! Ты мешаешь мне жить, ходить по студиям, драться за свое кино. Я дошел до ручки!
– Но ты же сам не звонишь мне неделями, а теперь собираешься не звонить полгода!
– Это разные вещи! Если я буду знать, что ты меня ждешь, я за эти полгода стены пробью!
– Хорошо, Вадя. Я буду ждать тебя.
Я стремительно встал со скамьи:
– Спасибо! Пока!
– Подожди! У тебя есть деньги на метро?
– Это не важно! Я не возьму у тебя ни копейки! Я дойду пешком! Пока!
– Идиот! Стой! Ты какой-то безумный! Все-таки я теперь в каком-то смысле твоя невеста… – И она поцеловала меня прямо в губы.
Это был наш первый, двадцать пять лет назад, поцелуй, но я помню его до сих пор – он был головокружительней даже той минуты, когда меня, семнадцатилетнего, сделала мужчиной моя тридцатилетняя соседка. И вообще, хотя мы встречались уже два месяца, я только в этот миг ощутил пьянящую уступчивость ее губ, упругость ее груди и обволакивающее тепло ее тела.
Но я оторвал ее от себя – мне уже некогда было целоваться даже с ней! Теперь, как боксер перед выходом на ринг, я весь был поглощен предстоящей схваткой с хозяевами советского кинематографа. И, помню, я бегом побежал по ночной Москве в общежитие, неся Анин поцелуй, как орден, и досадуя лишь на то, что рабочий день на киностудиях начнется только через несколько часов…
Я позвонил ей почти через год – в день своего рождения и через неделю после того, как был запущен в производство мой первый фильм «Юнга торпедного катера». Я позвонил в семь утра, потому что уже в 10.30 должен был улететь в Мурманск искать место для натурных съемок. Это был совершенно формальный звонок – я был уверен, что даже если Аня и не вышла замуж, она уже давно забыла идиота, который взял с нее слово ждать полгода, а сам даже не позвонил. Но раньше я не мог – еще целую неделю назад, до запуска моего фильма, я был никто.
– Алло… – прозвучал в трубке ее заспанный голос, от которого мои ноги тут же стали ватными.
– К-хм… Это Вадим… – произнес я враз осипшим голосом.
– Ваденька! – воскликнула она. – С днем рождения! Где ты?
– Откуда ты знаешь про мой день рождения? – изумился я.
– Я помню. Откуда ты звонишь?
– Из гостиницы «Армения». Через три часа я улетаю в Мурманск на выбор натуры. Я запустился с фильмом…
– Можно, я тебя провожу?
– А ты… ты еще свободна? – спросил я без дыхания.
– В каком ты номере? – спросила она.
– В двадцать восьмом.
– Я приеду через сорок минут. Мы успеем позавтракать вместе, не завтракай без меня! – И она положила трубку.
Вы можете себе представить, что со мной было, пока я ее ждал?
Через час она вошла в номер, близоруко щурясь своими зелеными глазами русалки, и вручила мне, ошеломленному, огромную охапку алых роз и бутылку шампанского. Заняв таким образом мои руки, она шагнула ко мне, обняла и поцеловала в губы.
Это был наш второй, двадцать четыре года назад, поцелуй, но я и его помню до сих пор. Потому что это был поцелуй не только любимой женщины, но и… матери. Да, именно в Ане сошлось для меня все: и мальчишеский идеал женской красоты, и мгновенно преодоленный эдипов комплекс. Помню, как от этого поцелуя что-то меня отпустило, освободило, словно все свои двадцать восемь лет до этой минуты я простоял по стойке «Смирно», а теперь получил команду «Вольно!» И пока я, растопырив руки, истуканом стоял перед ней, как Соломенное Пугало перед Волшебником Изумрудного города, она вдруг одним движением сбросила с себя платье. В следующее мгновение мы были уже в постели. Именно там, на гостиничной кровати в Столешниковом переулке, на простынях с жирными фиолетовыми штемпелями «Гостиница АРМЕНИЯ, Управление бытового обслуживания Мосгорисполкома», ваш покорный слуга убедился, что Анна была действительно женщиной всей его жизни – самой волшебной из тех, которые были у него до и после нее. От ее груди так пахло теплом и уютом моей матери, что я мгновенно превращался в младенца, чмокающего губами, и одновременно дикая вспышка желания аркой вздымала мой позвоночник, как цунами вздымает морскую волну. Я зарывался в ее тонкие русые волосы, я метался по ее телу и сатанел от бешеного желания иметь ее всю, целиком, сразу и везде – ее шею с завитками русых волос, ее персиковые плечи, высокую грудь, живот, бедра, мягкие коленки и даже ступни ее ног!
Так щенок, привезенный из городской квартиры в весенний лес, мечется по лесной опушке, шалея от сотни оглушающих запахов и соблазнов охоты, гона и страсти. И так моя пятилетняя дочь Хана лихорадочно мечется по магазину Toys Are Us, хватая с полок игрушки…
А Аня, успокаивая меня и одновременно возбуждая до щемления в сердце, мягко сползала по мне вниз, целуя мою шею, грудь, живот. И когда ее теплые, мягкие, материнские губы коснулись моего изнемогающего от напряжения «памятника космонавтам» – о Господи! О-о-о-о…
Я проснулся. Я проснулся от того, что кончил в том прекрасном сне. Еще с минуту я полежал в дреме, не желая расставаться с ее губами и возвращаться из той блаженной постели в реальный день. Но странная солнечная тишина вокруг заставила меня вспомнить, что я – в Москве! В Москве!!! На 22-м этаже гостиницы «Космос»!
От этой мысли я рывком сел на кровати и взглянул на часы. Было 11.35 утра, кровать Макгроу, моего соседа по комнате, была пуста. Да и немудрено – ведь на 10 утра был назначен брифинг нашей делегации у американского посла Мэтлока, а на 12 – встреча с генералом КГБ в конференц-зале агентства печати «Новости». Брифинг у посла я проспал, а до встречи с генералом оставалось всего 25 минут. Я выпрыгнул из кровати в ванную, швырнул свои липко-грешные трусы в мусорную урну и встал под душ. Но даже горячий душ далеко не сразу смыл с меня мой первый московский сон. А точнее – даже стоя под душем и смывая с себя следы этого грешного сна, я продолжал вспоминать день и вечер октября 1965 года…
…Да, от прикосновения к Ане – даже к ее ресницам! – я вспыхивал желанием, как сухая солома вспыхивает от искры. После первого акта любви я прямо из постели позвонил в «Аэрофлот» и аннулировал свой вылет в Мурманск. Положив трубку, я уже был готов ко второму акту. После второго акта я позвонил своему кинооператору и сказал, чтобы он и художник фильма летели в Мурманск без меня. Положив трубку, я был уже готов к третьему акту. После третьего акта она позвонила знаменитому художнику Илье Глазунову, который, оказывается, писал ее портрет, и пригласила его на нашу свадьбу. Когда она положила трубку, я уже был готов к четвертому акту. После четвертого акта она позвонила знаменитому кинорежиссеру Марлену Хуциеву и тоже пригласила его на нашу свадьбу. Когда она положила трубку, я уже был готов к пятому. А после него…
Короче, это продолжалось до вечера – non-stop. Вечером мы пошли кутить по московским ресторанам, отмечая нашу помолвку. Теперь у меня были деньги, ведь я получил гонорар за сценарий «Юнга торпедного катера» – аж четыре тысячи рублей! Но куда бы мы ни пришли, я видел изумление окружающих – никто не понимал, почему эта русская царевна с еврейским пигмеем. В баре Дома журналистов два молодых поляка открыто пялились на нас и даже делали Анне недвусмысленные знаки. Я уж собрался дать им по роже, но Аня сказала:
– Вадя, подожди!
И повернулась к полякам:
– Шляхта хочет купить себе красивую русскую девочку? Правда, паны!
Они оба с готовностью улыбнулись сальными улыбками.
– А паны мають гроши? – спросила она.
– О, конечно. – И оба поляка быстро достали из карманов бумажники, набитые советскими и польскими деньгами.
– Ну-ка, ну-ка! Дайте я посчитаю, хватит ли у вас денег на такую девочку! – потребовала она деньги.
Поляки, чувствуя на себе взгляды окружающих, неохотно вручили ей деньги.
Аня сложила вместе две пачки их денег и небрежно пролистнула, как колоду карт.
– И это все? Да вы же нищие! Русские девочки стоят дороже! – И она швырнула все деньги на пол, прямо к их ногам.
Пока поляки, красные от унижения и бешенства, собирали с пола свои десятки и двадцатипятирублевки, она сказала:
– Вадя, напои их, пожалуйста! Я хочу, чтоб они были пьяные!
Я напоил поляков армянским коньяком, а потом – уже в баре Дома кино – я поил коньяком каких-то французов, а затем – в баре Дома художника – каких-то грузин и немцев… И только после всего этого мы с ней приехали в гостиницу «Армения» – далеко за полночь. Я сунул швейцару десятку, и он без звука открыл парадную дверь. Мы поднялись на второй этаж. Там сидела ночная дежурная лет тридцати с халой на голове – в ее обязанности входило следить, чтобы ни одна посторонняя дама не оставалась в гостиничных номерах после одиннадцати вечера. Но не успела она и рта открыть, как я положил перед ней двадцать пять рублей. Она тут же вручила мне ключи от номера и еще спросила, не нужно ли нам чаю или кофе. Нет, нам нужна была только постель.
Мы вошли в номер и бросились раздевать друг друга – я срывал с Ани платье и лифчик, а она, хохоча, стаскивала с меня брюки и трусы, которые никак не снимались, потому что мешал вздыбленный «памятник космонавтам». Наконец она справилась с моими трусами и опустилась передо мной на колени. Держа этот «памятник» двумя руками, вдруг сказала с болью, как выдохнула:
– И все-то у вас получается! И кино, и бабы!
– У кого – у «вас»? – спросил я в недоумении.
– Ну, у вас, евреев!.. – И она приблизила к моей «мечте импотента» свои алые, теплые, мягкие губы.
Я отстранился.
– Подожди! Ты что – антисемитка?
Не отвечая, она обняла мои колени и потянула к себе. Но я резко схватил ее под мышки, поднял с пола и заглянул в ее пьяные зеленые глаза.
– Ты антисемитка? Отвечай.
– Какая тебе разница? – ответила она устало. – Я твоя жена.
– Нет, – сказал я, чувствуя, как стремительно тает моя «мечта импотента». – Мою мать звали Ханой, и мою дочь будут звать только Ханой и никак иначе! Ты родишь мне Хану?
Она усмехнулась, и это была плохая улыбка. Это была ужасная улыбка, которая решила все в нашей жизни.
– Ты еще Хаима у меня попроси, Вадя. Или Абрама… – сказала она.
Я молчал. Я смотрел на нее в ужасе и молчал.
– Не будь идиотом, Вадя, – сказала она. – Мои предки – кубанские казаки. Если я рожу Хану или Абрама, они перевернутся в гробах.
Я подошел к ночному окну и прижался горячим лбом к холодному стеклу. Освещенный единственным уличным фонарем, Столешников переулок был совершенно пуст. И точно такая же пустота вдруг охватила меня. Мою мать звали Ханой, моего отца – Хаимом, а женщина всей моей жизни оказалась антисемиткой. И ее предки наверняка резали моих предков…
– Одевайся, – сказал я, не поворачиваясь. – Я отвезу тебя домой.
– Дурында, иди сюда! – Она легла на кровать совершенно голая и уверенная, что стоит мне прикоснуться к ней, как моя копия «памятника космонавтам» взметнется выше оригинала.
– Я не хочу тебя. Я жид.
– Еще как хочешь! – отозвалась она с усмешкой. – Ты известку жрал – так хотел меня! Иди же сюда, дурында, иди! – И она похлопала ладонью по постели рядом с собой – так домашнему псу милостиво предлагают место рядом с хозяйкой.
Я отрицательно покачал головой:
– Я люблю тебя, да. Но – я – тебя – не – хочу!..
– Ложись, – попросила она. – Я сделаю тебе так хорошо, что ты забудешь и мать, и дочь. Я ведь женщина всей твоей жизни, запомни это. И ты мой мужчина. Иди сюда.
Я смотрел на нее, стоя у окна. Уличный фонарь освещал прекрасное тело с молодой грудью, лирой живота и льняным пушком на лобке. И я знал, что она действительно может заставить меня забыть и мать, и отца, и всех предков, и будущих детей. Но именно это наваждение я должен был теперь разрушить, немедленно разрушить, сию минуту!
Я снял рубашку и голый лег возле нее на кровать. Мое плечо, рука и бедро немедленно ощутили пьянящее, сатанинское тепло ее тела. Но я приказал себе умереть, я усилием воли остановил свой пульс и убил все проявления жизни своего тела.
Не поворачивая ко мне головы, она ждала. Потом, минут через пять, ее рука осторожно коснулась моего тела, паха. И замерла на нем в изумлении, потому что там не было жизни. Никакой жизни.
Можно ли оскорбить женщину сильнее?
Господи, с тех пор прошло четверть столетия, но я с поразительной ясностью помню те томительные пять, десять, пятнадцать минут, которые решили всю нашу жизнь. Мы лежали друг подле друга затаив дыхание, как звери в засаде, и напряженно выжидали. Кажется, даже наши сердца прекратили стучать…
Через пятнадцать минут Аня молча встала с постели и принялась медленно, очень медленно надевать чулки. Конечно, она еще ждала, что я наброшусь на нее сзади – ее спина, бедро, грудь, вытянутая нога, – все в эту минуту было и вызовом, и призывом.
Но я быстро оделся и по телефону вызвал такси.
Потом побросал свои вещи в дорожную сумку и позвонил в аэропорт. Диспетчер аэропорта сказала, что первый самолет на Мурманск в пять утра. Я попросил оставить мне место.
На улице под окнами гостиницы остановилось такси.
Я взял свою сумку, подошел к двери и повернул ключ. Розы, которые подарила Аня, остались на столе, в графине. А я открыл дверь и чуть отступил, жестом пропуская ее вперед.
И тут я увидел ее глаза.
Она стояла перед распахнутой дверью, но ее глаза все еще не верили, что я, еврейский Квазимодо, показываю ей на дверь. Ей, из-за которой я известку жрал!
Презрительно усмехнувшись, она вышла из комнаты и пошла по коридору такой походкой, которой можно вылечить даже безнадежных импотентов. Я вышел за ней с сумкой в руке и наткнулся на изумленный взгляд дежурной по этажу. Я положил перед ней ключ от номера и сказал:
– Я уезжаю. Всего хорошего.
– Ты с ума сошел? – вдруг выкрикнула эта дежурная каким-то задушенным голосом.
– Почему? – удивился я.
– Такую девчонку – отпустить? Среди ночи?!!
Я не ответил, пошел по лестнице и услышал у себя за спиной:
– Жиды! Что они понимают в бабах!
«Дура!» – подумал я, вышел из гостиницы и открыл перед Анной дверцу такси. Потом сказал водителю:
– Сначала на Кабельные улицы, потом во Внуково, в аэропорт.
Я высадил Анну на Второй Кабельной улице, перед старым двухэтажным домом номер 28, в котором жила ее мать. И… улетел в Мурманск, уверенный, что улетаю от Ани навсегда.
12
…Когда в гостинице «Космос» я вышел из номера, до пресс-конференции генерала КГБ оставалось шестнадцать минут. Я с нетерпением ждал лифта, но первая кабина оказалась занята ремонтными рабочими, вторая – забита пассажирами так, что и ладонь не просунуть, а в третью, забитую еще больше второй, я уже ринулся не глядя, только крикнул на двух языках:
– Everybodi – breeze out! Всем сделать выдох!
В вестибюле, вывалившись из лифта, я лицом к лицу столкнулся с нашей миниатюрной японкой.
– O, Вадим! – обрадовалась она. – Я так рада вас встретить! Я пропустила автобус! Пока я искала, где дают завтрак, все уехали в американское посольство, и я не знаю, куда ехать. Я же не говорю по-русски…
– O.K.! – прервал я ее. – Let’s go!
Взяв ее за руку, я плечом врезался в толпу, заполнявшую вестибюль так же плотно, как в часы пик заполнен вокзал Гранд-Централ в Нью-Йорке. Боже, кого здесь только не было! Афганцы в чалмах, австрийцы в тирольских шляпах, стильные итальянские бизнесмены, африканцы в платьях, раскосые монголы, русские спекулянты, гэбэшники в штатском и милиционеры с уоки-токи, делегация рязанских ткачих в жутких платьях еще сталинской эпохи, старые русские эмигранты из Канады, дети-инвалиды из Чернобыля, делегация сестер-католичек из ФРГ, беженцы-месхетинцы из Ферганы… И над всей этой толпой плыли, сталкивались и смешивались в единый вокзальный гул мегафонные голоса гидов, орущих своим группам на разных языках:
– Дети Чернобыля! Не расползайтесь! Автобус в больницу отходит через пять минут!
– Mister Krugly from Australia!..
– Экскурсия в Кремль!..
– Представители бастующих шахтеров Воркуты! Подойдите к администратору!..
Крепко держа японку за руку, я пропорол этот базар плечом и вытащил ее на улицу, как игла вытаскивает нитку из плотной ткани. У подъезда к нам тотчас ринулась ватага таксистов:
– Taxi? Please, taxi!
– Сколько до центра? – спросил я по-русски.
Они тут же остыли, но, глядя на японку, сказали нагло:
– Двадцать долларов!
– Че-го? – протянул я возмущенно, поскольку хорошо помнил, что отсюда до центра должно быть не дороже трех рублей.
Но японка, уловив слово «доллар», уже полезла в свою сумочку.
– Vadim, I have money [Вадим, у меня есть деньги]…
И в ту же секунду маленькая стремительная фигурка мелькнула мимо нее, вырвала сумочку и помчалась вперед без оглядки, как в спринте.
– Стой! – Я рванулся следом, но мальчишка на ходу бросил сумочку своему приятелю, который, оказывается, бежал параллельным курсом. Я резко свернул к нему, но он бежал явно быстрее меня, да и утренний самогон сказался на моей проворности. Расстояние между мной и юными ворами неумолимо увеличивалось, и они уже вот-вот должны были свернуть за угол, когда меня вдруг обогнала высокая спортивная фигура в белой тенниске. Буквально в несколько мгновений этот спортсмен догнал мальчишек, ударом руки сбил с ног заднего пацана, а ногой уже достал второго в спину и тут же влепил ему безжалостную оплеуху. А потом…
Я никогда не видел, чтобы так остервенело били подростков – пусть даже уличных воров. Эти двое тринадцатилетних мальчишек только закрывали головы руками и уползали по грязному асфальту, а наш спаситель бил их ногами, не давая подняться. Стоило одному мальчишке встать на четвереньки, как этот спортсмен опрокидывал его ударом кулака или ноги, словно щенка. И бил без разбора – по голове, по почкам, по ребрам…
– Хватит! Кончай! Стоп! – закричал я ему, подбегая. Но это не помогло, он продолжал бить их с остервенелостью безумца. Я схватил его за плечо и потребовал по-английски: – Enough! Enough!
– Let them go! Let them go [Оставьте их]! – кричала у меня за спиной испуганная японка.
Спортсмен оторвался от окровавленных мальчишек, повернулся к нам и, не глядя на меня, протянул японке ее сумочку.
– Пожалуйста, – сказал он ей по-русски. – Извините…
– Спасибо. – Я взял у него сумочку и тут же подхватил японку под локоть, потому что на ее мертвенно-бледном личике были теперь только глаза – расширенные до смертельного ужаса.
– You are an animal! Animal [Вы зверь! Животное]! – задыхаясь, выкрикнула она спортсмену и потянулась за своей сумочкой: – I wanna give them money [Я хочу дать им денег].
– Извините… – твердил ей спортсмен по-русски. На вид ему было лет двадцать пять, не больше.
Я хотел увести японку прочь, но она выхватила у меня сумочку и стала открывать ее дрожащими от истерики руками:
– I wanna give them money!
– Я ничего оттуда не взял, клянусь! – испуганно сказал ей спортсмен по-русски, и стало ясно, что они никогда не поймут друг друга.
– Let’s go! – сказал я японке, но она выхватила из сумочки пачку долларов и дернулась к окровавленным и уползающим по тротуару подросткам.
Тогда я просто обхватил ее, оторвал от земли и понес через проспект к стоянке такси. Японка болтала в воздухе ногами и кричала мне в истерике:
– Put me down! I wanna give them money! Put me down [Отпустите меня! Я хочу дать им денег! Отпустите меня]!!!
Какая-то машина взвизгнула тормозами буквально в метре от нас, за ней загудел автобус и весь поток нетерпеливых московских машин. А от станции метро на нас зырились два ряда кавказских спекулянтов цветами, таксисты и какие-то тетки с плакатами «Долой КПСС!» и «Руки прочь от Гдляна и Иванова». Японка продолжала болтать в воздухе ногами и кричать:
– I wanna give them money! Put me down!!!
– Shut up [Заткнись]! – рявкнул я на нее, и она замолкла.
Я поставил ее у такси, придерживая одной рукой, а второй открыл дверцу машины и буквально швырнул японку на заднее сиденье. Потом сел рядом с ней и сказал шоферу по-русски:
– Поехали!
– Куда? – спросил он лениво.
– В центр, в АПН.
– А сколько заплатишь?
– Десятку.
– Мало, – сказал он.
– И пачку «Мальборо».
– Вот это разговор! – Он сразу оживился и включил двигатель.
Я повернулся к японке:
– Никогда не открывай сумочку на улице! Понятно?
И вдруг она разрыдалась:
– I’m sorry! I’m sorry! Excuse me, Vadim!..
– All right, all right… – смягчился я. – I’ve never seen a furious Japanese woman. It was quite interesting [Я никогда не видел взбешенной японской женщины. Это было любопытно].
– Но зачем он так зверски избивал их? Зачем?
– Я думаю, он гэбэшник.
– Правда?! Следит за мной или за тобой?
– Этого я не знаю. Может быть, за нами обоими…
– КГБ! Конечно, КГБ! – вдруг по-русски сказал водитель, видимо, уловив в нашем разговоре знакомое слово «КГБ».
Я опять обратил внимание, на какой бешеной скорости – вдвое превышая московский лимит, мы несемся по проспекту Мира. И еще – с какой наглостью тут водят машины: подрезая друг друга без всякого сигнала, обгоняя, резко виляя из стороны в сторону и просто врезаясь в поток. Только в странах третьего мира, да еще в Бостоне, знаменитом своей бескультурной ездой, можно встретить таких водителей.
Но я не стал обсуждать с шофером ни его езду, ни эпизод с гэбэшником возле гостиницы «Космос». Потому что как минимум половина московских таксистов – тоже стукачи КГБ. Я только невольно оглянулся, впервые ощутив странное чувство незримой слежки. Вчера вечером нас без проверки пропустили в таможне, сегодня этот «спортсмен» избил мальчишек, которые нас обокрали, и еще извинялся за их воровство…
Но никакого «хвоста» я не обнаружил, да и вряд ли можно было угнаться за этим сумасшедшим московским водителем.
– Как тебя зовут? – спросил я у японки.
– Michiko, – сказала она. – Я уже называла тебе свое имя в Вене, но ты забыл. Я – Мичико Катояма.
Тут, перед Колхозной площадью, водитель вдруг резко нажал на тормоза и грязно выругался.
– В чем дело? – спросил я, но уже и сам понял, в чем дело. Впереди вся Колхозная площадь была запружена народом: там над гигантской толпой гремели мегафонные голоса ораторов и трепыхались плакаты и транспаранты: «ВСЯ ВЛАСТЬ СОВЕТАМ!», «ДОЛОЙ КГБ!», «КОГДА МЫ ДОГОНИМ АФРИКУ ПО МЯСУ?», «СВОБОДУ ЭСТОНИИ!» и т. п. Я жадно вчитывался в эти надписи – такой Москвы я не видел никогда.
– Опять митинг! – недовольно сказал водитель такси, вертя головой в поисках объезда. – Надоели! Ездить невозможно!
И свернул направо, в переулок.
13
Штаб-квартира агентства печати «Новости» находится в самом центре Москвы, на Садовом кольце, всего в нескольких кварталах от американского посольства. Я помню, как это агентство образовалось. Было самое начало шестидесятых годов, когда Хрущев принялся оснащать Кубу ракетами, собираясь не столько завоевывать США, сколько подчинить своему влиянию весь южноамериканский континент. Одновременно Кремль начал заигрывать с арабскими странами и Африкой. Для осуществления всей этой глобальной операции по расширению влияния Москве срочно понадобилась система по промывке мозгов южноамериканским, африканским и азиатским народам. Одной из составных частей этой системы стал Московский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы, куда зазывали молодежь со всего мира, чтобы воспитать будущих лидеров прокоммунистических переворотов. Другую машину по промывке мозгов – агентство печати «Новости» – создали якобы на средства Комитета по защите мира и других так называемых «общественных» организаций. На самом же деле АПН напрямую подчинялось серому кардиналу КПСС Михаилу Суслову и с первых дней своего существования получало из фондов Кремля финскую бумагу, полиграфическую базу в ГДР, неограниченный бюджет, спецпайки для сотрудников плюс роскошный старинный особняк в самом центре Москвы, на Пушкинской площади, рядом с редакцией газеты «Известия».
Я был в это время студентом киноинститута и к своей скудной 22-рублевой стипендии подрабатывал писанием статей в московские газеты. Помню, в то лето среди нашего брата журналиста стремительно разнесся слух, будто на Пушкинской площади открылась новая замечательная «кормушка» – АПН, где платят совершенно фантастические гонорары – по десять рублей за страницу! Буквально через месяц после открытия АПН я пришел в это светло-желтое старинное здание, и первое, что меня там поразило, – обилие роскошных молодых девок в импортных шмотках и французской косметике. С ужасно творческим видом они сидели во всех кабинетах над пишмашинками, деловито пробегали по коридорам с оттисками свежих журнальных полос, пили настоящий колумбийский кофе в служебном буфете и курили только «Мальборо» и западногерманские сигареты «Астор». Среди них степенной походкой руководителей расхаживали молодые мужчины с фигурами теннисистов, в импортных костюмах и галстуках. Таких «фирменных» журналистов я не видел даже в иностранном отделе «Правды» или «Комсомолки». Разве только Мэлор Стуруа, корреспондент «Известий» по США, мог тягаться с ними в шике. Но Стуруа был известным журналистом, а эти кем?
Впрочем, стоило мне взглянуть на дверные таблички их кабинетов, как все стало ясно. Каждая фамилия на этих табличках говорила сама за себя – это были дети, племянники и племянницы самой высокопоставленной кремлевской элиты и советской дипломатуры. О, конечно, каждый из них окончил или Московский институт международных отношений, или Институт иностранных языков, а то и вовсе получил образование в Гарварде или Сорбонне. И они знали иностранные языки – так кому же, как не им, наследникам основных держателей акций советской империи, было пропагандировать советский образ жизни?
Поскольку в то время мои статьи уже довольно часто появлялись в московских газетах и журналах, меня принял сам заведующий латиноамериканским отделом – тоже молодой, подтянутый теннисист.
– Мы выпускаем вот такие журналы! – гордо сказал он и веером рассыпал передо мной пачку роскошно иллюстрированных журналов на испанском, французском и на еще каких-то непонятных мне языках. – Нам нужны материалы, пропагандирующие наш образ жизни. Никакой критики, только позитив! Я читал твои статьи, ты много ездишь по Заполярью, а это как раз та экзотика, которая нам нужна. Счастливая жизнь советских эскимосов! Лампочка Ильича в заполярной яранге! Напиши хоть пять очерков – мы хорошо платим, с каждого языка по десять рублей за страницу. То есть за одну статью можно получить столько гонораров, на сколько языков мы ее переведем. Так не платит никто в Москве, даже «Литгазета»! Но ты понял задачу? Эскимосы – равные среди равных! Олени – гости тюменских нефтяников! Весна приходит в кочевое стойбище! Усек?
Я «усек». Буквально за неделю до этого я прилетел из очередной газетной командировки по заполярному Ямалу. Там живут советские эскимосы-ненцы – 70 процентов из них больны сифилисом, 90 процентов – алкоголизмом, а статистика детской смертности вообще засекречена. Но мне не нужна была статистика, я сам ходил по их чумам и видел то, что эти кремлевские теннисисты в костюмах от Кардена никогда не увидят, да и не захотят. Я видел, как живут эти ненцы – в грязи, с собаками, на вонючих оленьих шкурах и постоянно пьяные от сознания того, что жизнь их тундры обречена: своими нефтяными вышками русские выпустили из-под земли духов зла и болезней, гусеницами тракторов уничтожили оленьи пастбища. Парадоксально, что именно за ненецкую нефть кремлевские теннисисты покупали себе тогда французскую косметику, колумбийский кофе, немецкие сигареты, образование в Сорбонне, пишущие машинки «Эрика» и типографские машины для печати рекламных журналов о счастливом советском образе жизни. Чаще всего на стандартных обложках таких журналов сияло круглое лицо ненецкого ребенка, улыбающегося на фоне заснеженной нефтяной вышки. Но, конечно, никто никогда не писал в этих журналах, как русские вертолеты каждое лето облетают ненецкие стойбища, на водку выменивают детей и увозят их в Салехард, в детские дома…
Я ушел тогда из АПН и никогда больше не переступал порога этого учреждения.
И вот теперь, почти тридцать лет спустя, – второй визит. Но уже по другому адресу. Потому что за тридцать лет АПН выросло в гигантский концерн пропаганды и в награду получило новое здание. Но ведь Горбачев отказался от брежневской доктрины, кремлевские войска вышли из Афганистана, а советское влияние на африканском континенте и в арабских странах тает, как снег в пустыне. Так чем же теперь занимаются те молодые теннисисты и теннисистки? Что производит машина, запущенная Хрущевым и Андроповым? На кого работает?
Такси остановилось перед серым четырехэтажным шлакобетонным домом, выстроенным буквой «П». Пустой проем в нижней части этой буквы смотрел на Садовое кольцо, но был отгорожен от него высокой решеткой, а в центре забора-решетки стояла бетонно-кирпичная будка проходной. Внутри сидели два милиционера. Короче говоря, это здание было как две капли воды похоже на штаб провинциального военного округа, а совершенно пустой двор за решеткой мог быть только плацем для отработки строевого шага.
Однако на тусклой стеклянной вывеске было написано агентство печати «Новости» и перед проходной у тротуара стоял наш интуристовский автобус. Так что сомнений не было – мы приехали куда надо. Правда, опоздали на четыре минуты, и теперь нам придется объяснять этим милиционерам, кто мы, что мы, вызывать Барри Вудстона и т. д.
Но вдруг какой-то биологический механизм щелкнул во мне и заработал даже раньше, чем я успел осознать.
– Следуй за мной! Ни о чем не спрашивай! – приказал я японке и стремительно, по-хозяйски шагая, направился прямо в проходную.
Мичико поспешно семенила за мной. Главное в искусстве преодоления проходных советских официальных учреждений – это сочетание хозяйски-уверенной походки и барски-небрежного кивка охранникам, причем ни в коем случае нельзя встречаться с ними глазами. Да, вы видите их краем зрения, и вы отметили это вежливо-беглым кивком, но они слишком мелкие птицы, чтобы заглядывать им в глаза. А то, что вы свой, из этой или из еще более высокой организации, – это демонстрирует ваша уверенность – вы точно знаете, куда идти.
Я понятия не имел, куда тут идти, – прямо за проходной был только пустой по случаю субботы плац, – но я уверенно, как хозяин, прошел мимо охранников-милиционеров. И безусловно, я шел первым, а не после дамы, пусть даже она и иностранка. Хамство – второе счастье советского бюрократа.
Мне повезло, в глубине двора-плаца под бетонным козырьком здания оказались дубовые двери с массивной резной ручкой – характерный признак парадного входа. Я уверенно потянул дверь на себя и только теперь, поскольку милиция была далеко, пропустил даму вперед.
И это было ошибкой.
Потому что за дверью оказалось еще два милиционера. Интересно, зачем информационному агентству двойная милицейская охрана?
– Куда? Пропуск! – грубо остановили японку.
Она беспомощно оглянулась на меня, но я уже разглядел в глубине узкого коридора, у лифта, нашу интуристовскую гидшу Олю Зеленину.
– Мы из делегации! – сказал я милиционерам и позвал гидшу: – Оля!
Генерал Алексей Быков, начальник пресс-центра Комитета госбезопасности СССР, не был ни толстым, ни мордастым, как 90 процентов советских генералов. Больше того – на нем даже не было генеральского мундира. Пятидесятипятилетний худощавый мужчина в дешевом сером костюме советского пошива и в белой рубашке без галстука. Короткий бобрик темных волос с проседью, маленькое простоватое крестьянское лицо с жесткими скулами делали его похожим на бригадира сибирской стройки. Он сидел по правую руку от Евгения Голякова, заведующего латиноамериканским отделом АПН, который на правах хозяина вел пресс-конференцию. Этот Голяков был абсолютно не похож на того теннисиста, который возглавлял отдел двадцать пять лет назад. Ему было под шестьдесят, маленький, толстенький и желчный хорек, он изо всех сил старался быть обаятельным и даже представился нам на американский манер: «Юджин».
Слева от «Юджина» возвышался тяжелый, тучный полковник Азаренко, представитель Политического управления Советской Армии. Его огромная, как астраханская дыня, лысая голова сидела прямо на плохо выглаженной офицерской рубашке с полковничьими погонами, а на большом и голом лице стойко держалось хмурое выражение подневольного человека, отбывающего докучливую повинность. Впрочем, я мог понять советского полковника: суббота, нерабочий день, самое время уехать из жаркой Москвы на дачу, а его загнали на встречу с этими американцами. Пропал выходной, а ради чего? Ради этой м…дацкой новой политики заигрывания с Западом…
ГОРАЦИЙ СЭМСОН (журналист из Нью-Йорка): У меня вопрос к представителю КГБ. Недавно у нас писали, что, кажется, в «Правде» была статья бывшего полковника КГБ и в этой статье он извинялся за свою прошлую деятельность. Мне интересно узнать, что вы думаете о бывшем сотруднике КГБ, который выступает теперь в печати с такими заявлениями?
Я с удивлением взглянул на Горация – двадцатилетний парень в ковбойке, джинсах и кроссовках, ну типичный студент, а так замечательно разыграл первую подачу! С одной стороны – мол, мы не с Луны свалились, мы в курсе советских дел, а с другой – и не лобовая атака, а как бы вежливая разведка боем. Выслушав перевод вопроса, генерал Быков ответил сухими, заранее отредактированными формулировками.
ГЕНЕРАЛ БЫКОВ: Речь идет, как я понимаю, о статье Карповича, полковника КГБ в отставке, который выступил не в «Правде», а в журнале «Огонек» со своей личной оценкой событий того периода…
***
У генерала был голос заядлого курильщика, теряющий силу в середине предложения, как при застарелой эмфиземе легких, после каждого короткого вдоха генерал начинал фразу очень громко, но заканчивал ее почти на шепоте:
– Должен сказать, что оценка тех событий Карповичем в корне отличается от моих оценок и оценок моих коллег… (Вдох.) Мы считаем, что меры, о которых пишет Карпович, были приняты тогда в полном соответствии с законом, который существовал в нашей стране в семидесятые годы… (Вдох.) Судебные процедуры не нарушались, и широкие массы трудящихся одобряли действия КГБ того периода…
Мяч, как видите, попал в «глухую защиту». Мол, мы были исполнителями закона, и народ нашу деятельность одобрял. Точка. Если мы и держали нобелевского лауреата Сахарова в ссылке или бросали диссидентов в психушки и тюрьмы, то это было по закону, нам не в чем каяться. Конечно, мне захотелось немедленно вмешаться и уличить генерала в откровенном вранье.
Но я сдержал себя. Во-первых, мне было интересно, как американцы и японцы сами, без моего советского опыта, поведут эту конференцию. А во-вторых… Во-вторых, не высовывайся, сказал я себе. Может быть, все твои страхи по поводу того, что КГБ будет сводить с тобой счеты, – только паранойя. Может быть, в том гигантском потоке иностранцев, который хлынул в СССР сейчас, ГБ и не обратит на тебя внимания. Так зачем высовываться? Сиди и молчи! Слушай.
ДАЙАНА ТРОСТЕР («Хантсвилл войс», Алабама): Господин генерал, а как изменилась работа КГБ в связи с гласностью?
ГЕНЕРАЛ БЫКОВ: Буквально через несколько часов киногруппа АПН завершает съемку двухчасового документального фильма «КГБ сегодня». Этот фильм включает в себя целый ряд эпизодов, связанных с расширением гласности в нашей деятельности.
Так вот на кого теперь работает АПН! – озарило меня. И в самом деле – кто из профессиональных русских киношников станет сейчас делать фильм по заказу КГБ, если во главе Союза кинематографистов стоят антикоммунисты похлеще меня – уж я-то их знаю, учился с ними во ВГИКе! Даже Центральная студия документальных фильмов, которая снимала всегда только парады на Красной площади, делает теперь фильм «Диссиденты»! А АПН, значит, нашло себе нового спонсора – КГБ!
Быков, между прочим, продолжал:
– Если среди вас есть телевизионные журналисты, мы будем рады прислать этот фильм телекомпаниям. (Вдох.) А что касается изменений в работе КГБ, то вы их видите сами. (Вдох.) Разве пару лет назад вы могли себе представить, что будете брать интервью у генерала КГБ?
Все рассмеялись, задвигались на стульях, стали наливать себе минеральную воду из расставленных на столе бутылок. Я отметил, что генерал все-таки смог разрядить напряжение, повисшее в воздухе после первого вопроса. Больше того, он сразу стал укреплять этот маленький плацдарм разрядки:
– И не только у генерала КГБ! (Вдох.) Мы попросили и руководство Советской Армии прислать на эту встречу своего представителя. (Вдох.) И уверяю вас, вы можете задавать нам любые вопросы, мы охотно на них ответим. (Вдох.) Верно, товарищ полковник?
Хмурый полковник Азаренко без видимой охоты принял эту подачу, сказал принужденно:
– Вы, господа, хорошо знаете, что Министерство обороны нашей страны было не менее закрыто для прессы, чем КГБ. Особенно для иностранной прессы. Но теперь все изменилось, мы открываемся все больше и больше. Но при этом чувствуем, что с вашей стороны – со стороны ваших военных – есть какая-то настороженность. Я бы сказал, есть недоверие к нам и даже боязнь.
…Он говорил в стол, ни на кого не глядя, и хотя не стучал кулаком по столу, как когда-то Павлаш, да и текст был другой, но интонации были те же – он обвинял американцев в том, что они не доверяют миролюбивым руководителям Советской Армии! И каждое слово он произносил точно, как Павлаш, – через увесистую паузу, словно тупым солдатам на плацу. Но никто не рассмеялся ему в его голое, как дыня, лицо, потому что никто из наших не понимал русского языка, а переводчик, которого я слышал в наушниках, явно смягчал эту идиотскую речь. «Господи, – подумал я, – и вот эти пустоголовые дыни руководят перестройкой армии! Бедный Горбачев…»
ДЭНИС ЛОРМ (политический обозреватель): По поводу нашей настороженности и страхов я могу сказать, что они не только есть, но и хорошо обоснованы. Достаточно вспомнить вторжение Советской Армии в Афганистан, уничтожение корейского авиалайнера, Красноярский радар и так далее. Поэтому, Юджин, нам интересно знать ваше журналистское мнение о перестройке: насколько это надежно и что из этого получится?
Я отдал должное дипломатичности Дэниса – он принял мяч у солдафона Азаренко, слушать которого было так же тоскливо, как читать речи Брежнева, и элегантно перепасовал этот мяч следующему игроку.
ЮДЖИН ГОЛЯКОВ: Мы думаем, что новые демократические процессы еще не могут быть названы необратимыми. Но с каждым днем мы уходим все дальше и дальше от этих страхов. Вернуть нашу страну назад, к тому, что мы испытали в прошлом, – это все менее возможно. Но и вы в США тоже испытываете страх, что военные и другие группы захватят ваше правительство с помощью секретных операций…
«Fuck you!» – чуть было не вырвалось у меня, и я с изумлением смотрел на наших. Этот гэбэшный хорек и здесь проповедует то, что привык годами вешать на уши советским читателям. Но они-то не советские, какой, к черту, «захват правительства», неужели они и на это смолчат?
Смолчали.
А генерал Быков уже подхватил микрофон.
ГЕНЕРАЛ БЫКОВ: Я бы хотел дополнить. (Вдох.) И подчеркиваю, что говорю с позиции нашего ведомства. (Вдох.) Гласность и укрепление связи с народом являются для КГБ надежной гарантией невозврата к прошлым деформациям, к нарушениям закона и другим нелегальным действиям. (Вдох.) Именно этим целям и служит наш пресс-центр, совершенно новый отдел нашего комитета.
«Как же так? – подумал я. – Только что ты говорил: все, что вы творили раньше, было законно и одобрялось народом. А теперь – нелегальные действия!»
И вдруг я отчетливо понял: они проводят эту пресс-конференцию так, словно это армейские политзанятия. Тридцать лет назад, когда я был солдатом Советской Армии, наш лейтенант точно такими же словами говорил нам, что XX съезд коммунистической партии является «надежной гарантией невозврата к прошлым деформациям». Даже мы, восемнадцатилетние сопляки, знали тогда, что он и сам не верит в то, что говорит. Так неужели эти трое считают западных журналистов глупее советских солдат? Или Запад так долго делал вид, будто не замечает наглого вранья советской пропаганды, что советские генералы и полковники воспринимают это не как деликатность, а как признак полного дебилизма?
ПОЛКОВНИК ЛОЗИНСКИ («Милитэри ньюс», Гавайи, Шестой американский флот): Вы говорите о нашем недоверии и страхах. Но позвольте привести некоторые данные. В районе Тихого океана не заметно никакого сокращения советской военной мощи. Советский военный Тихоокеанский флот продолжает оставаться самым большим флотом в этом регионе. Правда, в нем еще есть 57 старых кораблей, но мы наблюдаем не их сокращение, а только их замену на новейшие авианосцы типа «Киев», боевые корабли типа «Удалой» с антиракетными установками и атомные подводные лодки типа «Акула». И это нас беспокоит. Нас также беспокоит увеличение советских разведывательных судов вблизи побережья Гавайских островов, где находится штаб американского Тихоокеанского флота. Например, несколько лет назад советский разведывательный корабль появлялся у гавайских берегов раз в десять дней. А теперь – каждые три дня. Кроме того, мы наблюдаем увеличение поставок советского оружия в этот регион. Если в Европе вы сокращаете свои военные силы, то в Азии мы видим обратное. Индия получает ваши атомные подводные лодки, истребители «МиГ-29» и тяжелые бомбардировщики «Ту-142» – «Bear». Ирак и Северная Корея получают от вас ультрасовременное оружие, включая «МиГ-29», вооруженный установкой look down – shoot down, получают ракеты новейшего класса и так далее. Вот какую картину мы наблюдаем. И я хотел бы узнать у вас, что же происходит? Почему советская мощь не сокращается, а растет?
Я возликовал: ай да Лозински! Черт возьми, если у Шестого американского флота все полковники с такой хваткой, то я могу не бояться КГБ! Я тоже скажу им сегодня пару слов!
Тем временем полковник Азаренко тяжело, как котел с сырым тестом, откинулся на стуле и вздохнул. Я хорошо понял его, ведь я сорок лет наблюдал этих полковников – я ползал с ними в одних детских яслях, я ходил с ними в одни школы, а когда был солдатом, замполит нашего полка полковник Устьянов и меня уговаривал поступить в военно-политическое училище. Если бы я его послушал, то вполне мог сидеть сейчас на месте этого Азаренко и, тяжело напрягая мозги, искать ответ этому е… американцу с его е… статистикой.
ПОЛКОВНИК АЗАРЕНКО: Я думаю так, значит… Мы не будем считать подводные лодки, потому что они под водой и мы их не пересчитаем…
Тут все тридцать человек нашей делегации разразились хохотом.
ЛОЗИНСКИ: Это официальное заявление Министерства обороны?
ПОЛКОВНИК АЗАРЕНКО (ожесточенно): Да, официальное! О подводном флоте говорить не будем! Но если говорить о подводном флоте, то я вам скажу так: нужно считать не только количество, но и смотреть на качество. Если мы возьмем подводную лодку «Огайо» и советскую дизельную подводную лодку, то никакого сравнения быть не может. Так что давайте говорить о надводном флоте. Сколько авианосцев имеют США и сколько Советский Союз? Советский Союз авианосцев в полном смысле этого слова еще не имеет…
И вот так продолжалось двадцать минут. Следить за дуэлью двух полковников было даже интереснее, чем за ходом женевских переговоров о разоружении. Потому что там, я полагаю, сухие цифры играют против сухих цифр, а здесь столкнулись два характера: сдержанно-холодный тонколицый полковник Лозински и распухший, как перестоявшее тесто, советский службист в полковничьих погонах. Даже когда Лозински ловил его на прямом вранье и говорил, что «Советский Союз имеет несколько баз на иностранных территориях – в Эфиопии, в Камрань-бэй во Вьетнаме…», Азаренко продолжал врать: «Камрань – это не военная база, это пункт технического снабжения наших кораблей». При этом он тяжело вздыхал, крякал и смотрел на нас так, словно мы и должны были защитить его от этого настырного американца. И, как ни странно, именно этот комический трюк ему помог – Макгроу вдруг перебил очередную атаку Лозински.
МАКГРОУ (издатель из Колорадо): Юджин, у нас в США многие думают, что русские параноически не доверяют свободному рынку и боятся, что климат свободы может привести к анархии. Так ли это?
ЮДЖИН ГОЛЯКОВ: Ну, я думаю, что советские люди такие же консервативные, как и все остальные. Нам нужно время, чтобы изменить психологию людей. Вот буквально на днях у нас кончилась забастовка шахтеров. Знаете, шесть месяцев назад любая забастовка казалась у нас невозможной. Перестройка была революцией сверху. Мы не видели снизу сил, способных ее поддержать.
ГЕНЕРАЛ БЫКОВ: Но изменения уже происходят! Взять хотя бы нас, здесь сидящих. Разве мы не изменились? Я, конечно, не скажу, что мы изменились на сто процентов…
ДЭНИС ЛОРМ: А на сколько?
ГЕНЕРАЛ БЫКОВ (под общий смех): Ну, я про себя могу сказать: процентов на восемьдесят я уже изменился. А вы, Юджин?
ЮДЖИН ГОЛЯКОВ: Я думаю, что дело не в личностях. Хотя вопрос этот имеет для нас особую важность. Потому что решается проблема – какие кадры должны осуществлять перестройку? Нужно ли всех прежних руководителей немедленно убрать? И если да, то где взять новых? Вот скажите, если на заводе Форда прекращают выпуск старой модели машины и начинают выпуск новой – разве они увольняют всех рабочих, которые делали старую модель? Или они их переучивают?..
И тут я не выдержал. «Ах ты сука, – подумал я, – ведь именно тебя, и генерала Быкова, и этого полковника Азаренко требовали убрать бастующие шахтеры! И это им, рабочим (а заодно и нам), вы хотите внушить, что нельзя лишать вас – восемнадцать миллионов советских паразитов-начальников – ваших погон, кожаных кресел, персональных машин и зарубежных корпунктов?» «Нет! Оставьте нас на наших местах, – кричите вы, – и, чуть переучившись, мы будем руководить перестройкой точно так же, как вчера руководили производством колючей проволоки».
ПЛОТКИН (стараясь быть сдержанным): Два месяца назад в советском журнале «Век XX и мир» была опубликована статья о КГБ. Она начиналась с того, что Сталин назвал КГБ вооруженным отрядом коммунистической партии. И журнал спрашивал: нужен ли сейчас партии вооруженный отряд и от кого партия собирается защищаться? А завершалась статья выводом о том, что сегодня КГБ является вооруженным резервом партии на случай, если гласность лишит эту партию монополии на власть. Мол, в таком случае КГБ выступит на первый план и вернет власть партийному аппарату…
Быков через стол в упор посмотрел мне в глаза, и словно разряд тока проскочил между нами. Я вдруг подумал – а ведь это он, Быков, должен был арестовывать мой фильм одиннадцать лет назад! Ну конечно! Если он возглавил теперь этот пресс-центр КГБ и занимается изготовлением фильмов, то он и раньше должен был заниматься в КГБ культурой и кинематографом! А как же иначе?
Но я уже не мог остановиться:
– …Я хотел бы узнать – а идет ли вообще какая-нибудь кадровая перестройка внутри КГБ? Или все ограничивается «моральным усовершенствованием» бывших сотрудников?
ГЕНЕРАЛ БЫКОВ: С удовольствием отвечу! Правда, статью в журнале «Век двадцатый…» я не читал. Сейчас так много пишут о КГБ, что даже сотрудники пресс-центра не успевают все прочесть. Но по сути вашего вопроса могу ответить. Когда мы говорим о КГБ, то, значит, теперь речь идет не о вооруженном отряде партии, а о политическом отряде партии. Как раз недавно у нас утверждалась именно эта формулировка. Таким образом, я хочу вас поправить: КГБ – это политическая организация. Правда, в определенный период нашей истории – драматический или трагический – бывало иначе. Но сейчас КГБ корректирует свои функции в системе государственного аппарата. Я могу подробно об этом рассказать, но боюсь, что мы ограничены во времени.
ЮДЖИН ГОЛЯКОВ (поспешно и услужливо): Да, времени у нас мало!
ГЕНЕРАЛ БЫКОВ: Но я все же доскажу до конца! Сейчас во главу угла стал вопрос о взаимодействии различных стран в борьбе с международным терроризмом. И мы предлагаем вашим спецслужбам: давайте сотрудничать, давайте вместе бороться с этой опасностью…
Тут я уловил, что генерал ловко перепрыгнул на тему, ради которой, кажется, и пришел сюда: продать нам новый имидж КГБ, показать, что они теперь совсем не те, что раньше, а наоборот – нужны человечеству и без них не спасти мир от терроризма! Тридцать журналистов сидели перед генералом с включенными магнитофонами и представляли как минимум тридцать газет и журналов США, Канады, Европы и Японии. Подбросить через нас миру хотя бы несколько слов о «новом лице КГБ» – это и было задачей гэбэшного генерала. И он старался:
– Как идет перестройка в КГБ? Сейчас к нам приходят специалисты в возрасте двадцати пяти – тридцати лет, и, конечно, они нас заменят. Это хорошие кадры и хорошие специалисты. И в свете перспектив международного сотрудничества это важно.
АРИЭЛ ВИЙСКИ («Дакота кроникл», Южная Дакота): Забудем о бюрократии. Я хочу спросить вас, Юджин, о соседях слева и справа. Они рады перестройке и гласности или нет? Например, я не видел ни одной улыбки на лице вашего полковника за весь день. (Смех, хохот.)
«Ай да Вийски, – подумал я! – С виду такая размазня, а нате вам – достал сразу и полковника, и генерала!»
ПОЛКОВНИК АЗАРЕНКО (впервые улыбаясь): Да, я рад! (Всеобщий облегченный смех.)
ГЕНЕРАЛ БЫКОВ: Интересно видеть человека, который любит короткие ответы – «да» и «нет». Я доставлю вам удовольствие и скажу «да, да» – два раза!
После встречи, уже в коридоре, я, еще раскаленный, подошел к генералу Быкову и стал цитировать опубликованное недавно в «Известиях» интервью председателя марийского КГБ, в котором тот открыто признал существование и ныне сети стукачей на заводах и в колхозах. Но генерал прервал меня:
– Слушайте, это вы автор «Гэбэшных собак»?
– «Псов», – уточнил я.
– Я, правда, не читал книгу, но слышал отрывки по радио. По Би-би-си, кажется, или по «Свободе»…
– Ее и там и там читали на Советский Союз.
– Занятно вы брежневскую мафию описали, занятно. А вот про Андропова у вас не все справедливо. Скажите, эта книга выйдет на русском?
Я усмехнулся и вернул ему вопрос:
– Скажите, эта книга выйдет на русском?
Он развел руками:
– Ну, мы прессу не контролируем. Вы же видите, что про нас пишут.
И вдруг у меня сорвалось с языка:
– Простите, а вы из Ленинграда?
– Да, я питерец. – Он улыбнулся с присущей всем питерцам гордостью, польщенный тем, что я опознал в нем ленинградца. – А что?
– А в Москве вы недавно, правда?
Кажется, ему перестал нравиться мой допрос, он сказал сухо:
– Ну, это как считать. А почему вы спрашиваете?
– А это вы одиннадцать лет назад арестовали на «Ленфильме» мой фильм «Зима бесконечна»?
Он глянул мне в глаза и опять улыбнулся:
– Да что вы! Одиннадцать лет назад я работал в Монголии. А что – прямо фильм арестовали?
Однако была в его улыбке какая-то чрезмерность, а в интонации такое сверхизумление и сочувствие, что мне уже расхотелось продолжать этот разговор. Но я все же сказал:
– В семьдесят восьмом году по приказу Романова ленинградский КГБ арестовал мой фильм. А потом, уже по приказу Павлаша, его смыли. Но, может быть, и не смыли? Может, он лежит в ваших архивах? А?
– Дорогой мой!.. – Генерал доверительно тронул меня за плечо.
И в тот же миг разом сверкнули несколько блицев.
Я оглянулся. Недалеко от нас стояли с фотокамерами Мичико Катояма, Моника Брадшоу и весь мой «боевой взвод» – полковник Лозински, адвокат Норман Берн, мэр-здоровяк Джон О’Хаген и ковбой-издатель Роберт Макгроу. Роберт держал свою видеокамеру на плече как гранатомет. Я невольно улыбнулся этой охране. А генерал тем временем продолжал:
– Дорогой мой! У нас сейчас постоянно требуют то архивы Сахарова, то дневники Валенберга, то какие-то рукописи! Но у нас ничего нет, клянусь! Вы же советский в прошлом человек, вы должны понимать: если был приказ что-то уничтожить или смыть, то приказы в то время выполнялись.
И он так подчеркнул слова «в то время», чтобы не оставить никаких сомнений, – можно поверить ему на все сто процентов. Да, в то время приказы действительно выполнялись. И если все эти годы в моей душе еще теплилась призрачная надежда, что где-нибудь в подвалах КГБ на архивной полке лежат опечатанные металлические коробки с моим фильмом, то теперь…
– Would you shake hands, please [Пожмите друг другу руки, пожалуйста]! – прозвучал сбоку тонкий голосок миниатюрной Мичико Катояма.
Я еще колебался какую-то долю секунды, но генерал уже протянул мне руку, и в этом жесте не было никакого подтекста или символики, это был естественный ответ на просьбу женщины и фотографа.
Но именно этот непроизвольный жест обнаружил, что генерал прекрасно понимает по-английски! Хотя на протяжении всей конференции общался с нами только через переводчика.
14
Я шел по Москве.
Мне хочется написать эту фразу еще раз, с красной строки, заглавными буквами:
Я ШЕЛ ПО МОСКВЕ.
И еще раз:
Я ШЕЛ ПО МОСКВЕ.
Потому что Я – улетевший из этой страны в самый разгар холодной войны, Я – отрезавший ее от себя, как руку, пораженную гангреной, Я – выскребавший из себя даже сны о Москве, как при аборте выскребают ребенка, Я – написавший несколько таких антисоветских романов, что издатели, страшась мести КГБ, советовали мне публиковать эти книги под псевдонимом, – Я ШЕЛ – сам, своими ногами, не в наручниках, не во сне, а жарким солнечным днем! – ПО МОСКВЕ! – вы понимаете?! – по мостовым моей юности… по своей прошлой жизни…
Я шел, и душа моя пела, как у безмятежного ребенка, ожидающего от жизни только радостей…
Всю нашу делегацию увезли из АПН на обед, а потом поведут на русский балет на льду, поскольку Большой театр – дежурное блюдо для всех иностранных туристов – закрыт на ремонт. Но я бы и в Большой не пошел – у меня слишком мало времени в Москве, чтобы терять несколько часов на театр. Ведь послезавтра мы уже летим в Ленинград, а оттуда через три дня поездом едем в Таллинн, и все – гуд бай, USSR!
И вот я иду по Москве… От АПН к Дому кино на встречу с друзьями.
Космонавты, которые ходили по Луне, испытывали, по их рассказам, неземное удовольствие от отсутствия притяжения. И космонавты, которые летают вокруг Земли, тоже кайфуют там от невесомости. Но я уверен, что еще большее удовольствие они ощущают в момент приземления, когда выходят из космических кораблей и идут по своей самой обыкновенной, но такой родной земле.
Десять лет я был в невесомости, я жил на Луне.
А теперь я вернулся на СВОЮ планету, я иду по СВОЕМУ асфальту, я дышу СВОЕЙ атмосферой и я читаю СВОИ, русские, вывески. Пусть на этой планете земное притяжение усугублено воздействием КГБ и КПСС – мне плевать, я сейчас этого не ощущаю. Пусть 11 лет назад они арестовали и смыли мой фильм – теперь КГБ будет всюду стелить перед нашей делегацией красные дорожки, ведь им так нужно, чтобы мы рассказали миру, какие они мирные и демократичные. И пускай московский асфальт сер от пыли и газетного мусора, заплеван и перерыт – мои ноги ступают тут легко, как ноги Христа по воде. И пусть атмосфера Москвы загазована выше всех допустимых пределов, я дышу этим воздухом, как веселящим газом. А про русские вывески и говорить нечего! – пусть это не бродвейская реклама, а самые стандартные, дубовым шрифтом написанные слова из лексикона пролетарского неандертальства – «ПРОМТОВАРЫ», «КУЛЬТТОВАРЫ», «ХОЗТОВАРЫ», «ВОЕНТОРГ», – но все равно я тут как рыба в воде! Я иду по Москве.
Я – иду – по Москве!
Вы слышите? Я ИДУ ПО МОСКВЕ-Е-Е-Е-Е!!!
Я шагаю, перекатывая в голове эти невероятные слова, повторяя их, щупая языком, нёбом, гортанью.
Мне хочется танцевать, выкрикивать эти фантастические слова, петь их, сказать кому-нибудь!
Десять лет Лиза внушала мне, что я старый, нелюдимый и никому не нужный облезлый пень. И – внушила! Я жил, как тень, как нелюдь, черные кошки рвали мою грудь по ночам. Но теперь вдруг – я вернулся к самому себе, прошлому, и нет у меня никакой жены! И не было! Это был просто сон, ночной кошмар, а теперь я проснулся! И светит солнце! Облака в небе! И я дышу! И я иду по Москве!
Какая-то мятая консервная банка валялась на тротуаре, я саданул ее ногой, она с грохотом покатилась по асфальту, звеня и подпрыгивая. «Звеня и подпрыгивая» – писал я когда-то на школьной доске примеры с деепричастными оборотами…
Даже мятая консервная банка говорит здесь со мной на моем языке!
Но через несколько кварталов мне пришлось обуздать свою эйфорию. Потому что глаза и лица прохожих не отвечали на мою улыбку. Наоборот, я постоянно натыкался на отчуждение людей и даже враждебность. В первые минуты я еще недоумевал – почему они не улыбаются в ответ, почему отгораживаются, а то и со злостью отталкивают меня глазами и проходят, поджав губы? И только через несколько кварталов сообразил – я же для них иностранец! На мне нет ничего модного, с бирками от Кардена или братьев Брукс, но советским людям и не нужно этого. У них поразительно развита способность делить на «своих» и «чужих» – даже по походке, по цвету лица они запросто отличают иностранца от своего. Я и сам это делал когда-то с первого взгляда. Это же легко: просмотрите, как все иностранцы держат плечи – как люди, которым не приходится постоянно таскать тяжелые сумки с картошкой, луком, макаронами и другими продуктами из центра города на окраину, из автобуса в метро и снова в автобус, а потом еще вверх по лестницам, без лифтов. От этой ежедневной, многолетней, в любую погоду ноши – навстречу снегу, пурге и слякоти – плечи советских людей выпячены вперед, спины сутулы, головы набычены и глаза глядят исподлобья. А от постоянной нехватки фруктов, овощей кожа их лиц суха, землиста и пориста. А иностранцы? Я имею в виду тех, конечно, которые могут себе позволить путешествовать по миру. Гляньте на американских старушек-туристок – у них же фигуры, стать, походка, как у Майи Плисецкой, а лица как наливные яблочки…
Какую же реакцию может вызвать у обитателей, скажем, Гарлема богатый австралиец, который с идиотской улыбкой пойдет по Амстердам-авеню в районе Сто сороковых улиц, восторгаясь разбитыми домами, мусором на мостовой и нищетой местных жителей?
Усилием воли я убрал с лица улыбку. И, трезвея, увидел, что Москва не совсем та, какой я оставил ее десять лет назад. Что-то серое и неряшливое появилось в ее облике, как у уличной попрошайки возле Пэн-Стэйшен. Да, с фронтонов домов исчезли гигантские транспаранты «НАРОД И ПАРТИЯ ЕДИНЫ» и «ПАРТИЯ – УМ, ЧЕСТЬ И СОВЕСТЬ НАШЕЙ ЭПОХИ». Но, отпав, как ночная косметика с лица проститутки, они обнажили осыпавшуюся штукатурку и трещины на стенах, плесень, грязь и запустение. Многие старые и знаменитые по русской литературе дома стояли теперь в ремонтных лесах, но толстый слой пыли на окнах и полное отсутствие строительных кранов явно говорили, что никто эти дома не ремонтирует уже не один год. И ветер несет через эти руины какой-то сор, обрывки газет, пыль…
Господи, неужели и я так облез, постарел, опустился? Но вот я дошел до Арбата, и душа моя снова воспарила. Потому что Арбат – это московская виа Венето или Мулен Руж. Тут, в ресторане «Прага», в банкетном зале на втором этаже, Аня нашла меня через год после нашего первого разрыва. Я отмечал свой очередной день рождения, и за большим столом сидели все мои киношные друзья: Семен, Михаил, Левка Толстяк, Эд и еще человек десять. А по правую руку от меня сидела пышная юная брюнетка, жаркая, как грузинская княжна. Она была дочкой какого-то ракетного генерала и очень хотела выйти за меня замуж со всем причитающимся ей приданым – папиными дачами в Крыму и под Москвой, роскошной квартирой на Фрунзенской набережной, машиной «ГАЗ-24» и т. д., и т. п., которые полагались генералу ракетных войск в самый расцвет брежневской эпохи застоя.
Вдруг дверь банкетного зала открылась и вошла Аня – опять в желтом платье, с полевыми цветами в руках, с близоруким прищуром русалочьих глаз. И в тот же миг мое сердце и печенка хлынули вниз, как в скоростном лифте, и весь банкет пошел вверх тормашками, и уже назавтра мы с Аней поселились у Семена, улетевшего в киноэкспедицию, и прожили вместе… ровно две недели. А через две недели Аня напилась, стала бить посуду и кричать, что подыхает со мной от скуки, потому что я занят только своей пишмашинкой и своим е… новым сценарием. И, хлопнув дверью, ушла. Я видел с балкона, как хмельным движением руки она остановила такси. Я закурил, сварил себе чашку черного кофе – тогда в СССР кофе было сколько угодно – и сел к пишущей машинке. Работай! – приказал я себе. Когда женщина уходит, ее нельзя останавливать.
А в час ночи раздался телефонный звонок. «Я звоню с Арбата, из «Метелицы», я жутко пьяная! Ты можешь за мной приехать?»
Конечно, я приехал за ней – вот сюда, в «Метелицу». Здесь – чуть не с дракой – я отлепил от нее каких-то азербайджанцев, спекулянтов цветами, а потом отвез ее на такси – нет, не к себе. А на Вторую Кабельную улицу, к ее маме…
Да, в те годы Арбат был московским сочетанием Бродвея и Сорок второй улицы. А сегодня, я читал, это Гайд-парк и Гринвич-Вилледж.
И вот я сворачиваю на Старый Арбат и жадно ищу приметы перемен. Ведь именно про это торжество горбачевской гласности я должен написать в «Токио ридерз дайджест». Про этих художников, которые сидят по обе стороны улицы возле своих картин в стиле русского лубка – сидят так же, как их итальянские коллеги на пьяцца Навона, рисуют прохожих или продают свои работы туристам-иностранцам. Про поэтов, которые наклеили свои стихи на забор возле ресторана «Прага» – вы можете купить у автора за двадцать копеек за страницу, – такая свобода от цензуры нам и не снилась раньше! Про уличных музыкантов, которые гремят гитарами и поют что-то громогласное и усиленное самодельными динамиками. И про густую толпу, которая движется в обе стороны Арбата, завихряясь вокруг музыкантов, ораторов и поэтов…
Но, Боже мой, Боже, разве это пьяцца Навона? Десять лет назад я, нищий эмигрант, угнетенный безденежьем и незнанием всех до единого западных языков, попал в Риме на пьяцца Навона. То был год, когда по Италии, заклеенной красными плакатами с серпами и молотами, катились волны коммунистических демонстраций, и нас, новоприбывших русских эмигрантов, особенно шокировала гигантская демонстрация римских медсестер, которые шли по виа Венето с красными знаменами и транспарантом:
«МЫ ХОТИМ, ЧТОБЫ НАМ ДАВАЛИ МЯСО ДВА РАЗА В ДЕНЬ, КАК МЕДСЕСТРАМ В СССР».
И хотя мы как раз только что вырвались из этого мясного «рая», никто не хотел нас слушать. Даже водители римских автобусов (все до единого коммунисты, конечно) презрительно кричали нам по-итальянски, что мы – предатели мирового пролетариата и клевещем на советскую жизнь.
Там, в Риме, я с ужасом увидел, что Западная Европа сама ложится в постель к московскому медведю, и жуткое ощущение бессилия и отчаяния гнало меня по римским улицам с утра до ночи, как еврейского отца, который сходит с ума от мысли, что его единственная дочь влюбилась в гестаповца.
Именно в таком подавленном настроении я как-то вечером забрел на пьяцца Навона. И впервые в жизни увидел то, что называется праздником жизни. Я увидел улыбки – не одну, не пять, не десять улыбающихся лиц, а сразу – тысячу! Все улыбались друг другу, гуляли по площади, слушали музыкантов, позировали карикатуристам, ели разноцветную сахарную вату, слушали какого-то клоуна с говорящей куклой, аплодировали художнику, который на асфальте рисовал Мону Лизу, и все – улыбались друг другу. То был пир беззаботности и оголенных женских плеч, карнавал беспечности и ярких нарядов, фиеста еды и музыки. И хотя я ни слова не понимал из того, что тут пели и говорили, и хотя я пришел сюда с ощущением полного краха мировой истории и по нищете своей не мог купить себе даже кусок пиццы – все равно эта волна жизни подхватила меня, закружила и понесла на площадь, как ребенка…
Теперь, через десять лет, История остановила всемирную катастрофу, Запад устоял перед московским медведем, а я пришел на русскую пьяцца Навона – Старый Арбат. Я всех тут понимал, и я мог за доллары купить что угодно. Но… не было ощущения праздника. Потому что вокруг – ни одной улыбки. Густая толпа двигалась мне навстречу, но она состояла из серых и угрюмых лиц, сделанных из нераскрашенного папье-маше. Она одета в серые платья и обута в стоптанную обувь, которая шаркает по серому и пыльному асфальту. Художники без улыбок, словно охранники, сидят под своими картинами. Голые до пояса музыканты гремят на гитаре и орут такую похабень, что мне захотелось тут же забыть русский язык. А украинские католики-униаты, собирающие подписи под письмом в ООН и Горбачеву, выглядят как нищие у Пэн-Стэйшен в Нью-Йорке. Даже их плакаты с требованием легализации униатской церкви написаны черным углем на обрывках серого картона.
И все это угрюмое, ожесточенное, серое движение змеилось, как сухая поземка, в колодце староарбатских домов с осыпающейся штукатуркой, с выбитыми окнами.
– Сумгаитская резня не имеет отношения к азербайджанскому народу! Это была провокация армянских экстремистов…
Возле знаменитого Вахтанговского театра, тоже окруженного ремонтным забором, стоят человек тридцать, слушают оратора-азербайджанца. Оратору лет сорок, мягкое интеллигентное лицо, темные кавказские глаза, черные волосы, приличный костюм. Я протиснулся через кольцо слушателей и спросил:
– Если Азербайджан выйдет из СССР, вы будете резать русских?
– Да что вы! – воскликнул он. – У нас нет никакой вражды ни к русским, ни к армянам. И вообще, мы не собираемся выходить из СССР. Зачем нам выходить?
– Ну как же так? – сказал я. – Еще пятнадцать лет назад, когда я приезжал в Баку, меня там называли оккупантом. А сейчас там – сумгаитская резня, зеленые знамена и портреты Хомейни на демонстрациях – мы же видим по телевидению! Или этого нет?
– Ну, это какие-то мелкие хулиганы! Я представляю партию национального возрождения Азербайджана, и, поверьте, у нас нет никакой ненависти к русским…
Я отошел в полном недоумении, потому что резня армян в Сумгаите поразительно совпала с одним из эпизодов гражданской войны в моем романе «Выбор России». Когда я писал этот роман, Горбачев только-только начал перестройку, а я стал думать, что же из этого получится. И два года я раскладывал этот русский пасьянс, но ничего, кроме гражданской войны, у меня не получалось. А этот азербайджанец уверяет меня, что – нет, ничего подобного!..
И лишь через двадцать шагов я догадался, что только что сам, лично, участвовал в фильме «КГБ сегодня». «Идиот! – сказал я себе. – Этот оратор такой же представитель азербайджанского национального возрождения, как я член PLO. Гэбэшник он, вот кто! Гэбэшник и провокатор, посланный успокоить русское население, – таких успокоителей, должно быть, тут не меньше сотни». И в поисках скрытой гэбэшной кинокамеры я даже посмотрел наверх, на крыши и окна соседних домов.
И вдруг из толпы, окружившей другого оратора, я услышал громкий голос, почти крик:
– А что будем делать с коммунистами?
И ответ оратора – крепкого мужика с лицом тамбовского пахаря:
– А коммунистам объявим амнистию! Не уподобляться же им, не посылать же нам 18 миллионов коммунистов в сибирские лагеря! Да, они грабили нас и награбили миллионы. Так пусть купят на эти деньги трактора и пашут землю! Мы дадим им землю, как всем!..
Я замер от изумления. Сквозь ожесточение, серость и плебейство Арбата на меня вдруг глянула другая Россия – та, по которой я когда-то, в 1962 году, пешком прошел почти тысячу миль – от Кирова до Астрахани. Эта многострадальная, голодная и разоренная Россия – сочиняя «Выбор», я был уверен, что, стоит Горбачеву развязать ей руки, и она начнет вешать коммунистов на всех телеграфных столбах от Москвы до Владивостока. А она их уже амнистировала и мечтает превратить в фермеров!
Чья-то рука легла мне на плечо.
– Хэлло, Вадим!
Я оглянулся. Передо мной стоял Гораций Сэмсон – самый молодой член нашей делегации, черный журналист из Нью-Йорка.
– О, привет! – изумился я. – Что ты тут делаешь? Ты один?
– Слушай, – сказал он. – Ты можешь пойти со мной? Я хочу тебе что-то показать.
– Это далеко? У меня в четыре встреча с друзьями.
– Нет, это тут, за углом.
И он повел меня в Калошный переулок, сообщив по дороге, что откололся от группы, чтобы посмотреть Москву. Я шел за ним, полагая, что сейчас мне придется быть посредником при каком-нибудь незаконном валютном обмене с уличными фарцовщиками или купле-продаже фальшивой русской иконы. А когда Гораций нырнул в какой-то двор, я вообще хотел схватить его за руку и отговорить от сомнительного приключения.
Но во дворе желтого приземистого, типично арбатского старого дома я вдруг увидел не фарцовщиков, а… солдат. Их было с полсотни – они сидели на детской площадке, играли в домино и в шашки, кто-то спал прямо на земле, кто-то – на скамейке, а еще несколько – в тени грузовиков, крытых брезентом. Из кабины одного слышался хрип полевой рации и голос радиста: «Четвертый, я восьмой. У нас все тихо. Прием…» Возле грузовиков были горкой сложены пластиковые щиты и резиновые дубинки. А рядом, в соломенном кресле-качалке, сидел молодой веснушчатый лейтенант в расстегнутой гимнастерке. Держа в руке конец детской скакалки, он крутил ее вместе с семилетней девчонкой и считал другой девочке, пятилетней, которая прыгала через скакалку:
– Сорок два, сорок три, сорок четыре, сорок пять…
Тут он увидел Горация и меня, выругался сквозь зубы и остановил скакалку.
– Скажи ему, что я хочу взять интервью, – сказал мне Гораций.
– Здравствуйте, – сказал я лейтенанту по-русски. – Мистер Гораций Сэмсон – американский журналист. Он хочет взять у вас интервью.
– А вы кто? – спросил лейтенант.
– Я – корреспондент японского журнала «Токио ридерз дайджест».
Он посмотрел на меня с недоверием – я не был похож на японца и говорил по-русски без акцента.
– У вас есть документы? – спросил он.
Я порылся в карманах, вытащил свою бирку с надписью «Press Association» и визитную карточку гостиницы «Космос».
– Вот. А наши паспорта в гостинице «Космос»…
Он повертел в руках большую пластиковую бирку. Вряд ли он умел читать по-английски, но на бирке были нарисованы советский и американский флаги, скрещенные в знак дружбы. И это решило все дело – лейтенант подошел к кабине грузовика и сказал высунувшемуся радисту:
– Дай мне четвертого! Быстренько…
Два крохотных котенка – серый и рыжий – уютно спали на сиденье в черном берете радиста, рядом с коробкой полевой рации. Радист осторожно отодвинул котят, покрутил ручку рации, и я поразился советской технике – такие рации были еще во времена второй мировой войны. А то и первой…
Лейтенант взял трубку и сказал в нее:
– Товарищ майор, тут два иностранных журналиста – один черный, другой белый – хотят взять у меня интервью. Как прикажете действовать? Прием.
Он послушал ответ, сказал: «Слушаюсь!» – повернулся ко мне и кивнул на Горация:
– Ладно. Чего он хочет?
Я перевел Горацию, что лейтенант согласен дать интервью.
Гораций тут же вытащил из кармана диктофон. Лейтенант покосился на него, но промолчал.
– Как его звать? Это полицейские части? Что они здесь делают? – посыпал на меня вопросы Гораций, а со всех сторон нас стали окружать любопытные солдаты.
– Моя фамилия Васильев, – сказал лейтенант, и по тому, как кто-то из солдат хмыкнул у меня за спиной, я понял, что лейтенант соврал. Но не требовать же у него документы! Впрочем, дальнейшее было похоже на правду. – Мы войска спецназначения, – сказал лейтенант. – Мы боремся с рэкетирами и нарушителями общественного порядка.
– То есть они разгоняют демонстрации? – спросил Гораций.
– Мы делаем, что нам прикажут. – Лейтенант кивнул на рацию, хрипящую в кабине грузовика.
– А здесь будет демонстрация? – спросил я от себя.
– Этого мы не знаем. Нам приказали здесь дежурить, мы дежурим.
– А если им прикажут разогнать демонстрацию, они будут применять дубинки? – сказал мне по-английски Гораций. – Например, женщин будут бить?
Конечно, я-то не раз читал даже в советской прессе про эти отряды спецназначения, сформированные два года назад из солдат, прошедших войну в Афганистане. Судя даже по советской прессе, они отличаются особой жестокостью при разгоне демонстраций и митингов. Но я не ожидал такой осведомленности от Горация. Этот парень отлично подготовился к поездке в СССР.
Лейтенанта, конечно, разозлил наш вопрос.
– При чем тут женщины?! – сказал он. – Здесь, на Арбате, орудуют несколько банд рэкетиров. Они грабят художников, музыкантов и хозяев кооперативных кафе. А мы людей защищаем!
– У каждого художника, который сидит на Арбате, в кармане лежит спичечный коробок с деньгами. Чтобы сразу откупиться от рэкетиров, – сказал сбоку один из солдат.
– А иногда эти банды дерутся друг с другом, – добавил другой. – Вот вчера возле «Праги» зарезали одного солдата – «афганца»…
– «Афганцами» в России теперь называют русских солдат, которые воевали в Афганистане, – сказал я Горацию по-английски. Но дальше уже с трудом успевал переводить все, что наперебой говорили нам солдаты с разных сторон.
– А три дня назад убили «афганца»-журналиста. Он про мафию статью написал, а они его порешили!
– И как! Зверье! Череп проломили и лицо срезали! Вот, почитайте! – И один из солдат протянул мне свежую «Литературную газету», в которой я когда-то работал. Внизу газетной страницы были фамилии авторов статей, и я даже вздрогнул при виде одной из них – Марина Князева. «Господи, – подумал я, – тут все так близко мне! Марина! Да я же знал эту Марину двадцать лет назад, тогда она была совсем молоденькой журналисткой-практиканткой…»
Я быстро спросил у солдата:
– А кого убили? Как фамилия?
– Читайте, тут написано, – ответил он.
Я – уже с некоторой опаской – взял в руки газету. И перевел Горацию:
– «Убийство журналиста. У ответственного секретаря журнала «Огонек» Владимира Глотова убили сына. Тоже Владимира и тоже журналиста. Ему было 26 лет…»
Тут я невольно перевел дух – я не знал этого Глотова. И почему-то мне стало чуть легче.
– А вы тоже «афганцы»? – спросил я у солдат, возвращая газету.
– Не все, но многие.
– Ну вот ты, например, – сказал я лейтенанту. – Ты был в Афганистане?
– Ну, был! – ответил он с вызовом.
– И награды имеешь?
– Ну, имею!
– Какие?
– Ну, «Красную Звезду», «Славу»!
– Ого! А почему «ну»? Это даже не медали, а ордена. Их дают за выполнение особых боевых операций, верно?
– Ну… – Он не мог понять, куда я клоню.
– А за какие операции ты их получил?
– Это я не могу разглашать. – Лицо лейтенанта стало замкнутым, взгляд – жестким, и я поразился такой быстрой перемене: только что это было лицо мальчишки – курносое, светлоглазое, веснушчатое. И вдруг стало жестким, взрослым, скуластым.
– О’кей, – сказал я. – Но если сейчас на Арбате начнется стихийный митинг и вам прикажут его разогнать, вы будете выполнять это как боевую операцию?
– Мы – солдаты, – коротко ответил он.
– Это я понимаю, я сам был солдатом, – сказал я. – Но все-таки нам интересно: есть разница, когда против врагов операция, а когда надо дубинками бить своих же, русских? Или нет разницы?
– Это провокационный вопрос, – сказал кто-то из солдат.
– Почему? – Я сделал удивленное лицо. – Это нормальный вопрос. Вот сейчас вам по рации прикажут разогнать митинг. А если на митинге твоя мать? Или сестра? Может такое быть?
– Вы тут пропагандой не занимайтесь! – сказал лейтенант.
– Да я не занимаюсь, я спрашиваю. Что вы будете делать, если узнаете в толпе свою сестру или мать?
– А мы из Рязани, у нас в Москве никого нет! – засмеялся радист из машины. Котята проснулись и сонно возились на его плече.
– Понял. – Я повернулся к нему. – Значит, москвич, который служит в Рязани, может бить твою сестру дубинкой? Так?
– Все! Все! Интервью закончено! Выключите магнитофон! Идите отсюда! – приказал нам лейтенант и крикнул солдатам: – Разойдитесь! – И снова мне, уже угрожающе: – Вали, б…, отсюда!
– What happened? What happened [Что случилось? Что случилось]? – спрашивал Гораций, поняв по тону, что нас просто гонят вон.
– Nothing. Let’s go! I’ll tell you later [Ничего. Пошли! Позже скажу]. Спасибо, лейтенант!
И я пошел за Горацием, унося в руке «Литературную газету» со статьей «Убийство журналиста».
15
– Мы ссивем, как в доме, у которого обвалились стены, – говорил Толстяк, беззубо произнося двойное «сс» вместо «ж», «ч» и «ш». – Стены рухнули, все квартиры продувает ветер, а мы продолссаем ссить, делая вид, ссто ниссего не слуссилось…
Я сидел со своими московскими друзьями-киношниками в маленьком кооперативном ресторанчике на Второй Брестской улице. За окнами был Дом кино. Там, на каменных ступенях центрального входа, стояла толпа с какими-то плакатами. Но я был так возбужден встречей со своими старыми друзьями, что даже не поинтересовался, по какому поводу там демонстрация. Ведь мы расстались одиннадцать лет назад, и тогда, в 78-м, в глухую пору брежневско-андроповского режима, казалось, что это расставание – навсегда. А когда через год советские войска вошли в Афганистан, я и мои московские друзья похоронили даже тайную надежду увидеть друг друга в этой жизни.
И вот они сидят передо мной! Толстяк, Семен, Петя, Эдуард, Мира, Михаил, который когда-то жил на Урале с женой Ларисой…
Мы поминутно трогаем друг друга за руки, за плечи, за колени, словно не можем поверить, что это не сон. Но, Господи, как они постарели! Мужчины потеряли волосы и зубы, пережили инфаркты и разводы – черт возьми, ведь нам уже по пятьдесят! Пятьдесят!.. А женщины располнели, и мне нужно совершить немалое усилие, чтобы своим воображением вычленить в их лицах и фигурах тех, прежних, молодых, с которыми мы когда-то голяком сигали из русской бани в обжигающий русский снег. Неужели это было со мной?
О чем мы говорим? Мы слышим друг друга и не слышим.
– Старик, мы очень изменились?
– Нет, для меня вы все те же…
– У нас теперь гласность – писси, ссто хоссесс, делай любое кино! Но никто не знает, ссто снимать. Все растерялись. Вссера я подписал на телевидении контракт на пятьдесят серий – «Ссто такое демократия». Но как это писать?..
– Ты же помнишь, как мы раньше работали: лишь бы пробить сквозь цензуру хоть пять процентов правды! И народ валил в кино! А теперь все читают газеты, там вся правда. А в кино им теперь подавай только секс – ничего больше! Вот Петя сделал фильм про валютную проститутку, на это народ валом идет!
– Братцы, ну его на хер, это кино! Давайте выпьем за встречу!
– Миша, – говорю я Михаилу, – когда ты переехал в Москву?
– Шесть лет назад, пригласили на Центральное телевидение.
– А Лариса с тобой?
– Конечно! Мы ждем тебя вечером.
– Вадим, послуссай! Как ты думаесс, фильм «Ссестьдесят анекдотов из эпохи Бресснева» моссет пройти на Западе?
– Гениальная идея! – говорю я. – А что у тебя с зубами?
– Слуссай, вот один анекдот. Мусс приходит домой с бутылкой водки и пряссет ее в туалете…
– Заткнись, Толстяк, со своими анекдотами! – кричат сбоку. – Давайте выпьем! Вадим, а ты слыхал, что вся гласность началась с нас? Это мы на съезде кинематографистов устроили первый демократический переворот и разгромили все министерское кино! И кстати, твоего «друга» Павлаша просто выгнали!
– Лева, – говорю я Толстяку. – Сколько у вас стоит поставить зубы? Пару тысяч рублей? Но ведь это всего сто долларов! Я дам тебе сто долларов…
– Перестань! – отмахивается он. – У меня есть деньги – я завтра полуссаю аванс…
– Вадим, – перебивает Семен, – а ты знаешь, что первый в Москве вечер в честь дня рождения Солженицына был у нас, в Доме кино?!
– Петя, посситай ему письма сскольниц о твоем фильме! Ну, посситай, ссто тебе стоит! – Толстяк достает из кармана газетную страницу и читает сам: – «Поссему я буду проституткой. Письмо уссеницы восьмого класса. Дорогая редакция! Сегодня я в ссетвертый раз посмотрела фильм «Интердевосска» и хоссу сказать вот ссто. Хотя в этом фильме нас пугают, ссто если стать проституткой, то моссно разбиться на массине «вольва», то лиссно я такой смерти не боюсь. Луссе умереть в своей «вольве», ссвем в Ссернобыле или в Сумгаите. И вообссе, проститутка – это единственная в нассей стране профессия, которая не помогает коммунистиссеской мафии править страной. Конессно, и проститутки платят налоги – ссвейцарам в гостиницах, сутенерам и рэкетирам. Это оссень правильно показано в кино. Но на эти деньги никто не вторгается в Афганистан, не унисстоссает Байкал и не строит дасси для генералов. А налоги от всех других профессий идут прямо в Кремль, и на них ссивут все партийные нассальники. Но я не хоссу кормить их своим трудом. Поэтому я твердо рессила стать валютной проституткой. В нассем классе все девосски со мной согласны, только не у всех внессность подходяссая. С приветом, Галя Н.» Ну? – Толстяк аккуратно сложил газету. – Теперь ты видиссь, ссто ты был не прав? Твой фильм назывался «Зима бесконессна», а она не бесконессна, она была всего 72 года!
– Братцы, – говорю я, хмелея. – А может быть, где-нибудь в Госфильмофонде чудом уцелела копия моего фильма? А?
– Спроси у Эдуарда. Эд, ты же председатель комиссии по реабилитации фильмов. Скажи ему.
Эд действительно стал большим боссом в Союзе кинематографистов, особенно после того, как его комиссия вырвала из небытия несколько дюжин картин, запрещенных цензурой, в том числе широко известный теперь на Западе фильм «Комиссар».
– Вадим, – говорит Эд со вздохом. – Я знаю, что это больно, но… Мы нашли двенадцать фильмов, запрещенных при Хрущеве и Брежневе. И даже два фильма, запрещенных еще при Сталине. Твоего фильма нет, они его просто смыли. Вот, я взял, чтоб тебе показать… – И он достал из кармана какой-то конверт.
– Что это? – спросил я.
– Это о твоем фильме. Читай.
Я открыл конверт и вытащил сложенный вчетверо бланк рязанской фабрики по производству кинопленки. На бланке было напечатано крупным шрифтом советской пишущей машинки «Москва»:
АКТ № 12/457
Согласно приказу министра кинематографии тов. Павлаша Б.В., 9 января 1979 года весь видео– и звуковой материал фильма «Зима бесконечна» производства ленинградской киностудии «Ленфильм» был подвергнут обработке на регенерацию серебра. В результате этой обработки было получено 479 кг целлофана и 320,7 г серебра, которые оприходованы кинофабрикой.
Директор фабрики КОЛЯДНЫЙ Р. З.
Главный технолог ГОДУНОВ И. П.
Бухгалтер фабрики СИРОТИНА О. П.
Я читал этот документ, и последние капли надежды, которую я лелеял одиннадцать лет эмиграции, испарились в моей душе. Мне стало пусто и горько, как женщине после аборта.
– Н-да… – сказал я. – Где я был девятого января семьдесят девятого года? В Италии я был, вот где! В Рождество заработал на мойке машин семьсот тысяч лир и поехал смотреть Венецию и Капри. А в это время… Фильм стоил двух лет жизни, а осталось от него триста граммов серебра. Ладно, давайте выпьем! Но почему водка теплая? Пусть нам принесут лед.
– Ты с ума сошел! – сказала Мира, жена Пети. – Откуда они возьмут лед?
– Что значит «откуда»? – удивился я. – Из холодильника.
– Вадим, не выпендривайся! – сказал Семен. – Ты все забыл! Если у нас в ресторане попросить лед, можно запросто получить от официанта по морде.
– Действительно, брось эти буржуазные штучки, – добавил Петя. – Пей так.
Я пристально посмотрел на них – разыгрывают, что ли? Но Петя уже выпил водку теплой, и Толстяк – тоже, и даже Мира. А уж Мира у нас всегда была светской дамой, пить водку теплой не в ее стиле.
– Слушай, Петя, – сказал я. – Ты же сегодня самый знаменитый в России режиссер! Неужели ты боишься попросить у официантки лед?
– Я не боюсь, но лучше не связываться… – сказал он смущенно.
Я-то хорошо помнил, что Пете и раньше не хватало советской наглости, а потому сам повернулся к возникшей поодаль официантке:
– Девушка! Можно вас на минуту?
– Чего вам? – бросила она издали и через плечо. Ей было лет двадцать – хмурая брюнетка с высокой грудью и круглыми, как вишни, глазами. Поверх белой кофточки и короткой, выше колен, юбки на ней был кружевной передник с большим карманом.
Я жестом позвал ее к нашему столику. Она приблизилась с явной неохотой, глядя на меня настороженно, как на классового врага.
– Как вас звать? – спросил я.
– Катя. А что? – сказала она с вызовом, демонстрируя, что никаких вольностей не допустит.
– А вы можете подойти поближе?
– Ну, могу… – Она сделала еще два шага.
– А еще ближе? Пожалуйста!
– А в чем дело?
Тут я открыл свою заплечную сумку, в ней еще оставалось несколько сувениров из того барахла, которое я провез через таможню с помощью Роберта Макгроу. Не глядя, я вытащил из сумки две пачки колготок, коробочку женской косметики, набор фломастеров и пачку женских презервативов. И все это баснословное по советским стандартам богатство молча положил в большой карман ее передника.
– Ну зачем это? – покраснела официантка, не в силах отказаться от таких сокровищ.
– Дело в том, Катюша, – сказал я, – что я десять лет не был в России. Сегодня – мой первый день. А ты первая красивая девушка, которую я встретил. Но этот праздник души я не могу оскорбить теплой водкой, понимаешь?
– Но у нас нет холодной…
– А лед?
Она посмотрела мне в глаза, словно решая, что же я делаю – пытаюсь ее закадрить или действительно прошу только лед к водке?
– Пожалуйста! – сказал я. – Ради нашей встречи!
Она вздернула плечиком и пошла на кухню. Но было в ее походке уже что-то иное – не солдатский шаг советской официантки, а чисто женское покачивание бедрами.
– Ну, ты даешь! – сказала Мира. – Ты еще не забыл, как кадрить официанток?
– А в Америке ты себя тоссе так ведесс? – спросил Толстяк.
– Если бы в Америке я положил официантке в карман пачку презервативов, я бы точно схлопотал по морде, – сказал я.
– Старик, – сказал мне Семен. – Если тебе нужны в Москве колеса, я к твоим услугам. И кстати, тебя ждет сюрприз – я езжу на твоей машине.
– То есть как это? – не понял я. Пятнадцать лет назад у одного отбывающего в эмиграцию еврея я купил «Жигули». Машине уже тогда было три года. Уезжая, я продал ее кому-то, но не Семену.
– Помнишь, ты продал ее одному узбеку с «Научфильма»? – сказал Семен. – Так вот, он через год купил себе еврейскую жену и уехал по израильской визе. Машина осталась его дочке. Но еще через год и она вышла замуж за еврея-отказника, и, представь себе, они тоже уехали! А машина перешла еще к кому-то. Короче говоря, оказалось, что твоя машина приносит удачу, и теперь на нее очередь. Я ее шестнадцатый владелец, пятнадцать предыдущих уехали! Авось мне тоже повезет…
– Тебе – нет! – грубо сказал ему Толстяк.
– Почему? – спросил Семен, его большие голубые глаза потомственного раввина посмотрели на Толстяка с укоризной.
– Потому ссто те пятнадцать рессили уехать и уехали. А ты восемнадцать лет только говорисс, ссто ты завтра уезссаесс. Пари на коньяк, ссто ты будесс ездить на его массине до погромов!
– Неужели погромы все-таки будут? – спросил я, уводя разговор от больной для Семена темы. Действительно, восемнадцать лет назад он первый среди моих знакомых сообщил мне «по секрету», что через месяц подает документы на эмиграцию. С тех пор из СССР уехало полмиллиона евреев, а Семен все еще «через месяц» подает документы.
– Я нашел в своем почтовом ящике листовку-предупреждение: «Жиды, убирайтесь из России! В день крещения Руси мы устроим вам кровавую баню», – сказал Михаил. – Но праздник Крещения прошел, а погромов не было. Говорят, они перенесли погромы на 14 августа.
Тут из кухни появилась Катя с подносом на плече. На подносе стояла ваза со льдом, а рядом с вазой – запотевшая бутылка «Столичной». Вся наша компания дружно зааплодировала. А Катя поставила на наш столик вазу и бутылку «Столичной».
– Это вам от хозяина ресторана, – сказала она мне. – Он спрашивает, можно ли ему с вами поговорить?
– Конечно, можно!
Через минуту коренастый черноволосый мужчина лет тридцати пяти, в джинсах, фартуке и при тяжелой золотой цепочке на шее, подсел к нам за столик. Я тут же взял у него интервью.
– Рэкет? Ну конечно, есть! Ко мне сюда два раза приходили с «пушками», забирали все деньги. Пришлось нанять охрану – вон, видишь, «шкафы»… – И показал на двух высоких широкоплечих парней, которые сидели за столиком возле двери на кухню.
– А если опять придут с «пушками», будет перестрелка?
– Нет, больше не придут.
– Почему ты так уверен? Я слышал, что Москва поделена между рэкетирами на районы, но дележка еще не кончена, мафия воюет друг с другом.
– Ко мне уже не придут. Мои ребята с ними договорились.
– То есть ты платишь налог?
– Ну конечно! Иначе меня бы уже не было в живых. А вообще, я скоро сваливаю на Запад. Вся семья давно там, а я десять лет сидел в отказе, потому что в армии служил в ракетных войсках поваром. Я им говорил в ОВИРе: ну какие я знаю военные секреты? Я ваших ракет в глаза не видел, я на кухне кашу варил! Рецепт солдатской каши – тайна? А теперь они мне говорят: «Извините, это была ошибка, ваша секретность снята». А десять лет жизни они у меня отняли.
– Смотрите, Рустам идет! – вдруг сказал Толстяк.
– Где? – резко повернулся я.
– Вон, за окном, выссел из Дома кино. Он ссе теперь народный депутат!
Я вскочил на подоконник, пачкая брюки в жуткой пыли, и заорал на всю Вторую Брестскую:
– Рустам! Руста-ам!
Рустам Ибрагимбеков – знаменитый советский драматург, автор трех дюжин популярных пьес и фильмов, секретарь Союза кинематографистов и член советского парламента – стоял перед Домом кино в толпе каких-то людей с плакатами «Долой советско-фашистскую судебную систему» и «Вся власть – народу!» Близоруко щурясь, он оглянулся на мой крик, но не увидел меня издали. Тридцать пять лет назад мы с ним учились в одной школе, в параллельных классах, и вместе удирали с уроков в кино на бельгийский фильм «Чайки умирают в гавани».
– Рустам! Это я, Плот! – крикнул я ему свою школьную кличку.
И вот он заходит в ресторан степенной походкой народного депутата, мужчины весом в сто восемьдесят килограммов.
– Старик, – говорит он мне, совершенно не удивляясь этой встрече, – нам надо потолковать. Я руковожу советско-американской киноинициативой. Мы уже запустили несколько совместных проектов, один фильм будет ставить в Голливуде Никита Михалков, после «Очи черные» у него там карт-бланш. А я читал в Америке твои книги, и мне кажется, что одна из них годится для совместной постановки.
– А у вас есть валюта? – сказал ему Толстяк.
– У нас есть рубли, а валюту… Будем искать иностранных партнеров, – ответил ему Рустам и повернулся ко мне: – Ну?
– Fine! – сказал я. – Если найдете валюту, я готов! А что происходит в Доме кино? Что за толпа с плакатами?
– А ты не знаешь? – удивился Рустам. – Сейчас в Москве идет сессия Верховного Совета СССР, но сегодня суббота, перерыв в заседаниях, и мы арендовали на два дня Дом кино для московской группы депутатов. Вы там, на Западе, называете нас «группой Ельцина», но это неправильно. Мы создаем сейчас межрегиональную группу депутатов – западные журналисты обозвали это оппозицией в советском парламенте…
Только тут я вспомнил, что вчера в венском аэропорту Дэнис Лорм, наш вундеркинд-обозреватель из Вашингтона, говорил мне о заседании «ельцинской группы». А теперь оказывается, что мой школьный приятель – член этой первой в истории СССР легальной парламентской оппозиции!
– И все это происходит в Доме кино? – сказал я. – Сейчас?!! И Ельцин там?
– Конечно, но сегодня заседание уже кончилось, а завтра продолжится с девяти утра.
– Рустам, я должен там побывать!
– Не думаю, что тебя пустят, старик…
– Я буду там завтра утром! – вдруг заявил я с хмельной уверенностью – не то мой успех у Кати-официантки придал мне самонадеянности, не то вторая бутылка водки, которой уже оставалось на донышке.
– Это будет анекдот, если ты туда попадесс! – сказал Толстяк, автор будущего фильма «60 анекдотов из эпохи Брежнева». – Пари на яссик коньяка, ссто тебя туда не пустят!
– Ну зачем пари? – струсил я в последний момент. – Я попробую. Рустам, а ты не сможешь меня провести?
– Я завтра приеду только после трех, у меня с утра встреча с бельгийским телевидением, – ответил он и добавил с проницательностью профессионального кинодраматурга: – По-моему, ты уже закадрил официантку.
– С чего ты взял?
– Я сюда заходил пару раз, и меня всегда заставляли ждать по часу и отвратительно кормили. А тут не успел я сесть, как она, не спрашивая, принесла мне прекрасный шашлык и даже гурийскую капусту! Чем ты ее охмурил?
– Родина, старик, знает своих героев, – произнес я скромно.
Через полчаса, расплачиваясь с официанткой, я сказал ей:
– Катюша, послезавтра я улетаю в Ленинград, а оттуда – в Таллинн и – гуд бай, Россия. Но если я приеду сюда еще раз, как мне тебя найти? – И прямо посмотрел в ее юные глазки-вишенки.
Она взяла у меня чек и написала на обратной стороне: «Катя Кулакова. 445-12-32. Только не надо больше подарков».
И она посмотрела мне прямо в глаза.
Я поцеловал ей руку. И подумал: «Господи, спасибо тебе! Пусть я никогда не трахну ее, и пусть я никогда больше не приеду в Россию. Но мне пятьдесят, а ей едва ли двадцать, и она – готова.
Спасибо тебе, Господи!»
Часть третья
16
Когда я вошел в гостиничный номер, Роберт Макгроу стоял спиной ко мне – лицом к открытому окну. Широко расставив ноги, он с хмельной сосредоточенностью держал на плече видеокамеру и говорил вполсилы своего громоподобного голоса:
– Это Москва, август 89-го. Видите этот монумент? Это памятник Гагарину и русской космонавтике. Выглядит впечатляюще, особенно ночью. Но остальная Москва очень темная…
Я догадался: он снимает из окна ночную Москву и одновременно наговаривает на кассету комментарии. Я замер у двери, чтобы ему не мешать, но тут его камера резко повернулась ко мне, и, не отрываясь от окуляра, Роберт воскликнул:
– О, Вадим! Привет! – И продолжил тоном теледиктора: – Это мой сосед по комнате Вадим Плоткин. Входи, Вадим! Познакомься с моими друзьями…
Я шагнул в номер и только тут увидел, кого Роберт имеет в виду: в глубине комнаты сидели две молодые женщины. «Ого! – подумал я. – Сразу две! Этот Роберт не теряет времени даром!»
Перед его гостями на столике стояли открытая коробка шоколадных конфет, початая бутылка бренди и несколько бутылок минеральной воды. А на тумбочке и на подоконнике лежали внаброс сувениры: брелоки, флажки, значки, крохотные индейские куклы, фломастеры и поясные пряжки с надписями «Colorado» и «USA». «Нашел чем соблазнять русских проституток», – усмехнулся я про себя. Но тут же заметил, что в манерах и одежде этих дам есть нечто, не свойственное валютным проституткам. Во-первых, эти простенькие платья и школьные, без каблуков, туфли – униформа провинциалок, которых я несколько часов назад видел на Арбате. Во-вторых, они не курят. А в-третьих…
– This is Maria and Shura [Это Мария и Шура], – сказал Роберт, продолжая снимать нас видеокамерой. – Они обе учительницы в московской школе номер 32. Дети из их классов переписываются с нашей колорадской школой уже три года! Но ты не можешь себе представить, чего мне стоило провести их в гостиницу!..
И, отложив наконец свою камеру, он рассказал мне, какую битву со швейцарами и администратором отеля ему пришлось выдержать, чтобы этих московских учительниц пропустили к нам в номер.
– Я сказал администратору: я приехал в Москву только для того, чтобы увидеть детей, которые пишут нашим детям такие замечательные письма. И пригласить их в Америку! За наш счет! Но о какой дружбе можно говорить, если вы даже школьным учительницам не разрешаете говорить с нами! Это же против политики вашего правительства, я напишу Горбачеву личное письмо! О’кей, после этого нас пропустили, и я повел их в ресторан. И что ты думаешь? В гостинице три ресторана, но ни в один нас не пропустили! Говорят: нет мест. Но я вижу, там полно свободных мест! И я не понимаю, Вадим, как они делают тут деньги, если в пустой ресторан не пускают клиентов? Я не понимаю! – Он залпом выпил остаток бренди и тут же расстегнул еще одну кнопку на ковбойской рубашке.
Я посмотрел на учительниц. Теперь я понял, что, кроме одежды и отсутствия сигарет, отличает их от проституток. Скованность. Любые гостиничные бляди уже давно сидели бы развалясь в этих креслах и выставив циркулем голые ноги. Они бы запросто выпили эту бутылку бренди и раскололи Роберта еще на пару таких же плюс блок «Мальборо». Но эти учительницы…
Наверно, и до моего появления они сидели тут как замороженные, не зная, как удрать от подвыпившего американца. А когда я появился, они вообще окаменели, поняв по выражению моего лица, что я принял их за проституток.
Я попробовал исправить эту бестактность и тихо сказал им по-русски:
– Вам помочь слинять отсюда?
Они обе вскинули на меня изумленно-обрадованные глаза.
– Ой! Вы говорите по-русски? – спросила Мария. У нее оказались замечательные серые глаза, серьезные и трепетные, как у гимназистки.
– Да, чуть-чуть…
– Вы что, советский? – спросила Шура. На мой вкус, она была толста, полные белые плечи просто выпирали из тесного платья, но Роберт, кажется, не мог оторвать глаз именно от этих плеч.
– Бывший, – ответил я.
– Ой, вы знаете, мы просто в жуткой ситуации! – сказала Мария. – Про эту гостиницу была большая статья в последней «Юности», что здесь сплошная коррупция – от дежурных по этажу до директора и швейцара!
– Швейцар берет с проституток по десятке за вход, а просто так никаких женщин не пускают, – подхватила Шура. – А рестораны контролируются мафией, у них тут по субботам всегда сабантуй. Но как это объяснить Роберту?
– Нам так стыдно за нашу страну! – добавила Мария. – Он приехал к нам как гость!
– Vadim, – вдруг ревниво сказал Роберт, наливая бренди себе и мне. – Они учительницы английского, они говорят по-английски.
– Но мой английский ужасен, – сказал я.
– Твоего английского хватит, чтобы велеть им выпить за дружбу! На здоровья! – произнес он по-русски и резко, с пьяной инерцией наклонился к Марии и Шуре, чтобы чокнуться с ними. И конечно, прилег плечом к Шуриному плечу.
Но Шура высвободила плечо. Учительницы пить не стали, а с немой мольбой глянули на меня.
– You know what, Robert? – сказал я. – Сейчас одиннадцать вечера, уже открылся валютный бар. Мы можем пригласить твоих дам туда. Им это может быть интересно: там музыка, молодежь…
– Мы не хотим в бар, – негромко сказала Мария по-русски. – Мы хотим домой.
– Оттуда вам легче смыться, – ответил я ей сквозь зубы.
– Но мы не хотим его обидеть…
– Пошли! – уже оживился Роберт. – Ты уверен, что нас пустят?
Валютный бар, маленький и темный, был забит до отказа. Раскалывая стены, гремела музыка, под черным потолком крутился зеркальный шар, отбрасывая цветные пятна на густую толпу, которая совершенно непонятно как умудрялась танцевать в такой тесноте.
Заплатив швейцару сорок долларов за четыре билета, мы получили доступ к этому «храму». При этом билеты он, конечно, нам не дал, деньги легли в его собственный карман. Одновременно он с явным сомнением оглядел наших дам – они определенно не соответствовали женскому стандарту этого заведения. Но твердая валюта сильней принципов, и швейцар открыл перед нами дверь.
Мы втиснулись в грохот музыки, тесноту тел, табачный дым и алкогольные пары. И тут же наткнулись на парней из нашей делегации – мужскую свиту Моники Брадшоу.
– Хай, Роберт! Хай, Вадим! – приветствовали они нас, танцуя (а точнее, топчась в тесноте) с тремя юными русскими девицами такой красоты, что даже меня оторопь взяла. – Роберт, если ты хочешь выпить, пробивайся к стойке. Все наши там! Вадим, где вы были весь день? Мы беспокоились о вас…
– Конечно, мы хотим выпить! – рявкнул Роберт и петухом врезался в тряскую танцующую массу.
Озираясь по сторонам, я двинулся за Робертом. Черт возьми, или я одичал в этой Америке за десять лет семейно-тюремной жизни, или… Мне показалось, что я никогда не видел сразу столько юных красоток. И самое главное – каждая из них была дико похожа на Аню, на ту Аню Муравину, которая вышла тогда из автобуса…
И только присмотревшись, я заметил, что все эти красотки разные: тут были и длинноногие русалки с зелеными глазами и волосами до пояса – сексуально, как морские водоросли, они раскачивали своими телами в такт музыке… и волоокие феи с личиками безгрешных ангелочков, с маленькими верткими попками и с губками, двусмысленно алыми… и пышногрудые Кармен с глазами кинжальной синевы и с бедрами, округлыми до озноба… и невинные Красные Шапочки… и трепетные Наташи Ростовы… и непорочные Аленушки из русских народных сказок… и школьницы с блядскими глазами… и великовозрастные бляди с глазами непорочных школьниц… И все-таки было в них что-то общее, что делало всех похожими на мою Аню, как сестер…
Когда я, замешкавшись в этой танцующей массе, все же пробился к стойке бара, Роберт уже протягивал мне бокал с каким-то дринком. Я не глядя выпил его залпом, но это была какая-то слабая бурда, и я через чьи-то головы протянул бармену пустой стакан.
– Двойную водки и не разбавляй! – сказал я ему по-русски.
– Vadim! Cool down [Вадим! Остынь]! – произнес рядом чей-то знакомый голос, и тут я увидел, что почти вся стойка бара занята нашими – Дайана Тростер из Алабамы, Норман Берн из Флориды, Джон О’Хаген из Огайо, полковник Сэм Лозински, еще кто-то. Возле них терлись молоденькие проститутки, и, кажется, Норман и Джон были не против купить этим девочкам по дринку.
– Восемь долларов, – сказал мне бармен.
Я бросил ему десятку, взял бокал и залпом выпил.
Только теперь я перевел дух и смог снова смотреть в зал. Нет, конечно, моя Аня не была валютной девочкой. И все же… И все же в каждой из этих юных путан «Космоса» я видел именно ее – далекую, двадцатипятилетней давности, Анну Муравину, какой она вышла тогда из автобуса на улице Эйзенштейна.
Впрочем, эти девчонки были еще моложе, и, если бы тогда я выполнил Анину просьбу (Господи, в каком это было году?), любая из них могла бы быть нашей дочкой…
Господи, когда же это было?
Кажется, в 1973-м. Или в 74-м? Не важно. Хорошо помню, что это было 26 августа, в Анин день рождения. Обычно на ее и мой дни рождения я старался уехать из Москвы в командировку, и как можно дальше – в Сибирь, в Заполярье, в Среднюю Азию. Чтобы не сорваться, не ринуться к ней с цветами и просьбой выйти за меня замуж. А из Сибири или из Заполярья я терзал ее идиотскими телеграммами, которые никто, кроме нее, не мог понять. Потому что в одной телеграмме, например из Хабаровска, было только два слова: «ТИЛИ-ТИЛИ». А продолжение приносили уже на следующий день, но и там было только два слова: «ТРАЛИ-ВАЛИ». И все. И никто, кроме Ани, не знал, что это просто начало детской песни, которую напевала Аня, когда мы с ней бродили по Москве и я читал ей лекции по русской литературе. А поскольку почтальон приносил эти телеграммы днем и не заставал Аню дома, то он отдавал их ее матери. Открыв телеграмму с текстом «ТРАЛИ-ВАЛИ», Анина мама спросила у почтальона:
– Что это значит?
Почтальон глянул и сказал:
– Трали-вали, кошку драли! Ясно?
От подобного оскорбления Анина мать пришла в ярость и наорала на почтальона, чтобы он не смел приносить такие гадости…
Да, как бы враждебно и скандально мы ни расставались с Аней в очередной раз, мы поздравляли друг друга с днем рождения, и это была тонкая и почти символическая нить, которая связывала наши судьбы. Так подводная лодка, уходя в автономное плавание, выходит на радиосвязь только раз в полгода, и так астронавты, улетая на какую-нибудь планету, смогут связываться с Землей только раз в году, когда наша галактика будет определенным образом повернута во Вселенной.
Тринадцать лет мы с Аней пребывали в автономных плаваниях и проживали разные судьбы, но подсознательно ждали следующего моего и ее дня рождения, чтобы выйти на связь и прокричать сквозь эфир: «Ты жива? Я жив!» При этом Аня посылала мне телеграммы на киностудию или на Главпочтамт, до востребования, а я посылал ей телеграммы откуда-нибудь из тьмутаракани. А сам отмечал ее день рождения без нее, трусливо и горько, как недолеченный алкоголик тайком пьет воду из рюмки…
Но в то лето 73-го (или 74-го) дела задержали меня в Москве, я послал Ане какую-то дурацкую телеграмму без обратного адреса, а огромный, в честь ее дня рождения, букет желтых, цвета разлуки, цветов поставил на окне той квартиры, которую тогда снимал. И пригласил к себе на этот тайный праздник сразу двух молоденьких подруг-актрисулечек, с которыми до того периодически спал порознь.
Увидев цветы, но не получив их, девочки тактично промолчали, славно пожарили на кухне цыплят табака и вообще приготовили роскошный обед с вином, водкой и мороженым. А после обеда (или уже во время его, не помню) мы легко перешли к плотским забавам. Честно говоря, для меня это был первый эксперимент секса втроем, до этого я все не мог себе представить, что же будет делать «свободная» дама – наблюдать?
Но как раз в этот восхитительный момент, когда обе девочки стояли на коленях подле моих чресел, – именно в этот кульминационный момент раздался громкий стук в дверь.
– Это еще кто? – изумился я, встал, с усилием запихал в ширинку свой «памятник космонавтам» и пошел в прихожую.
– Кто там?
– КГБ! – раздался за дверью Анин голос.
«Памятник космонавтам» рухнул у меня в штанах, а ноги подкосились. Но я открыл дверь.
Она вошла, хмельная, с двумя бутылками шампанского в каждой руке.
– Спермой пахнет! – сказала она с порога, поморщив свой античный носик, и тут же увидела два молоденьких женских личика, выглянувших из комнаты. – Понятно! – Аня недобро усмехнулась и протянула им бутылки. – Держите, девушки! – А передав бутылки, тут же схватила меня за ворот рубахи и рывком потянула на кухню.
Обессиленный после «заходов» двух актрисулечек и неожиданного Аниного вторжения, я не сопротивлялся. А она втащила меня на кухню, прислонила к стене и, держа одной рукой за воротник, другой стала наотмашь бить меня по лицу, приговаривая:
– Сволочь! Мерзавец! Я люблю тебя, а ты тут с какими-то блядями! Идиот!..
– Я отмечаю твой день рождения. Вон цветы… – сказал я.
– Кретин! Выгони их! Выгони их и сделай мне ребенка! Ты слышишь, мерзавец? Я люблю тебя!
– Ну, хватит меня бить.
– Ты сделаешь мне ребенка?
– Нет.
– Почему?
– Потому что я тебя боюсь. Ты меня сломаешь. Однажды я уже сломался из-за тебя и сделал им «Юнгу торпедного катера». Больше не хочу.
– Кретин! Я же люблю тебя! – Она отпустила меня, подошла к кухонному столику, налила в стакан остатки водки и залпом выпила. Ее руки дрожали.
– I don’t understand you, Vadim [Не понимаю тебя, Вадим]! – Один из молодых журналистов из свиты Моники Брадшоу, разгоряченный танцем, подвалил к бару, попросил шесть дринков для своей компании. Пританцовывая, пока бармен наливал, он воскликнул: – Как ты мог уехать из страны, где водятся такие курочки! Поверь, я знаю все ночные бары Нью-Йорка, Лос-Анджелеса, Бостона и Нью-Орлеана – ни в одном из них нет красоток в таком количестве. Как ты мог уехать отсюда?
– Я был трезвый в то время.
– I see. I get your point [Ясно! Я вас понял]! – Он усмехнулся, сгреб шесть дринков и унес их. А Роберт почти насильно увел танцевать Шурочку.
– А действительно, почему вы уехали? – спросила Мария, вынужденно – от темноты и шума – приближая ко мне вплотную свое сероглазое лицо. Из ее тяжелой косы дразняще выбился маленький пушистый завиток.
– Потому что меня выбросили из кино! – коротко, стараясь перекричать музыку, ответил я.
Но она продолжала смотреть вопросительно, и пришлось объяснить:
– Я был режиссером. Может быть, вы видели мои фильмы. «Юнга торпедного катера», «Кавказская любовь»…
– Ой, конечно, видела! «Юнгу» недавно показывали по телевизору.
– Неужели? – изумился я.
– Правда. И вообще этот фильм часто показывают в школах. По учебной программе. А как ваша фамилия?
Я сказал. Она нахмурила свои бровки, словно пытаясь что-то припомнить.
– Нет, – сказала она. – Там нет такой фамилии. Я теперь вспоминаю – там вообще нет фамилии автора.
– Значит, вырезали, – сказал я. – От советской власти всего можно ожидать – вырезали фамилию автора-эмигранта, а фильм крутят… – И я непроизвольно тронул ее локон, выбившийся из косы.
– Vadim, have you seen Mr. Samson [Вадим, вы видели Сэмсона]? – спросила сбоку Дайана Тростер. Все наши мужчины ушли танцевать с московскими chicks, как назвал их Питер, а Дайана осталась одна. Судя по белизне ее носика, она уже приняла дринков восемь.
– Я видел Горация днем на Арбате, – ответил я, убирая руку от косы Марии.
– Это я знаю, он рассказывал. Но после этого?
– Нет, после этого я его не видел.
– Его избил офицер КГБ.
– Что-о???
Она усмехнулась:
– Спросите Монику, они все там были, вся наша молодая банда. Возле Верховного Совета. Там была сидячая демонстрация каких-то мусульман, которых Сталин когда-то переселил, я не знаю…
– Месхов, – сказала Мария. – Там месхи вторую неделю сидят, перед приемной Верховного Совета.
– Точно, – сказала Дайана. – Ну и наша молодежь вместо балета на льду побежала туда. Они даже сумели пройти внутрь, в офис – вместе с телебригадой Си-би-эс. А Гораций решил с этими месхами поговорить. Они, конечно, не говорят по-английски, так он попробовал по-французски и по-испански. Но тут к нему подошел какой-то офицер КГБ, взял за волосы и так стукнул ногой в спину, что Гораций улетел на двадцать футов. Теперь он лежит в номере и боится, что ему сломали позвоночник. Скажи мне, разве русские – расисты? Ведь там было не меньше сотни журналистов, но этот офицер не тронул ни одного белого. А Горация…
Я вздохнул. У меня не было никакой охоты читать сейчас Дайане лекции об отношении КГБ и всего московского населения к черным. Но тут меня выручила Мария.
– КГБ – это не просто расисты, – сказала она. – Они хуже, они коммунисты!
– Мария! Тише! – одернул я ее, зная, что в валютных барах под каждой стойкой положено быть гэбэшному микрофону.
– А мы их уже не боимся! – храбро сказала Мария и отхлебнула наконец из своего бокала.
– Well… Теперь я понимаю, почему ты назвал свою книгу «Гэбэшные псы», – сказала мне Дайана.
– Это вы написали «Гэбэшных собак»? – изумленно спросила Мария.
– Псов… – поправил я. – А вы слышали про эту книжку?
Она посмотрела мне в глаза так, словно плеснула в меня горячим ромом, затем выпила свой бокал до дна и встряхнула толстой косой:
– Потанцуем?
– Боюсь, я забыл, как это делается.
– Ничего, ничего! Идемте! – И, взяв меня за руку, энергично потащила прямо в гущу танцующей толпы. – Так вы и есть автор «Гэбэшных псов»! – усмехнулась она через минуту, в танце, когда толпа прижала нас друг к другу.
– А в чем дело?
– Да так… Скажите, а вы писали эту книгу по-английски или по-русски?
– Ну, конечно, по-русски.
– Я так и думала… – И вдруг опять вскинула на меня свои радужные глаза. – А вы знаете, я из-за вас чуть не загремела на два года в тюрьму! Но отсидела только восемь суток…
– Что? Что?
– А хотите, я вам сделаю подарок? – Ее глаза продолжали сиять.
– Какой?
– Но только для этого придется поехать ко мне домой.
– Ну, ради такого подарка я готов!.. – сморозил я и тут же заткнулся – на лице у Марии появилось выражение брезгливости.
– Неужели вы тоже пошляк? – произнесла она, и ее плечи опали, словно из нее, как из воздушного шара, выпустили воздух.
– Конечно! – ответил я, понимая, что в таких случаях лучшее средство защиты – нападение. – А что вы хотите, чтобы я подумал – в валютном баре красивая молодая женщина предлагает мне поехать к ней домой?
Она подумала с долю секунды, потом ее лицо прояснилось и она усмехнулась:
– Пожалуй, вы правы. Но, честное слово, такой писатель, как вы, не должен быть пошляком.
– Хорошо, я постараюсь исправиться. Может, нам еще выпить?
– Здесь ужасно жарко. И вообще, мне пора домой. Завтра у нас в школе встреча с Робертом, мне нужно приготовить речь…
Но я чувствовал, что это вранье. Просто я своей пошлой репликой все испортил. Я взял Марию за руку, протащил через толпу к стойке бара и заказал две водки со льдом.
– Мне не надо со льдом, – сказала Мария и укорила меня: – Вы уже забыли, как пьют в России!
Через пару минут мы вышли из отеля на улицу. Стояла жаркая и темная июльская ночь. Напротив гостиницы вздымалась в темное небо «мечта импотента», подсвеченная снизу мощными прожекторами. Мы шли по проспекту Мира, и я спросил:
– Так почему из-за меня вы чуть не загремели на два года?
– Потому что у нас в инязе ваши книги ходили по рукам и мы знали наизусть целые страницы, – сказала Мария. – А некоторые реплики были просто как пароль. Ну, и кто-то стукнул в партком, а оттуда – в КГБ. И нас всех взяли прямо в институте – весь курс. И у всех устроили домашние обыски. Нашли, конечно, не только ваши книги. Нашли Баррона, Конквиста, Авторханова. Но срок хотели дать именно за вас…
– Почему?
– Ну, как вам сказать… Ладно, скажу! Дело в том, что наши девочки перевели ваших «Кремлевских лис» с английского снова на русский, а потом распечатывали и продавали. Это, конечно, было нарушением ваших авторских прав, но… Вы же знаете, какие у нас стипендии! 28 рублей в месяц. А тут за одну вашу книжку на черном рынке давали сто рублей! Ну, вот нам и «шили» 190-ю статью – распространение антисоветской литературы. Нас спасло только то, что на курсе учился Саша Павлаш, внук министра кинематографии. А у него нашли 67 экземпляров ваших «Псов» и «Лис». И чтобы выручить его, им пришлось замять дело и выпустить нас всех…
«Ну и фабула! – подумал я. – Внук того самого Павлаша, который убил мой фильм, спекулирует моими книгами! Если бы я придумал такой поворот сюжета в каком-нибудь романе, пришлось бы тут же и вычеркнуть – уж слишком примитивно! Да и чего ему не хватало, внуку министра!»
Но вслух я спросил о другом:
– А сколько экземпляров нашли у вас?
– У меня было три, но гэбисты нашли только один, – улыбнулась Мария.
– А где были остальные?
– В пеленках моего сына. Ему тогда было три месяца, и у него был поносик. И весь самиздат мы держали в баке, под его грязными пеленками, в полиэтилене. Гэбисты, конечно, и туда полезли, но уж очень там пахло, они не стали рыться до дна. Но один экземпляр оказался на виду, на тахте – мой муж читал.
– Н-да… – сказал я. – Хотел бы я иметь хоть один экземпляр! У вас, случайно, не завалялось?
Она посмотрела на меня искоса, потом сказала:
– Собственно, именно этот подарок я и хотела вам сделать. Но вы все опошлили…
– Мария! – Я взял ее под руку. – Клянусь, я даже не зайду к вам в дом! Вы мне просто вынесете книжку! И с меня – любой презент! Пожалуйста, вот такси, поехали!
– Ну зачем на такси? – усмехнулась она. – Я возле Рижского вокзала живу. Это, если вы помните, тут рядом.
Действительно, минут через пять мы, не дойдя до Рижского вокзала, свернули налево, в Крестовский переулок. Обогнув рынок-барахолку, замусоренную и пустынную в это ночное время, мы прошли через какой-то двор и остановились перед старым кирпичным домом с начерно-темными окнами во всех четырех этажах.
– Вот, здесь я живу, – сказала Мария.
– Я подожду вас…
– Да уж ладно! – усмехнулась она в темноте. – Не могу же я американского писателя оставить на улице! Тем более автора «Гэбэшных псов». И вообще, у нас тут неспокойное место. Рынок же рядом – мафия, рэкетиры. Пойдемте! – И, взяв меня за руку, повела в подъезд. Ладонь у нее была узкая и прохладная, а на шее, возле ключицы, лежал пушистый локон, выбившийся из косы, – локон, который волновал меня весь вечер.
Я, конечно, сдержал себя. В полном мраке – света в подъезде не было и пахло – о, Господи! – Мария за руку повела меня вверх по ступенькам, и я шагал, как слепец, а она говорила громко:
– Ничего! Тут всего восемь ступенек, а потом площадка. И еще десять ступенек… У вас есть спички?
– Нет…
Под ногами что-то захрустело – стеклянное, мелкое.
– Сволочи! Опять тут наркоманы кололись! – сказала Мария.
На третьем этаже она остановилась перед какой-то дверью, достала из кармана юбки ключ и на ощупь вставила его в замочную скважину. Потом толкнула дверь и тут же справа, за дверью, щелкнула выключателем. Электрическая лампочка осветила длинный коридор коммунальной квартиры, заставленный какими-то комодами, с висящими на стене велосипедом и тазами… Но все это я рассмотрел позже, а в первую секунду, едва вспыхнул свет, Мария рывком втащила меня в прихожую, стремительно захлопнула дверь и тут же прижалась к ней спиной, откинув голову и закрыв глаза.
– Уф-ф! – выдохнула она с облегчением.
– Что такое?
– Да ничего… – Она усмехнулась и открыла глаза. – Так мы живем! Страшно в собственный подъезд войти. Из-за этого треклятого рынка у нас во всех подъездах шпана по ночам ошивается. Никаких лампочек не хватает – тут же выкручивают или разбивают…
Только теперь я понял, что она просто трусила одна зайти в свой подъезд, и потому говорила со мной на лестнице так громко, чтобы я подал свой мужской голос.
– Пошли, – сказала она и, опять взяв меня за руку, повела в глубину коридора, стуча каблуками своих туфель. По дороге задвинула ногой ящик, торчащий из облезлого комода, и спросила через плечо: – Вы давно не были в коммуналке?
– Да уж лет двадцать.
– Неужели в Штатах совсем нет коммунальных квартир?
– Думаю, что нет. Мне не попадались.
Я удивился, что она так громко разговаривает и так беспардонно стучит, ведь в коридор выходят несколько дверей, и, наверное, за каждой из них кто-то живет, спит. Но я промолчал. Еще одним ключом Мария открыла предпоследнюю в коридоре дверь. И в этот момент весь коридор наполнился нарастающим гулом, – это где-то совсем рядом грохотал на рельсах тяжелый и, кажется, бесконечный железнодорожный состав. Я вспомнил, что сразу за Крестовским проездом проходит железная дорога, а ближе к центру города находится Москва-Товарная.
Состав гремел так, что стены дрожали, и я подумал: «Господи, как же тут можно жить?»
– Прошу вас, – сказала Мария, включая свет и приглашая меня через порог. За грохотом поезда я, конечно, не расслышал ее слов, но угадал их по артикуляции и по жесту.
Длинная, как пенал, душная комната с одним закрытым окном была когда-то частью большой гостиной – под потолком сохранилась лепка, которая резко обрывалась у левой боковой стены, завешанной ковром. А в самой комнате густо, почти впритык, стояла мебель: придвинутый к дивану обеденный стол, стулья, две этажерки с книгами, мощный высокий буфет с посудой, кресло-качалка, одежный шкаф, узкая детская кровать, а рядом – школьная парта, над ней, на стене, – карта мира, фотографии космонавтов и боксеров. А возле двери в углу – холодильник «Саратов», в другом углу – тумбочка с телевизором и семейными фотографиями, а в третьем – кадка с мандариновым деревом.
– Боже, вы тут еще и мандарины выращиваете! – сказал я, но Мария меня не расслышала: поезд продолжал грохотать за окном.
Я показал на кадку с деревом, Мария бессильно развела руками, и я прочел по ее губам:
– Мама…
– А где она? Где мама? Сын?
Конечно, я еще хотел спросить и про мужа, поскольку в комнате никого не было, но все равно Мария меня не слышала. И я смолчал.
А она подошла к окну, прислонилась лицом к темному стеклу и, как мне показалось, стала ждать, когда пройдет поезд. Мне ничего не оставалось, как присоединиться к этому занятию. И что-то было в стуке этих колес, в быстро проплывающих и неясных во тьме силуэтах вагонов и платформ, в их ритмичном бесконечном клацанье, в слабых, как вспышки сигарет, бликах света, мелькавших тут и там вдоль всего этого темного и плывущего состава, – что-то было во всем этом томящее и тревожное до озноба.
И так мы стояли, может быть, три или даже пять минут, думая каждый о своем, слушая стук вагонов и глядя на этот близкий, буквально в тридцати метрах от нас, состав. А когда последняя, с красным фонарем, платформа проклацала к Москве-Товарной, Мария повернула ко мне лицо и опять сказала:
– Вот. Так мы живем… Россия…
И в ее серых глазах уже не было радужных протуберанцев, а была только темная и тревожная ночная горечь.
Я поднял руку и осторожно погладил ее по волосам. А потом, взяв за плечи, привлек к себе и поцеловал в губы.
Она не отстранилась, только закрыла глаза. Но губы ее – мягкие, сухие, теплые губы – ответили на мой поцелуй каким-то быстрым, почти мимолетным ответом, а затем она резким нырком выскользнула из-под моей руки, шагнула к этажерке и вытащила из глубины увесистый томик в самодельном тряпичном переплете.
– Прошу вас! – сказала она с преувеличенной церемонностью. – Я это имела в виду…
Я взял в руки книгу, открыл.
ВАДИМ ПЛОТКИН
КРЕМЛЕВСКИЕ ЛИСЫ
Перевод с английского
1983
Эти слова были напечатаны на папиросной бумаге титульного листа плохим и нечетким от копирки машинописным шрифтом. И таким же шрифтом, на такой же бумаге была напечатана вся книга – убористо, без полей и без просвета меж строчек. Скорее всего это была седьмая или даже восьмая копия. Но, конечно, из всех изданий и переизданий этой книги – от Book of the Month Club [Клуб книги месяца] в США до издательств Ulstein в Германии и Chin-Cho-Sha в Японии – это самодельное и подпольное русское издание тут же стало для меня самым престижным.
– Потрясающе! – сказал я, листая книгу и гладя ее страницы. – Я даже не знаю, что сказать… Я сейчас лопну от гордости! Может быть, вы мне ее подпишете?
– Я – вам?! – изумилась Мария.
– Конечно… Пожалуйста!
Я протянул ей авторучку.
Она усмехнулась, и в ее глазах опять сверкнули радужные протуберанцы.
– Ну… Если вы так хотите… – И, облокотившись голым локтем о стол, Мария быстро написала на первой странице:
«Вадиму Плоткину, американскому писателю, от русской читательницы с Крестовского проезда».
Подумала, вызывающе тряхнула косой и, словно с отчаянной смелостью, добавила:
«Вы хороший писатель, только, пожалуйста, не будьте пошляком!
Мария».
В эту минуту новый грохот накатил на нас с севера, он был еще сильнее прежнего, даже парта поползла по полу и посуда загремела в буфете. Мария испуганно метнулась к окну. Но, поскольку в комнате горел свет, внизу были видны только неясные силуэты проплывающих вагонов.
– Извините, я выключу на минуту! – крикнула мне на ухо Мария, отбежала к выключателю и погасила свет. И теперь я сразу увидел, что на темных платформах проходившего в Москву состава плыли зачехленные брезентом танки. И – бронетранспортеры… И – снова танки… И – армейские грузовики… И – опять бронетранспортеры… И – пушки…
Мария нервно дернула шпингалеты и распахнула оконные створки. Ночная прохлада и упругие волны воздуха от проходящих рядом вагонов тронули наши лица. Казалось, эта вереница военной техники будет бесконечна, а тяжелое клацанье вагонных колес только обостряло ощущение тревоги. Так в кино убирают все посторонние звуки, кроме шагов злодея, чтобы подчеркнуть приближение опасности. И действительно, зачем они везут все это в Москву, да еще ночью? Танки, пушки, бронетранспортеры…
Я вопросительно глянул на застывшую рядом Марию. Она приблизила губы к моему уху и крикнула:
– Так – третью ночь! Как на войне!
Только теперь я вспомнил своего утреннего собутыльника Чумного, его слова на крыше: «Гражданская война у нас будет. Сначала ваших будем резать, явреев, а потом друг друга». И новое, пронзительное желание защитить эту юную русскую женщину и в то же время ощущение полной нашей с ней оголенности перед все сотрясающим накатом Истории вдруг вошли в мою душу. Я привлек Марию к себе. И теперь она с детской беззащитностью прильнула ко мне, и я скорей угадал, чем услышал, ее зажатый голос:
– Я боюсь…
Я обнял ее и поцеловал в губы. Она откинула голову и с силой вжалась в меня всем телом, от плеч и мягкой груди до жесткого лобка и напряженных ног. Я не знал еще – это призыв или просто желание спрятаться от страха. Но это было как крик, как безмолвный крик ее тела в грохоте танкового состава. Я нащупал замок-молнию у нее на спине, под толстой и тяжелой косой, и потянул его вниз. Мария стояла не шевелясь, закрыв глаза и прерывисто дыша сквозь открытые сухие губы.
Господи, или я забыл в Америке, что такое секс, или я десять лет занимался с женой чем-то не тем!
Я не знаю, что чувствовала Мария – что она отдается автору любимой книги или что мы с ней живем последнюю ночь, а завтра нас могут расстрелять из этих бронетранспортеров и раздавить вот этими танками. Пожалуй, я не настолько глуп, чтобы не понимать, – главным было второе. Но все-таки хочется думать, что и первое присутствовало…
Ну, да что говорить! То была дикая, хищная, отчаянная, фронтовая ночь – под грохот проходящих за окном армейских составов, на голом и дрожащем дощатом полу… И на подоконнике… И на столе… И даже на парте… С женским телом, то пульсирующим надо мной, как пламя свечи, то аркой взлетающим под моими чреслами… С ее запрокинутой куда-то в отлет головой и распущенной косой, метущей пол… С нашими громкими, в полный голос, криками в грохоте очередного тяжелого армейского поезда… С остервенелой предфинальной скачкой… С немыслимым количеством влаги – и мужской, и женской… С хриплым и протяжным стоном, отлетающим в ночной космос вместе с нашими душами… С жадными затяжками сигаретой и громкими глотками воды… И с приливом новых, черт знает откуда, сил при первых же звуках очередного приближающегося поезда…
И уже не имело никакого значения, где ее сын, муж, мать, соседи. Может, эвакуированы, как перед войной, или просто спят в соседней комнате. А может быть, их и вовсе не было, никогда не было – ни моей жены, ни ее мужа! Война, как черная пантера, как ураган «Глория», летела на нас сквозь открытое ночное окно, и мы спешили умереть до расстрела, раствориться друг в друге – без прошлого и без будущего.
«Здравствуй, Россия! – сказал я мысленно. – Вот мы и снова вместе!» Только здесь любовью занимаются так, словно через минуту вас разорвет фугасной бомбой.
17
Наутро за пачку «Мальборо» я приехал на такси из гостиницы «Космос» к Дому кино. На лацкане моего пиджака висела большая красная бирка с надписью «INTERNATIONAL PRESS ASSOCIATION». У входа в Дом кино перед веревочным ограждением стояла такая же, как вчера, толпа с плакатами «Долой фашистскую диктатуру КПСС!», «Советские суда – наследие сталинизма!», «Требуем распустить КГБ!» и «Вся власть – народу!» Десять лет назад каждый такой плакат стоил бы вам стальных наручников, пары сломанных ребер и пятнадцати лет в лагере для диссидентов в болотах Мордовии. А теперь милиционеры индифферентно стояли за веревочным ограждением, щурились от жаркого утреннего солнца и безучастными взглядами скользили по плакатам демонстрантов.
Но еще больше меня поразили лица людей, которые держали плакаты. Проезжая по Москве в туристическом автобусе или на такси, вы не можете заглянуть людям в глаза. Даже на улице я не успевал вглядываться в лица москвичей – они проходили мимо, заслоняя угрюмостью свои чувства от меня, иностранца и ротозея.
А здесь, перед Домом кино, они демонстрировали не только свои лозунги, но – сами того не зная – они демонстрировали себя. И лица были даже выразительнее их плакатов. Худая, плоскогрудая женщина лет сорока с остервенелым темным лицом – не загорелым, нет, а темным то ли от желчной болезни, то ли от тюремного режима – держала плакат про «советские суды – наследие сталинизма». В ее дочерна прокаленных угольных глазах не было революционного «пламени борьбы», а был только пепел. Высокий парень лет тридцати с плакатом «Распустить КГБ!» тоже не выглядел романтическим борцом: он был в мятом пиджаке, небритый, с синяком у виска и скорее всего предыдущую ночь провел в милиции. Но его сухие губы были плотно сжаты, а неглубоко запавшие глаза – как наточенные ножи в потертых ножнах. И рядом – старуха в крестьянском платке, горбоносая, с щеточкой черных усов, с инвалидным костылем под мышкой, с плакатом на груди «Прекратите геноцид! Спасите армян!» – а в лице… Я не знаю, как это описать, – во всех лицах этой толпы, в их глазах было одно единое выражение ПРЕДЕЛА, КОНЦА, ДНА. Словно терпение этого народа уже вычерпано до последней капли. И на дне их общей души – только штыки, торчащие из сухого пепла…
Я прошел сквозь эту толпу к разрыву в веревочном ограждении, но милиционер преградил мне путь.
– Ваши документы! – сказал он по-русски.
– Press! – ответил я, ткнул пальцем в свою красную бирку на лацкане пиджака и уверенно шагнул мимо него в Дом кино.
Вот и все. Импортная бирка и знание психологии советской милиции открыли мне дверь на первое заседание оппозиции советского парламента. Шестьдесят первый анекдот шагнул из эпохи Брежнева в эпоху Горбачева. А я, как идиот, уклонился вчера от пари на ящик коньяка!
***
Конечно, после такой ночи я опоздал к началу заседания: я приехал в десять утра, даже чуть позже. В прохладном вестибюле Дома кино было пусто, а над широкой лестницей, уходящей вверх, к залу, гремел мужской голос:
– Да, мы оппозиция! Но мы оппозиция конструктивная! Мы за быстрый переход от диктатуры к демократии! А они – за плавный, медленный переход…
«Они» – это, конечно, про Горбачева и его команду, подумал я, оглядываясь с острым любопытством. Ведь когда-то я бывал в этом доме практически каждый вечер – на премьерах новых фильмов, на концертах или просто заскакивал выпить чашку турецкого кофе и потрепаться с друзьями. Кофе по-турецки (в джезве на горячем песке) здесь варил молодой и стройный грузин из Сухуми, и такого замечательного кофе я больше нигде не пил – ни в Америке, ни в Европе. Но сейчас в фойе не было грузина с кофе, а голос по радио продолжал:
– Я, как физик, знаю, что быстрое наложение двух структур может дать переходный эффект, а медленное сочетание не дает ничего…
Тут слева, в пустой раздевалке, я заметил знакомую по прежним годам пожилую гардеробщицу – перед ней на стойке лежали свежие газеты с броскими заголовками: «ТРЕБОВАНИЯ БАСТУЮЩИХ ШАХТЕРОВ КУЗБАССА», «НАРОДНЫЙ ФРОНТ АЗЕРБАЙДЖАНА БЛОКИРУЕТ ДОРОГИ В АРМЕНИЮ», «ОПАСНАЯ ИГРА ЛИТОВСКОГО «САЮДИСА»…
– Здравствуйте! – сказал я гардеробщице. – Вы меня помните?
– Конечно, – ответила она спокойно, словно я был тут на прошлой неделе. – Вам что – «Правду»? «Известия»?
– Мне все по одной, – сказал я, сразу ухватив газету с броским заголовком «БОРИС ЕЛЬЦИН: СТРАХ СТАЛ НАЦИОНАЛЬНЫМ БЕДСТВИЕМ». А рядом лежала еще одна газета – «Дом кино», с заголовком «Кровь царя на советском экране».
Я набрал целую кипу и взбежал по лестнице навстречу радиоголосу, доносящемуся из зала. Потом по боковой балюстраде направился в зал, полагая, что здесь придется преодолеть еще один милицейский кордон или проверку документов. Ничего подобного, двери в зал были открыты настежь. Я шагнул туда и оказался в проходе между сценой и первым рядом. Тут торчала телегруппа, они снимали оратора на трибуне. Как бывший киношник, я не испытываю трепета перед своим братом-киношником и потому спокойно перешагнул через кабели, тянувшиеся от операторской тележки. Однако невысокий длинноволосый седой мужчина, стоявший возле оператора, тут же грозно повернулся ко мне, и я узнал в нем своего старого приятеля, режиссера телевидения Залкинда.
– Старик! – просиял он. – Ты видишь, что у нас происходит! Конвент! Французская революция!
– А кто выступает?
– Не важно, кто выступает! – сказал он и с мальчишеской горячностью продолжал: – Депутаты Верховного Совета! Самые левые! Левее уже только нелегалы – Демократический союз!..
Невольно заражаясь этой эйфорией демократии, я пробежал по боковому проходу на галерку, где были свободные места. В проходе у стены стояла цепочка фотожурналистов.
И вдруг:
– Вадя! Плоткин!
Женские руки ухватили меня за рукав, дернули к стенке, и я ахнул: Марина Князева из «Литературной газеты»! Та самая Марина, которая пришла в «Литгазету» двадцать лет назад студенткой-практиканткой. И это ее подпись я видел вчера в газете! Хотя у нас с ней никогда не было романа, мы всегда ходили в обнимку по редакционным коридорам…
Обнялись мы и на этот раз.
– Ты? Какими судьбами? Когда ты приехал? – сказала она.
Но из соседних кресел на нас тут же зашикали депутаты советского парламента, и Марина, отступив к стене, в цепочку журналистов, сказала мне полушепотом:
– Я там же, в «Литгазете». Заходи!
Я развел руками:
– Я завтра – в Ленинград.
– Ты с ума сошел! Кто сейчас уезжает из Москвы? Ты видишь, что тут делается?
Рядом с Мариной стоял крупный усатый мужчина, он смотрел на меня с явным любопытством. Я чмокнул Марину в щеку и побежал дальше, наверх.
Большой, на 1200 красных бархатных кресел, зал Дома кино – один из немногих в Москве залов с кондиционером – был почти заполнен депутатами и журналистами. По обе стороны сцены и в проходах торчали телекамеры советского и западного телевидения, а на сцене за небольшим столиком сидели трое. Двоих я не знал, а в том, кто сидел посередине, легко угадал Гавриила Попова – его статьи и интервью о необходимости срочных и радикальных политических реформ постоянно публикует советская левая пресса: «Московские новости», «Огонек» и лавирующая между левыми и правыми «Литературная газета». Меньше чем через год Гавриил Попов станет первым мэром Москвы – не коммунистом, но в тот июльский день 1989 года ни он сам и никто в этом зале даже и не мечтали об этом, ведь это было самое первое собрание левых депутатов Верховного Совета. Однако какая-то победная эйфория уже витала в воздухе – и я чувствовал себя как Джон Рид в Зимнем дворце в октябре 1917 года.
Между тем Попов – пожилой сутулый толстячок, похожий на застенчивого пингвина, – встал, переждал шум в зале и объявил совсем не председательским, а каким-то мягким, просящим тоном:
– Товарищи депутаты! Прошу соблюдать регламент! Мы же договорились, что выступление – пять минут. И только по вопросам нашей программы. Ведь мы собрались, чтобы выдвинуть требование о созыве внеочередного съезда Верховного Совета по вопросу изменения советской Конституции. А каждый выступает кто о чем и говорит больше пяти минут. И второе: на сегодня в нашей межрегиональной группе зарегистрировано 393 народных депутата… – Он переждал радостные аплодисменты и закончил: – Слово предоставляется депутату Куценко, город Кременчуг, Украина.
«Ого! – подумал я. – Почти 400 депутатов советского парламента открыто перешли в оппозицию! Не потому ли Москву накачивают войсками? Интересно, знают ли об этих войсках Попов и все эти демократы?»
Между тем из зала на сцену, к трибуне, стремительно выбежал худощавый мужчина средних лет и заговорил так быстро, что я едва успевал записывать:
– Три года назад! В золотом блеске и шуме аплодисментов партийному вождю Украины Щербицкому дали орден Ленина! И – когда! Когда был Чернобыль! За Чернобыль ему дали орден Ленина! За то, что цифры радиации были занижены в три раза! А сейчас что происходит? Партократия разыграла спектакль выборов! Большая часть депутатов Верховного Совета – это не народные депутаты, это депутаты партократии! Когда я написал об этом в газету, Щербицкий приказал меня арестовать и меня взяли прямо на работе! За то, что я сорвал выборы по партийному списку! Суд – пятнадцать минут, приговор – пятнадцать суток ареста, и тут же вывезли из города подальше от моих избирателей! Я объявил сухую голодовку, держал ее четыре дня! Только через четыре дня люди узнали об этом аресте, тут же весь Кременчуг объявил забастовку, два часа не работали заводы, пока меня не привезли из тюрьмы и не отдали рабочим! Я желаю всем депутатам пройти такое испытание! Не голодом, конечно! А вот такой проверкой – народный ты депутат или не народный!..
Зал зааплодировал, не обращая внимания на то, что Гавриил Попов стоит на своем председательском месте, всей своей застенчивой фигурой напоминая, что это яркое выступление не имеет никакого отношения к повестке дня – изменению Конституции.
Правда, следующий оратор – депутат из Тульской области – говорил уже по делу:
– Мы, межрегиональная группа, – не дискуссионный клуб! Сегодня наша задача – создать свою политическую платформу. Первое наше требование должно быть таким: ликвидировать в Конституции пункт о лидирующей роли партии в нашем обществе. Второе: изменить закон о выборах на прямые выборы. Третье – о печати. Чтобы у нас, у оппозиции, был свой орган печати…
И так оно шло – через пень-колоду: после туляка выступил депутат с Дальнего Востока и долго рассказывал, что на Дальнем Востоке погибло 130 лососевых рек, что на Амуре построили свинарники и превратили лососевые реки в «производителей» свинины…
А следующий оратор вообще говорил стихами. А потом депутат из Елабуги – той самой Елабуги, в которой повесилась от безысходности великая русская поэтесса Марина Цветаева.
Короче говоря, это было типичное русское вече, сходка, толковище во главе с застенчивым Поповым. Под эти пылкие речи – Боже, что тут говорили о Лигачеве! Чуть не в каждом выступлении из него делали отбивную котлету! – под эти пылкие речи я вспомнил заседание сената в американском конгрессе, вспомнил, как там говорят: «Сенатор Рокфеллер, вы использовали минуту шестнадцать секунд, будете продолжать?..» Или: «Сенатор Кеннеди, у вас восемь секунд для ответа…»
А здесь, в стране, где все рушится, где бастуют шахтеры Кузбасса, железнодорожники Азербайджана и русские строители в Эстонии, где каждый день льется кровь – то в Узбекистане, то на Кавказе, где Москву по ночам накачивают войсками, где со дня на день ожидается массовая бойня между бандами московских рэкетиров, где евреи получают письма о том, что ровно через две недели их будут резать, где люди открыто стоят на улицах с плакатами «Долой КГБ!» – здесь полное ощущение, что антикоммунистическая революция уже состоялась, власть КПСС свергнута. И – речи, речи, речи, упоение свободой слова.
– Последнее выступление Лигачева не дает никакой надежды на решение вопроса. Потому что опять предлагается интенсивное вложение средств в государственную экономику… – гремело с трибуны.
«Господи, – думал я, – да ведь это Всероссийское учредительное собрание – первый русский парламент, который по приказу Ленина был нагло распущен 5 января 1918 года матросом, который подошел тогда к председателю собрания и сказал: «Караул устал. Ваше собрание закрывается!» Оно и закрылось тогда и возродилось теперь вот здесь, в Доме кино. Надолго ли? Очередной матрос – из тех, кого привезли сегодня ночью в Москву на армейских платформах, – может войти сюда в любую минуту и сказать застенчивому Попову: «Караул устал!» И что они будут делать тогда – эти 393 самых левых и таких красноречивых народных депутата?»
Тут я увидел, что снизу по проходу, прыжками перескакивая через ступеньки, бежит наверх какой-то парень, его взгляд прикован к моей персоне. «Так, – подумал я, – сейчас меня будут брать». Я сунул блокнот в карман, вспомнил нью-йоркского раввина Зальца, которому гэбисты поломали пальцы, и мысленно произнес: «Барух. Ата… Адонай… Элохэйну…» К сожалению, дальше я не знаю в этой молитве ни слова, к тому же этот парень, запыхавшись, уже остановился передо мной и почти выкрикнул:
– Вы – здесь?!! Вы?!!
В его голосе было больше восклицательных знаков, чем допускают правила стилистики.
– Well… – на всякий случай промямлил я по-английски и, забыв о еврейском Боге, мысленно возопил к Шестому американскому флоту.
Парень плюхнулся в соседнее кресло, говоря:
– Это невероятно! Вы – здесь! Это просто Кафка! Меня зовут Андре де Нешер, я корреспондент «Голоса Америки». Две недели назад мы открыли в Москве свой постоянный корпункт, но телефона у меня еще нет, вот мой адрес…
У меня отлегло от сердца – этот меня арестовывать не будет, Шестой флот мог отменить боевую тревогу. Несколько лет назад, в период успеха «Гэбэшных псов» и «Кремлевских лис», журналисты «Голоса Америки» брали у меня интервью чуть не каждые два-три месяца, вот откуда меня знает этот Андре.
– А то, что вы здесь, – это не Кафка? – спросил я у него.
Андре не успел ответить – какой-то шелест прошел по залу. Мы посмотрели вниз. Там, у левого бокового входа, стоял Борис Ельцин. К нему ринулись журналисты и телеоператоры. Андре тут же вскочил и помчался туда. Я взглянул на часы. Было ровно 11.30 утра – Ельцин опоздал на заседание на два с половиной часа. На ходу отвечая на какие-то вопросы, он сел в пятом ряду, посидел минуту и вышел из зала. За ним опять ринулись журналисты. Поколебавшись и мало надеясь на успех, я тоже пошел из зала.
Ельцин стоял в фойе в окружении группы советских и иностранных журналистов и говорил какой-то женщине:
– Нам нужно создать демократический прецедент – выпустить свою газету без согласования с ЦК и Политбюро…
Женщина быстро записывала за ним в блокнот. Сколько раз я уже слышал, что Борис Ельцин – человек опасный, что шторм народной популярности выбросил его на сцену русского политического театра в пику партийной элите и теперь он умело плавает на волнах этой популярности, но, партаппаратчик по закваске, он, если придет к власти, станет новым русским диктатором. Ведущие американских информационных телепрограмм показывали его по TV почти каждую неделю, но с каким-то почти очевидным пренебрежением и усмешкой: постоянно давали понять своим зрителям, что Горбачев – это великий руководитель, а Ельцин – так себе, кукольный театр.
Теперь я стоял в двух шагах от этого Ельцина и рассматривал его в упор. Сразу бросилось в глаза, что он приобретает западный лоск. Исчезла кастовая партийно-кремлевская полнота, которая была заметна еще два года назад в телеинтервью Дайане Сойер. Нет живота. Черный костюм отличного покроя сидит как влитой на высокой фигуре. Белая импортная рубашка. Галстук повязан идеально. Даже в походке исчезла сибирская разлапистость, и спина выпрямилась, потеряв советскую сутулость.
– Мы – депутаты Верховного Совета, мы имеем законное право выпустить свою газету, даже не ставя об этом в известность ЦК КПСС, – диктовал он женщине. – И нужно это сделать. А найти бумагу, типографию – это не проблема…
Обнаглев, я воспользовался паузой, шагнул к ним, сказал:
– Борис Николаевич, я корреспондент японского журнала «Токио ридерз дайджест». Какова ваша позиция в отношении четырех островов, которые Япония просит вернуть ей?
Я бил на неожиданность своего вопроса и, кажется, выиграл.
Ельцин удивленно, сверху вниз, посмотрел на меня светлыми глазами поверх голов окружавших его журналистов, и вдруг его полные губы сложились в улыбку простого русского хитрована. Он озадаченно почесал затылок:
– Эт-т-то неожиданный вопрос. Я должен подумать…
– Пожалуйста, – быстро сказал я, видя, как уже набегают на нас еще какие-то советские телерепортеры во главе с Залкиндом, с телекамерами на плечах. – Когда я смогу получить ваш ответ? Меня устроит любое время и место.
И опять его полные губы – такие губы бывают у музыкантов-трубачей – в улыбке: он понял, что я хочу выбить интервью.
– Позвоните мне завтра по телефону 292-72-73, и мы договоримся, – сказал он, уже окруженный телевизионщиками.
Я возликовал – интервью с Ельциным! С самим Ельциным!
Но минуту спустя какая-то легкая тень прошла по краю этого ликования, и я попробовал сосредоточиться на ней, поймать, что же меня зацепило в этом Ельцине? И – поймал, вспомнил: губы! Эти полные губы, эта его улыбочка простака-хитрована на крупном лице! Одна эта улыбочка – уже целое интервью. «Мистер Горбачев, будьте внимательны!» – подумал я и оказался пророком: через десять месяцев Ельцин стал президентом России.
Но в то воскресенье, 30 июля 1989 года, в 11.48 утра, в вестибюле Дома кино, он еще не знал о своем будущем и при многочисленных свидетелях дал мне свой телефон и пообещал интервью. Я не собирался упускать такую удачу.
Между тем в глубине вестибюля уже открылись два буфета. Какой-то мужчина кавказской внешности и русская женщина поставили в центре вестибюля длинный раздвижной стол и стали раскладывать на нем кипы каких-то листовок и фотографий. Я отправился в буфет, съел поразительно дешевый (16 копеек) бутерброд с сыром и огурцом, запил стаканом ужасного абрикосового сока (18 копеек) и собрался вернуться в зал, когда увидел, что за соседним столиком расположился с таким же бутербродом и соком тот самый мужик с усами, который стоял в зале рядом с Мариной Князевой. Сорокалетний, круглолицый, в сером костюме и галстуке, он с расстояния трех метров откровенно рассматривал меня синими глазами – не то изучая, не то с желанием заговорить. «Гэбэшник или бывший знакомый, которого я не узнаю?» – подумал я. Решить этот вопрос мне не удалось, потому что за спиной этого синеглазого мужика вдруг возник высокий, стройный и совершенно седой кинорежиссер N., когда-то знаменитый в СССР так, как Кирх Дуглас был в то же время знаменит в Америке. Во всяком случае, первым кинопотрясением моего детства был фильм, в котором этот N. играл главную детскую роль. А когда я учился во ВГИКе, он уже был признанным киноклассиком и преподавал у нас режиссуру.
Теперь он шел ко мне, распахнув руки для объятий, – старый, высокий, красивый, в прекрасном голубом костюме и синем галстуке.
– С приездом, дорогой мой, – сказал он и обнял меня, как отец обнимает блудного сына. – Ты поседел там, в Америке!
– А вы прекрасно выглядите, – ответил я ему на вы, все еще чувствуя себя студентом перед уважаемым профессором.
– Слушай, старик! – сказал он. – У меня есть замечательная идея для совместного фильма! Нужна иностранная фирма. Ты можешь протолкнуть мою заявку в Голливуде?
– Боюсь, что нет. Я уже не работаю в кино, я пишу книги.
– Жаль… – И он сразу потерял интерес к моей персоне. Но после короткой паузы вдруг смерил меня пристальным взглядом: – А сколько тебе лет?
– Полсотни уже, – усмехнулся я.
– Небось еще баб трахаешь?
– Ну-у-у… – произнес я смущенно, – эти темы мы раньше не обсуждали с профессорами.
– Конечно, трахаешь! – Он вздохнул: – А я уже нет. Не могу! – И, обреченно разведя руками, повернулся и ушел к буфетной стойке.
Глядя ему в спину, ставшую вдруг какой-то старо-сутулой, я подумал: «Господи, неужели меня в его годы это будет заботить?»
Допив отвратительно теплый абрикосовый сок, я вспомнил про усача, который минуту назад глазел на меня из-за соседнего столика. Однако усача уже не было в буфете, и я пошел в зал, собираясь найти Марину Князеву и узнать у нее, почему Москву накачивают войсками. Но и Марины не было на том месте, где она раньше стояла. Я обвел глазами ряды народных депутатов, и вдруг… вдруг мой взгляд наткнулся на профиль человека, которого невозможно спутать ни с кем. «Гдлян! – сразу подумал я и замер на месте. – Боже мой, это же Тельман Гдлян!»
Тут я должен остановиться. Правда, как говорит Исаак Башевич Зингер, «без любовной истории нет литературы», а как раз в этой главе никакой любовной истории нет, но тем не менее я должен тормознуть фабулу здесь. Потому что в моих «Гэбэшных псах» и «Кремлевских лисах», написанных и опубликованных на Западе еще в 1982–1983 годах, то есть даже до появления в прессе имен Гдляна и Иванова, – в этих романах два выдуманных советских следователя тоже проникают в коррумпированную пирамиду партийной власти и расследуют махинации и аферы Юрия Чурбанова, Галины Брежневой, кремлевских и республиканских министров. Иными словами, то, что я сочинил, вдруг реализовалось в жизни, в деле Гдляна и Иванова мои выдуманные литературные герои стали реальными людьми! И, как вы понимаете, мне было до жути интересно сравнивать этих реальных следователей с теми, кого я описал столько лет назад. Но чтобы вот так, запросто, на второй день пребывания в Москве увидеть их живьем! – об этом, собираясь в поездку, я даже не мечтал…
Гдлян сидел в шестом ряду, на самой середине ряда. Его загорелый лысый череп сливался с крутым лбом и бликовал в свете рампы. А медальный армянский профиль хорошо читался на фоне высокой бархатной спинки кресла.
Стоя в проходе, я открыл блокнот и быстро написал:
«Уважаемый господин Гдлян!
Если у Вас найдется пара минут для автора книг «Гэбэшные псы» и «Кремлевские лисы», я буду Вам очень признателен.
Вадим Плоткин».
Сложив эту записку вчетверо, я надписал крупно «Гдляну» и послал по ряду. Записка пошла по рукам, я ждал. Вот он получил ее, вот развернул, читает. И маленькая худенькая брюнетка лет сорока, сидящая рядом с Гдляном, наклонилась к нему и читает тоже. А потом они оба поворачиваются ко мне, на лице у женщины изумление, даже рот открылся в немом вскрике. Гдлян вдруг встает прямо посреди речи очередного оратора, выходит из ряда и берет меня под локоть:
– Пойдем покурим.
Мы выходим в фойе. Здесь, у лестницы, на длинном столе, расставленном кавказским мужчиной и русской женщиной, лежат большие черно-белые фотографии Гдляна, Иванова, Ельцина и рядом – куча денег.
– Может, вы подарите мне одну из ваших фотографий? – говорю я Гдляну.
Он подходит к столу и спрашивает у мужчины и женщины, сидящих тут:
– Что это такое?
– Это «Комитет защиты Гдляна и Иванова», Тельман Хоренович, – говорит женщина. – Мы собираем пожертвования.
Я вынимаю из кармана несколько долларов, бросаю их в общую кучу, но Гдлян перехватывает мою руку:
– Вы что! Мне еще не хватало «иностранной поддержки»!
Мы отходим, садимся в кресла, закуриваем.
– Что вас интересует? – спрашивает Гдлян.
– Все! – говорю я и чувствую, как мои губы расплываются в идиотской улыбке.
Гдлян смотрит на меня с недоумением, и я объясняю:
– Понимаете, Тельман, я нахожусь в дикой ситуации. Ведь я вас выдумал. Вас и Иванова. Восемь лет назад, когда вы еще и не начинали свое «узбекское дело», я написал роман о следователях, которые распутывают дела партийной мафии. А семь лет назад в «Кремлевских лисах» я описал, как эти следователи ведут дело Галины Брежневой, сочинил ее допросы и даже цифры «левых» доходов брежневской семьи. Самое поразительное, что, когда в прессе были опубликованы суммы взяток, присвоенных Чурбановым, они почти совпали с названными мною! Пожалуйста, не обращайте внимания на идиотское выражение моего лица – я просто не могу поверить, что сижу с человеком, которого выдумал…
На смуглом, медально-смуглом лице Гдляна появилась горькая усмешка:
– Вы писали свои романы о героях-следователях, а перед вами сидит следователь-«преступник». Я не читал ваших книг, но слышал о них. Что вас интересует? Вы будете брать у меня интервью?
– Нет, – говорю я, еще не в силах убрать с лица улыбку самодовольного автора. – Мне просто интересно слушать, как вы разговариваете, видеть, как вы курите, усмехаетесь. В моем романе вы некурящий…
Тут я вижу, что мое самоупоение начинает его раздражать – ему сейчас не до лирики. Я беру себя в руки и задаю «серьезный» вопрос:
– В какой фазе находится ваше дело сегодня?
Он тут же преображается, говорит четко, как диктует:
– У нас отняли дело, которому мы отдали шесть лет жизни. Вот уже несколько месяцев другие следователи – следователи КГБ – разрушают его, выламывают из него доказательства и меняют показания свидетелей, чтобы спасти от правосудия членов мафии, которые еще у власти. От меня хотели отделаться или откупиться – это уж как посмотреть, – предлагали мне должность генерального прокурора Армении. Я отказался. Сейчас против нас ведется служебное расследование, нас травит пресса, и нам не дают возможности публично ответить на обвинения. Мое выступление на Съезде народных депутатов не состоялось, вся пресса получила команду не упоминать наши имена иначе как в негативном смысле. Комиссия Верховного Совета под руководством Роя Медведева расследует нашу «деятельность». Вы знаете, кто такой Рой Медведев?
– Знаю, историк. Автор книг о Сталине, Хрущеве, Брежневе, Андропове…
– Верно. Завтра у нас решающий бой – в восемь вечера нас вызывают в эту комиссию на ковер. Мы требуем вернуть нам дело, пока оно не уничтожено окончательно. Если мы проиграем, это значит, что партийный аппарат сворачивает гласность, что вся перестройка кончилась.
– Смогу ли я узнать результаты этого заседания?
– Запишите мой рабочий телефон…
Я вспомнил улыбку, с которой Ельцин дал мне свой телефон, и сказал:
– Мне Ельцин тоже дал свой телефон. Но я не уверен, что дозвонюсь.
– Ко мне дозвонитесь, – сухо сказал Гдлян. – Я или Иванов всегда в кабинете. Мы вас примем. Это недалеко отсюда, пять кварталов вниз по Горького. Благовещенский переулок, 10, следственная часть Прокуратуры СССР. Завтра нас не будет, мы будем на комиссии. А послезавтра, первого августа…
Тут к нам подошла та самая маленькая худенькая брюнетка, которая сидела в зале рядом с Гдляном. Мы встали с кресел, она протянула мне руку:
– Татьяна Колягина. Я слышала вашу книгу по Би-би-си. Скажите, как вы могли еще тогда знать цифры взяток, которые получали Брежнев, Чурбанов и все остальные?
Я повернулся к Гдляну:
– Теперь вы видите, что я не зря улыбался. Ей-богу, нам есть о чем поговорить.
– Вот и приходите послезавтра, во вторник, – сказал Гдлян явно потеплевшим тоном.
А Колягина протянула мне свою визитную карточку и сказала:
– Если у вас останется время после Гдляна, я бы тоже хотела с вами поговорить. Я специалист по советской теневой экономике.
– Можете считать, что она у нас единственный специалист по советской нелегальной экономике, – добавил Гдлян.
Я взглянул на визитную карточку. На ней значилось:
ТАТЬЯНА ПЕТРОВНА КОЛЯГИНА
Профессор, доктор экономических наук
Заведующий сектором советской экономики
ГОСПЛАНА СССР
И дальше шел столбик телефонов – служебных и домашний.
Господи, вдруг вспомнилось мне, но я же завтра улетаю в Ленинград! А как же интервью с Ельциным? С Гдляном?
И вдруг дикая мысль пришла мне в голову. А что, собственно, мне делать в Ленинграде? На кой черт он мне нужен, если вся революция происходит в Москве? Я посмотрел на часы. Самовольно отколоться от группы и остаться в Москве я не имею права, в моей советской визе четко записано: 28–31 июля – Москва, 1–3 августа – Ленинград, 4–5 августа – Таллинн. И до отлета в Ленинград осталось меньше 20 часов. Значит, за это время я должен придумать, под каким предлогом заставить «Интурист» продлить мое пребывание в Москве. Черт возьми, где сейчас наша группа? Мне срочно нужна Оля Зеленина, наша русская гидша! Только через нее я смогу связаться с руководством «Интуриста». А у меня, идиота, даже нет при себе расписания нашей группы на сегодняшний день! Как же мне найти свою группу в Москве?
18
Это была моя машина.
Боже мой, вы когда-нибудь садились в машину, которую продали десять лет назад? Это как вернуться в детство или влезть в свою детскую кровать. Я крутился на протертом и продавленном сиденье, трогал и гладил панели, дверные ручки и боковые стекла. А Семен гнал машину по Москве и говорил назидательно, как раввин:
– У тебя есть только один способ легально задержаться в Москве: симулировать болезнь. Например, приступ язвы или микроинфаркт. Это можно устроить – за сто рублей любой врач положит тебя в больницу…
– Ему ессё советской больницы не хватало! – сказал сзади Толстяк. Он сидел боком, скрючившись, потому что не умещался на половине сиденья, а вторая половина этого сиденья была занята доской, которая подпирала сломанную спинку сиденья водителя. Но и скрюченная поза, и жуткая тряска на разбитых московских мостовых, и отсутствие половины зубов во рту не могли заставить Толстяка молчать. Он продолжал: – Сстобы его кололи грязными ссприцем и заразили СПИДом, как детей в Элисте! Кстати, Вадим, когда ты приедесс в следуюссий раз, обязательно привези нам разовые ссприцы. Мы уссе в том возрасте, когда ссприцы нуссней презервативов.
– Извините! – Семен категорическим жестом правой руки отсек это заявление. – Лично я еще вполне бью скважину!
– Да ладно, не п… – сказал Толстяк. – Могу поспорить на коньяк: твоя ссена тебя к этой сквассине пускает максимум раз в неделю, а то и рессе!
– Это она от страха, я же после двух инфарктов! – Семен лихо обогнал какой-то армейский грузовик. И, огладив свою черную с сединой бородку, сказал мне доверительно: – Понимаешь, какая хреновина получается… У меня молодая жена, ей тридцать два года! Ну, должен я ее удовлетворить? А она боится, что я на ней третий инфаркт схвачу. И не пускает. Прямо не знаю, что делать! Я же хочу ее, понимаешь?
– Вы тут все какие-то сексуально озабоченные, – сказал я, вспомнив утреннюю встречу с режиссером N.
– А ты нет? – спросил сзади Толстяк. – Ссем ты занимался сегодня носсью? Посмотри на свои месски под глазами!
– Это я от вас заразился.
– Кстати, вот ессе одна тема для фильма! – тут же сказал Толстяк. – Сексуальная лихорадка накануне грассданской войны. Вся страна биологически предссувствует грассданскую войну, как косски – землетрясение. И все торопятся перетрахаться, пока не поздно. А, Вадя? Купят такой фильм на Западе?
– Еще бы! – сказал я, отмечая про себя, что эта идея даже лучше моей идеи «Секрета семейного счастья». И вообще, у Толстяка всегда было полно замечательных идей для замечательных фильмов. – Прекрасную комедию можно сделать! – сказал я.
– Только не порнуху, а элегантно, в итальянском стиле, – подсказал Семен, опять лихо обгоняя кого-то.
– Давай вместе написсем, – предложил мне Толстяк. – Так и назовем «Секс-лихорадка, или Пир накануне грассданской войны».
– Но ты же пишешь «60 анекдотов из эпохи Брежнева» и 50 серий «Что такое демократия»!
– Ну и ссто? «Секс-лихорадку» мы с тобой написсем за неделю. Ты вспомнисс своих баб, а я своих и – поссалуйста!
Я подумал, что на Западе Толстяк уже давно был бы миллионером, продавая студиям и продюсерам только идеи и сюжеты. Но в советском кинематографе нет такой практики – каждый сценарист должен сам написать свой сценарий от начала до конца. А Толстяк не любит писать сценарии, ему это уже скучно. Поэтому у него всегда два десятка договоров со студиями, но нет денег вставить себе зубы.
– Не забывай, что я завтра должен лететь в Ленинград, – сказал я дипломатично и сменил тему, спросив: – А что вы думаете о Гдляне и Иванове?
– Я сситаю, ссто они, как терьеры, схватили мафию за глотку. А теперь им пытаются дуть в усси, сстобы они разссали зубы, – сказал Толстяк.
Тут Семен пошел на обгон еще одного крытого брезентом грузовика, но водителю грузовика это не понравилось, и он резко вильнул, перекрывая Семену узкий проход между машинами. Наша только чудом не врезалась в заднее колесо грузовика. Семен резко нажал на тормоз.
– Ах ты сука! – сказал он, низко нагнулся к рулю и перевел ручку скоростей на третью скорость.
– Семен, перестань! – попросил я.
– Подожди! – И тем же категорическим жестом правой руки Семен отсек мое вмешательство.
– Нам уже не двадцать лет, Сема!
– Ну и что? – Он вел машину за грузовиком, ища лазейку в потоке машин. – Я ему покажу подрезать! Негодя…
Договорить он не успел: брезентовый полог грузовика вдруг откинулся, из-под него показалась целая дюжина коротко стриженных солдат, сидящих в кузове. Хохоча и матерясь, солдаты показали нам русский «по локоть».
– Видишь? – сказал Семен. – Шпана! Приехали в Москву и хулиганят! – Тут он бросил машину вправо, там намечался просвет в потоке машин. Но, конечно, грузовик тоже вильнул вправо. На это и рассчитывал Семен – он резко переложил руль налево, так, что моя машина оторвалась правыми колесами от мостовой, хотя именно справа сидели я и стокилограммовый Толстяк.
– Семен!!! – крикнул я.
– Спокойно! – сказал Семен, красивым виражом уже выходя вперед армейского грузовика, слишком тяжелого для таких трюков. И, включив четвертую скорость, добавил хвастливо: – Видал? Вот так мы их делаем, пижонов! А ты говоришь! Нет, Вадим, мы еще бьем скважину! Не знаю, как у вас в Америке, а тут…
– Сейссас он нас е… в зад, – с философским спокойствием сообщил Толстяк, и, оглянувшись, я увидел, что молодой в застиранной гимнастерке водитель грузовика явно охотится за нашим бампером.
– А вот уж фуюшки! – усмехнулся Семен и, снова перейдя на третью скорость, до отказа выжал педаль газа.
«Жигуленок» взвыл, затрясся от напряжения и – под носом милиционера-регулировщика – проскочил под желтый светофор. А в следующий миг, уже за нами, загорелся красный, и гаишник, свистя, замахал руками летящему у нас в фарватере грузовику. Тот сбросил скорость.
– То-то, – сказал Семен, оглядываясь.
Только теперь я обратил внимание, что в кабине нет зеркала заднего обзора. Не веря своим глазам, я протянул руку к лобовому стеклу и ощупал место, где положено быть этому зеркалу.
– Нет, не ищи! – сказал Семен.
– Но как ты ездишь?!
– Так и езжу. А что делать? В стране нет клея приклеить металл к стеклу. Ни за какие деньги! – И, свернув с проспекта Мира, Семен подкатил к центральному входу отеля «Космос». – Прошу, мистер Плоткин! Мы подождем вас в машине.
– Thank you, сэр. – Я выскочил из машины и побежал в гостиницу к администратору узнать, как мне найти нашу группу или нашего гида Олю Зеленину.
Но в вестибюле у стойки администратора было такое же столпотворение, как и утром, – западные туристы, афганцы, армянские беженцы из Сумгаита, дети из Чернобыля, советские спекулянты-фарцовщики, командированные, гэбэшники.
Когда я пробился через эту толпу к администраторше, она сказала нервно:
– Что? Откуда я знаю, где ваша International Press Association! Я не знаю, где мои собственные очки! Только что тут лежали!..
Не теряя надежды, я пошел в ресторан. Там тоже было как в D-day[9]: колонны американцев теснили немцев, англичане ждали, когда итальянцы освободят столики. Слева от двери за стойкой бара стояла высокая, как Петр Первый, женщина-метрдотель и с холодным презрением смотрела на этих канадцев, шведов и прочих нерусских. Перед ней на бюро лежали какие-то деловые бумаги и списки.
– Где обедает International Press Association? – спросил я у нее.
– Понятия не имею. Спросите вашего гида, – ответила она свысока.
– Я сам такой умный, – сказал я, разозлившись. – Посмотрите в ваши списки.
Она глянула на меня сверху вниз, как цапля на лягушку. Но бирка на моей груди заставила ее перевести взгляд на список и провести по нему своим наманикюренным пальцем. Впрочем, этот палец тут же застыл на какой-то строчке, она сказала презрительно:
– International Press у нас только завтракают.
– А где же обед? – спросил я растерянно.
– В Кремле, в Георгиевском зале! – усмехнулась она с откровенным злорадством.
Я мысленно выматерился и поднялся в свой номер на 22-й этаж – авось Роберт Макгроу оставил в комнате расписание работы нашей группы на сегодня.
Но номер был уже убран, никакого расписания я не нашел. И на подоконнике, и на тумбочке у кровати Роберта уже не было ни одного сувенира – Роберт все увез в школу на встречу с детьми. Правда, у телефона лежал блокнот-календарь, открытый на сегодня, воскресенье, 31 июля. Но в нем была только одна запись: «11.45 а.m. – Meeting at School № 32. Altuphievskoye Shosse, 240 «B». Tel. 432-78-94 [11.45 утра – встреча в школе № 32. Алтуфьевское шоссе, 240 «Б». Телефон 432-78-94].
Проклиная себя за недомыслие, я вышел из номера. Коридорная, принимая у меня ключ, сказала:
– Плоткин? Ой, вам же записка! Вот! – И она достала из ящика с ключами скрученную бумажку.
Я взял записку. На маленьком листке было написано по-русски:
«Плоткину звонила из Ленинграда Карина. Просила, когда будете в Ленинграде, позвонить. Тел. 156-89-17».
Я закрыл глаза, соображая. Никакой Карины у меня никогда не было. В Ленинграде у меня были Галя, Мальвина, Ира и еще одна актриса-бурятка, но ее звали как-то ювелирно – не то Алмаз, не то Сапфир.
– А кто это записал? – спросил я.
– Горничная, – сказала дежурная. – Когда она убирала номер, вам позвонили. Вам не нужно что-нибудь постирать, погладить?
– Пока нет, – сказал я и оставил ей три рубля для горничной. Потом, сунув записку в карман, спустился вниз, гадая по дороге, что еще за Карина? Не было у меня никакой Карины ни в Ленинграде, ни вообще! Впрочем, может быть, я и забыл, хотя такое редкое имя забыть трудно. Во всех случаях эта Карина нужна мне теперь как прошлогодний снег. А вместе с ней – Галя, Мальвина, Сапфир и все остальные. Мне сейчас не до них!
– Ну? – спросил меня Семен, когда я сел в машину. – Куда прикажешь?
– Алтуфьевское шоссе, 240 «Би».
– У нас нет «Би», сэр, – сказал Семен, завел машину и тронул с места. – «Би» – это в вашем американском алфавите.
– А ссто моссет делать васса группа на Алтуфьевском ссоссе? – спросил сзади Толстяк.
– Там увидим, – сказал я. – Ты не знаешь в Ленинграде на студии какую-нибудь Карину? – И через плечо протянул Толстяку полученную в гостинице записку. На «Ленфильме» у Толстяка даже в мое время было куплено два или три сценария, а за прошедшие десять лет – еще, наверно, дюжина.
Толстяк прочел записку и сказал:
– А поссему ты рессил, ссто это с «Ленфильма»?
– Потому что других баб у меня в Ленинграде никогда не было.
– Это не показатель, – сказал Толстяк. – Знассит, долссен тебе сказать, что на «Ленфильме» есть две Карины. Одна монтассница, вторая киномеханик. Но ты их иметь не мог.
– Почему ты так уверен? – спросил вместо меня Семен, огибая памятник космонавтам и сворачивая направо, в сторону Алтуфьевского шоссе.
– Потому что я имел их обоих, – сказал Толстяк. – Одной из них двадцать лет, а второй восемнадцать. Это знассит, ссто, когда он уезссал, дассе старссей из них было только девять лет.
Слева, у касс кинотеатра «Космос» под рекламой фильма «Интердевочка», стояла гигантская, в две тысячи человек, толпа – очередь за билетами.
– Видал? – сказал мне Толстяк. – А представляесс, ссто бы творилось на нассу «Секс-лихорадку»!
– Нет, ты понял?! – Семен тронул меня рукой и кивнул через плечо на Толстяка. – Ему пятьдесят лет, он толстый и беззубый, и он щелкает восемнадцатилетних девочек как семечки! Ну разве можно уехать из такой страны? Ты в Америке много имел восемнадцатилетних за эти годы?
– Ни одной, – честно признался я.
– Я ссе их не зубами сселкаю… – сказал сзади Толстяк.
Я, конечно, понял его намек. Но после такой ночи, какая была у меня вчера, становишься необидчивым.
Если бы не вышитая ковбойская рубашка, белые джинсы с широким ремнем в заклепках и ковбойские сапоги на высоких каблуках, я бы никогда не сказал, что это Роберт Макгроу, мой сосед по номеру в «Космосе». На сцене школьного зала стоял совершенно другой человек. Куда подевалось его постоянно заостренное алкоголем лицо? И громоподобный голос? Роберт стал даже ниже ростом, клянусь! Он стоял на сцене, буквально засыпанный полевыми цветами, и его высоченная фигура с выпяченной, как у всех ковбоев, грудью, была тут совершенно иной – она расслабилась в плечах и обмякла, словно сырое тесто. А на неузнаваемо размягченном лице тихо сияли глаза и улыбка – так, словно Роберт плыл в младенческом сне.
Рядом с Робертом стояли Мария (я чуть не написал «моя Мария») и Шура, а за их спинами были плакаты, написанные по-русски и по-английски: «ПРИВЕТ ДЕТЯМ КОЛОРАДО!» и «МИСТЕР МАКГРОУ, ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В МОСКВУ!» Зал был до отказа забит детьми. Даже на полу, в проходе между сценой и первым рядом, сидели дети. И – кто по-английски, кто по-русски – весело кричали Роберту свои вопросы:
– Когда американцы полетят на Марс?
– У вас есть своя лошадь?
– Во сколько лет можно у вас получить автомобильные права?
– С какого возраста можно работать?
– Сколько в НАСА космонавтов?
– Сколько стоит ферма?
– У вас есть свое ранчо?
– У вас есть цензура?
Роберт отвечал по-английски, Мария и Шура переводили на русский и изредка поглядывали в левый конец сцены. Там за небольшим, покрытым красной скатертью столом сидела наверняка партийная дама лет сорока, со свежим перманентом, в сером костюме мужиковатого покроя и с каким-то красным значком на лацкане пиджака. Ее бесстрастное лицо было густо залеплено косметикой, как броней. Перед ней стоял на столе графин с водой (уже почти пустой) и лежали ручные женские часики. Дама нетерпеливо постукивала по ним коротким ногтем, давая понять Шуре и Марии, что пора заканчивать эту встречу.
Мария и Шура кивали ей, но дети продолжали выкрикивать свои вопросы без перерыва:
– Сколько нужно учиться на банкира?
– У вашего внука есть машина?
– Это правда, что вы выбрасываете в море сыр и масло, чтобы не понижать на них цены?
– У Мадонны есть дети?
– Сколько получает солдат американской армии?
– Вы знаете, что Сахаров не верит в программу СОИ?
– У Майкла Джексона есть свой самолет, правда?
– Почему у вас нет черных космонавтов?
– Можно американцам жениться на русских?
– Вы верите в Бога?
Роберт отвечал (честно говоря, не всегда удачно), но дети встречали каждый его ответ восторженными аплодисментами, отчего партийная дама за столом еще больше каменела лицом. Одновременно она цепким взглядом следила за кем-то в зале, кого мне не было видно, поскольку я, Толстяк и Семен стояли у боковой двери. Но, судя по направлению ее взгляда, этот некто постоянно перемещался по залу, и через несколько минут я увидел, кто это. Это была наша Моника Брадшоу. С тремя фотоаппаратами, со вспышкой и еще с какой-то фотоаппаратурой через плечо, Моника, не отрывая глаз от видеокамеры, пробиралась по узкому проходу среди рядов и снимала восторженные детские лица, их смех, их тянущиеся с вопросами руки, а также сцену, Роберта и саму партийную даму за столом. Я понял, что это видеокамера Роберта, что он попросил Монику снимать его встречу с русскими детьми.
Но иногда Моника выключала видеокамеру, вскидывала к глазам один из своих фотоаппаратов и щелкала вспышкой. Так, приблизившись к боковой двери, Моника засекла в видеоскопе «Пентакса» меня, Толстяка и Семена и выстрелила своей вспышкой в нас тоже, а Мария и Шура замахали мне руками, приглашая на сцену. Я отрицательно покачал головой и тут же отошел от двери в глубину коридора.
– Почему? Иди и скажи что-нибудь нашим детям! – сказал Семен.
Но это был бенефис Роберта Макгроу, и я не хотел отнимать у него ни крошки от этого пирога. Все, что мне нужно было от него или от Моники, – это узнать, где сейчас наша группа, чтобы найти гидшу Олю Зеленину. Поэтому, когда через минуту из зала в коридор выскочила возбужденная Мария и стала уговаривать меня пойти на сцену, я категорически отказался, спросил:
– А у вас еще надолго?
– Сейчас заканчиваем, – сказала Мария. – Идите хотя бы в зал, посмотрите – сейчас будет самое интересное!
И она тут же убежала обратно, даже не удостоив меня каким-нибудь особым, отдельным взглядом или интимным касанием руки. Но едва за ней закрылась дверь, как Толстяк сказал:
– Так вот кого ты трахал сегодня носсью!
У меня даже челюсть отпала от изумления:
– С чего ты взял?
– Да от тебя ессе пахнет ее духами! «Белая ночь», я сразу узнал. Конессно, ты утром принял дусс, я понимаю. Но советские духи несмываемы, имей в виду!
Мы вошли в зал и встали у стены. Мария уже была на сцене и переводила залу то, что говорил сейчас Макгроу.
– Дорогие русские друзья!.. Магистрат нашего города и штата Колорадо… Имеет честь и удовольствие… Пригласить за наш счет… Приехать к нам в гости на десять дней… Всех учеников двух классов Марии и Шуры… Которые уже три года переписываются с нашими школьниками!.. И конечно, ваших учительниц – Шуру и Марию.
Господи, что тут началось! Мария еще не успела закончить перевод, как весь зал, все дети в едином порыве вскочили с мест, зааплодировали, закричали «Ур-р-р-ра!!!» и запрыгали от восторга. А потом сквозь этот разноголосый ор, крик, шум, аплодисменты стало все четче и четче пробиваться скандирование одного слова:
– Дру-жба!.. Дру-жба!.. Дру-жба!..
Это слово постепенно захватывало весь зал и уже через полминуты стало единым голосом всех детей:
– Дру-жба!.. Дру-жба!.. Дру-жба!..
Я посмотрел на сцену.
Роберт стоял там совершенно потрясенный и расслабленный. По его загорелому лицу текли слезы. Какие-то дети, взбежав на сцену, целовали его в щеки и дарили ему цветы.
– Он совершенно зря выкинул такой фокус! – сухо, сквозь золотые зубы сказала в кабинете директора партийная дама, обратив к Марии и Шуре свое заштукатуренное косметикой лицо. Она оказалась школьной директрисой, и по случаю приема гостя из Колорадо в ее кабинете были все учителя, а вдоль стены стоял длинный, накрытый белой скатертью стол с самоваром, стаканами в подстаканниках и огромным «Киевским» тортом. Над письменным столом директрисы висели портрет Горбачева (с совершенно чистой, без родимого пятна, лысиной) и плакат с тремя горбачевскими лозунгами времен 1985 года:
«УСКОРЕНИЕ! ГЛАСНОСТЬ! ПЕРЕСТРОЙКА!»
Я отметил про себя, что вот уже три года, как Горбачев отбросил первый лозунг про ускорение, поскольку стало ясно, что оно ведет СССР прямо в экономическую пропасть. Поэтому лозунг «Ускорение!» Горбачев уже давно, но негласно сменил на тактику торможения, однако до сознания этой директрисы такая метаморфоза не дошла и, похоже, не скоро дойдет. Не зная, что я понимаю по-русски, она сказала Марии и Шуре:
– Объясните этому дураку, что у нас такие вещи так просто не делаются. Он должен был согласовать свое приглашение со мной, а я – с райкомом партии. А теперь я не знаю, как будет райком на это реагировать. И вообще – доверят ли они вам сопровождать столько детей!
Я понял, что эта партийная сука уже решила похоронить всю поездку русских детей в США и нужно срочно спасать затею Роберта. Я поискал его глазами. Роберт стоял с чашкой чая у окна и, достав из футляра своей видеокамеры металлическую фляжку, добавлял из нее бренди в чай. По его совершенно расслабленной фигуре было видно, что бренди – это единственное, что ему сейчас нужно.
– This is the happiest day of my life [Это самый счастливый день в моей жизни]! – сказал он мне и протянул фляжку с бренди. – Наливай себе!
Я сказал негромко:
– Мне кажется, у тебя осложнения.
– Какие? – спросил он, одним глотком опорожняя стакан чая с бренди.
– Ты должен немедленно пригласить в Колорадо и эту директрису.
– Что?! – громко возмутился Роберт, разом обретая после бренди свой громовой голос. – Почему? Посмотри на нее! Она сидела на сцене как кусок окаменелого дерьма!
– Не ори! Остынь! Если ты сейчас же не пригласишь ее, она сорвет тебе всю поездку. И ты никогда не увидишь свою Шурочку в Колорадо.
Он посмотрел мне в глаза сверху вниз.
– Поверь мне, я знаю эту страну, – сказал я.
Что мне нравится в американцах, это их гибкость и способность быстро принимать решения. А приняв решение, они уже не колеблются в отличие от русских, а тут же идут на дело.
– S-s-shit [Дерьмо]! – сказал Роберт и пошел к директрисе, широко раскинув руки: – My dear! Golden girl! Didn’t I tell you that you are supposed to lead delegation [Дорогая! Золотая! Разве я не сказал вам, что вы должны возглавить эту делегацию]?
– No, you did not [Нет, вы не сказали], – сухо заметила ему Шура.
– Oh, God [О Боже]! – громовым голосом возмутился Роберт. – Я дурак, идиот! Я же собирался сказать это с самого начала! Скажи этой железнозубой девушке, что она будет руководителем вашей делегации!
– Что он говорит? – спросила директриса у Марии.
– Он говорит, что он идиот: забыл пригласить вас в эту поездку…
– Он так говорит? – подозрительно переспросила директриса.
– Да. Он говорит, что вы должны быть руководителем школьной делегации…
– Tell her she will be received by the Mayor of our city and our State Governor as well! – сказал ей Роберт.
– Он просит вам передать, – перевела Мария, – что в честь вашего приезда будет прием у мэра города и у губернатора штата Колорадо.
– Он так сказал? – опять спросила директриса, краснея с такой стремительностью, что косметика уже не могла скрыть ее пылающего лица. И губы расползлись в невольной улыбке, обнажая шесть верхних золотых зубов.
– Да, Зоя Андреевна, – подтвердила Мария.
– Кхм!.. – Директриса безуспешно пыталась собрать свое лицо снова в строгую мину. – Я попробую уговорить райком… А кто этот седой скелет в пиджаке?
Мария посмотрела на меня, ее глаза опять сияли радужными протуберанцами.
– Этот? – сказала она пренебрежительным тоном. – О, это какой-то американский писатель, член их делегации.
19
Роберт, поджав колени под подбородок, сидел впереди, рядом с Семеном, Моника – на коленях у Толстяка, занимавшего половину заднего сиденья, а я был вжат между Толстяком и доской, которая подпирала спинку водительского кресла. Но эта дикая теснота не мешала нам отчаянно хохотать, вспоминая золотозубую директрису и ее стремительное превращение из партийной ищейки в услужливо-кокетливую бабенку: на прощание она даже расцеловала Роберта в обе щеки и настойчиво зазывала его к себе домой на ужин.
Теперь Роберт ожесточенно тер щеки, словно губная помада этой директрисы была такой же несмываемой, как и советские духи «Белая ночь».
– Скасси ему, ссто теперь он никуда не денется! Она трахнет его дассе в Колорадо! – сказал мне Толстяк.
Я перевел.
– Oh, no! Never [О нет! Никогда]! – завопил Роберт. – Я могу делать все, что вам угодно, но я не могу заниматься любовью с железнозубой женщиной!
– Скасси ему, ссто он много теряет. Советские учительницы самые е… в мире. А усс если она стала директором ссколы, то это вообссе экстра-класс!
Я перевел как мог, стараясь не смотреть на Монику. Потому что она как-то подозрительно ерзала на коленях Толстяка. Или мне это показалось из-за тряски на разбитом Алтуфьевском шоссе? Меня вообще изумляет стремительность, с которой толстые мужчины кадрят женщин. Похоже, Монике не мешало даже то, что Толстяк не говорил ни слова по-английски и что у него во рту не было видно ни одного зуба.
– Спроси, что они думают о России, – сказал мне Семен. – Какое у них впечатление?
Я перевел.
– Well, – сказал Роберт. – Вчера я думал, что это конченая страна. Потому что за два дня не встретил ни одного человека, который умеет мечтать. Вы можете дать стране миллионы долларов и миллионы тонн зерна, но если народ этой страны разучился мечтать – это все бесполезно, это конченая страна. И так я думал вчера про Россию. Но сегодня у меня появилась надежда. Сегодня я увидел, что ваши дети еще умеют мечтать. Поэтому мы вам поможем.
Черт возьми, вчера меня изумлял Гораций Сэмсон, а сегодня – Роберт! Роберт, про которого я думал, что он вообще алкаш и ничего не видит дальше стакана с дринком и пышных плеч Шурочки, оказывается проницательней десятков западных советологов. Похоже, я действительно должен был уехать из США, чтобы понять, что эти американцы не такие простачки, какими казались мне все эти десять лет!..
А Семен тем временем стукнул Роберта по колену и сказал восхищенно почти то же самое, что думал я:
– Молодец! – И попросил меня: – Переведи ему, что он молодчина! Правильно оценил ситуацию! В этой стране умеют мечтать только дети. А все взрослые – потерянное поколение! Рабы!
– Значит ли это, что Горбачев должен сорок лет водить вас по пустыне, как Моисей водил евреев? Пока рабы не вымрут? – сказала вдруг Моника.
Я с оторопью глянул на нее: я-то думал, что она сейчас сконцентрирована совсем не на предмете нашего разговора. «Три – ноль не в мою пользу», – подумал я. А Семен ответил:
– У Горбачева, к сожалению, нет в запасе сорока лет. И даже четырех – тоже. У него есть год, максимум – два. Если он за два года не выведет страну к молочным рекам или хотя бы к хлебным берегам, тут начнется гражданская война.
– Я тоже так думаю, – сказала Моника. – Сегодня утром мы были на вашем черном рынке…
– Где-где? – не поверил я.
– На черном рынке. Это недалеко от нашего отеля. Там, где железнодорожная станция…
– У Рижского вокзала? – спросил я недоверчиво.
– Да, – сказала Моника.
– Зачем вы туда пошли?! – воскликнул я, потому что черный рынок у Рижского вокзала – это клоака преступности в Москве, даже милиция боится туда заходить.
– Well, мы пошли посмотреть на русский black-market [черный рынок], – сказала Моника. – И вы знаете, что случилось?
– Что? – спросил я, не ожидая ничего хорошего.
– Хорошо, что с нами был Джон О’Хаген. Иначе я бы осталась без своих фотокамер…
И она рассказала, что едва они – четыре ее постоянных спутника из нашей делегатской молодежи плюс Гораций Сэмсон и Джон О’Хаген – вошли на территорию Рижского рынка, как их тут же окружила какая-то банда не то фарцовщиков, не то рэкетиров, яростно предлагая обмен долларов на рубли по фантастически высокому курсу, а также русские иконы, икру и знаменитые наручные часы, так называемые «командирские». А еще через пару минут Моника обнаружила, что часть этой банды уже оттерла ее от всей остальной группы и буквально уносит прочь, сдирая с ее плеч фототехнику. Она крикнула: «Help!», но чья-то рука зажала ей рот, и одновременно острое шило уперлось ей в ребро. А когда американцы, услышав вскрик, попытались ринуться ей на помощь, то оказалось, что каждый из них окружен плотным кольцом. И только двухсоткилограммовый Джон О’Хаген смог своим весом, как тараном, пробить эту блокаду и в последнюю минуту буквально выдернул Монику из рук грабителей…
Я подумал, что Моника рассказала эту историю неспроста. Скорее всего она таким образом объяснила мне свою расположенность к Толстяку и ту легкость, с какой уселась на его колени. Но как раз в этот миг Семен свернул на пыльный Бескудниковский бульвар, и я тут же забыл про Монику и про Толстяка.
…Аня шла по заснеженному Бескудниковскому бульвару. За сугробами была видна только верхняя часть ее фигурки – тонкие льняные волосы рассыпались по шерстяному платку на ее плечах, светлая дубленка расстегнута на две верхние пуговицы. Некоторое время я ехал за ней вдоль мостовой на своем «жигуленке», а потом, в разрыве между сугробами, увидел ее всю – с тяжелой авоськой, в которой она несла из продмага капусту, картошку и бутылку вина «Твиши»…
Это было ровно за три года до моего отъезда из России, то есть на десятом году нашего эфемерного романа. Я жил в эту зиму у Семена, в его холостяцкой кооперативной квартире в Бескудниково. Семен был еще холост, и мы, два swimming bachelors (ветреных холостяка), совсем неплохо проводили время: у меня уже были «Жигули» – по западным понятиям, это почти ничто, нижний уровень нищеты, а по советским – такой же признак принадлежности к аристократии, как в США «роллс-ройс» или «феррари». Нет, даже больше! Представьте себе, что на Пятой, например, авеню какой-нибудь «роллс-ройс» или «феррари» вдруг останавливается возле идущей по тротуару семнадцати-двадцатилетней девушки и хозяин машины, высунувшись из окна, говорит: «Miss, come here! Get in, I’ll give you a lift [Девушка, подите сюда! Садитесь, я вас подвезу]!» Что будет? Я не поставлю и трех против десяти за то, что средняя американская девушка по первому зову сядет в «феррари» или даже в «роллс-ройс». Но я не помню случая, чтобы мне или Семену отказала хотя бы одна москвичка, возле которой мы лихо притормаживали наш зеленый «жигуль». В этой крохотной машине побывали все – длинноногие студентки и фабричные работницы, школьницы старших классов и замужние профессорши университетов, музыкантши и продавщицы, художницы и бухгалтерши, балерины и даже одна – страховой агент с таким бюстом, что моя голова целиком утопала в душной пропасти между ее грудями. А когда она пускалась надо мной вскачь, эти груди гулко шлепались, как тяжелые, спелые дыни…
Тасуя наших дам, мы с Семеном едва успевали освобождать друг другу квартиру в соответствии с заранее составленным графиком, который старались соблюдать железно, поскольку телефона у Семена не было и ни о каких изменениях графика «в последний момент» не могло быть и речи. Но мы справлялись.
(Тут мне приходит в голову, что я зря так разоткровенничался. Если эти заметки будут когда-нибудь опубликованы в СССР, то найдется немало критиков, которые завопят о еврейском половом разбое на девственной русской почве. Поэтому я спешу сказать, что русская «почва» была тогда так же далека от девственности, как вся Россия от коммунизма. И вообще, когда-нибудь историки придут к выводу, что в странах тоталитаризма секс становится единственной отдушиной, в которую устремляется молодая энергия широких масс. Особенно женских… Именно этим, а не машиной «Жигули» или нашими с Семеном уникальными мужскими достоинствами я объясняю наши легкие победы. Жизнь в этой стране так дерюжно скучна, что только в постели можно забыть о бесконечных «происках американских и японских империалистов», о речах Брежнева – Горбачева и очередях за сахаром и сосисками…)
И вот именно в тот период нашего с Семеном полового разбоя, посреди морозной московской зимы, когда ни одна, даже самая целомудренная женщина, даже 23-летняя жена нашего участкового милиционера, не могла устоять против соблазна нырнуть с продуваемой пургой автобусной остановки в нашу теплую машину, а потом – побывать с нами на премьере нового фильма в закрытом для простых смертных Доме кино, а потом – поужинать там же в ресторане, в окружении кинозвезд, а потом… well, вы понимаете… – так вот, именно в этот самый урожайный период, в одно раннее морозное утро, когда Москва еще была накрыта тяжелой, как чугунная кольчуга, ночной пеленой из смеси метельного снега и городского смога, – в это утро в квартире Семена раздался длинный и резкий звонок в дверь. Яшка, рыжий беспородный уродец, которого Семен щенком подобрал на улице, с остервенелым лаем ринулся в прихожую, стараясь залаять свою вину – он проспал момент, когда посетитель вышел из лифта и подошел к нашей двери.
А звонок продолжал звенеть, несмотря на жуткий Яшкин лай.
Проснувшись в гостиной, на диване, я сразу решил, что так требовательно и так рано может звонить только милиция и, значит, это – за мной. Ведь я жил у Семена нелегально, без московской прописки, да еще таскал сюда девочек – вот соседи и настучали.
Семен в одних трусах выскочил из своей спальни и выразительным взглядом показал мне на кухню. Там, на столе, были яркие улики ночного кутежа. Я схватил Яшку за ошейник и потащил на кухню, чтобы поскорее убрать там хотя бы водку и рюмки. (Слава Богу, у нас с Семеном было неписаное правило: никогда не оставлять своих дам до утра, а отвозить их домой, как бы поздно ни заканчивались наши любовные игры.) Тем временем Семен босиком прошлепал к двери и спросил настороженно-сонным голосом:
– Кто там?
– Срочная телеграмма! – ответил из-за двери грубый женский голос.
Мы с Семеном облегченно вздохнули, я крикнул на Яшку, чтобы он заткнулся, а Семен сказал в дверь: «Минуточку» – набросил свой любимый потертый узбекский халат и открыл дверь.
Толстая почтальонша в заснеженной шапке-ушанке, валенках и форменной телогрейке, поверх которой еще была серая шаль-платок, завязанная крест-накрест на груди, сказала простуженным голосом:
– Альтман? Семен?
– Я… – сказал Семен.
– Распишитесь! – И она протянула Семену книгу регистрации телеграмм, а потом саму телеграмму, на которой действительно стоял гриф «Срочная».
– Это, наверно, с «Узбекфильма», – сказал мне через плечо Семен. Он постоянно писал для «Узбекфильма» сценарии о способах применения химических удобрений, о первичной обработке хлопка и прочую показуху. Потом он дал почтальонше два рубля и распечатал телеграмму. Но, пробежав ее глазами, протянул мне: – Почитай…
Теперь, когда почтальонша ушла, я отпустил Яшку, взял телеграмму, прочел:
«ДОРОГОЙ СЕМЕН ЗПТ ПРОСТИТЕ ЗА БЕСПОКОЙСТВО ТЧК МНЕ ОЧЕНЬ НУЖНО НАЙТИ ВАДИМА ТЧК ЕСЛИ ОН В МОСКВЕ ЗПТ ПЕРЕДАЙТЕ ЗПТ ЧТО Я БУДУ СЕГОДНЯ ЗПТ ЗАВТРА И ПОСЛЕЗАВТРА ЖДАТЬ ЕГО В СЕМЬ ЧАСОВ ВЕЧЕРА В ВЕСТИБЮЛЕ ГОСТИНИЦЫ ПЕКИН ТЧК ЗАРАНЕЕ БЛАГОДАРЮ ЗПТ АННА».
– Когда ты ее видел в последний раз? – спросил Семен, вытряхивая грязные пепельницы в мусорное ведро. В его тоне было недовольство не то грязью на кухне, не то моим отношением к Анне. Почему-то все мои друзья относились к ней с большой симпатией и открыто радовались, когда мы с ней мирились, но деликатно помалкивали после каждого нашего разрыва.
– Кажется, года три назад… – сказал я.
– А разве в прошлом году она не приезжала в Одессу, когда ты снимал там «Кавказскую любовь»? – сказал он, как-то боком, из-под руки, ставя на плиту чайник.
– Нет, это был ее брат Филипп, – ответил я. – Он разбился на своем мотоцикле и терял зрение. Но Костя Зайко, директор моей картины, устроил его в Одессе вне очереди в филатовскую больницу, и ему спасли оба глаза.
– А я помню, что она должна была лететь туда вместе с ним…
Я пристально посмотрел на Семена:
– А ты что? Ты принимал в этом участие?
– А как, ты думаешь, она смогла тебя тогда найти? – ответил он и ушел в туалет, чтобы смыть Яшкины дела – Яшка, несмотря на свою жуткую беспородность, обладал целым рядом уникальных качеств, в том числе умел справлять нужду прямо в унитаз. Зрелище какающего на унитазе пса ошеломляло наших посетительниц (особенно когда у него были запоры и ему приходилось напрягаться до слез). А мы с Семеном говорили потрясенным зрительницам, что если мы останемся без работы, то будем выступать с этим номером в цирке. Но Яшка не умел спускать за собой воду: бачок у Семена в сортире был старый, и у Яшки просто не хватало ни сил, ни веса оттянуть ручку…
– Я думал, она нашла меня через киностудию, – сказал я Семену, когда он вернулся на кухню.
– На студии не дают телефоны знаменитых режиссеров, – ответил Семен, моя руки под кухонным краном. – Впрочем, незнаменитых – тоже. Когда ее брат разбился, она примчалась на такси и рыдала вот тут, на твоем диване… Я не понимаю, почему ты не разрешил ей сопровождать брата в Одессу. Извини меня, конечно, но это было полное свинство с твоей стороны.
Деликатный Семен, сын саратовского раввина, в жизни не прикоснулся к свинине, и слово «свинство» было для него обозначением крайней мерзости.
Поэтому я разозлился.
– Да, я запретил ей прилетать с ним в Одессу! – крикнул я. – А почему боксеры не спят с бабами накануне выхода на ринг, как ты думаешь? А? Я снимал, понимаешь! А если бы она приехала, то у меня бы все съемки полетели к черту!
– Ты кричишь, значит, ты не прав. Ты просто ее боишься…
– Боюсь – не боюсь, это уже не имеет значения! – не уступал я. – Между нами все кончено, и давным-давно. Зачем ей было лететь в Одессу? Она посадила его в самолет, а в Одессе мы его встретили и отвезли в больницу. И по-моему, моя ассистентка даже возила ему туда куриный суп чуть не каждый день.
– Суп не заменяет сестры, старик. Особенно если тебе делают операцию глаз, – негромко сказал Семен, заваривая чай в чайнике с отбитым носом.
– Ребе, не трепись! – огрызнулся я, не желая признавать, что он прав. – Он выздоровел? Ему вернули зрение? Да или нет?
– Да, – сказал Семен. И впервые посмотрел мне в глаза своими пронзительно-синими глазами потомственного левита. – А ты снял свою очередную картину. Все в порядке, старик. Что ты шумишь? Давай чай пить. И надень штаны, а то бейцы застудишь.
– Ты пойдешь со мной в «Пекин»? – спросил я.
– Зачем? – удивился он.
– Я прошу тебя: пойдем вместе.
– Но я вам буду только мешать!
– Вот и мешай. Очень хорошо…
– Скажи честно: ты ее любишь?
– Уже нет, – сказал я искренне. – Уже давно все сгорело. И мне сейчас идти к ней – все равно что на свою могилу. Или в дом престарелых. Поэтому пойдем вместе, ладно?
– Хорошо, – сказал Семен. – Только я-то думал, что ты все еще любишь ее. И потому помогал тебе блядовать. Чтобы ты ее забыл.
Я посмотрел ему в глаза:
– Не понял…
Он сел за кухонный столик, обнял ладонями стакан с горячим чаем, потом огладил свою черную бородку и сказал:
– Понимаешь, старик… Как тебе сказать поделикатней… По-моему, вы с ней не пара. Во всяком случае, мой отец вас двоих не поставил бы под хупу.
– Почему?
– Потому что она лучше тебя. Извини, конечно, но… Раз ты спрашиваешь, то я должен сказать.
– А в чем это она лучше меня? – спросил я уязвленно.
– Она не занимается духовным блядством, как мы с тобой. Посмотри, что мы делаем. Я пишу показуху для «Узбекфильма» про героев-хлопкоробов и про болты в томате. А ты делаешь «Юнгу торпедного катера» и «Кавказскую любовь». И ради чего? Чтобы купить «жигуль» и водить уличных девок в Дом кино?
– Но мне же не дают делать «Зиму бесконечну»! Ты же знаешь!
– Так хотя бы женись на женщине, которая тебя любит. Рожай детей. Делай деньги для них, а не для блядства.
– А ты?
– Я тоже. Я тоже женюсь. Обязательно!
– Ага, сейчас! – усмехнулся я мстительно. – Ты женишься! Интересно, как это ты женишься, если ты через месяц подаешь на эмиграцию?
– Последнее время я думаю, что лучше все-таки ехать не одному, а вдвоем. С женой. У меня есть на этот счет кое-какие планы…
И в этот момент за стеной, у соседей, прозвучал по радио перезвон кремлевских курантов, потом эти куранты пробили шесть утра и грянул Гимн Советского Союза. В ту же секунду на кухне появился Яшка, брякнулся задницей об пол, задрал морду и громко завыл в унисон гимну. Семен запоздало схватил его за ошейник и потащил из кухни в свою спальню. Но Яшка упирался всеми четырьмя лапами, вытягивал голову из ошейника и тоскливо и громко подвывал гимну. Это было еще одним уникальным Яшкиным свойством: его собачье сердце легко выносило любую музыку – от еврейской и русской до рок-н-ролла, но он терпеть не мог Гимн Советского Союза, этот гимн разрывал его собачье сердце.
– Заткнись, дурак! Нас из-за тебя в тюрьму посадят! – просил Яшку Семен, оттаскивая пса в свою спальню – самую дальнюю комнату от соседей.
А я подошел к окну.
За окном была сизо-темная, заснеженная, холодная Москва, с уходящими в низкое небо черными дырами. Где-то там, в этом восьмимиллионном городе, жила женщина моей жизни, которую я уже три года старался забыть. Но она снова звала меня. Зачем?
Внизу, вдоль Бескудниковского бульвара, шеренгой стояли одинаковые, как костяшки домино, двенадцати– и шестнадцатиэтажные дома московского пролетариата. Талантливый пролетарский архитектор аккуратно поставил эти костяшки одну на попа, а следующую на ребро, и так – до конца заснеженной перспективы. Из подъездов этих домов уже выскакивали темные людские фигурки и, сунув руки в карманы, оскальзываясь в сугробах и наклоняясь против встречной поземки, бежали к автобусной остановке. А над всем этим леденящим городом с его грязными сугробами, дымами и загорающимися окнами звучал – в сопровождении Яшкиного воя – Гимн Советского Союза. И эти две музыкальные темы поразительно полно выражали внутреннюю и внешнюю суть нашей жизни.
В вестибюле гостиницы «Пекин» стояла малознакомая увядающая женщина в дубленке, в черных сапожках, с цыганским платком на плечах. У нее было маленькое бледное лицо с ужасно тонкой, чуть ли не просвечивающей кожей. Но у этой женщины были Анины волосы и Анины глаза.
– Здравствуйте. Спасибо, что вы пришли… – сказала она нам с Семеном и тронула мою руку своей холодной рукой. – Я бы хотела поговорить с тобой, Вадя.
– Что-нибудь случилось? С твоей мамой? С Филиппом? – спросил я, еще стараясь держаться отстраненно, на дистанции трехлетнего разрыва, хотя внутри у меня уже все защемило, заныло и съежилось.
– Нет, ничего, – сказала она. – Филипп окончил МГИМО и сейчас в Колумбии, на практике. Спасибо тебе, ты спас ему глаза. Ты должен быть очень счастлив: наша мама молится за тебя каждый день.
– Ой! – вдруг сказал Семен. – Извините, я вспомнил, что у меня есть срочное дело, мне нужно бежать!
Я изумленно посмотрел на него, но он ухитрился избежать моих глаз и тронул Аню за руку:
– Всего хорошего, Аня! Рад был вас повидать. Пока! Увидимся! – И мне, уже уходя: – Старик, я сегодня, наверно, не приду. Я вспомнил, что обещал сестре починить швейную машину. Пока!
И он убежал, как предатель.
Аня посмотрела мне в глаза:
– Может быть, мы поужинаем?
Я усмехнулся:
– Только если платить буду я.
– Хорошо, Вадя, – сказала она, изумив меня этим смиренным тоном.
– Хочешь прямо здесь, в «Пекине»?
– Мне все равно, Вадя.
– Здесь нет очереди. И здесь подают прекрасную утку по-пекински. – Я взял ее за руку и повел к гардеробу ресторана. Там я принял дубленку с ее плеч и поразился еще раз: на ней было черное прямое платье, совершенно закрытое, со стоячим воротничком. Но не платье поразило меня (хотя она никогда не носила ничего черного), а то, что осталось от нее в этом платье, – худая, без груди и бедер, маленькая женщина.
Тут эта женщина перехватила мой взгляд и сказала с Аниной усмешкой:
– Ты так смотришь, что я, пожалуй, накину дубленку. Все равно мне холодно…
И она отняла у меня свою дубленку, набросила ее на плечи и так, с дубленкой внакидку, прошла со мной в ресторан. Было начало восьмого, будний день, в «Пекине» было полно свободных мест, и в те годы в московских ресторанах еще не было проблем с продуктами. Мы заказали какие-то китайские салаты из водорослей, кальмара и утку по-пекински.
– И, если можно, мне шампанского, – попросила Аня.
Я посмотрел ей в глаза, она усмехнулась:
– Не бойся, я не стану буянить. Мне просто нужно чуть выпить, а то я тебя боюсь. Ты такой чужой…
Я заказал бутылку шампанского, Аня сказала:
– Не смотри на меня так, пожалуйста. Я поправлюсь. Просто я очень болела. Полгода.
– Что с тобой?
– Ничего. Представляешь, ничего не нашли! Сказали: просто нервы. А у меня были жуткие боли в спине и груди.
– А сейчас?
– А сейчас все в порядке. Видишь, я сижу с тобой. А я сидеть не могла. Но лучше поговорим о тебе. Как ты?
– Спасибо. Я в порядке.
– Это хорошо. Ты не представляешь, как я рада тебя видеть! Ты мой самый родной человечек! А после того, как ты спас нашего Филиппа…
– Аня, перестань!
– Нет, правда! Я очень болела. Я думала про тебя, про нас. А теперь я смотрю на тебя и выздоравливаю, честное слово!
Конечно, я не поверил ей. Я с детства считал себя если не уродом, то почти таковым. И твердо знал, что, глядя на меня, можно заболеть, а не выздороветь. Я усвоил это в семнадцать лет, в солнечном Баку, столице Азербайджана. Там, как и в каждом советском городе, был у молодежи свой Бродвей. Когда-то, до революции, эта улица называлась Торговой, а потом – улицей Революции, улицей Победы, улицей Сталина и – после 1956 года – снова улицей Победы. Но какие бы таблички ни вешали на этой улице власти, люди называли ее только Торговой, никак иначе. И каждый вечер по этой улице шли в обе стороны два потока молодежи – восемь кварталов в одну сторону и столько же назад, по три-четыре часа подряд. Курили сигареты «Шипка», лузгали семечки, пили газированную воду, рассказывали анекдоты и флиртовали. При этом ребята ходили компаниями, как стаи, а девушки – рядами, держа друг друга под руку. Это называлось «прошвырнуться по Торговой».
И вот как-то вечером, в разгар выпускных школьных экзаменов, я шел по Торговой со своим близким школьным другом Вовкой Липковым. Вовка был выше меня ростом, шире в плечах и спокойней характером. Его большие серые глаза смотрели на вас взглядом потомственного врача – строго и мягко. Было поздно – часов одиннадцать вечера. Торговая начинала пустеть. Но мы с Вовкой весь день до одури зубрили «Историю СССР» и только сейчас вышли проветриться. А проветрившись с полчаса, уже собирались идти домой, когда я увидел впереди двух девушек. Они были нашего возраста, и одна из них – стройная блондинка с ножками-кеглями – понравилась мне с первого взгляда. Я толкнул Вовку локтем:
– Давай познакомимся!
– Как? – сказал он.
Мы пошли за девушками на расстоянии сначала десяти шагов, потом восьми, потом – пяти. Конечно, они заметили нас, но делали вид, что не замечают, и, держа друг друга под ручку, что-то щебетали смеясь. И тогда я громко сказал:
– Могу поспорить на плитку шоколада, завтра у них экзамен по истории!
– А вот и нет! – повернулась одна из них. – Завтра у нас математика!
Так мы познакомились и пошли провожать их до дома, и по дороге я рассказывал какие-то истории, смешил литературными анекдотами и вообще всячески тянул на себя внимание блондинки, которая мне нравилась все больше и больше. У нее были тонкое лицо, точеный носик и загадочные глаза. А Вовка молчал. Он молчал всю дорогу, и он также могильно молчал при нашем следующем свидании вчетвером, а потом и при втором таком свидании, и при третьем. Три недели мы встречались вчетвером, и три недели Вовка могильно молчал, а я выкладывался за нас двоих, как конферансье на сцене: я рассказал Эмме и Ольге все литературные анекдоты и истории про знаменитых писателей, я часами читал им наизусть стихи Есенина, Надсона, Блока и Вадима Плоткина (то есть свои собственные) и при этом был совершенно уверен, что Эмма – это моя девушка, а Ольга – Вовкина. А ровно через три недели, в день последнего школьного экзамена, когда я решился наконец назначить Эмме отдельное свидание, она сказала:
– Извини, Вадя, это невозможно. Я выхожу замуж за Вову.
После этого внутри меня осело твердое убеждение, что нет во мне ничего, за что меня может полюбить красивая женщина. И хотя всю последующую жизнь я доказывал и себе и миру, что это не так, но в глубине души не верил ни одному доказательству и от каждой женщины ждал точно такого же, как от Эммы, удара. И чем красивей были женщины, которые порой попадали в мою постель, тем меньше я верил в их желание всерьез в этой постели задержаться. Переспать со мной, да еще когда я стал кинорежиссером, – этот каприз я понимал, он может возникнуть даже у красивой женщины. Но любить? Что во мне любить?
Вот и теперь, сидя в «Пекине» с Аней и видя, как с каждым глотком шампанского ее лицо стремительно преображается и в нем оживает моя самая красивая, единственная для меня в мире женщина, видя ее распахнутые зеленые глаза, приоткрытые влажные губы и тонкие волосы, от одного прикосновения к которым я уже задыхался… видя ее снова, всю, рядом с собой, и слыша ее глубокий, грудной голос, от которого у меня начинает перехватывать дыхание, – я все меньше и меньше ей верил. То есть я не думал напрямую и грубо, что вот, мол, она сидит передо мной и врет мне про свою болезнь или про маму, которая якобы молится за меня. Но я полагал, что все это – мистификация, ее новая причуда и каприз. Просто по какой-то неизвестной мне причине ей вдруг захотелось вернуть меня, и она сейчас доказывает и себе и мне, что может сделать это в любой момент, одной телеграммой, одной встречей. И ради этого – черное платье, тонкие руки, трепетные глаза, разговоры про какую-то болезнь…
Но я не поддамся ей, нет! Уж если тогда, на той кровати в «Армении», я устоял против нее, то устою и сейчас! А может быть, она ради того и достает меня все эти годы, чтобы сквитаться со мной за ту ночь? Да! Скорее всего это так. Она сама не отдает себе в этом отчета, но это – так…
– Вадя, о чем ты думаешь?
– Так, ни о чем…
– Послушай. «На асфальте спит собака, грязный пес неясной масти, остро выступили ребра…»
– Что это? – спросил я, встревоженно ощутив, что это что-то знакомое, читанное когда-то.
– «И сиреневые мухи жадно кружат в жарком полдне над разорванною лапой – знаке драки и бездомья…»
– Подожди… Это же…
– Это Вадим Плоткин сто лет назад, когда учился в восьмом классе. Подражание Эмилю Верхарну. Слушай дальше, не перебивай…
И она до конца прочла наизусть одну из моих школьных поэм.
– Где ты это взяла? – спросил я, когда она закончила.
– Ты мне сам подарил когда-то. Очень давно. Десять лет назад. Я хочу выпить за твою удачу. Чтобы все у тебя было хорошо.
Мы допили шампанское и вышли из гостиницы. Я уже сделал шаг к машине, чтобы отвезти ее домой, но она сказала:
– Может быть, мы погуляем? Сейчас тепло.
Было действительно тепло, градусов десять мороза, не больше. И шел легкий снег. Мы пошли по Садовому кольцу и почти сразу за «Пекином» миновали издательство «Комета», и Аня сказала:
– Вот здесь я работаю.
– Кем? – удивился я.
– Редактором-переводчиком. Я же знаю немецкий. Ты забыл?
Это было еще одной загадкой, в которую я не верил, не хотел верить: семь или восемь лет назад во время нашего очередного замирения, среди ночи, в постели, Аня сказала мне, что работает в немецком отделе библиотеки КГБ. Я отпрянул от нее, но она обняла меня своими теплыми руками: «Дурында, я не стукачка и не агент, не бойся. Я просто библиотекарь. Но Юрий Владимирович, если я его попрошу, может сделать тебе московскую прописку. Правда, еще проще ты можешь получить эту прописку, если женишься на мне». – «А кто такой Юрий Владимирович?» – «Ты не знаешь? Генерал Андропов!» – «Ты спишь с Андроповым?» – насмешливо усмехнулся я. «Дурында! – сказала Аня. – Просто он любит меня как дочь…» Я вздохнул и закрыл ей рот поцелуем – Андропов, председатель КГБ, любит ее как дочь! Ну кто может в это поверить?
Теперь, когда мы проходили мимо больших стеклянных окон издательства «Комета», я тоже не поверил Анне. Очередная мистификация! Если она не поступила во ВГИК из-за своей полной безграмотности – ну как она может работать редактором в издательстве?
– Послушай, Вадя… – Она взяла меня под руку, и вдруг я с изумлением обнаружил, что даже через свою куртку и ее дубленку ощущаю ее упругую грудь. Откуда она взялась? Ведь час назад я сам видел ее худую и без всякой груди фигуру!
Но от ощущения близости ее тела меня уже обдало жаром и ноги стали ватными, как десять лет назад.
А Аня продолжала:
– «В серой кепке пришел сентябрь. О, хотя бы были чаще осенние грозы, чтоб от ливней метало березы…»
Это – снова – были мои юношеские стихи.
Мы шли по тем самым московским улицам, проспектам и набережным, по которым я водил Аню десять лет назад, читая ей лекции по русской литературе. Но теперь я молчал, а она читала мне мои стихи – стихи, которые я писал в школе и в армии, до двадцати лет, и которые совершенно забыл уже к своему тридцатилетию. А теперь Аня читала их наизусть – кварталами.
Нужно ли говорить, что после каждого стихотворения польщенный автор целовал ее, а еще через три часа привез ее в квартиру Семена? Плюхнувшись на диван, она протянула мне ноги – точнее, сапоги, которые сама не могла стянуть. А когда я стянул эти сапоги, то оказалось, что на Анне были только тонкие колготки и она отморозила себе ноги. Я принялся растирать их и греть своим дыханием, а потом принес из ванной таз с горячей водой и, встав на колени, отогревал ее ноги в этой воде. Аня плакала от боли, Яшка подбегал к тазу и отскакивал от него, тявкая на меня за то, что я мучаю такую красивую женщину, и так началась наша последняя с Аней попытка супружеской жизни.
То был единственный в моей жизни случай, когда я поверил, что меня действительно может полюбить красивая женщина. Потому что только любящая женщина может выучить наизусть такое количество ваших бездарных стихов и читать их вам три часа подряд в тонких колготках на московском морозе.
…Да, так вот. На чем я остановился? Вспомнил: Аня шла по Бескудниковскому бульвару. За сугробами была видна только верхняя часть ее фигурки – тонкие льняные волосы рассыпались по шерстяному платку на плечах, светлая дубленка расстегнута на две верхние пуговицы. Некоторое время я ехал за ней вдоль мостовой на своем «жигуленке», а потом, в разрыве между сугробами, увидел ее всю – с тяжелой авоськой, в которой она несла из продмага капусту, картошку и бутылку вина «Твиши». Ее дубленка была чуть выше колен, а ниже были видны подол широкой юбки из темной клетчатой «шотландки» и высокие сапожки на каблучках. Эти сапожки скользили по свежему снегу, авоська оттягивала Ане руку, и она близоруко смотрела себе под ноги, чтобы не упасть.
Я круто свернул руль «жигуленка», дал газ и, распугав пешеходов, на второй скорости протащил сугроб прямо перед ней. Потом открыл правую дверцу:
– Девушка, вас подвезти?
– Псих ненормальный! Идиот! – сказала рядом какая-то испуганная старуха. – Жид проклятый!
Аня села в машину.
– Дурында, ты меня тоже напугал!
Я чмокнул ее в щеку и, не обращая внимания на старуху-антисемитку, прямо по тротуару поехал к торчащей впереди двенадцатиэтажной башне. Там, на десятом этаже, была квартира Семена. Семен так симпатизировал Анне, что назавтра после нашей встречи в «Пекине» улетел в Узбекистан монтировать учебный фильм о работе хлопкоуборочных комбайнов, оставив нам с Аней свою квартиру и Яшку. И я уже собирался лихо подвезти Аню прямо к подъезду, но тут, буквально из-за сугроба, выросла фигура милиционера.
Он поднял руку и поманил меня пальцем.
Я высунулся в окно:
– Дорогой, я тут живу, в этом доме! А подъехать невозможно, снег кругом!
– Ваши документы! – сказал он сухо. У него было желчное, обтянутое, как у выбракованной лошади, лицо язвенника, а на шинели – погоны капитана.
– Дай ему трояк, – тихо сказала мне Аня. Она знала, что мои документы нельзя показывать московским милиционерам: в моем паспорте нет московской прописки, и, следовательно, я не имею права проживать в Москве, а уж тем более – владеть здесь машиной!
– Он не возьмет и десять, – сказал я ей и открыл «бардачок». (Я горжусь тем, что всегда безошибочно определял в России, кто из милиционеров берет три рубля, а кто – только пять и выше, но, к сожалению, мой талант совершенно неприменим в Америке. Хотя, может быть, там оперируют другими цифрами, недоступными для моей интуиции.)
Как бы то ни было, я открыл тогда «бардачок» и вытащил из него большую, свернутую в трубочку «Почетную грамоту Министерства внутренних дел СССР». Это была моя палочка-выручалочка в самых трудных ситуациях. Я протянул ее милиционеру и сказал:
– Товарищ капитан, вы, конечно, смотрели фильм «Юнга торпедного катера»?
Тут не могло быть осечки, потому что два года назад меня пригласили показать этот фильм на Всесоюзном слете отличников милиции, где был сам министр МВД Щелоков. И ему, бывшему фронтовику, так понравился фильм, что он собственноручно вручил мне на сцене эту Почетную грамоту «за создание высокохудожественного произведения киноискусства» и приказал включить эту картину в обязательную программу политической подготовки сотрудников советской милиции. Не знаю, где еще в мире полиция награждает режиссеров грамотами «за создание высокохудожественных произведений», но при всем идиотизме подобных наград я бы и сейчас не отказался получить такую же грамоту от полицейского комиссара штата Массачусетс. Думаю, это спасло бы меня от большинства штрафов.
– Ну, смотрел, – сказал про мой фильм капитан советской милиции. И кивнул на грамоту: – А это что?
– Прочитайте, пожалуйста, – попросил я.
Во всех аналогичных ситуациях одного взгляда на подпись Щелокова было достаточно, чтобы милиционер взял под козырек и сказал: «Проезжайте, товарищ режиссер! Желаю всего хорошего!» Но на этого капитана грамота произвела совершенно обратное впечатление. Он позеленел лицом, и на его лошадиных скулах четко обозначились желваки бешенства.
– Понятно, – сказал он. – Значит, если вы кино делаете, то вам можно и по тротуарам ездить? Так, что ли? Ваши документы!
– Извиняюсь, товарищ капитан… – струсил я. – Честное слово, это первый и последний раз!
– М…к! – тихо сказала мне Аня и вышла из машины. – Товарищ капитан, это я виновата! Просто у нас сегодня помолвка, ну и он слегка не в себе, гусарит. – И она так близко, вплотную шагнула к милиционеру, что просто касалась его своей распахнутой дубленкой. – Понимаете, товарищ капитан? Вы уж нас извините! Ну, хотите, я вас поцелую?
Он посмотрел ей в глаза. Ее лицо было рядом с его лицом, и пар их дыхания смешивался на морозе.
– Ну, хотите? – повторила Аня.
По-моему, от одного ее взгляда у этого милиционера ноги стали такими же ватными, как у меня десять лет назад.
– Х… хочу… – сказал он пресекшимся голосом.
Она обняла его за шею так крепко, что с него слетела милицейская шапка-ушанка, и поцеловала прямо в губы. И это был такой поцелуй, что капитан даже закрыл глаза.
– Ну, что делают! Что делают! – сказала старуха-антисемитка, проходя мимо нас.
Отклеившись от милиционера, Аня села в машину и приказала:
– Поехали!
Я тронул машину.
– Тьфу! – плюнула мне сзади на бампер старуха.
– Я тебе счас поплюю, дура! – крикнул ей милиционер. – Не видишь – это молодожены!
Да, первую неделю мы с Аней прожили как настоящие молодожены. Или, пожалуй, еще лучше – ведь наш роман был десятилетней выдержки, как лучшие марки коньяка. Но после первой недели этот горьковатый, в духе Ремарка, привкус десяти потерянных лет уже не смягчала одна бутылка «Твиши». Аня не могла усидеть дома – по вечерам она рвалась в рестораны, в бары, в Дом кино и в Дом журналиста. Я не думаю, что она была алкоголичкой (хотя именно так думал о ней тогда), но я полагаю теперь, что эта богемная, ресторанно-ночная жизнь была ее наркотиком. Только там, ей казалось, проходит жизнь, только там, выпив шампанского или водки, она чувствовала себя снова юной и неотразимо красивой. Но, к несчастью, ей было уже не 19 лет, и даже мини-юбки, открывающие ее стройные ноги, уже вышли из моды. И другие, свежие, лица девятнадцатилетних принцесс притягивали к себе глаза мужчин, порой даже не останавливающиеся на Ане. Она страдала от этого и пила еще больше, и заставляла меня пить, и снова задирала в барах каких-то иностранных журналистов, армян, офицеров-подводников…
Я терпел это еще неделю. Я уже видел, что это конец, распад, даже не финал, а эпилог нашего с ней романа. Но я терпел, потому что знал: это женщина моей жизни. Пусть она алкоголичка, и пусть она вернулась ко мне только потому, что никто, кроме меня, уже не водит ее по ночным московским кабакам и не дает ей этой наркотической смеси куража, влюбленности, секса и шампанского. Может быть, от сознания конца своей юности она и заболела полгода назад, а теперь я – один – еще могу подарить ей последний бал. Как фея – Золушке. И я дал себе срок – еще неделю.
А в конце второй недели прилетел Семен. Конечно, он деликатно прислал заранее телеграмму о дне своего приезда и прилетел утром, к завтраку. Аня накормила его гренками, а потом поцеловала в лысину и сказала:
– Спасибо, Сема. Посади меня на такси, пожалуйста.
– Почему? – удивился он. – У Вадима машина. Тебе куда нужно?
– Мне нужно – совсем. Домой. К маме.
– Почему? Да ты что! – запротестовал Семен. – Я могу пожить у сестры, пока вы снимете себе квартиру. И вообще, живите тут сколько хотите!
– Все, Сема, не надо… – остановила она его. – Этот дурак никогда не женится на мне. Даже если я ради него перецелую всех милиционеров страны! Пожалуйста, проводи меня до такси.
Семен смотрел на меня, а я смотрел на батарею пустых бутылок «Твиши» в углу его кухни. Потом поднял глаза на Семена, и он понял меня, вздохнул и сказал по-еврейски:
– Горбатого могила исправит…
Не знаю, кого он имел в виду – меня? Аню?
И они ушли вдвоем – Семен и Аня. А я вышел на балкон и смотрел сверху, с десятого этажа, как он остановил на Бескудниковском бульваре такси и как Аня, сев в машину, помахала ему рукой из окна.
Через месяц я получил разрешение снимать фильм «Зима бесконечна».
Миновав Бескудниковский бульвар, Семен выехал на Дмитровское шоссе, а с него – на одну из боковых улиц в районе Савеловского вокзала.
– Какой номер дома? – спросил он.
– Что? – очнулся я.
– Какой вам нужен номер дома?
– О да! – спохватился я. И сказал Роберту: – What is the home number [Какой номер дома]?
Роберт протянул мне бумажку, на которой было написано по-английски:
«Mr. Aksutchits, Leader of the Russian Christian Renaissance movement. And many others. Meeting adress: Voropaevsky Street, 187, apt 28. Please, keep this meeting a secret. Barry W.» [ «Мистер Аксючиц, лидер русского христианского возрождения. И многие другие. Место встречи: Воропаевская улица, 187, кв. 38. Пожалуйста, держите эту встречу в секрете. Барри В.»].
20
– Меня зовут Виктор Аксючиц. Я христианский писатель и редактор журнала русско-христианской культуры «Выбор». За последние годы в нашей стране происходят совершенно неожиданные изменения, но в религиозной жизни положение выглядит не так, как это пытается обрисовать советская пропаганда…
Барри Вудстон еще в Вене начал твердить про эту «секретную конференцию с лидерами русского религиозного возрождения», и Дайана Тростер была уверена, что их привезут куда-нибудь в подвал, к старым русским священникам с большими седыми бородами и в черных рясах. Но оказалось, что встреча происходит не в подвале, а на четвертом этаже обыкновенного жилого многоквартирного дома (правда, без лифта), что все русские одеты не в рясы, а в простые рубашки, джинсы и кроссовки. При этом Аксючицу лет 35, а остальные и того моложе. Исключение составлял только пятидесятилетний Владимир Осипов, которому Аксючиц передавал сейчас слово. У этого Осипова было круглое, с дубленой кожей лицо, седые гладкие волосы и глубоко упрятанные под брови серо-голубые глаза, в которых читалась недюжинная твердость характера. Об этом же говорили его прямой нос и тяжелый подбородок с вертикальной ложбинкой, характерной для всех упрямцев. В отличие от своих младших соратников он, единственный, был в костюме.
Дайана сидела напротив русских и скорописью записывала в блокнот все, что видела. Она знала по опыту, как быстро улетучиваются из памяти именно те маленькие детали, которые только и делают вашу статью убедительной для читателя. Все, что скажут сейчас эти русские, будет записано всеми членами делегации на магнитофоны и практически не может измениться от того, кто потом напишет об этой встрече – Дайана для своей «Хантсвилл войс», Сэм Лозински для «Милитари ньюс» или Мичико Катояма для «Джапан нэтворк». А вот точные детали, схваченные профессиональным взглядом, и несколько эмоциональных акцентов для колорита и живости повествования – именно это будет отличать ее репортаж от статьи вашингтонского вундеркинда-колумниста Дэниса Лорма или Горация Сэмсона. И потому, пока магнитофон фиксировал вступительную речь Аксючица, Дайана еще успела записать, что справа от Осипова сидит его сын – такой же круглолицый, сероглазый и с упрямым раздвоенным подбородком юноша лет двадцати с короткой солдатской стрижкой.
– Христианско-патриотический союз создан 17 декабря прошлого года, – сказал Осипов через переводчика, худенького, как мальчик, молодого человека с высоким лбом и мягкой темно-каштановой бородкой, по фамилии Миронов. Сине-белая рубашка в мелкую клетку только зауживала и без того узкие плечи. Но главным в его облике были светло-голубые глаза, увеличенные сильными линзами больших роговых очков. В этих глазах был тот свет полубезумия-полусвятости, который Дайана всегда представляла себе у русских по книгам Достоевского. Поразительно, что этот мальчик, как сказал в начале встречи Аксючиц, уже отсидел в советской тюрьме семь лет за религиозную и диссидентскую деятельность. Сколько же, гадала Дайана, ему было, когда его посадили?
Между тем Осипов продолжал:
– Предтечей нашего Христианско-патриотического союза были подпольный Всероссийский социал-христианский союз освобождения народов, разгромленный КГБ пятнадцать лет назад, и журнал «Вече», который я нелегально издавал с 1971 по 1974 год.
– Что значит слово «Ve-che»? – спросил Ариэл Вийски, держа на коленях большую бухгалтерскую тетрадь, в которую он тоже старательно записывал все, что слышал в поездке. Каждый, даже зануда Вийски, был в этой бригаде профессионалом и не любил терять время на расшифровку магнитофонных записей. Куда проще заглянуть в блокнот и сразу вытащить из него то, что было самым главным в беседе, интервью, встрече.
– «Вече» – это старое славянское слово, – объяснил переводчик. – Оно означает примерно то же, что «парламент». И вече было в действительности русским парламентом в Новгороде 700 лет назад. – Он повернулся к Осипову: – Извините. Продолжайте.
– Мною было издано девять номеров журнала «Вече», – продолжил Осипов. – И за издание этого журнала Брежнев с Андроповым дали мне восемь лет лагерей. Почти по году за каждый номер… Но это – уже прошлое. Цель нашего нового Христианско-патриотического союза такова: христианизация России и восстановление национального самосознания народа. За семьдесят лет атеистического террора русский народ оказался под угрозой уже реальной биологической гибели. Сильное оскудение веры, рост алкоголизма, снижение рождаемости, увеличение количества психических заболеваний – все это грозит гибелью русскому народу. А религиозные движения, которые выходят сегодня из подчинения или возникают заново, не в состоянии порознь противостоять этой гибели. Поэтому мы хотим консолидировать их в Христианско-патриотическом союзе. Наши отделения находятся в Ленинграде, Новосибирске, Свердловске, Курске, Киеве, Саратове и некоторых других городах. Сейчас я предоставлю слово Игорю Калиничеву, руководителю свердловского отделения нашего Союза.
Тут микрофон взял тот самый круглолицый юноша, который сидел справа от Осипова, и Дайана от удивления даже переспросила у переводчика:
– What’s his name [Как его зовут]?
– Ka-li-ni-chev, – сказал переводчик и начал диктовать по буквам, зная, что иностранцы всегда испытывают муки в написании русских фамилий: – Кей эй…
Но Дайана перебила:
– Вы хотите сказать, что он не сын господина Осипова?
– Нет. Почему вы спрашиваете?
– Они похожи… – сказал старик Огилви, профессор из «Вильям энд Мэри колледж». И все американцы зашевелились, заулыбались, задвигали стульями, наблюдая, как переводчик переводит это Осипову и Калиничеву и те с любопытством и удивлением смотрят друг на друга. Потом Калиничев, покраснев от смущения, начал свое выступление:
– Итак. Вечером 16 июня по инициативе нашего Христианско-патриотического союза в городе Свердловске, на месте, где был убит последний русский император, состоялся молебен по царской семье. На молебен собрались 500 человек. Над головами молящихся были подняты национальный русский герб с изображением двуглавого орла и русский трехцветный флаг. Еще были подняты хоругви с изображением Георгия Победоносца, патриарха Гермогена и хоругвь с портретом царя Николая. Находящаяся там милиция через мегафоны потребовала прекратить молебен и разойтись. Через сорок минут после начала молебна приехали войска спецназначения в черных беретах. Они начали забирать людей, которые молились и держали хоругви. Они заламывали молящимся руки и бросали людей в машины, а некоторых тут же избивали.
– Он тоже был избит? – быстро спросила Дайана у переводчика. Хотя она понимала почти все, что говорил этот Калиничев по-русски, но говорила по-русски очень плохо и поэтому заранее решила не открывать свое знание русского в этой поездке. Во-первых, вся делегация стала бы использовать ее как вторую переводчицу, а во-вторых – кто знает, может быть, тайное знание русского языка поможет ей лучше разобраться в этой стране…
– Нет, я не был избит… – почему-то снова смутился Калиничев и густо, по-юношески, покраснел. – Но очень сильно был избит верующий Гонзиков, им пришлось вызывать ему в камеру «скорую помощь». Всего было задержано одиннадцать человек.
– Игорь, ты покороче, – перебил его Аксючиц. – А то мы начнем рассказывать бесконечное количество случаев и они в этом потонут.
– Понятно, – кивнул ему Калиничев и продолжил свой рассказ: – Ну, тот процесс, который происходит сейчас у нас в стране, действительно можно назвать религиозным возрождением…
– Извините! – не отрывая глаз от своего блокнота, сказал Дэнис Лорм. Дэнис вообще не пользовался магнитофоном, а стремительно стенографировал левой рукой в блокноте все подряд. – Вы тут сказали о человеке, который был избит и которому вызывали «скорую» в тюрьму. А затем вы прервались. Что случилось с этим молодым человеком?
– Ну, у него сердечный приступ был, – сказал Калиничев. – Он в общем-то немолодой человек, он уже в возрасте.
– А где он сейчас? Что с ним? – продолжал допрос Дэнис, записывая ответы стенографическими значками.
– Ну, сейчас он в порядке… – сказал Калиничев и уже открыл было рот, чтобы вернуться к общему религиозному обзору, но Дэнис выстрелил новым вопросом:
– А сколько он был в тюрьме?
– Их продержали в тюрьме трое суток…
Тут вмешался Аксючиц.
– Недавно в Москве был создан фонд возрождения христианского искусства, – сказал он, уводя разговор от юного Калиничева. – Этот фонд собирает средства на реставрацию разрушенных церковных храмов…
Дайана с усмешкой отметила про себя, как быстро определились разные цели каждой стороны в этой встрече. Американским журналистам нужны были именно такие живые истории и примеры, которые только что случайно прорвались у этого мальчика из Свердловска: первый в советской истории открытый молебен по царю, атака милиции и войск спецназа, жертвы, тюрьма, «скорая помощь»… А руководители русской стороны явно стремились навязать им обзорную лекцию.
– Среди нас присутствуют молодые люди, – продолжал Аксючиц, – которые пытаются создать христианскую общину в одной из сельских местностей России. Они приезжают туда из столичных городов, поселяются вокруг действующего храма и пробуют возродить здоровый уклад христианской общины на селе. Я хочу познакомить вас со своим другом, Александром Зеленцовым, который пытается провести в жизнь именно такой проект. Саша, только очень коротко…
«Ну зачем же коротко, – подумала Дайана. – Это может быть интересно: русские интеллектуалы создают религиозные аграрные общины!»
– Парадокс состоит в том, что начавшийся процесс христианского возрождения менее всего затронул нашу деревню, – сказал высоколобый, чернобородый и темноглазый Зеленцов, похожий на тех русских интеллигентов XIX века, о которых Дайана читала у Тургенева и Чехова. – Но причина этого парадокса не только в том, что коммунисты отлучили наших крестьян от христианства. Девяносто процентов сельского населения находится в полной экономической, политической и социальной зависимости от государственных структур – колхозов и совхозов. Это население не имеет никакой возможности проявить свою независимость ни в хозяйственном, ни в любом ином направлении…
Дайана уже устала держать авторучку на весу. Все, что говорит этот религиозный интеллектуал, – скучная для читателя пропаганда, нечего записывать. Она расслабилась, слушая лишь вполуха и только сличая про себя отдельные русские фразы с русским переводом.
– Вот я держу в руках договор нашего издательства, – переводил Зеленцова этот мальчик с сияющими под очками глазами, – на издание тиражом в пятьсот тысяч экземпляров «Архипелага ГУЛАГ» Солженицына. Этот договор подписан всего пять дней назад, и вы первые журналисты, которые видят договор на легальное издание в СССР «Архипелага». Советские журналисты еще не знают об этом…
Дайана, как и все остальные, немедленно схватила фотокамеру и несколько раз сняла Зеленцова с контрактом в руках. Поразительно, как эти русские способны самые сенсационные события утопить в шелухе своей антикоммунистической (или коммунистической) фразеологии! За каких-нибудь двадцать минут они выдали уже три сенсации – подробности молебна по убитому царю, создание религиозных общин в деревне и этот контракт на легальное издание «Архипелага ГУЛАГ» в России, – но, чтобы выудить эту информацию, нужно постоянно быть начеку. Иначе они тут же перейдут к своей очередной пропаганде, которая никому из алабамских читателей не нужна.
Дайана вдруг поняла, что ее мучает, – ей срочно нужно выпить. Водку с тоником или хотя бы виски! Но уже ясно как Божий день, что тут волынка еще часа на два! Так неужели она будет сидеть еще два часа в этой духоте и запахах? «Come on, Diane, – сказала себе Дайана, – выпивки тут не дадут, that for sure!» Но нет в мире страны, где за американские доллары нельзя купить дринк! А у нее в сумочке двести долларов и под лифчиком еще восемьсот. Она сбегает куда-нибудь за угол, в ближайший бар или ресторан, дернет double vodka и вернется.
– Вы не подержите мой магнитофон пару минут? – тихо сказала Дайана японке. И, отдав Мичико маленький включенный «Панасоник», оставила на стуле свой блокнот и «Кэнон» и вышла из комнаты.
Оказалось, что на лестничной площадке уже стоят несколько русских курильщиков и Гораций Сэмсон.
– Куда вы? – спросил Гораций, увидев, что Дайана стала спускаться по лестнице.
– Сейчас вернусь… – ответила она через плечо. Внизу при выходе из парадного она почти лицом к лицу столкнулась с русским эмигрантом Вадимом Плоткиным.
– Хай, Дайана! – сказал он, распахивая парадную дверь с такой стремительностью, что едва не стукнул Дайану этой дверью. – Ольга там?
– Кто есть Ольга?
– Наш гид из «Интуриста».
– Она там, наверху.
– Thank you. – И Плоткин, громко хлопнув парадной дверью, бегом побежал наверх по лестнице.
Дайана вышла на улицу и огляделась. Вечерело, теплое солнце уже почти закатилось за многоквартирные жилые дома, которые стояли вдоль улицы разноростной шеренгой. Почему-то они напомнили Дайане шеренги военнопленных в германских концлагерях, которые всегда показывают по телевизору в фильмах о второй мировой войне. Это были серые дома с облупленной штукатуркой, кривыми балконами и большими швами из какой-то черно-асфальтовой мастики, которая скрепляла бетонные плиты. Мостовая на улице тоже была в ямах и выбоинах, но тротуар был чистым, без мусора. Однако ни слева, ни справа не было видно ни одной вывески бара, ресторана или магазина. Только на противоположной стороне улицы торчал какой-то старый зеленый «фиат» с двумя мужскими физиономиями внутри. Оба эти мужика воззрились на Дайану, и толстяк, сидевший на заднем сиденье, сказал что-то бородатому шоферу. КГБ, сразу догадалась Дайана и усмехнулась наивности Барри Вудстона. Полковник Лозински был прав: нелепо было брать возле гостиницы сразу шесть такси да еще везти с собой эту интуристскую гидшу!
Круто повернувшись, Дайана независимой походкой пошла по улице. Конечно, она могла спросить у тех русских курильщиков, которые стояли на лестничной площадке, где здесь можно выпить. И если бы среди них не было Горация Сэмсона, она бы так и сделала. Но спрашивать о выпивке при Горации? Нет, она не расистка, хотя и из Алабамы, но спрашивать о выпивке при Горации было дискомфортно, точка. К тому же он мог напроситься пойти с ней, а это уж и совсем ни к чему.
Черт возьми, до самого конца улицы не видно ни одной вывески! Конечно, этот русский эмигрант Вадим Плоткин тоже должен знать, где тут бар или ресторан, и она могла бы вернуться, спросить у него. Но вчера вечером в баре гостиницы он с такой иронией смотрел на ее шестой или седьмой дринк, что ну его к черту! И вообще, он так возбужден по поводу возвращения на родину! Поразительно, как меняются люди. В аэропорту Кеннеди и в Вене это был тихий и незаметный человек. Отвечая на ваши вопросы, он потел, стеснялся своего ужасного английского, разговаривал слабым голосом и боялся поднять глаза. Но стоило ему приблизиться к России, как уже в самолете он стал выкрикивать что-то якобы остроумное, а в Москве его с первой же минуты как подменили. Наглый, самоуверенный, с постоянной улыбкой всезнайства на лице! Интересно, что даже ростом он стал тут выше и походку перенял у Нормана Берна – плечи вразворот, грудь вперед, словно он Юл Бриннер. А они еще переживали за него в шереметьевском аэропорту, при проверке паспортов! Нет, к черту этого Плоткина!
Дайана дошла до угла, обнаружила, что на перпендикулярной улице нет никаких признаков торгового центра, бара или Liquor store, и остановилась в затруднении. В какую сторону податься теперь? Налево или направо? И в ту и в другую сторону тянулась такая же сиротливо-пустынная улица, как и та, на которой она стояла. Правда, из открытых окон ближайшего дома был слышен голос теледиктора, а с балкона третьего этажа какой-то голопузый малыш пускал мыльные пузыри. Дайана решила пройти еще квартал, но вдруг увидела рядом с собой на мостовой чьи-то ноги. Эти ноги торчали из-под багажника маленького доисторического автомобильчика, похожего на «форд» 1929 года. Когда отец Дайаны приехал в Ханствилл в 1949 году и начал работать в команде Брауна над первой американской ракетой, он из нескольких довоенных «фордов», выброшенных на свалку, собрал себе такую же машину, как эта, и фотография отца на фоне той машины до сих пор висит в их доме.
– Исфините, пошалуста… – наклонилась Дайана к ногам, торчащим из-под антикварной машины.
Ноги скрылись под машиной, зато впереди из-под мотора появилась вымазанная в машинном масле лысая голова в очках. Сквозь эти очки голова вопросительно смотрела на Дайану снизу вверх.
– Исфините, пошалуста, – опять сказала Дайана по-русски, стеснительно улыбаясь за свое наверняка неправильное произношение. Все-таки ей пришлось нарушить свой зарок – не раскрывать в России знание русского языка. – Кде я смокла… моху… to find… находить a bar? A restaurant?
И невольно подумала, что именно такая жалкая улыбка была у этого Плоткина, когда он говорил по-английски.
Голова высунулась из-под машины еще дальше, следом за ней показались плечи, а потом и вся фигура владельца машины. Он встал на ноги и оказался мужчиной лет шестидесяти в грязном спортивном костюме. Нагнув голову вниз и рассматривая Дайану поверх спущенных на кончик носа очков, он вытер тряпкой руки и только после этого сказал по-русски:
– Тут, милая, ресторанов нет. Самый ближайший – на Савеловском вокзале. Но туда лучше не ходить – отравят за милую душу. А чтобы нормально покушать, так это вам надо в центр ехать, на такси. В «Интурист» или «Метрополь». Хотя «Метрополь», кажется, на ремонте…
Дайана поняла не все, но главное: этот русский думает, что ей надо поесть, и потому рекомендует ехать на такси в downtown.
– Исфините, пошалуста, – опять сказала она и снова улыбнулась просительно. – Я не хотьел… Я не хотьела… покушат. Я хотьел… покупать a drink. Водка! – И она вдруг вспомнила жест, которым отец всегда сопровождал это слово. Отец Дайаны был русским военнопленным, интернированным из Германии в США в 1945 году; пил он редко, но к слову «водка» относился с каким-то особым восторгом и всегда сопровождал это слово да и сам напиток блаженной улыбкой и щелчком пальцев по шее, под подбородком. Поэтому Дайана, совершенно забыв, что «водка» – это русское слово, щелкнула себя указательным пальцем по шее – для полного взаимопонимания с этим русским верзилой и точно так, как делал ее отец.
– О-о! – уважительно сказал лысый верзила и повторил ее жест – тоже щелкнул себя пальцем по шее. – Водка! Водку, милая, у нас теперь так просто не купишь, финита! Но на Савеловском вокзале у таксистов можно достать, конечно. Или в вокзальном ресторане. Только дорого тебе станет. Хотя у вас, иностранцев, денег навалом. Так что вот так пойдешь, милая, прямо… – Он стал показывать руками, а Дайана невольно повторяла его жесты. – Прямо до угла, ага. Потом свернешь направо и выйдешь на Масловку. Ну а там спросишь, и тебе покажут.
Дайана опять поняла не все, а только, что нужно дойти до угла, повернуть направо и опять спросить. А поскольку до ближайшего угла, на который показывал этот мужчина, было всего шагов двести, то она уверенно двинулась вперед, полагая, что где-нибудь за этим углом перед ней сам собой возникнет или ресторан, или вокзал с непроизносимым названием «Sa-vi-o-lov-sky».
А лысый мужчина, наклонив голову, еще некоторое время с сомнением смотрел ей вслед поверх очков, а потом со вздохом полез под свою машину марки «Запорожец».
Тем временем Дайана дошла до угла, свернула направо и увидела на противоположной стороне улицы человек триста, вытянувшихся в длинную очередь перед входом в магазин с вывеской «ПРОДУКТЫ». Слегка замедляя шаг, Дайана медленно приближалась к этой очереди. Дикая мысль вдруг пришла ей в голову, и, разглядывая этих людей, Дайана ужаснулась этой мысли. Неужели если бы ее отец не попал в плен к немцам, не оказался в концлагере в западной зоне Германии и почти чудом, только потому, что был инженером-ракетчиком, не попал в США в 1945 году, неужели если бы не вся эта цепь случайностей, то она, Дайана, стояла бы сейчас вот в этой очереди, в такой же ужасной одежде, как на этих женщинах, и в таких же туфлях и с такими же синими венами на ногах?!.
Хотя Дайана родилась в США и хотя мать ее была американкой в пятом поколении и правнучкой алабамских первопереселенцев, Дайана всю жизнь несла в душе какую-то сентиментальную симпатию ко всему русскому и почти неосознанное, тайное желание пожить хоть немного в России. Может быть, потому, что ее отец с русским упрямством разговаривал с ней только по-русски и все ее детство читал ей только русские сказки. Ей было 12 лет, когда он умер, а потом ровно десять лет у Дайаны не было никакой практики в русском, пока в университете она не записалась на курсы русской литературы…
Но теперь, подойдя к этой очереди усталых, запыленных, серых, небритых мужчин и каких-то серых, болезненно толстых или болезненно худых женщин, Дайана ужаснулась своей давней и тайной мечте. Очередь не двигалась – никто не заходил в магазин и никто не выходил из него, хотя двери были настежь открыты. Эти люди ждали, но Дайана не знала, чего они ждут. Мясо? Колбасу? Молоко? Сахар? Овощи? Ведь в этой стране теперь все дефицит! Ей, Дайане, не нужно, конечно, ничего из того, что они тут ждут. И все-таки… и все-таки какая-то странная, почти мазохистская, сила вдруг медленно подвела Дайану к концу этой очереди и поставила последней. Не журналистское любопытство, нет, а именно странное влечение причинить себе боль до конца – почувствовать себя в шкуре этих людей, в этой очереди…
Но она тут же пожалела о своем поступке: вся очередь, все триста человек разом повернулись к ней и стали рассматривать, молча, в упор. Они ничего не говорили, они только смотрели на Дайану, как смотрели бы водители автомобилей на американской бензозаправочной станции на внезапно спустившийся с неба и ставший в очередь за бензином «боинг» или YF-23. Или как посмотрели бы в Нью-Йорке на Доналда Трампа, если бы он стал в очередь за бесплатными продовольственными талонами для безработных…
Дайана не знала, как выйти из этой ситуации, но чувствовала, что взгляды этой толпы сейчас испепелят ее – и туфли, купленные весной в Риме, и юбку из обычного Sears, и блузку от Bally, и сумочку от Leather World, и сережки из Tiffany & Co, которые муж подарил ей на десятилетие их свадьбы.
И так они рассматривали ее молча, без слов – минуту, две, три – и, кажется, готовы были рассматривать еще час, но тут, на ее счастье, из магазина вдруг выскочила какая-то женщина и закричала:
– Будут давать! Без талонов! По полкило!
И вся очередь, все эти стоявшие цепочкой триста человек вдруг, сшибая друг друга, ринулись в магазин. В двери тут же образовалась давка и послышались крики: «Ой! Руку!.. В очередь!.. Куда прешь?.. Ребенка задавите, сволочи!..»
Дайана, оставшись одна в ста метрах от толпы, штурмовавшей единственные узкие двери магазина, ощутила, что безумно устала, и сглотнула сухой ком в горле. Господи, за один shut of vodka она отдала бы сейчас и сто долларов!
Повернувшись, она быстро пошла прочь – туда, где была видна большая улица с двусторонним оживленным автомобильным движением.
И вдруг до нее дошло, что только что сбылась ее детская мечта: она пожила в России. Она прожила три минуты русской жизни в очереди за какими-то продуктами, которые сейчас будут продавать этим людям только по полкило на человека.
Но от этой трехминутной жизни ей уже захотелось напиться вдрызг.
А каково же этому несчастному народу?
21
Короткий перерыв посреди встречи с вождями русского религиозного возрождения заканчивался. В разных концах комнаты несколько американо-русских групп допивали чай, который подала хозяйка квартиры, и обменивались последними фразами кулуарных дискуссий.
– Наши активисты раздают наши издания на Арбате, а также в религиозных общинах и рассылают по почте, – говорил в одной группе Аксючиц.
– В вашем журнале напечатан ваш адрес и телефон. Это не опасно? – спрашивали гости.
– Мы это делаем открыто. Сейчас мы живем по принципу: нас не разрешают, но и не запрещают.
В другой группе американцы окружили Зеленцова – издателя, подписавшего договор с Солженицыным.
– Вы дали нам взрывной материал! У вашего издательства есть компьютеры?
– А зарубежные заинтересованные группы могут подарить вам факс и компьютер?
Тем временем я блокировал в углу Олю, нашу интуристовскую гидшу, темноглазую пышную блондинку лет тридцати трех с живым и умным круглым личиком, с веснушками на носике и ямочками на щеках.
Я уговаривал ее пробить мне официальное разрешение задержаться в Москве на то время, пока группа будет в Ленинграде и Таллинне. Но Оля лишь бессильно разводила руками:
– Вы же наш человек, Вадим! Неужели вы не понимаете? Чтобы наша бюрократическая машина разрешила вам задержаться в Москве, нужно как минимум две недели! Вы только представьте эту цепочку: «Интурист», отдел виз МВД, КГБ и потом еще Управление гостиниц Мосгорисполкома! Ведь вам нужна гостиница на эти дни…
– Мне не нужна гостиница! У меня тут полно друзей.
– Но если вы скажете, что будете жить у кого-то дома, вам сразу откажут, прямо в «Интуристе»!
– Почему?
– Потому что КГБ этого в жизни не допустит! Ведь вы же приехали не по частному приглашению. Как же вы вдруг поселитесь у кого-то, кого они не проверили? Вадим, вспомните, куда вы приехали! Или вы все забыли?
Я вздохнул:
– Хорошо. А если я лягу в больницу?
– В больницу – это пожалуйста. Ложитесь. Но имейте в виду: вам придется действительно лежать. Потому что в любой день могут прийти и проверить. А кроме того, вас будут регулярно навещать из американского посольства. Это их обязанность. И если они не застанут вас в больнице…
– Что же мне делать, Оля? У меня сорвется встреча с Ельциным, с Гдляном!
– Честное слово, Вадим, я хотела бы вам помочь! Но… – Она снова развела руками.
И тогда я решил пойти ва-банк.
– Оля, знаете что? Держите вот это. – Я вручил ей свою заплечную сумку, в которой еще оставалось несколько пачек кофе, три или четыре пары женских колготок и еще что-то. – Держите, не бойтесь! Это только кофе и сувениры! – И, видя, как она краснеет, добавил: – И нечего краснеть, это не вам, а вашей маме. У вас есть мама?
– Есть.
– Ну вот. Передайте ей от меня. Скажите: от ее бывшего ухажера.
– Моей маме шестьдесят три года!
– Ну и что? Когда ей было тридцать пять, мне было двадцать пять. Вы меня поняли? А с вами мы сделаем так: я исчезну на несколько дней, а вы этого просто не заметите. А в Таллинне, перед отъездом всей группы, я появлюсь, честное слово! Договорились?
Она посмотрела мне в глаза и отрицательно покачала головой:
– Невозможно.
– Подождите, Оля! Я понимаю: вы, как все гиды «Интуриста», должны ежедневно писать рапорты в КГБ. Только не краснейте, это общеизвестно. Но ведь не обязательно сообщать им, что я пропал в первый день. Вы можете заметить это только в Таллинне. А я там как раз и появлюсь! Ну, Оля, пожалуйста!
Оля снова покачала головой:
– Дело не во мне. И кстати, вот об этой встрече я ничего писать не собираюсь. Я пришла сюда, потому что мне самой это очень интересно. Я же русская, в конце концов! А что касается вас… Если бы мы ехали в Ленинград поездом, я могла бы не заметить, что вас в этом поезде нет. Но мы летим самолетом. А в аэропорту уже лежит список всей группы. То есть вы обязаны сесть в этот самолет, а в Ленинграде в гостинице сдать свой паспорт администратору. Иначе вас начнут искать. А вот после вселения в гостиницу… – Она улыбнулась. – После этого – вы свободны! Потому что из Ленинграда в Таллинн мы едем поездом…
– То есть… Вы хотите сказать…
– Я ничего не сказала и не хочу сказать! – перебила она, смеясь своими черными глазками. И жестом отсекла все последующие разговоры.
– Оля, вы прелесть! – воскликнул я и поцеловал ее прямо в ямочку на щеке. – Не зря я ухаживал за вашей мамой!
– Тсс-сс! Тихо! – зашикали на нас члены делегации, рассаживаясь на свои места, поскольку перерыв закончился и Аксючиц уже стоял в ожидании тишины.
А Роберт Макгроу сострил громогласно:
– Hey, Vadim! Это не лучшее место для флирта! Это религиозная конференция!
Все расхохотались, я сказал «sorry» и уже направился к выходу, когда на моем пути возникла Мичико Катояма.
– Хай, – сказала она своим тихим глубинным голосом. – Вы уже уходите? Вы только что пришли…
– Я сейчас вернусь! – ответил я и бегом ссыпался вниз по лестнице, а потом на улицу к Семену и Толстяку, которые дожидались меня в машине.
– Ну? – нетерпеливо сказал Семен.
– Кажется, все в порядке! Правда, мне все-таки придется лететь в Ленинград, потому что в аэропорту нас будут проверять по списку. Но в Ленинграде я сяду в поезд и утром буду опять в Москве.
– А вот это усс фуюсски! – сказал Толстяк.
– Почему? – спросил я.
– Во-первых, это нелегально. А во-вторых, ты просто не достанесс билет на поезд. Сейссас курортный сезон, билетов нет ни на какие поезда.
Я разозлился. Вчера он говорил, что я не попаду в Дом кино, сегодня – что не достану билет на поезд.
– Бьем на коньяк? – сказал я.
– На фуй! – отказался он, вспомнив, наверно, что в Дом кино я все-таки попал.
– А что ты стоишь? Садись, – кивнул мне Семен на сиденье рядом с собой. – Поедем куда-нибудь ужинать. Хочешь – ко мне?
– Вот что, братцы, – сказал я, – спасибо, но я должен остаться тут. Будет у меня интервью с Ельциным и Гдляном или нет – это еще неизвестно. А тут встреча с религиозными вождями, это тоже материал для «Токио ридерз дайджест». Ведь что-то им написать мне придется.
– Какого ссе ссерта я тут сидел? – возмутился Толстяк. – Луссе бы я поссел кирять с вассей американкой!
– С какой американкой? – не понял я.
– Ну, которая выссла с вассей конференции как раз, когда ты воссел…
– Дайана? – вспомнил я. – Откуда ты знаешь, что она любит поддать?
– А она вон у того хмыря под «Запороссцем» спрассивала, где тут моссно стопаря дернуть. – И Толстяк кивком показал на торчащий вдали серенький «Запорожец», под которым светила лампа-переноска.
– Быстро ваши американцы усваивают нашу жестикуляцию! – сказал Семен. – Или в Америке тоже так показывают? – Он щелкнул себя по шее характерным жестом выпивохи.
Я пожал плечами, а Семен завел машину.
– Генуг [Итак]! – сказал он на идиш и повернулся к Толстяку. – Ты видишь? Я же тебе сразу сказал, что он стал другим человеком.
– Поехали, – сказал ему Толстяк.
– В чем дело? – удивился я.
– Поехали, что с ним разговаривать! – снова сказал Толстяк Семену. Семен выжал сцепление и толкнул вперед рычаг скоростей. Но я схватил руль машины:
– В чем дело? Вы что – сдурели? Я не вру, мне действительно нужно писать для японцев.
Семен вернул рычаг на нейтралку.
– При чем тут японцы! – поморщился он. – Десять лет назад, когда мы узнали, что ты женился на Лизе Строевой, мы тут пили за вас и желали вам десятерых детей. Но вот ты приехал, мы ездим с тобой весь день, а ты даже не считаешь нужным сказать нам, почему вы разошлись. Конечно, в Америке такие вещи не обсуждают ни с кем, кроме адвоката. Но мы-то не в Америке!
Я посмотрел им в глаза – сначала Семену, а потом – Толстяку. Они были правы. Они были настолько правы, что я удивился себе: неужели я действительно стал другим человеком в Америке?
– Послезавтра, во вторник, ждите меня к завтраку, – сказал я им.
– Ол райт, сэр, – согласился Семен, и они уехали. В темноте улицы быстро исчезли задние огни моей бывшей машины.
Проводив их глазами, я вошел в дом Аксючица. Но что-то – звук лязгающей двери, что ли? – замедлило мои шаги. Я посмотрел на часы. С момента, как я встретил Дайану у этой двери, прошло не меньше получаса. Черт возьми, где она может найти тут выпивку? Одна! Не зная русского языка! В районе, который даже в мое время, десять лет назад, пользовался в Москве почти такой же репутацией, как Гарлем в Нью-Йорке.
Я поднялся по лестнице до третьего этажа и увидел, что навстречу мне идут наши молодые журналисты: Моника Брадшоу, Питер Хевл и Гораций Сэмсон.
– Что? Кончилась встреча? – спросил я.
– Нет. Но с нас хватит, – сказал Питер. – Ты не знаешь, где тут можно хлопнуть дринк?
Я посмотрел на них. В девять часов вечера отпускать их одних в этом районе Москвы, конечно, не так опасно, как Дайану. И все-таки…
– Знаете что? – сказал я решительно. – Я пойду с вами. Если вы не возражаете.
– Конечно! Мы будем рады! – сказал Питер.
– Все равно там наверху уже нечем дышать, – добавил Гораций. – Разве в России нет дезодорантов?
Мы вышли на улицу.
– Как твоя спина? – спросил я у Горация.
– Болит. – Он тронул поясницу. – Боюсь, он сломал мне там что-то…
– В какую нам сторону, Вадим? – спросил Питер.
– Сюда, – сказал я и повел их к торчавшему на углу «Запорожцу», надеясь узнать у его хозяина, куда он направил Дайану. Но под этой машиной уже не светила лампа-переноска, и вообще тут уже не было ни души.
– Shit! – сказал я и в досаде стукнул по «Запорожцу» ладонью. И в тот же миг этот ничтожный древний пигмей, этот облезлый и ржавый клоп огласил улицу жуткой сиреной.
– Why? – удивленно спросила Моника. – Почему ты стукнул эту машину?
– А кому вообще нужна эта рухлядь? – удивился Питер. – Разве такое дерьмо стоит установки системы тревоги?
Я не успел ответить. Потому что изо всех ближайших окон высунулись мужские и женские головы и раздались крики:
– Эй! Шпана! Вон от машины!
А из-за угла с огромным ломом наперевес уже бежал прямо на нас какой-то лысый верзила в спортивном костюме.
– Голову оторву!!! – кричал он на бегу.
– О-о! – сказал Гораций Сэмсон. – Опять мы влипли!
– Вы втянули нас в историю! – тихо сказал мне Питер.
А я, сдаваясь в плен, немедленно поднял руки и закричал этому верзиле:
– Подождите! Подождите! Я извиняюсь…
Он остановился в полуметре от меня, держа лом прямо над моей головой.
– Я видел, как ты ударил мою машину! – крикнул он в запале и взмахнул ломом. – Я те, блядь, счас голову снесу!
– Я извиняюсь! Я извиняюсь! – повторил я.
– We are sorry! We are sorry! Please! – Моника зачем-то перевела меня на английский.
Верзила посмотрел на нее, потом на остальных. Конечно, мы не выглядели уличной шпаной или автомобильными ворами.
– Можно, я вас о чем-то спрошу? – сказал я, еще стоя с поднятыми руками.
– Ну? – подозрительно произнес верзила, не опуская лома.
– Полчаса назад одна американка спрашивала у вас, где тут можно выпить, да?
– Ну… – сказал он.
– И куда вы ее послали?
– А в чем дело?
– Мы беспокоимся. Она из нашей делегации. Ушла одна и не вернулась. Я могу опустить руки?
– Ну, опусти… – неохотно сказал он, воткнув свой лом острым концом в землю. При этом острие лома выкрошило в тротуаре кусок асфальта величиной с мой кулак, и я невольно задержал взгляд на этой выбоине. Если бы он опустил этот лом на мою голову, точно такая же дыра была бы в моем черепе. Мужик-верзила тоже посмотрел на дыру в асфальте, потом на мою голову. Было похоже, что и он представил себе такую дыру в моем черепе. – Я послал ее на Савеловский, в ресторан, – сказал он. – Но если ты наш, то… У меня самогон есть картофельный.
– Спасибо, самогон нам не нужен, – ответил я и повернулся к американцам. – Let’s go!
Савеловский вокзал, куда этот верзила послал Дайану, – одно из самых гибельных мест в Москве, гнездо подмосковной шпаны, приезжающей сюда по вечерам на электричках со всего северо-восточного Подмосковья. А ресторан там просто клоака, сборище алкашей и проституток низкого пошиба, которых в России называют даже не проститутками, а только «швалью», «подстилкой» и «вокзальной шалавой».
– Что он сказал? – спросил Питер.
Я не знал, как по-английски «самогон», и сказал:
– He wanted to sell us home-made vodka. Made from potatoes [Он предлагает купить у него домашнюю водку. Из картошки].
– Moonshine [Самогон], – подсказала Моника.
– Well, – сказал Гораций. – Это, может быть, интересно попробовать…
– Я дешево продам, – сказал верзила, чувствуя, что американцы готовы клюнуть. – Четвертной за пол-литра.
– Нет, спасибо, – твердо отказался я и опять повернулся к своим: – Let’s go! I’d like to chek the railroad restaurant first. I’m worried about Diane [Пошли. Меня беспокоит Дайана. Я хочу сначала проверить вокзальный ресторан].
– Почему мы должны тащиться за этой Дайаной? – спросил на ходу Питер, явно недовольный не то упущенной возможностью выпить русской самогонки, не то моим лидерским тоном.
– Потому! Этот вокзал – не место для американки.
В этот момент рядом с нами, из какого-то окна на первом этаже, послышался негромкий женский голос:
– Мужики, я вам дешевле продам. Десять рублей за бутылку.
Я покачал головой, прошел мимо. Но из следующего окна уже слышалось:
– У меня по восемь. Чача. Виноградная…
А потом через десять шагов, из следующего:
– Ржаная есть, гад буду! И тепленькая еще, свеженькая! Сам бы пил, да мне в ночь на работу.
– Чего они хотят? – спросила Моника.
– Они просят о чем-то? – спросил Гораций.
– Yes, they are, – сказал я. – Да. Они хотят продать вам самогонку!
– Они – все? – не поверил Гораций и оглянулся. Позади нас, почти во всю глубину темного квартала, торчали из окон людские фигуры и призывно махали руками.
– Все, – сказал я.
– What a country [Ну и страна]! – изумленно крутанул головой Гораций.
А Моника вскинула на грудь «Пентакс» с зеркальным видоискателем и нажала на спуск. «Пентакс» сухо, негромко и без вспышки отстрелял сразу несколько кадров – в нем была заряжена высокочувствительная пленка.
– О нет! – простонал Гораций. – Man, now you have really got us into trouble [Вы и вправду завели нас в историю]!
И действительно, одного взгляда на привокзальную площадь было достаточно, чтобы понять, что там происходит.
– Ты и Моника – возвращайтесь! – тихо сказал я. – Позовите Джона О’Хагена и других!
– В этой стране есть полиция? – спросил Питер.
– Конечно, – ответил ему Гораций. – Спроси у моей спины. На ней стоит большая синяя полицейская печать!
– Быстрей, парень! – сказал я.
– Я никуда не пойду. Я остаюсь здесь, – ответил Гораций.
– Прекрати!
– Я пойду одна, – сказала Моника. – Не беспокойтесь. Я вооружена. У меня газовый пистолет-карандаш.
И она побежала назад, за подкреплением. А мы остались втроем. Прямо напротив нас, через шоссе, на привокзальной площади стояла серая таксишная «Волга» (не на мостовой стояла, а именно на площади!), вокруг этой машины толпились хохочущие, как жеребцы, шестнадцати– и восемнадцатилетние подростки, а внутри машины, на заднем сиденье, двое парней крепко держали за локти распатланную женщину в разорванной бежевой блузке, а еще двое, перегнувшись через спинку переднего сиденья, крутили ее обнаженную грудь и насильно заливали ей в рот водку из бутылки «Московской».
Это была Дайана Тростер.
– Что вы собираетесь делать? – спросил меня Гораций.
Я не успел ответить.
– Fucking Russian sons-of-a-bitches [Е… русские сукины сыны]! – диким голосом вдруг заорал Питер и на своих длинных ногах бегом ринулся через шоссе. Честно говоря, ни я, ни Гораций никак не ожидали от этого вашингтонского пижона такого взрыва, вот уж, действительно, у каждого из нас своя минута безумия.
– Oh, boy! – воскликнул Гораций и рванулся за Питером через гудящее шоссе.
– Shit! – выдохнул я в сердцах и побежал следом, то отскакивая перед летящими по шоссе машинами, то перебегая им дорогу. Из-за этого маневрирования я здорово отстал от Питера и Горация, к тому же, учтите, они оба были на голову выше меня и вдвое моложе. Но и занятый лавированием между машинами, я слышал Питера.
– Leave her alone [Отпустите ее]! – орал он не своим голосом далеко впереди меня. – Fucking Russian pigs!!! Leave her alone [Е… русские свиньи! Отпустите ее]!
Конечно, они все оглянулись на его крик.
И когда Питер добежал до них, кто-то просто подставил ему подножку, а еще кто-то коротким, но сильным ударом по шее дослал его носом в тротуар. Питер лицом проехал по заплеванному асфальту, тут же вскочил, но несколько парней снова бросили его на землю, стали бить ногами, а остальные закричали:
– Негра бей! Негра!
Услыхав этот крик, Гораций отпрянул и замер перед ними в нескольких шагах, на краю тротуара, как застывает зверь перед ослепившими его фарами смертоносного грузовика. Слово «негр» не нуждалось в переводе, он понял, как они его назвали. А парни стали жестами зазывать его в свой круг. И с боков его уже обходили еще несколько высоких подростков с армейскими ремнями в руках. Пряжки этих ремней были утяжелены свинчаткой.
– Стойте! Вы с ума сошли! Не бейте их! – заорал я по-русски, преодолев наконец шоссе и подбегая к ним. Но парень лет двадцати с бицепсами культуриста легко, как игрушку, отшвырнул меня в сторону.
– Отвали, папаша! – сказал он.
В этот миг какая-то пьяная девка с криком «За дружбу народов!» подбежала к Горацию и с разбегу харкнула ему в лицо.
Гораций запоздало отшатнулся. А толпа, сомкнувшись кольцом вокруг него, расхохоталась.
Я вскочил на ноги и закричал снова:
– Ребята, не трогайте его! Не бейте их!
И попробовал протолкнуться сквозь кольцо. Но тот же парень с бицепсами культуриста вдруг взял меня сзади за шиворот, приподнял от земли и сказал:
– Пахан, ты меня злишь. Лучше отвали отсюда. – И опять швырнул в сторону с такой силой, что я сел на землю.
– Х… ты сюда приехал, африканская морда? – кричала тем временем Горацию пьяная девка, стоя перед ним и руками держась за подол джинсовой юбки.
– I am American [Я американец]… – произнес Гораций.
Но девка не слышала его.
– Русской п… приехал понюхать? – крикнула она и задрала юбку, под которой не оказалось трусов. – На, понюхай!
Банда заржала, и сразу несколько ударов по голове сбили Горация с ног, а затем трое или четверо парней стали заталкивать его голову промеж ног этой девки.
– Нюхай, б…! Нюхай! – ржали они. – А то кастрируем на х…!
– Ребята! – орал я в это же время по-русски, плача и снова пробиваясь в их круг. – Ребята, не надо!!!
И опять та же рука культуриста схватила меня, но теперь уже за волосы.
– Ты! Хмырь! – презрительно сказал этот культурист, над его верхней губой был первый молодой пушок. – Куда ты лезешь? Тут американцев бьют. Тебе-то что?
– Я американец, – сказал я, чувствуя у себя на голове его тяжелую руку, одним движением которой он мог легко сломать мне шею.
– Чи-и-во? – произнес он презрительно, не поверив. – Американец он! Брысь отсюда! Последний раз тебе говорю, понял?
– Я американец! – выкрикнул я в истерике, ужасаясь тому, что он со мной сейчас сделает.
Но он аккуратно повернул меня и дернул за волосы прочь от себя с такой силой, что мое тело снарядом полетело прямо на мусорную тумбу.
Я грохнулся об эту тумбу грудью, опрокинул ее и на вывалившемся из нее мусоре – каких-то арбузных корках, мокрых газетах и прочем дерьме – заскользил с тротуара на мостовую, прямо под колеса летящих по шоссе машин.
Жуткий скрип тормозов заставил меня еще сильней вжаться в землю и рефлекторно закрыть голову руками.
Потом наступила мертвая тишина. Я осторожно поднял голову: прямо надо мной, ну буквально в трех сантиметрах от головы, был круглый передний мост какого-то грузовика. Еще доля секунды – и он вмял бы в асфальт сначала мой череп, а потом позвоночник. Я скосил глаза через плечо: передний бампер этого грузовика был у меня где-то над спиной.
Тут справа от себя я услышал скрип дверцы кабины, стук ботинок водителя о подножку и его быстрые шаги в обход передка машины. А рядом с собой, у правого колеса грузовика, я увидел половину раздавленной темного стекла винной бутылки с острыми краями.
И вдруг моя правая рука сама потянулась к этой бутылке, зажала ее горлышко, и я, тая свое оружие, медленно выполз из-под машины, поднялся на ноги и обернулся к банде, застывшей над Горацием, Питером и Дайаной.
Смерть все-таки самый великий режиссер в мире, даже ее приближение заставило их всех замереть в тот миг, когда надо мной так дико заскрипели тормоза грузовика.
Но пока они приходили в себя от изумления по поводу моего спасения, я уже нашел взглядом того культуриста с детским пушком над верхней губой.
– Fuck your mother [Е… твою мать]! – закричал я почему-то по-английски и, чувствуя себя маленьким снарядом с острой бутылочной головкой, ринулся на своего убийцу.
Не знаю, каким чудом он увернулся от меня. Впрочем, какое тут чудо? Просто ему было двадцать лет, а мне – пятьдесят, вот и все. Но, как бы то ни было, он увернулся от меня, а я, держа в руке горлышко разбитой бутылки, пробежал по инерции через круг расступившейся банды и с разбегу ткнулся всем телом в серую таксишную «Волгу», в которой двое парней на заднем сиденье еще удерживали Дайану.
– Вон! Вон отсюда! – дико крикнул я им и через опущенные стекла передней дверцы стал тыкать в них этой разбитой бутылкой. – Убью на х…! Вон! Отпустите ее! Fuck you all!
Они отшатывались, закрываясь от меня обморочно-белой Дайаной, а позади меня – я почувствовал это каким-то седьмым, звериным чутьем – уже подступали ко мне парни с солдатскими ремнями и засвинцованными пряжками.
Я истерически повернулся к ним:
– Хай!
Скорее всего я был в этот миг похож на маленького зверька, оскалившегося в момент последней смертельной опасности и выставившего перед собой единственное оружие.
Но что была эта разбитая бутылка против их длинных ремней с тяжелыми пряжками? Я уже видел веселые лица молодых подмосковных волков. Они шли на меня не спеша, покачивая висящими у самой земли пряжками, дыша водочным перегаром. Люберы – из другого района, и мытищенцы – тоже!
– Атас! – вдруг раздался за их спинами голос той самой девки, которая плюнула Горацию в лицо. – Атас! Солдаты!
Они оглянулись через плечо, и я посмотрел туда же.
Из грузовика, который чуть не задавил меня, из его крытого брезентом кузова, выпрыгивали, грохоча ботинками, солдаты и быстро строились в каре. В руках у них не было никакого оружия – это не были войска спецназа, это были те солдаты, которых по ночам стягивали сейчас в Москву. Но они тоже снимали с себя пояса с тяжелыми пряжками. А в тылу этого грузовика остановился еще один, крытый брезентом, а за ним – еще, и я увидел, что это целая колонна подтягивается сюда по темному шоссе.
При виде этой колонны банда бросилась врассыпную – быстро, почти мгновенно истаяв в темноте завокзальных железнодорожных путей и переулков. Даже парни, которые держали Дайану, успели выскочить из машины и удрать. Я бессильно, как куль, сполз спиной по «Волге» и сел на грязный асфальт. А из открывшейся дверцы машины выпала Дайана. Но у меня не было сил поддержать ее, мои руки дрожали, а зубы стучали, как в лихорадке.
Неподалеку, в нескольких метрах от меня, поднимались с земли избитые Питер и Гораций.
А через дорогу, врезаясь в солдатское каре, уже бежали к нам, свистя в свои свистки, два милиционера и с ними бледные Джон О’Хаген, Сэм Лозински, Барри Вудстон, Роберт Макгроу и даже крохотная японка Мичико Катояма.
Я хотел что-то крикнуть им, сказать, но не смог, потому что зубы мои продолжали стучать.
И вдруг я ощутил, что Дайана взяла в ладони мой подбородок и пытается остановить мою дрожащую челюсть.
– It’s O.K. now, Vadim [Все в порядке], – говорит она. – It’s all over [Уже все позади]…
Я пытаюсь разжать руку, сжимающую горлышко бутылки, но и этого не могу – мои пальцы свело на ней, как судорогой.
А подползший к нам Питер сел, оперся спиной о машину, вытер кровь с разбитой губы и сказал:
– What a fucking country [Е… страна]!
– Hi, man! – окликнул меня Гораций, сидя поодаль на асфальте. – Похоже, они действительно любят черных в этой стране. Верно?
– S… s… s… sure [Конечно]… – выговорил я наконец.
Часть четвертая
22
Был полдень. Профессор Татьяна Колягина, единственный в СССР специалист по теневой экономике, маленькая и удивительно энергичная брюнетка, везла меня на своем желтом «жигуленке» в аэропорт «Шереметьево». Ровно за двенадцать часов до этого, то есть в 0.15 утра, ее, Татьяну Колягину, разбудил звонок из милиции. Дежурный по савеловскому линейному отделению милиции сообщил ей, что при обыске одного из правонарушителей, задержанных на привокзальной площади за драку, найдена ее, Колягиной, визитная карточка. А посему не может ли Татьяна Петровна явиться со своим паспортом в милицию и удостоверить личность задержанного, который утверждает, что он является гражданином США.
При мне в тот вечер действительно не было никаких документов. Потому что, согласно идиотским советским правилам, вы, приезжая в страну, обязаны сдать свой паспорт в отель при регистрации, а получить этот паспорт обратно можете только тогда, когда из этого отеля выезжаете. Что оставляет вас совершенно без всяких прав, поскольку для советского глаза все ваши остальные документы – автомобильные права или кредитные карточки – выглядят совершенно недостойными внимания кусочками пластика, на которых нерусскими буквами написано что-то непонятное. И, зная, как умело и азартно охотятся московские карманники за толстыми кошельками иностранцев, набитыми американскими долларами, я вообще оставил свой wallet в гостинице, в чемодане. А пластиковая бирка на прищепке с надписью INTERNATIONAL PRESS ASSOCIATION исчезла с лацкана моей куртки еще в тот момент, когда мускулистая пролетарская рука двадцатилетнего культуриста утерла мне нос об землю.
Поэтому в милиции при обыске у меня нашли только восемьдесят рублей и визитную карточку Татьяны Колягиной.
Но чем громче шумела в «дежурке» наша делегация, требуя моего освобождения, и чем настойчивее я на чистом русском языке объяснял дежурному лейтенанту, что я член этой делегации и что он может позвонить в гостиницу «Космос» и проверить это у администратора, тем больше сомнений выражало его молодое, с косой короткой челкой лицо.
– Может быть, в «Космосе» и живет какой-то Плоткин, член этой делегации. Но откуда я знаю, что этот Плоткин – вы? – резонно говорил лейтенант. – А может, вы наш, советский, и снабжали их какой-нибудь секретной информацией? Как Щаранский, например…
Наши хотели немедленно, среди ночи, звонить американскому послу Мэтлоку, у которого были только вчера утром. Роберт Макгроу громогласно возмущался тем, что у него отняли флягу с виски. А Мичико Катояма заклеивала мои, Горация и Питера синяки и ссадины какими-то крохотными японскими дезинфицирующими салфетками и пластырями, постоянно спрашивая: «Вы в порядке? Нужно вам что-нибудь?»
Приезд Тани Колягиной положил конец этому балагану. Оказалось, что эта маленькая, как скворец, женщина чрезвычайно популярна в СССР – при ее появлении все милиционеры встали, а лейтенант собственноручно пододвинул ей стул. Наши удивленно переглянулись.
– Кто она? – негромко спросил меня Сэм Лозински.
Я пожал плечами:
– Она советский экономист…
– Она наш народный сенатор, член парламента! – вдруг произнес лейтенант по-английски, выдавая знание этого языка.
– О-о! – тут же негромко воскликнул Норман Берн, наш адвокат из Флориды. – Осторожно, братцы! Он сечет по-английски!
И каждый прикусил язык, вспоминая, не наговорил ли он тут чего-нибудь, что не стоило говорить в присутствии офицера советской милиции.
В этой тишине Колягина подтвердила, что я – это я, Вадим Плоткин, гражданин США и член делегации американских журналистов.
– Ура! – закричали наши с такой радостью, словно добились освобождения по меньшей мере Щаранского.
А лейтенант вдруг вытащил из ящика своего стола газету, открыл ее и пододвинул Колягиной.
– Автограф не дадите, Татьяна Петровна? – сказал он просительно. – Я за вас голосовал, честное слово!
Я посмотрел на газетную страницу. Сверху через всю полосу был заголовок огромными буквами:
Татьяна КОЛЯГИНА: «ЗАГОВОР ПРОТИВ ПЕРЕСТРОЙКИ СУЩЕСТВУЕТ, ЕГО ЦЕЛЬ – СВЕРЖЕНИЕ ГОРБАЧЕВА». Потом шел подзаголовок: «ПЕРЕСТРОЙКУ СОБИРАЮТСЯ ЗАДУШИТЬ САБОТАЖЕМ. БЮРОКРАТИЯ И КОРРУМПИРОВАННАЯ МАФИЯ ОБЪЕДИНЯЮТСЯ ПРОТИВ НАРОДА. НЕРЕШИТЕЛЬНОСТЬ ПРАВИТЕЛЬСТВА МОЖЕТ СТОИТЬ НАМ ДЕМОКРАТИИ». Ниже был портрет Колягиной и большое, на половину газетной страницы, интервью с ней.
Наши, конечно, не поняли, что было сказано в заголовке, но тоже увидели портрет Колягиной в газете и сгрудились вокруг стола, спрашивая у меня:
– О чем эта статья?
Я перевел, и они зашумели:
– Можно ли взять у нее интервью? Сенатор Колягина, вы говорите по-английски? Сенатор Колягина, вот моя визитная карточка! Сенатор Колягина, вы можете дать нам интервью? Всего полчаса! Пожалуйста!!!
– Вадим, скажите им, что у меня дома осталась девятилетняя дочка, – попросила меня Татьяна. – Она там одна, а вы теперь поняли, что у нас в Москве творится? Я должна ехать домой. К сожалению.
Я перевел.
– А завтра утром? – спросил кто-то.
– Вы заняты все утро, – напомнил всем Барри Вудстон. – Это время покупок.
– Черт с ними, с покупками! – зашумели все. – В этой стране все равно нечего покупать! Если кто-то хочет идти за покупками – пусть идет! А мы хотим взять интервью у русской сенаторши!
– Хорошо, – сказала Колягина. – Я приеду к вам в гостиницу. В десять утра. Годится?
– Ура! – закричали все и даже захлопали в ладоши.
– Эти американцы действительно как дети! – сказала мне Колягина и повернулась к старшему лейтенанту. – Мы можем идти?
– Конечно, Татьяна Петровна! – сказал он.
– Спасибо! – Она пожала ему руку и повернулась ко всем: – Мы можем идти, господа. Вы свободны. – И, взяв под руку бледную Дайану Тростер, направилась к двери.
Мы стадом двинулись за ними.
– You know what you did, Vadim [Знаете, что вы сделали, Вадим]? – сказал мне наш вундеркинд-обозреватель Дэнис Лорм в гостиничном номере Барри Вудстона. В этот крохотный номер «Космоса» набилась в ту ночь вся наша делегация. Причем каждый притащил спиртное из своих дорожных запасов: кто – бутылку джина, кто – виски, кто – коньяк.
– Что? – спросил я у Дэниса, непроизвольно потирая японские пластыри, которыми Мичико залепила мне чуть не пол-лица. Поскольку этих пластырей хватило не только мне, но и Питеру и Горацию, можно было подумать, что эта миниатюрная Мичико собиралась в Россию, как на войну.
Держа стакан с лимонадом, Дэнис сказал мне:
– Понимаете, с вами мы все время влипаем в какие-то истории…
Все зашумели неодобрительно, поскольку это было не очень вежливо с его стороны. Но Дэнис повысил голос:
– Но с другой стороны – кем мы были всего пару дней назад? Просто группой людей, незнакомых друг с другом. Верно?
– Верно… – не очень уверенно подтвердили они, не зная, куда он клонит.
– Но вы, Вадим… – продолжал Дэнис. – Вы заставили нас беспокоиться о вас. Нет, действительно! Постоянно кто-нибудь спрашивает: «Вы видели Вадима? Где Вадим? Его не арестовали?» И знаете, что случилось в результате? Клянусь Богом, вы объединили нас в один взвод!
– За вас, Вадим! – обрадованные таким элегантным поворотом, зашумели все и потянули ко мне стаканы. – Он абсолютно прав! Вы объединили нас!
Я покраснел от смущения. А Барри Вудстон уже прикалывал мне на пиджак новую бирку INTERNATIONAL PRESS ASSOCIATION. Мичико тянула ко мне свой бокал с минеральной водой.
– Но пожалуйста, Вадим! – вдруг громко сказал Питер, держа лед у разбитой и распухшей губы. – Не надо больше проблем! Умоляю тебя!
– Я не уверен, что готов лететь с тобой в одном самолете, – сказал Гораций, и так они хохмили еще часа полтора, и я подыгрывал им, и при этом все мы старательно делали вид, что Дайана не имеет никакого отношения к тому, что случилось на площади у Савеловского вокзала.
– Госпожа Колягина, вы заявили в газете, что есть заговор против Горбачева. Можете ли вы назвать нам, кто заговорщики?
– Не в целях саморекламы, а просто чтобы ввести вас в курс нашей политической кухни, я должна рассказать, откуда и как это газетное интервью возникло, – сказала Таня Колягина утром в гостинице «Космос», когда наш завтрак в гостиничном ресторане перешел в деловую беседу с Колягиной. – У нас на телевидении есть очень популярная вечерняя программа «Взгляд». Эта программа идет в прямом эфире, и ее смотрит практически вся страна. Меня пригласили туда прокомментировать некоторые аспекты экономической реформы, а я вместо этого заявила на всю страну, что есть заговор против Горбачева и перестройки. Ведущий программы растерялся, стал прерывать меня, но нам было важно предупредить о заговоре, и, мне кажется, я успела это сделать. Потому что в стране уже сложилась ситуация, когда разные группы людей на разных социальных уровнях начинают консолидироваться с целью свержения кабинета Горбачева.
– А что это за группы? На каком уровне они действуют?
– Представьте себе, что буквально на всех уровнях! От Политбюро до простого обывателя. Но любопытно, что борьба консерваторов против Горбачева в Политбюро у всех на виду, хотя сам Горбачев старается эту борьбу не афишировать. И сопротивление перестройке со стороны обывателей тоже очевидно – «Гомо советикус» жгут кооперативы и так далее. А вот сам мощный и уже действующий механизм заговора – он скрыт, не виден, он за кулисами. Я имею в виду организованный и крупномасштабный саботаж перестройки со стороны всего управленческого аппарата страны. В ста километрах от Москвы стоят сотни неразгруженных составов с продовольствием, а в московских магазинах продуктов нет. На складах гниют тысячи тонн мяса, овощей, фруктов, а население стоит в очередях даже за картошкой, потому что магазинные полки пусты. Кто это делает и для чего? Масштабы этих операций говорят: это начало хорошо продуманной кампании саботажа с целью вызвать в народе недовольство правительством, заставить людей выйти на улицы и это правительство сбросить. А затем, чтобы усмирить беспорядки, будет введено военное положение. Консерваторы возьмут власть в свои руки. В первый же месяц они выбросят в магазины все запасы продовольствия, которые прячут сейчас, и покажут стране, что при демократии, мол, нечего было жрать, а при сильной власти – пожалуйста. И получив таким образом популярность в обывательской среде, начнут возвращать страну к сталинизму. Вот их сценарий, и они его уже проводят в жизнь.
– Знает ли об этом Горбачев?
– Горбачев окружен людьми, которые сортируют поступающую к нему информацию и очень часто искажают реальную картину или вообще блокируют многие ценные сведения. Именно поэтому я пошла на такую телевизионную диверсию.
– И как он реагировал на ваше заявление?
– Если говорить о прямой реакции, то ее нет. И вообще, сегодня понять Горбачева очень непросто. Если в начале экономической реформы были видны его прорыночные намерения, то теперь он все больше отодвигается от радикальных реформаторов. Например, он не признает частную собственность, а без этого рыночная экономика работать не может. Недавно наше правительство обложило частные кооперативные предприятия непосильными налогами. Это значит, что Горбачев и премьер-министр Рыжков вообще уходят «вправо», к консерваторам.
– Какие же у вас перспективы? Не у вас лично, а у страны?
– Мы подсчитали, что если раздать крестьянам землю, то 15 процентов нашего сельского населения может прокормить всю страну. Однако из 14 миллионов крестьян 4 миллиона – управляющий аппарат, то есть колхозное и совхозное начальство. И они блокируют раздачу земли, ведь иначе они перестанут быть руководителями. И так – во всем обществе. Поэтому мой прогноз таков: мы стоим на пороге колоссальной инфляции. Именно колоссальной – вспомните это интервью хотя бы через год. Инфляция у нас должна быть по многим причинам, но именно саботаж перестройки подстегнет волну массовых забастовок рабочих, и результатом будет стремительное падение уровня жизни. То есть те отрицательные явления, которые были в Югославии и Польше, будут у нас удесятерены. И этим немедленно воспользуются те, кому нужно, чтобы народ окончательно возненавидел и правительство, и Горбачева, – с тем чтобы совершить правый путч.
– А что потом?
– Потом – коллапс. Потому что наш народ уже невозможно заставить работать в системе плановой социалистической экономики. Нужны будут массовые расстрелы людей, нужны будут новые лагеря, и только под страхом смерти люди будут работать в этой системе, влача полуголодное существование. А на фоне всеобщего развала усилится национальная вражда…
– Есть ли шанс избежать такого ужасного развития событий? Есть ли шанс, что к власти придут не консерваторы, а радикальные реформаторы?
– Сейчас все будет зависеть от Горбачева. Если он не с консерваторами, то должен открыто объяснить народу, почему он с ними блокировался. Сегодня повести за собой страну на коренные реформы может только человек с кредитом общенационального доверия.
– Может ли Ельцин оказаться таким человеком?
– Посмотрим. Понимаете, народу можно все объяснить не боясь, но при этом нужно все время двигаться вперед. Потому что шоковая терапия хороша только при наличии очевидных и регулярных позитивных сдвигов. Иначе будет очень страшно. Не только магазины будут пусты, но стрелять будут на улицах, как стреляют в Карабахе. Ведь у нас уже идет гражданская война. Но об этом никто не говорит…
В 11.40 мы получили у администрации гостиницы свои паспорта, а гостиничные грузчики повезли наши чемоданы в интуристовский автобус. При этом Барри Вудстон и Оля Зеленина так многозначительно твердили нам «Watch your baggage!», что каждый сопровождал свой чемодан через весь вестибюль до автобуса. Почему-то это очень не понравилось грузчикам, они оставили тележку, полную наших чемоданов, возле автобуса и ушли. И нам пришлось самим снимать чемоданы и загружать их в багажные люки автобуса.
– Хотите, я отвезу вас в аэропорт на машине? – сказала мне Колягина. – И по дороге поболтаем.
– С удовольствием! – ответил я и сел рядом с ней на переднее сиденье ее «жигуленка». – В Америке у нас сто сенаторов, но мне пока не довелось с ними встретиться. Так что вы будете первым в моей жизни сенатором-шофером.
И как раз в этот момент возле нас с визгом затормозили три такси, и из них выскочили золотозубая директриса школы номер 32, учительницы Шура и Мария, а также дюжина детей в белых рубашках, пионерских галстуках и с цветами в руках. Они подбежали к автобусу, окружили Роберта Макгроу, вручили ему цветы, стали шумно прощаться, а золотозубая директриса снова расцеловала его в обе щеки и сказала многообещающе:
– До встречи в Америке!
Наши зааплодировали, а я подумал, что Толстяк был прав: Роберту уже не уйти от этой золотозубой судьбы.
Тут Колягина завела мотор и тронула свою машину. Конечно, я мог остановить ее и попрощаться с Марией. Но как бы выглядело такое прощание в глазах ее партийной директрисы?
Не зная, как поступить, я промедлил секунду, а Колягина уже перевела рычаг на вторую скорость и дала газ. И в этот миг Мария наткнулась взглядом на желтый «жигуленок» Колягиной, увидела, что я уезжаю с какой-то женщиной, и наградила меня таким взглядом…
А я, уже как полный идиот, прощальным жестом помахал ей рукой.
По дороге в аэропорт мы расспрашивали друг друга. Колягину интересовало, как еще при жизни Брежнева я смог вычислить левые доходы брежневской семейки и объем советской нелегальной экономики. А меня интересовали ее научные данные в этой же области.
– По моим оценкам, объем нашей нелегальной экономики сегодня составляет порядка ста миллиардов рублей…
– Таня, вы знаете, что Москву накачивают войсками? Смотрите, опять колонна армейских грузовиков! У меня ощущение, будто я нахожусь на арабских территориях в Израиле – такие же разбитые дороги, такая же пыль на деревьях и такие же армейские грузовики почти на каждом углу. А главное – ощущение, что вот-вот начнут стрелять. Просто как прифронтовая полоса.
– А вы были в Израиле?
– Да, шесть лет назад. Тогда моя литературная звезда была в зените, мы с женой три месяца провели в Европе и еще месяц – в Израиле. Прекрасная страна, но стоит отъехать от Иерусалима, например в Хеврон, как сразу возникает ощущение прифронтовой полосы. Точно как здесь…
– Да, у нашего народа на руках жуткое количество оружия. Особенно у криминальных банд и рэкетиров. Ходят слухи, что на днях московские мафиози будут делить территории. И, значит, будут уличные бои. Под этим предлогом в город стягивают войска – якобы для пресечения кровопролитий. Но я думаю, что основная причина – появление легальной оппозиции в нашем парламенте. В Кремле испугались: ведь если завтра в нашу межрегиональную группу запишутся не четыреста человек, а половина депутатов Верховного Совета, – вы представляете? Мы смогли бы сразу взять власть в свои руки!
– И кого бы вы сделали главой государства?
– Ну-у… – усмехнулась она. – Об этом рано говорить.
– И все-таки?
– Многие считают, что нам нужен такой расклад, как в Израиле: президент – это совесть страны, верховный жрец, а премьер-министр – для ежедневной работы. И при таком раскладе академик Сахаров был бы прекрасным президентом. Вы знаете, я недавно вступила в партию.
– В какую?
– В коммунистическую.
– Что-о??? – Я подпрыгнул на сиденье от изумления. – Да ведь эту партию ждет Нюрнбергский процесс! Даже «Правда» пишет, что сейчас коммунисты тысячами бегут из партии…
– Репрессивный аппарат в этой стране принадлежит коммунистической партии. Если оставить его в руках брежневской партократии, она очень скоро повернет его против демократии. Мы должны успеть перехватить штурвал, чтобы не было нового Тбилиси и гражданской войны.
– Кто – мы?
– Честные русские люди…
Тут шоссе вдруг сузилось – точнее, его перегородили для какого-то ремонта. А очередной встречный грузовик, крытый зеленым пыльным брезентом, не долго думая свернул со своей стороны на нашу и, дымя соляркой, с оглушительным ревом помчался нам навстречу. Но маленькая русская женщина, доктор экономических наук и народный депутат Татьяна Колягина, не пожелала уступать дорогу армейскому грузовику. Подавшись всем телом вперед и держа своими женскими ручками баранку, она вела свой крохотный «жигуленок» прямо в лоб этому МАЗу.
– Таня, что вы делаете?!
– Это моя дорога! – сказала она сквозь зубы, и на ее круглом лице вдруг обозначились упрямые скулы, обнаруживая некоторое сходство с Раисой Максимовной Горбачевой.
Только теперь, при приближении летящего на нас МАЗа, я разглядел то, что, может быть, Колягина своими острыми глазами увидела раньше, – портрет Сталина под лобовым стеклом кабины водителя. Эта мода на портреты Сталина сейчас довольно сильна в СССР, особенно у среднего класса, напуганного ростом преступности и анархии. «При Сталине был порядок! А теперь хозяина нет!» – вот мнение русского обывателя, привыкшего веками жить «под хозяином». Теперь, вознесенный под стекло высокой кабины МАЗа, портрет этого «хозяина» – в реве грузовиков и в копоти солярки – со смертоносной скоростью летел по Ленинградскому шоссе прямо на нас.
– Таня!!!
– Отстаньте!.. – процедила она.
Я уперся руками в «бардачок» и закрыл глаза.
Но в последний миг, за долю секунды до неизбежного столкновения, водитель грузовика взял чуть вправо.
«Хозяин» уступил нам путь и пролетел за левым окном.
А дорожный знак сообщал, что до аэропорта осталось два километра.
– Вы камикадзе, – сказал я Татьяне.
– Вы имеете в виду вступление в компартию? – спросила она.
– Я имею в виду все! Вы все тут живете, как камикадзе. Но это интересно. Если можно, завтра мы продолжим беседу.
– Вы же летите в Ленинград! – сказала она.
– Завтра утром я буду в Москве.
Она посмотрела на меня, но промолчала. На войне как на войне, чем меньше знаешь о планах соседа по фронту, тем легче будет, если попадешь в плен к противнику.
23
У трапа советского «Ила» дежурная по посадке сверяла наши лица с фотографиями в паспортах и галочкой отмечала в своем списке каждого члена делегации.
– Вам привет от моей мамы, – сказала мне наша гидша Оля, проходя мимо меня по проходу в конец салона.
– Спасибо, – ответил я, поняв ее намек. Оля оказалась права: если бы я не сел в этот самолет, КГБ и Московский угрозыск немедленно стали бы искать меня по всей Москве.
Мы взлетели. При наклоне крыла внизу, за иллюминатором, открылась вся Москва. Наши стали щелкать фотоаппаратами, целясь в основном на Кремль, ясно видный даже через городской смог. И никто не кричал им, как когда-то, лет десять назад: «Нельзя снимать! Прекратите! Отдайте камеры!» Гласность, черт возьми, подумал я и отыскал глазами совсем другую часть города – юго-восток. Там, укрытые маревом заводских дымов, были Кабельные улицы, а среди них, на Второй Кабельной, – дом номер 28. Конечно, сверху, с такого расстояния, я не видел этого дома. Но почти трое суток – 60 часов! – я был от этого дома всего на расстоянии двадцати минут езды на такси. И у меня не хватило духа съездить туда.
«Guts [мужество]», подумал я по-английски, вот точное слово. Guts тебе не хватило, вот что! Но почему? Только потому, что Аня постарела за эти десять лет, как постарели все мои остальные московские знакомые? И вместо прежней зеленоглазой русалки меня встретит пожилая располневшая сорокалетняя женщина с синими венами на ногах?
Черт возьми, мне ведь тоже не двадцать пять! После десяти лет разлуки быть от нее всего в десяти километрах и улететь вот так, не объявившись, как последний трус?
God damn, я должен вернуться в Москву! Я должен вернуться первым же поездом – не ради Ельцина и Гдляна, нет!
А ради Ани и самого себя.
– Можно здесь сесть? – Дайана Тростер, не ожидая моего ответа, села в соседнее кресло. – Я хочу… я хотьел… благодарить вас, Вадим.
Я изумился:
– You speak Russian?
– Немношко. Но я не знать, как делать глагол from «спасибо». But anyway I’d like tо thank you for yesterday. You saved my life. And my money – almost all of it was in the hotel safe. I don’t know how tо repay you [Но как бы там ни было, я хочу поблагодарить вас за вчерашнее. Вы спасли мне жизнь. И деньги – почти все деньги были в гостиничном сейфе. Я не знаю, как я могу отблагодарить вас].
– О, это просто! – сказал я по-русски. – Ты купишь мне дринк. Водку с тоником. Понимаешь?
– Понимайу, – ответила она и улыбнулась, впервые со вчерашнего вечера. – How about double [Как насчет двойной порции]?
– Двойной? – Я притворно задумался. – За double ты расскажешь мне секрет семейного счастья. Ты ведь замужем, верно?
– О, yes! – сказала она и по-русски остановила стюардессу: – Мисс! Дайте нам, пошалуста, два double водка с тоник.
– Что-о??? – возмутилась стюардесса. – У нас не пьют в самолете! Это вам не Америка!
24
Вы когда-нибудь были у психиатра?
Я не могу себе представить писателя, который ходит лечиться к психиатру. Зачем? Самым лучшим психиатром для писателя, если этот писатель действительно шизофреник, является пишущая машинка или word processor. А точнее – неизвестный читатель, которому через word processor писатель отдает свою боль, гнев, тоску, отчаяние, мстительность и дурные миражи подсознания. Кстати, радость, наслаждение и прочие ощущения счастья не входят в этот список. Немыслимо вообразить Достоевского, который с радостью садится писать «Преступление и наказание».
Я был у психиатра три раза в своей жизни.
Но первые два не в счет, потому что это были визиты к гипнотизерам, которые излечивают от курения. Как человек слабовольный, я не мог избавиться от этой болезни сам и решил купить себе чудо. Тем более что в газетном объявлении цена за это чудо была не очень большой, 70 долларов. Первый гипнотизер, русский, погружал меня в сон индивидуально больше часа, но так и не погрузил. Выйдя от него, я тут же закурил. А второй, американец, был таким сильным гипнотизером, что принимал пациентов сразу группами. И он действительно погрузил всех в сон буквально на второй минуте. Я это видел собственными глазами, потому что я был единственным, кто не уснул. На пятой минуте гипнотизер посмотрел на меня и сказал, что я могу идти к его секретарше и получить свой чек обратно.
Я понял, что я безнадежен инфернально, оставил всякие попытки избавиться от курения и продолжал работать в сигаретном дыму, среди пепельниц с окурками и чашек крепкого кофе по-турецки. Как я уже писал, сорокалетнему писателю, приехавшему в Америку из другой страны и почти не говорившему по-английски, необходимо работать как вол, чтобы пробиться на американский книжный рынок. Но только люди, кованные из кинжальной стали, могут работать дома, заставив своих домашних не петь, не слушать радио, не включать телевизор, не греметь на кухне и т. д.
А я не стальной, не чугунный и даже не железный. Пока я пишу, пока стучу по клавишам своего Compaq, я постоянно ощущаю у себя за спиной, в других комнатах, жгущее мой затылок поле ненависти. Это моя жена ненавидит меня за то, что я не подмел квартиру, не вымыл ванну, не сварил обед и плохо вымыл посуду. Потому что самой заниматься домашним хозяйством – это ниже ее достоинства. Ведь она актриса!
– Еще обслуживай вас! – говорит она дочке, когда та просит ее о чем-то.
Стиснув зубы, я сижу за компьютером и говорю себе: «Не вмешивайся. Молчи. Работай».
Но поле Лизиной ненависти прожигает стены, давит мне в затылок, врывается в плоть романа и, черт возьми, провоцирует там, в моей миражной России, гражданскую войну, национальные восстания и рабочие забастовки, переходящие в резню. Я пытаюсь сдержать это кровавое развитие истории, свернуть свой сюжет в мирное русло, но тут приходит Хана:
– Папочка, мне скучно. Ты можешь пойти со мной погулять?
– Погуляй с мамой.
– Мама занята, она не может.
– Чем она занята?
– Она смотрит «The Young and The Restless».
Я выключаю компьютер и иду с дочкой гулять. Лиза смотрит «The Young and The Restless», «As the World Turn» и прочую муть и считает, что так она учит английский язык и специфику американского театра. Разве можно прервать этот великий процесс?
Совершенно естественно, что из-за этих прелестей быта я порой по месяцу не прикасаюсь к своей жене. Она от этого бесится еще больше или садится в машину и, не сказав ни слова, уезжает куда-то на весь вечер, до поздней ночи. О, как хорошо, как тихо становится в доме, когда нет рядом этого облака ненависти! Даже если она завела себе любовника – мне плевать! Я купаю дочку, укладываю ее спать, читаю ей книжку, а когда она засыпает, опять сажусь к своему компьютеру, к его уютному и все понимающему зеленому экрану…
Но иногда я взрываюсь. Или Лиза взрывается. Или мы взрываемся одновременно. Это типичный семейный взрыв, когда повод для скандала совершенно не важен, его и вспомнить потом невозможно. Просто критическая масса взаимной ненависти уже переполнила емкости наших тел. Между прочим, такие же скандалы я слышу почти каждые три дня и в соседних домах, а потом, наутро, мои соседи в обнимку выходят во двор и жарят гамбургеры.
Но у меня с Лизой почти не бывает перемирий. Потому что любое перемирие должно означать мою полную капитуляцию, а именно:
1) стопроцентное признание Лизиного права спать до десяти часов утра, а потом весь день смотреть «The Young and The Restless», «As the World Turn» и прочую мыльную телемуть;
2) радостное исполнение (мною) всех супружеских обязанностей, включая мытье посуды, стирку белья, уборку дома, закупку продуктов, кормление дочери, доставку ее в детсад и обратно, а также еженедельные вывозы обожаемой жены на social events [социальные рауты] и еженощное сексуальное ее обслуживание;
3) незамедлительный найм постоянной домработницы-няньки, которая избавит наконец Лизу от ненавистной ей домашней работы и позволит полностью сосредоточиться на реализации ее творческих замыслов.
За десять лет нашей совместной жизни мне только один раз удалось сочетать выполнение этих условий, да и то недолго – ровно два месяца после получения аванса за «Пожар в тайге». А через месяц после исчезновения моего аванса (а также домработницы и летней дачи на берегу моря, куда так охотно приезжали наши друзья) меня по ночам стали снова терзать когтистые черные пантеры. Днем я опять ощутил своим затылком до боли знакомое поле ненависти. Тут я опять взорвался и от безнадежности своей супружеской жизни даже брякнулся с разбегу головой о стенку.
– Вот видишь, ты сумасшедший! – обрадовалась Лиза. – Я же всегда говорила: ты псих, тебе надо лечиться! – И она увела дочку в другую комнату, потому что «неизвестно, что этот псих может еще сделать». А заперев ее в дальней комнате, вернулась и сказала: – Все! Уходи! Я вызвала полицию. Ты сумасшедший, ты можешь нас убить!
– Никуда я не уйду! – ответил я, струхнув, потому что меня самого испугал мой поступок: я понял, что дошел до предела. – И в гробу я видел твою полицию! Нет в мире силы, которая заставит меня уйти от дочки!
– Это не твоя дочка!
– Что? Ну, знаешь! – Я даже задохнулся от шока. – Ты побольше смотри «The Young and The Restless», там еще и не такие есть сюжеты!
Я лег на диван и закурил, стараясь успокоить грохот сердца. Лиза, оказывается, готова на все – вызвать полицию и даже выдумать, что Хана не моя дочка. Но зачем? Почему она так меня ненавидит?
Обдумать этот вопрос я не успел, в дверь постучали. Я встал и пошел в прихожую. За дверью стоял полицейский с дубинкой, а второй прятался за припаркованной напротив нашего крыльца машиной и держал мою дверь на мушке пистолета. Видно, Лиза по телефону представила им меня с самой лучшей стороны, и они уже вообразили милый заголовок в завтрашней местной газете: «РУССКИЙ ЭМИГРАНТ ДЕРЖИТ ЗАЛОЖНИКАМИ СВОЮ СЕМЬЮ». Я открыл дверь и вышел на крыльцо.
– Don’t move [Не двигайся]! – крикнул мне полицейский с дубинкой. – Повернись! Руки к стене!
Я повиновался, а второй полицейский, с пистолетом, пробежал мимо меня в дом. Наверно, он мчался спасать мою жену и дочку, которых, по словам Лизы, я собирался убить. Но, обнаружив, что Лиза и Хана живы, полицейский разочарованно вышел на крыльцо и уже без особого интереса ощупал мои карманы. Конечно, это была замечательная сцена для соседей, которых развлек приезд полицейской машины в наш тихий район.
Но поскольку оружия у меня не было, полицейский велел мне опустить руки и войти в дом.
– So, что случилось? – спросил полицейский в комнате.
– Он сошел с ума и может нас убить, – сказала Лиза. – Я хочу, чтобы вы выбросили его из дома.
– Он вас ударил?
– Еще нет, но может. Он разбежался и стукнулся головой о стенку!
– Well… – Полицейский посмотрел на меня с интересом. – Как ты себя чувствуешь?
– Я в порядке, – сказал я хмуро.
– А стенка?
– Стенка тоже в порядке, спасибо.
– So! – повторил полицейский. – Итак, кому принадлежит этот дом? Вам или ему?
– Мы снимаем его, – сказал я.
– Хорошо. Кто снимает его? Официально?
– Мы оба, – сказала Лиза.
– В таком случае, леди, – сказал полицейский, – мы не можем выбросить его отсюда до решения суда. Только судья может приказать выбросить человека из его дома. Мой вам совет: решите ваши действия с адвокатом.
– Но с ним опасно находиться в одном доме! Он – сумасшедший! – сказала Лиза.
– Он не выглядит таковым, – заметил полицейский. – Но если вы настаиваете, мы можем сейчас отвезти вас обоих к судье, и пусть он решит. Что вы скажете?
И полицейские посмотрели на нас – на меня и на Лизу.
– I’m ready [Я готов], – сказал я им и добавил Лизе по-русски: – Но что будет с Ханой, если она увидит, что папу и маму увезла полиция?
– Lady, – сказал Лизе один из полицейских, – могу я поговорить с вами наедине?
И они ушли на веранду, где, как я понимаю, полицейский стал объяснять Лизе, что никакой судья ничего со мной не сделает, пока я не нанесу ей реальных увечий. А второй стал рассматривать мои книги на книжных полках и выяснять у меня, какие перспективы у русской перестройки. Я сказал, что из-за этой е… перестройки вся моя жизнь пошла вверх тормашками, но развить этот тезис не успел – Лиза и второй полицейский вернулись в комнату. Лиза сказала, что к судье мы сейчас не поедем, но она завтра же найдет себе адвоката. После этого полицейские уехали, а я сказал Лизе:
– Ты можешь взять себе хоть десять адвокатов – я никуда от дочки не уйду. Ради нее я хочу сохранить семью, и, если ты считаешь, что я псих, я готов лечиться. Может, я действительно сошел с ума от этой факинг жизни.
И назавтра я отправился к психиатру.
Ее фамилия была Гальперина, и она была единственным в Бостоне врачом-психиатром, который говорил по-русски. Честно говоря, я ехал к ней даже с каким-то душевным подъемом. Я даже забыл о своих первых двух визитах к гипнотизерам и снова верил в то, что могу купить себе чудо. Пусть каждый визит к врачу стоит сто пятьдесят долларов, но разве вы не заплатите и полторы тысячи за семейное счастье? Я ехал к ней, заранее представляя себе большой и роскошный, как в телевизионных soup opera, кабинет дорогого врача-психиатра – с тихой приятной музыкой, с цветами и даже с пальмами в больших вазах. Спокойная и внимательная женщина с веселыми материнскими глазами наклонится ко мне и скажет нечто такое, что разом перенесет мою жизнь с теневой стороны на солнечную и я обрету наконец мир и покой в своем доме.
Гальперина оказалась маленькой толстой жабой с холодными глазами. А ее кабинет на Бэкон-стрит – крохотной, как тюремная камера, щелью в доме, на котором висела вывеска «Office space available». В этой свежевыбеленной бетонной щели помещались только письменный стол и два стула – точно как в кабинете какого-нибудь провинциального советского следователя 30-х годов, только без портрета Сталина или Дзержинского на стене.
Сидя на стуле, на высокой добавочной подушечке, и упершись в стол толстыми дряблыми локтями, Гальперина молча рассматривала каждого посетителя неподвижным взглядом, словно очередную муху, которую предстояло заглотить.
«Господи, – подумал я, – и вот перед этой жабой я должен сейчас совершить стриптиз? Должен рассказать, какой я деспот в семье, как я живу с женой, как по ночам меня терзает кошка величиной с пантеру и как я дошел до того, что стал биться головой о стены?»
Но почему – ей? Ведь она даже не мой читатель, она не прочла ни одной моей книги – врачам, как и адвокатам, некогда читать книги: каждый час, который они не спят, приносит им сто пятьдесят долларов.
Но я преодолел в себе синдром жертвы и сказал:
– Я хочу сохранить свою семью. Поэтому сначала я расскажу вам о претензиях моей жены ко мне. Чтобы вы знали обе стороны медали. Моя жена считает, что я псих и алкоголик. Что я не уделяю ей внимания, не развлекаю ее и не помогаю ей состояться как творческой личности. В России она была известной актрисой, но в Америке нет русских театров, а она не хочет менять профессию. А когда я говорю, что для ее же спасения ей нужно хоть где-то работать, она отвечает: но ты же не стал страховым агентом. Так как же спасти семью?! Если вы скажете, что я шизофреник, я готов пройти любой курс лечения, потому что я не могу уйти от дочки, которую назвал в честь своей матери!
И я еще долго рассказывал ей про свою семейную жизнь и про то, как вчера с разбегу стукнулся головой о стену. А нормальному человеку, как я понимаю, такое делать несвойственно.
– Это верно, – сказала Гальперина. – Но вы не шизофреник. Просто ваша жена ревнует вас к вашим успехам. Там, в России, она была известной актрисой, а здесь? Но никто из нас не умеет винить себя в поражении, мы всегда считаем себя чьими-то жертвами. Она у вас – жертва эмиграции, а вы – ее жертва, потому что больше ей не на ком отыграться. Пришлите ее ко мне, я поговорю с ней.
Но Лиза к ней, конечно, не поехала. Это было ниже ее достоинства.
Семейное счастье, которое я хотел купить за сто пятьдесят долларов, не состоялось.
Теперь в хвосте советского самолета «Ил-52» американская журналистка Дайана Тростер разлила по бумажным стаканчикам бренди из тонкой металлической фляжки Роберта Макгроу и сказала мне:
– Теперь отвечаю на ваш вопрос. Я замужем шестнадцать лет. И скажу вам откровенно: я понятия не имею, что такое семейное счастье и есть ли оно вообще. Но я знаю одну притчу. Жили-были два дикобраза – он и она. Они полюбили друг друга и летом сыграли свадьбу. Но пришла зима, все накрыло снегом, подули морозные ветры. И они решили согреть друг друга собственным телом. Но чем больше они прижимались друг к другу, тем сильней и глубже они ранили друг друга своими иголками. Так вот, говорят, что семейное счастье зависит от того, насколько правильно муж и жена выбирают дистанцию между собой. Хочешь еще бренди?
25
«УХОДЯ ИЗ КВАРТИРЫ, ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ ИЗ ЭЛЕКТРОСЕТИ» – гигантские буквы этого транспаранта открывали панораму Ленинграда при въезде в город со стороны аэропорта.
Сидя в автобусе, я переводил соседям вывески ленинградских магазинов и плакаты «КПСС – партия мира!» и «Перестройка и гласность – путь к социализму!». Стометровый транспарант «ВЫКЛЮЧАЙТЕ ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ» американцы не поняли, пришлось долго объяснять, что в СССР даже выключенные телевизоры часто взрываются. Старушка Огилви старательно пыталась выговаривать за мной эти странные русские слова: «Продмаг», «Прием посуды», «Соцстрах» и «Ленинград – город-герой». А потом вдруг вытащила из сумочки какую-то брошюру и сказала:
– Знаете, Вадим, мы с мужем хотим просить вашей помощи. Посмотрите эту брошюру. Это о нашем колледже. Видите, здесь написано, что наш колледж – самый старый в США. Он основан британским королем Вильямом и королевой Марией, и вот, вы видите, у нас есть две копии их королевского указа от 1693 года об открытии нашего колледжа. То есть совершенно ясно, что наш колледж – первый в Америке. Но пока мы не найдем оригинал королевского указа, мы не можем официально именоваться «Первым американским колледжем», вы понимаете?
Вертя в руках брошюру, я кивнул, хотя совершенно не понимал, какое это имеет ко мне отношение.
– Well, – продолжала маленькая Огилви, проводив взглядом темную махину Исаакиевского собора и разбегающиеся от него ленинградские улицы. – Этот город похож на Амстердам. Вы были в Амстердаме?
– Да, – ответил я и вернул ей брошюру.
– Подождите, – сказала она. – Единственная причина, почему мы с мужем приехали в Россию, – это найти оригинал указа британского короля.
– В России? – изумился я.
– Да. Видите ли, мистер Плоткин, в 1861–1865 годах у нас в Америке была гражданская война. И все студенты и учителя нашего колледжа ушли воевать. А единственный русский студент по фамилии Коржавин решил спасти оригинал королевского указа и увез его в Санкт-Петербург, в царский архив. И вот уже два года мы ведем переписку с мистером Тарасовым, директором Центрального архива в Москве, и просим его найти этот документ. А в субботу, знаете, мы даже были у него в офисе. Он сказал нам, что в Москве нет царского архива, что он в Ленинграде. Потому что, вы же знаете, раньше этот город был русской столицей и все русские цари и великие князья жили здесь. И мистер Тарасов звонил в Ленинград, начальнице архива, и завтра в десять часов утра у нас с ней встреча. Не можете ли вы поехать с нами на эту встречу? Это очень важно!
И она просительно тронула меня за руку.
Я оторопело посмотрел на старого профессора и профессоршу. Они потратили шесть тысяч долларов на эту поездку, чтобы найти листок бумаги семнадцатого века, и где – в СССР! В стране, где бастуют шахты и железные дороги, где рэкетиры терроризируют население и убивают журналистов, где парламент раскололся на десяток фракций, где целые республики митингуют по нескольку суток, требуя мяса и отставки правительства, и где войска входят в города на танках, – именно в эти дни два тихих, маленьких, старых американских профессора приехали сюда и нанесли визит – кому бы вы думали? Начальнику Центрального государственного архива мистеру Тарасову! Тому самому Тарасову, который вот уже три года из последних сил отбивается от атак всех московских газет и журналов, требующих от него допустить их к архивам Ленина, Сталина, Троцкого, Бухарина, КГБ, МВД, ГУЛАГа и Советской Армии, чтобы наконец сообщить народу правду о преступлениях КПСС, о массовом расстреле польских офицеров в Катыни, о пакте Риббентропа – Молотова, о миллионах жертв коммунистического террора в прошлом и о покушениях на папу римского, Амина и Георгия Маркова в последние годы. Именно к этому человеку, которого издыхающая компартия поставила на охрану всех своих ужасных секретов, приехали мистер и миссис Огилви!
Я посмотрел на них и подумал, что, если бы рядом со мной сейчас оказался Левка Толстяк, он воскликнул бы со своим обычным энтузиазмом: «Старик, это же потрясающий сюжет для со-production! Два американских старичка ищут какую-то бумажку в революционной России! Вокруг творится черт-те что, гражданская война, а они ходят от одного нашего чиновника к другому и наконец добираются до самого Горбачева. Но даже он не может помочь, потому что у него нет уже никакой реальной власти. Это же гениальный сюжет для комедии! Давай быстро напишем заявку и продадим в Голливуд!»
Но Толстяка не было рядом со мной, и я, вздохнув, сказал старичкам:
– Вы приехали сюда в самое неподходящее время…
– Да, теперь мы понимаем, – произнес мистер Огилви. Кажется, впервые за все наше путешествие я услышал его голос. – Но именно поэтому мы подумали: если бы вы могли поехать с нами завтра…
Я не мог сказать им, что собираюсь через несколько часов нелегально покинуть Ленинград, но и не мог обидеть их своим отказом. Я сказал:
– Я думаю, что есть только один способ найти эту бумажку в советских архивах. И вы это можете легко сделать без меня. Больше того, мое присутствие может только испортить все дело…
– Вы думаете, мы должны дать взятку? – сказала миссис Огилви, сухо подобрав свои губки и как бы загодя отталкивая меня осуждающим взглядом.
– Ни в коем случае! – ответил я. – Взятку они у вас не возьмут. Не потому, что они не берут взяток, а потому, что у вас они побоятся. Но я вам советую сказать начальнику архива вот что. Скажите, что, как только найдется этот документ, его персонально пригласят на церемонию переименования вашего колледжа в «Первый американский королевский колледж». И даже вручат какой-нибудь почетный диплом или присвоят докторскую степень. Уверяю вас, что ради поездки в Америку он лично, своими руками, перероет все царские архивы!
– Вы так думаете? – с некоторым сомнением произнесла миссис Огилви.
– Да! Больше того – я даже думаю, что, если такой бумаги нет в русских архивах, она все равно найдется.
– Как это? How come? – захлопала глазами миссис Огилви.
– Они ее сделают сами, – ответил за меня полковник Сэм Лозински. И сказал мне: – Ты знаешь, Вадим, я тоже имею приватную цель в этой поездке…
– Well, – сказал я. – В этом я не сомневался. Тебя интересуют секретные документы Генштаба Советской Армии. Как раз здесь, в Ленинграде, у меня есть одна знакомая девушка. Она работает секретаршей командующего ленинградским военным округом и одновременно является любовницей начальника Балтийского военно-морского флота.
– Ты шутишь! – почти поверил мне Лозински.
Я посмотрел на Джона О’Хагена:
– А как насчет тебя? Тебя не интересуют секреты колхозного выращивания пшеницы? Я дорого не возьму.
– Нет, спасибо, – усмехнулся Джон. – But as a matter of fact I do have my own goal [Но у меня тоже есть цель в этой поездке]. В Таллинне у меня назначена встреча с мэром города. Мы ведем переговоры о том, чтобы наши города стали городами-побратимами.
Я вопросительно глянул на Нормана Берна, но он сказал:
– Я свою миссию уже выполнил.
– Какую миссию?
– Well… Пожалуй, теперь я могу сказать. Я привез IBM для московской синагоги. Со шрифтами на идиш и на иврите. Теперь они смогут сами печатать еврейские книги.
«Черт возьми!» – подумал я. Я был уверен, что все мои спутники – просто праздные туристы-журналисты, и только я со своей затаенной идеей найти свой фильм и увидеть главную женщину моей жизни – особый случай и оригинальное исключение. А оказывается… Вот тебе и еще один сюжет для фильма: заурядная вроде бы группа туристов едет в СССР, но у каждого – своя цель, своя секретная миссия…
Интуристовский автобус прокатил по мосту через Неву. Я перевел взгляд на полковника Лозински.
– Конечно, Сэм, я пошутил. Но скажи мне свою цель.
– Уфф! – Он с облегчением выпустил воздух. – You gave me a hard time, Vadim [Ты мне задал задачку]. Если бы твоя девочка была реальной, у меня бы уже не было выбора. Well. Anyway… Моя цель, конечно, скромней. Хотя не легче. Просто я нумизмат, а во вторник у нас по расписанию посещение Эрмитажа. И, как я знаю, только в Эрмитаже есть полная коллекция крестов Мальтийского ордена… – Тут на всегда холодном, как стилет, лице полковника вдруг появился какой-то внутренний свет. И его голос дрогнул, когда он спросил: – Ты думаешь, есть какой-нибудь способ получить разрешение сфотографировать эту коллекцию?
Я подался всем телом вперед и заглянул Сэму в глаза:
– Ты прилетел сюда с Гавайских островов, чтобы сфотографировать коллекцию крестов Мальтийского ордена???
– Ты не понимаешь, Вадим! – ответил он, явно волнуясь. – Фотографий этих крестов нет ни в одном каталоге! Наш бригадный генерал – самый крупный в мире коллекционер орденов и медалей, но и у него в коллекции только один мальтийский крест! Если бы в Эрмитаже они позволили мне сфотографировать их коллекцию!..
– О’кей, полковник, – сказал я. – Как ты думаешь, ГРУ – серьезная организация?
– Держу пари, что да, – ответил он.
– So, comrade colonel, от имени Главного разведывательного управления Советской Армии вот какое есть предложение. За каждый секретный документ Шестого американского флота мы будем платить вам настоящими мальтийскими крестами. Прямо из Эрмитажа. Как вам такая сделка?
– Go to hell [Иди к черту]! – сказал полковник и ушел вперед по автобусу флиртовать с Мичико Катояма.
26
В гостинице «Прибалтийская» – огромном стеклянно-бетонном монстре, построенном на каком-то пустыре, вдали от центра города, – администратор отметила каждого из нас в своем списке, забрала наши паспорта и в обмен выдала картонки – пропуска в гостиницу. Ощущение очередной утраты американского паспорта было не из приятных. Но теперь я был свободен. Однако сразу ехать на Московский вокзал не имело смысла: было только пять вечера, а поезда из Ленинграда в Москву уходят в полночь. Кроме того, нужно было что-то придумать насчет билета – меня беспокоило предупреждение Толстяка, что на вокзале я не достану билет. И тут я вспомнил о человеке, для которого достать билет на самолет, поезд или пароход – сущий пустяк. О Косте Зайко – гениальном директоре моей последней картины, который, если нужно было для съемок, мог достать эскадрилью военных «МиГов» последней модели.
Конечно, в номере, который я опять делил с Робертом Макгроу, телефонной книги не было. Я спустился вниз, к администратору, но оказалось, что меня уже опередил Джон О’Хаген. Правда, Джон пришел сюда по другому поводу: по дороге из аэропорта в гостиницу из его чемодана пропали джинсы и блок сигарет.
– Я тут ничего не могу поделать! – нервно сказала Джону администраторша. – И почему вы думаете, что они пропали в Ленинграде? С таким же успехом они могли пропасть в Москве или в самолете!
Я вспомнил, что в Москве, в «Космосе», при посадке в автобус мы так тщательно сопровождали свои чемоданы, что грузчики бросили наш багаж и ушли. Теперь я понял причину их раздражения. А вот ленинградский сервис оказался значительно деликатней: нас везли в одном автобусе, пассажирском, а наш багаж – в другом, грузовом. Это позволило ленинградским грузчикам за сорок минут пути от аэропорта до гостиницы спокойно и без свидетелей проверить все наши чемоданы и дорожные сумки. И те из них, которые были без замков, как у Джона О’Хагена, понесли некоторые потери. Но не такие значительные, чтобы эти иностранцы поднимали серьезный шум. Например, Джон О’Хаген, услышав ответ администраторши, не стал вступать с ней в спор из-за пары джинсов, а пожал плечами и ушел.
– Будьте любезны, дайте мне, пожалуйста, телефонную книгу, – сказал я этой администраторше по-русски.
– У нас телефонная книга только для служебного пользования! – был ее русский ответ.
– А мне как раз для служебного пользования. Я корреспондент японского журнала «Токио ридерз дайджест».
Администраторша посмотрела мне в глаза, потом на бирку INTERNATIONAL PRESS ASSOCIATION, которая висела на лацкане моего пиджака, потом снова мне в глаза.
– Вы что – из той же делегации?
– Так точно.
Она сунула руку куда-то вниз, под крышку своего письменного стола, достала оттуда потрепанную телефонную книгу и, не сказав больше ни слова, швырнула ее передо мной на стойку. В ее жесте было столько ненависти, что хватило бы на то, чтобы разнести и Токио, и Вашингтон, но, по счастью, телефонная книга оказалась привязанной к стойке толстым шнурком.
Я открыл книгу на букву «З», обнаружил там шестнадцать фамилий «Зайко», но, слава Богу, Константин Зайко был только один. Порывшись в карманах, я нашел «никель» – десять американских центов, и подумал, что еще никто, наверное, не совершал такого дикого обмена – десять американских центов на две советские копейки!
Оказалось, что в отличие от всей советской экономики советские телефоны-автоматы уже готовы к переходу на западные рельсы – автомат охотно проглотил мой «никель», и после первого же гудка я услышал в трубке женский голос:
– Алло!
– Здравствуйте. Будьте добры, Костю.
– Наконец! – воскликнул голос. – С приездом! Это вы, Вадим?
– Я… – оторопел я. – А как вы узнали, что…
– Ну как же! – сказал голос. – Я же звонила вам в «Космос»! Вы получили мою записку?
– Так вы… Так вы и есть Карина? – сообразил я.
– Ну да! В какой вы гостинице? Костя приказал мне немедленно привезти вас к нему живым или мертвым. Вы как предпочитаете?
– А где он? На съемках?
– Что вы?! На каких съемках? Он в больнице, у него инфаркт.
– У Кости инфаркт? – не поверил я.
– А что вы удивляетесь, ему же сорок два года!
Господи, а ведь Косте и правда уже сорок два года. А я-то все представлял его юным киноадминистратором. Но инфаркт! У Кости???
– В какой он больнице? – Я посмотрел на часы. Было полшестого, я вполне успевал его навестить.
– Если вы скажете мне, в какой вы гостинице, – ответила женщина, – я заеду за вами через пятнадцать минут. Вы в «Европейской»?
– Нет, в «Прибалтийской», – сказал я и усмехнулся, вспомнив свои прежние визиты в Ленинград. – В «Европейскую» меня мог устроить только Костя.
– О’кей. В «Прибалтийской» я буду через семь минут, это мне еще ближе. Ждите меня у входа, бай! – И в трубке раздались гудки отбоя.
Я с удивлением повертел трубку в руках. Судя по голосу, этой Карине не больше двадцати, а разговаривает она с той же веселой стремительностью, что и Костя. Но откуда Костя узнал, что я в СССР?
– Да очень просто! – сказала Карина. Она оказалась стройной и высокой тридцатилетней шатенкой в форме стюардессы международных линий «Аэрофлота». Ее голубой «жигуленок» был украшен импортными финтифлюшками с эмблемами-зайчиками «Плейбоя». – Им же там нечего делать в больнице! Вот они и смотрят телевизор с утра до ночи. А вчера днем показывали заседание нашей парламентской оппозиции в Доме кино. И вы там в вестибюле разговаривали с Ельциным. Костя, когда увидел… у него чуть второй инфаркт не случился! Ну, а дальше вы понимаете. Костя посадил меня на телефон, и я обзвонила пол-Москвы. Дело в том, что у Кости есть ваш фильм.
– Какой фильм? – спросил я рассеянно, отвлеченный воистину золотым ленинградским закатом. Закат словно извлек из грязной советской мишуры былую, петербургскую красоту прямых и широких проспектов, царственное спокойствие Невы и зеленые просторы императорских парков. Действительно, этот город был похож на Амстердам, Париж, Рим. Или они – на него…
– Что значит «какой фильм»? – сказала Карина, лихо пролетая прямо под носом трамвая. – Ваш фильм, который вы делали с Костей. «Зима бесконечна».
– Что-о-о???
– Ага, дошло! – улыбнулась она. – А вы думаете, почему он велел привезти вас к нему живым или мертвым?
– Но ведь фильм смыли! Я видел акт рязанской фабрики!
Тут Карина повернулась ко мне и спросила:
– Ну и что? Я тоже была замужем, когда встретила Костю. И между прочим, за советским атташе в Бонне. Но разве вы не знаете Костю!
Оказалось, не знаю.
Вместо спортивно-худощавого теннисиста, всегда элегантно одетого и по-юношески стремительного в движениях, передо мной стоял седовласый толстяк в блекло-полосатой больничной пижаме. Правда, на его одутловатом лице были серые Костины глаза и у него был прокуренный Костин голос.
– Старичок, – сказал он, как только Карина ушла (оказалось, что она через час улетает в Осло и до последней минуты ждала моего звонка, весь день не выходя из квартиры). – Старичок, дай сигарету, быстро!
– Еще чего! – возмутился я, помня, что всего неделю назад у него был инфаркт. Мы стояли на зашарканной больничной лестнице, куда Карина провела меня с помощью небольшой взятки в виде плитки шоколада, которую она сунула в карман дежурной медсестре. В обмен на это медсестра выдала нам два халата, застиранных до асфальтовой серости и без единой пуговицы, но зато тоже с черными штемпелями, какие были на простынях в гостинице «Армения» десять лет назад, в самую волшебную ночь моей жизни. «Б-ца № 6 Ленгорздравупр. Минздрав СССР» – извещали штемпеля на этих халатах.
– Странно, что они их еще не нумеруют, – сказала Карина, брезгливо набросив один из халатов на свой чистенький аэрофлотовский пиджачок, а второй я набросил себе на плечи. Потом я взял у Карины одну из авосек, в которой были яблоки и кастрюлька с овощным супом, а вторую авоську с винегретом и котлетами Карина понесла сама.
Мы прошли с ней по длинным и пустым, с жутким запахом карболки, коридорам и попали в холл – «красный уголок», набитый ходячими больными и больными в инвалидных колясках. На всех больных были одинаково блеклые больничные пижамы и тапочки на босу ногу, и все они, подавшись телом вперед, напряженно смотрели в черно-белый экран телевизора, поднятый на две больничные тумбочки. По телевизору шел прямой репортаж из Кремля с заседания Верховного Совета СССР. Когда мы вошли, телекамера показывала какого-то депутата, который, стоя посреди зала, кричал:
– Мы обсуждаем проект закона о забастовках! Но формулировки, которые нам тут предлагают, практически исключают возможность этих забастовок! – Он переждал шум кремлевского зала и продолжил: – И это делается в то время, когда в Донбассе за десять дней забастовки не добыто и тонны угля! Вы, товарищ Шилаев, понимаете, что вы нам предлагаете? Да если мы примем ваши формулировки, то завтра вообще вспыхнет всеобщая забастовка по всей стране!
– Правильно! Точно! Будем бастовать! – азартно зашумели больные в «красном уголке». Я подумал, что десять лет назад, в мое время, телезрителей так возбуждали только хоккейные матчи.
А телекамера уже перешла с Шилаева, лидера советских государственных профсоюзов. За ним был виден президиум съезда во главе с Горбачевым. Сидя в центре президиума, Горбачев нервно постукивал белыми пальцами по красной скатерти стола.
– Но товарищи! – сказал с трибуны Шилаев. – Здесь же все наоборот! Мы просим Верховный Совет предоставить право трудовым коллективам и профсоюзным комитетам объявлять забастовки в тех случаях, когда администрация не выполняет достигнутых договоренностей.
– Где это написано? – снова крикнули ему из зала.
Тут Карина высмотрела среди больных своего мужа и окликнула его:
– Костя! Зайко!
А когда он, еще возбужденный дебатами в Верховном Совете, вышел с нами в коридор, Карина вручила ему обе авоськи с едой, чмокнула в щеку, пожала мне руку и быстро исчезла. А Костя сказал мне:
– Дай сигаретку! Быстро!
– Нету у меня никаких сигарет! Я же не курю! – соврал я.
– Ты не куришь?! – Костя даже плюнул с досады. – Елки-палки! – И тут же продолжил с такой же восторженностью, как телережиссер Залкинд в Доме кино: – Ты видишь, что у нас делается в стране? Революция, старик! Мы еще поживем при капитализме!
– Я вижу, – произнес я.
– Да ладно, не смотри на меня так! Ну, схватил инфаркт, бывает. Я же теперь не в кино, я свой кооператив организовал – частная сеть кинотеатров, независимая от государства. Но две недели назад эти суки приняли новый закон по налогам – до 90 процентов! Ты можешь себе представить?
– Карина сказала, что у тебя есть наш фильм.
– Сказала-таки! Вот бабы! – огорчился Костя. – Я же хотел первым увидеть твое лицо при этой новости!
– Но каким образом, Костя? Ведь фильм смыли, я видел акт рязанской кинофабрики!
– Вадя, это же СССР. Ты забыл? Тут за бутылку водки можно сделать то, что на Западе не купишь за миллион. В этом же вся прелесть нашей державы! За день до уничтожения фильма проявщики ночной смены рязанской кинофабрики сделали мне дубль-позитив. Ну, конечно, это стоило не одну бутылку, но какая разница!..
Я смотрел на него и не знал, что сказать. После приказа министра, запретившего всем киностудиям страны брать меня на работу, я вспомнил о своем еврейском происхождении, послал эту великую державу к чертям собачьим и в потоке еврейской эмиграции уехал в США. Хотя я не говорил по-английски, не читал «Вэрайити» и «Таймс», не играл в теннис и никогда не носил французских галстуков. Но у Кости, который по своим организационным талантам мог бы легко войти в первую десятку голливудских продюсеров, не было в венах еврейской крови, и он остался в СССР. И когда я ехал через Европу в Америку, любуясь картинами Боттичелли в музеях Флоренции и скульптурами Микеланджело на юге Италии, когда я дышал средиземноморским бризом на Капри и пил кофе «капучино» на виа Венето – в это самое время Костя Зайко, рискуя собой, спасал мой фильм. Фильм, который был арестован КГБ и который приказал уничтожить сам министр кинематографии СССР. Костя просто выкрал у них эту картину. За что мог, конечно, поехать совсем в противоположную от Европы сторону лет эдак на десять.
Я смотрел на Костю и не знал, что сказать.
– Well, – произнес он, читая мои мысли. – Может быть, теперь ты дашь мне сигарету?
Я покачал головой:
– Не дам.
– Понимаешь, старик, – сказал он. – Фильм, если ты помнишь, был на двух пленках – изображение отдельно, а звук отдельно. Так вот я спас только изо. Фонограмму – не удалось, из-за ерунды сорвалось! Главное, я даже отключил подачу энергии на фабрику, чтобы задержать…
– Что? Что? – Я не поверил своим ушам. – Ты отключил энергию на кинофабрике?
– Ну, это было просто! – отмахнулся Костя. – У нас же все делается по плану, но с бардаком. Смыв фильма был запланирован на 12 января. Поэтому я прилетел в Рязань восьмого, думая, что у меня куча времени в запасе. За три ночи, сам понимаешь, мне могли вынести с фабрики не только наш фильм, но и половину проявочных машин. Поэтому я не спеша звоню из гостиницы диспетчерше фабрики, приглашаю ее на вечер в кабак, а она говорит: «Костя, сегодня ваш фильм смывают». Оказалось, у них какая-то дырка в плане, Братский комбинат не поставил целлюлозу и они за час до моего прилета сунули наш фильм в ванны с раствором. Ты представляешь? Как у меня тогда инфаркт не случился – вот что удивительно! Но, слава Богу, они начали со звуковой пленки! Ну, сам понимаешь, я не мог отменить приказ директора фабрики и вообще не мог засветить мой интерес к этому фильму, я же прилетел получить у них пленку для своей новой картины, вот и все. Короче, что мне делать? Я схватил такси и помчался на электростанцию. И за два ящика водки отключил подачу электричества на кинофабрику. Просто. А вечером, когда директор фабрики и парторг ушли спать, я включил фабрике энергию, и ночная смена проявщиков пленки скопировала мне позитив. Но фонограммы погибли, старик, извини. Правда, все можно озвучить заново, если… – Тут он замялся и отвел глаза.
– Если что? – спросил я.
– Ну, понимаешь, Вадим… – произнес он словно бы через силу. И спросил: – У тебя правда нет сигарет?
– Нет, – опять соврал я, хотя уже и сам смертельно хотел закурить.
– Понимаешь, старик, – сказал он снова. – У нас, конечно, гласность уже и свобода, все так. И если я вытащу сейчас этот фильм, то все будут кричать, что я герой и так далее. Но никто не знает, что может случиться завтра. Какой-нибудь Гидаспов, Нина Андреева или Лигачев станут на место Горбачева и – конец, мы снова при социализме. И вот тогда КГБ от меня мокрое место оставит. Сам понимаешь, я же у них целый фильм выкрал. Они таких вещей не прощают.
– Ну так черт с ним, с фильмом! – сказал я как мог небрежней. Потому что Костя был совершенно прав, в этой стране в любой день может случиться что угодно, вплоть до правительственного переворота. А кроме того, у Кости всего неделю назад был инфаркт, и не мне толкать его сейчас на очередную авантюру. – Шут с ним, с фильмом, старик, – повторил я. – Мир прожил без этого фильма десять лет, проживет еще годик.
– Подожди… – поморщился он. – Есть другой путь. Предположим, эту копию за пол-литра водки сделали не на рязанской кинофабрике, а на «Ленфильме». И не в январе семьдесят девятого, а в июле семьдесят восьмого. И не для меня, а для тебя. Понимаешь?
– Нет…
– Ну как же? Все просто! Ты предчувствовал, что у фильма могут быть неприятности, и на всякий случай за пару бутылок водки сделал себе в студийной лаборатории копию позитива. Потом нелегально вынес ее со студии и закопал у бабушки в саду. А теперь ты приехал, достал из земли коробки с фильмом и принес в Союз кинематографистов – пожалуйста! А потом сел в самолет и – гуд бай, никакой КГБ тебя не достанет. А мой кооператив купит у Союза кинематографистов эту пленку, мы ее сами озвучим и будем показывать в сети своих кинотеатров. Конечно, при условии, что ты как автор фильма дашь нам такое право. – И Костя лукаво посмотрел на меня своими серыми глазами. – How much?
– Что «how much»? – не понял я.
– Сколько ты хочешь за прокат этого фильма?
– Тебе я отдам этот фильм даром. Где он?
– Нет, так бизнес не делают даже в СССР, старик. Я тебе дам три процента от нашего чистого дохода. Идет?
– Костя, пошел ты знаешь куда!
– Хорошо, пять процентов! Даже пять процентов от гросса, но после налога – черт с тобой!
– Костя, мне сегодня надо уехать в Москву. Где фильм?
– Фильм у меня дома, в холодильнике. Вот ключи от квартиры.
– Но у меня нет билета на поезд.
– Это мелочи. Что у нас сегодня? Понедельник? В понедельник на Московском вокзале старший кассир Зоя Игнатьевна. Скажи ей, что ты от меня, и получишь билет на «Стрелу».
– Ты уверен?
– Вадя, – сказал он обиженно. – С кем ты имеешь дело? Она у меня на зарплате. Дай сигарету!
Но я не дал ему сигарету.
Вот жизнь, а? Он спас мой фильм, мой последний козырь в этой жизни, а я не мог дать ему даже сигарету.
27
Конечно, первым движением души было немедленно мчаться за фильмом в Костину квартиру. Но именно этого нельзя было делать. Ведь не мог же я с этим фильмом в руках явиться в «Прибалтийскую» за своими вещами! Поэтому из больницы я поехал прямо в гостиницу – судя по часам, я как раз успевал к ужину. И это было очень кстати, поскольку обед, положенный нашей группе, каким-то образом растворился в воздухе во время перелета из Москвы в Ленинград. Точно как джинсы и сигареты из чемодана Джона О’Хагена.
Поэтому вся наша группа явилась на ужин с веселым оживлением голодных волков и никто не скрывал аппетита: за каждый день пребывания в советских гостиницах мы заплатили по сто американских долларов. А в России это почти месячная зарплата Горбачева.
За эти деньги в «Прибалтийской» на столе ресторана нас ждало блюдо с толстыми кусками черствого хлеба, бутылки ленинградской минеральной воды «Полюстровская» с густым ядовито-желтым осадком (громкое «Don’t drink this water [Не пейте эту воду]! тут же понеслось над нашими столами) и крохотные блюдца с салатом из цветной капусты – столь гнилой, что нельзя было даже представить, как взять это в рот.
Профессор Ариэл Вийски стал выяснять у официанта, можно ли этой «минеральной» водой хотя бы чистить зубы и нельзя ли ему заказать к себе в номер графин кипяченой воды. Но официант, не дослушав профессора, ушел на кухню. Мы ждали, сидя над отравленной водой и гнилыми салатами. Прошло десять минут, пятнадцать, двадцать. Сэм Лозински встал и решительной офицерской походкой ушел куда-то. Он вернулся ровно через двенадцать минут, бело-зеленый, как айсберг в Антарктике. Даже губы у него были бело-зеленые.
– Я пошел в валютный магазин, чтобы купить для всех пепси-колы, – стал рассказывать он неслушающимися губами. – Там никого нет, только продавщица с кем-то говорит по телефону. Я стоял у прилавка и ждал, пока она закончит. Она не обращала на меня никакого внимания. Я не понимаю по-русски, но я вижу, что это неделовой разговор. Через пять минут я сказал ей: «Can I buy a bottle of water [Могу я купить бутылку воды]?» Она отвернулась от меня и продолжала говорить по телефону. Я стоял еще пять, шесть минут, семь. И сказал ей снова: «Can I buy a water, please!» И знаете, что она сделала? Она вытащила из-под прилавка табличку «Closed» [Закрыто], поставила прямо передо мной и продолжала трепаться по телефону. Can you imagine [Вы представляете]?!
Я-то легко представил все, что произошло с Лозински. Но все наши пораженно качали головой: «What a country [Ну и страна]». А я думал: «Бедный полковник американской армии! Он три года служил в Южной Корее и еще сколько-то лет в Японии, он редактирует Defence (Defence!) [Оборонный] журнал Шестого американского флота, он как лев сражался на пресс-конференции с советским полковником Азаренко, но он позорно отступил перед безмятежным хамством простой русской продавщицы…»
Прошло еще двадцать минут – официант все не появлялся. Мы давно съели весь черствый хлеб и, чтобы занять время, стали рассказывать истории и анекдоты. По кругу. Моника Брадшоу и старушка Огилви рассказывали, как они пили абрикосовый сок в буфете Концертного зала имени Чайковского: оказывается, в России соки и воду вам наливают в тот же стакан, из которого до вас пили сотни людей, can you imagine? А когда Моника, отпив глоток ужасного сока, поставила свой стакан на буфетную стойку и повернулась, чтобы уйти, буфетчица спокойно вылила этот сок обратно в графин, из которого наливала сок другим покупателям. «CAN YOU IMAGINE???» – воскликнула старушка Огилви.
Затем наступила очередь Мичико. Она глянула на меня своими темными глазками и сказала всем:
– Я хочу рассказать вам легенду про обезьяну. Это старинная китайская легенда, но я не думаю, что вы ее слышали. Вообще, в древнем Китае были сотни сказок и легенд про обезьян, но в XVI веке они были объединены в одну легенду. Так вот, однажды жила очень бойкая обезьяна по имени Сон Гоку. Этот Сон Гоку был рожден из камня и обладал массой волшебных качеств. Например, он умел летать на облаках, владел даром перевоплощения и умел тиражировать сам себя 78 раз. То есть, если ему нужно было войско, он мог превратиться в 78 обезьян – точно таких, как он сам. Но все эти свои волшебные качества он употреблял на баловство, хулиганство и разрушения. А чем больше он хулиганил, тем больше портился его характер и тем больше вреда приносил он людям и природе. И Бог решил наказать его. Бог запер его в каменной горе, из которой Сон Гоку не мог сам освободиться. Но через несколько лет мимо этой горы проходил буддийский монах Санзо Хоши. Он шел в Индию за святой книгой. И Сон Гоку упросил монаха освободить его из каменной горы. Монах выполнил его просьбу, Сон Гоку выскочил из горы и стал снова летать по всему миру, хулиганить, творить зло и разрушения. Тогда Бог сказал ему: «Угомонись, потому что я накажу тебя!» «Не накажешь! – сказал Богу Сон Гоку. – Ты уже пробовал наказать меня, ты запер меня в камень, но я из камня вышел! Я все могу! Я всемогущий! Дай мне любое испытание, и ты увидишь, что для меня нет ничего невозможного, я такой же могучий, как и ты!» «Неужели? – сказал Бог. – А можешь ли ты добраться до конца Света?» «Конечно, могу! – сказал Сон Гоку. – Я же умею летать на облаках!» «Хорошо, – сказал Бог. – Если ты сумеешь долететь до конца Вселенной, то увидишь там пять колонн, на которых держится мир. Облети вокруг каждой колонны и оставь на них знак, что ты там был». «Это легко! – сказал Сон Гоку. – Я позову самое высокое облако и полечу туда!» И он вскочил на самое высокое облако и полетел. И через какое-то время он долетел до конца Вселенной и действительно увидел там пять гигантских колонн. Он облетел одну колонну и расписался на ней. Потом подлетел ко второй колонне и расписался на ней тоже. Потом – к третьей. И так он облетел все колонны и расписался на них. А потом вернулся к Богу и сказал: «Ну, ты видишь – я выполнил твое испытание! Я всемогущий! Я такой же сильный и могучий, как ты!» «Ты уверен?» – спросил у него Бог. «Конечно! – сказал Сон Гоку. – Я же долетел до конца Света и расписался на всех колоннах!»
Тогда Бог поднял руку и показал Сон Гоку свои пальцы. И на каждом из этих пальцев Сон Гоку увидел свою подпись. «Ты узнаешь свою подпись?» – спросил Бог. «Узнаю…» – тихо сказал Сон Гоку. Он понял: то, что он считал всей Вселенной, было всего-навсего ладонью Бога.
Мы зааплодировали, а Мичико почему-то снова посмотрела на меня. Словно я и был этим Сон Гоку. Но даже если я Сон Гоку, то кто же Бог?
Тут, ровно через час после нашего появления в ресторане, нам подали горячее. Впрочем, «подали» – не то слово, извините. Официант выкатил из кухни стальную этажерку с тридцатью тарелками на полках, подкатил ее к нашему столику и ушел – берите, мол, сами, еще обслуживай вас!
В тарелках, которые мы разобрали, были куски жира вместо мяса, а на гарнир – недоваренный рис.
Вот и весь ужин за месячную зарплату Горбачева.
Я оставил тарелку, подсел к Норману Берну и сказал ему тихо, чтобы не слышали остальные:
– Sir, насколько я понял, твои чемоданы теперь пусты?
– Да. А что? – спросил он.
– У меня своя миссия в этой стране. Поэтому через два часа я еду обратно в Москву. Не смотри на меня так, пей чай. Я догоню вас в Таллинне. Но я не хочу тащить в Москву свои вещи, мне нужно, чтобы мой чемодан был пустой. Ты понял?
– Конечно, – сказал он негромко. – Я в номере 612. Притащи туда.
Тут ко мне подошла Оля, наша гидша. Она явно волновалась и сказала мне тихо по-русски:
– Вы должны быть в Таллинне утром 3 августа. Не позже! Мы будем в гостинице «Виру» в девять утра. Если вас не будет до десяти, я буду вынуждена… Вы понимаете?
– Я буду, Оленька. Не волнуйтесь.
– Гостиница «Виру». Вам записать?
– Оля, когда вы первый раз в жизни сказали слово «мама», эстонцы в Таллинне уже называли меня «куратом» и «оккупантом». Я проходил там службу в армии и даже лежал в военном госпитале возле парка «Кадриорг». Не бойтесь, я буду в «Виру» в девять ноль-ноль, как штык! Честное партийное слово! Give me a smile, please [Улыбнитесь, пожалуйста].
– Я правда беспокоюсь за вас, – сказала она.
– Thank you! Thank you indeed! – ответил я и опять поймал на себе встревоженный взгляд Мичико Катояма. Ее темные кукольные глазки явно пытались понять, что я еще затеваю. Но я никого, кроме Оли и Нормана, не собирался посвящать в свои планы. А все эти легенды про Сон Гоку – пошли они к чертям!
28
В девять вечера я вышел из гостиницы «Прибалтийская» и снял со своего пиджака охранительную бирку «International Рress Association». И еще одну такую же бирку я снял со своего чемодана. Никакой английской речи, никаких «экскьюз ми» и никаких улыбок на морде, – внушал я себе. Советские люди не улыбаются друг другу.
Было очень светло, хотя белые ночи, как правило, кончаются в июне. На стоянке такси стояло человек десять, я встал последним. Минут через восемь подкатило такси, но молоденький водитель в застиранной майке с ходу отшил первого из очереди, потом – вторую пару, третью. Чем они ему не понравились, неизвестно, но точно знаю, что в СССР не пассажиры выбирают такси, а таксист выбирает пассажира, словно богатый курортник уличную проститутку.
Наконец и я шагнул к такси. Молоденький шофер в линялой майке был похож на подсолнух – желтоволосый, круглолицый и с юношеским пушком на веснушчатом лице.
– На Московский вокзал, плачу вдвойне, – сказал я.
Коротким кивком «подсолнух» показал мне место рядом с собой. Я забросил на заднее сиденье свой полупустой чемодан, а сам сел рядом с шофером, помня, что только так нужно ездить на русских такси. Юный «подсолнух» рванул с места, и мы помчались по светлому ночному Ленинграду. Я никогда, даже в Нью-Йорке, не ездил в такси на такой бешеной скорости. Или просто амортизаторы советских машин такие, что от тряски любая скорость кажется сумасшедшей?
Но теперь эта дикая скорость была мне кстати. Оглянувшись, я увидел, что машины, которые откатили от гостиницы одновременно с нами, сначала отстали от нас, а потом и вообще пропали. Значит, меня пока не «ведут».
Я достал из кармана бумажку с адресом Кости Зайко и протянул шоферу:
– Сначала заверни по этому адресу.
– Ого! Ничего себе «заверни»! – сказал он.
– Все будет оплачено, сэр.
Он ухмыльнулся:
– Оплачено, но как?
– Два счетчика, – сказал я.
– О, тогда годится! – И он круто свернул у ближайшего светофора, а затем порылся правой рукой под сиденьем и вытащил пачку магнитофонных кассет. Зубами выбрал из этой пачки одну кассету и вставил ее в магнитофон, который валялся у него в ногах.
Не учите меня, не учите! Я буду жить, как хочу,– закричал-запел юный женский голос. Мне очень хотелось узнать, кто это поет, но я побоялся выдать себя незнанием популярного шлягера.
Через двадцать минут мы были на Фонтанке, у дома Кости Зайко. Я взял с заднего сиденья свой чемодан, вошел в довольно чистый подъезд старого, дореволюционного дома и по широкой лестнице поднялся на третий этаж. Здесь, возле двери с цифрой «9», я вытащил из кармана связку уникальных ключей, которые дал мне Костя. Один ключ был длинный, как отвертка, с особой насечкой, второй – в виде складного финского ножа, а третий напоминал ствол пистолета с мушкой внутри дула. С помощью этих ключей я открыл дверь Костиной квартиры. В центре двери, чуть ниже цифры «9», была узкая и окованная железом щель для почты. В эту щель, уходя, я должен был бросить ключи.
Войдя в квартиру, я, согласно Костиному наказу, тут же запер все три замка, заодно подивившись их уникальной конструкции – это были не просто замки, а замки-засовы. Широкими стальными задвижками, как щупальцами, они запирали тяжелую металлическую дверь со всех четырех сторон. Словно сейф.
На Западе такие замки должны были бы охранять вход в особняк стоимостью не меньше трех миллионов долларов. Но в квартире у Кости (две комнаты, кухня и совмещенный санузел) стояла стандартная финская мебель, телевизор «Рубин», магнитофон и пишущая машинка «Эрика». Ну, еще был ковер. Вот и все ценности. Но эти «ценности» меня не интересовали, я сразу прошел на кухню к старенькому холодильнику «Газоаппарат». Рядом с «Газоаппаратом» стоял большой новый холодильник «Ладога», но я-то уже знал, что мой фильм – в маленьком. Я дернул за ручку и… Два темно-серых яуфа, две круглые жестяные банки с крышками, забинтованные старой изоляционной лентой, – вот где одиннадцать лет пролежал мой фильм! Костя сказал, что сначала он действительно прятал эти банки за городом, в подвале дома своей троюродной тетки (причем сама тетка об этом не знала), и лишь в январе этого года перевез фильм в свою квартиру.
Теперь я, как вор, лихорадочно достал из холодильника эти тяжелые яуфы, кухонным ножом срезал старую и сухую уже изоляционную ленту и нетерпеливыми руками сорвал присохшие крышки. Пять чистых алюминиевых коробок с наклейкой «Зима бесконечна» лежали в первом яуфе и еще четыре – во втором. Девяносто минут экранного времени…
Сидя прямо на полу и обламывая ногти, я открыл первую коробку, выхватил из нее тяжелую бобину широкой пленки и спустил первые кольца с цифрами от «10» до «0». После «0» был крест и – вот они, первые кадры моей картины! Вот этот промороженный ночной Свердловск и темный поток рабов, идущих в проходную Уралмаша!
Судорожно сбрасывая витки пленки и поднимая эту пленку на просвет, я снова слышал хруст ботинок и валенок по грязному снегу, снова видел лица в фурункулах с клубами пара над головами…
Нетерпеливые гудки такси послышались с улицы. Я опомнился, подскочил к окну.
Шофер-«подсолнух» стоял на противоположном тротуаре и показывал мне на свои наручные часы.
Я кивнул, быстро смотал первую часть фильма, сунул в коробку, а затем все девять коробок с фильмом запихнул в свой чемодан, где были только две пары рубашек, пара трусов, носки и сумка с остатками американских сувениров. А когда подошел к двери и стал снова открывать замки-засовы, только тут до меня дошло, что это ради сохранности моего фильма Костя соорудил тут такую систему защиты.
В десять тридцать я был на Московском вокзале, в кассовом зале на втором этаже. Длинный и узкий, как пенал, этот зал был до отказа забит потной толпой. Только чтобы приблизиться к кассам, нужно было простоять в очереди минут двадцать. Правда, очереди эти двигались быстро, потому что никаких билетов в кассах не продавали – билетов не было ни на один поезд. Ни на сегодня, ни на завтра, ни на послезавтра. Ни в Москву, ни в Киев, ни в Ригу, ни в один из сибирских городов. Никуда! Но все толкались – женщины в мокрых от пота платьях, мужчины с рюкзаками, – все протискивались к окошкам, совали кассиршам командировочные удостоверения, отпускные справки и зажатые в кулак деньги, умоляли, требовали. Кассирши отталкивали от себя эти руки с деньгами и кричали:
– Ну нету билетов! Нету! Что я, рожу вам билеты?
Тут настырных пассажиров оттесняли задние, еще настырней, но результат был тот же.
Однако я не унывал. Я стоял в очереди к кассе с надписью «СТАРШИЙ КАССИР», крепко сжимал ногами свой чемодан, а в кармане, в потной ладони, – 25 рублей. И, как пароль, твердил про себя имя кассирши: «Зоя Игнатьевна! Я от Зайко!» Самое главное, чтобы не уперли у меня чемодан с моим бесценным грузом, как это случилось во время войны с моим отцом.
Тогда, в 1942 году, мы бежали в Сибирь от наступающего на Кавказ Гитлера. Мы ехали в Сибирь поездом – мама спасала от немцев меня, четырехлетнего, а папа спасал коллекцию стеклянных диапозитивов, которую он собирал с восьми лет. Дело в том, что, когда моему отцу было восемь лет, в Одессу, где жил папа, приехал из Америки его дядя Самуил. И, как всякий американец, дядя Самуил решил сделать подарок своему русско-еврейскому племяннику. Он взял моего восьмилетнего папу за руку и повел в самый роскошный одесский магазин «Вассерман и К°». И там он выбрал папе самый дорогой подарок – «волшебный» проекционный фонарь, который мог проецировать на стенку «живые картинки» с цветных стеклянных диапозитивов. Этот фонарь, по словам папы, стоил десять золотых царских рублей – «Поверь мне, сынок, тогда это были бо-о-ольшие деньги!». С тех пор коллекционирование диапозитивов и проекционных фонарей, которые становились все совершенней и дороже, стало не просто отцовским хобби – нет, это было его obsession, маниакальной болезнью и единственной любовью. Мир пережил первую мировую войну и Великую Октябрьскую революцию. Люди начали ездить в автомобилях и летать в самолетах, они изобрели кинематограф, прививку от оспы, пенициллин и еще сотни фантастических вещей. Сталин двадцать миллионов человек уморил голодом или отправил в концентрационные лагеря. СССР стал первым в истории государством «победившего социализма». Но все это совершенно не впечатляло моего отца. Он продолжал собирать диапозитивы. И даже когда мы бежали от Гитлера в Сибирь, в эвакуацию, то все наши вещи – белье, одежду и продукты – несла мама, а папа тащил два огромных кожаных чемодана, набитых только диапозитивами или, как говорила мама, «стекляшками».
И вот ночью, в вагоне, когда папа спал на верхней полке, укрывшись пальто, он почувствовал, что кто-то тихонько дернул его за сапог. «Вор!» – решил папа и затаился. Через минуту вор дернул папу за другой сапог и чуть-чуть стянул сапог с папиной ноги. Но папа продолжал делать вид, что крепко спит и ничего не чувствует. Он решил схватить вора на месте преступления. «Он снимет с меня сапоги, – думал мой умный папа, – а я вскочу и поймаю его!» И сколько ни дергал вор его за сапоги – папа не подавал вида, он ждал. А когда эти сапоги были сняты наполовину, поезд как раз остановился на какой-то маленькой станции. Тут вор схватил оба папиных чемодана с диапозитивами и потащил их из вагона. Папа спрыгнул с полки в полуспущенных сапогах и запутался – ни натянуть их обратно, ни стащить окончательно. И пока он натягивал сапоги на сбившиеся портянки, вор выпрыгнул из вагона и исчез в ночной сибирской пурге, унося тяжеленные папины чемоданы. Папа, конечно, побежал за ним, но тут поезд тронулся, мама дико закричала с подножки, и папа в последнюю минуту на ходу запрыгнул в вагон. Но сколько я его помню, он до последних своих дней не мог примириться с той жуткой потерей. А я, еще мальчишкой, все пытался представить себе того несчастного вора: вот, обливаясь потом, он тащит куда-то в темноту два трехпудовых папиных чемодана, вот сел и, тяжело дыша и ликуя от предвкушения дорогой добычи, сбил замок с чемоданов, открыл их и… что он увидел? Стекляшки, один стекляшки! Помню, как все мои школьные годы я смеялся и над отцом, и над тем несчастным вором. Но только тут, в Ленинграде, на Московском вокзале, в потной очереди за билетами, когда я судорожно сжимал ногами чемодан со своим фильмом, до меня вдруг дошло, как ужасно, как фатально я похож на своего отца! Он спасал от нацистов свои «живые картинки», а я спасаю от коммунистов свои. Ради двух чемоданов с этими стекляшками папа бросил в вагоне свою семью и в полуспущенных сапогах помчался в ночь, в сибирскую пургу. А я? Разве не оставил я в Америке дочку, разве не могут вот сейчас, тут, на вокзале, схватить меня гэбэшники, найти в моем чемодане похищенный у них фильм и отправить меня в ту же морозную Сибирь?
Тут как раз подошла моя очередь к билетной кассе. Держась двумя руками за стойку, чтоб не оттолкнули меня от кассы прежде, чем я успею рот открыть, и оберегая ногами свой бесценный чемодан, я нырнул головой вниз, к узкой прорези в толстом стекле (почему окошки касс всегда, даже на Западе, на уровне вашего пупа?) и сказал заученное:
– Зоя Игнатьевна! Здравствуйте! Здравствуйте, я от…
И только теперь я увидел перед собой совершенно не женское, а напротив, жесткое молодое мужское лицо и услышал из-за стекла:
– Зоя Игнатьевна здесь уже не работает. Вчера забрали в ОБХСС. А вы ей кто? От кого?
И веселые стальные глазки с издевкой посмотрели на меня оттуда в упор, как глаза следователя, поймавшего в ловушку очередного преступника.
– От Пушкина! – зло ответил я и позволил толпе отшвырнуть меня в сторону с моим чемоданом.
И только через несколько минут уже внизу, на первом этаже вокзала, затерявшись в толпе пассажиров и радуясь счастливому побегу от этого кассира-следователя, я вдруг понял, в какой жуткой ситуации оказался.
Как говорят в США, here I am – американец, без единого советского документа, но с девятью коробками запрещенного кинофильма в чемодане. В Ленинграде, посреди вокзала в десять часов вечера. И даже вернуть этот фильм в Костину квартиру уже невозможно: Костя в больнице, его жена летит в Норвегию, а ключи от его квартиры я бросил в почтовую щель той окованной сталью двери. И никакой надежды купить билет на московский поезд. А возвращаться в гостиницу с этим чемоданом нельзя, там полно милиции и гэбэшников, как я докажу им, что не собираюсь выкрасть этот фильм из СССР? Так что же мне делать? Господи, что? Барух, Ата, Адонай, Элохэйну…
Еврейский бог услышал меня – я вдруг увидел длинную вывеску «КАМЕРА ХРАНЕНИЯ РУЧНОГО БАГАЖА». Перед камерой стояло человек сорок, я пристроился со своим чемоданом в эту очередь, но предварительно вытащил из него сумку с американскими сувенирами. Отстояв в очереди минут десять, я увидел табличку, которая сообщала, что сутки хранения одного чемодана в камере хранения стоят пять копеек. Но именно эта мизерность стала для меня очередным испытанием. Пять копеек за хранение единственной в мире копии моего фильма?
– Ну! – Небритый мужик-приемщик требовательно протянул руку через низкий, как ступенька, барьер. Я поставил чемодан на этот барьер, протянул ему рубль.
– А мелочи нет? – сказал мужик недовольно.
– Возьми рубль! – попросил я, считая, что за рубль мой чемодан будет в большей сохранности.
– У меня сдачи нету всем с рубля давать!
– Не надо сдачи, возьми рубль, – повторил я негромко.
– Еще чо! – возмутился он, достал из-под стойки грязную тарелку с мелочью и отсчитал сдачу – ровно 95 копеек. Потом бельевой прищепкой прицепил к ручке моего чемодана картонку с цифрой 311, выдал мне талончик-квитанцию и поволок мой чемодан в глубину камеры хранения. Я почти с ужасом смотрел ему вслед, словно от меня оторвали ребенка и уводят в сиротский дом. «Господи, – подумал я, – ведь этот фильм старше моей дочки вдвое!..»
И хотя меня отталкивала от барьера какая-то тетка с узлами, а за ней напирала очередь человек в тридцать, я все стоял у приемного окна, следя, куда этот мужик несет мой чемодан. И только убедившись, что он поставил его на нижнюю полку, в гнездо с цифрой 311, и успокоившись, я пошел искать кассы для депутатов Верховного Совета и Героев Социалистического Труда.
***
Тут я должен прерваться для уточнения стилистических нюансов. Потому что стандартные глаголы типа «пошел», «вышел», «поднялся по лестнице», «стоял в очереди» и т. п., которые на Западе означают естественное человеческое перемещение в пространстве, – эти глаголы наполнены в СССР иным, куда более многозначным содержанием. Я думаю, что некое представление о советской емкости этих глаголов может дать читателю, скажем, кинохроника времен американской депрессии, когда тысячные толпы людей штурмовали банки в надежде спасти свои деньги. Вот если вы представите себе, что внутри этих остервенелых толп вам нужно «пойти», «подняться по лестнице», «подождать», «пересечь» и т. д., вы приблизитесь к русскому пониманию этих глаголов. Касс для депутатов и Героев Труда я не нашел, а ведь раньше были, я хорошо помню! Но зато я нашел зал с кассами для военнослужащих и тут же услышал, что и здесь никаких билетов на Москву нет, даже для старших офицеров.
Положение становилось критическим. Конечно, вспомнил я, можно уехать в Москву и без билета – дать деньги проводнику вагона, и он найдет мне место. Но в моей ситуации ехать в Москву без билета было опасно: при первой же проверке билетов могут потребовать документы, а у меня при себе только водительские права штата Массачусетс и в чемодане – запрещенный кинофильм.
Я растерянно огляделся. В противоположной стороне зала, за стеклянным окошком с надписью «Старший дежурный» сидела пожилая дама начальнического вида, удивительно похожая на золотозубую директоршу московской школы – такое же непроницаемое лицо в броне косметики, хала на голове и развернутые плечи, на которых к тому же красовались майорские погоны. Но это был мой последний шанс, и я рискнул. Нащупав в сумке коробочку косметики, я развязной походкой советского киношника подошел к окошку майорши.
– Добрый вечер, я с «Мосфильма»! Надеюсь, вы видели мои фильмы «Юнга торпедного катера», «Кавказская любовь» и другие. Завтра утром у меня съемка в Москве, а билета нет. Помогите, сниму в главной роли!
– Я свои роли уже сыграла, – сказала она каменным голосом. Я понял по ее тону, что совать ей косметику нельзя.
– Дочку сниму в главной роли! – сказал я в отчаянии. – У вас есть дочка?
– Идите в кассу, сейчас дадут сведения на проходящий поезд «Мурманск – Москва».
– Спасибо! – Я, окрыленный, побежал назад, к кассе, восхищаясь сам собой. Все-таки в этой стране даже бабы в майорских погонах не могут мне отказать! What a country!
Описывать еще одну давку – уже в офицерской очереди, возбужденной появлением билетов, – не стану, это выше моих сил. Как написал недавно один советский археолог, человечеству понадобилось сорок тысяч лет, чтобы от варварства прийти к современной цивилизации, но человеку нужно всего несколько минут, чтобы снова стать варваром. Он проверил этот тезис доподлинно, двадцать лет изучая первобытных людей по осколкам их посуды и наскальным рисункам. А потом наступил 1937 год и КГБ бросил этого археолога в сибирский лагерь, к уголовникам. И там этот ученый сразу нашел то, что искал столько лет, – первобытное общество в полном и натуральном виде: то же деление на касты, убийство стариков и больных, вождизм, татуировку, примитивный сленг и т. д.
Я могу подтвердить тезис этого археолога одним сделанным мною на Западе наблюдением. Когда я приехал в США в 1979 году, в мире как раз разразился первый нефтяной кризис, арабские страны подняли цены на нефть, сократили ее добычу. И на всех нью-йоркских бензоколонках стояли длинные – минут на сорок – очереди машин на заправку. А по вечерам в программе новостей регулярно сообщалось об убийствах, которые в этих очередях происходят. Даже американцам, достигшим пика демократии и цивилизации, нужна была всего сорокаминутная очередь, чтобы спикировать на сорок тысяч лет назад, в варварство, к закону ножа, кулака и пистолета.
И я позволю себе заметить, что в этом смысле советское общество более цивилизованно. Вековая нищета выработала здесь определенную этику стояния в очередях, при которой вы можете толкаться (и вас могут толкать), ругаться матом (и вас могут ругать), наступать соседям на ноги (и вам могут наступать), вы можете даже пролезть без очереди, но все это еще не предлог для того, чтобы сосед по очереди тут же, на месте, пристрелил вас из пистолета. Поэтому я всегда с ужасом думаю, что будет в США, если тут вдруг возникнут очереди не за бензином, а за хлебом? Настоящие очереди, русские, человек эдак в тысячу, и при этом в кармане у каждого – оружие?
Слава Богу, эта офицерская очередь за билетами на вокзале была безоружна. Я пробился (протиснулся, прорвался, протырился) к кассе, сунул в окошко коробочку американской косметики и двадцать пять рублей и закричал:
– «Мосфильм»! Старшая к вам послала! На мурманский поезд! Утром съемка! Одно место в спальном вагоне!..
Я никогда в жизни не видел такого молниеносного жеста, каким эта кассирша смахнула коробочку косметики в сторону, от глаз толпы, давящей на кассу. Вслед за этим она откинулась в своем кресле и сказала куда-то назад, в глубину кассы:
– Валечка, одно место в спальном вагоне для «Мосфильма», очень нужно!
Ей что-то ответили, и она стала вырезать мне билет, говоря:
– Спального нет, извините. Отправляю вас купированным. Возьмите сдачу!
И она выдала мне билет и полную сдачу с двадцати пяти рублей.
А очередь советских офицеров нейтрально молчала.
Когда, сидя на вокзальной скамейке, я остыл и пришел в себя после удачи, часы показывали 11.10. До отхода моего поезда оставался час. Я вдруг сообразил, что это мой последний час в Ленинграде и что глупо торчать этот час на зашарпанном вокзале, даже если мне вдвойне повезло: я и билет достал, и место подвернулось на этой скамейке.
Я встал, какая-то молодка с чемоданами тут же птицей упала на мое место, а я подошел к камере хранения и заглянул через стойку-барьер. Мой чемодан мирно стоял там же, в клетке под номером 311. Я успокоился, вышел с вокзала и пошел по Невскому проспекту. В одиннадцать вечера уже ощущалось приближение ночи, Невский был темно-серым, но уличные фонари не горели. Какие-то одинокие фигуры шли в этой зыбкой серости, пьяный мужик вывалился из телефонной будки, две молодые проститутки торчали под афишей испанского фильма «Я та, которую ты ищешь», группа рослых подростков шла мне навстречу. Они были похожи на тех, московских, с Савеловского вокзала, и у меня сжался желудок – мне показалось, что сейчас мне снова дадут в морду. Но подростки прошли, не обратив на меня внимания. А ощущение, что сейчас будут бить, если не меня, то кого-то рядом, все не исчезало.
И только минут через десять, когда я проходил мимо памятника императрице Екатерине и когда зажглись уличные фонари, моя душа разжалась. Под памятником в скверике сидели на скамейках и гуляли по круглой песчаной дорожке дешевые проститутки – точно так, как они гуляли здесь в 1955 году, когда я семнадцатилетним мальчишкой приехал в Ленинград поступать в университет. Тогда, я помню, этих проституток брали матросы и морские офицеры. Но сейчас ни матросов, ни офицеров не было – наверно, уплыли в Тихий океан блокировать Шестой Американский флот. И теперь проститутки скучали. Конечно, это были совсем не те проститутки, которых я видел тут тридцать пять лет назад, но одеты они были совершенно так же – в те же старомодные платья с подкладными плечиками…
Думая о прошлом, я спустился в подземный переход и… замер от оторопи: прямо на меня, в упор, смотрели огромные и черные, как ствол гаубицы, глаза моей жены Лизы. Я даже отшатнулся. И прочел на стене подземного перехода: «РЕТРОСПЕКТИВА: ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ – В КИНО, В ЛИТЕРАТУРЕ, В ЖИВОПИСИ! ТОЛЬКО ТРИ ДНЯ, В КЛУБЕ ПЕЧАТИ!»
Внизу этой огромной афиши были кадры из кинофильмов с портретами русских царей и цариц в исполнении знаменитых актеров кино: Черкасова, Самойлова, Соломина, еще кого-то и… Лизы Строевой! Только тут я вспомнил, что она же действительно играла когда-то в «Царской милости» и именно за это ее так дотошно и унизительно шмонали шереметьевские таможенники, когда увидели в ее багаже такую же киноафишу.
Оглядываясь на эту афишу, я вышел из подземного перехода снова на Невский и прошел еще с квартал, думая о том, что, как ни странно, наша старая жизнь продолжает жить без нас, даже в стране, из которой мы уехали…
И я уже решил повернуть назад – ну что тащиться по серому Невскому с его уныло-желтыми фонарями?! – когда увидел густую толпу под колоннадой Казанского собора. Еще один Арбат – уже в Ленинграде? Я подошел. В ночной полутьме, действительно как на московском Арбате, группы по тридцать – сорок человек крутились вокруг ораторов. В одной шла речь об идиотской дамбе, которую партийные власти построили в ленинградском порту, чтобы оградить город от наводнений, а в результате все сбросы канализации и отходы заводов оказались заперты в ленинградской бухте и отравляют город, даже Эрмитаж гниет. В другой спорили о шахтерской забастовке. В третьей…
– Да это евреи заварили революцию семнадцатого года, евреи! Из-за них мы получили коммунистов на свою голову!
– Ну при чем тут евреи! Евреи, если хотите знать, жили до революции в чертах оседлости, как в резервациях! Как они могли «заварить» вашу революцию? – Тоненькая девочка, не старше восемнадцати лет, с серыми глазами и личиком с картин Боттичелли, стояла одиноко и прямо, как Зоя Космодемьянская, среди толпы мужчин и яростно защищала честь моего народа. – Евреи, если хотите знать, сами пострадали от советского режима! Больше других!
– А вы читали статью Шафаревича «Русофобия»? Вот, прочитайте! – Мужчина лет сорока совал ей журнал.
– Я знаю, это антисемитский журнал! – Девочка тонкой рукой отталкивала журнал. – Я его не читаю!
– А вы почитайте, почитайте! Здесь все написано! Это евреи довели Россию до катастрофы!
– Слушайте, постыдитесь! – воскликнула девочка. – Вас двести миллионов, а нас только два! Вам не стыдно кричать, что каких-то два миллиона евреев довели вашу великую нацию до катастрофы? Вам не стыдно?!!
«Золотая моя девочка, – подумал я. – Что ты делаешь здесь – одна, в окружении этой толпы?! Зачем ты споришь с ними? Что ты им докажешь? Ведь им так хочется найти виноватого, они уже назначили еврейские погромы на 14 августа, через две недели! Милая моя, золотая, твое место не здесь, не здесь, а в Израиле!»
Но я не сказал ей ни слова. А постыдно ретировался, поглядывая на часы. До отхода моего поезда оставалось 20 минут. Но сколько я ни махал рукой на Невском проспекте, ни одно такси не останавливалось, и я, уже считая секунды, вскочил в троллейбус. И огляделся в поисках железного ящика кассы, куда, я помнил, нужно опустить пять копеек и оторвать билетик. Кассы не было. Ни впереди салона, ни сзади.
– Как же заплатить? – вырвалось у меня невольно. Все пассажиры повернулись ко мне, и я вспотел – все, влип! Не знаю, как платить в троллейбусе, вот так и горят западные шпионы в СССР – на ерунде!
– А нужно талоны покупать у водителя! Десять талонов – пятьдесят копеек! – назидательно сказала мне какая-то женщина. – А за пять-то копеек не проедешь!
В скрещении осуждающих взглядов, как вражеский самолет, пойманный прожекторами в блокадном ленинградском небе, я прошел по проходу к водителю, хватаясь за спасительную мысль выдать себя за приезжего из Баку или из Хабаровска. Протянул водителю 50 копеек:
– Талоны, пожалуйста.
– Нету талонов, – ответил он через плечо, гоня троллейбус по Невскому в сторону Московского вокзала.
– А как же платить?
Он не удостоил меня ответом, и я проехал до вокзала даром.
29
И вот поезд «Мурманск – Москва», вагон 9, купированный, – четыре полки в купе. Я сижу на нижней полке, а рядом, у столика у окна, два офицера-танкиста – сорокалетний майор и старлей лет двадцати трех. Едят пирожки с капустой, запивают пивом и «базарят» «за Афганистан»:
– Уходили – были героями, там воевали – были герои, а вернулись – шиш без масла, никому не нужны! – горько говорил майор.
– Из нашего выпуска шестеро там остались – в Кандагаре, – сказал старлей. – Но лучше бы они в Чернобыле погибли, я так считаю, хотя бы на своей земле и за своих. Может, спасли бы кого…
Я сижу как на иголках, потный и жду. Через минуту тронется поезд. То есть если меня вели ленинградские гэбэшники и собираются арестовать, то это случится сейчас, как только тронется поезд. Как только тронется поезд, я уже официально становлюсь нарушителем, это ясно. Вся делегация в Ленинграде, а я, иностранец, нелегально покинул город. И в чемодане у меня запрещенный фильм. Может, я везу его в американское посольство, может, резиденту ЦРУ или корреспонденту «Нью-Йорк таймс» Биллу Келлеру…
– Хотите пирожок? – говорит мне майор.
– Нет, спасибо, – выдавливаю я.
– Почему? – обижается он. – Это домашние пирожки, попробуйте, жена пекла.
– Спасибо, я сыт. Вот если бы пива глоток, горло промочить…
Пять лет назад в романе «Атака на Швецию» я вернул своего выдуманного героя, русского эмигранта, из Америки в СССР, лишил его американских документов и заставил скитаться по России, меняя поезда и выдавая себя за русского. Теперь я сам оказался в роли персонажа своего романа. И пока все сходилось: страхи, серые, вонючие вокзалы, пиво в купе, пирожки с капустой.
Я взглянул на часы – истекали последние секунды, но в коридоре тихо, никто не идет меня арестовывать. Сейчас поедем.
И вдруг – топот ног, лязганье дверей купе, громкие мужские выкрики:
– Тут нету! Дальше! Смотри следующее купе!
Я поперхнулся пивом, и мой желудок, похолодев, упал в колени.
А из коридора – все ближе! – грохот шагов и крики:
– И тут нет!.. Проверь следующее купе!.. Коля, поезд пошел! Быстрей!..
Я оцепенел – я понял, что сейчас стальные наручники защелкнутся на моих руках…
…Черная пантера прыгнула мне на грудь, ее когти впились мне в ребра, и кровь брызнула из моих ран. А когда я оторвал эту кошку-пантеру от себя и проснулся, Лиза – в ночном халате – стояла возле моей кровати.
– В чем дело? – удивился я, потому что она никогда не приходила по ночам в мою спальню.
– Ты кричал во сне, я тебя разбудила, – сказала Лиза. – Тебе что-то снилось?
– Ничего…
Она повернулась и ушла, закрыв за собой дверь…
***
Тут поезд тронулся, за окном купе поплыл вокзальный перрон.
И вдруг из коридора – совсем рядом – послышалось по-английски:
– O’key, we have to go! You’ll find it [Ладно, мы должны идти. Найдете сами]!.. – И снова по-русски: – Коля, быстрей!
За дверью, у которой я сидел, прогремели мужские шаги. Они прогремели мимо, к выходу из вагона. И тут же, за окном вагона, на перроне, я увидел две мужские фигуры, исчезающие в темноте платформы.
Я, ни жив ни мертв, осторожно выглянул из купе и увидел в коридоре молодую блондинку лет 25-ти.
Держа в руке явно не советский кожаный баул, она растерянно озиралась и беспомощно лепетала по-английски:
– Where is my seat? Where is my seat? Does anybody speak English? Or French? Oh, God, help me, please [Где же мое место? Кто-нибудь говорит тут по-английски? Или по-французски? О Боже, помоги мне]!
И тут я сразу понял, какой я дерьмовый писатель. Все, что в романе «Атака на Швецию» я выдумал про эмигранта, вернувшегося в СССР – потные очереди в кассовых залах, пиво и пирожки с капустой в купе, – все это плоско и банально по сравнению с этой голливудской ситуацией: единственный пассажир, который понимает по-английски и может помочь этой роскошной блондинке найти ее место, – я, американский шпион. Но если я заговорю по-английски, я выдам себя. Ведь так не бывает в жизни, так не бывает, это нереально: роскошная блондинка-иностранка в русском вагоне ищет свое место как раз рядом со мной! Это провокация, это ловушка, чтобы втянуть меня в разговор по-английски и разоблачить!
Но у этой блондинки такой растерянный вид! А поезд идет, поезд уже идет, вытягивается из Ленинграда! И двое ее провожающих остались далеко на перроне…
«К чертям!» – говорю я себе и выхожу в коридор:
– Can I help you [Я могу вам помочь]?
Через двадцать минут мы сидим с ней в пустом и уже закрытом вагоне-ресторане (за три магнитофонные кассеты можно в СССР открыть даже закрытый ресторан). Полин оказалась француженкой, она готовит издание каталогов Эрмитажа в Париже, Лондоне и Нью-Йорке и завтра улетает домой, мечтая на прощание погулять по Красной площади. А я не могу сказать ей, что я американец, и назначить свидание в Париже или Нью-Йорке – рядом с нами постоянно торчит сторож вагона-ресторана, он в упор пялится на нас своими любопытными глазами, ему дико интересно слушать нерусскую речь. Да и я еще не верю до конца в то, что это не ловушка, и продолжаю постыдно играть самого себя двадцатилетней давности – советского кинорежиссера. Хотя в Париже опубликовано четыре моих романа.
И так мы говорим ни о чем до двух часов ночи, пьем боржоми и обмениваемся адресами – Полин дает мне свой парижский адрес, а я ей, как последний лгун, – свой бывший московский.
А утром в 7.20 поезд приходит в Москву, я везу Полин в такси на Красную площадь, говорю «Бон вояж!» и приказываю водителю:
– А теперь на юго-восток. Вторая Кабельная, дом 28. За скорость плачу вдвойне.
Часть пятая
30
Был жаркий июль. Я жил под Москвой, в Доме творчества Союза кинематографистов. Тогда это было нечто вроде элитарного санатория, попасть в который могли только киносценаристы, режиссеры, операторы и художники кино. Говорят, что этот Дом творчества – большой двухэтажный особняк, сохранившийся с дореволюционных времен, и парк над Клязьмой-рекой – подарил советским кинематографистам лично товарищ Сталин в 1936 году. Он считал, что здесь, в лесной тишине и при немыслимом по советским стандартам комфорте (коттеджи, столовая, кинозал, бильярдная и библиотека), советские кинематографисты будут создавать новые шедевры социалистического реализма, которые еще больше прославят советский строй.
Я представляю читателю полную свободу для фантазий на тему, что именно происходило в этом легендарном Доме творчества с 1936 по 1967 год, то есть до того, как я попал туда впервые. С 1967 по 1978-й я жил там регулярно по нескольку месяцев в году и, попав на Запад, все собирался написать книгу о советских кинозвездах, которые были моими соседями, партнерами по бильярду и собутыльниками в шумных и тихих ночных выпивках. В доносах, которые приходили потом в правление Союза кинематографистов, милицию и райком партии, эти вечеринки почему-то назывались «оргиями». Но с годами и эта книга-блондинка ушла от меня в зыбкую ретроспективу прошлого, оставив в памяти только несколько эпизодов, не имеющих к оргиям никакого отношения и тем не менее сияющих, как «живые картинки» в «волшебном фонаре» моего отца.
Представьте себе теплый июльский день, чистый лесной подмосковный воздух, старый, запущенный парк с узкими дорожками и небольшой, на три комнатки и веранду, коттедж на берегу узкой Клязьмы. На залитой закатным солнцем веранде сидит на корточках молодой советский кинорежиссер Вадим Плоткин и, громко ругаясь матом, кормит крохотных птенцов-воронят. Две недели назад, после сильной летней грозы, я услышал за окном своего коттеджа вороний крик – и не просто громкий, а истошный, надрывный. Я вышел из коттеджа и увидел, что по высокой мокрой траве медленно крадется к старому дубу матерый кот Василий, проживающий в столовой Дома творчества. А на кота, прямо ему на голову, с дикими криками пикируют две вороны, тут же взлетают, возвращаются и пикируют снова. Но кот словно не видит и не слышит. Плавно передвигая бесшумными лапами и вытянув вперед свою тигриную голову, он целенаправленно идет по росистой траве.
«Птенцы!» – понял я и поспешил наперерез Василию.
Он увидел меня и сел, делая вид, что ничего плохого не имел в виду. Я прошел вперед и увидел в траве воронье гнездо, которое ветер сорвал с высокого старого дуба. Рядом с гнездом лежали два крохотных вороненка, разметав по земле свои бессильные крылышки. Я нагнулся, взял их на руки и… Господи, что тут началось! Взрослые вороны, которые только что спасли своих детей от кота, ринулись на меня. Они подлетали прямо к моему лицу, широко распахивали клювы и орали свои вороньи проклятия. А когда я понес спасенных воронят в коттедж, они стали пикировать мне на голову, роняя в меня маленькие бомбочки сухих веток и еловых шишек.
Я разозлился.
– Нате! Возьмите! – сказал я и протянул им воронят.
Но они, конечно, не могли поднять воронят на своих крыльях, а птенцы были еще слишком малы, чтобы летать. Да что там летать! Оказалось, что они и клевать-то сами не могут! Я поселил их на веранде коттеджа, положил перед ними одно блюдце с водой и другое – с накрошенным хлебом и мелкими кусочками котлеты, но они, два черненьких, как угли, комочка, тупо сидели в углу и бессмысленно пялились на мир своими крохотными бусинками глаз. Так прошел день и два – мои воронята не притронулись к еде. А их отчаянные родители дежурили на деревьях возле моего коттеджа и, стоило мне выйти из него, атаковали меня с истошными криками и очередным шквалом шишек и сухих сучков.
На третий день я понял, что, если не накормлю воронят силком, они сдохнут. Я присел перед ними на корточки, двумя пальцами взял в щепоть кусочек хлеба, а третьим, указательным, стал бить одного из них по клюву, приговаривая:
– Открой клюв, негодяй! Открой, твою мать!
Через какое-то время этот крохотный вороненок все-таки разозлился и открыл клюв, чтобы тяпнуть меня за палец. И в тот же миг я просунул хлеб в красное и узкое, как наперсток, горло.
Так я научился кормить воронят. Я бил их пальцем по клювам, громко ругал русским матом и опускал в их красные глотки кусочки хлеба, котлет, сыра.
И в тот теплый июльский день я был как раз в самом разгаре этой «творческой» работы, когда услышал у себя за спиной Анин смех:
– Собака! Тебе не стыдно бить животных?
Я оглянулся.
Аня стояла в двери веранды, слизывала языком шоколад с «эскимо», а закатное солнце пронизывало ее льняные волосы и легкое, короткое платье. Это были Куинджи, Коро, Мане, Дега… Только им была подвластна эта картина, полная солнца, лесной тишины, неги и трепета.
– Заткнись, – сказал я Ане через плечо. – Лучше дай кусочек шоколада для вороненка.
Она отломила от мороженого пластинку шоколада и протянула мне. Я разломил пластинку на два маленьких, как ноготь, кусочка и опустил шоколад в глотки моих уже чуть подросших воронят. И в тот же миг – буквально! – они оба уронили головы и уснули.
– Негодяйка, ты отравила моих воронят! – закричал я и поцеловал Аню в холодные и сладкие от мороженого губы.
Нужно ли объяснять, почему в ту ночь я забыл закрыть наружную дверь коттеджа?
И нужно ли говорить, что мы с Аней уснули только под утро, перед рассветом?
Но буквально через полчаса нас разбудил крик за окном:
– Кар-р-р!
Я не хотел открывать глаза, но крик повторился – требовательный и громкий:
– Кар-р-р!!!
Я отвернулся к стенке, а Аня поднялась с кровати и выглянула в окно.
– Кар-р-р!!! – сказали там в третий раз.
Она тронула меня за плечо:
– Это тебя.
– Меня??? – проворчал я со сна, встал и подошел к окну. Солнце уже ярко лупило сквозь листву деревьев.
Прямо под окном, на цветочной клумбе, сидели два моих вороненка.
– Кар-р-р! – радостно сказали они, увидев мое заспанное и недовольное лицо. Затем взлетели на нижнюю ветку ближайшей сосны, нагнули головы набок, посмотрели на меня сверху вниз и сказали снова: – Карр!
И, трепыхнув крыльями, перелетели на высокую ветку, а оттуда…
Дальше я их не видел, потому что восходящее солнце било мне прямо в глаза. Но я слышал, как они, улетая все дальше, кричали мне издали:
– Кар!.. Кар!..
– Это они с тобой попрощались, – сказала мне Аня.
– Ну да? Интересно, как ты догадалась? – сказал я и толкнул ее на кровать.
Если Бог позволит мне перед смертью вспомнить хотя бы несколько «живых картинок» из того «волшебного фонаря», который называется Жизнь, я вспомню Аню, стоящую с мороженым в руках, на фоне закатного солнца в двери болшевского коттеджа.
31
Теперь я ехал в свое прошлое. По пыльному шоссе Энтузиастов, сквозь смрад выхлопных газов грузовиков, автобусов и легковых машин. Был вторник, первое августа, начало очередной рабочей недели. И здесь, в стороне от центра, Москва еще больше напоминала мне Ближний Восток. Но уже не Израиль, а Бейрут, что ли? Пыль, жара, разбитые мостовые, дома с обвалившейся штукатуркой, рев грузовиков с деревянными, как во время войны, кузовами. Но это была Москва 1989 года. По радио звучал голос Горбачева. Президент выступал на сессии Верховного Совета:
– Раньше нас абсолютно устраивала тенденция перекладывать всю ответственность за сложившуюся ситуацию из центра на места, а оттуда по-иждивенчески валить все на центр. Вместе с тем последние события показали, что многие местные органы ждут, когда будет принят новый закон. С учетом того, что им сейчас надо больше заниматься хозяйством, брать на свои плечи ответственность в практическом плане, в том, чем сейчас пока оперативно занимаются партийные органы…
– Болтун! – прокомментировал водитель такси.
Я промолчал. Два года назад, собирая материал для своей последней книги, я прочел и прослушал десятки стенограмм и магнитофонных записей выступлений Горбачева в Норильске, Красноярске, Мурманске, Владивостоке и других городах. И обнаружил, что эти выступления на 90 процентов состоят из занудной консервативно-партийной демагогии, неотличимой от речей Лигачева или передовых статей «Правды» десятилетней давности. Словно сидит внутри Горбачева чучело старого, малограмотного и косноязычного коммунистического сыча, набитого, как опилками, речами Суслова, Брежнева, Андропова, – сидит и вещает с трибун голосом Горбачева. И только тогда, когда этот сыч забудется, заснет или не найдет в своей пыльной башке опилки коммунистических цитат, только тогда неожиданно, в диком контрасте со всем остальным текстом, вдруг прорываются слова и мысли самого Горбачева. Живые слова и живые мысли…
– Остается еще один вопрос, – сказал по радио Горбачев. – О том, чтобы на воинов-«афганцев» распространить льготы, которые мы относим к участникам Великой Отечественной войны, и, в частности, по вопросам медикаментов и проезда на транспорте…
– Ну-ну! – нетерпеливо пригнулся к «Спидоле» водитель. Ему было лет тридцать, и он вполне мог служить в Афганистане. А старенький радиоприемник «Спидола» лежал перед ним на панели рулевого управления, привинченный к ней самодельными металлическими скобами.
– Прежде чем принимать решение, – продолжал Горбачев, – думаю, мы должны товарищам «афганцам», которые здесь выступили, сказать от имени Верховного Совета, что их постановка вопроса является правильной…
– Да не тяни резину! – сказал мой шофер. – Будут льготы или нет?
– Они выполняли свой долг, – сказал Горбачев. – Все, что им поручено было государством, они делали честно. Здесь нет предмета для дискуссий. Поэтому этот вопрос уже ясен…
– Еще бы! Конечно, ясен! – согласился шофер.
– Теперь вернемся к Закону, – сказал Горбачев. – Думаю, что в силу остроты и специфичности проблемы со льготами для воинов-«афганцев» мы поможем нашему правительству изыскать возможность включить в ее решение новые источники финансирования, чтобы с 1 января решить этот вопрос…
– Тьфу, ё-мое! – выругался шофер. – Вечно он так! Схватит за яйца и тянет! Ни то ни се… Вот ваша Вторая Кабельная. Какой вам номер дома?
– Где Кабельная? – спросил я, похолодев. Потому что и сам увидел табличку на угловом доме: «Вторая Кабельная». Но той, старой, Аниной Второй Кабельной улицы тут не было! Не было желтых послевоенных двухэтажных домов-коробок, окруженных старыми липами. На их месте стояли две башни-двенадцатиэтажки – точно такие, как на Бескудниковском бульваре. А рядом с ними, как раз на месте дома номер 28, в котором жила Анина мама, была пыльная пустота, обнесенная рыжим строительным забором.
– Ну? – нетерпеливо сказал шофер. – Вам какой дом-то?
Я вышел из машины и подошел к этому забору.
Сквозь его щели был виден глубокий и пыльный котлован. На дне котлована рабочие в касках возились у подъемного крана…
32
– У Андрея Сергеевича совещание, – сказала секретарша. Она сидела в просторной приемной, возле двери в кабинет Андрея Смирнова, нового первого секретаря Союза кинематографистов. И всем своим видом и тоном давала мне понять, что в кабинет Смирнова меня не пустит.
Но я сел в кресло у стены и поставил у ног свой чемодан с фильмом. Мне некуда было идти – только Смирнову я мог доверить сейчас свой фильм. Шестнадцать лет назад в тот самый болшевский коттедж, где я держал на веранде своих воронят, приехал сын Хрущева Сергей. Он приехал к Андрею Смирнову, моему соседу по коттеджу, и отдал ему на редактирование воспоминания своего отца – толстую, килограммов на восемь, рукопись. Тогда эти воспоминания существовали только в двух машинописных копиях и КГБ охотился за ними, как за секретом атомной бомбы. Конечно, гэбисты круглосуточно следили за Сергеем Хрущевым и назавтра, после его визита в Болшево, вызвали Смирнова на Лубянку. Но Андрей «и понятия не имел ни о каких мемуарах». А через месяц или два эти мемуары были опубликованы на Западе, в журнале «Таймс». Поэтому я считал кабинет Смирнова самым надежным местом для моего фильма и не собирался никуда уходить из этой приемной.
Секретарша посмотрела на мой чемодан, потом на меня. Вид у меня после поезда был далеко не свежий.
– Смирнов сегодня не принимает, – произнесла она сухо, недовольная моей наглостью. – Приемные дни – понедельник и четверг.
– Ничего, меня примет, – сказал я.
– А кто вы?
– Моя фамилия Плоткин. Вадим Плоткин.
Она переглянулась со второй секретаршей и референтом, которые сидели за своими столами. Но те только пожали плечами – для них моя фамилия тоже была пустым звуком. Секретарша повернулась ко мне:
– Совещание у Смирнова будет до двух, а потом Андрей Сергеевич сразу уедет на съемки.
Я мысленно усмехнулся. Ничего не меняется в датском королевстве! Вы можете заменить Сталина Хрущевым, Хрущева – Брежневым, а Брежнева – Андроповым или Горбачевым, но если в их приемной сидят две секретарши и референт, то для простого посетителя никакой смены власти не произошло. Потому что для простого посетителя именно вот эта секретарша – вся власть. Она может пропустить вас к Нему сию минуту или через час, а может не пропустить никогда. И – точка. Я думаю, что даже при Сталине власть его личного секретаря Поскребышева была ничуть не меньшей (если не большей!), чем сталинская. А затем, уже в наши дни, эта верховно-секретарская власть получила и легальный статус: главой Советского государства стал именно секретарь – Генеральный секретарь Коммунистической партии. И эта легализация секретарской власти интернациональна, в США звание секретаря носит третье лицо в правительстве – Secretary of State, а в ООН – первое, Генеральный секретарь ООН…
Я достал сигареты и вышел в коридор покурить и позвонить Ельцину по поводу интервью. Но чемодан оставил в приемной как знак того, что я не отступлю. Конечно, десять или пятнадцать лет назад я не был бы так нахален. Десять лет назад первым секретарем Союза кинематографистов был Лев Кулиджанов, член ЦК КПСС. За те годы, что я проработал в кино, я встречал Кулиджанова десятки раз, но ни разу не видел его глаз – он никогда не смотрел вам в глаза, а всегда проходил мимо хмурый и озабоченный «делами высокой государственной важности». Даже в болшевском Доме творчества, когда Кулиджанов шел по коридору в мужской туалет, у него было такое лицо, словно он спешит на доклад к Брежневу и его нельзя отвлекать от этой государственной сосредоточенности. А попасть к нему на прием – через тройной кордон секретарш и референтов – об этом нельзя было и помыслить!
Но теперь в кулиджановском кабинете в кресле первого секретаря Союза киношников сидел Андрюша Смирнов – мой бывший приятель и собутыльник по болшевским «оргиям», а главное, самый большой (после моего отца) антисоветчик и антикоммунист, какого я встречал в своей жизни. Плюс самый, на мой взгляд, русский интеллигент в настоящем, дореволюционном, понимании этого слова. В своем первом, еще студенческом, фильме Андрей за двадцать минут экранного времени сказал столько правды об Октябрьской революции и большевиках, что этот фильм тут же запретили. А его вторым фильмом был знаменитый в СССР «Белорусский вокзал» – суровая и трогательная история о пяти ветеранах второй мировой войны, которые после двадцати лет разлуки встречаются на кладбище, на похоронах своего фронтового друга, а затем проводят вместе целый день. И за этот день они снова превращаются в один взвод, спаянный мужской дружбой и ожившими воспоминаниями четырех лет войны.
Этот фильм пользовался в СССР поистине всенародным успехом. И Брежнев – наш «главный ветеран войны» – много раз смотрел эту ленту у себя на даче, каждый раз сентиментально плакал во время просмотра и велел показать картину на открытии очередного съезда КПСС, который как раз случился в то лето. Практически этот показ гарантировал авторам фильма если не Ленинскую, то Государственную премию СССР. И все шло именно к этому – представляя картину делегатам съезда, ведущий так и сказал:
– Дорогие товарищи! Специально к нашему съезду молодой кинорежиссер Андрей Смирнов сделал фильм о вас – о поколении ветеранов войны, которые принесли миру свободу от фашизма! Я уверен, что этот фильм ждет долгая жизнь и самая высокая оценка партии и народа! Предоставляю слово Андрею Смирнову.
Тут на сцену вышел 28-летний Смирнов. Перед ним в красных бархатных креслах нового и роскошного Кремлевского Дворца съездов сидела вся власть – все 2300 членов партийной элиты, от Брежнева и Андропова в ложах до министров и маршалов в партере и секретарей провинциальных обкомов в амфитеатре. 2300 человек, которых Андрей во время наших болшевских выпивок никогда не называл иначе, как «хунта». Потому что именно этой хунте в СССР принадлежит все: все леса, все заводы, все фабрики, все колхозы, все магазины, все города, все села, все школы, все газеты, вся армия, весь флот, вся авиация, все атомное оружие и все население страны – 250 миллионов человек! Плюс практически Польша, Чехословакия, ГДР, Болгария, Венгрия, Монголия и Куба. За всю историю человечества не было людей богаче и сильней, чем эти 2300 членов партийной хунты, которые сидели сейчас в зале перед 28-летним Андреем Смирновым и которых он ненавидел всеми фибрами своей души.
Он сказал:
– Только что ведущий допустил небольшую неточность, которую я должен исправить. Он сказал, что я сделал этот фильм специально к вашему съезду. Это неправда. Это ваш съезд случайно совпал с тем, что я закончил свой фильм. Вот, собственно, и все, что я могу вам сказать. А теперь – слово экрану.
И – ушел со сцены, похоронив своим дерзким выступлением не только Ленинскую, но и Государственную премию. А заодно получив себе во враги 2300 членов партийной элиты СССР.
А третьим фильмом Смирнова был фильм «Осень» – нечто вроде «Мужчины и женщины», только на советский или, точнее, на русский лад. Двое бывших влюбленных, надолго разлученных судьбой, случайно встречаются на улице, и прежняя, юношеская любовь вспыхивает между ними неожиданно, как летучая рыба выскакивает из морской глади. Бросив все – и семьи и работу, – они тут же садятся на поезд, уезжают в деревню и снимают там комнату с единственной целью – заниматься любовью. Послать к черту весь мир, все это бредовое построение коммунизма и заниматься любовью, только любовью и больше ничем – вот их идея фикс. Но будничная жизнь колхозной деревни лезет к ним сквозь закрытые двери и окна, а распад и деградация русской нации в глубинке страны потрясают их молодые души. Кажется, я до сих пор помню во всех деталях кульминационную сцену в фильме, когда герой – молодой русский интеллигент, копия самого Андрея Смирнова, – приходит в деревенскую пивную и видит перед собой лицо своего народа: пьяные, дебильные, мокрогубые лица алкоголиков со щелочками злых крестьянских глаз. От боли и полного бессилия изменить что-то в судьбе этого народа герой напивается вместе с ними до такого же скотского состояния…
Я не знаю, каким чудом этот фильм проскочил цензуру, но я хорошо помню, что министр кинематографии сказал Смирнову:
– Мы даем вам деньги не для того, чтобы вы делали такие фильмы!
– Это не ваши деньги, – ответил ему Смирнов.
Через год я повторю Павлашу эту смирновскую реплику, он поймет, что она стала крылатой, как пословица, и вышвырнет меня из кинематографа. И со Смирновым случилось то же самое: негласным приказом министра его лишили работы, и ни один кинотеатр не имел права демонстрировать его «Осень». А когда где-нибудь на задворках Москвы какой-нибудь фабричный клуб все-таки анонсировал один или два сеанса «Осени» (и вся студенческая Москва съезжалась туда, чтобы посмотреть картину), то за час до сеанса сюда являлись гэбисты, срывали афиши фильма и запрещали просмотр. Примерно через год у Смирнова кончились все сбережения. По уши в долгах, он слонялся по киностудиям, а приходя домой, где его ждали жена и двое детей, еще на лестнице говорил мне в сердцах:
– Черт возьми, опять этот запах бедности – запах жареной трески!
И так продолжалось не один год!..
В 1986 году, после провозглашения в СССР гласности, я листал в публичной библиотеке Торонто московскую молодежную газету и прочел в ней рассказ молодого журналиста о том, как он разыскал адрес когда-то знаменитого режиссера Андрея Смирнова, приехал по этому адресу и постучал в дверь. Ему открыл высокий худой мужчина с большой каштановой бородой и печально-усталыми глазами. «Что вам угодно?» – «Я хотел бы взять у вас интервью по поводу гласности и тех перемен, которые у нас происходят». – «Молодой человек, – сказал Смирнов, – неужели вы думаете, что эту систему можно изменить?» И закрыл дверь.
А буквально через несколько дней после этого разговора советские кинематографисты устроили первый в СССР бунт гласности, свергли Кулиджанова и всех других руководителей своего Союза, назначенных Кремлем, и выбрали в руководство киношников моего поколения, в том числе – Андрея Смирнова. И теперь я третий час сидел в его приемной и курил в коридоре, вспоминая наши выпивки в Болшево, разговоры о советской власти и многое другое, о чем я не мог сказать этим двум секретаршам и референту.
Правда, в начале третьего часа я углядел на столе у референта телефонную книгу Москвы и выпросил ее на несколько минут. Книга была прошлогодняя, но ни Муравиной А. П., то есть Ани, ни Муравиной В. А. – Аниной мамы – в ней не значилось. И вообще, среди двадцати шести Муравиных не было ни одной, проживающей по Второй Кабельной, 28. Я вздохнул. Анина мама либо умерла, либо переехала в квартиру без телефона. Причем первое, к сожалению, было более вероятно…
– Я думаю, вы зря ждете, – сказала мне секретарша Смирнова, поглядев на часы. – Андрей Сергеевич заказал машину, у него через пять минут съемка на «Мосфильме».
– А кто у него в кабинете?
– Секретари Союза.
– Кто именно?
– Виктор Мережко, Вадим Абдрашитов, Сергей Соловьев, Эдуард Акопов, – перечислила она моих давних приятелей.
Я отложил телефонную книгу, достал из кармана блокнот и написал:
«Андрей, я тут сижу в приемной уже три часа! В. Плоткин».
Сложив записку вчетверо, я протянул ее секретарше:
– Пожалуйста, отнесите ему.
Она с сомнением взяла записку. И только тот факт, что я упорно просидел тут три часа и, следовательно, не уйду, пока она не передаст записку, – это, я думаю, заставило ее нырнуть за высокую дубовую дверь, в кабинет Андрея. А через полминуты она уже широко открыла дверь и сказала мне с порога:
– Пожалуйста! Заходите.
Я поднял чемодан и вошел в кабинет. Теперь, когда я внес этот чемодан в кабинет Андрея, я уже мог не бояться КГБ.
Новые секретари Союза кинематографистов – те, с кем я когда-то учился во ВГИКе, пьянствовал в Болшево или без копейки денег шлялся по коридорам киностудий, – сидели тут за низким столиком и пили кофе. Мы обнялись. Андрей облапил меня с высоты своего роста и уколол бородой. На нем были застиранные джинсы и линялая майка.
– Садись, – сказал он. – Кофе будешь пить?
Я молча сдвинул со столика их пустые кофейные чашки, поставил на этот столик свой чемодан и стал открывать замки.
– Старик, мы тут не пьем! – испуганно сказал Смирнов, полагая, что я сейчас выставлю на стол бутылки водки или виски.
Я открыл чемодан. В нем лежали алюминиевые коробки с наклейками «Зима бесконечна».
– Фью-фить! – присвистнул кто-то из них, секретарей Союза. – Ну фуя себе! А мы тут гадали, что послать на Каннский фестиваль!
33
Конечно, в предыдущей главе я сделал большую ошибку. По всем законам драматургии, которым обучали нас в киноинституте, я не имею права обрывать на середине книги интригу со спасением фильма. Я обязан тянуть эту линию до конца романа, пройти со своим чемоданом через цепь смертельных приключений и только в последней главе выскользнуть из гэбэшной облавы и – полуживой и истекающий кровью – внести этот чемодан в кабинет Смирнова. А затем – хэппи-энд: Каннский кинофестиваль и прочая счастливая мура в духе голливудских сюжетов.
Думаю, что, когда эта рукопись попадет к издателю, обязательно найдется редактор, который посоветует мне «поработать над книгой именно в таком направлении». Но я заранее даю слово и себе и читателю немедленно послать этого редактора по широко известному в России адресу. Во-первых, потому, что во время моей поездки в Россию жизнь выдумала сюжеты куда интересней и талантливей, чем я мог бы их выдумать даже на берегу океана в Малибу. А во-вторых, мне кажется, читатель уже заметил, что эта книга совсем не про то, как я спасал в России чемодан со своим фильмом. Да, месяц назад, в Америке, я решился на эту поездку действительно ради того, чтобы отыскать мой старый фильм и с его помощью попасть на какой-нибудь фестиваль, как Аскольдов с его «Комиссаром», и оседлать судьбу. Но здесь, в России, что-то другое, более важное, случилось со мной неожиданно и без всяких усилий с моей стороны. И я уже знал, что это. Я нашел здесь – себя. Я понимаю, что это звучит патетично, но это так. Старый и закомплексованный эмигрант с Вашингтон Хайтс, выбитый с беговой дорожки семейным и литературным банкротством, вдохнул запах родного стойла и снова забил копытом, как молодой конь. И уже не Каннский фестиваль и не Пулитцеровская премия стали жизненно важными, а что-то совсем другое…
– Вадим, как я рад тебя видеть, елки-палки! – хлопнул меня по плечам Витя Мережко, все еще не веря тому, что мы снова увиделись в этой жизни.
Одиннадцать лет назад, после приказа Павлаша, выбросившего меня из кино, я пришел к Вите в его московскую квартиру, которую он купил на гонорар от своего пятого успешного фильма, и ему первому сказал, что собираюсь в эмиграцию. Помню, как Витя почернел лицом. «Старик, не делай этого – ты там не выживешь! Ведь тут твоя родина, у нас!» «Витя, – ответил я. – В том-то все и дело, что вот уже сорок лет моя родина – у вас! А я хочу, чтобы моя родина была у меня. Или хотя бы у моих детей…» Он налил водку в стаканы, и мы выпили с ним под борщ, который сварила его жена, Марина, но при этом он пил с таким лицом, словно только что сам, своими руками, опустил мой гроб в землю.
А теперь, через одиннадцать лет, я стоял перед ним, а он все хлопал меня по спине и плечам, проверяя, не призрак ли я и действительно ли выжил там, восстал из гроба.
– Е-мое, Вадим, как я рад тебя видеть! Поехали со мной!
– Витя, у меня дела. Мне нужно заехать к Семену…
– Да перестань! Я тебя не отпущу! Ты что?! Я тебя сто лет не видел!
– Ну хорошо, подожди, я хотя бы позвоню Ельцину и Гдляну!
Я позвонил Ельцину (десятый раз за это утро), но его телефон упорно не отвечал. Зато когда я набрал телефон Гдляна, там сразу сняли трубку и голос Гдляна сказал коротко и глухо:
– Да, я вас помню. Приезжайте в пять в следственную часть прокуратуры. Благовещенский переулок, 10. Я или Иванов вас встретим.
– Все? – нетерпеливо сказал Виктор, когда я положил трубку. – Значит так, старичок! Сейчас мы подскочим на съемку. Ты знаешь, что я веду «Кинопанораму»? Это самое популярное телешоу в стране! Заодно я возьму у тебя интервью, а потом мы поедем ко мне обедать! Марина просто обалдеет! А Машка, ты помнишь мою дочку Машу?
– Я ее купал, когда вы жили в Теплом Стане.
– Боже мой! Ну конечно! Ты приехал к нам на ту жуткую квартиру, когда Машка родилась и мы ее купали первый раз в ее жизни!
– Это было зимой. У вас не было телефона, а тебе нужно было звонить на студию. И мы с тобой пошли звонить, но во всем районе было только два телефона-автомата, и оба были разбиты…
– Ты знаешь, что моей Машке уже шестнадцать лет?
Мы вышли из Союза кинематографистов, сели в новенькую белую Витину «Самару», и я тут же заметил, что здесь, как и в машине Семена, нет зеркальца заднего обзора. Зато сзади, под стеклом, лежит милицейский жезл.
– Витя, – сказал я, – сколько у тебя фильмов?
– Тридцать шесть. А что?
– А сколько театров играют твои пьесы?
– Не знаю, честное слово!
– Ну, примерно?
– Ну, двести. Или больше. А что?
– И ты не можешь приклеить себе зеркало заднего обзора?
– Ах, вот ты о чем! А этот жезл видишь? Я должен выдавать себя за милиционера, чтобы у меня вообще эту машину не украли! А «дворники»? Каждый раз, когда уходишь от машины, нужно снимать «дворники» и прятать. Иначе уведут в минуту! В стране воровство и преступность – жуткие! И вообще, Вадя, ты не видишь, что вы натворили нам своей революцией?
Я посмотрел на него. Он безмятежно улыбался – это была шутка, типичная для русско-еврейских приятелей: мы, евреи, сделали им революцию! Но хотя мы с Витей были не просто приятели, а делили когда-то последний рубль, мне эта шутка не понравилась. Может быть, за эти годы я отвык от русских приятелей?
– Витя, – сказал я, когда он притормозил перед манифестацией крымских татар на площади Маяковского. Татары, которых Сталин, как месхов, в 1944 году выселил из Крыма в узбекскую пустыню, перегородили тут улицу Горького плакатами: «Прекратите сталинский геноцид», «Верните нам нашу землю!» – Витя, – сказал я, взявшись за дверную ручку. – Я, пожалуй, пойду. Мне вот сюда, в «Комету».
– Да потом, успеешь! – воскликнул Виктор. – Мы же одиннадцать лет не виделись! Ну хоть по стопарю мы должны выпить?
Против этого довода мне нечего было возразить. Стопарь – это в России святое. Хотя издательство «Комета», в котором работала Аня, было совсем рядом – за башней гостиницы «Пекин». Только вчера, в самолете, я клялся себе, что ринусь в эту «Комету», едва приеду в Москву. Но как легко, как быстро мы умеем находить предлог изменить своим клятвам и слинять от долга даже перед самим собой! За стопарь водки…
«Самара» медленно ехала сквозь толпу татар-манифестантов.
А я, повернувшись, все смотрел на длинное желтое здание «Кометы» – до тех пор, пока его не перекрыли цветочный ларек и концертный зал. Тут толпа манифестантов кончилась, Витя дал газ и машина рванула вниз по Горького. Но почти тут же затормозила – на Пушкинской.
– Неформальные газеты хочешь купить? – спросил Виктор.
– Еще бы!
Он прижался к тротуару. Рядом, справа от памятника Пушкину, у подземного перехода стояла толпа. Неформальные, то есть неподцензурные и неправительственные газеты были разложены на барьере и на раскладных стульях и столиках. Я, не читая и не спрашивая цены, собрал все – каждой по экземпляру, заплатил за все трешку и с пачкой газет нырнул снова в Витину машину. И только теперь увидел, что я купил «Еврейский вестник», «Экспресс-хронику», «Вестник Христианского Информационного центра», «Гражданский референдум», грузинскую газету «Наше дело», литовскую «Respublika» и… «Программу анархо-синдикалистов».
– Что? Что? – не поверил я своим глазам. – Анархо-синдикалисты? Опять, как в 17-м году?
34
А еще через десять минут мы попали на бал к Лаврентию Берия, знаменитому сталинскому палачу и шефу КГБ до 1953 года. Конечно, найдется читатель, который напомнит мне, что этот Берия был расстрелян в подвале штаба Московского военного округа буквально через несколько месяцев после смерти Сталина. Ну и что? И конечно, найдется редактор, который скажет, что эта книга и так перегружена почти невероятными ситуациями, ну куда еще бал Берия!
Но что я могу поделать с безумием нынешней реальности, господа?
Бал Лаврентия Павловича Берия, на который привез меня Виктор Мережко, происходил в бывшем графском особняке, а теперь Доме политического просвещения на улице имени Кирова, по которой, кстати, шла в центр толпа украинских униатов. Как и два дня назад на Арбате, они несли плакаты-воззвания к Горбачеву, ООН и почему-то к Маргарет Тэтчер с требованием легализовать их церковь.
Остановив свою «Самару», Виктор Мережко подождал, пока униаты обтекут нас с двух сторон, а потом подкатил к графскому особняку Политпросвета и въехал прямо на тротуар, к старинному подъезду с резной деревянной дверью. И тут мы сразу попали на бал к Лаврентию Берия.
Вы помните описание Великого бала сатаны Воланда в романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита»?
«Маргарита была в высоте, и из-под ног ее вниз уходила грандиозная лестница, крытая ковром…» Стоя в этой высоте, Маргарита слышит, как что-то грохнуло внизу, в громадном камине, и из него стали вываливаться полуистлевшие гробы, а из этих гробов – разложившиеся трупы, которые тут же превращались в нагих женщин и мужчин во фраках – «королей, герцогов, кавалеров, самоубийц, отравительниц, висельников и сводников, тюремщиков и шулеров, палачей, доносчиков, изменников, безумцев, сыщиков-растлителей».
Так вот, в Доме политического просвещения происходило то же самое, только без гробов. Река сталинских вельмож поднималась по изогнутой мраморной лестнице, крытой ковром. Палачи, доносчики, сыщики, растлители – многих я узнал в лицо. Вот Вячеслав Молотов. Он без жены. Сталин, как известно, отправил жену Молотова, актрису, в сибирский лагерь… Вот Ворошилов, Каганович, Буденный… Вот американский посол Джордж Кеннан… Вот Хрущев, Маленков, Булганин… А вот и сам Лаврентий Берия. Оживлен, стремителен, пенсне блестит, и глаза – по дамам. Правда, дамы на этом балу не нагие, как у Воланда, а одеты по моде пятидесятых годов – в длинные платья с подкладными плечиками. Но взгляд у Лаврентия Берия был раздевающим – он, как известно, любил молоденьких женщин… А вот еще какие-то лица, знакомые по портретам, которые висели в моей школе, но кто они – я уже не помню, да и музыка уносит от меня эти кружащиеся по залу пары.
Под лепным потолком звучит вальс, фрачные официанты разносят шампанское в бокалах, дамы с послевоенными прическами и губками сердечком кокетничают с западными дипломатами на лестничной площадке, а за их спинами – гигантское, во всю стену, панно «Ленин у телеграфа».
Наконец мы с Виктором проходим сквозь толпу и на самом верху широкой лестницы нас встречает истинный хозяин всего тут происходящего – высокий шестидесятилетний и тощий, как заядлый курильщик, кинорежиссер Владимир Наумов. Своей худобой и страдающим выражением лица он действительно похож на Воланда…
– Я снимаю сразу два фильма, параллельно, – сказал Наумов Виктору Мережко во время интервью для «Кинопанорамы». – Первый фильм называется «Десять лет без права переписки», а второй – «Закон». Сегодня мы снимаем «Закон», сцену бала для западных дипломатов в доме Берия. Берия давал такие балы часто, на них была вся московская элита. Мне удалось найти много живых свидетелей тех событий и даже посидеть минут сорок в подвале московской комендатуры, где Берия сидел до расстрела. Только на дачу Сталина меня не пустили, сказали – ремонт. Но я перелез через забор, осмотрел дачу снаружи. Никакого ремонта нет, от кого охраняют – неизвестно, но вот же – берегут!..
Я сижу сбоку от оператора «Кинопанорамы», бегло записываю в блокнот пикантные подробности рассказа Наумова для своей статьи в «Токио ридерз дайджест». И мысленно представляю, как он, 60-летний мэтр советского кино, профессор ВГИКа и неоднократный член жюри международных кинофестивалей, карабкается на высокий кирпичный забор сталинской дачи в Кунцево, потом спрыгивает вниз и, крадучись, чувствуя себя преступником или персонажем какого-нибудь шпионского фильма, движется к сталинской даче. Сталина нет там давно, с 1953 года, но страх, как биополе, окружает этот двухэтажный дом…
– Во время съемок сцены похорон Сталина, – продолжает Наумов, – мои кинодекораторы украсили все магазины на улице Горького вымпелами пятидесятых годов, в том числе – вывеской «МЫЛО ТЭЖЭ». Но тут сквозь нашу массовку прорвалась толпа москвичей – думали, что в этом магазине действительно продают мыло…
В паузе, когда оператор перезаряжает камеру, я выхожу позвонить Ельцину. Но телефон, который дал мне Ельцин, по-прежнему молчит, и я набираю наконец номер Семена, извиняюсь, что не приехал на завтрак.
– Засранец! – говорит мне Семен и добавляет: – Имей в виду, на ужин тебя ждут Михаил и Лариса. Запиши адрес: Мосфильмовская, 220, квартира 6. Ты будешь?
– Буду после Гдляна! – говорю я и снова набираю номер Ельцина. Бесполезно!
А рядом, на широкой мраморной лестнице, стоят в ожидании съемок Берия, Маленков, Молотов и прочие «сталинские соколы», курят и едят бутерброды. А за окнами – Москва, поток униатов по улице Кирова, сидячая демонстрация месхов у Верховного Совета, манифестация крымских татар на Горького, плакаты «Долой сталинско-фашистскую систему!» возле Дома кино и диспут на тему «Что делать с коммунистами?» на Арбате. А еще дальше, за Москвой, – шахтерские забастовки в Воркуте, Кузбассе и Донбассе, антисемитские митинги «Памяти» в Ленинграде, молебен по убиенному царю в Свердловске, апрельский расстрел в Тбилиси и армяно-азербайджанская война в Нагорном Карабахе.
Как бывший киношник, я мысленно панорамирую по всему этому штормовому горизонту России и возвращаюсь взглядом сюда, на бал Берия, и уже не совсем понимаю, где кино, а где реальность. И честно говоря, этот кафкианский бал Берия посреди больной Москвы 1989 года кажется мне ближе к русским традициям, чем застенчивый и интеллигентный Гавриил Попов в роли лидера оппозиции русского парламента. Разве не соратники Сталина и Берия – живые, а не муляжные, как тут, на балу, – накачивают по ночам Москву войсками? И если сейчас из этого зала выйдут к тем войскам актеры, загримированные под Берия, Ворошилова, Молотова, и скажут: «Артиллеристы, Сталин дал приказ!..» – не ответит ли многомиллионная и живая еще армия тех сталинских соколов зычным «Ура!» и радостным кличем русских антисемитов: «Бей жидов, спасай Россию!»?
И тогда…
«Прихрамывая, Воланд остановился возле своего возвышения, и сейчас же Азазелло оказался перед ним с блюдом в руках, и на этом блюде Маргарита увидела отрезанную голову человека с выбитыми передними зубами…
– Михаил Александрович, – негромко обратился Воланд к голове, и тогда веки убитого приподнялись, и на мертвом лице Маргарита, содрогнувшись, увидела живые, полные мысли и страдания глаза. – Все сбылось, не правда ли? – продолжал Воланд, глядя в глаза головы…»
Конечно, вместо того чтобы цитировать роман «Мастер и Маргарита», я мог бы процитировать свой неопубликованный роман-предсказание и, листая страницы с описанием гражданской войны в России, спросить у своих западных издателей, которые отказались этот роман печатать: «Все сбылось, не правда ли?»
Тут, прервав мои фантазии, ко мне подошла ассистентка Виктора Мережко и сказала:
– Виктор Иванович просит вас в кадр.
35
В 16.00 я подошел к издательству «Комета». В руках у меня был большой букет свежих крымских роз, а в кармане – разрешение на эмиграцию и билет на самолет «Москва – Вена». На календаре было 26 августа 1978 года, я в последний раз мог поздравить Аню с днем рождения.
Помню, как я остановился на троллейбусной остановке, возле киоска «Соки – воды», выпил стакан газированной воды, потом прошел по Садовому еще двадцать шагов. Здесь, на стене длинного желтого дома, рядом с деревянной дверью висела квадратная светло-синяя вывеска «Издательство «Комета», орган ВЦСПС». Я опять остановился, трусливо набрал воздух в легкие и только после этого открыл высокую дверь. С того момента, как Аня уехала из квартиры Семена на Бескудниковском бульваре, прошло больше двух лет, и за эти два года мы не только не виделись, но даже не обменялись традиционными телеграммами в дни рождений. Но теперь, накануне отъезда из России навсегда, я не мог не проститься с ней. За дверью, на высоком, как в баре, табурете сидел старик в сером потертом пиджачке и с янтарным мундштуком в желтых прокуренных зубах.
– Вы до кого? – спросил он с украинским «до кого» вместе русского «к кому».
– К Муравиной Анне Павловне.
– Почекайте[10].
Он встал со стула, открыл обитую черным дерматином дверь и спросил у кого-то:
– Анна Павловна тута?
Ему что-то ответили, он повернулся ко мне и сказал:
– Проходьте. Она в конце коридора, направо.
Неся в руках пышные августовские розы, я пошел по коридору. Здесь царил дух, типичный для второразрядных издательств: пыльные ящики с книгами в коридоре, стенгазета «Прожектор» со старыми первомайскими призывами «Все на демонстрацию!» и «Да здравствует День защиты детей!», треск пишущих машинок из настежь открытых дверей. Конечно, при виде моего букета из этих дверей стали выскакивать машинистки и редакторши с жадным любопытством на лицах:
– Вы к кому?.. Ой, к Анне Павловне?.. Анна Павловна!!!
Аня выглянула из дальнего кабинета и посмотрела на меня издали, близоруко щурясь своими зелеными глазами поверх спущенных на нос очков. В руках у нее были свежие типографские оттиски.
А я, приближаясь к ней, вдруг обнаружил, что мои колени снова – в который раз! – стали ватными. Хотя Аня изменилась почти неузнаваемо: ей стало тридцать пять и во всей ее фигуре появилась дородность степенной женщины бальзаковского возраста.
Но, наверно, было в наших лицах – моем и ее – что-то такое, что заставило смолкнуть все пишмашинки издательства и замереть всех выскочивших в коридор любопытных машинисток и редакторш.
Я ощутил эту тишину плечами, спиной, корнями волос и сразу понял, что делаю что-то не то. Но у меня уже не было пути назад, я подошел к Ане и сказал негромко, деревянным голосом:
– С днем рождения. Я уезжаю, совсем. Я зашел пожелать всего наилучшего.
И протянул ей букет. Но она словно не видела его. Держа в руках типографские оттиски с немецким шрифтом, она спросила медленно, заторможенно:
– Совсем? Как это – сов… – И вдруг до нее дошло, я прочел это в ее глазах. И она воскликнула тихо, обмерев: – Туда?!
Я кивнул.
– Боже мой! – неслышно произнесла она одними губами. – Так вот почему…
Тут из соседнего кабинета, из двери с табличкой «ДИРЕКТОР», выглянула удивленная тишиной мужская фигура.
– Познакомьтесь, – все так же тихо сказала Аня. – Это мой муж.
Он вышел в коридор – высокий, худощавый, сорокалетний, с приятными серыми глазами и острой светло-курчавой бородкой. Во всем его облике было ощущение покоя, мягкой твердости и интеллекта. Протянув мне руку, он посмотрел мне в глаза с доверчивым любопытством и представился:
– Матвей.
– Очень приятно, – сказал я. – Вадим.
– О! – Он вопросительно повернулся к Ане, и она молча кивнула ему. – О! – повторил он. – Очень приятно! Я много слышал о вас от Аниной мамы. Вы же спасли зрение Филиппу, Аниному брату. Проходите ко мне, пожалуйста…
Тут он удивленно посмотрел на машинисток и редакторов, которые с откровенным любопытством торчали вдоль всего коридора. И в тот же миг их словно сдуло и пулеметный треск пишмашинок оглушил все здание.
Матвей улыбнулся и сказал:
– Ну, народ!.. Заходите, Вадим. Аня, возьми цветы!
Аня взяла у меня букет, но я остановился на пороге его кабинета.
– Вы знаете, я… Я должен идти! Дело в том, что я уезжаю. Совсем. И у меня абсолютно нет времени. Я просто заскочил на минуту поздравить Аню с днем рождения.
– Вы эмигрируете? В Израиль? – спросил спокойно Матвей.
– В Америку.
Он протянул мне руку:
– Спасибо… за цветы. И – счастливо!
Я наспех пожал его твердую руку – я понял, за что он сказал мне «спасибо».
– Пока! – улыбнулся я Ане.
Она заторможенно кивнула поверх букета.
Я повернулся и пошел по коридору. И оглянулся только в самом конце, перед дверью вахтера.
Они стояли рядом, друг подле друга. Он держал левую руку на ее плече, а правую поднял и, улыбнувшись, махнул мне прощальным жестом.
Я махнул им рукой и вышел в дерматиновую дверь.
36
В тот же вечер она нашла меня в ресторане Дома кино. Мы ужинали – Толстяк, Семен, Эд и Михаил, который прилетел из Свердловска, чтобы сказать мне «Good bye!» Мы пили водку и ели шашлыки по-карски, а Толстяк ел свое любимое мясо по-суворовски. Тогда, в 1978-м, в московских ресторанах еще было мясо, а у Толстяка еще были зубы. Мы рвали мясо крепкими зубами, и Толстяк делился со мной своим иностранным опытом: он только что впервые побывал за границей, в Японии. Там, в Токио, респектабельную делегацию советских кинематографистов поселили в роскошной гостинице, и Толстяку достался номер на 32-м этаже. Но летом в Токио жарко, а в комнате Толстяка не оказалось форточки. Он попробовал открыть окно, но оно оказалось наглухо завинчено какими-то хитрыми японскими винтами с круглыми и гладкими шляпками. Тогда он нажал кнопку, на которой был нарисован согнувшийся в поклоне японец и написано «Service» – одно из немногих английских слов, которые Толстяк понимал.
Через несколько секунд в номер постучали. Толстяк открыл дверь и знаками показал услужливому японцу, что нужно открыть окно. Японец низко поклонился. Толстяк тоже ему поклонился, и японец исчез. Еще через две минуты в номер опять постучали. Толстяк открыл. Теперь вместе с первым японцем был еще один. Оба поклонились Толстяку, а Толстяк, обливаясь потом, поклонился им настолько, насколько позволял его живот. Японцы что-то сказали и поклонились опять. Толстяк стал жестом показывать, что он хочет открыть окно, но без инструментов, одними руками, он не может отвернуть эти еб… винты. Японцы поклонились и исчезли.
А еще через три минуты пришли уже четыре японца – два предыдущих и два новых, в рабочих робах и с кислородным баллоном и ящиками, полными инструментов. Все четверо поклонились Толстяку. Толстяк, матерясь, поклонился им с высоты своего роста. Потом два японца слесаря постелили на пол и на подоконник широкую синтетическую подстилку и стали автогеном вырезать стальные болты из оконной рамы. А два гостиничных клерка следили за их работой. Наконец, минут через двадцать, слесари огнем и пневматическими зубилами срезали шляпки болтов и вытащили все окно и даже оконную раму. Но в номере стало еще жарче, потому что августовская жара в Токио хуже нью-йоркской. А японцы, поклонившись странному русскому гиганту, который пожелал жить без окна, унесли из его номера и окно, и оконную раму, и подстилку, в которую они аккуратно собрали всю бетонную пыль от своей работы.
Толстяк остался один, на 32-м этаже, в номере, где почти во всю наружную стену была просто дыра.
Страшась подойти к этой пропасти и задыхаясь от жары, Толстяк сел на кровать и заплакал. Тут пришел гид-переводчик, которого, видимо, на всякий случай послали к Толстяку администраторы отеля.
– Почему вы не хотите жить с окном? – спросил он.
– Мне жарко, – сказал Толстяк.
Гид-переводчик присел у низкого подоконника и покрутил какую-то еле заметную кнопку. И в ту же секунду из ребристо-гофрированной панели под подоконником хлынул мощный поток холодного кондиционированного воздуха…
Мы еще не успели отсмеяться, когда за моим плечом послышался Анин голос:
– Добрый вечер. Могу я сесть с вами?
На ней было темное открытое вечернее платье с живой крымской розой за поясом. И вообще она была так красива, как Анна Каренина и Мэрилин Монро, вместе взятые. Толстяк, Семен и Михаил разом вскочили, уступая ей свои стулья. Она села возле меня, я спросил удивленно:
– Как ты меня нашла?
– На такси, – сказала она спокойно. – Я заехала в три ресторана, это четвертый.
– Дом журналиста, ВТО… – стал перечислять Толстяк. – А какой третий?
– «Пекин», – сказала Аня. – Он любит утку по-пекински.
– Анечка, что вы будете есть? – спросил Михаил.
– Ничего, спасибо. Я прямо из-за стола. И вообще, мы с Вадей сейчас уходим. Вы не возражаете?
– Конечно, нет! – сказал все понимающий Семен.
– А я возражаю! – воскликнул Толстяк.
– И я, – поддержал его Михаил.
– Нет, действительно! – сказал Толстяк. – Почему такая красивая женщина забирает Вадима, когда я лучше его раз в двадцать! Во-первых, я толще…
– Лева, заткнись, – сказал Семен. И выжидательно посмотрел на меня. А я никак не мог понять, почему от Ани совершенно не пахнет спиртным. В ее день рождения! В одиннадцать вечера, когда она – по ее же словам – только что из-за стола.
– Что-нибудь случилось? – спросил я у нее негромко.
– Да, – сказала она.
– Что?
– Потом скажу. Пошли. Вставай.
Но я сидел. Она ушла со своего собственного дня рождения. Бросила мужа, гостей и помчалась по всей Москве искать меня. Но зачем все это? Зачем устраивать еще один водевиль или драму и ломать семейную жизнь? Ведь я все равно уезжаю.
Конечно, она прочла мои мысли – она знала меня слишком давно, чтобы не уметь читать на моем лице. И поэтому она пошла ва-банк.
– Ты можешь хоть раз в жизни выполнить мое желание? Не свое, а мое? Хотя бы сегодня! – сказала она и повернулась за поддержкой к Семену, Михаилу и Толстяку: – Ребята, сегодня у меня день рождения. Вы можете сказать этому идиоту, чтобы он оторвал наконец свою задницу от стула? Особенно если его просит единственная стоящая женщина в его е… жизни! Налейте мне водки в конце концов!
Начинается, подумал я. Но Аня тут же взяла себя в руки. Вращая тонкими пальцами ножку рюмки, она сказала, усмехнувшись:
– Вы знаете, почему он на мне не женился? Потому что я алкоголичка? Нет, конечно! Да и какая я алкоголичка?! У меня прекрасный муж, сыну восемь месяцев, работа… Вадя, ты знаешь, что у меня уже есть сын? – И, не ожидая моего ответа, продолжила: – И не потому, что я антисемитка, это тоже глупости. Мой муж – еврей! – И тут она всем корпусом повернулась ко мне: – Ты знаешь, почему ты на мне не женился, дурында? Потому что ты не умеешь брать. Ты не знаешь, что, когда ты берешь у людей – не воруешь, а берешь то, что они тебе сами дают, – ты их этим спасаешь. Скажи ему, ребе! – потребовала она у Семена. – Я права?
– Абсолютно! – подтвердил Семен, сын раввина.
– Спасибо… – устало сказала Аня. И подняла рюмку: – Ле хаим, евреи!
Они выпили, а я сидел, тупо глядя перед собой в белую скатерть стола. Все, что она сейчас сказала, было, наверно, правдой.
А она поставила пустую рюмку и повернулась ко мне:
– Мама хочет с тобой проститься. Я обещала привезти тебя.
– В одиннадцать вечера? – удивился я.
– Ничего. Она ждет. Утром она уезжает в отпуск.
37
Перед зданием «Литературной газеты» в Костянском переулке оглушающе гремели отбойные молотки. Рабочие вскрывали мостовую, грохот и пыль летели на несколько кварталов в округе. Я выскочил из такси возле ремонтного барьера, сквозь пулеметный треск отбойных молотков пробежал по разбитому асфальту, как по льдинам в ледоход, и нырнул в фойе «Литературной газеты». Здесь, как и во всех советских учреждениях, тоже торчал вахтенный охранник. Но на мне была бирка «INTERNATIONAL PRESS ASSOCIATION», и я беспрепятственно прошел к лифту.
И оказался в редакции газеты, которая тридцать лет назад опубликовала мою первую статью и в которой я потом печатался десятки раз.
Но сейчас у меня не было времени на сантименты, я поднялся лифтом на пятый этаж и толкнул дверь с табличкой «М. Ю. КНЯЗЕВА» – та самая Князева, с которой три дня назад я столкнулся в Доме кино на заседании оппозиции советского парламента. Двадцать лет назад мы с ней в обнимку ходили в редакционное кафе, а теперь ее секретарша встретила меня точно так, как секретарша Андрея Смирнова:
– Марина Юрьевна занята. Вы кто?
Я мысленно выругался сразу на двух языках – и по-русски, и по-английски. Черт возьми, все мои московские приятели обзавелись секретаршами, ассистентами и персональными кабинетами, а я как был бездомным в России, так и остался бездомным – даже в США при всех моих книгах на двенадцати языках! И возможно, дело тут не в режимах и социальных системах, а просто в моем е… характере.
Я назвал секретарше свою фамилию и тут же услыхал громкий крик из приоткрытой в кабинет двери:
– Вадим, заходи!
Я шагнул в кабинет. Марина Юрьевна действительно была занята – она варила кофе по-турецки на маленькой плитке в медной джезве. При этом она одновременно говорила по двум телефонам и кивком показала мне на кресло. Я сел, огляделся. Все стены – в книжных полках со словарями, справочниками, энциклопедиями и газетными подшивками, рабочий стол завален свежими типографскими оттисками и отпечатанными на машинке статьями. Сбоку от письменного стола, на низком столике, – пишмашинка «Олимпия». Все-таки примечательно, насколько отличается журналистская техника в разных странах, подумал я. Шесть лет назад несколько европейских издателей пригласили меня в Европу, это был рекламный тур для моих «Гэбэшных псов», и мы с Лизой побывали тогда в Голландии, Бельгии, Англии, Норвегии, Франции, ФРГ и Израиле. И уже тогда, давая интервью в модерновых редакционных офисах голландских, бельгийских и норвежских газет, я видел в них компьютерное оборудование, аналогичное американскому, то есть то, что нашим русским газетам и не снилось. А в Лондоне, этой всемирной Мекке литературы и журналистики, в редакциях «Таймс» и «Гардиан» журналисты сидели все в одном зале, в жуткой тесноте, и печатали свои статьи на допотопных механических «Ундервудах», про которые мы в СССР давно забыли. Таким образом, уровень технической оснащенности советской журналистики я бы расположил между американо-голландским и британским: хотя у советских журналистов нет компьютеров, но зато у них есть отдельные кабинеты. Как у Князевой.
Невольно прислушиваясь к ее телефонным разговорам, я понял, что на одной линии у нее Нью-Йорк, собкор «Литгазеты» по США, а на другой – Кремль, пресс-бюро во Дворце съездов. При этом с Нью-Йорком Марина говорила нормальным голосом, а при разговоре с Кремлем ей приходилось кричать, потому что слышимости почти не было.
То разговаривая, то крича, Марина одной рукой налила мне чашку кофе, потом ладонью прикрыла нью-йоркскую трубку и сказала:
– Извини, у нас сегодня бардак – мы же выходим по средам. – И снова в трубку: – Алло! Фотографию Миши Барышникова мы уже дали в прошлом номере. Но если б ты мог взять у него интервью… Он сказал недавно артистам своего театра, что ощущает потребность переоценки прожитого. Что он имел в виду? Попробуешь? Ну, пока. – И закричала во вторую трубку: – Алло! Алло! Кто сейчас выступает? Опять Горбачев?! Что-нибудь толковое? Я говорю: толковое что-нибудь? Ч-черт! – И она в сердцах брякнула трубку о телефон, сказала мне: – Ну, ты представляешь? Кремля не слышно! Дожили! Я не знаю, как он думает перестраивать страну, когда тут даже телефонные линии прогнили! Как ты живешь?
– Марина, – сказал я, – ты моя последняя надежда. Не могу дозвониться Ельцину. Он мне сам дал свой телефон и обещал интервью. Но я звоню вторые сутки – телефон молчит, как могила.
– Ельцина я тебе дать не могу, но могу дать Бочарова, – с ходу сказала Марина таким тоном, словно распределяла дефицит в сотой секции ГУМа.
– А кто такой Бочаров?
– Как?! Ты не знаешь?! – И она так изумленно округлила свои карие глазки, что я застеснялся своего невежества. – Ах да, ты приезжий! – тут же простила меня Марина, уже набирая номер телефона. – Бочаров сегодня большой человек! Директор крупнейшего треста, экономист, автор закона об аренде и правая рука Ельцина. – И в трубку: – Михаил Александрович? Это Князева из «Литгазеты». Тут у нас в гостях американский писатель Вадим Плоткин. Он из International Press Association и хочет взять интервью у вас и у Ельцина. Спасибо, завтра утром он будет. Пока. – И, положив трубку, сказала мне: – Завтра в 8.00 в гостинице «Москва», его номер 612. Запиши, чтобы ты не забыл: Бочаров Михаил Александрович. Может, там будет и Ельцин, но этого он не гарантирует. Кто еще тебе нужен?
Я усмехнулся:
– Спасибо, Мариша, ты волшебница! Но ту, кто мне нужен больше всех, ты, к сожалению, не знаешь. Ты когда-нибудь была в издательстве «Комета»?
– Нет, конечно! Это же ВЦСПС, профсоюзное стойло! – отмахнулась она презрительно. – А что? У тебя там дама сердца? Я тебе дам машину, езжай!
– Я могу и на такси. Но духу не хватает… – признался я.
– Глупости! – решительно отрезала Марина и сняла трубку внутреннего телефона: – Алло, Жанна? У тебя есть «Чайка»? Нет, «рафик» не годится! Мне нужна черная «Чайка» для представительства. Нет, ненадолго – только до издательства «Комета» и там подождать пятнадцать минут. Жанночка, клянусь, это очень важно! Да? Спасибо, дорогая! Я выписываю заявку…
Она положила трубку, быстро написала что-то на маленьком бланке-заявке и протянула мне:
– Бегом вниз, к диспетчеру. Получишь черную «Чайку». И советую тебе везти твою любовь только в ресторан Хаммеровского центра.
– Фея! – сказал я и поцеловал ее в щеку. – Можно еще один вопрос?
– Ну…
– Зачем тебе секретарша, если ты все делаешь сама?
38
Мне понадобилось проехать половину Садового кольца, чтобы понять всю пошлость того, что сейчас случится. После десяти с лишним лет разлуки приехать к любимой женщине в черном правительственном лимузине! Мудак! Когда-то, лет пятнадцать назад, киностудия «Мосфильм» сделала фильм о Королеве, создателе советской космонавтики. При этом авторы стыдливо опустили тот факт, что при Сталине Королев сидел в тюрьме, но зато роскошно показали, как он после десятилетней разлуки с женой приезжает к ней точно в такой же правительственной «Чайке» и по дороге прямо из машины разговаривает с министрами по радиотелефону. Это был финал и апофеоз фильма, но от этого хотелось блевать.
Не доезжая улицы Горького, я постучал шоферу и попросил остановиться. Он прижался к тротуару, я вышел и дальше пошел пешком. В 16.20 я был у «Кометы», а точнее – у того же киоска «Соки – воды», где я пил воду ровно одиннадцать лет назад. Но теперь этот киоск был не то кооперативным, не то частным – тут продавали не воду, а только соки и кофе. И волнуясь точно так, как одиннадцать лет назад – нет! даже больше! – я, перед тем как открыть дверь издательства, отстоял пару минут в очереди к киоску и выпил стакан своего любимого напитка из шиповника. «Черт возьми, – подумал я, – наконец-то я нашел что-то, чего нет в Америке, – напиток из шиповника!»
Конечно, продавщица дала мне его в том же граненом стакане, из которого до меня пили сотни прохожих. Но, как сказала мне наша гидша Оля, «Вадим, вы же наш человек!»
Вернув продавщице стакан, я подошел к «Комете», набрал полные легкие воздуха и толкнул дверь.
За дверью не оказалось никакого вахтера, а слева от его бывшего места не было дерматиновой двери. Там сразу начинался коридор, и почему-то он показался мне значительно короче, чем тогда, в 1978 году. И нигде не гремели пишмашинки, не звенели телефоны. Тихо. Я миновал несколько кабинетов, помня, что Анин кабинет – вон тот, в самом конце. Но на двери того кабинета была табличка «СЕРЕГИНА И. И.», а за дверью сидела пышная брюнетка лет тридцати и красила себе ногти.
– Вам кого? – спросила она.
– Муравину Анну Павловну.
– Кого-кого?
– Анну Павловну. Муравину.
– У нас таких нет.
– Да? – Я растерялся. – Это «Комета»?
– Конечно. – Она подула на крашеные ногти правой руки.
– А вы тут давно?
– Работаю? Три года… – И вдруг крикнула на весь коридор: – Женя-а-а!
– А-а? – отозвалось с другого конца.
– Ты у себя?
– Да!
– Идите к Усольцевой, – сказала мне брюнетка. – По коридору пятая дверь справа. Она тут старше всех. Вы из Америки или из Канады?
– Из Америки, – сказал я, вспомнив, что на лацкане моего пиджака все еще болтается бирка «INTERNATIONAL PRESS ASSOCIATION».
Усольцева, крашеная блондинка лет сорока, красила не ногти, а ресницы, поплевывая почти в пустую коробочку с польской тушью и глядя в карманное зеркальце. «Перестройка в действии», – подумал я про эту напряженную творческую работу всего коллектива издательства, но вслух сказал совершенно иное.
– Здравствуйте! – сказал я тем развязным тоном московского киношника, который в России всегда выручал меня в трудных ситуациях. – Подождите! Не надо мучиться! Меня как раз послали к вам из небесной базы косметики и парфюмерии! Прошу вас! – И я вытащил из своей заплечной сумки очередную трехдолларовую коробочку косметики.
– Так! Интересно! – улыбнулась Усольцева. – Садитесь. Чем могу быть полезна?
– В семьдесят восьмом году здесь работала Анна Павловна Муравина. Помогите найти, пожалуйста!
– Муравина? Анна Павловна? – Усольцева покачала головой. – Нет, не знаю. Вы уверены, что она здесь работала?
– Да. Вот в том кабинете. И тогда же здесь работал ее муж, он был директором, его звали Матвей. А фамилии я не знаю.
– Я здесь пять лет, но никакого Матвея и никакой Анны у нас нет и не было. – Усольцева сняла телефонную трубку, набрала номер на круглом диске. – Алло? Вика? Это Женя Усольцева из «Кометы». Ты не можешь посмотреть – у нас в семьдесят восьмом работала Муравина Анна Павловна? Что? А ты сама-то с какого там года? С восемьдесят четвертого? Черт! А у тебя есть кто-нибудь, кто до тебя работал? А директор по имени Матвей тут был? Ну, извини. Пока. – Она положила трубку и огорченно развела руками: – Это наш отдел кадров в ВЦСПС. Они держат архив только пять лет, а потом сжигают. У кого бы еще спросить? – И вдруг постучала кулаком в стенку за своим креслом: – Мила! Поди сюда! Мила-а!
– Иду! – донеслось из-за стенки, и спустя несколько секунд в двери возникла высокая шатенка с животом на исходе беременности. – Чиво? – сказала она, жуя пирог с капустой и держа под мышкой какой-то пакет.
– Ты кого-нибудь знаешь, кто тут в семьдесят восьмом работал? – спросила у нее Усольцева.
– Не-а. А чего? – сказала беременная.
– Да вот человек ищет Муравину Анну Павловну. Вроде она тут работала.
– Не знаю, – сказала беременная, скользнула по мне воловьими глазами и спросила Усольцеву: – Ты это… Ты масло на гречку будешь менять?
Через минуту я вышел из «Кометы», испытывая почти облегчение. Я выполнил долг перед своей совестью: я побывал везде, где мог найти Аню. И теперь она останется такой, какой она стояла тогда в двери болшевского коттеджа, – юной, в радужно-солнечном окоеме, с эскимо в руке. Она останется такой навсегда. В моей памяти.
39
В 17.00 я перешагнул порог следственной части Прокуратуры СССР. Конечно, сразу за парадной дверью тут было бюро пропусков. За окошком сидел младший лейтенант милиции. Рядом с милиционером прохаживался по вестибюлю круглолицый брюнет с темной бородкой, в поношенном сером костюме. Я назвался, и брюнет тут же сказал дежурному лейтенанту:
– Товарищ ко мне.
Через одиннадцать лет меня снова называли «товарищем». И где – в Прокуратуре СССР! Брюнет – ему было лет 35, не больше, – протянул мне руку:
– Николай Иванов.
– Так вот вы какой! – сказал я и с любопытством уставился на этого знаменитого в СССР следователя – соратника Тельмана Гдляна. А он провел меня в узкую кабину лифта, который медленно поднял нас на четвертый этаж. И тут же нам в лицо ударил жуткий, нокаутирующий запах ацетона и еще какой-то ядовитой гадости.
Иванов быстро открыл дверь лифта, сказал мне: «Прыгайте!» – и первым прыгнул из лифта через полосу влажно сверкающего лака на паркетном полу.
Зажав дыхание, я прыгнул за ним, и мы побежали в боковой коридор, нырнули в какой-то кабинет и захлопнули дверь. Я разжал горло и тут же поперхнулся едким запахом, закашлялся. А Иванов и Гдлян, которые сидели в кабинете, – ничего, спокойно дышали в этой «атмосфере».
– Хотите кофе? – сказал мне Иванов, и я понял, что это сейчас такая мода в Москве, научились у Запада угощать посетителей кофе.
– У нас, правда, растворимый, – извиняющимся тоном сказал Гдлян.
– «Мальборо»? – предложил я в ответ.
– Ваши американские сигареты очень слабые, – отказался Иванов.
– Как хотите. Но я не такой гордый, как вы. Ваш кофе меня устроит, – ответил я и огляделся.
Небольшой, в форме утюга, кабинет, два столика буквой «Т», три стула, два окна, на подоконнике электрический чайник и баночка с растворимым кофе. Стена за креслом Гдляна косая и вся – от пола до потолка – в деревянных дверцах. Позже, когда Гдлян открыл одну из них, я увидел, что за этими дверцами – ряд стальных сейфов. Не здесь ли хранятся следственные дела на кремлевскую верхушку и лично товарища Лигачева?
Тут Иванов поставил передо мной чашку кофе и вышел из кабинета. А я достал из кармана магнитофон и спросил:
– Можно, я включу?
– Ну зачем нам магнитофон? – усмехнулся Гдлян. – Лучше, чтобы о нашей беседе знали только мы и майор, который сейчас нас слушает.
Я не стал уточнять, шутка это или нет.
– О’кей, – сказал я. – Тогда первый вопрос. Несколько месяцев назад вы публично обвинили Лигачева в получении взятки, но никаких доказательств не представили. Где эти доказательства?
– Вы не так формулируете. Мы сказали, что в материалах дела имеются данные о связях привлеченных к уголовной ответственности лиц с членом Политбюро Лигачевым и некоторыми другими.
– Хорошо, пусть так. Но где факты? Народ ждет.
– Факты мы должны представить суду, а не публике. Но у нас отняли дело и не дают расследовать его до конца. Сейчас мы боремся за то, чтобы это дело нам вернули. Но если станет ясно, что дело нам не вернут и не дадут закончить по всем правилам закона, – что ж, тогда мы пойдем на полную публикацию материалов следствия.
– А что было вчера на заседании комиссии Роя Медведева? Вы выиграли или проиграли?
– Пока они приняли компромиссное решение: служебное расследование, которое ведет против нас генеральный прокурор, – прекратить. Но дело нам не вернули.
– Значит, обвинения в незаконных методах ведения следствия сняты?
– Слушайте, ни один из журналистов, которые писали об этих «незаконных методах», не пришел к нам, не положил перед нами ни одного факта и не спросил с нас ответа! Они пишут по материалам, которые им подсовывают сверху. А с нами, с людьми, которых они обвиняют, встречаться боятся! Это называется честная журналистика периода гласности?
– Я не хочу комментировать, мое дело заокеанское – задавать «провокационные» вопросы. Читатели «Токио ридерз дайджест», куда я напишу об этой беседе, знают, что следователи Гдлян и Иванов обвинили Лигачева во взяточничестве, – про это писали все газеты мира. И всем интересно, что будет дальше. Если вам не возвращают дело, то когда вы собираетесь предать гласности материалы следствия?
Гдлян открыл нижний ящик своего стола и вытащил какую-то толстую – страниц под 300 – книгу в новеньком темно-синем переплете, протянул мне. Я открыл обложку, на титульном листе значилось:
Тельман Гдлян
Евгений Додолев
ПИРАМИДА-1
Издательство «Юридическая литература»
Москва, 1989.
– Что это? – спросил я.
– Это материалы нашего «узбекского» дела. Уже написана «Пирамида-2» – московская, и должна быть «Пирамида-3» – кремлевская. К сожалению, подарить вам книгу не могу. Это единственный экземпляр. Книгу запретили, весь набор рассыпали, издательство расторгает с нами договор.
Чувствуя, что я упускаю из рук сенсационный материал, я со вздохом отдал ему книгу.
Вошел Иванов, сказал Гдляну:
– Спецотдел спустил вниз, на проходную, приказ не пропускать никого без предварительной заявки.
Конечно, это относилось к моему визиту.
– Быстро работают, молодцы! – усмехнулся Гдлян, и я понял, что реплика Гдляна про «майора, который сейчас нас слушает» – вовсе не шутка. Гдлян и Иванов сидят тут, в Прокуратуре СССР, как в осаде: по приказу Лигачева Генеральный прокурор СССР отстранил их от всех дел и ведет против них служебное расследование, но уволить из прокуратуры не может, поскольку они оба – депутаты Верховного Совета и защищены депутатской неприкосновенностью.
Но если этот кабинет прослушивается, подумал я, то нет смысла добиваться от Гдляна подробностей про взяточничество Лигачева – ни Гдлян, ни Иванов не расколются. Я сменил тему разговора:
– Почему во время суда над Чурбановым фигурировали только взятки, которые он получил в Узбекистане? Разве ему не давали взяток в Грузии, Азербайджане, Литве? Я сам видел когда-то в Свердловске на ювелирной фабрике одно замечательное платиновое кольцо с бриллиантами. Секретарь свердловского обкома партии взял это кольцо из музея фабрики и отвез в подарок Галине Брежневой. А она по пьяни выбила из кольца бриллиантик и вернула на фабрику с разносным письмом.
– Может, приобщим его показания к делу? – усмехнулся Гдлян Иванову и сказал мне: – Вы сидите на том самом стуле, на котором сидела пьяная Галина Брежнева, когда я ее допрашивал. Жалко, я не знал тогда этого факта. У вас есть еще какие-нибудь факты такого рода?
– Боюсь, что все остальные вы знаете. Например, про ежегодные ювелирные выставки в Центральном театре Советской Армии. Это правда, что каждый раз после закрытия выставки все экспонаты забирают жены членов Политбюро и министров?
– Мы про это ничего не знаем…
– Да бросьте, Тельман Хоренович! – сказал я. – Не прикидывайтесь! Мне это рассказала одна эмигрантка, в прошлом директор ювелирной фабрики и многолетняя участница этих выставок. Выставки ювелирных изделий проходят в ЦТСА каждый год, осенью. Тридцать советских ювелирных фабрик привозят сюда образцы своей лучшей продукции, чтобы получить заказы иностранных фирм. А когда контракты подписаны и иностранцы разъезжаются, выставка закрывается и тут же приезжают жены членов Политбюро и министров и почти задаром, по символическим ценам, забирают себе эти бриллиантовые кулоны, платиновые ожерелья и прочее. А то вы не знаете об этом!
– Я вижу, у вас в эмиграции неплохие источники информации. Продолжайте, я слушаю.
Я усмехнулся:
– Тельман Хоренович, кто кому дает интервью?
И в этот момент раздался телефонный звонок. Гдлян снял трубку, послушал, протянул мне:
– Это вас.
– Меня? – изумился я, лихорадочно вспоминая, кто может знать, что я сейчас нахожусь у Гдляна. Впрочем, многие – ведь я сказал об этом визите Толстяку, Семену, Тане Колягиной…
– Господин Плоткин? – сказал в трубке мужской голос. – Добрый вечер, вас беспокоят с Центрального телевидения. Мы хотим взять у вас интервью для программы «Добрый вечер, Москва!» Если вы не возражаете, то через полчаса за вами приедет машина.
Кто откажется дать интервью московскому телевидению?
– Хорошо, – сказал я и положил трубку. – Предпоследний вопрос, Тельман Хоренович. Лигачев – соперник Горбачева, это всем известно, хотя сам Горбачев по этому поводу не высказывается. Но вот вы собрали на Лигачева компрометирующий материал, и, следовательно, это на руку Горбачеву. Почему же он вас не поддержал, почему разрешил КГБ отнять у вас дело? Тут мало логики или у вас шаткие доказательства.
– Мы были у Михаила Сергеевича. Он выслушал нас, но никак не прореагировал. Что это значит? На мой взгляд, это значит, что он находится под колпаком партийно-гэбэшной бюрократии и связан с нею по рукам и ногам. То есть он – на поверхности, на трибунах, но реальная власть по-прежнему принадлежит коррумпированной партократии. Вы понимаете?
– Вы хотите сказать, что его кабинет прослушивается неким майором точно так же, как ваш? И поэтому он не мог сказать вам: «Вперед, ребята!»? Так, что ли?
– Не знаю… – усмехнулся Гдлян. – В любой политической игре бывают жертвы. Но какую бы игру он ни вел, мы свою борьбу будем вести до конца!
Я понял, что это заявление уже не для меня, а для «майора, который сейчас нас слушает». И встал:
– Спасибо за беседу.
– Позвольте, а последний вопрос? – сказал Гдлян.
Я замялся. Задавать вслух свой последний вопрос, зная почти наверняка, что кабинет прослушивается сотрудниками КГБ, мне не хотелось. Я сказал:
– Последний вопрос простой. Не нальете ли вы мне чашку кофе?
– О, пожалуйста! – удивился Гдлян, обошел свой стол и стал наливать в чашку кипяток из чайника.
А я открыл свой блокнот и быстро написал на чистой странице:
«Тельман Хоренович! Личная просьба частного характера. Не могу найти в Москве свою бывшую любовь. Но, может быть, Вы запросите адресный стол? Муравина Анна Павловна, родилась 26 августа 1946 года. В 60-е годы была прописана по адресу: Вторая Кабельная, 28. Если это невозможно – порвите записку. И извините!»
Тут Гдлян подал мне чашку кофе, а я подвинул ему блокнот.
Он прочел, взял у меня авторучку и написал: «Позвоните мне завтра».
Затем вырвал из блокнота лист с моей записью, сложил его вчетверо и сунул в карман пиджака.
– Спасибо! – сказал я, ликуя, и положил на подоконник свои солнцезащитные очки. Уж если играть с «майором, который сейчас нас слушает», то до конца.
Гдлян усмехнулся и отвел глаза от этого подоконника.
Я стал прощаться – громко и церемонно. Затем, зажав нос и рот, спустился лифтом вниз, миновал проходную и вышел на улицу.
Пустой Благовещенский переулок горбясь уходил вверх, к улице Горького. Там, на углу улицы Горького, в вечернем сумраке одиноко стояла синяя милицейская машина с мигалкой на крыше.
Я сделал несколько шагов по мостовой и вдруг увидел, как эта синяя «Волга» тронулась и покатила прямо на меня. Неотвратимо! Сейчас он меня раздавит! – удивился я и с дикой, неожиданной для себя самого резвостью отпрянул на тротуар, за телефонную будку, – буквально в полуметре от бампера «Волги».
Это было как при рапиде – замедленной съемке, когда каждая доля секунды растягивается на минуты ужаса.
Передний бампер «Волги» прошел в миллиметре от моих ног, и шофер тут же свернул в подворотню и укатил в глубину между домами.
А я в изумлении стоял с раскрытым ртом и еще дрожащими коленями.
Что это было? Случайность? Предупреждение? «Майор, который сейчас нас слушает»?
Я не знаю…
40
Машина с надписью «Центральное телевидение» подвезла меня к зданию телецентра «Останкино». Здесь, у входа, уже стоял телеоператор – высокий, худой 25-летний парень с портативной телекамерой через плечо. Нырнув в машину, он протянул мне свою визитную карточку и сказал:
– Меня зовут Игорь Финковский. Ваше интервью – на две минуты. Но я хочу снять его в «живом» интерьере. Куда поедем? В Хаммеровский центр или в «Космос»?
Гостиница «Космос» была ближе – в двух минутах езды. По дороге Финковский уточнял, что я написал после «Кремлевских лис» и «Гэбэшных псов». Про себя Финковский сказал, что он снимал войну в Нагорном Карабахе, землетрясение в Армении, забастовку шахтеров в Донбассе. А на меня Игоря вывел мой друг Михаил, который работает на телевидении.
Тут мы подкатили к «Космосу». Поскольку на моем пиджаке все еще болталась бирка «INTERNATIONAL PRESS ASSOCIATION», мы беспрепятственно прошли в гостиницу мимо бдительных швейцаров.
– Сначала я сниму вас на фоне толпы. Вы выходите из лифта и проходите через фойе, – сказал мне Финковский. – Так… А теперь вы звоните по телефону… Теперь у игральных автоматов…
Я сунул в игральные автоматы советские монеты, но они отказывались играть за советские деньги, за что я обругал их по-английски.
– А теперь интервью, – сказал Финковский. – Сядьте здесь. Прошу отвечать коротко, помните – на интервью всего две минуты! Первый вопрос: напомните нашим зрителям о себе.
Я коротко сказал о своих фильмах, которые кое-кто из советских зрителей еще мог помнить.
Игорь высунулся из-за камеры с новым вопросом:
– Вы не были в Москве одиннадцать лет. Ваши первые впечатления? В двух словах: что такое Москва сегодня?
– Политический Бейрут. Я чувствую себя как на арабских территориях в Израиле – те же разбитые дороги, жуткое количество армейских грузовиков на улице и ощущение, что вот-вот начнут стрелять. Это – с одной стороны. А с другой – эйфория гласности, все говорят все, что хотят, на Пушкинской площади я купил даже программу анархистов. Такое впечатление, что я попал в август семнадцатого года!
Какие-то люди стали подходить к нам, слушать. Игорь сказал:
– На Западе вы написали несколько романов. Один из них предсказывает гражданскую войну в России. Как вы думаете, сбудутся ваши прогнозы?
– Я начал этот роман, когда Горбачев впервые произнес слово «гласность», а закончил два года назад, и у меня гражданская война назначена там на 1992 год. Но события в России опережают мои прогнозы. Гражданская война уже идет: народ воюет с режимом, режим применяет оружие против народа в Тбилиси. Сумгаит, Нагорный Карабах, Прибалтика, Донбасс – это все гражданская война, хотя еще не тотальная.
– Значит, по-вашему, всеобщая гражданская война у нас неизбежна?
– В романе у меня иначе ничего не получалось. Понимаете, когда начинаешь писать, герои тащат вас за собой. И они завели меня в тот самый «русский бунт, бессмысленный и беспощадный», которого боялся еще Пушкин. Но, ей-богу, я не хочу для России ни новой гражданской войны, ни новой революции. Потому что во время революции к власти приходят экстремисты. Так было при французской революции и при русской революции семнадцатого года – власть захватили крайние экстремисты – большевики. Что из этого вышло, вы знаете. Но теперь в Москве два события дают мне надежду, что, может быть, каким-то чудом этого нового жуткого переворота русской истории удастся избежать…
– Что вы имеете в виду?
– Меня поразила организованность шахтерских забастовок. И в первую очередь то, что там не пролилось ни капли крови. Понимаете, в моем романе тоже все начинается с забастовки. Правда, не в Донбассе, а на Урале. У меня там милиционер случайно убивает девочку, дочку рабочего, которая стоит в очереди за хлебом. И понеслось! Народ начинает громить милицию, райкомы партии, вешать коммунистов и милиционеров, захватывает радиостанции и объявляет о свержении коммунистического режима на Урале. Дальше вы понимаете: Кремль бросает на них войска спецназа, объявляет по всей стране военное положение. Ну и так далее… А здесь, в Донбассе и Кузбассе, бастующие шахтеры первым делом взяли охрану порядка в свои руки, закрыли винно-водочные магазины, не пролилось ни капли крови. Это меня поразило. А второе: пару дней назад, на Арбате, я слышал, как из толпы спросили оратора: «А что будем делать с коммунистами?» И оратор ответил: «А коммунистам объявим амнистию!» Понимаете, когда я писал роман, я этого не мог себе представить, чтобы народ уже сейчас, заранее, объявил амнистию партии, которая убивала этот народ семьдесят лет!
– Стоп! – сказал Юрий. – Замечательно! Теперь я хочу сменить интерьер. Для динамики. Идем в бар и там продолжим.
– Но у вас уже больше чем две минуты…
– Не важно! Это я так сказал, на всякий случай. Потому что многие эмигранты, когда дают нам интервью, начинают юлить и заигрывать с властью. Я думал, что вы будете делать то же самое. Вас не поражает, что вы говорите все это – в Москве?
– Еще как поражает! Я сам не знаю, с чего я вдруг стал такой смелый. Я смертельно боялся ехать в Россию, и вообще я человек тихий. А тут как с цепи сорвался…
Мы спустились вниз, в тот самый валютный бар, где я два дня назад танцевал с Марией. Бар был еще закрыт, у двери стоял швейцар. Игорь показал ему свое удостоверение телеоператора и сказал, что хочет снять меня в баре. Нас пропустили. Я подошел к стойке и заказал бармену рюмку водки. Игорь нацелил на меня камеру, спросил:
– Так все-таки, какие у вас, как у писателя, ощущения и прогнозы. Что нас ждет в будущем?
– Ой! – сказал я. – Мои прогнозы, не дай Бог, чтоб сбылись! Я люблю эту страну – я прожил здесь сорок лет! И я любил русских женщин, очень любил, поверьте! И я знаю Россию – мне было 25 лет, когда я пешком прошел вдоль всей Волги. А потом, как киношник и журналист, я объездил ее всю – от Заполярья до Средней Азии. Так что поверьте: я желаю этой стране только добра! Но, к сожалению, прогнозы у меня мрачные. Коррумпированный строй не может сам себя ликвидировать или добровольно уйти в отставку. Силы, которые заинтересованы в сохранении системы, могут спровоцировать следующую рабочую забастовку на кровь. И тогда, как в моем романе, вмешается армия и начнется не просто политический Карабах, который уже частично идет, а настоящий Ливан.
– Вы прожили на Западе десять лет. И вы говорите, что знаете наш народ. Скажите, чем отличается душа русского человека от души американца?
Тут я вскипел и, забыв свой ироничный тон, воскликнул:
– Знаете чем? Вот этой манией вашей и – в прошлом – моей: обязательно найти хоть что-то, в чем ты лучше другого народа! Да, русский народ прекрасен! Одно только то, что он готов амнистировать коммунистов, – уже выше всех ожиданий. Только, ради Бога, не ищите, в чем вы лучше других! Не надо кричать, что русский народ – богоносец и пример всему миру! Хватит! Русский народ прекрасен, но и другие народы не хуже! А то мы уезжаем на Запад с сознанием превосходства, а там смотрим на себя в зеркало и видим, что мы духовные калеки!
– А вы могли бы вернуться сюда? Я имею в виду – насовсем? – сказал Игорь.
Но я не успел ответить – издали, из глубины зала, от входной двери к нам бежали трое высоких и широкоплечих молодых гэбистов и еще один – пожилой и толстый.
– Прекратить снимать! – кричали они на бегу. – Немедленно прекратить!
Игорь повернулся к ним вместе с камерой.
Они набежали на него, окружили:
– Кто такой? Что вы тут снимаете?
Игорь показал им свое удостоверение оператора ТВ, не выпуская его из руки. Второй рукой он держал на бедре камеру.
– А где разрешение на съемку?
– Я спросил разрешение у швейцара, он нас пустил.
– Ничего он не спрашивал! – стал тут же нашептывать молодым пожилой и толстый, он был, наверно, администратором валютного бара. – Просто вошел и стал снимать вот этого американца. Без разрешения.
– Нас впустил швейцар, – сказал Игорь.
– Мы не про швейцара! Где официальное разрешение на съемку? – спросили гэбисты.
Они были удивительно похожи на того спортсмена, который отбил у пацанов-воришек сумку Мичико Катояма.
– У него камера включена, – снова зашептал им пожилой и толстый. Не только серые глазки, но даже угри на его мясистых щеках лоснились подхалимажем.
– Что?!! – заорали молодые гэбисты, увидев, что Игорь не выключил камеру и снимает ее с бедра. – Выключи камеру, падло! Выключи, а то сломаем! – И стали тянуть руки к камере, закрывая объектив.
Но Игорь уворачивался и не выключал камеру. Я восхитился: этот парень снимал резню в Нагорном Карабахе и катастрофу в Армении – его не так-то легко было заставить выключить камеру.
– Ах ты, гад!!! – Один из гэбистов схватил Игоря за руку, заломил ее за спину, а второй стал вырывать камеру.
Но Игорь сопротивлялся и выворачивался, говоря:
– Камеру не дам! Хоть убейте, не дам!
– Отдашь, сволочь!..
– Ребята! – вмешался я, с ужасом думая, что только этого конфликта с КГБ мне не хватало при моем нелегальном пребывании в Москве. – Ребята, ну что вы, ей-богу! Вы же с ним из одного поколения – вам по двадцать пять и ему столько же. Неужели опять, как в двадцатые годы, – брат на брата? Мало ваш народ потерял за эти семьдесят лет?
Но не столько эта идиотская проповедь, сколько мой чистый русский язык ошеломил их на мгновение, они выпустили Игоря, повернулись ко мне:
– А вы кто?
– Американский журналист. – Я ткнул пальцем в свою импортную бирку на лацкане пиджака. – Из международной ассоциации журналистов. Подумайте, что я напишу в свою газету? Зачем вам этот позор? Ну, нельзя снимать – мы уйдем. Мы же не знали…
– Пусть он выключит камеру! – сказали мне гэбисты и снова гаркнули Игорю: – Выключи камеру, ты!
– Не выключу! – упрямо сказал Игорь. – У нас демократия и гласность!
– Ах ты, сука! – Они схватили Игоря за плечи и пинками в спину вышвырнули из бара в вестибюль. А потом вернулись ко мне и сказали: – Нас не касается, что вы там напишете! У него нет разрешения на съемку, а он снимает!
– Но это же не военный объект, – сказал я примиренчески, с тайной мыслью дать Игорю время смыться из гостиницы и унести пленку с моим интервью подальше от КГБ.
– Не важно! У нас инструкция! Телевидение должно заранее прислать письмо, получить разрешение, а тогда снимай сколько хочешь!
– И вообще, это валютный бар, надо за вход платить десять долларов. А вы не заплатили, а заказали водку! – упрекнул меня толстый администратор.
– Ладно, – сказал я молодым, считая, что Игорь уже уехал и теперь пора и мне уносить ноги. – Я могу идти?
– Пожалуйста, мы вас не задерживаем.
Я пошел к выходу из бара, не веря, что спасся.
Но когда я вышел (а следом за мной – трое молодых гэбистов и пожилой администратор), я вдруг увидел Игоря. Он стоял напротив выхода из бара, держа включенную камеру, и выстрелил в меня вопросом:
– Господин Плоткин, как вы прокомментируете то, что сейчас произошло?
Я оглянулся. И за моей спиной, в пяти шагах, стояли три сотрудника госбезопасности – молодые, рослые, с развернутыми плечами. Наверняка те самые «новые молодые специалисты», которые, как сказал в АПН генерал Быков, «обновляют сейчас личный состав КГБ». Рядом с ними суетился толстый администратор бара. А прямо передо мной, на расстоянии одного метра, был объектив телекамеры, то есть вся советская аудитория. Интервью продолжалось!
И уже не думая ни о Шестом американском флоте, ни о камерах лефортовской тюряги, я вдруг с ужасом услышал, что говорю с улыбкой:
– Ох, что вам сказать? Теперь я вижу, что вернулся на родину. Силы, о которых мы с вами говорили, – вот они. – И я даже показал на гэбистов. – Вот такие ребята, по инструкции сверху, будут провоцировать следующую шахтерскую забастовку на кровь и беспорядки! Чтобы можно было ввести военное положение и установить новую диктатуру…
Господи, что тут началось!
Гэбисты, белые от бешенства, бросились опять к Игорю, стали рвать у него из рук камеру. А он, не выключая ее, снова бился в их железных руках, крича: «Не отдам! Убейте, не отдам!» А я причитал рядом:
– Да подождите! Подождите! Вы же сказали, что в баре нельзя снимать, а здесь же не бар! Смотрите, тут полно иностранцев, на вас смотрят! И вообще, он же не убегает, не бейте его!
– Никто его не бьет! – остыли они. – Что вы глупости говорите? Кто его бил? Мы просто выключили камеру, потому что у него нет разрешения на съемку! – И прокричали Игорю, который держал камеру, обняв ее руками, как ребенка: – Не включай камеру, ты! – И опять мне: – А у вас в стране что делают с теми, кто не подчиняется органам секьюрити?
– А вы кто, охрана гостиницы?
– Да, мы охрана гостиницы. Вот, смотрите. – Главный из них вытащил из-под ворота рубашки цепочку с биркой, на который было крупно напечатано «SECURITY (Безопасность)».
– Но если вы просто охрана, то в чем дело? Мы же ничего тут не ломаем, не хулиганим и никого не грабим, – сказал я.
– Мы не только секьюрити! – сказал он. – Мы работаем в тесном контакте с органами порядка. Вы! – Он повернулся к Игорю. – Пройдете с нами. Сами пойдете или силой вести?
– Сам пойду, – сказал Игорь.
– Только не бейте его там, ребята! – попросил я.
– Никто его не будет бить. Если хотите, можете пойти с нами.
– Нет уж, спасибо! Я опаздываю… – Я посмотрел на часы, было 22.30, и я только теперь вспомнил, что все мои друзья – Толстяк, Семен, Михаил и Лариса – ждут меня к ужину. – Но вы действительно не будете его бить? Игорь, позвонить на телевидение?
– Не будем мы его бить, можете звонить хоть сейчас! – сказал мне старший. И они увели Игоря куда-то в глубину вестибюля, в свой кабинет.
Я вышел из гостиницы, чувствуя, что меня трясет и что я совершаю предательство. Но если бы в их кабинете они проверили мои документы и выяснили, что я в Москве нелегально, Игорю было бы еще хуже. А так – ну, отнимут они у него пленку, черт с ним, с моим интервью! За то, что я говорил в телекамеру, Игорь не отвечает.
Сдерживаясь, чтоб не побежать, и оглядываясь, не «ведут» ли меня, я подошел к веренице такси, но на всякий случай сел не в первую машину, а в третью от конца.
– Куда? – спросил шофер.
– Поехали! Быстрей! В центр! Плачу втройне! Поехали!!!
Я еще не верил, что выскочил из ловушки. Позавчера меня избили случайные бандиты и арестовала милиция, два часа назад едва не задавила милицейская машина, а теперь чуть не утащили в КГБ. Скорей всего за всем этим еще нет единой направляющей руки, но события явно набирают скорость, и, конечно, не сегодня, так завтра рапорт из райотдела милиции о драке Плоткина у Савеловского вокзала, фонограмма беседы Плоткина с Гдляном и докладная об интервью того же Плоткина в валютном баре «Космоса» сойдутся на чьем-то столе. И тогда…
Черт возьми, на кой х… я продался этим японцам! Не нужны мне ни пять тысяч долларов, ни «Токио ридерз дайджест»!..
Между тем шофер гнал машину по темному проспекту Мира к центру Москвы, а я поминутно оглядывался – нет ли погони. По дороге я трижды приказал сменить направление – с площади Маяковского на площадь Восстания, потом – на Арбат, к ресторану «Прага». Но чем дальше мы уезжали от «Космоса», тем сильнее нарастал во мне страх. Потому что вот сейчас, в эту минуту или в следующую, молодые гэбисты «Космоса» спросят администратора гостиницы: «А в каком номере этот Плоткин живет?» И – все! Как только администратор скажет им, что я еще вчера улетел в Ленинград, они сразу усекут, что я в Москве нелегально. И конечно, тут же поднимут на ноги Московский угрозыск и свое гэбэшное управление по надзору за иностранцами.
Господи, куда же я от них денусь? Барух! Ата! Адонай!..
Шофер проехал к «Праге» какими-то темными переулками, я убедился, что никто пока не гонится за нами, и одновременно увидел в этих переулках темные туловища армейских грузовиков и бронетранспортеров. Наверно, это были те самые бронетранспортеры, которые везли в Москву ночью по железной дороге.
На Арбатской площади клубилась огромная толпа, и я вышел из такси, чтобы смешаться с публикой и замести следы на случай, если завтра КГБ будет допрашивать шофера, куда он меня отвез.
Несмотря на близкую ночь, Арбат был полон людьми, но совсем не как пьяцца Навона, нет! Машины, армейские грузовики, митингующие толпы и снова машины, солдаты в погонах и – почему-то – без погон. Слушая какие-то крики вокруг, обрывки речей и в то же время ничего не воспринимая от страха, а только оглядываясь через плечо, как неопытный шпион, уходящий от слежки, я петлял в этой арбатской толпе. Слежки не было. Я вышел из толпы, нашел свободное такси, сказал:
– На Юго-Запад. Мосфильмовские улицы.
Мы помчались на Юго-Запад. Проехав дом номер 220 по Первой Мосфильмовской и еще целый квартал дальше, я отпустил такси, вошел в подъезд и изнутри проследил, как шофер развернул такси и уехал. Только после этого я вышел из подъезда и по совершенно пустой ночной улице вернулся на полквартала, обошел с тыла несколько домов и наконец вошел в дом, где живут Михаил и Лариса. Постоял, прислушался – в подъезде было тихо, в лифте тоже. Только в моей тощей груди сердце стучало, как дятел в осеннем лесу. Но, кажется, я от них ушел. Во всяком случае – пока…
– Ерунда! Ничего этому оператору не будет! – сказал Михаил, когда я, залпом выпив стакан водки, рассказал, что со мной случилось.
– А вот на Арбате ты действительно мог попасть в историю, – сказал Семен. – Нашел куда ехать!
– А что такое?
– Ты слыссал, ссто недавно рэкетиры убили солдата-«афганца»? – сказал Толстяк. – Про это дассе в «Литгазете» писали. Так вот, сегодня все «афганцы» собрались и марссем поссли по Арбату, сстобы бить рэкетиров. Армия и милиция стояли там сспалерами, по всему проспекту. Слава Богу, обосслось без крови, а то бы ты как раз влип в самое пекло…
Семен и Толстяк сидели у Михаила с девяти вечера, смотрели телевизор и ждали меня. Я выпил с ними еще стакан водки на рябине и сказал Михаилу:
– Я обещал Игорю позвонить на телевидение. Давай позвоним. Программа «Добрый вечер, Москва!». Может, там кто-то еще есть. Пусть они его выручают.
Михаил снял трубку и набрал номер.
– Алло! Это «Добрый вечер, Москва!»? Я звоню по поводу Игоря Финковского, его арестовали в «Космосе»… Что? Это ты, Игорь? Ну вот, а тут за тебя волнуются! Передаю трубку.
Я с облегчением взял трубку:
– Игорь! Извини, что я удрал.
– Правильно сделали, – ответил Игорь.
– Они отняли пленку?
– Да вы что! Вся пленка у меня. Там сидел толковый начальник, майор КГБ, я написал ему задним числом просьбу разрешить съемку в гостинице, вот и все. Смотрите себя по телевизору завтра вечером. Пойдет весь кусок, целиком! Кстати, они спросили у меня, где вы живете, но я не знал. Вы в какой гостинице живете?
– Теперь это уже не важно, Игорь. Спокойной ночи! – Я положил трубку и изумленно повернулся к друзьям. – Ничего не понимаю! Они даже пленку у него не отняли!
– Я же тебе говорил! – усмехнулся Михаил. – Сейчас другие времена! КГБ не знает, за кого держаться, чтобы сохранить свою контору. Если они будут свирепствовать, как раньше, а завтра власть возьмут либералы, то их тут же распустят. Поэтому они сейчас между двумя силами.
– И ты думаешь, что по телевизору покажут все интервью? И то, как они ему руки выкручивали?
– Конечно! У нас сейчас и не такое показывают! И как милиция закрывает объективы руками, и как арестовывают телеоператоров…
– Ну и ну! – сказал я и оглядел стол на кухне, где мы сидели. Тут были масло, хлеб, соленые огурцы, винегрет и даже куриный суп, а у плиты стояла жена Михаила Лариса и консервным ножом открывала банку шпрот. Она была удивительно похожа на знаменитую советскую кинозвезду Людмилу Гурченко.
– Лариса, я не ем шпроты, – сказал я мельком.
Ее руки замерли над открытой банкой, а потом она повернулась ко мне со слезами на глазах и в голосе.
– Сволочь ты, Вадим! – сказала она. – Это же последняя банка шпрот во всей Москве! Я за нее три кило сахара отдала!
Я встал, подошел к ней и обнял за плечи.
– Ларочка, извини, пожалуйста!
А она вдруг уткнулась мне лицом в плечо и всхлипнула:
– Прости! Мы тут озверели совсем из-за этих продуктов…
– Детка, – сказал я ей. – Ты знаешь, зачем я приехал в Москву? Угадай!
– Найти свою Аню, – ответила она, вытирая слезы.
– Нет. Узнать у тебя секрет семейного счастья.
41
Это была моя пятая бессонная ночь в Москве. Хотя я проглотил таблетку снотворного и выпил почти пол-литра водки, сна не было ни в одном глазу. Ни сна, ни опьянения. Проворочавшись с час на диване, я встал, оделся и закурил у открытого в московскую ночь окна. Через несколько часов предстояла моя встреча с Бочаровым и, возможно, с Ельциным – встреча, которую мне сосватала Марина Князева. О чем говорить с ними? В этой стране все твердят о гражданской войне, но, кажется, только армия готовится к этой войне всерьез.
В темной гостинице громко тикали часы-ходики, а за окном по Мосфильмовской улице прошли поливальные машины. Дальше в черноте теплой августовской ночи я не то видел, не то угадывал памятью высокие дома Ломоносовского проспекта, Воробьевы горы и открывающуюся с них панораму ночной Москвы…
…Тогда была тоже теплая августовская ночь. Мы поехали на такси до Второй Кабельной, вышли у дома номер 28, поднялись по лестнице на второй этаж, и Аня своим ключом открыла квартиру номер 6. В квартире ярко горел свет, Аня крикнула в прихожей:
– Мама! Вот твой любимый Вадим!
Но никто не ответил.
Мы удивленно шагнули в гостиную. Там посреди комнаты стоял стол, накрытый накрахмаленной белой скатертью, на столе – ваза с цветами, бутылка шампанского, блюдо с пирожными «эклер» и высокие хрустальные бокалы. К шампанскому была приставлена записка:
«ДЕТИ, Я УШЛА НОЧЕВАТЬ К ПОДРУГЕ.
ЖЕЛАЮ ВАМ САМОЙ ЛУЧШЕЙ НОЧИ.
И ВАДИМУ СЧАСТЛИВОГО ПУТИ.
АНЕЧКА, ЕЩЕ РАЗ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
ПОСТЕЛЬНОЕ БЕЛЬЕ В КРОВАТИ СВЕЖЕЕ.
ОБНИМАЮ ВАС, МАМА».
Мы прочли записку и переглянулись. В глазах у Ани были испуг и вопрос. Мне кажется, то была первая в нашем романе ночь, когда мы любили друг друга. Не занимались сексом и даже не делали любовь, как говорят в Америке, а – любили. Под утро, лежа своей шелковой головой на моем плече, Аня сказала:
– Самое ужасное, что ты мне снился всю последнюю неделю. Как будто ты нищий и больной валяешься в Нью-Йорке на Бродвее. И когда ты пришел с цветами и сказал, что уезжаешь… у меня сердце упало.
Я молча гладил ее по голове. Мне хотелось плакать от жалости к самому себе. Почему-то и мне в те дни казалось, что в Америке со мной случится что-то ужасное. По ночам мне снилось, что я, безработный, вербуюсь на рубку сахарного тростника на Кубе. И там, на кубинских сахарных плантациях, сдыхая от ностальгии, слушаю московскую радиостанцию «Голос Родины»…
…Легкие шаги босых ног послышались у меня за спиной. Я оглянулся. Лариса – в одном халате – вышла из спальни, подошла ко мне и взяла сигарету из пачки, которая лежала на подоконнике.
– Ты что не спишь? – сказала она, прикуривая.
Я пожал плечами.
– Ты видел Анну? – спросила она.
– Я не могу ее найти.
– Может, она тоже уехала? Ведь ее муж еврей. Сейчас все бегут из этой страны.
Это было новым и неожиданным для меня поворотом – за все эти дни я ни разу не подумал, что ведь и Аня могла эмигрировать. Но если бы она эмигрировала, неужели бы не нашла меня, не дала знать, где она и что с ней?
– А вы не собираетесь? – сказал я Ларисе. – Твой муж тоже еврей. Он сказал, что у вас в почтовом ящике была листовка «Памяти» насчет погрома.
– Нет, мы не уедем. Ты же знаешь Михаила – он будет сидеть здесь до тех пор, пока они дают ему возможность держать в руках кинопленку. А все остальное ему просто до лампочки. Чаю согреть?
– Нет, спасибо…
– Уже светает.
– Да. Так что ты мне скажешь?
– О чем?
– О секрете семейного счастья.
– Да перестань, Вадим! – отмахнулась она.
– Ты знаешь, что я разошелся с женой?
– Да, Миша мне сказал. Сколько вы прожили?
– Много, Лара. В эмиграции семейную жизнь нужно считать, как в лагере строгого режима, – год за три.
– Я не знаю, что тебе сказать, Вадя. Ты ведь помнишь, что у нас было на Урале. Эта женщина, КГБ… Но… Наверное, я его просто люблю, вот и весь секрет! – Она нервно загасила свою сигарету и сказала: – Пошли чай пить! Расскажешь мне про дочку. У тебя есть ее фото?
Часть шестая
42
Все входы в гостиницу «Москва» были перекрыты милицией – в эти дни тут жили в основном депутаты Верховного Совета. Возле гостиничных подъездов стояли толпы избирателей с плакатами и петициями в руках, многие названивали депутатам из телефонов-автоматов:
– Я приехал из Костромы! Второй год продолжается безобразие с детскими садами…
– Мэня уволили за пэравду! Солиев моя фамилия, Мирза-Ахмед, из Таджикистана. Я всю жизнь разоблачал этих негодяев, как настоящий коммунист, а мэня уволили! И они пырадалжают бырат взятки!..
– Мы из Соликамска от имени всех женщин! Наш химкомбинат отравляет атмосферу, дети мрут в детских садах…
Михаил Бочаров, худощавый 48-летний мужчина с острыми глазами, быстрой умной улыбкой, с красным депутатским значком на пиджаке, встретил меня у входа и сказал постовому милиционеру:
– Это ко мне.
– Пожалуйста, – вежливо проговорил милиционер. – Только документики надо в книгу записать.
Я протянул водительские права штата Массачусетс.
– А по-русски у вас ничего нет? – спросил он.
– Нет, – сказал я и не удержался от иронии: – По-русски уже не держим. Но тут довольно ясно: «Р» это русское «П», «L» это «Л», «О» это «О» и так далее…
Старательно перерисовав мою фамилию в большую конторскую книгу, милиционер сказал:
– Проходите.
И вот я сижу на шестом этаже, в гостиной номера «люкс», где у Бочарова штаб-квартира, почти как у американского сенатора, – два помощника, стол для заседаний, постоянно трезвонящий телефон, а за окном видна утренняя Москва.
– В нашей региональной группе депутатов руководство коллективное: Сахаров, Афанасьев, Ельцин, Попов и Пальм. А я вхожу в координационный совет, в этом совете 20 человек… – сыплет краткими фразами Бочаров, и я почти физически чувствую, как он весь заряжен энергией на целый день работы. Сейчас, с утра, избыток этой энергии так и прет из него, как из Майкла Тайсона перед боем.
Но я тоже заряжен какой-то непонятной энергией, которая вот уже шесть суток носит меня по Москве без сна и отдыха. Я говорю:
– Насколько я знаю, вы один из авторов экономических программ и реформ перестройки. Поэтому я хотел бы обсудить с вами одну проблему, которая встала передо мной, когда я про вашу перестройку сочинял в США роман. Можно?
– У нас есть час. Можете обсуждать любые проблемы! – Бочаров чуть ли не подпрыгивал на стуле от нетерпения ринуться в бой.
– Хорошо. Так случилось, что при сталинском режиме довольно значительная часть русского народа была переселена в окраинные национальные республики. Принудительным способом, экономическими методами и так далее. В Эстонию, в Казахстан, в Среднюю Азию. Я внимательно слежу за советской прессой, но нигде не вижу – ни в левой печати, ни в правой, ни даже в программах «Памяти» – призыва к русскому народу вернуться к себе домой.
– Вы имеете в виду – вернуться из-за границы? – спросил Бочаров.
– Нет. Вернуться из-за границы – это сейчас, может быть, даже легче, чем из Латвии переехать на Рязанщину. Я имею в виду возвращение русских людей в Россию из Казахстана, из Эстонии, из Азербайджана. Как вы, русский человек, относитесь к этой проблеме? Вы за то, чтобы русские люди продолжали жить в нацреспубликах как колонизаторы и оккупанты? Или, если действительно возьмете власть в свои руки, вы постараетесь вернуть русский народ на родину?
– Во-первых, никто не собирается никакую власть ни в какие руки брать, начнем с этого! – отрезал Бочаров. – А что касается политической обстановки, то я сторонник отмены всех паспортов! Человек должен жить там, где он считает нужным. Если русскому человеку хорошо в Эстонии – пусть, ради Бога, живет в Эстонии. Если ему в Средней Азии хорошо – пусть там живет. В Вашингтоне? Пожалуйста, пусть живет в Вашингтоне! Это право человека – быть там, где он хочет.
Но я не сдался.
– Подождите, – сказал я, считая, что Бочаров либо не понимает, либо не хочет понять, о чем я говорю. – Одно дело, когда вы говорите человеку: ты свободен и живи, где хочешь. А другое дело, если вы посмотрите на пару лет вперед и увидите, что завтра русских людей там будут резать. В Азербайджане, в Казахстане, в Прибалтике. Вы, как народный депутат и член парламента, – вы за то, чтобы русские так и остались в Казахстане со своим свободным паспортом, который вы им дадите? Или вы будете помогать вернуться в родные места? У вас есть какая-нибудь экономическая программа на этот счет? Ведь можно без всяких затрат уже сейчас спасти тысячи людей. Например, если ваше правительство объявит: дети всех возвращенцев освобождаются от службы в армии! Только ради одного этого тысячи семей хлынут домой! А если вы еще дадите им льготные условия аренды земли, освободите от налогов лет на пять…
Ох уж эта наша еврейская манера лезть ко всем с советами! Практически я пытался внушить Бочарову ту программу спасения русских людей, которую не сумел осуществить в своем романе. Потому что там, в романе, хаос гражданской войны смял все реформистские планы автора. Но теперь, в гостинице «Москва», мне как бы представился редкий в жизни писателя случай – изменить ход событий, вернуться на машине времени назад и сказать: подождите! подумайте! сделайте что-нибудь! сегодня еще не поздно!
Но Бочаров сказал:
– Правительство и парламент должны принять такие законодательные акты, которые будут стимулировать экономическое оздоровление всей страны, и той же Рязанской, как вы сказали, области. В том числе освобождение от налогов. Это как в США. Например, в Аризоне плохо, а в Вашингтоне великолепно. Правительство штата и федеральное правительство создают такие условия, чтобы в Аризону ехали – независимо из какого штата и какой национальности. И человек едет! Не важно – это русский или эстонец. Это не играет никакой роли…
Я понял, что мы с ним говорим на разные темы, и в отчаянии сделал еще одну, последнюю, попытку:
– Если ваша межрегиональная группа станет влиятельной силой в парламенте, можно ли ожидать, что вы выдвинете экономическую программу возвращения русских людей к себе на родину с земель, где их называют оккупантами?
– Значит, я коротко могу вам сказать, – стремительно наклонился ко мне через стол Бочаров. – Я очень много занимаюсь экономикой и не просто буду сторонником этого возвращения, я сегодня готовлю серьезнейшие документы по созданию новой экономической структуры во всей стране. Буквально позавчера их рассматривали в ЦК по поручению Горбачева. Я был у него, он посмотрел внимательно все предложения и дал поручение своему аппарату изучить их. Что это за проект? Это создание народного концерна и выкуп государственной собственности, то есть это то, о чем вы говорите. Правда, некоторые обвиняют меня, будто я предлагаю чисто экономический путь развития. Но я далек от этого. Экономика не бывает капиталистической или социалистической, экономика – одна! Но то, что на Западе капитализм прошел за 50 лет, мы должны пройти за 10!
Тут я сдался и сменил тему. Точнее, зашел с другой стороны:
– А как вы относитесь к проблеме распада империи? Если республики захотят отделиться?
– Я категорически против! – вдруг выкрикнул Бочаров, резко меняя тон нашей мирной беседы. – И вы неправильно выразились – «распад империи»! Я категорически против распада не империи, а Советского Союза! Если взять за аналог Западную Европу, то сегодня Европа, наоборот, стремится к сближению. Создание единой денежной системы, попытки внедрить язык «эсперанто», общий рынок. Мы сегодня делаем с прибалтийскими республиками неимоверную глупость! Ту глупость, которая приведет республики сначала к разобщению, а потом мучительно поведет к созданию все-таки федерации! Потому что сегодня жить разобщенно – это республикам не принесет пользы!
– А что будет, если прибалтийские республики или одна из них захотят выйти из Союза и…
– Да не надо! – отмахнувшись, перебил меня Бочаров.
– …и войти в состав Европейского общего рынка? – все-таки закончил я.
– А я, например, сторонник того, что их надо сейчас выпустить! – вдруг заявил он. – Не надо их держать! Но при этом поставить условия: если они хотят выйти, то должны все выкупить, что мы вложили в Прибалтику. А то мы ввозили в Прибалтику слишком много, опустошив Рязань, между прочим! Они хотят выходить из Союза? Пожалуйста, выходите! Но на определенных условиях! Это как в моем проекте. Я создаю народный концерн – сто, двести или пятьсот предприятий, которые выкупают у государства средства производства и становятся владельцами. То же самое должна сделать и Прибалтика!
– А я читал в прибалтийской прессе их встречный счет Советскому государству. Сколько погибло людей в связи с репрессиями, сколько было выселено в Сибирь и разорено, сколько отравлено земель и рек…
– Минуточку! – снова вскричал Бочаров. – К кому ваши претензии? Или там прибалтийцы – к кому их претензии? К Сталину? Так Сталин – грузин! Почему я не могу предъявить эти же претензии к Сталину от имени России?! Раз всех казнил Сталин, грузин, тогда все претензии к Грузии?
– А почему прибалты должны что-то выкупать у Советского Союза, если их в этот Союз, мягко говоря, ввели насильно?
– А я вам скажу почему! Мы сделаем подсчеты, начиная с сорокового года: сколько мы вложили за это время в Прибалтику – это раз. Второе. У нас 15 республик, так? Значит, смотрим баланс страны, в том числе – распределение ресурсов и основных фондов, смотрим, что у нас 39 миллиардов долларов международного долга, смотрим что у нас дефицит государственного бюджета 150 миллиардов, распределяем пропорционально все это дело, смотрим вклад в конкретную республику за последние, скажем, десять лет и… Прибалтика, между прочим, не представила в правительство ни одного экономического документа! А то, что они там говорят, – это не соответствует действительности совершенно! На каком основании я им отдам, например, таллиннский порт, который мы там построили? Или заводы оборонного характера, которые там построило Министерство обороны и в которые вложены колоссальные деньги? Пусть выкупят! Пусть возьмут кредиты на Западе, выкупят все это дело и – будь здоров! А то мы за последние три года в Прибалтику ввозили в три раза больше, нежели в Россию! А почему это Россия должна быть… это… как ее… падчерицей? Вот мы и подсчитаем, какая на Эстонию придется часть нашего долга – скажем, один миллиард долларов. Хочешь выходить – плати и выходи! Я бизнесмен, я больше не политик!
В 9.00 я вышел от Бочарова. Я был в растерянности. Не потому, что спасителя России из меня не вышло, а потому, что подумал: если это и есть самые прогрессивные, левые, либеральные советские конгрессмены, то каковы же правые ортодоксы? Империя вот-вот развалится на части, а ему даже слово «империя» произнести страшно! В стране пахнет кровью с такой силой, что я этот запах учуял на американском континенте, а они собираются торговаться с народом по поводу стоимости заводов.
И вдруг… меня словно током ударило: черт возьми, а не потому ли все те два года, что я писал свой роман-предсказание, меня терзала по ночам черная кошка дурных предчувствий? Я писал о гражданской войне и крови…
– Извините, – остановил меня чей-то голос.
Я поднял глаза. Сорокалетний усатый мужчина – тот самый, который пялился на меня сначала в зале Дома кино, когда я встретил там Марину Князеву, а потом следил за мной в буфете, когда я ел бутерброд и запивал теплым абрикосовым соком, – стоял передо мной в гостиничном коридоре, загораживая дорогу.
– Разрешите представиться, – сказал он. – Моя фамилия Строев.
– Оч… оч… – начал я, мысленно ощущая холод стальных наручников на руках и понимая, что уж тут-то КГБ поймал меня с поличным: мало того, что я нелегально вернулся в Москву из Ленинграда, так еще и проник в гостиницу, где живут все депутаты советского парламента! – Очень приятно…
– По вашему лицу этого не скажешь, – улыбнулся усатый. – Но вы, наверно, не врубились. Я Олег Строев, бывший муж Лизы.
– О-о-о! – выдохнул я с таким облегчением, словно уже отсидел год в Лефортовской тюрьме и выпущен в обмен на какого-нибудь советского шпиона. – О… вы… вы, кажется, хоккеист?
– Был. Сто лет назад, – усмехнулся он. – Сейчас занимаюсь «деловыми играми». По заданию ельцинской группы мы просчитываем модели социальной реакции разных слоев населения на реформы экономики. Завтра с утра у нас заседание в Доме архитектора, приходите.
– Спасибо, я сегодня уезжаю в Ленинград.
– Жаль. А как там Лиза?
– Мы разошлись, – сказал я сухо.
– Я слышал. Но я имею в виду вообще? Как она? Она делает что-нибудь на сцене?
Я посмотрел ему в глаза. Когда-то этот русский мужик любил мою жену. Я никогда не спрашивал у нее, почему они разошлись, но, помнится, она говорила, что он ничем не интересовался, кроме хоккея, и она ушла от него. Но вот он бросил свой хоккей, стал не то социологом, не то экономистом и – я вижу по его глазам – продолжает любить Лизу, как я свою Аню. Но что я могу сказать ему – моему двойнику?
– Нет, – говорю я. – Она не играет на сцене.
– Понятно… – произнес он со вздохом. – Извините, что я вас задержал. Всего хорошего.
И он – мой странный двойник – протянул мне руку.
Я пожал эту руку, сказал:
– Счастливо.
Он пошел по коридору, но даже его спина укоряла меня в том, что Лиза не стала американской кино– или театральной звездой.
43
Я вышел из восточного подъезда гостиницы на площадь Революции. Звонить Гдляну было рано, и, чтобы убить время, я решил пройтись по Москве. Конечно, это надо было сделать в первый день, а не в последний. Но меня так закрутило в водовороте событий, что, кажется, только сейчас, на шестые сутки, я вынырнул в короткую паузу.
Было 9.15 утра, улицы уже палили августовским жаром. Я достал из кармана магнитофон и стал наговаривать все, что вижу. Просто так – себе на память.
«Проспект Маркса. Оглушительная новинка перестройки – платный кооперативный туалет. Заходишь, платишь двадцать копеек. Кафель на полу и на стенах. Старуха уборщица моет тряпкой пол и следит, чтобы все бросали деньги в тарелку. Рулон бумаги на весь туалет один – перед коридором кабин. Отрываешь себе кусок бумаги и идешь в кабинку. Если не хватит, придется за новой порцией бумаги выскакивать из кабины со спущенными штанами…»
«Всюду разбитые мостовые и какой-то всеобщий оглушающий ремонт: возле Большого и Малого театров, в гостинице «Метрополь», перед универмагом… Пыль, грохот, не слышу сам себя! «Метрополь» ремонтируют финны, хорошо бы всю страну отдать им на ремонт… В скверике за ЦУМом – гигантская очередь к совершенно пустым киоскам – ну, пятьсот человек! Подошел, спросил, за чем очередь? Ждут мужские рубашки. Иду дальше по улице. Вывеска на пустом киоске: «Джинсы индийские – 70 рублей». Тоже стоит гигантская очередь, ждут. Джинсов нет, продавщицы нет, очередь есть…»
«Иду в потоке прохожих по Столешникову переулку. Это самый центр Москвы, как Сорок седьмая улица в Нью-Йорке между Пятой и Шестой авеню. Но – жуткий ремонт, мостовая разворочена, грохот, пыль страшная. Черт, чуть не попал под машину! Душно, жарко! А вот прямо с лотка продают «пепси», 17 копеек стаканчик. Даже не с лотка, а с каких-то ящиков. И наливают не в бумажные одноразовые стаканчики, а в стеклянные, многоразового использования – те, от которых приходят в ужас американцы…»
«Иду в толпе через Пушкинскую улицу. Ой, толкнул женщину! Между прочим, толкнул и даже не извинился. Да она и не оглянулась. Тут все друг об друга толкаются, как рыбы в нерест… Пивной бар на углу, в подвале. На ступеньках вниз стоит знакомая очередь. С тех пор стоит, как я уехал…»
«Вышел из Столешникова переулка, подхожу к улице Горького. А вот знаменитый на всю Москву грузинский ресторан «Арагви»! Вах! На двери ресторана – эмблемы кредитных карточек! Да, это уже прогресс – наконец-то московские рестораны принимают «Визу», «Американ экспресс» и «Дайнер клаб»!..»
«Ресторан «Центральный» на улице Горького. Вывеска: «Ресторан высшей наценочной категории». Что это значит? Зайдем посмотрим. У пустой раздевалки стоит старичок гардеробщик. Подхожу.
– Скажите, а что это значит – «высшей наценочной категории»?
Голос гардеробщика:
– А это самый дорогой ресторан!
– Ага, понимаю. Но можно просто сказать: ресторан высшей категории. А что такое «наценочной»?
– А это еще пять процентов за культурное обслуживание.
Пытаюсь шутить:
– Ах вот оно что! Мало берете! Наверно, некультурно обслуживаете!
– А если без пяти процентов, так что – меня можно коленом толкать? – говорит гардеробщик.
– А с пятью процентами толкают?
– Не изменилось положение! Как было, так и есть! То была курица рубль пятьдесят, а сейчас она три с чем-то. За эти пять процентов повысили зарплату официантам.
– А вам?
– А я получаю гроши, а ведь несу материальную ответственность.
– За что? За вешалку?
– За норковую шубу, которая стоит 12 тысяч! Я принимаю ее, стою и дрожу. Мне платят 87 рублей в месяц. А шапка? Шапка стоит 1200 рублей. Он ее кладет и говорит: она из соболя, 1200 заплатил. А я же не скорняк! Из соболя она или из кошки – я вешаю и дрожу.
– А рэкетиры вас беспокоят?
– А я это слово не хочу даже понимать! Что значит рэкет? Мне семьдесят лет, я всю жизнь прожил, и никакого рэкета не было! Если человек совершил преступление, его сажали в тюрьму. А сейчас – рэкет! И я удивлен, почему и по телевизору, и в печати выступает министр – и все нет законов! Куда наши законы подевались? А? Я вас спрашиваю!
– Мне трудно сказать. Я приезжий.
– А новых законов не выпускают, тянут! Какие они будут – гуманные, негуманные?
– Понятно. Ну, спасибо вам…
– Нет, я от души говорю, как с человеком. Мне вчера жена говорит: вот по телевизору – там зверство, там убили, там рэкет. Почему же раньше такого не было? В чем дело? Что это за рэкетиры? Откуда?
– Ну, может, они раньше были, но их не показывали?
– Ну, раньше преступников находили, сажали в тюрьму и расстреливали, если они убийцы. И я удивлен, куда рэкетиры только деньги девают?!»
«Ладно, пошли дальше. У микрофона Вадим Плоткин, я веду прямой репортаж из столицы Советского Союза, города-героя Москвы. Только что вы прослушали интервью с гардеробщиком ресторана «высшей наценочной категории»! Продолжаю проход по улице Горького. Господи, а это что? Опять афиша «РЕТРОСПЕКТИВА: ДИНАСТИЯ РОМАНОВЫХ В КИНО, ТЕАТРЕ И ЖИВОПИСИ». И Лизин портрет в роли царицы из «Царской милости». Черт возьми! Я ушел от нее, я уехал от нее на другой континент и в другую эпоху! Но и здесь я всюду натыкаюсь то на ее бывшего мужа, то на ее глаза!..»
«Ой, пахнет хлебом! Знаменитая булочная на улице Горького. Что же тут есть? Заглянем на секунду. Боже мой, какая духота! Кондиционеров нигде нет, в каждый магазин входишь, как в парную. Ладно, вхожу, как ныряю. Очереди ко всем прилавкам, но не очень большие, человек по десять. Слева, в кафетерии, – круглые столики на высоких ножках, но стульев нет, ешь стоя. Кофе дают в стеклянном (многократного, значит, пользования) стакане, а булочку – на стеклянной тарелке. Стакан кофе со сгущенным молоком стоит 22 копейки. Сок гранатовый – 25 копеек. Подхожу к продавщице:
– Мне, пожалуйста, сок гранатовый!
Продавщица:
– В кассу платите!
– В кассу?! Ой, Боже мой! Там же очередь!
– Ладно давайте сюда!
– Спасибо!
Жду. Она наливает сок из банки в графин, а из графина в стакан. Подает мне.
– Спасибо большое!
Вежливый я в Москве. Как же – иностранец!
В отделе «Сладости – пряники» чудная юная продавщица с красными губками продает… что же она продает? Нет, не видно – очередь, не прорвешься к витрине. Ага! Прорвался! Кекс! А сколько стоит кекс?
– Рубль десять…
– А сколько эти пряники?
– Это не пряники, это овсяное печенье. А вы стояли в очереди?
– Мне ничего не надо! Я просто для памяти записываю все на магнитофон.
– А я ничего вам не говорю.
– Ну, вы так посмотрели, а я объяснил.
Иду в отдел «Хлеб». Хлеба до фига, вкусно пахнет, очереди нет никакой. Проходишь сквозь кассы, берешь себе хлеб с лотков (ну, без обертки, конечно!), платишь в кассу и выходишь. Ни оберточной бумаги, ни бумажных пакетов, ни пластиковых сумок. Но зато хлеб у нас в стране сегодня такой: пшеничный, ржаной, столичный, унженский, бородинский. И еще – булки, батоны и лепешки ржаные! Вот сколько хлеба! И никакой очереди! А этот мерзавец Плоткин в своем так называемом романе написал, что у нас в 1992 году будут очереди за хлебом! Клеветник и наемник ЦРУ! Надо почаще вызывать его в Москву и тыкать мордой в наши хлебные магазины!..»
«Выше магазина «Хлеб» – магазин «Березка». Ну, нет! Сюда я не зайду – духота страшная, и даже хлебом не пахнет, а только – потом и резиновой обувью. Хотя нет, все же зайду – что тут за очередь? Ага, это очередь за золотыми браслетами. А говорят, что люди плохо живут! А они стоят в очереди за золотом! Впрочем, инфляция, девальвация, а золото – оно надежней советской валюты… Так, пошли дальше, в следующий магазин. Тут галантерея, носки. Надо купить для Ханочки. Подхожу к прилавку:
– Скажите, а детские хлопчатобумажные колготки есть?
Голос продавщицы:
– Не бывает…
– А носочки детские? – В сторону: – Что-что, мамаша?
Женский голос со стороны:
– Иди, иди!
– А что? Я вам помешал?
Женский голос:
– Артист тут нашелся! Ходит с магнитофоном! Иди, иди, артист!
Вот и обозвали меня «артистом» за то, что говорю в микрофон. Женщина обозвала – в плаще, с кошелкой. Ладно, иду дальше».
«Елисеевский гастроном – самый знаменитый в России, открытый купцом Елисеевым еще за сто лет до октябрьского переворота. Когда-то этот магазин по количеству и качеству товаров конкурировал с самыми крупными торговыми фирмами Европы. От тех золотых времен теперь в магазине остались лишь поблекшая золоченая лепка на потолке и хрустальные люстры. А внизу – жуткая давка. Очередь, как питон, кольцами сжимает прилавок колбасного отдела. На витрине колбаса одного сорта – по 2 рубля 90 копеек за кило. Десятки толстенных и длиннющих батонов этой колбасы лежат на всех витринах, как снаряды «Катюши». А дальше, в глубину магазина, я не пойду, я не самоубийца, там задохнешься.
Иду налево, в мясной отдел. Странно – на витринах лежат куры «импортные», а никто не берет, очередь только за говяжьими почками.
Голос сбоку:
– Вы иностранец? Имейте в виду: у нас вся курятина и все яйца заражены вирусом. Поэтому никто кур не покупает, а яйца можно есть, только если варить их не меньше 20 минут.
– Но тогда ими лучше играть в гольф.
– Это уже ваше дело!»
«Пушкинская площадь. Вчера, проезжая тут с Витей Мережко, я купил программу анархо-синдикалистов и другие издания. Здесь гудела толпа. Но сейчас людей поменьше. Может, потому, что еще утро. На телефонной будке – обрывки сорванных листовок. А вот какая-то группа людей, человек десять, сейчас подойду…
Голоса:
– Я за депутатов болею, но они уже все за продуктовые наборы продались!
– Я вчера был на премьере политического кабаре. Так, как Карцев копирует Горбачева, – это надо посмотреть! Вот это надо посмотреть! Это бесподобно!
– Молитесь Богу, товарищи! Молитесь, хоть вы и атеисты!
– Да брось ты со своим Богом! Все перемелется…
– Нет, вы молитесь, чтобы Бог вас там принял, после смерти, чтобы царские врата перед вами открыл. На земле, кроме кислотных дождей, вы уже ничего не дождетесь…
Вдруг издали – отчаянно-громкий женский крик:
– Подходят! К ребятам! Бьют их! Подрабиннека бедного – уже не один раз! Ну за шо бить?! Ну если даже он газеты продает, зачем человека бить?! Просто бьют на глазах! Целая орда милиции налетает, бьют, ломают руки! Этого Сергеева тоже сколько раз!..
Бедно одетая маленькая женщина лет сорока подходит к нам, говорит возбужденно:
– Я видела! Меня уже всю перетрусило тут! Я говорю: я свое про детей тоже расклею, вот! Как моего ребенка работники КГБ тащили в одну машину, а меня в другую пихали – с психиатрами! Четырехлетнего ребенка, да, брали! И моя девочка попросила: мама, расклей мою фотографию. А ленинградский суд, который под нажимом КГБ написал, чтобы четырехлетнего ребенка положить в психбольницу?! И до сих пор они нас преследуют! Я знаю, что это такое! Я в своей квартире уже не могу жить – кэгэбисты и милиция приходят и вламываются в квартиру, работать не дают и вообще уже дошли до того, что детей малолетних преследуют! Малолетнего ребенка – в психбольницу! Уже Горбачев знает за нашу семью, а никаких сдвигов!
Голос:
– Надо подписи собрать…
Та же женщина:
– Нет, ну бить нельзя, понимаете?! Можно какое-то замечание сделать, газеты забрать, но зачем бить? Я посторонний человек, но мне жалко этого Подрабиннека! Я видела: Сергеева там бьют чуть не ногами! Ну разве органы власти могут так поступать?! Я сегодня депутатам буду говорить об этом!
Голос из телефонной будки:
– Никак не могу своему депутату дозвониться…
Подходит еще один мужчина:
– Фашисты бывают не только в коричневой форме, а бывают и в красной, и в зеленой! Вы меня поняли?
Женщина:
– Страшное дело, шо творится!
Мужской голос:
– Надо в «Московские новости» позвонить…
Подходит старик с рыжей бородой и шепотом говорит всей группе:
– «Московские новости» очень хорошо сработали. Я видел. Я стоял на той стороне улицы и видел, как из окна «Московских новостей» со второго этажа они все сфотографировали. Все – и как милиция била ребят с газетами, и как газеты у них отнимали. Отлично сработали журналисты. (Мне.) А это у вас что такое?
– А это магнитофон, это я для памяти записываю…
Старик:
– А вы откуда?
– Из Америки.
Старик, меняя тон:
– А я, знаете, просто смотрю, но никакого участия не принимаю.
– И я просто смотрю.
Старик уходит. Если я простою тут еще с час, то никакую пьесу сочинять не надо – даже лучший советский драматург Витя Мережко таких замечательных диалогов не напишет!
А вот и милиция – подъехали на машине, двое выскочили и тут же – к парню, который только что разложил на углу газеты на складном столике. Гонят его, но пока вежливо – не бьют…
Милиционер (в мою сторону):
– Вы записываете? Не надо!
– Почему?
Рев грузовика заглушает ответ милиционера, или он вообще не удостоил меня ответом. И я продолжаю:
– Парень собрал свои прокламации, лейтенант милиции говорит ему: «Уйдите отсюда», и парень спокойно собирает газеты и уходит. Я – тоже. Слава Богу, эта встреча с милицией обошлась без конфликта. Спрячу-ка я магнитофон и позвоню Гдляну. Тем более что он тут рядом, в двух кварталах вниз по Горького…»
44
– Тельман Хоренович, это Плоткин…
– Здравствуйте, – тут же перебил меня сухой и прокуренный голос Гдляна. – Вы забыли у нас очки. Можете зайти за ними.
– Спасибо!!!
Если у «майора, который слушает» телефонные разговоры Гдляна, есть прибор, показывающий высоту звука, то от моего ликующего «Спасибо!» стрелку этого прибора вынесло за верхнюю отметку. А через десять минут в проходной следственной части Прокуратуры СССР я уже держал в руках свои очки и короткую записку:
«МУРАВИНА АННА ПАВЛОВНА (рожд. 26 авг. 1946 г.)
ПО МУЖУ – ШИФРИНА.
Адрес: ЛОМОНОСОВСКИЙ ПРОСПЕКТ, 32, кв. 116.
Телефона нет. Желаю удачи».
Господи! Оказывается, Аня живет всего в нескольких кварталах от Мосфильмовской улицы! Этой ночью, глядя из окна квартиры Михаила и Ларисы, я среди темных ночных окон видел, наверно, и ее окно!
Нужно ли описывать, как я мчался в такси на Ломоносовский проспект? И как от волнения потели мои ладони, сжимая букет цветов – таких же крымских роз, как одиннадцать лет назад?
Только я был уже другой – седой и пятидесятилетний.
Хотя…
Кто вам это сказал?
Да, давным-давно, в другой, американской, жизни мне было пятьдесят лет, это правда. Я был седой, старый, с радикулитом и комплексом неполноценности из-за своего ужасного английского языка.
Но была ли эта американская жизнь, господа?
Ерунда! Не было! Мне снова сорок и даже не сорок – тридцать два! Дайте мне коня – я проскачу по московским улицам как джигит! Дайте мне русскую женщину, и, как говорил персонаж Бабеля, русская будет мною довольна!
Родина, проклятая любимая родина, что ты делаешь с нами, мать твою так! Зачем ты швыряешь нас за свои границы?
За дверью 116-й квартиры была тишина. Я стоял на лестничной площадке восьмого этажа, звонил и стучал в эту дверь, но никто не отвечал, и ни звука не было изнутри. Но я не унывал. Я ждал этого момента одиннадцать лет, я подожду еще пару часов, пока Аня придет с работы. Ветер задувает в выбитое лестничное окно и пылью посыпает мои крымские розы. Рядом с окном на стене выцарапано гвоздем: «Дима + Римма = любовь». Если я устану стоять, могу сесть тут на подоконник и ждать.
Вдруг сверху, с десятого, что ли, этажа дробно застучали по лестнице женские каблучки. Высокая, лет двенадцати, девчонка в джинсах и майке с надписью ADIDAS увидела меня под дверью 116-й квартиры, тормознула на бегу:
– Вы к Шифриным, что ли?
– Да.
– Так они же в Сочи, в отпуске. А вы откуда?
У меня плечи опустились. Прилететь из Америки, разыскать ее адрес и…
– А когда они вернутся?
– В конце августа, к школе. А вы откуда? – повторила девчонка. Своей тонкой фигуркой и интонациями голоса она напоминала мне кого-то, но я еще не знал кого.
– Издалека… – ответил я ей, а потом наткнулся взглядом на надпись на стене и спросил: – А ты, случайно, не Римма?
– Римма… – покраснела девчонка. – А вы, случайно, не из Израиля?
– Нет, из США.
– Жалко! А то мы завтра как раз эмигрируем, в Бер Шеве будем жить. Слышали про такое место?
– Я даже был там. Там физики живут. Твой папа физик?
– Ну да! Кацнельсон его фамилия. Может, слышали? О нас в «Нью-Йорк таймс» писали, мы шесть лет в отказе сидели.
Я кивнул на надпись на стене:
– А как же Дима? – И подумал: вот еще одна драма: Дима, Анин сын, влюблен в эту девочку, а она уезжает.
– Ну а что я могу сделать?!! – обозлилась девчонка. – Они нарочно увезли его в Сочи, как только мы получили разрешение на эмиграцию! Хотя это полный бред! Он все равно ко мне приедет! Ну подумайте сами: разве человек с фамилией Шифрин может жить в этой стране? Даже если он возьмет фамилию своей матери, антисемиты его все равно выявят!
В ее голосе было такое ожесточение, что я тут же вспомнил, на кого она была похожа – на юную еврейку, которая митинговала в Ленинграде на площади у Казанского собора – одна против толпы антисемитов.
– Значит, ты будешь ждать его в Бер Шеве? – спросил я.
– Ну… – Она пожала плечами. – Если он мне будет писать… Но дело не в этом! Они не понимают, что этот эксодус не от нас зависит! Это решение Бога! Он решил, что евреи должны уехать из этой страны, и еще семнадцать лет назад открыл нам границу. Но вы же знаете евреев – мы всегда спорим с Богом и торгуемся! Поэтому добровольно уехали только вы и еще сто тысяч. А два миллиона остались. Ну? Что Богу делать? Как выселить отсюда этих евреев в Израиль? Только погромами! Будет парочка погромов – все поедут! Вы понимаете?
Я смотрел на эту юную ребе в джинсах. Такой оригинальной теории мне не приходилось слышать.
– Знаешь что? – сказал я. – Возьми эти цветы. Это тебе от меня и от Димы. Я уверен, что он приедет в Бер Шеву.
– А вы ему кто? – спросила Римма.
– Я ему просто тезка. Он Дима, а я Вадим. Такое вот случайное совпадение. Держи цветы! Они как раз с юга, крымские розы. И – зай гезунт!
– Тода раба, – ответила она на иврите.
Боже мой, родина, что же ты делаешь??? Даже с детьми!!!
Часть седьмая
45
– Секрет семейного счастья? – Софья Максимовна Брауде прищурилась, затянулась сигаретой.
Странная шестидесятилетняя блондинка, мать двоих взрослых сыновей, бабушка троих внуков и начальник крупного эстонского строительного треста, Брауде оказалась моей соседкой по купе в скором поезде «Москва – Таллинн». Но в купе мы курить не хотели, вышли в коридор и до двух часов ночи у открытого окна обсуждали перспективы распада Советского Союза.
Поезд клацал колесами, как хороший рысак подковами. За окном убегала черная августовская ночь с далекими дымами химических заводов над темными лесами.
Москвичка и русская по рождению, Софья Максимовна в двадцать лет вышла замуж за эстонца слесаря, сорок лет прожила в небольшом эстонском городе Пярну и как бы олицетворяет дилемму, раздирающую сейчас всю советскую империю, – конфликт окраинных национальностей со «старшим русским братом». Еще с царских времен русские селятся в этих, теперь национальных, республиках и, обживая, русифицируют школы, газеты, радио, телевидение и весь язык административного общения сверху донизу. Но теперь, в 1989 году, вдруг оказалось, что люди ни одной из 104 национальностей, населяющих СССР, не желают этой русификации, даже эскимосы заполярного Таймыра требуют независимости и автономии.
Что же делать русским, которых в этих нерусских республиках уже 30 миллионов!
– Только одно, – твердо сказала мне Брауде, – учить язык страны, в которой живешь. Если вы поедете жить в Америку, вы что же – будете американцев заставлять говорить по-русски? Или если японец едет жить в Италию, разве итальянцы говорят с ним по-японски? Мы для эстонцев – японцы, так какого черта они должны учить наш язык, а не мы – их? А наши Иваны приезжают в Литву, Эстонию или там в Киргизию, занимают лучшие районы и начинают русским лаптем эстонский суп хлебать! И знать не хотят ни о какой культуре! А я, например, за полное отделение Эстонии от России! От этого нашему русскому Ивану со временем только лучше будет – или он из Эстонии к себе в Рязань уедет, родную землю из золы поднимать, или он останется в Эстонии и цивилизуется здесь на европейский манер…
Вот так мы замечательно дискутировали в ночном поезде «Москва – Таллинн», и я все жалел, что не могу включить магнитофон, а потом переслать эту пленку Бочарову, Горбачеву и Ельцину. Моя бы воля, я бы вообще выбрал эту Брауде в Верховный Совет.
Но одиннадцать лет назад советские власти за мои же 500 рублей избавили меня от советского гражданства, и теперь я, слава Богу, выбираю других депутатов в другие парламенты. Впрочем, Брауде, конечно, не подозревает об этом, я для нее – московский журналист-попутчик.
– Вы прожили с мужем сорок лет, и, насколько я понимаю, вы из тех женщин, которые лидируют в семье. А ваш муж этим доволен? Или он по характеру подкаблучник?
– Эстонский муж – подкаблучник?!! Да вы что?! – засмеялась она. – Нет, я дома только жена! А никакой не начальник треста и даже не главный инженер! Ведь у эстонцев характер – камень! Это же северные люди, викинги! Поэтому дома я – жена, и только.
– Все сорок лет?
– Абсолютно!
– И вы счастливы со своим мужем?
– О да! Я бы и сегодня за него замуж пошла, если хотите знать.
– Ну, тогда мне просто повезло: вы ответите мне на вопрос, который меня мучает уже десять лет. В чем секрет семейного счастья?
– Секрет семейного счастья? – Она прищурилась, затянулась сигаретой. – Знаете, а я ведь отвечу! Когда я выходила замуж, мать моего мужа, эстонка, позвала меня к себе и сказала: «Если ты хочешь, чтобы у тебя была крепкая семья, то запомни такие правила. Никогда не ходи по дому в халате. Утром встала – и тут же приведи себя в порядок – лицо, руки, волосы, все. И сразу оденься так, как нужно, чтобы никаких засаленных халатов! Это раз. Второе: жена должна где-то работать, чтобы муж знал, что она независима. И третье: жена должна быть днем хорошей хозяйкой, а ночью – б…». Извините за это слово, но это так! Я прожила с мужем сорок лет, и я знаю, что говорю. В семье все зависит от женщины. От хорошей жены муж не уходит даже поб…вать! Поэтому, когда мои сыновья женились, я каждую невестку звала к себе и тоже давала ей этот урок. И теперь они замечательно живут с моими сыновьями, и я у них самая любимая гостья!
…А поезд все цокал по рельсам, по темной ночной русской долине: «На Запад! На Запад!» И гудел протяжно и взволнованно, как жеребец в предчувствии весны и свободы.
Брауде ушла в купе спать, а я все стоял в пустом коридоре ночного поезда, курил и смотрел в открытое окно. Где-то там, в этих темных русских просторах, гуляют наши прошлые жизни, моя и Лизина. И какие-то люди носят нас в себе, смотрят нас в наших фильмах, называют своих детей нашими именами и разговаривают с нами во снах. А мы даже не знаем об этом, мы живем какой-то параллельной жизнью, как в Зазеркалье…
46
Трехлетняя Хана, нарядно одетая, торжественная и любопытная, стояла на стуле во главе праздничного стола. Лиза держала высокие свечи и от горящей спички в Ханиной ручке зажигала высокие свечи в большом серебряном подсвечнике. На Лизе были новое темно-синее платье и белая косынка, которая очень шла к ее большим черным глазам.
Я сидел по другую сторону стола, в белой рубашке и ермолке, и читал им ту самую брошюру «Шабат в еврейской жизни», которую написал когда-то для маленького еврейского издательства «Призыв».
– «…Зажигая субботние свечи, поднимая чашу с вином и отказываясь от любой работы в субботу, евреи тем самым веками, тысячелетиями отвергали свою зависимость от мира вещей, бедствий и рабства в очередном галуте. Шабат был днем полной свободы и способом устоять в любом принижении. Подумайте, разве можно сломить, уничтожить, поработить или обратить в другую веру народ, который постоянно, из недели в неделю, из года в год и из века в век каждый седьмой день празднует свою свободу! Даже у американцев, которые считают себя самыми свободными людьми в мире, есть в году только один День независимости. А у евреев – пятьдесят два!..»
Я перевернул несколько страниц.
– Так, теперь инструкции: «Заслонившись рукой от зажженных свечей, хозяйка дома произносит следующее благословение…» Повторяй, Лиза: «Благословен Ты, Предвечный Бог наш, Царь вселенной, освятивший нас своими заветами и заповедавший нам зажигать свечу святой Субботы…»
Лиза негромко повторяла, Хана смотрела на нас с восторгом и изумлением, для нее это была какая-то новая игра.
– Папа, а мне что говорить? – спросила она.
– Повторяй за мной Киддуш субботы. – Я стал читать с книги: – «И был вечер, и было утро… День шестой… И совершены были небо, земля и все их воинство… И совершил Бог к седьмому дню творение Свое, которое сделал, и почил в день седьмой от всего творения, которое сделал. И благословил Бог день седьмой и освятил его…» – Дальше, как повелела инструкция, я взял бокал с вином и продолжил над вином: – «Благословен ты, Господин Боже наш, Царь вселенной, сотворивший виноградный плод… Барух ата, Адонай Элохэйну, мэлэх Хаолам, борей пери хагофен…» – Следующую часть молитвы нужно было читать над хлебом, но я вдруг отложил брошюру и сказал: – Нет, не могу! Я не слышу это внутри себя…
– А что ты хочешь слышать, папа? – спросила Хана.
– Не порть ребенку праздник, – негромко сказала Лиза.
Я взял брошюру и стал читать дальше:
– «Благословен Ты, Господин Боже наш, Царь вселенной, производящий хлеб из земли. Барух ата, Адонай Элохэйну, мэлэх Хаолам…»
Но я знал, что читаю это в последний раз. Да, Лиза приготовила субботний ужин и даже надела косынку на голову, чтобы сыграть роль еврейской жены, хранительницы домашнего очага. Но я не мог участвовать в этом спектакле. Не мог, даже понимая, что с помощью этих суббот Лиза пытается склеить черепки нашей семейной жизни. Не мог, потому что с детства привык разговаривать со своим Богом тайно от всех, мысленно, пряча свою связь с Ним от школьных учителей, друзей и даже от родителей. Тот Бог, в которого я верил, был моим, личным и настолько интимным, что заговорить с ним вслух, да еще вот этими чужими словами, стало для меня абсолютно невозможно. Так же невозможно, как прилюдно заниматься любовью или писать книгу на глазах у всех.
Конечно, неизвестно, как долго хватило бы Лизы на то, чтобы играть роль еврейской жены. Но разве и моя немота в молитве не была признаком того, что я моральный калека? Такой же калека, как тот безногий русский инвалид на картине Максима в Нью-Йорке…
А теперь подумай, вдруг сказал я сам себе, если ты отверг Лизину попытку склеить семью, то, значит, не одна она виновата в вашем разводе! И вообще – отсюда, из России, как в перевернутом бинокле, все видится совсем не так, как в Массачуссетсе. Да, Лиза уходила от тебя, потому что ты дни и ночи сидел за своей пишущей машинкой. Но ведь и Анна, уходя, кричала тебе то же самое! Так чем ты лучше этого хоккеиста Строева, который тоже был занят только хоккеем? Стоп! Это же поразительно: именно тогда, когда Анна уходила от меня, Лиза с теми же словами уходила от своего хоккеиста! Значит, как я – двойник хоккеиста Строева, так Лиза – двойник моей Ани…
Это открытие поразило меня настолько, что я тут же закурил. Настоянный в лесах воздух врывался в окно и бил меня по лицу плотными, как полотно, порывами прохлады, поезд вспарывал ночь гудками, а я держался рукой за оконную раму и возбужденно думал: Господи, а что, если это вовсе не Лиза терзала меня по ночам пантерой и черной кошкой? Что, если это не ее ненависть облаком бродила по моей квартире? А вдруг это и вправду было просто моим предчувствием гражданской войны в России? Какой я писатель – талантливый или бездарный, – это покажет время, но каким бы я ни был – я днем писал кровавые бунты завтрашней России, а по ночам эта погромная Россия возвращалась в мои сны, в подсознание, и впивалась в горло и раздирала грудь…
А Лиза – разве не она приготовила тот субботний ужин? Разве не она зажигала субботние свечи? И разве не хотела она стать мне еврейской женой? Так, может, теперь, когда я что-то понял, когда из этой ночной России я вижу свою жизнь не так, как в бостонской и нью-йоркской духоте, – может быть, теперь нам попробовать еще раз? Ради Ханы, ради дочки попробовать склеить то, что мы разломали. Да, я знаю, что это будет непросто. Ведь все, что свело нас когда-то, сгорело во взаимной вражде. Но не я ли переписал когда-то из «Агады» в брошюру о субботе древнюю еврейскую притчу о чуде с горящим уксусом? Однажды, в канун субботы, сказано в «Агаде», уже в сумерках дочь одного раввина в слезах сказала отцу: «Папа, я сделала ужасную ошибку! Вместо масла я налила уксус в лампаду!» «Не беда, дочь моя, – ответил раввин. – Тот, кто маслу повелел гореть, прикажет гореть и уксусу». И лампада с уксусом горела весь субботний день.
Тот, кто повелел мне уехать из России и родить Хану от Лизы, разве он не может приказать и уксусу гореть в лампаде нашего семейного очага?
И в ночном вагоне у открытого окна я под грохот колес вдруг сказал негромко:
– Барух ата! Адонай Элохэйну!..
Голос мой был сух, я прокашлялся и неожиданно вспомнил продолжение молитвы:
– Мэлэх Хаолам! Борей пери хагофен…
И тогда, изумленный таким прозрением собственной памяти, я выставил в окно разгоряченное лицо и громко, с вызовом крикнул в русскую ночь:
– Барух ата! Адонай Элохэйну!!!
Паровозный гудок подхватил мою молитву и понес сквозь ночь. Но ни гудки, ни грохот колес уже не мешали мне молиться вслух. Я обрел голос и дерзко кричал России эти древние гортанные слова:
– Мэлэх Хаолам! Борей пери хагофен!..
47
А наутро был Таллинн, Эстония – совершенно другая страна!
Вы понимаете это сразу, с первой минуты. И не только потому, что свеже-солоноватый балтийский воздух на первом же вдохе освежает ваши легкие от московского смога. Нет, не в этом дело! Вы спускаетесь с платформы на брусчатку привокзальной площади, подходите к стоянке такси и видите, что навстречу вам из кабины такси тут же выходит шофер в белой рубашке и белых перчатках, берет ваш чемодан, ставит его в багажник. А потом, заняв свое место за рулем, вежливо говорит с мягким эстонским акцентом:
– Доброе утро. Куда вам?
И от одного этого «доброе утро», которое сегодня ни за какие деньги немыслимо услышать в Москве ни от одного шофера такси, вы сразу понимаете, что вы уже не в России. И что, слава Богу, вам уже не нужно унижаться, соблазнять этих таксистов двойной оплатой, сигаретами «Мальборо» и магнитофонными кассетами…
Было десять утра, я откинулся на сиденье и с удовольствием вдохнул свежий ветер. Я принял решение, я поговорил со своим Богом и теперь был спокоен.
Я ехал по Таллинну и, как подводник, вышедший на берег после опасного плавания, с острым любопытством глядел по сторонам. Боже мой, я узнаю эти узкие улицы, эту готическую архитектуру! Словно вчера, а не тридцать лет назад я по этим именно улицам шел в тяжелой солдатской шинели с погонами артиллериста, топал грубыми кирзовыми сапогами по брусчатой мостовой и слышал за своей спиной презрительное и враждебное «курат!» – «черт» по-эстонски.
Я служил тогда возле Таллинна, в артиллерийском полку № 20629. Рядом с нами стоял танковый полк, и оба эти полка были лишь малой частью дивизии имени маршала Ворошилова, а дивизия – малой частью войск Прибалтийского военного округа. Каждый месяц нас поднимали по ночной тревоге и гнали на полевые учения. Но это только название такое «полевые», а на самом деле наши танки и артиллерийские тягачи лихо, на полном ходу врубались в тихие и негустые эстонские леса, давили подлесок и крушили взрослые сосны и березы. После каждого такого учения на истерзанной гусеницами эстонской земле оставались, как после Сталинградской битвы, трупы мертвых деревьев, из которых еще сочилась белая кровь березы, ее сок…
Как же было эстонцам, чья земля занимает на карте мира площадь величиной с ноготок моей дочки, – как же эстонцам не называть нас «куратами»?
Но и мы, русские солдаты, именовали эстонцев «куратами». Наш полк на 90 процентов состоял из костромских и пензенских сельских парней с шестиклассным образованием, а остальные десять процентов были совершенно безграмотные пастухи-таджики, но, удивительное дело, и те и другие относились к эстонцам свысока и презрительно, как к низшей расе. Словно это какие-то упыри, нелюди, досадные дикари, которые только мешают нашей армии вольготно расположиться по всей земле. И такое отношение поощрялось и даже насаждалось нашим командованием. Помню, как за убийство пожилой эстонки, которая ночью случайно набрела на пост по охране нашего артиллерийского парка (в нем стояли гаубицы образца 1938 года – большой секрет!), доблестный солдат-убийца получил перед строем благодарность командира полка за бдительность и десять суток отпуска.
Десять суток отпуска! После этого все солдаты нашего и соседнего полка мечтали, чтобы ночью какой-нибудь «курат» напоролся на их пост. И, стоя на постах, стреляли без всякого предупреждения на любой шорох – по собакам, коровам…
Тридцать лет я не вспоминал об этом. Тридцать лет я не помнил тяжести солдатской шинели на плечах и того удушливого чувства, что эта шинель – твоя кожа, за которую тебя ненавидят и называют «куратом». Но оказалось – помню! Словно на брусчатке таллиннских улиц еще не стерлись следы от моих кованых солдатских сапог…
– О, Вадим! Где вы были?
– Наконец вы приехали!
– Добро пожаловать на борт!
Они окружили меня в вестибюле гостиницы «Виру», стали обнимать, хлопать по плечам.
– Ты хорошо провел время?
– Добро пожаловать в семью!
– Ты нашел интересный материал?
– Мистер Плоткин, спасибо за совет. Эти люди в Ленинградском историческом архиве так старались найти нужные нам документы!..
– А это правда, что вы встречались с Ельциным? – ревниво спросил Гораций Сэмсон.
– А как вы попали из Ленинграда назад в Москву?
– Поездом? Неужели? С обычными русскими пассажирами?
– Хотела бы я быть в этом поезде! – сказала Мичико Катояма.
– Знаете, Вадим, мы в Таллинн приехали тоже поездом. Но в отдельном вагоне. Без русских пассажиров. Русским не разрешили ехать в нашем вагоне!
– Только один гэбэшник был с нами все время!
– Разве это не смешно, Вадим? В нашем вагоне ехали только иностранцы – мы, американцы, и немцы из ФРГ. Но одному русскому в этот вагон разрешили войти. Так что мы сразу поняли, что он из КГБ. Верно?
– Верно, – сказал я, хотя, конечно, это мог быть просто «левый» пассажир, которого проводник посадил за деньги. Но как объяснить им, что такое «левый» пассажир? И вообще, мне было не до подробностей! Я вдруг почувствовал, что я действительно в своей семье, среди своих. Ощущение безопасности наполнило меня почти детской радостью. Словно я, как ребенок, один, без родителей, убежал в лес, видел волка и прочих лесных чудовищ и, натерпевшись страхов, выбежал из леса прямо к своей семье. И теперь, ликуя, готов целовать их всех – даже зануду Ариэла Вийски.
Эстония еще не вышла из СССР, но я уже чувствовал себя за советской границей.
Я думаю, что город Таллинн пребывал в точно таком же, как я, эйфорическом состоянии. Именно в те дни эстонцы готовились объявить о выходе из СССР, и город дышал предчувствием свободы, как мартовский лес дышит запахами весны. Августовские ливни атаковали город и улетали в море, а люди ходили по улицам без зонтов, с непокрытыми головами. Небольшие толпы митинговали на городских площадях, где-то в боковых улицах мелькали демонстрации, но не митинги и не плакаты с призывами к свободе определяли в эти дни характер города. А нечто уже решенное, определившееся, что было на лицах всех горожан и в наэлектризованной атмосфере города – что-то уже раскованное, уже освобожденное от рабства, уже – взлетающее. Так узник, вышедший из подземелья, пьянеет от солнечного света, так моряк, выйдя в море после долгой зимы, чувствует, как от морского воздуха в нем наливается силой каждый мускул…
Да, эстонцы еще не вышли из СССР, но они уже освободились от советской власти внутри себя и как вызов всей советской империи подняли над городской ратушей свой национальный флаг! И такие же голубые флаги они вывесили из каждого окна – в квартирах, магазинах, ресторанах. Они – первыми из 104 подневольных советских наций – решились на открытый вызов Кремлю, и от этой собственной смелости у них, я думаю, кружилась голова. Как у тех либеральных депутатов советского парламента, которые несколько дней назад впервые собрались в московском Доме кино, чтобы объявить себя первой советской парламентской оппозицией.
– Мы вводим эстонское гражданство. Его автоматически получают те, кто жил в Эстонии до советской оккупации, а также их дети и внуки. А те, кто приехал в Эстонию после 1940 года, имеют право на наше гражданство только через два года, если сдадут экзамен по эстонскому языку, – заявили нам на пресс-конференции эстонские журналисты.
– Но мы слышали, что русское население против этого. Что русские тут организовали свою партию «Интерфронт» и даже бастуют…
– «Интерфронт» поддерживают только 12 процентов русского населения. Но их первая забастовка застала нас врасплох, это правда. Они сорвали доставку хлеба в магазины, остановили движение автобусов. Но теперь к следующей их забастовке мы уже готовы: для водителей всех автобусов и трамваев есть эстонские водители-дублеры. И то же самое – для шоферов продовольственных и хлебных машин…
– А вы не боитесь, что у вас повторится Венгрия 1956 года?
– Эстония идет впереди освободительного движения Прибалтики. Но на нашей территории размещено примерно 200 тысяч русских солдат. А нас всего один миллион шестьсот тысяч. То есть на каждых восемь безоружных эстонцев, включая младенцев и стариков, приходится один русский солдат с автоматом и полным боевым комплектом. А про танки, самолеты и ракетную артиллерию мы уже не говорим…
– Но город бурлит. Что же будет, если завтра русские танки войдут в Таллинн? Народное восстание?
– Нет, восстания не будет. Все будет тихо. Мы подсчитали, им достаточно арестовать сто лидеров – и здесь все затихнет на какое-то время. Поймите, мы маленькая нация, и, как у любой маленькой нации, у нас обостренный инстинкт самосохранения. Мы не можем каждый раз бросать под танки треть населения. Мы пожертвуем собой – сто человек, мы даже сами составили список, кого они арестуют. Но сохраним нацию. И нация будет ждать следующего шанса. Ведь осталось недолго. Даже если завтра в Кремле сбросят Горбачева и власть захватит какая-нибудь хунта – ну, сколько они смогут еще продержать эту империю в узде? Ну, пять лет – от силы. А скорей всего – пять месяцев. А потом все равно все рассыплется…
– Вчера я брал интервью у Михаила Бочарова, это один из лидеров либеральной оппозиции в Верховном Совете. Но когда речь зашла о выходе Эстонии из СССР, он сказал: пусть они выкупят те заводы, которые мы там построили. Пусть все выкупят, а тогда – отделяются. Что вы думаете об этом? Вы будете откупаться от империи?
– А нам не нужны их заводы! Пусть они их забирают! Пусть вывезут, как они вывозили заводы из Германии в 1945 году. У нас воздух чище станет без этих заводов…
Стоп! Довольно стенограмм! Я хочу, чтобы в этой главе читателю дышалось так же легко, как мне в Таллинне. Потому что Москва, с ее смогом и духотой, с ее бесконечными про– и антигорбачевскими речами, с ее выражением полной безнадеги на дерюжных лицах прохожих, с ее мухами в каждой квартире и аварийными запасами мыла и стирального порошка в домашних туалетах, с ее скучными прожектами ввести свободный рынок и в то же время спасти партократию, с ее милицией, которая избивает людей на Пушкинской площади, с ее гэбэшными генералами, которые внушают миру, что теперь КГБ – это филиал Гринпис и Амнести Интернешнл, с ее пульсом политического Бейрута и предчувствием того, что на улицах вот-вот начнут стрелять или по меньшей мере дадут кулаком в морду, – все это осталось там, в России, почти за границей!
И там же остались страхи, что меня отравит КГБ. И мои бостонские планы питаться в этой поездке одними калифорнийскими сухофруктами. И даже Аня, женщина моей жизни, осталась там, в России…
А здесь, в Таллинне, на Ратушной площади, я нанял конный фаэтон и, празднуя свой второй побег из России, целый час катал по городу Сэма Лозински, Нормана Берна, Дэвида Лорма и еще кого-то. И запоем рассказывал им, как служил здесь в армии тридцать лет назад и как вот тут, в Кадриорге, вон в том военно-морском госпитале лежал с язвой желудка. Я даже вспомнил стихи, которые сочинил тогда, лежа в госпитале: «Тихо бродит осень в парках Кадриорга». Конечно, американцы ничего не понимали в моих стихах, но восторгались Таллинном…
А потом к нам в гостиницу пришел знаменитый эстонский диссидент N. Мы – вся делегация – снова собрались в номере Барри Вудсона, тесно расселись на полу и на подоконниках и включили магнитофоны. N. стал рассказывать о том, как его, 23-летнего студента, арестовали в 1958 году. За «пропаганду национализма и призывы к выходу Эстонии из СССР» ему дали тогда десять лет строгого тюремного режима и выпустили из мордовского лагеря лишь в 1966 году. Но и выпустив, не разрешили работать по профессии. А второй раз его арестовали в 1980-м, когда ему было уже 45, и «за антисоветскую агитацию и пропаганду» снова отправили в тот же мордовский лагерь.
– А теперь я хочу показать вам этот лагерь, – сказал N. и повел нас в соседний кинотеатр посмотреть документальный фильм, который только что сделала о нем киностудия «Таллиннфильм».
Так – второй раз за эту поездку! – именно кино бросило меня из сегодняшней России в ее недавнее прошлое. Началось в Москве, с бала Лаврентия Берия, а теперь…
Молодой эстонский кинорежиссер не только пробился со своей киногруппой в самый кошмарный мордовский лагерь для политических заключенных, но и привез туда героя своего фильма! И N. водил кинооператора по лагерю и комментировал все, что видела камера: и болотное кладбище, где похоронены не дожившие до свободы диссиденты (в том числе украинский поэт Василь Стус), и бетонную камеру-одиночку, в которой N. провел восемь лет своего последнего срока (крохотное зарешеченное окно, откидная железная койка, параша в углу), и тесный дворик для прогулки зеков – классический кирпичный колодец с вышками по углам.
Здесь, именно в этой тюрьме, окруженной гнилыми болотами, годами держали знаменитых советских диссидентов, и здесь они сидели и умирали под бравые сводки с колхозных полей, которые с утра до ночи передавало тюремное радио. И никто из них не знал, что где-то на воле происходят митинги и демонстрации в их защиту, что о них пишут в западных газетах и что правительства западных стран вручают Кремлю ноты в их защиту. Тюремное радио об этом молчало, а все, что знали зеки из политических новостей, – это что советские войска вошли в Афганистан, а их главный тюремщик Юрий Андропов стал главой государства!
И я вдруг представил себе ту полнейшую безнадегу, которую приносили эти сообщения в камеры мордовского лагеря. Там, за болотами, в тысяче километров от этого лагеря, сталинско-брежневские сотоварищи давали балы, стучали ботинком по трибуне в ООН, перекрашивали в красный цвет половину мира и завоевывали космос. А здесь? Господи, чем же жили тогда узники этих каменных клеток? Какой надеждой? На что? Даже при «либеральном» Горбачеве понадобилось четыре года гласности, сотни народных демонстраций и запросов Запада, чтобы Кремль приказал открыть ворота этого лагеря и выпустить из него еще живых…
Но вот кинокамера вместе с тысячами ликующих эстонцев встречает N. на таллиннском вокзале, и толпа несет его на руках через город. Он в тюремной робе и брит наголо, а вокруг – Эстония 1988 года, Эстония, над которой гуляет ветер близкой свободы.
Кончился фильм, мы вышли из кинотеатра и…
Нет, мы не смогли выйти из кинотеатра.
Тысячи полторы 20-летних эстонцев шли по узкой таллиннской улице плотными рядами, в цветастых национальных нарядах, пели и выкрикивали что-то по-эстонски – наверно, призывы о выходе из СССР! Они шагали по брусчатке мостовой и по узкому тротуару, а N., символ их борьбы, отсидевший за их победу 16 лет, оказался прижатым к дверям кинотеатра. Он стоял там, не узнанный ими, старый, седой и сутулый, а потом, когда прошла демонстрация, он снова повел нас в гостиницу и стал опять рассказывать о лагере. И я вдруг с ужасом понял, что он всей психикой все еще там, в каменном мешке своего тюремного прошлого, что он болен этим прошлым, как человек, чудом вынутый живым из расстрельных могил Куропат. Что он видит вокруг? И видит ли он вообще?
Господи, подумал я, это же персонаж Эриха Ремарка, это же тема для романа «Диссиденты», для фильма и театральной пьесы! Молодая армия свободы ушла вперед, а он, раненный прошлым, хромает за ними и не может догнать…
Но разве я – не он?
48
– У меня сегодня встреча с мэром Таллинна, – сказал за завтраком Джон О’Хаген. – Кто-нибудь хочет пойти со мной?
Кроме меня, никто не вызвался, и мы с Джоном пошли вдвоем.
Кирпично-каменное, 600-летнее здание таллиннской ратуши. На черепичной крыше, на высокой игловидной башне, стоит символ Эстонии – медная статуя Старого Тоомаса. Вот уже несколько дней этот Старый Тоомас снова охраняет национальный эстонский флаг, а не советский. А под ним, на Ратушной площади, происходят митинги, демонстрации, гулянья.
Но едва вы входите внутрь ратуши, как ее метровые каменные стены, ее залы с низкими сводчатыми потолками и увесистость ее старинной мебели, – все это сразу сбивает уличное возбуждение, выравнивает ваш пульс и призывает к спокойствию, рассудительности, взвешенности слов и решений.
Харри Луми, мэр Таллинна, высокий, крупный мужчина лет сорока пяти, с негромким голосом, неторопливыми жестами и мягкими спокойными глазами, провел нас через зал Магистрата, Правосудия и Бюргерский залы в свой кабинет. Там, у двери, стоял огромный кованый сундук с позеленевшими от времени металлическими окладами, поясами, бляхами и замками.
Харри улыбнулся:
– Раньше в этом ящике хранилась городская казна. Обратите внимание на три замка по бокам. Они совершенно разные. Когда-то жители города выбирали трех казначеев, и у каждого казначея был ключ только от одного замка. Но что самое интересное: в казначеи выбирали только тех, про кого было известно, что они заклятые враги и ненавидят друг друга. Чтобы уж точно знать: эти никогда не сговорятся и не похитят казну…
Затем оба мэра – эстонский и огайский – стали обсуждать, как им наладить прямую связь между Огайо и Таллинном, но меня эта тема не занимала, и я вмешался в их беседу только один раз – правда, с типично журналистской бесцеремонностью.
– А сколько лет вы уже мэр Таллинна? – спросил я у Харри Луми.
– Шесть лет, второй срок.
Я тут же прикинул, что он стал мэром до гласности, и значит…
– Вы коммунист, конечно?
– Да, – сказал он.
– А что случится, если завтра Эстония выйдет из СССР и власть перейдет от вашей коммунистической партии к Народному фронту или к Национальной независимой партии Эстонии? Вы готовы добровольно уйти из этого кабинета? Или вы будете бороться за это кресло?
– Меня выбрали на это место не члены моей партии, а эстонцы, жители Таллинна, – ответил он. – И если они захотят другого мэра – что ж, я готов к этому.
Но на меня этот дипломатический ответ не произвел впечатления, я спросил:
– А вообще, вы кто? Сначала эстонец, а потом коммунист? Или наоборот, сначала коммунист, а потом эстонец?
Прямо скажем, только положение иностранного журналиста позволяет в СССР задавать такие бесцеремонные вопросы, и я этим пользовался с удовольствием.
– Я думаю, что политика Центрального Комитета компартии Эстонии лучше всего отвечает на этот вопрос, – ответил мне Харри Луми, имея, конечно, в виду, что руководители компартии Эстонии уже третий год открыто демонстрируют Москве и своему народу, что они сначала эстонцы, а лишь потом, может быть, коммунисты…
После этого два мэра продолжали свою профессиональную беседу, а затем Харри Луми принес и положил перед нами огромную, килограммов на десять, книгу для почетных гостей, чтобы и мы оставили в ней свои нетленные автографы. Но перед тем как дать нам расписаться, он не без гордости стал показывать записи, сделанные в этой книге главами европейских и африканских государств, кинозвездами и прочими знаменитостями.
– А вот тут, на странице пятьдесят первой, смотрите, кто расписался, – сказал он.
Я взглянул на ровные рукописные строки, занимающие огромную страницу, потом на подпись: «М. Горбачев».
Еще не совсем понимая, какая передо мной находка, я стал читать его запись. Это был стандартный, банальный текст:
«Для советских людей Таллинн, – это и древний город, всеобщий памятник культуры, это и столица Советской Эстонии, где живут люди трудолюбивые, любящие свою землю, преданные дружбе нашей великой страны, делу социализма.
Пусть процветает Таллинн, на радость его жителям, пусть он радует своих гостей своей историей и сегодняшними достижениями.
Генеральный секретарь ЦК КПСС
М. Горбачев. 19.11.1987».
Конечно, я тут же обратил внимание на лишнюю букву «н» в слове «преданный» и на ненужную запятую после слова «Таллинн», но только после этого сообразил: да ведь еще никто на Западе, ни один журналист не видел ни строки, написанной рукой Горбачева! Я читал в газетах, что в 1985 году, когда Горбачев пришел к власти, Белый дом выделил какой-то фирме 100 000 долларов на создание его психологического портрета по воспоминаниям бывших сокурсников. А тут передо мной целая страница горбачевского автографа! И значит, можно произвести графологическую экспертизу, что поможет узнать характер Горбачева, определить его творческие и интеллектуальные параметры и даже поставить медицинский диагноз!
– А можно мы сфотографируем эту страницу? – осторожно спросил я у мэра Таллинна. – На память?
– Пожалуйста, – ответил он.
У меня не было фотоаппарата, но, к счастью, Джон со своей камерой не расставался никогда.
– Джон, быстрей! Несколько снимков! – засуетился я, тут же прикидывая в уме, в какой американской библиотеке можно найти старую книгу графолога Зуева-Инсарова «Почерк и личность», которую я читал лет тридцать назад в спецхране Ленинской библиотеки в Москве. Насколько я помнил эту книгу, строки такой «ровизны», как у Горбачева, свидетельствуют о твердом, уравновешенном характере человека с жестким самоконтролем. Но с другой стороны, эта же «ровизна» говорит об отсутствии творческого воображения (у поэтов, композиторов, художников строки никогда не бывают прямые, а либо взлетают вверх, либо загибаются вниз, утверждал Зуев-Инсаров). И еще один признак, который я помнил: такая полная закрытость букв «о», «а», «е» и «р», как в почерке Горбачева, свидетельствует о замкнутости характера, скрытности…
С трудом дождавшись конца приема у мэра Таллинна, я прибежал в гостиницу и стал искать Сэма Лозински. Пусть я не получил интервью у Ельцина, но я добрался до Горбачева! Я привезу из этой поездки сенсационный материал не только для Японии! Я верну себе жену и дочку! И чем черт не шутит, через пару лет я буду снова снимать кино в России!..
Полковник Лозински сидел на втором этаже в валютном баре, приводил в порядок свои журналистские записи. Я бесцеремонно плюхнулся рядом на стул:
– Сэм, у тебя есть связи в National Defence Counsel?
– А что случилось? – спросил он встревоженно.
Я быстро оглянулся на сидящих в баре. Но все смотрели в сторону телевизора, висевшего над стойкой бара, и я зашептал Сэму сквозь зубы:
– Только что мы с Джоном О’Хагеном сфотографировали страницу рукописного текста Горбачева! Ты понимаешь? Если у тебя есть знакомые в Совете национальной обороны, то через них можно получить лучшую экспертизу его почерка! А это же сенсация на первую полосу! Понимаешь!
– Yes, sir! – сказал полковник. – Будет сделано, сэр!
Я встал, заказал себе водку со льдом и, уже успокаиваясь, спросил у Сэма:
– Кстати, а что было в Эрмитаже? Тебе удалось сфотографировать мальтийские кресты?
– О да! Представляешь? Они не только разрешили фотографировать, но повели меня в запасники и показали всю коллекцию! Я не верил своим глазам – у них эти ордена навалом лежат в ящиках! Как скобяной товар!
– Ну, ты взял хоть пару?
Он ошарашенно посмотрел мне в глаза:
– Ты думаешь, они могли дать мне хоть один?
И вдруг я заметил, что на меня с явным любопытством уставились почти все посетители бара, а в разом наступившей тишине я услышал голос ведущего «Кинопанорамы» Виктора Мережко:
«– Итак, ты уехал одиннадцать лет тому назад. Спустя какое-то время была опубликована твоя книга, которая, я помню, имела резонанс скорей такой, ну, подпольно-самиздатовский…
Голос шел из телевизора, висевшего над стойкой бара, а на экране телевизора были я и Мережко.
– Эту книгу твою читали по радио «Свобода», оттуда, – продолжал на экране Виктор. – И я знаю, что вокруг твоего имени ходили самые неприятные слухи. Что ты клевещешь на Брежнева, в частности и на нашу страну. О чем эта книга рассказывала?
– Ну, во-первых, – отвечал я с экрана с ироничной улыбкой, – никакого самиздата на Западе нет. Книжка вышла на тринадцати языках, если включить русский. Вышла она в Англии, Америке, Германии, Франции, Италии, Норвегии, Голландии, Японии и так далее. А ее русское издание попало сюда уж я не знаю каким путем. Но знаю, что на черном рынке у вас эта книга стоила большие деньги.
– Да, она продавалась, – подтвердил Виктор. – Думаешь, это возможно сейчас – ее публикация в нашей стране?
– На сегодняшний день в этой книге ничего взрывного уже нет.
– Она устарела, да?
– Нет, она не устарела. В этой книге описана вся ваша узбекская и азербайджанская коррумпированная партийная мафия. И так случилось, что два дня назад на заседании межрегиональной группы депутатов Верховного Совета я познакомился с героями этого романа, которых я выдумал десять лет назад, – я познакомился с Гдляном и Ивановым. Я послал Гдляну записку через зал. Мол, не найдется ли у вас пары минут для автора. Ну а он встал и вышел за мной, и так мы познакомились…
– Вот прошло столько лет! – перебил Виктор. – Ты оторвался от нашего кино и в то кино не попал. Вот ты сейчас приехал в Советский Союз уже как гражданин Соединенных Штатов. У тебя есть тайная мысль, что ты можешь, уже учитывая новую ситуацию в стране, вернуться в кино, в наше кино?
– Почему «тайная» мысль? Два дня назад я получил предложение экранизировать одну из моих книг.
– Значит, твой визит не гостевой, а еще и деловой? – допрашивал меня Виктор.
– Нет, мой визит вообще не гостевой, – отвечал я ему. – Я приехал в составе делегации американских журналистов. Это официальная поездка. Но я с первого дня бросил своих американцев и рванулся ко всем вам, потому что тебя, например, я не видел одиннадцать лет! И когда услышал твой голос, у меня мурашки пошли по коже. И вообще здесь у меня много друзей, знакомых, весь этот мир! Но очень боюсь, что меня это втянет. Потому что кино, ты же понимаешь, это как наркотик!
– Кино и друзья, – сказал Виктор.
– Кино и друзья, – повторил я за ним и воскликнул: – Но писать книги куда спокойней, старик! Никакой цензуры! Никакой редактуры! Никто не лезет, никто не ломает ничего! Если одну строчку они хотят исправить, они мне звонят и говорят: «У нас не приняты трагические финалы. Хэппи-энд, пожалуйста! Ну, хоть одну строчку про то, что, может быть, герой не погиб в конце!» Понимаешь? Нет редактора, Витя!
– Тем не менее… – улыбнулся он. – Тем не менее я хочу пожелать тебе, чтобы ты все же вернулся к своей первой замечательной профессии, чтобы ты вернулся в кино!
– Спасибо…»
Следом за этим Виктор перешел к следующему сюжету – анонсу какого-то нового фильма.
А Сэм Лозински спросил:
– Что это было? У тебя брало интервью советское телевидение?
– Даже два интервью! – похвастал я, вспомнив, что еще вчера по программе «Добрый вечер, Москва!» должно было пройти интервью, которое снял в «Космосе» Игорь Финковский. И, пользуясь своей минутной славой, спросил у бармена: – А можно мне с вашего телефона позвонить в Москву? Я заплачу.
Он молча поставил на стойку телефонный аппарат, я вытащил визитную карточку Финковского, набрал московский код и номер телередакции.
– Алло! Добрый вечер. Это Вадим Плоткин вас беспокоит. Можно Игоря Финковского?
– Его сейчас нет, – сказал молодой мужской голос. – А что вас интересует? Вы по поводу своего интервью?
– Да, я хотел бы знать…
– К сожалению, цензура его зарезала. Сняли с эфира в последнюю минуту.
– А разве у вас еще есть цензура? – спросил я. – Я сейчас видел себя в «Кинопанораме», они ничего не вырезали.
– Не спешите с выводами, – сказал голос. – Посмотрите эту передачу до конца. Мы вас такой ценой выпускать в эфир не хотим.
– Что вы имеете в виду? – изумился я.
– А вы послушайте, что ваш друг скажет через пару минут, – усмехнулся голос. – Извините, мне нужно бежать на съемку. Пока!
Я положил трубку, заказал еще рюмку водки и уставился в экран телевизора. Там Марк Захаров, второй ведущий «Кинопанорамы», главный режиссер модного Московского театра имени Ленинского комсомола, он же депутат Верховного Совета СССР, как раз говорил Виктору Мережко:
«– Я рад, что в нашей передаче прошла очень интересная беседа с Вадимом Плоткиным. По-моему, это такой пронзительный и печальный материал, который наводит на разного рода размышления, которые мне бы хотелось продолжить после… А сейчас скажи, пожалуйста, есть какие-нибудь сенсации в киномире?
– Ну, главная сенсация, – отвечал Виктор, – что все бросились на Запад зарабатывать валюту.
– А Климов снимает «Мастера и Маргариту»? – спросил Захаров.
– Нет, он готовится…
– А сколько одновременно снимается сценариев у тебя?
– Сейчас три, – ответил Виктор.
– А где ты был недавно?
– Я был в Штатах.
– В Америке?»
Тут Сэм Лозински, явно заскучав, глянул на свои наручные часы (конечно, это уже были советские армейские часы «Командирские», купленные у уличных фарцовщиков), встал и сказал мне:
– Не возражаешь, если я уйду?
Я ответил, что, конечно, он может идти – он все равно не понимает ни слова в этой телепередаче.
– На Ратушной площади есть ночной бар, – сказал Сэм. – Мы договорились все встретиться там в девять вечера, отметить наш последний вечер в Советском Союзе. Ты придешь?
– Sure!
Он ушел, а я снова вернулся к экрану. Там опять был мой друг Виктор Мережко. Он говорил:
«– Другое дело, когда ты возвращаешься в свою страну, которую покинул вынужденно, и возвращаешься с желанием отдать себя, попросить даже прощения, покаяния. Ведь самое главное качество человека – это прийти с покаянием, даже если ты был изгнан. Приди в свой дом и покайся за грехи свои и за грехи того дома, из которого ты ушел…»
Я обалдел. Полная, невыпитая рюмка водки стояла передо мной, я не был пьян. Что за бред он несет с экрана? Я должен просить прощения за то, что был изгнан из этой страны? Почему? И у кого мы, изгнанники, должны просить прощения? У тебя, Витя? Или у Павлаша? Или у КГБ? «Самое главное качество человека – это прийти с покаянием…» Ну, это ты загнул, Витек!
Я залпом выпил свою рюмку и тут же заказал еще.
А на экране Марк Захаров сказал Виктору:
«– Нам надо закончить разговор вопросительным знаком.
– Я думаю, давай вернемся к Галичу и к Плоткину, – ответил друг моей юности Виктор Мережко, явно незаслуженно ставя меня вровень с феноменально знаменитым в России бардом Александром Галичем, который за пару лет до меня тоже эмигрировал из СССР и умер в эмиграции, – потому что жизнь этих людей так или иначе была сломана. Плоткин был преуспевающим кинематографистом, Галич был замечательным поэтом и драматургом. Я уверяю тебя, что Плоткин, который пишет сейчас за границей вот такие… – тут Витя сделал явно пренебрежительно-снисходительный жест рукой, – не всегда самого высокого класса романы, он бы здесь работал лучше. А он окунулся в совершенно другую почву, ступил на нее и стал писать то, что совершенно ему несвойственно. То, что он недостаточно хорошо знает. Он потерял сердце и стал работать только разумом…»
Я замер с рюмкой водки в руке – я не верил своим ушам. Витя! Витя Мережко! Друг юности! Мы с тобой последним рублем делились! Я твою дочку в ванночке купал! И ты, даже не читая моих книг, про меня эдак презрительно-снисходительно! Я потерял сердце… Да уж лучше бы ты, Витек, сказал, как когда-то «Литгазета», что мои книги распространяет ЦРУ!
Чувствуя на себе взгляды всего бара, я с горящим от бешенства и стыда лицом слушал дальше. Марк Захаров спросил у Мережко:
«– А кто-то приобретает оттого, что уходит от родины?
– Нет, – быстро и твердо ответил Виктор.
– А Герцен? Не приобрел? – поймал его Марк.
– Герцен приобрел гражданство, я полагаю, – туманно ответил Виктор, – чувство гражданства.
– Нужно заканчивать наш разговор, – сказал Захаров, – надо каким-то хорошим вопросительным знаком закончить. Вот можешь ты такой забросить вопрос, чтобы после нас долго думал зритель?
– Сейчас подумаю, – сказал Виктор. – Пусть пленка идет…
– А когда ты напишешь пьесу и принесешь в театр? – спросил Марк.
– В конце года, – сказал Виктор.
– Это ты знаешь, – улыбнулся Марк. – А на что же ты не ответишь?
– А ты бы смог уехать из этой страны? – вдруг спросил у него Виктор.
– Нет! – почти испуганно сказал Марк. И повторил: – Нет! Нет…
– Не хочешь? – улыбнулся Мережко, имея в виду общеизвестный факт, что Захаров еврей, как Плоткин и Галич.
– Нет, не хочу! – твердо отмежевался от нас Марк Захаров.
– А как ты считаешь: вот те, кто уезжал, они правильно делали? – нажимал на него Виктор.
– Я думаю, что это индивидуально, – вынырнул Захаров и продолжил уже свободней, уверенней: – Каждый человек – хозяин своей судьбы, у каждого есть свой ангел-хранитель, каждый должен мерить жизнь своими критериями, я не хочу быть ничьим судьей…»
После этих слов они оба, и бывший друг моей юности Витя Мережко, и его новый еврейский друг Марк Захаров, исчезли с телеэкрана, а вместо них возник Александр Галич, пожилой, усталый, с гитарой. Он пел:
И все-таки я рискую Прослыть шутом, дураком, паяцем! И ночью и днем Твержу об одном: Не надо, люди, бояться! Не бойтесь тюрьмы, Не бойтесь сумы, Не бойтесь мора и глада! А бойтесь единственно только того, Кто скажет: «Я знаю, как надо!» Кто скажет: «Идите, люди, за мной! Я вас научу, как надо!»Я заказал двойную порцию водки и под хриплый голос Александра Аркадьевича выпил за его светлую память. Когда мне было 13 лет, я играл в его пьесе. Когда мне было 30, я пил с ним водку в Болшево, а потом пришел в его квартиру у метро «Аэропорт» проститься с ним перед его эмиграцией.
А сегодня Витя Мережко сказал нам обоим – мне и ему, покойнику, – что, оказывается, мы должны просить прощения у России. За то, что она выбросила нас в изгнание.
Спасибо, друг.
Я расплатился и вышел из бара.
Внизу, в холле, администраторша гостиницы помахала мне рукой:
– Господин Плоткин! Господин Плоткин! Можно вас на минуту?
Я усмехнулся: телевизионная слава стремительна, как августовский дождь. Не прошло и минуты после передачи, как меня уже узнают в лицо! Правда, еще через минуту – забудут, августовский дождь высыхает быстро.
Я подошел к стенке с табличкой «Администратор».
– Стойте здесь! – сказала администраторша и поставила рядом с табличкой телефонный аппарат. – Сейчас вам будут звонить.
– Кто?
– Я не знаю. Междугородная. Сказали, что будут звонить каждые десять минут, пока мы вас не найдем.
Я закурил, гадая, кто мне может звонить. Игорь Финковский по поводу интервью? Костя Зайко по поводу фильма? Рустам Ибрагимбеков насчет постановки «Кремлевских лис»? Какое-нибудь издательство с предложением издать мои книги в СССР? Или Семен и Левка Толстяк – просто так, проститься?
Я курил у стойки, остывая от злости к Мережко и наблюдая вечернюю суету в гостиничном вестибюле. По углам несколько фарцовщиков тихо нашептывали что-то иностранцам, предлагая скорей всего обмен валюты на рубли. В центре большая группа хорошо одетых западных немцев что-то громко обсуждала по-немецки. Две юные проститутки зацепили – я не поверил своим глазам! – Ариэла Вийски, профессора политологии. Взяв его под руки с двух сторон, они прошли с ним в лифт…
Тут телефон зазвонил короткими и частыми гудками. Я посмотрел на администраторшу, она сказала:
– Это междугородная, вас.
Я снял трубку, сухой голос телефонистки требовательно сказал:
– Сочи вызывает Вадима Плоткина!
– Я слушаю.
– Говорите! – приказала кому-то телефонистка.
И вслед за этим я услышал голос, от которого у меня мгновенно ослабли ноги.
– Это ты? – сказала она.
– Я… – Мне с трудом далось это слово, потому что дыхание перехватило, сдавив горло…
– Здравствуй, дурында! Ты когда уезжаешь?
– Как ты меня нашла?
– Я смотрела «Кинопанораму». И как только увидела тебя, стала звонить Семену и Толстяку. Когда ты уезжаешь?
– Завтра, Аня.
– Завтра – когда?
– Завтра утром. А что?
– Идиот, где же ты шлялся сорок минут? Я же пропустила прямой рейс на Таллинн! Но утром я буду. Во сколько ты уезжаешь?
– В десять утра. Мы отплываем паромом в Хельсинки. Я не думаю, что ты успеешь…
– Ты поседел, – перебила она. – Ты знаешь об этом? И ты очень худой! Она тебя не кормит, что ли?
– Аня, у меня дочке пять лет.
– Я знаю, мне сказал Семен. И ты назвал ее, как хотел, Ханой. Целую. Мне еще час до аэропорта! Жди меня утром!
Голос исчез, а я все держал трубку и слушал хрупкую тишину в ней.
– Вы говорите? – раздался в трубке у меня голос телефонистки.
– А? – очнулся я. – Да, я говорю…
– Но я вас не слышу, – удивилась она.
– Я знаю. Но я же не с вами говорю.
– Слушайте, не морочьте мне голову! – возмутилась телефонистка. – С кем вы можете говорить, когда в Сочи уже давно положили трубку!
Я медленно опустил трубку на рычаг.
И за один этот звонок все простил Вите Мережко…
49
Я шел в ночной бар на Ратушную площадь с твердым намерением напиться. Потому что теперь, когда я знал, что Аня прилетит утром, когда я нашел ее (или она – меня), я стал бояться этой встречи. Двадцать четыре года она была моим фантомом, символом, «Бегущей по волнам» и Русалочкой. Но что, если от нее остался только голос? С чем я буду жить дальше? Во всех моих фильмах и романах главные героини носили ее имя и были ее портретами, даже если я пытался сделать их совершенно на нее непохожими. Как же я смогу писать дальше, если и этот последний стержень моей жизни рухнет завтра утром?
Под крышей ратуши горели яркие прожекторы, их свет отражался в каменной мостовой, лоснящейся после дождя. По Ратушной площади гуляли иностранные туристы, и два конных фаэтона катали последних пассажиров. Перед входом в бар стояла небольшая толпа, я подумал, что это очередь в бар, но оказалось, прохожие окружили трио уличных музыкантов.
Молодые гитаристы сидели на тротуаре, на складных стульчиках, играли и пели. И в грустной, лирической тональности их слаженного, как у битлов, пения было что-то, что заставляло останавливаться всех прохожих. Я разглядел в этой толпе Питера Хевла, Нормана Берна, Монику Брадшоу, Горация Сэмсона. Я подошел к ним и встал рядом. Гитаристы, все трое светловолосые, в белых рубашках и дешевых джинсах, пели о том, что их Эстония, как рыба в сетях, погибает в советской неволе, но «я пью русскую водку, и мне теперь все равно!..» Что эстонских детей заставляют молиться Ленину и Марксу, но «я пью русскую водку, и мне теперь все равно!..» Что эстонских парней забирают в Советскую Армию и там насилуют и избивают до смерти, но «я пью русскую водку, и мне теперь все равно!..» Что эстонские реки отравлены русскими заводами, но «я пью русскую водку, и мне теперь все равно!..»
А перед гитаристами, на мостовой, лежала солдатская каска с табличкой «HELP ESTONIAN NATIONAL REVIVAL» [ «Помогите эстонскому национальному возрождению»]. В каске были деньги – рубли, доллары…
– Они молодцы! – сказал Питер Хевл.
– Я не понимаю, о чем они поют, – сказала Моника. – Но играют они замечательно!
Я перевел им содержание песни. Потом мы бросили в солдатскую каску по нескольку долларов и спустились в бар. Там, в подвале, под низкими каменными потолками гремела совсем другая музыка – хард-рок. В центре на небольшом пятачке колыхалась трясучая медуза танцующей толпы. За столиками и у стойки бара теснились иностранные туристы и эстонская молодежь.
Наша делегация оккупировала целый угол рядом с входной дверью и, судя по расстегнутой до пупа рубашке Роберта Макгроу и беленькому, в росинках пота носику Дайаны Тростер, количество выпитых ими дринков давно перевалило за полдюжины.
Меня втиснули на деревянную лавку между Дайаной и Мичико Катояма, и я стал догонять Макгроу двойными порциями водки. Потом, захмелев, пригласил Мичико танцевать. Меня давно интересовало, почему она проявляет ко мне интерес, а теперь как раз представился случай это выяснить.
– Ты действительно хотела бы ехать со мной в одном поезде? – с хмельной прямолинейностью спросил я ее во время танца.
Она улыбнулась:
– Вы такой ребенок!
И легким сопротивлением локтей – так, как это умеют делать в танце светские дамы, – дала понять, где мне держать мои руки. Я понял. Спросил:
– Ты замужем?
– Конечно! – сказала она. – У меня две замужние дочери!
Я удивился. По ее кукольному личику я бы никогда не сказал, что ей больше сорока лет.
– А ты знаешь секрет семейного счастья? – сказал я.
– Нет. А ты знаешь? – спросила она.
– А в буддизме есть какие-нибудь заповеди для счастливой семейной жизни?
– О, конечно, есть! Если тебя это действительно интересует, я пришлю тебе пару книг на эту тему.
– На японском?
– Нет, на английском. Я слышала, ты будешь писать для «Токио ридерз дайджест». Это правда?
– Да…
– Это очень престижный журнал в Японии. Как ты собираешься пронести свои блокноты и кассеты через таможню?
– Что значит «как»? Что ты имеешь в виду?
– Well, ты знаешь, что со мной случилось в Бейруте в прошлом году? Я взяла там интервью у христианских лидеров, а, когда садилась в самолет, мусульмане таможенники отняли все кассеты. Но эти таможенники не могли знать, что у меня на кассетах, потому что все кассеты были надписаны не просто по-японски, а на древнем японском. Понимаешь, они получили приказ заранее. Ты понимаешь?
Я понял и изумился простоте приема: КГБ тоже могло дать мне возможность порезвиться внутри страны – взять интервью у Гдляна, Иванова, Колягиной, Бочарова, русских и эстонских демократов и националистов и даже добыть автограф Горбачева.
Но все это они могут легко изъять у меня в последнюю минуту, при посадке на паром. И я уеду из СССР пустой.
– Спасибо за предупреждение, – сказал я, тут же решив отдать свои кассеты и блокноты Роберту Макгроу. – Ты была в Бейруте? Ты храбрая женщина!
– Well, я была во многих местах. Даже в Афганистане. Правда, не на русской стороне… Но я хочу поговорить с тобой о другом. Ты знаешь, что есть два вида журнализма – Ordinary Journalism и High Risk Journalism [Обыкновенный журнализм и журнализм высокого риска]? Я думаю, ты принадлежишь ко второй категории. Но ты работаешь в одиночку, это неправильно. В High Risk Journalism мы имеем свое маленькое международное братство и будем рады принять тебя в него. Но у нас есть один закон: никогда не работать в одиночку. Потому что если ты рискуешь жизнью ради горячего материала, то по крайней мере имей гарантию, что твой материал выживет с твоим партнером. Ты понимаешь?
Я посмотрел ей в глаза. Черт возьми, эта миниатюрная японка совсем не такая куколка, как кажется с первого взгляда. Бейрут, Афганистан, High Risk Journalism…
– Хочешь в будущем быть моим партнером? – спросил я с улыбкой.
– Вообще-то я хотела предложить тебе помощь прямо сейчас. Я могу пронести через таможню твои пленки и блокноты. Если ты мне доверяешь, конечно. Хочешь?
– О, конечно. Спасибо! – обрадовался я. Во-первых, в глазах русских таможенников миниатюрная Мичико должна выглядеть еще менее подозрительно, чем Роберт Макгроу, а во-вторых, неизвестно, протрезвеет ли этот Роберт к утру настолько, чтобы доверить ему вывезти из СССР пленку с автографом Горбачева.
Тут музыка оборвалась, мы вернулись в наш угол. Но не успели выпить по дринку, как рядом с нами, в двери бара, возник Гораций Сэмсон. Срывая голос, он кричал бармену:
– Help!!! Help!!! Call the police! Murder [Помогите!!! Звоните в полицию! Убийство]! – И повернулся ко мне: – Переведите! Убийство на улице! Здесь есть доктор?
Но бармен не нуждался в переводе, он уже набирал номер телефона. А Гораций рухнул на лавку рядом с нами:
– O, my God [О Боже мой]! – И, закрыв лицо руками, стал раскачиваться, причитая: – Боже! Боже!
Мы вскочили, крича на перебой:
– Что случилось?
– Кого убили? Кто?
– Где Норман?!! – Дайана Тростер двумя руками затрясла Горация за плечи. – Где Норман??? Ты вышел с Норманом! Ты вышел с Норманом слушать этих музыкантов! Где Норман???
– He is o’key… He is out there… With the victims [С ним все в порядке. Он там, с жертвами…], – показал на дверь Гораций.
Мы бросились к выходу. Но тут в двери возникло окровавленное лицо одного из уличных гитаристов, он крикнул что-то по-эстонски, вся эстонская молодежь тоже ринулась к двери и буквально вынесла нас по ступенькам наружу, на Ратушную площадь.
Мы увидели жуткую картину. Норман Берн сидел прямо на брусчатой мостовой и держал на коленях залитое кровью тело одного из молодых эстонских музыкантов. Растопырив правую ладонь, он прижимал ее к груди этого светловолосого парня, но густая алая кровь толчками выхлестывала через пальцы Нормана. А рядом с ним лежал лицом вниз второй гитарист, и такая же алая кровь сочилась сквозь его белую рубашку и лужей подтекала ему под ноги.
А из-за ратуши уже с воем выскочили «скорая помощь» и синяя милицейская «Волга».
Мы подбежали к Норману.
– Norman, are you o’key?
– Yes… I am… – ответил он почти неслышно.
– Что тут случилось?
– Три русских свиньи… они подошли к музыкантам, пырнули их ножами и ушли. Просто.
– Боже мой! – сказала Дайана. – За песню?
– Ну и страна! – произнес кто-то из немецких туристов, стоявших рядом.
50
Нам было уже не до сна. Сначала три следователя милиции прямо в вестибюле гостиницы «Виру» выспрашивали у Нормана и Горация приметы убийц, а потом мы до утра названивали в больницу, чтобы выяснить, что с этими музыкантами – выживут или нет? Но ни на русском, ни на английском мы не могли ни от кого добиться внятного ответа или хоть какой-нибудь информации. И даже в утренних газетах не было ни слова об этой кровавой драме. Дэнис Лорм тут же предположил, что эстонские газеты решили скрыть это убийство, чтобы не вызвать ответной волны убийств русского населения.
– Как только здесь начнут убивать русских, Кремль тут же введет сюда войска и объявит военное положение, – сказал всезнающий Дэнис, когда мы грузили в автобус свой багаж, чтобы ехать в порт.
– Am I right, Vadim?
Я кивнул, стоя возле автобуса и все надеясь, что Аня вот-вот появится. Но ее не было.
– Нам пора ехать, – сказала мне Оля, наша интуристовская гидша, потому что все уже сели в автобус, а я один торчал у входа в гостиницу.
Я вздохнул, поднялся в автобус и встал у заднего окна. Автобус тронулся. Узкие и по-утреннему пустые таллиннские улицы стелились позади него. Редкие прохожие шли по тротуарам, несли в авоськах какие-то продукты. Кто-то проехал на велосипеде. На чьем-то подоконнике лежала сытая кошка, грелась на солнце. Из боковой улицы показался трамвай. А морской балтийский бриз тихо шевелил на домах национальные эстонские флаги.
Город жил так, словно ничего не случилось.
В порту, у причала, высился «Георг Отс». Этот трехпалубный лайнер финны взяли у СССР в аренду и возят на нем пассажиров из Таллинна в Хельсинки.
Я стоял в вокзальном зале, в самом конце нашей очереди на таможенный досмотр. И все еще надеялся дождаться Аню. Если она не успела на прямой рейс «Сочи – Таллинн», то как она летит – через Москву? Ленинград? Киев?
Наши без помех проходили досмотр. Барри Вудстон, потея и нервничая, тащил к таможенной стойке огромную картонную коробку со старинным русским самоваром явно музейной ценности. Конечно, он купил этот самовар у каких-нибудь фарцовщиков, которые толпами крутятся у гостиниц, но пропустит ли таможня старинный самовар без письменного разрешения Министерства культуры СССР? Пропустили, не сказав ни слова.
Следом за Барри шла Мичико Катояма со своими двумя чемоданами на тележке. Я замер. У Мичико были все мои блокноты, магнитофонные кассеты и пленка с автографом Горбачева. Вот она шлепнула на стойку таможенника свой паспорт и таможенную декларацию, вот положила перед ним целую коробку с тремя дюжинами фотопленок, чтобы не засветили эти пленки рентгеном, вот глянула на таможенника своими темными глазками на фарфоровом личике… Он скользнул взглядом по ее чемоданам, вытащил из ее паспорта вкладыш-визу и декларацию, отдал ей паспорт и продвинул по стойке коробку с пленками.
– Проходите. Следующий.
Мичико прошла, взяла свои пленки и ушла на посадку не оглянувшись. Молодец!
Следом за ней шел Ариэл Вийски, с мешками под глазами…
Потом – шумный и еще под хмельком Роберт Макгроу…
Потом – полковник Лозински…
За ним – Дайана Тростер…
Норман Берн…
Каждый из них на прощание говорил что-то теплое нашей русской гидше Оленьке, дарил ей сувениры и свои визитные карточки, приглашал в гости и шел на таможенный досмотр.
Дэнис Лорм с охапкой свежих немецких газет в руках…
Гораций Сэмсон, осунувшийся и повзрослевший лет на десять…
Моника Брадшоу, увешанная фотоаппаратами…
Питер Хевл…
Старички Огилви из Вирджинии…
Джон О’Хаген повернулся ко мне, спросил:
– Ты нервничаешь?
– Нет, – сказал я. – Почему ты спрашиваешь?
– Ты все время крутишься и смотришь назад. Ты хочешь остаться?
Я улыбнулся, отрицательно покачал головой:
– Нет. – И повторил твердо, как Марк Захаров: – Нет!
Он шагнул к таможеннику и положил перед ним на стойку свой паспорт.
Я повернулся к Ольге:
– Всего хорошего, Оля. Привет вашей маме.
– Счастливо, – сказала она.
Я взглянул на входную дверь таможенного зала, но… Ани не было.
Я шагнул к стойке, положил перед таможенником паспорт с визой-вкладышем и таможенной декларацией. Но теперь рядом с таможенником стоял еще один – с волчьим лицом, в кителе и с погонами майора таможенной службы.
– Откройте ваш чемодан, – сказал мне таможенник.
Я даже обрадовался: эта проверка даст мне еще минуту!
И сказал им с улыбкой:
– С удовольствием!
Но проверка длилась не минуту, а десять. Они тщательно, как когда-то Алеша в шереметьевском аэропорту, прощупали всю мою одежду, каждую складку запасных брюк и пиджака, все грязное белье, накопившееся за поездку, куртку-дождевик, так и не раскрытые мною пакеты сухофруктов и коробку таблеток «Пепты-бисмол». Потом простучали дно и крышку чемодана, открыли магнитофон.
Но в магнитофоне не было кассеты.
– Вытащите все из карманов, – приказали они.
Я вытащил из карманов какую-то мелочь, сигареты, зажигалку, кошелек с кредитными карточками. Положил на стойку.
Они проверили кошелек, потом майор спросил:
– Вы кем себя считаете? Вы журналист или писатель?
– И то и то, – сказал я.
– А где ваши блокноты, кассеты?
– Я не пользуюсь. Держу все в голове.
– Тогда зачем вам магнитофон?
Я улыбнулся:
– Сам не знаю. Подарить?
– Нет, не надо, – по-волчьи усмехнулся майор.
– Он кому-то отдал свои блокноты, кто прошел уже, – услужливо сказал таможенник.
– Конечно, отдал, – согласился майор. – Но не обыскивать же теперь весь корабль! – И посмотрел мне в глаза: – Ну, что ж, господин Плоткин! Проходите. На этот раз ваша взяла.
Я медленно сложил вещи в чемодан, закрыл его и посмотрел на входную дверь. Ани не было.
Я поднял чемодан, помахал рукой гидше Оленьке и вышел на пристань.
Хотя накрапывал дождь, почти все наши стояли на открытой верхней палубе «Георга Отса», махали мне руками.
А рядом с дверью морвокзала, под козырьком навеса, стоял все тот же майор таможенной службы, курил. Увидев меня, он произнес негромко и в сторону:
– Надеюсь, вы понимаете, что я только выполняю приказ.
Я промолчал – что я мог ему сказать?
– Мне нравятся ваши книги, – вдруг сказал он. – Я их тут часто изымаю при досмотре. И коллекционирую. Поверьте мне, через пять лет их напечатают в России.
Я посмотрел на его волчий профиль, и, вот что значит писательское честолюбие, этот профиль уже не казался мне волчьим.
– Спасибо, – сказал я и пошел с чемоданом к трапу.
Встревоженный моей задержкой, Барри Вудстон встретил меня на палубе:
– Что случилось?
– Ничего.
– Тебя проверяли?
– Да.
– Что-нибудь забрали?
– У меня ничего нет.
Потом Барри показал мне каюту, где был сложен весь наш багаж. Я открыл чемодан, достал куртку-дождевик, набросил ее на плечи и, оставив чемодан в каюте, поднялся на верхнюю палубу.
Вопросительный взгляд Мичико встретил меня сразу, в упор.
Я улыбнулся и обнял ее за плечи:
– Спасибо, партнер!
– Вадим! Мичико! – позвали нас остальные, толпясь у бортовых поручней, чтобы сфотографироваться на фоне Таллинна.
Мы присоединились к ним, я встал у поручней между маленькой Мичико и гигантом О’Хагеном и, позируя нашим фотографам, сунул руки в карманы куртки-дождевика. В одном из них оказались какие-то бумаги, но я не успел посмотреть, что это, потому что Мичико тут же отвела меня в сторону и сказала:
– Я должна тебе признаться. Я была твоим партнером с первого дня, еще из аэропорта Кеннеди в Нью-Йорке.
Я изумленно посмотрел на нее.
– Yes, – сказала она. – Я постоянный автор «Токио ридерз дайджест», и это была моя идея послать тебя в Россию проверить гласность. А я поехала, чтоб прикрыть тебя. Если бы с тобой что-то случилось…
– Ты бы написала сенсационный материал, как меня отравил КГБ. Пользуясь моими пленками, заметками. Да? – спросил я и вспомнил, как она наблюдала за мной в шереметьевской таможне, а потом встретила в вестибюле «Космоса» и фотографировала с генералом КГБ Быковым в АПН…
– Ну, может быть… – сказала она уклончиво. Но вдруг прямо глянула мне в глаза: – А ты бы возражал?
– Нет. Это лучше, чем быть отравленным просто так, без рекламы, – согласился я.
– Если бы они тебя арестовали, я бы организовала кампанию в твою защиту, – сказала она.
– Thank you, – сказал я.
– Мы остались друзьями?
– Конечно.
Тут «Георг Отс» зашумел двигателями, и по его стальному телу пошла мелкая дрожь. Стоя у перил под моросящим дождем и глядя на Таллинн, Мичико вдруг сказала:
– Знаешь, я буду скучать по России. Когда мы ехали из Ленинграда в Таллинн, все пели американские песни, вся наша группа. А я смотрела в окно и думала про русских. У этого народа такая музыка! Такие композиторы! Такие писатели! Чайковский, Толстой, Достоевский… И такая ужасная жизнь… Разве такой народ не может иметь лучшей жизни?
Слушая ее, я машинально вытащил из кармана куртки то, что там было, – какие-то сложенные вдвое два листка, схваченные металлической скрепкой.
– Что это? – спросила Мичико.
– Еще не знаю… – ответил я и стал читать.
«УВАЖАЕМЫЙ МИСТЕР ПЛОТКИН!
Листая в архиве Ваше дело, я наткнулся на письмо, которое попало к нам пять лет назад и может Вас заинтересовать. Посылаю Вам копию. Желаю всех благ.
Генерал госбезопасности Быков».
А второй лист был фотокопией части письма, написанного явно женской рукой. Это было лишь то место, которое хотел предъявить мне генерал, а все предыдущие и последующие строки были, по-видимому, закрыты при фотокопировании. Я прочел:
«…и месяц жили в Иерусалиме. Илья тогда совсем сошел с ума по Лизе Плоткиной. И пока ее муж сочинял свой очередной романчик, он возил ее по Израилю. А спустя семь месяцев у них, я имею в виду – у Плоткиных, родилась в Америке дочка. Хотела бы я посмотреть, на кого эта дочка похожа…»
Наверно, что-то стало с моим лицом, потому что Мичико вскрикнула:
– Что случилось? Что в этом письме?
– Ничего… – сказал я, сжал в кулаке письмо и швырнул его за борт.
– Что с тобой? Скажи мне! Что случилось?
Я посмотрел ей в глаза:
– Мне нужно выпить. Пошли в бар.
В баре я залпом выпил двойную порцию водки и заказал еще.
– Ты меня испугал, – сказала Мичико. – Ты так побелел, как будто тебя действительно отравили. Что было в этом письме?
– Это не для «Токио ридерз дайджест».
– Я не стану об этом писать, клянусь!
– Ты помнишь твою легенду про обезьяну. Как его звали?
– Сон Гоку.
– Я получил такой же урок, как он. Они хотят, чтоб я знал, что я у них на ладони.
– Кто они?
– КГБ.
– Ты можешь объяснить подробней?
– Нет! – сказал я и выпил еще рюмку водки. – Но я в гробу их видел!
– Я не понимаю, – сказала она, потому что я дословно перевел это русское выражение на английский. – Кого ты видел в гробу?
Я не успел ответить, потому что по радио вдруг сказали:
– Mister Vadim Plotkin from International Press. Please come to the second desk immediately! – И повторили по-русски с финским акцентом: – Мистер Плоткин из Международной прессы. Пожалуйста, пройдите на вторую палубу немедленно!
– Могу я пойти с тобой? – спросила Мичико.
Я пожал плечами и пошел на вторую палубу. Там, у трапа, стоял помощник капитана, кутаясь от дождя в плащ.
– Вы мистер Плоткин? – спросил он.
– Кажется, да…
– Похоже, кто-то хочет повидать вас. – И он кивнул на причал в сторону морского вокзала.
И только тут я увидел, что оттуда идут по морскому пирсу Аня и майор таможенной службы – тот самый, с волчьим лицом, который проверял мой чемодан, коллекционировал мои книги и подложил мне письмо от генерала Быкова.
– Я могу сойти вниз? – спросил я у помощника капитана.
– Только на минуту.
Я сбежал по мокрым ступеням трапа и остановился на деревянном пирсе.
Аня шла ко мне, близоруко щурясь своими шальными зелеными глазами, в мокром от дождя желтом платье и с какими-то мокрыми цветами в руках.
Она была точно такой, как двадцать четыре года назад.
Эпилог
Я свернул со 128-й дороги в Салем, проехал мимо старого краснокирпичного Музея салемских ведьм, миновал Смарт-маркет, где всего две недели назад, перед поездкой в Россию, покупал кукурузные и овсяные хлопья, сухофрукты, быстрорастворимый завтрак и «Пепту-бисмол». А еще через пару минут я уже был на тихой Alendale Road, среди одинаковых домиков, в одном из которых живут теперь моя бывшая жена и дочка. На их двери не оказалось звонка, я постучал, и дверь открыл лысый мужчина лет пятидесяти, в джинсах и кухонном переднике. В его левой руке был поднос с чашкой черного кофе, гренками и виноградом.
Я смутился:
– Excuse me. Извините. Здесь живет миссис Плоткин?
– Да, да, – ответил он по-русски, но с сильным американским акцентом. – Заходите. Вы Вадим, я знаю. Вы хотите видеть Ханочку…
– Да, – сказал я, входя. – А где она?
– Только говорите тише, – сказал он. – Лиза работает. Я сейчас приду. Одну секунду!
И он бесшумной походкой пошел из гостиной в спальню, неся на руках поднос с завтраком, а на лице – выражение счастья. Лиза работает?!! – изумился я про себя, а лысый тем временем осторожно приоткрыл дверь в спальню и сказал:
– Дорогая, твой завтрак…
И через эту щель я увидел Лизу. Она сидела спиной к двери, за бывшей моей IBM Typewriter, жадно курила и быстро, вдохновенно стучала по клавишам. А вокруг нее на полу, на кресле, на незастеленной кровати были разбросаны листы бумаги. Точно так, как они всегда были разбросаны у меня, пока я не перешел на Compaq.
– Подожди, дорогой, не мешай, – сказала она через плечо этому лысому. – Поставь где-нибудь…
Он тихо закрыл дверь, а я спросил изумленно:
– Что она делает?
– Лиза очень талантливая! Она пишет книгу, – ответил он с благоговейным выражением в голосе и в глазах. – Она уже подписала контракт с издательством через вашего агента!
– Лиза?! Книгу?! О чем?
– Она называется «Секрет семейного счастья». Это будет бестселлер! Вы послушайте только эпиграф! – И, подхватив со стола книгу «Пророк» Кахлила Чинрана, стал читать:
Любите друг друга, но не костенейте в любви. Пусть любовь будет морским проливом между берегами ваших душ. Чувствуйте чаши друг друга, но не пейте из одной чаши. Делите хлеб друг с другом, но не кусайте от одной буханки. Пойте и танцуйте вместе, но позвольте друг другу быть в одиночестве. Держите ваши сердца врозь, как одинокие струны лютни, которые настроены на один мотив. Потому что только рука Жизни может вмещать ваши сердца. Будьте вместе, но не вплотную друг к другу: Так колонны храма стоят врозь, Так кипарисы не растут в тени друг друга…Я ушел не дослушав. Я нашел свою дочку рядом с домом, и она с криком «Папочка!!!» бросилась мне на руки, а потом повела меня на детскую площадку, на качели. И там, раскачиваясь, сказала мне:
– А я сочинила про тебя историю. Ты хочешь послушать?
– Хочу, дочка, – ответил я, изумляясь тому, как сильно она повзрослела за эти десять дней.
А Хана сказала:
– Однажды жил папа, и у него была дочка. Она была принцессой. И она всегда любила, чтобы он приезжал к ней из Нью-Йорка. И тогда она пела ему песню…
И вдруг она запела негромким голоском:
Нет в мире другого такого, как ты… Ни у кого нет такой улыбки, как у тебя… Ни у кого, ни у кого Нет твоего лица, Ни у кого нет твоего подбородка, Ни у кого, ни у кого…Качели остановились, а она продолжала тянуть своим тонким голоском:
– Ни у кого…
Я протянул ей руку, и она дала мне свою маленькую белую ладошку. Я открыл эту ладошку и увидел, что это и есть ладонь Бога.
Нью-Йорк – Москва – Бостон, 1989–1990.
Примечания
1
Для удобства читателя здесь и далее перевод английского текста дан рядом в квадратных скобках. (Издатель.)
(обратно)2
Комната для хранения личных вкладов.
(обратно)3
Пособие по нищете.
(обратно)4
Международная еврейская организация (англ.).
(обратно)5
«Международный еврейский призыв» (англ.).
(обратно)6
Средство от желудочных отравлений.
(обратно)7
Бюро находок.
(обратно)8
В 1989 году заработная плата Президента СССР составляла 1200 рублей в месяц.
(обратно)9
День высадки американской армии в Европу во время второй мировой войны.
(обратно)10
Подождите (укр.).
(обратно)
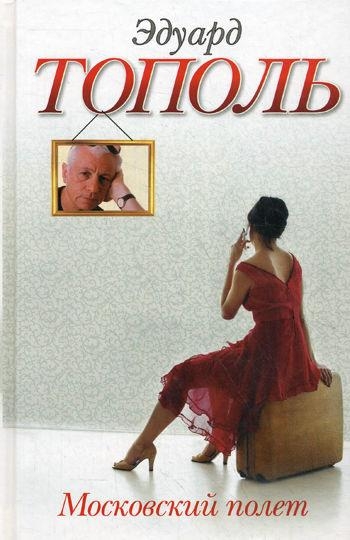




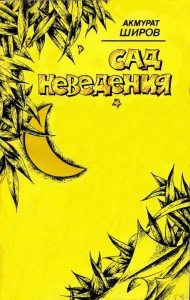


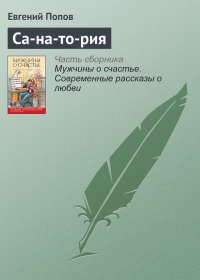


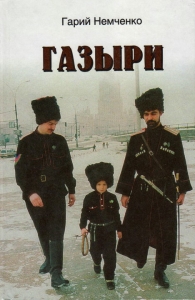
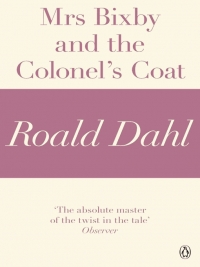
Комментарии к книге «Московский полет», Эдуард Владимирович Тополь
Всего 0 комментариев