Саша Карин
АЛИСА УБИВАЕТ ЛЮБИМЫХ
Обложка: Дарья Москаленко
И где-то хлопнет дверь,
И дрогнут провода.
Привет! Мы будем счастливы теперь
И навсегда.
Сплин. «Романс»
Посвящается А.П.
«Мы с тобой уроды, просто больные, никому не нужные уроды», – сказала Алиса. А потом мы с ней выкинули холодильник из окна.
1.
Прошло уже два года с той странной осени, когда я впервые увидел розового слона, нарисованного на обоях в комнате клуба самоубийц. Выведенный кем-то розовым мелком одним неровным движением, этот слон с самой первой ночи откровений поселился в моих мыслях, чтобы, наверно, никогда уже их не покинуть. Не раз его силуэт мерещился мне в бетонных пейзажах спальных районов, следил за мной, прячась в сером дыме московских красно-белых труб, бесшумно шел по пятам вечерами в тусклом свете фонарей. Иногда я не видел его месяцами, но с первыми опавшими листьями и сентябрьской грязью все непременно становится хуже: старые раны снова начинают кровоточить, и вместе с моей хронической тоской всегда возвращается он, большой розовый слон, чтобы уже не оставить меня в покое до первого снега. Сошедший с обоев в подвале на пустыре, он грустно смотрит на меня через окно в моей комнате своими большими безразличными глазами, подведенными розовым мелком. Вот уже вторую осень он все стоит неподвижно под аркой во дворе и ждет меня, чтобы дать мне последнюю дозу нашего с Алисой «special k» и отправить меня к ней. Вот уже вторую осень я прячусь за своими ненадежными керамзитобетонными стенами, скрываясь от того, что было, и не выхожу из дома, пока не пройдет последний осенний дождь.
Я заболел две осени назад, когда попал в клуб самоубийц и встретил Алису. Перед тем, как все началось, в тот год, в начале серого московского сентября, внутри у меня было пусто, и я всерьез подумывал, как бы лучше и безболезненней со всем покончить. Хорошо помню вечер, когда твердо все для себя решил. Я сидел один в окружении стен, час или два, неподвижно и безо всяких мыслей. Все вокруг меня было мертво, и сам я был мертв. Мое одиночество давно уже стало темным, тяжелым и глухим, и я, как мне казалось, дошел уже до точки невозврата. Впав в то последнее состояние, когда не мог думать уже ни о чем, кроме как о поиске идеального выхода, я мечтал только о мгновенном и, желательно, безболезненном выкидыше с планеты, но боялся облажаться и остаться до конца дней слюнявым овощем, прикованным к больничной койке. Только это меня и сдерживало, вернее, это просто сводило меня с ума, и долгое время я не мог решиться перейти черту из-за страха открыть после всего глаза и понять, что ничего не кончено.
Бывает, что-то – no escaping gravity, как сказала бы Алиса – будто держит тебя за руку и никак не хочет отпускать на тот свет. Я знал это, потому что уже был свидетелем таких неудач. Как-то моя соседка по лестничной клетке спрыгнула с одиннадцатого этажа, упала в снег и осталась жива. После этого я стал часто видеть ее днем: она сидела на лавке у подъезда, всегда на одном и том же месте, иногда даже здоровалась со мной, но чаще – просто сидела, не двигаясь, и молчала, погруженная в остатки мыслей. Ходила она сама, но опиралась на трость, а голос у нее все время был пьяный. Завела себе двух мелких собак, которых постоянно выгуливала, и хрипло кричала на кого-то по ночам за стеной. Странная, полуживая и полумертвая, она стала безобидным призраком нашего дома, с существованием которого всем приходилось мириться. Для меня она, вероятно, уже навсегда останется частью той скамейки у подъезда, что при выходе нужно было быстрее проскочить, не поднимая глаз.
Был еще один случай, от которого у меня волосы встают дыбом каждый раз, как о нем вспоминаю. У моего знакомого была подруга, которая хотела покончить с жизнью после неудачного романа. Она часто говорила об этом, но никто, как обычно, не верил, что она это всерьез. А девчонка основательно подготовилась: она жила в старой пятиэтажке с родителями, но специально дождалась их отпуска, чтобы те надолго уехали из дома. Оставшись в одиночестве, она закрылась в квартире и включила все конфорки на газовой плите. Видимо, боялась, что испугается и передумает в последний момент, поэтому на всякий случай приковала себя железной цепью к батарее на кухне, чтобы не было возможности сбежать, а ключ выкинула в коридор. Ее план был идеален. Почти. Не знаю, когда именно она поняла, что забыла закрыть окна. Ее родителей не было дома три недели, и из-за границы они слали сообщения, потому что это дешевле, чем звонить. А когда они вернулись домой и открыли дверь, то увидели труп своей дочери, прикованный к батарее на кухне. Девчонка умерла не от отравления газом, как планировала, а от истощения всего в нескольких шагах от холодильника и от ключа. Ее севший мобильник лежал рядом на столе и был забит смс-ками. Не могу представить, сколько она протянула там одна, сильно ли страдала, о чем думала в тот момент, когда угасла последняя надежда, но такую смерть никак не назовешь идеальной.
В общем, каждый раз, подходя уже к самой черте, я вспоминал о таких вот случаях и не решался сделать последний шаг из-за страха перед неудачей. Вот почему я был еще отчасти жив две осени назад. Тогда мне казалось, что преодоление этого страха было для меня лишь вопросом времени, ведь я находился в глубочайшей депрессии, выхода из которой уже и не искал. Рано или поздно я бы, возможно, добился желаемого и отправился на тот свет или продолжил бы существование, как и моя соседка, став собственной тенью на какой-нибудь лавке, если бы не цепь событий, благодаря которым я попал в клуб самоубийц, встретил всех этих странных людей, вроде меня самого, впервые увидел розового слона, нарисованного кем-то розовым мелком на бетонной стене, и познакомился с Алисой. До сих пор не знаю, спасло ли все это меня из той черной глухой пустоты, в которой я тонул, но точно подарило мне уверенность в том, что я не одинок, ведь у меня появилась Алиса, у нее появился я, и мы вместе разделили нашу кетаминовую меланхолию.
Когда я вспоминаю о том времени, мне становится как-то по-хорошему тоскливо, потому что я тогда был повернут на этой девушке, и весь мир вокруг меня как будто горел. А она, кажется, никогда не была в меня влюблена, поэтому я могу только догадываться, что творилось у нее внутри.
2.
Как я уже сказал, все началось в сентябре два года назад. Тогда меня только выперли из универа, и родители, которым я надоел, сослали меня к тетке. Туда я переехал с одной сумкой и гитарой, чтобы как будто начать писать жизнь с чистого листа, хотя я-то всегда знал, что почерк у меня был поганый, и все это было глупой затеей. Тетка жила далеко за МКАДом, и ко мне стали редко заходить друзья. Время я стал проводить не вылезая из комнаты, только и делал, что сутками смотрел мультики по старому рябящему телику. Я был совершенно потерян и разбит, старался не думать о будущем, которое казалось мне пугающим и безвыходным. Тогда-то меня и начали посещать плохие мысли, я сильно похудел и с каждым днем накручивал себя все больше и больше.
Как-то раз меня все же навестил мой старый хороший приятель и, когда увидел, как я консервируюсь, позвал меня пошататься. В то время на него что-то нашло, он начал увлекаться фотографией, особо тронувшись на индустриальных пейзажах, романтике обоссаных стен, старых руин и всякого такого. В тот день фотоаппарат у него был при себе, поэтому он позвал меня прокатиться с ним до места съемки. Мне было все равно, лишь бы вырваться куда-нибудь, и я согласился.
Всю дорогу, пока мы ехали в электричке за город, друг пытался меня развлечь. Он все говорил и говорил, рассказывал о забавных вещах, а от меня требовалось улыбаться и кивать в нужных местах. В этом было что-то больное и неискреннее – в том, как он нарочно пытался меня развеселить и в том, как я старался его не обидеть. Наверно, все дело было в моем состоянии, но даже от такой простой и невинной лжи, меня чуть не выворачивало наизнанку.
К вечеру мы добрались до старого заброшенного комбината, зарастающего травой за ржавым забором с колючей проволокой. Чтобы перелезть через него, нам пришлось накинуть поверх проволоки автомобильный коврик, найденный на свалке рядом. Потом с полчаса мой друг ходил по пустырю и снимал все подряд в черно-белом режиме, а я следовал за ним. Мне было откровенно скучно, а он все старался меня развлечь разговорами, от которых становилось только хуже. Как со мной часто бывает, настроение испортилось само по себе с наступлением темноты, к тому же я умудрился еще и несильно пораниться, пока перелезал через тот чертов забор, поэтому очень скоро запросился домой. Друг был не против, он быстро сфотографировал главный корпус с нескольких ракурсов, и мы уже начали было собираться, когда я заметил то странное объявление посреди окружающей пустоты. На оборванном клочке бумаги, прикрепленному к стене у заколоченных дверей, было написано: «Ночные встречи Клуба Самоубийц каждую субботу в 23-00, вход с обратной стороны, комната с розовым слоном». Эта надпись так меня заинтересовала, что всю обратную дорогу я думал о тех сумасшедших людях, что субботними ночами собираются в подвале заброшенного комбината и проводят таинственные сеансы социальной терапии. Я закрывал глаза и представлял, как они, несчастные и потерянные, внеземные и грустные, сидят полукругом в тусклом свете фонаря или лампы, шепотом исповедуясь друг другу в самом сокровенном, в том, что никогда не выйдет за пределы этих старых стен. И я уже не мог выкинуть этого из головы. Клуб самоубийц поглотил меня до того, как я побывал на первой ночи откровений.
Друг проводил меня обратно до дома, пожал мне руку, улыбнулся и обещал обязательно позвонить на днях, чтобы пересечься, но так и не позвонил. А в следующую субботу я снова поехал на комбинат, но уже в одиночестве. Несмотря на то, что мне было немного не по себе шататься ночью по неизвестному пустырю, никого звать с собой я не стал, боясь, что меня примут за сумасшедшего. Вероятно, я действительно начал сходить с ума, раз так ухватился за эту хрупкую соломинку – странное объявление, которому было, возможно, уже несколько лет. И все же где-то в глубине души я чувствовал, что обязан побывать в комнате с розовым слоном, иначе просто не смог бы заснуть. С собой я взял плед, чтобы накинуть его на забор, фонарик, бутылку воды и, на всякий случай, блокнот с ручкой, если придется что-то записывать. Мне и самому было невероятно смешно от того, с какой ответственностью я подошел к своей сомнительной затее, и все же ничего не мог поделать с пожирающим меня любопытством.
В половину одиннадцатого, за полчаса до времени, указанного в объявлении, я уже был на месте и решил немного осмотреться. Плед мне не понадобился, потому что, обойдя территорию завода с обратной стороны, я нашел лазейку в заборе, рядом с которой была притоптана трава. Я раздвинул сетку и пролез внутрь, оказавшись прямо напротив спуска в подвал. Простояв несколько секунд в тревожной нерешительности перед темным проходом, я всматривался и вслушивался, но вокруг не было ничего, кроме мрака и тишины. Тогда наполовину наощупь я спустился по сбитым бетонным ступеням вниз и пошел по какому-то коридору вслед за блеклым кругом света от фонаря, уже жалея о том, что делаю. И хотя сердце билось как сумасшедшее, ноги все равно несли меня вперед.
Наконец я дошел до тупика и уперся в большую железную решетчатую дверь, дернул ее несколько раз, попытался толкнуть, но она никак не поддавалась. Я постучал, еще немного потоптался на грязной мокрой тряпке перед дверью и уже развернулся, чтобы уходить, когда за моей спиной вдруг взвыли железные петли. Я не почувствовал страха, даже не сильно удивился, когда изнутри раздался мягкий женский голос, попросивший меня вытереть ноги перед тем, как входить. В темноте я почему-то кивнул, как будто был готов ко всему этому, как будто я уже бывал здесь прежде, но в другой, давно позабытой жизни, и уже подсознательно знал, как здесь все устроено. Я кивнул, вытер грязь со своих ботинок о грязную тряпку и переступил порог клуба самоубийц.
3.
Каждый раз вспоминая о своей первой ночи откровений, я вспоминаю об Алисе и о том впечатлении, которое она на меня произвела, когда я только ее увидел. В полумраке Алиса сидела в своей майке с надписью «Nirvana», чуть сгорбившись, у дальней стены. Кроме нее, в комнате было еще с полдюжины человек, но я не смогу с уверенностью описать каждого из них. Время стерло всех их из моей памяти, оставив лишь нечеткие призрачные контуры фигур, будто расставленных по разным углам. Они были молоды, но мертвы, в их медленных движениях и блуждающих догоревших взглядах я читал смерть и одиночество. Все они представлялись мне неразделимым целым, сгустком теней, лишенным индивидуальностей. В совершенстве же я знаю лишь внешность Алисы. У нее были красивые тонкие ноги, бледное лицо, короткие волосы и болезненное, но живое безумие в глазах, в которое я сразу же влюбился, как только мы встретились взглядом. Я не смогу описать этот момент, не смогу передать тех чувств, что испытал, находясь там, под этим взглядом, в самом центре мирового одиночества, среди горстки несчастных, потерянных людей. На многие километры вокруг не было никого, кроме нас, но я отчего-то почувствовал себя по-настоящему живым. За это я благодарен Алисе.
Я еще не мог знать, что меня ждет, что мне предстоит делать, но, словно следуя какому-то инстинкту, я опустился на пол напротив Алисы, став частью круга теней. Женщина постарше остальных, что встретила меня на пороге, подошла поближе, склонилась к моему уху и шепотом попросила выключить мой фонарь, потому что источник света должен быть только у нее, и когда все начнется, она сама его включит – это было вроде как частью ритуала. Женщину называли Первой, но я почему-то сразу прозвал ее змеей, так она была на нее похожа, не столько внешностью, сколько, наверно, манерой речи и тем, как она держалась – только и делала, что ползала вокруг и что-то шептала. Первая была здесь главной, хотя сама она говорила, что в клубе самоубийц все были одинаково мертвы и, следовательно, равны. Я сразу в эту чушь не поверил, но все же сделал, как она сказала, и наш маленький мир погрузился во тьму.
До одиннадцати часов мы ждали остальных, а когда время пришло и круг пополнили еще несколько призраков, Первая наконец включила свой большой фонарь, лежавший на коленях, и ее довольно молодое, но уже старчески печальное лицо осветил луч неяркого света, а на дальней стене, прямо за узкими плечами Алисы, будто вышел из тени розовый слон. Первая улыбнулась и сказала мне, чтобы я не волновался, что я сам все увижу и пойму. Так началась моя первая ночь откровений.
Правила тут были просты: все говорили по очереди, передавая фонарь по кругу. Слово предоставлялось каждому, и каждый обязан был рассказать о себе только чистую правду, вскрыть свою душу, показать в свете фонаря ее самые темные и потаенные уголки, свои чувства и переживания, которыми нигде и ни с кем больше, кроме клуба самоубийц, невозможно было поделиться. Пока один говорил свою исповедь, держа фонарь на коленях, другие обязаны были его выслушать, сохраняя молчание до самого конца, пока не будет сказано последнее слово. После того, как говорящий сказал все, что хотел сказать, он выключал фонарь, и в полной темноте каждый из членов клуба мог высказаться по поводу того, что только что услышал. Иногда присутствующие успокаивали и поддерживали исповедующегося, а иногда – осуждали его, если всем казалось, что он сам виноват в своих бедах.
В общем, клуб самоубийц был убежищем абсолютной, иногда дикой и жутковатой искренности, и был призван помочь разобраться в себе и найти ответы на самые страшные вопросы тем, кто рискнет их задать. В этой темной комнатке с розовым слоном вскрывались душевные вены людей, решивших по определенным причинам распрощаться с жизнью. Задача же членов клуба состояла в том, чтобы вынести приговор – стоит ли исповедавшемуся осуществлять задуманное или все еще можно исправить. Я с самого начала ожидал от сборища самоубийц чего-то в таком сумасшедшем духе, и все же, как оказалось, не был готов ко всему происходящему.
Сначала фонарь взяла девчонка на пару лет помладше меня. Она была в рваных джинсах, не по размеру большой грязной куртке и со спутанными волосами. Когда луч света осветил ее лицо, которое я помню очень смутно, девчонка опустила глаза и начала гипнотизирующим шепотом рассказывать о своих странных отношениях с каким-то парнем-спортсменом, который якобы старался избегать ее на людях. Они учились в одной школе, и он ее вроде стеснялся. В темноте я даже ухмыльнулся, потому что меньше всего мне хотелось слушать эти розовые сопли, но потом, спустя пару минут, девчонка со спутанными волосами дошла до таких подробностей их личной жизни, что мне захотелось закрыть уши. Я определенно не был готов к такому: своим тихим тонким голосом она говорила о том, как ее парень, однажды напившись, взял ее сзади и спустил все внутрь, а потом несколько недель скрывался, не отвечал на звонки и даже не выходил на занятия. Все обошлось, она не залетела, но этого парня так и не простила. Когда же он наконец объявился и предложил остаться друзьями, то девчонка согласилась, но только для того, чтобы отомстить. У нее совсем поехала крыша от всей этой любви. Они снова стали сидеть за одним столом в столовой, каждый день она дружески ему улыбалась, а сама незаметно добавляла лошадиные дозы женских гормонов, которые нашла у матери, ему в еду. Очень скоро парень начал вести себя странно, стал депрессивным и замкнутым, а после этого изменилась и его внешность: он потолстел, обмяк, его грудь с огромными сосками, которые стало нелегко скрывать под футболкой, стала выпирать все сильнее и все больше походить на сучье вымя. Парень делился своими проблемами с ней, с этой девчонкой, плакал, говорил, что не может прийти в форму, несмотря на постоянные тренировки, а еще стал чувствовать частые тупые боли в животе. Девчонка выслушивала все это нытье, успокаивала и держала его за руку, а потом – просто увеличивала дозу. И однажды весь этот затянувшийся анекдот вдруг закончился: у парня возникли серьезные проблемы с печенью или чем-то таким, и он загремел в больницу. Через несколько месяцев он выкарабкался с инвалидностью и букетом психических расстройств. О спорте уже не могло идти и речи, а в школу он так и не вышел, оставшись на домашнем обучении. Как-то эта девчонка увидела его на улице – он, болезненный и сгорбленный, шел под руку с матерью через дорогу. Ничего, кроме жалости, к нему испытывать уже было невозможно, и тогда она, увидев последствия своей мести, почувствовала себя виноватой. Вот так девчонка со спутанными волосами решила покончить с собой и прийти в клуб самоубийц.
Фонарь погас, и на меня обрушились мрак и тишина. Очень странное чувство. Какое-то время все молчали, и я молчал вместе со всеми, потому что, ну, что тут вообще можно сказать? Возможно, в другой ситуации, в другом времени и месте я бы просто посмеялся над этой сумасшедшей историей, но тогда, на пустыре в окружении теней мне стало совсем не по себе. Вскоре мои глаза привыкли к темноте, и я увидел, как девчонка со спутанными волосами грызет ногти в ожидании приговора. Мне стало ее жалко, в конце концов, она же не могла знать, до чего все дойдет, да и сам парень, как мне кажется, был тем еще говнюком. Я даже открыл рот, чтобы сказать что-то ободряющее, но Первая меня опередила. Ее громкий холодный голос вспорол окружающую тишину: «Ты можешь уйти».
Вот и все, что сказала Первая, а девчонка просто шепнула что-то вроде «спасибо», и фонарь тут же перешел к следующему. По спине у меня побежали мурашки, я не мог поверить, как легко было выдано это моральное разрешение на самоубийство, и как легко оно было принято. Снова зажегся свет фонаря, луч поймал другое лицо, и из темноты снова проявился розовый слон на дальней стене. Заговорил какой-то длинноволосый худощавый парень, но я до сих пор смотрел на ту девчонку. Она все еще сидела не двигаясь, послушно и тихо, а по ее левой щеке медленно сползала одинокая слеза.
За ночь фонарь выключался еще несколько раз, пока не совершил полный круг. Я воспользовался правом пропустить свою очередь. Не услышал я тогда и исповедь Алисы, которая также решила промолчать. Остальные же истории, что рассказали тени, были совершенно не похожи друг на друга, но было в них что-то общее. Я бы сказал, что все они были о страдании и непонимании. Парень с длинными волосами стыдился своей внешности, из-за чего не мог нормально общаться с людьми, не мог даже взглянуть в глаза девушке, которая давно ему нравилась, от чего очень страдал и даже хотел покончить с жизнью. Еще был персонаж, сдвинутый на фильмах про самураев, хотя я совершенно не помню, от каких проблем хотел сбежать он. В общем, это были довольно обычные истории несчастных, слишком чувствительных людей, не нашедших место в жизни, и в каждом из них я угадывал себя. Сидя в сыром подвале и наблюдая за тем, как на моих глазах вскрываются души, я постепенно начал впадать в какой-то транс, и мне вдруг подумалось, что трагедия этих людей состоит не в том, что им пришлось перенести, а в том, что с самого начала они не были приспособлены к этой жизни, наверно, как и я сам.
Мы вышли все вместе из подвала только под утро, окунувшись в густой предрассветный туман, и я почувствовал себя убитым, потерянным, сбитым с толку. Я старался держаться, даже улыбнулся призракам на прощание, еще хотел поймать ту девчонку со спутанными волосами, чтобы успокоить, но она, видимо, успела выскользнуть раньше меня. Честно говоря, я за нее боялся, ведь в ту ночь она была единственной, кому вынесли приговор, а я ощущал себя причастным ко всему случившемуся. Помню, тогда я даже подумал, что все это не для меня, решил больше не приходить в клуб самоубийц, и жалел только о том, что так и не смог заговорить с Алисой. Наивно было обманывать себя, что не вернусь, но так почему-то было спокойнее.
Поднявшись из подвала в свежую пасмурную осень, я направился к станции, не подозревая о том, что во мне уже поселилось это заразное безумие, подхваченное в комнате с розовым слоном.
4.
Потом зарядили дожди, и всю следующую неделю я провел в привычной для себя коме. У меня было достаточно одиночества и времени обо всем подумать, поэтому я только и делал, что выбирал музыкальное сопровождение для своей меланхолии и углублялся внутрь себя, медленно шел ко дну под тяжестью бетонных блоков своих странных, пугающих мыслей. Друзья мне не звонили, но я не обижался, ведь у всех, как я думаю, были дела – учеба, работа или чем там еще обычно заняты нормальные люди – а у меня не было ничего, и я совершенно не был занят, да и к тому же, в последнее время все равно ходил скучный и мрачный, так что наверняка бы испортил всем настроение. Даже тетка не дергала меня без особой причины, наверно, чтобы лишний раз не расстраиваться. В общем, все оставили меня в покое, поставив на мне крест, и я просуществовал в своей конуре очередную одинокую неделю. Я выпал настолько, что, выйдя в магазин, искренне удивился, увидев у себя под ногами ковер из опавших листьев. Все больше мне казалось, что моя жизнь состоит из редких, не связанных сюжетом сцен с постоянной бессмысленной сменой декораций, за которыми я даже не успеваю следить. Однажды – уверен, что так и будет – я совсем утону в глубинах своего состояния, а когда захочу всплыть, то будет уже зима, и мне придется биться головой о толстый лед, чтобы вернуться в реальность.
Несмотря на то, что заняться мне было откровенно нечем, в следующую субботу я не поехал на комбинат, потому что думал тогда, что с ним и со всем этим безумием покончено. И хотя из дома я действительно не вышел, но закрыться от собственных мыслей мне все же не удалось. Вот почему ночью я лежал с открытыми глазами. За окном дождь никак не прекращался, и я подумал, что, если все это время заливало и на пустыре, то, должно быть, подвал с розовым слоном затопило, и призраки сидят там в эту самую минуту на сыром полу и шепчут свои исповеди под аккомпанемент бегущих по бетонным руслам потоков воды. Вспомнив о клубе, я вспомнил и об Алисе, а вспомнив о ней, уже ничего не мог с собой поделать, и думал только о ней до самого утра. И чем больше я думал об Алисе, пока лежал в темноте, тем прекрасней она мне казалась. Я присутствовал наполовину в своей комнате, наполовину летал где-то далеко, рассматривая со всех сторон ее узкие плечи и короткие мальчишеские волосы, а за окном барабанил дождь, сменившийся к рассвету проснувшимися птицами...
Было уже около пяти часов, когда я наконец начал засыпать, и вдруг услышал негромкий всхлип за стеной. Несколько минут я прислушивался и убедился, что мне не послышалось. Тетке в ту ночь тоже не спалось, она тихо плакала на кухне. И, наверно, мне стоило бы подняться и выяснить, в чем там дело, но я не стал. Просто решил, если кто-то не спит в пять часов, то его и трогать не стоит. Засыпая, я надеялся только, что это не из-за меня.
Я проснулся уже посреди чьего-то дня, когда солнце готовилось упасть. Но для меня это было как раннее утро – по возможности я старался вставать как можно позже и был бы рад всегда существовать только темноте, в которой все кажется прекрасней, чем при солнечном свете. В квартире было пусто, тетка куда-то ушла, и я почему-то чувствовал себя виноватым. Не было никакого настроения сидеть в моей бетонной конуре, так что я пошел шататься. На улице было тепло, дождь закончился, а я как обычно оделся не по погоде: пришлось сразу снять шапку и расстегнуть куртку. Сначала я решил, что просто немного пройдусь по району, но, дойдя до перекрестка, мне вдруг захотелось его перейти и направиться дальше по дороге. Идти просто так, куда-нибудь или никуда, вдаль, по раздолбанному асфальту, чтобы думать только о том, как сделать следующий шаг и ни о чем больше. Так я дошел до железнодорожной станции, купил билет до выбранного наугад места и вышел на платформу. Я ввалился в вагон и уставился в окно. И тогда-то, в густом дыму больших красно-белых труб промышленных зон, я вдруг увидел его – розового слона, сошедшего с дальней стены комнаты клуба самоубийц. Он, такой огромный, розовый и ко всему безразличный, плыл по серому небу тяжелым облаком, с медленно отрывающимся хоботом, задевающим провода. Я подумал, что розовый слон меня преследует, хотя дело, наверно, было не в нем, а во мне самом и в Алисе, о которой я никак не мог забыть.
Я сошел на неизвестной пустой станции, когда уже почти стемнело, и опустился на скамейку. Розовый слон остался позади, его размазало ветром по небу, а я оказался один посередине осеннего грязно-серого ничего и вдруг подумал – и эта мысль меня тут же парализовала – что если Первая вынесет приговор Алисе, как и той девчонке со спутанными волосами? Что если Алиса решит уйти, а я так и не услышу ее голоса, не узнаю причин, по которым она пришла в клуб самоубийц, не увижу больше ее сгорбленную фигуру у стены, так с ней и не познакомлюсь? Моя жизнь тут же представилась мне чередой упущенных возможностей.
Солнце скрылось за бетонным массивом неизвестного, но являвшегося точной копией любого другого московского спального района, а я вдруг понял, как мне не хватает этой совершенно мне незнакомой девушки, Алисы, ее узких плеч и коротких волос, превратившихся в моем воспаленном сознании в идеал всего, что я когда-либо видел в жизни, о чем я когда-либо мечтал. Чувствуя себя совершенным безумцем, я встал со скамейки, потому что не в силах был больше сидеть на месте в потоке мыслей, спустился вниз по переходу и поднялся на другую платформу, чтобы дождаться обратного поезда.
После я несколько дней я пытался найти следы клуба самоубийц в сети, но это было непросто, ведь у него не было официальной страницы или группы в социальных сетях. Всего этого и не должно было существовать, и, хотя я прекрасно это понимал, все же с какой-то одержимостью, которую уже давно ни к чему в своей жизни не испытывал, продолжал искать хотя бы старую и тонкую, затерявшуюся на старых форумах, нить, что приведет меня в подвал заброшенного комбината. Я просто отказывался верить, что вся информации о существовании клуба состояла в одном только объявлении на пустыре, но любой поисковый запрос, хотя бы отдаленно связанный с клубом, неизбежно приводил меня в тупик. Тогда я, почти отчаявшись, обратился к последнему, что мне оставалось – почти наугад я стал пробивать людей, которых видел в тусклом свете фонаря в комнате с розовым слоном, пользуясь довольно смутными описаниями их внешностей. И вдруг, неожиданно для себя самого, я откопал кое-что о той, кого называли Первой. Она или, возможно, кто-то сильно на нее похожий был зарегистрирован на левом сайте, посвященном общению о парапсихологии или чему-то в таком духе. В цепочке старых сообщений я нашел пару мест, где она вскользь упоминала о том, как работала в ветеринарной клинике и что у нее есть выход на сильные анестетики, позволяющие «вырваться из телесной оболочки», а в особо крупных дозах даже – «безболезненно и стопроцентно эскейпнуться» из реальности. И если предположить, что все это было правдой, что это действительно была Первая, то корни клуба самоубийц могли расти отсюда. Тогда я решил, что мне нужно обязательно вернуться в комнату с розовым слоном, чтобы убедиться во всем наверняка. Я просто придумал себе эту причину, ведь на самом деле мне просто очень хотелось увидеться с Алисой.
В субботу, когда уже стемнело, я собирался выходить из дома, чтобы поехать на пустырь. Стоял и одевался в прихожей, когда на мою тетку что-то нашло. Так не вовремя она была в плохом настроении и решила устроить мне спонтанный разнос: пока я зашнуровывал ботинки, стараясь ее игнорировать, она кричала, чуть не срываясь на плач. Она говорила, что ей не нравится, что я делаю со своей жизнью и с жизнью своих родителей – обычное дело, чтобы развести ссору на ровном месте. Мне кажется, настоящая причина была в том, что тетке просто не особенно улыбалось, что меня отселили к ней. Впрочем, мне было все равно. Когда я поднялся и сказал, что и сам не знаю, что делаю с собственной жизнью, она вдруг как в припадке схватила мой плеер, оторвав его от меня вместе с наушниками, и со свей силы метнула в стену. Я слышал, как что-то у него внутри хрустнуло, и он упал, потухший и замолкший, на пол. Я не был зол на тетку, просто закрыл за собой дверь, но внутри у меня было пусто, как будто меня только что лишили какой-то моей важной части, вырвали внутренний орган. Я остался один в тишине, со мной уже не было музыки, поэтому дорога до пустыря превратилась в сущий ад, ничто теперь не могло спасти меня от собственных мыслей. Мне подумалось, что, если бы в одну из тех бесконечных минут мне предложили стереть меня вместе со всеми доказательствами своего существования, я бы не раздумывая согласился.
5.
Первая встретила меня на пороге у железной двери с приятной неживой улыбкой, как в прошлый раз. Я же находился в отвратительном настроении, и, кажется, Первая это заметила. Пока я вытирал ноги, она слегка дотронулась до моего плеча и сказала своим тихим голосом, что узнала меня, а потом поинтересовалась, почему меня не было на предыдущей ночи откровений. Я соврал, что у меня были дела. «Разве у уставших от жизни бывают дела?» – спросила Первая. И, в общем, была права, так что я не нашел, что ответить.
Войдя внутрь, я сразу же отыскал глазами Алису – она сидела все в той же черной майке с надписью «Nirvana» у дальней стены – и, увидев ее на прежнем месте, немного успокоился. Я пересек комнату, чтобы опуститься на пол рядом с ней. Алиса не посмотрела на меня или просто притворилась, что не посмотрела, а я тоже изобразил незаинтересованность. Я просидел так, не поворачивая головы, как мне казалось, целую вечность, но все равно мог видеть ее бледный профиль боковым зрением, в сырой темноте мог слушать ее дыхание, чувствовать ее запах. Даже находясь в этом странном положении, я успел заметить, что руки Алисы были художественно порезаны: ее бледные запястья покрывали не просто шрамы, а рисунки, от которых веяло какой-то трагичной, безумной, гипнотической, нездоровой красотой. Мы были друг другу как будто безразличны, мы даже не были знакомы, но я готов был поклясться, что понимаю ее. Одиночество Алисы уже вошло в привычку, как и мое, и, наверно, поэтому мы, привыкшие быть одинокими, так и не заговорили друг с другом хотя бы из вежливости вплоть до одиннадцати, пока в комнате с розовым слоном собирались опоздавшие призраки. Меня очень смущало это молчание между нами, внутри я кипел и ругал себя матом, но все же ничего поделать не мог. А потом струна порвалась, и началась ночь откровений.
Речь первого призрака затянулась. Он все говорил и говорил, плакал, сознаваясь, кажется, во всех своих грехах начиная с самого детства, а фонарь трясся у него на коленях, из-за чего по бетонным стенам скользили огромные тени, и можно было подумать, будто мы на корабле и попали в шторм. Парню было лет двадцать пять, но у него уже были глаза старика, он был выжат, в нем уже не оставалось ничего живого. Я даже подумал, что в таком случае смерть может быть лекарством. Он вдруг начал говорить громко, навзрыд, о своей матери, которая давно перестала брать трубку, когда он ей звонит. У меня появилась возможность, поэтому я собрался с духом, коснулся руки Алисы и тихо спросил:
– Ты знаешь, что происходит с теми, кому вынесли приговор?
Алиса дернулась от неожиданности, убрав руку, и медленно повернулась ко мне. Она выглядела несколько раздраженной и даже испуганной, потому что я осмелился нарушить границы ее личного пространства.
– Это значит, что они могут уйти, – тихо ответила она.
– Да, это я уже понял, но что это значит? – сказал я и вдруг заметил, что Первая смотрит прямо на меня. По ее лицу бродили тени, и я никак не мог разобрать его выражение. – Им кто-то помогает… уйти? Та девчонка, накачавшая своего парня гормонами, ты знаешь, что с ней стало?
– Наверно, ее больше нет. – Алиса нахмурилась, потому что, кажется, я начал ее раздражать. – За этим ведь все сюда и приходят, м? У всех свои причины, все хотят уйти, и кому-то разрешают.
И Алиса отвернулась, притворившись, что слушает того парня с глазами старика, который все еще говорил свою исповедь, забираясь все глубже и глубже в себя. Мне хотелось спросить Алису еще о многом, но пришлось заткнуться. Я прислонился спиной к холодной стене, запрокинул голову назад и увидел большого розового слона. В пляске теней качавшегося фонаря он, казалось, ожил, словно в такт весело поднимал и опускал свой хобот, пока под его пристальным взглядом вскрывал свою душу очередной призрак. Розовый слон показался мне древним богом, воплощением Клуба Самоубийц, которому приносились жертвы. И я возненавидел его, эти его обманчивые розовые черты, внутри которых не было ничего, кроме серого грязного бетона, обведенного розовым мелком.
Вдруг фонарь погас, и слон исчез в темноте. Первая сказала: «Ты можешь уйти». Услышав это, парень с глазами старика зашуршал в темноте, захлюпал и затараторил: «Спасибо, спасибо, спасибо, я так счастлив, теперь я могу спокойно…» – Но ему не дали договорить. Фонарь перешел к другому призраку, зажегся свет, луч выхватил очередное измученное лицо, и слон затанцевал в тенях на стене свой безумный ритуальный танец. Я взглянул на того парня и – готов поклясться – он был действительно счастлив. От этого у меня по спине побежали мурашки.
А потом, когда фонарь зажегся и погас еще несколько раз, очередь дошла до Алисы. По ее лицу я понял, что в этот раз она не хотела молчать. Я чувствовал ее волнение, видел, как дрожат ее руки, когда она взяла фонарь и поставила себе на колени. «Не надо, – почему-то шепнул я, – ты не должна». Но Алиса сделала вид, что не слышит меня, она собиралась с мыслями несколько секунд, закрыла глаза и начала свою исповедь, которую я запомнил почти дословно.
6.
В детстве Алиса жила в собственном большом доме в одном из тех элитных коттеджных поселков с пафосным названием под Москвой. У ее родителей был гараж для семейного кроссовера, большой кирпичный забор и собака, а дважды в год, летом и зимой, они путешествовали по миру: горнолыжные курорты зимой, песчаные пляжи летом. Все было прекрасно, как в сошедшей с телеэкрана американской мечте. По словам Алисы, она была счастлива, пока они жили втроем. Но потом в их семье появилось оно, невинное, но безобразное чудовище, как выразилась Алиса, которое сломало всю ее жизнь.
Алисе было шесть, когда родители сообщили, что вскоре у нее появится младшая сестра. И сначала Алиса была искренне этому рада, с удовольствием помогала выбирать одежду и игрушки, которые поспешно начали закупаться в огромных количествах, доставала родителей расспросами и рисовала картинки. Такие детские наивные картинки, на них она стояла рядом со своей будущей сестрой под деревом у дома, они улыбались и держались за руки.
Первые несколько месяцев беременности пронеслись в подобной милой суете, а потом Алиса вдруг почувствовала, что в настроении ее семьи что-то резко изменилось: мать почти перестала улыбаться, ее глаза как будто потухли, а отец стал очень молчаливыми задумчивым. Вдруг начались ссоры за закрытыми дверьми, а прежде счастливые часы семейных ужинов стали тягучими и молчаливыми. Алиса настойчиво пыталась узнать, что случилось, но ей ничего не говорили: мать только качала головой, сдерживая слезы, а отец притворялся, что ничего не происходит. От этой недосказанности равновесие Алисиного мира, всегда казавшегося ей несокрушимым и вечным, вдруг стало хрупким и перетянутым, как струна, готовая в любой момент лопнуть. Внутри у Алисы поселилось чувство тревожного ожидания приближающейся трагедии. К концу срока ее мать и отец уже стали друг другу чужими, они больше не прикасались друг другу с любовью, но до сих пор притворялись, будто все хорошо, продолжали лживо улыбаться и разыгрывать спектакль перед Алисой. Она же больше им не верила, потому что, хоть и была еще ребенком, все же понимала, что по какой-то причине все кончено, и ничего уже не будет так, как прежде.
Был солнечный весенний день, когда родители вернулись из больницы с маленьким молчаливым комочком из пеленок и простыней. Его открыли на глазах у взволнованной Алисы, и она с ужасом спросила: «Что это?». «Это твоя маленькая сестренка, – ответили ее родители. – Она не такая, как ты, но вы обязательно подружитесь». Алиса еще раз посмотрела на ребенка, взглянула на большую голову и маленькие поросячьи глазки, в которых не было и проблеска жизни, взглянула на рассеченную, «заячью», верхнюю губу, взглянула на неподвижные толстые ручки и ножки. «Это из-за этого уродца мы больше никогда не будем счастливы?» – спросила Алиса. И была права, хотя за эту правду ее и заперли на неделю в комнате.
Спустя полгода родители развелись, но это не было для Алисы большим сюрпризом, ведь уже несколько месяцев они не жили вместе: отец приезжал только на выходные. Перед тем, как окончательно уйти, одним воскресным вечером он купил Алисе любимого мороженого и завел долгий кухонный разговор в духе «мы с мамой все равно тебя очень любим». Потом, когда Алиса кивнула, что все понимает, он вдруг крепко прижал ее к себе и сказал, что будет и дальше навещать ее каждую неделю, если она не будет против. Алиса не была против, она не злилась на отца, а винила во всем сестру, о болезнь которой, как она думала, и разбился брак ее родителей.
Все летело под откос, жизнь Алисы рассыпалась на глазах. Старый дом было решено продать, и вместе с матерью им втроем пришлось перебраться в новую квартиру. Отец помогал с переездом: все вместе они в последний раз сели в большую семейную машину и выехали из больших каменных ворот, чтобы навсегда покинуть родные места. Алиса призналась, что именно в тот момент, наблюдая сквозь стекло за удаляющейся черепичной крышей, она окончательно распрощалась с детством. Наверно, в тот же момент в ее душе поселилась та ненависть к сестре, которая с годами, словно опухоль, поражала Алису все больше и больше.
Поселившись в одной из недавно выросших многоэтажек Новой Москвы, в довольно живописном, но отдаленном районе недалеко от реки, они с матерью решили начать все с самого начала. В глубине души Алиса знала, что это место никогда не станет ей домом, но все же по началу старалась поддерживать мать, и, переступая через себя, даже помогала ухаживать за сестрой. Вся их жизнь на следующие годы была принесена в жертву этому невинному безобразному чудовищу, требующему к себе постоянного внимания. Алиса же, так внезапно предоставленная сама себе, стала все больше замыкаться в своем внутреннем мирке, спасаясь от страхов окружающего. Редкие свободные часы она проводила в одиночестве, гуляла вдоль реки или сидела, свесив ноги, на плотине, наблюдая за тем, как волны разбиваются о бетон. Ее завораживала эта страшная красота, она нашептывала Алисе пугающие мысли.
Когда Алисе исполнилось тринадцать, у нее не осталось уже никого на целом свете. Отец все чаще нарушал свое обещание навещать семью – его не было рядом, когда он был так нужен. От матери Алиса тоже отдалилась: та за эти годы сильно постарела, перестала следить за собой, все свои жизненные силы бросив к ногам младшей дочери. Прежде близкие люди внезапно стали Алисе совсем чужими, поэтому ей пришлось научиться справляться одной. Алиса была несчастна, и во всем она винила это огромное тупое семилетнее чудовище, ненависть к которому заполнила ее без остатка. И однажды, сидя на плотине под проливным дождем, когда вода поднялась у нее под ногами на несколько метров, и безумная стихия готова была вот-вот сломать бетонные блоки, Алиса вдруг твердо для себя решила, что пришло время сломать эту безвыходную действительность, с которой она так долго мирилась.
Был поздний вечер, мать задерживалась в гостях, и когда Алиса вернулась домой вся мокрая, сестра сидела в полуметре от телевизора, погруженная в рекламный сюжет. Она даже не повернула свою огромную голову, когда открылась дверь.
– Хочешь посмотреть на золотую рыбку? – спросила Алиса, отжав волосы. – Это рыбка волшебная и исполняет желания.
– Хочу, хочу! – радостно закричало чудовище своим низким хриплым голосом. Оно до сих пор не выговаривало большинство звуков.
– Тогда одевайся, уродец, и пошли за мной, – сказала Алиса. Оно захлопало в ладоши, шумно поднялось с пола, радостно и неуклюже побежало в прихожую натягивать ботинки.
Они вышли из дома под непрекращающимся ливнем и направились к реке. Всю дорогу чудовище беззаботно прыгало по лужам и кричало в припадке беспричинной радости. Несмотря на то, что никого рядом не было, Алиса боялась, что их могут заметить, поэтому пыталась заткнуть сестре рот и все время оглядывалась по сторонам. Когда они дошли до плотины, Алиса помогла сестре подняться по проросшим бетонным блокам и перелезть через ржавое ограждение. Несколько секунд они стояли вместе на оглушающем ветру и смотрели вниз, туда, где у их ног бушевала стихия. Чудовище было испугано и крепко вцепилось в Алисину руку. Спутались жидкие волосы на огромной непропорциональной голове, маленькие широко расставленные глазки отчаянно искали что-то в кромешной дикой тьме, разверзшейся у крупных, широко расставленных ног. В тот момент, наблюдая за этим странным существом, Алиса впервые почувствовала к нему некое подобие жалости.
– Ну где же рыбка, Алиса? Где же рыбка? Алиса обещала рыбку, где она? – сердито кричало оно, не поворачивая головы.
– Там, плавает внизу, – говорила Алиса, – не бойся, подойди поближе.
– Нееет, я упаду!
– Не упадешь, уродец, если что, я тебя удержу, – говорила Алиса, и по ее лицу текли слезы. – Обещаю.
– Хорошо, только если Алиса удержит! – Оно отпустило Алисину руку и сделало несколько маленьких шажков вперед. Время остановилось для Алисы: капли повисли в воздухе, замерли разъяренные волны, мгновенно стих ветер, сбивавший с ног.
– Прости меня, уродец, – шепнула Алиса, закрыла глаза и толкнула чудовище, сломавшую ее жизнь, с обрыва.
И тогда кто-то будто снова завел часы, выкрутив все громкости на максимум. Мир ожил после короткой перезагрузки и заработал на удвоенной мощности. Механизм продолжил работу, лишившись одной маленькой уродливой детали. В окружающем реве стихии не было слышно ни вскрика, ни хруста. Монстр бесследно исчез в тишине, а Алиса впервые за долгие годы почувствовала себя свободной и вместе с тем совершенно пустой. Несколько секунд она простояла неподвижно, тупо всматриваясь в шумные волны, разбивающиеся о бетонные скалы под ее ногами, и не могла поверить, что все было кончено. Все действительно было кончено: Алиса убила свою любимую младшую сестренку, ту самую, с наивного рисунка, провисевшего столько лет на холодильнике. Это было похоже на ужасный конец ужасной сказки. И мир ревел от счастья вместе с Алисой. И мир кричал и плакал вместе с ней.
Когда Алиса, вымокшая до нитки, вернулась домой одна, ее мать уже сидела за столом на кухне с чашкой давно остывшего чая, уставившись стеклянными глазами в одну точку, как будто уже почувствовала, что случилось что-то страшное. «Где твоя сестра? – спросила она как под наркозом. – Где вы были?» Сначала Алиса промолчала, медленно разделась и повесила мокрую одежду в шкаф, из-за чего на его полу сразу возникла лужа. А потом прямо из прихожей тихо призналась, что они с сестрой были на плотине, что с этим монстром покончено, что они остались навсегда вдвоем, и, возможно, теперь будут счастливы. Сказав это, Алиса в каком-то трансе прошла в свою комнату и закрыла за собой дверь. Не сразу обрушилась истерика, потребовалось несколько секунд перед тем, как пришло осознание, и тогда черной бушующей рекой крик, вырвавшийся из самых глубин материнской души, заполнил бетонную пустоту стен.
С того дня прошло уже шесть лет. Мать сохранила тайну, но так и не простила Алису, перестав видеть в ней свою дочь. Мечте не суждено было сбыться: за все это время они не были счастливы ни дня, а полгода назад мать не выдержала и повесилась в шкафу с разбухшим от воды деревянным полом. Вот почему одинокая девятнадцатилетняя Алиса, похоронившая своих любимых, решила умереть и пришла в клуб самоубийц.
7.
Когда фонарь погас, комнату с розовым слоном наполнил густой мрак, выбивший меня из гипноза Алисиных слов. Исповедь была закончена, воздух снова сперла эта проклятая тишина, в которой все боялись даже пошевелиться, и я был вместе со всеми – словно связан по рукам и ногам. Меня поразила эта вырванная с нервом история, изложенная в одном неудержимом потоке болезненного сознания. Никогда еще я не узнавал о другом человеке так много, никогда еще я не чувствовал столько чужой боли, отчаяния и одиночества, которыми меня накачала Алиса. Она вскрыла свою душу, совершила моральное сэппуку, вывалив на бетонный пол подвального клуба свои внутренности. Она предстала во всем этом чокнутом великолепии, пустила нас к себе под кожу, чтобы мы порылись там в поисках несуществующего ответа и вынесли приговор. Но разве можно быть хоть немного объективным после услышанного?
От этой давящей со всех сторон невыносимой тишины, от сырого ожидания и неизвестности можно было сойти с ума. Никто не хотел говорить, все ждали слов Первой. А я будто впал в какую-то кому. Все думал о том, можно ли соврать Алисе, как-то подбодрить ее, сказав, что-то в духе «ты не виновата» или «все будет хорошо»? Изменило бы это хоть что-нибудь? Я не знал, потому и молчал, боясь сделать все только хуже. Я просто пытался всмотреться в лицо Алисы, прочитать ее, но она была отрезана от меня стеной непроницаемой темноты. Мне оставалось только смириться и ждать.
«Ты можешь уйти», – сказала наконец Первая, и я почувствовал, как у меня внутри что-то упало. Ночь откровений закончилась, моя очередь была снова пропущена.
Выходя, я заметил, как Первая обняла Алису у железной двери и что-то вложила ей в руку. Я увязался за ней. В толпе бледных сутулых призраков мы с Алисой поднялись из подвала и вышли на рассветный сырой воздух, вместе пролезли через щель в сетчатой ограде и направились через заросший пустырь к станции. Я следовал за ней, даже не пытаясь прятаться, метров в десяти и держал эту дистанцию. Почему-то я был зол, наверно, из-за того, что от меня что-то скрывали.
Вдруг Алиса остановилась, повернулась ко мне и спросила, какого черта я творю. Вокруг никого не было, призраки разбрелись, исчезли в тумане, и мы стояли одни по колено в пожелтевшей траве посреди пустынного ничего.
– Покажи, что у тебя в кармане, – сказал я.
– А еще чего не показать, м? – сказала Алиса. Она собиралась отвернуться, но я сделал несколько быстрых шагов по направлению к ней.
– Я видел, как Первая дала тебе что-то после исповеди. Что это?
– Она дала мне лекарство. – Алиса хлопнула по раздутому карману своих джинсов. – Если хочешь такое, то ты знаешь, что нужно делать.
Над нашими головами пролетела стая ворон. Вдалеке был слышен гул приближающегося поезда. Я думал, что сказать.
– Это все? – спросила Алиса.
– Нет, ни черта не все, – сказал я. – Ты знаешь, почему Первая это делает, зачем ей все это нужно?
– Без понятия. – Алиса пожала плечами на ветру. Она была в одной тонкой майке. Я видел ее худые ключицы, и от этого мне самому стало холодно. – Да и, если честно, мне все равно. Может, ей просто нравится коллекционировать чужие трагедии? Без разницы. Главное, что она помогла мне, дала кое-что, в чем я очень нуждалась.
Я сделал еще несколько шагов к ней и спросил:
– Что она тебе дала?
– Да чего ты пристал? Отвали.
– Не заставляй меня лезть к тебе в карманы, – сказал я холодно. Я был настроен во всем разобраться и не собирался отступать.
Вокруг нас на несколько километров была пустота, а Алиса даже по сравнению со мной казалась болезненной и слабой. На секунду я заметил в ее глазах испуг, и это показалось мне немного забавным – то, как человек, решившийся на самоубийство все равно может испытывать чувство страха перед незнакомцем. Наверно, Алиса приняла меня за психа. Это, впрочем, было взаимно.
– Да, пожалуйста, смотри. – Она достала из кармана черный целлофановый пакет, перемотанных резинкой, и протянула его мне. – Вот, доволен? Только знай, что ты в дерьме.
– Скорее, это ты в дерьме. В полном, судя по тому, что ты рассказала там, в клубе.
– Нет, я серьезно, – сказала Алиса и вдруг засмеялась. Это прозвучало чертовски странно. – Э, посмотри на свои кеды, идиот, ну как ты умудрился?
Я опустил глаза и увидел, что действительно во что-то вляпался.
– Сейчас осень, а мы на пустыре, здесь повсюду говно… чего ты ржешь? – смущенно сказал я, удивленный ее наивным, даже игривым голосом.
Совсем недавно Алиса не хотела со мной говорить, теперь же – едва сдерживалась от смеха. Вдруг она вся затряслась и спрятала за своими тонкими руками улыбку, пока я вытирал ноги о мокрую траву. Я растерялся и не знал, как реагировать, мне странно было видеть Алису такой. В тот момент она была похожа на ненормальную, ее настроение изменилось на полностью противоположное за какую-то долю секунды! Мне даже стало как-то не по себе, но в этом, как я узнал позднее, и была вся Алиса: она скрывала себя настоящую за тысячами масок. Подобные резкие вспышки эмоций и непредсказуемые перемены в настроениях для нее были обычны. Не знаю, было ли у ее поведения какое-нибудь сложное научное объяснение, была ли она чем-то вроде маньячки-социопатки или просто чертовски странной. Но смеялась она так искренне, как, кажется, никто другой смеяться не мог.
У нее на глазах я открыл пакет, достав оттуда шесть упаковок кетамина. Я не стал спрашивать, зачем Алисе так много, все и так было понятно. Вдруг отсмеявшись, Алиса снова сделалась серьезной, убрала руки от лица и начала внимательно следить за мной. Я покрутил упаковки в руках и почитал состав. В нем перечислялись непонятные соединения химических веществ, в которых я ничего не понимал, поэтому просто открыл одну из коробок и высыпал на ладонь прозрачную ампулу с бесцветной жидкостью внутри. Раствор для инъекций. Я совершенно не разбирался в лекарствах, но попытался угадать:
– Это какое-то обезболивающее?
Алиса кивнула.
– Ветеринары его используют для наркоза, хотя вообще-то это очень мощный психотроп, не хуже ЛСД. Только без эйфории во время прихода, если понимаешь, о чем я. – Она сказала это, а потом вдруг переменилась в лице, как будто забыла, где мы и кто мы, и спросила: – Кстати, а ты слышал песню «Special K» группы «Placebo»?
– Нет, – честно признался я.
– Ну как же? – Она удивилась, как будто я совсем был дурак.
И внезапно начала тихо напевать:
– No hesistation, no delay. You come on just like Special K… Это как раз о нем, о кетамине, неужели не слышал? Там еще на заднем плане: «Пара-па-па-пара-ра»? – Алиса закрыла глаза и закружилась на месте, широко раскинула руки в порезах, как будто забыв о моем существовании. – Пара-па-па-пара-ра… И потом припев: «Gravity! No escaping gravity!».
Далеко, там, где в серой дымке виднелись силуэты высоток, уже поднималось солнце. А прекрасная безумная Алиса кружилась и пела рядом со мной. Это было какое-то завораживающее зрелище.
– Да что с тобой не так? – спросил я, не в силах сдержать улыбку, настолько мило и странно это выглядело.
Я сказал довольно громко, но Алиса, казалось, меня не слышала, как будто танцевала где-то в своем далеком непроницаемом мире. И тут на меня что-то нашло. Пока она кружилась, и ее глаза были закрыты, я быстро бросил упаковки обратно в пакет, перемотал их резинкой и сунул в задний карман своих джинсов.
– Ты просто обязан услышать эту песню! – воскликнула она, наконец открыв глаза.
– Так, может, дашь мне ее послушать? – спросил я, поправляя рубашку.
Алиса замерла, оглядела меня и перестала улыбаться.
– Где оно? Куда ты его дел, м? Давай сюда.
– Не отдам, – честно сказал я и качнул головой.
– Да ты что, совсем охренел? – воскликнула она, и ее глаза затопили волны ярости.
– Прости, – сказал я, уставившись вниз, – прости, но все равно не отдам. Я не могу позволить тебе сделать это с собой.
И тут Алиса прыгнула на меня. Я имею в виду – буквально прыгнула. От неожиданности я не смог удержаться на ногах и упал в грязь, а сверху в меня вонзились кости Алисы.
– Идиот! – кричала она и сыпала неумелыми ударами, целясь мне в лицо. – Отдавай сейчас же или я закричу!
– Да ты ведь уже кричишь, ненормальная!
Я почувствовал, как в заднем кармане у меня что-то хрустнуло.
– Черт! Все, брейк!
Я попытался скинуть с себя Алису, но смог только перекатиться. Она вцепилась в меня своими ногтями, как какой-нибудь дикий зверь.
– Что это был за звук? Ты их разбил!
– Да хватит уже, слезь с меня!
– Что ты натворил, м?!
– Я натворил?
– Да, да, ты натворил! – завопила Алиса. – Подошел с дерьмом на своих ботинках, пока я танцевала, и все сломал… Какого черта ты ржешь?
Я действительно смеялся. От ее слов, от всего этого абсурдного разговора, я вдруг начал захлебываться под ударами, лежа посреди этого проклятого пустыря, и ничего не мог уже с собой поделать. Наверно, если бы нас увидел со стороны кто-нибудь из моих нормальных друзей – у которых учеба, работа и хобби фотографировать все подряд – то наверняка бы они решили, что я окончательно поехал крышей. От этой мысли мне почему-то стало еще смешнее. Я ржал во весь голос, смотрел на Алисино вымазанное грязью лицо, всклокоченные короткие волосы и широко открытые глаза. Я слышал ее дыхание, я чувствовал ее запах, я ловил молнии из ее чокнутых глаз и думал о том, что еще ни разу в жизни я не валялся вот так в грязи и не смеялся, как полный кретин.
8.
Потом под пристальным взглядом среднеазиатского кассира мы с Алисой сидели в какой-то забегаловке, грязные и уставшие после бессонной ночи и схватки на пустыре, и думали, что делать дальше. На ссоры уже не было сил. Из шести упаковок «special k» уцелело неполных три: в одной было разбито несколько ампул. Алиса заявила, что я должен их возместить, хотя это она на меня прыгнула и все раздавила.
Увидев мой мобильник, она заставила меня выйти в сеть, погуглить смертельную дозу кетамина и пересчитать все это дело на имевшийся у нас пятипроцентный раствор. «Погуглить смертельную дозу? Ты это, блин, серьезно?» – спросил я. А она только пожала плечами: «Не знаю, ты виноват, вот и найди». Пока я занимался этим, Алиса молча злилась на меня, закутанная в мою грязную куртку, которую я заставил ее одеть, и пила свой дрянной кофе в углу. Я же был скорее рад случившемуся, потому что и без всяких проверок подозревал, что вряд ли оставшегося хватило бы даже для хрупкой Алисы.
За большим стеклом за нашими спинами с раздражающим шумом просыпался город, поднявшееся солнце бросало лучи на экран, так что мне приходилось прикрывать его рукой, чтобы хоть что-то увидеть.
– Ну, что там? – нетерпеливо спросила Алиса, когда допила чашку.
– Если я правильно посчитал, то из расчета в восемьдесят миллиграмм на килограмм веса, понадобится не меньше трех-четырех упаковок даже в твоем случае, – сказал я. Вообще-то я не был уверен и на всякий случай посчитал с запасом, чтобы у Алисы точно не хватило глупости даже пытаться. – Кстати, сколько ты там весишь?
– Ну нет, умник, эту тайну я унесу с собой в могилу.
Она недоверчиво заглянула мне через плечо и заметила три пропущенных от моей тетки. Я поспешно выключил экран.
– Странно, что ты этого стыдишься, – сказала Алиса, – по крайней мере ты хоть кому-то нужен.
Было уже восемь часов утра воскресного сентябрьского утра. Мы вышли из кафешки и побрели по незнакомой улице. Повсюду крутились эти невыносимые осенние листья, они, скомканные и порванные, вылетали вместе с брызгами из-под колес проезжающих мимо машин, липли к кедам. Редкие прохожие обходили нас с Алисой стороной – по нам, вероятно, было видно, что мы никуда не спешим, тащимся без цели в полубреду.
Мы дошли до перекрестка и встали на светофоре.
– Не люблю московскую осень, – сказал я, чтобы просто что-то сказать. Алиса выглядела совсем печальной.
– Никто ее не любит, – раздраженно сказала она. – В этом нет ничего особенного. Ты такой же, как все.
– Я и не говорил, что считаю себя особенным, я только сказал, что не люблю осень.
– Это просто химия. Любишь, не любишь – это здесь ни при чем. – Алиса качнула головой. – Обычный недостаток солнечного света и тепла, который все принимают за депрессию. Ты знал, что осенью количество самоубийств резко возрастает? И каждый, вероятно, считает себя особенным, хотя на самом деле он ничем не отличается от других.
Мы помолчали, уставившись на цифры, мигающие в красном свете на другой стороне дороги, а потом Алиса вдруг сказала:
– Эти ампулы были моим счастливым билетом. Ты ведь понимаешь, что все испортил?
Я не знал, что ответить.
– Кетамин – это не средство от кашля, – продолжала Алиса, – им не затаришься в аптеке! Первая и ее клуб сумасшедших поддержали меня, подарили мне шанс безболезненно уйти, а теперь я уже и не знаю, что делать. Я боюсь, что не смогу покончить с жизнью сама.
Я вдруг подумал, как мы с Алисой похожи. Я вспомнил тот вечер, когда все для себя решил, когда сидел в окружении стен и тоже мечтал о безболезненном выходе, но сомневался, что смогу довести все до конца. Я был мертв, и все вокруг было мертво – до самого горизонта только черная безвыходная пустыня. И вот, казалось бы, стоило мне смириться, как все так не вовремя начинает лететь неизвестно куда: я вижу розового слона на бетонной стене в грязной подвале, встречаю эту сумасшедшую девушку, которую никак не могу выкинуть из головы, а теперь иду с ней, весь грязный и побитый по неизвестной улице. Может быть, вся эта чепуха и зовется жизнью?
– А как ты вообще попала в клуб? – спросил я.
– Я нашла его по объявлению в интернете. Оно провисело там не больше пары суток перед тем, как его выпилили, так что можно сказать, что это судьба. А ты как в него попал?
– А я просто бродил по пустырю и прочитал приглашение на мятом листке, – улыбнулся я.
– Значит, тоже судьба. От судьбы ведь не сбежишь, м?
Я улыбнулся. Это Алисино «м», которое я никогда не забуду.
Загорелся зеленый свет, и мы пошли по зебре.
– Верно, от судьбы не сбежишь, – сказал я, – но, может быть, судьба говорит нам, что наше время еще не пришло?
Алиса фыркнула.
– Твое время, может, еще и не пришло, а я только и живу в ожидании, когда же все наконец закончится.
– Ты все еще... чувствуешь себя виноватой? – спросил я.
– Уже нет, – ответил Алиса. – Теперь я чувствую себя пустой.
– Мне это знакомо. В последнее время мне кажется, что я только и делаю, что брожу в темноте.
– И в этом тоже нет ничего особенного, все когда-то чувствуют себя пустыми и бродящими в темноте.
– Это тоже химия? – Я улыбнулся. – Ты прямо открываешь мне глаза на этот черный мир!
– Ну, welcome to the black parade, – сказала Алиса и тоже грустно улыбнулась.
– Что, опять из какой-то песни, которую мне стоит послушать?
– Ага, группы «My Chemical Romance».
– Ты много их знаешь.
– У меня было много времени на одиночество и музыку.
– Та же фигня.
Улица закончилась, и мы свернули на следующую. Вокруг был какой-то пригород: редкие высотки торчали вперемешку с низкими промышленными зданиями. Я не спрашивал Алису, куда мы идем, потому что она ведь тоже не знала. Мы шли, чтобы не стоять на месте. Остановившись, нам пришлось бы думать, как жить дальше. Нам не хотелось останавливаться.
Вскоре жилые дома остались совсем позади, вместо них по бокам повылезали невысокие облезлые деревья и протянулся длинный бетонный забор. Впереди появился указатель на Востряковское кладбище, и я глупо пошутил, что мы движемся в правильном направлении.
Какое-то время мы шли в тишине, Алиса опустила голову и покусывала ногти, а я не знал, чего бы такого придумать, чтобы поднять ей настроение. А потом мимо нас проехали четыре машины с одной черной впереди, и Алиса вдруг радостно вскрикнула:
– У кого-то похороны!
– Да, – сказал я удивленно, – и что с того?
Внезапно от Алисиной печали не осталось и следа. Она заулыбалась, одной рукой прикрыла рот, а пальцем другой – ткнула вперед.
– Я хочу посмотреть! – Глаза у нее загорелись, как у чокнутого ребенка в магазине мертвых игрушек. – Побежали, давай же, а то все пропустим!
Я просто выпал. Алиса была совершенно ненормальной, никогда нельзя было понять, что творилось у нее в голове. Она схватила мою руку, и мы погнались за траурным кортежем.
9.
Запыхавшиеся и грязные, мы присоединились к толпе в тот момент, когда под пафосные звуки похоронного оркестра открытый гроб поплыл на руках к месту захоронения. Церемония была богатая и народу было много, сзади несли венки, кто-то плакал. Нас приняли за дальних родственников. Я чувствовал себя ужасно неловко в своей цветной клетчатой рубашке, а вокруг все были разодеты в строгие костюмы. Алиса, правда, выглядела не лучше в своей майке с надписью «Nirvana», торчащей из-под моей куртки. Я подумал, хорошо хоть ее порезанные руки были скрыты за рукавами, а то бы эти престарелые тетушки, что стояли рядом с нами, отдали бы концы прямо на чужих похоронах.
– Видишь, гроб обит красной тканью с черной каймой? – зашептала Алиса. – Это значит, что хоронят старикашку. Если бы хоронили молодого, то ткань была бы белая с черной каймой, а если бы хоронили ребенка – то с розовой.
Действительно, когда открытый гроб проплыл мимо нас, я увидел сморщенное лицо. Алиса даже встала на цыпочки, чтобы заглянуть внутрь, и заулыбалась, когда убедилась, что оказалась права. Наверно, со стороны это выглядело чертовски неприлично.
– Познавательно, – шепнул я. – Но, может, не будем мешать?
– Мы и не помешаем, просто постоим немного, посмотрим, – сказала Алиса. – Это так прекрасно!
– У тебя проблемы, точно говорю, – буркнул я себе под нос.
– Что?
– Ничего, наслаждайся, – сказал я.
И мы остались стоять там вместе, чтобы проститься с человеком, которого мы никогда при жизни не знали. Мне было скучно, но я остался ради Алисы, которая вдруг полностью погрузилась в это странное действие. Мы стояли друг к другу боком, как до этого сидели так же в клубе самоубийц, и я украдкой наблюдал за ней.
Вокруг были одни престарелые призраки: никого моложе шестидесяти. Я решил, что покойник был одинок. Или, может быть, его дети и внуки просто не пришли на похороны. И отчего-то я вспомнил о своей стареющей одинокой тетке, о том, как она плакала ночью на кухне. Имею в виду, кто придет ее хоронить, когда все будет кончено?
Вскоре присутствующие стали по очереди подходить к гробу и читать речи. Когда один говорил, все внимательно его слушали, позволяя полностью высказаться, никто не перебивал. А потом, когда исповедь одного заканчивалась, ее тут же сменяла исповедь другого. И так по кругу. Я вдруг почувствовал, что все это уже видел в комнате с розовым слоном, мне даже показалось, будто я и не покидал ее вовсе, а все еще был там и слушал призраков. Как будто весь мир превратился в один огромный клуб самоубийц, и мы с Алисой были частью бесконечного безвыходного ритуала. С необъяснимой тревогой я ждал момента, когда фонарь погаснет и нам будет вынесен приговор.
– С тобой все в порядке? – спросила вдруг Алиса, дернув меня за рубашку и выбив из замкнутого пространства моих мыслей. – Тебе так скучно?
– Нет, вовсе нет, – соврал я.
– Но ты же все пропустишь, а ведь сейчас будет самое красивое!
– Дай мне минуту.
– Окий, – сказала Алиса и нахмурилась. Она так иногда говорила, когда злилась – заменяла буквы в словах. «Окий» вместо «Окей». Полнейшая чепуха, но я быстро привык, и вскоре эта Алисина черта стала казаться мне даже милой.
В общем, она нахмурилась, а мне не хотелось выяснять, что я испортил на этот раз. Я просто закрыл глаза и снова тут же сорвался внутрь себя, потому что мне нужна была подзарядка. Я не спал уже больше суток, и за это время произошло столько странного, что хватило бы на год моей привычной жизни. Наверно, мне стоило бы радоваться, что стою сейчас рядом с Алисой, но я уже так успел привыкнуть к одиночеству, что испытывал в нем какую-то наркотическую потребность. В тишине и пустоте с закрытыми глазами я пытался скрыться от реальности хотя бы на мгновение. Мне хотелось уйти от холодного осеннего ветра, от грязи, от этой давящей со всех сторон печали и даже от прекрасной Алисы со всеми ее странностями…
– Ну, посмотри же! – Алиса снова дернула меня за руку и вернула к жизни. Я открыл глаза и взглянул на нее, и мне показалось, что в ее глазах были слезы. Каждый раз, когда я открывал глаза, Алиса менялась, и мне никак не удавалось ее понять. Все приходилось начинать с самого начала.
Снова заиграла траурная мелодия. Лицо покойного закрыли покрывалом и достали цветы из гроба. Организатор похорон – я угадал его по тому, как он держался – сказал сухим формальным голосом: «Гражданин такой-то-такой-то закончил жизненный путь. Пусть добрая светлая память сохранится в наших сердцах на долгие годы» или как-то так. И это все. Это был конец для того незнакомого старичка, который, возможно, в семнадцать лет был самым сумасшедшим мечтателем из всех. А теперь он, мертвый, одинокий и никому неизвестный, лежит тут рядом с миллионом других бывших семнадцатилетних мечтателей, пока рабочие закупоривают его лакированной крышкой.
Родственники бросили горсть земли, Алиса тоже это сделала, хотя я и попытался ее остановить – все было без толку. А потом рабочие начали закапывать могилу.
– Я бы хотела посмотреть на свои похороны со стороны, – прошептала мне Алиса, – Я бы лежала в красивом платье в гробу с белой обивкой и черной каймой, бледная, молчаливая… идеальная. Как думаешь, как бы я выглядела, м?
– Думаю, ты бы выглядела мертвой, – сказал я. – Пошли уже.
Было уже что-то около часа дня, когда все закончилось. Мы зашагали сначала по хрипящей гальке, а потом, пройдя под аркой при выходе с кладбища, свернули на неровный асфальт.
– Спасибо, – тихо сказала Алиса, когда мы направились к дальним новостройкам. Она спрятала руки в карманах моей куртки, которая была ей велика, и уставилась вниз.
– За что? – удивился я.
– Не знаю, за это, за все. – Она запнулась. – Я даже как будто почувствовала себя… живой.
– А у тебя так всегда, когда погуляешь по кладбищу?
– Я серьезно. Я ведь так давно ни с кем вот так глупо не общалась, не ходила туда-сюда без дела… не была с кем-то рядом, понимаешь?
– Понимаю, и тебе спасибо. За то же самое, – кивнул я, а потом добавил: – И за лекарства ты меня прости, я не знаю, что на меня нашло. Сам не пойму, зачем их от тебя спрятал.
– Ничего. – Алиса подняла глаза и посмотрела на меня, кажется, впервые так открыто. – Я что-нибудь придумаю, как обойтись без них. Раньше же люди как-то отдавали концы без «special k»?
Это была такая Алисина шутка, но мне не хотелось улыбаться. Какое-то время мы шли молча. Вскоре кладбищенский забор остался позади, и вместо него по краям дороги появился новый, бетонный. Всегда так: всюду эти бесконечные московские пустыри, бетонные заборы. Куда бы я ни шел, непременно оказываюсь на грязном пустыре, как будто кто-то постоянно меняет местами бетонные блоки, ржавые трубы и голые деревья, а место остается одним и тем же.
Алиса села передохнуть на очередную придорожную оградку и спросила, куда мы теперь идем. Я и сам не знал, поэтому пожал плечами. Я тоже чертовски устал шататься, и настроение от недосыпа было хреновое, но все же был рад, что Алиса сказала «мы». Это ведь означало, что я ей до сих пор не наскучил! Мне захотелось ее успокоить, и я сказал, что обязательно придумаю, как нам выбраться отсюда. Она встала с оградки, и мы пошли дальше – никуда конкретно, но идти нам в любом случае было далеко, потому что вокруг на километр ничего не было, даже тротуар под ногами внезапно кончился. Мы волочились по обочине, когда какой-то упырь, который гнал не меньше восьмидесяти по полупроселочной дороге, облил нас с ног до головы. Тогда Алиса показала ему вдогонку средний палец и выругалась так, что я окончательно в нее влюбился.
– Это было прекрасно, – честно признался я.
– Правда? – Алиса улыбнулась. – Я еще и не так могу!
– Ну-ка, валяй.
Мы пошли дальше, и Алиса начала перечислять разные грязные слова. Запас у нее оказался неплохой. Если слово или выражение мне особенно нравилось, я просил, чтобы Алиса сказала его по буквам или употребила в контексте – тогда она разыгрывала для меня какую-нибудь пошлую сценку, чтобы донести весь отвратительный смысл. Идти стало намного интересней. А потом, когда матерные слова и выражения кончились – хотя Алиса обещала обязательно вспомнить еще – я предложил поиграть в игру: мы должны были по очереди вспоминать и называть имена знаменитых самоубийц.
– Кобейн, – начал я, улыбнулся и кивнул на принт на Алисиной майке.
– Эй, так не честно! – Она притворилась, что обиделась и застегнула куртку.
– Тебе на «н».
– Ладно, дай подумать… Сейчас… Как звали того актера, который играл в «Убить Билла»? Он еще удавился, пока пытался кончить, м?
– Дэвид Кэррадайн?
– Черт, не подходит! – Алиса поджала губы.
– Да и, по-моему, никакой он не самоубийца, – сказал я. – Думаю, он просто хотел как следует оттянуться.
– Не будь таким занудой, может он убивал двух зайцев сразу? – сказала Алиса, а потом задумалась и почти сразу же воскликнула: – О, Николай Первый, который император! Он же, вроде, отравился?
– Вообще-то это имя, а не фамилия. – Я специально сказал это отвратительно занудным голосом.
– Ну уж нет, не отвертишься, тебе на «й»! – Она ударила меня по плечу и засмеялась.
Ее улыбка, короткие смешные волосы и сверкающие глаза. В такие моменты я отказывался верить, что Алиса твердо решила умереть. Такой живой она казалась, когда смеялась.
Мы шли, говорили, несли подобную чушь, пока не добрались до высоток. И вдруг я узнал это место: мы были на юго-западе Москвы, в районе, с которым у меня было связано много неприятных воспоминаний, относящихся к тем временам, когда я играл в группе, и часто околачивался неподалеку, потому что здесь был репетиционный подвал. Не стану рассказывать о том, что случилось, но, в общем, после всего я оставил гитару пылиться в углу, поступил в универ, и больше сюда не приезжал. Думаю, у каждого есть внутри такие вот истории, связанные с каким-нибудь городским районом. Идешь по улице – и вдруг наваливаются воспоминания и начинают душить. Никуда от них уже не сбежишь.
Короче говоря, меньше всего мне хотелось оставаться в этом районе одному, а Алиса как назло вдруг начала открыто сливаться. Она снова сказала, что благодарна, что рада, что провела день с кем-то, пожелала мне, чтобы я собрался с духом и тоже исповедался в клубе самоубийц, что отсюда до метро ходят автобусы, и что она, наверно, уже поедет. Она начала, как это обычно бывает, когда прощаются навсегда, вываливать все в кучу, а я думал только о том, как бы заставить ее остаться. Мне уже дико хотелось спать, но я вдруг всерьез подумал, что ради Алисы могу согласиться на то, чтобы никогда больше не закрывать глаза. «Но ведь день еще закончен, сейчас всего два часа дня!» – сказал я. «И что же ты предлагаешь?» – устало спросила Алиса. Я предложил ей пойти в бар, вернее, затащил ее в первый попавшийся по дороге. Просто это было первое, что пришло мне тогда в голову.
10.
Было еще совсем рано, и в баре было пусто, даже бармен странно на нас покосился из-за своей стойки, когда мы садились за столик в углу. Алиса сразу сказала, что не пьет и что останется «только на один безалкогольный коктейль». Но никто из нас не разбирался в коктейлях, поэтому мы по ошибке заказали алкогольный – Алиса не сразу это поняла, а потом было уже поздно, и обратного пути не было. Вскоре мы перешли на виски и быстро разговорились. Это был один из тех пьяных разговоров, когда мне совершенно не приходилось думать о том, что сказать, все выходило само собой, и мы просто понимали друг друга, а ведь с Алисой этого добиться нелегко, я-то знаю.
Мы говорили обо всем подряд минут сорок, а потом я откинулся и у меня закружилась голова. Обои в рябящую полоску, потолок и даже угрюмый бармен показались мне прекрасными, настолько я уже был пьян.
– Ты хороший, – сказала вдруг Алиса.
– Ты пьяна, – сказал я.
– Нет, послушай меня… я не закончила.
– Ну.
– В общем, ты хороший, но я тебя раскусила. – Она наклонилась ко мне, чуть не расплескав содержимое наших стаканов. – Ты разбил мой кет, потому что хочешь со мной мутить.
– Что еще за «кет»?
Алиса засмеялась.
– Ну, блин, кетамин. Я его так назвала – кет, чтобы короче было.
– А, понял, – сказал я и неуверенно закачал головой. – Нет, кажется, не поэтому.
– А чего тогда разбил?
– Сказал же, что не разбивал. Случайно это вышло. Я просто сунул в карман, а потом ты на меня прыгнула.
Алиса громко вздохнула, как будто все было не так и я все придумал. Потом запустила руку в художественных порезах себе в волосы, положила голову на стол и уставилась на меня. Какой же в тот момент она была красивой! Мы оба были уже сильно поддатые, поэтому ничего не стеснялись и смотрели друг другу прямо в глаза. Это длилось всего несколько секунд, совсем недолго, а потом, когда это странное волшебство прошло, мы вернулись к чепухе, к глупым разговорам.
– Вот зачем ты мне врешь? – спросила Алиса и улыбнулась.
– Я не вру, мы слишком пьяны, чтобы врать, – ответил я и тоже улыбнулся.
– Ты меня напоил.
– Ну да, сама ведь эти коктейли выбирала! Я даже без понятия, чего там понамешано и сколько все это может стоить, – сказал я и вдруг задумался, что действительно – не знаю. Выпили мы немало, у меня бы в любом случае не хватило, чтобы расплатиться.
– Ты чего? – спросила Алиса.
– Ничего, – сказал я. – Просто думаю о деньгах.
– Оу…
– Что?
– Да так. – Алиса притворилась, что разочарована. – Просто не знала, что ты один из этих.
– Из кого?
– Из тех, кто думает о деньгах.
– Ты меня раскусила. Знаешь, давно хотел сказать тебе правду. – Я перешел на полушепот, как будто делюсь большим секретом. – Дело в том, что я не миллионер.
– Да ну? – Алиса заулыбалась.
– Серьезно.
– Черт, и про яхту на Москве-реке ты тоже все придумал?! – Алиса изобразила возмущение и обиду. Она была в маске превосходного настроения, и я со всех сил ей подыгрывал:
– Да, детка, я врал, но для твоего же блага! Знаешь, на самом деле я ведь агент под прикрытием, и у меня очень опасное задание.
– Ох, а я так и знала! И какое же?
– Не могу сказать. Оно очень опасное и очень секретное.
– Ну, пожалуйста, скажите мне, господин агент, обещаю, что сохраню вашу тайну!
Она схватила меня за руку, и я притворился, что тут же сдался от ее прикосновения.
– Хорошо, скажу, – Я сделал паузу. – Дело в том, что я обязан выяснить, почему некая Алиса так сильно хочет умереть и так боится попробовать начать все с самого начала.
Я сказал это и улыбнулся, потому что шутка показалась мне удачной, но когда я встретился глазами с Алисой, то понял, что ее это совсем не развеселило. Она даже как будто сразу протрезвела, убрала руку, и в одно мгновение отдалилась от меня, ее мысли унесли ее прочь от нашего столика куда-то совсем далеко, туда, где она, наверно, стояла совсем одна, и волны разбивались о бетонные утесы под ее ногами… Тогда, взглянув в эти Алисины глаза, ставшие вдруг холодными и безжизненными, я понял, что сказал что-то не то. Мне захотелось исчезнуть.
– Прости, это не мое дело. Мне не стоило так говорить.
Алиса закачала головой.
– Я совершила такое, что никогда уже меня не отпустит. Я убила свою младшую сестру, – проговорила она совсем тихо, ее голос дрожал. – Я до сих пор иногда ее вижу. И не только во сне. Но знаешь, что самое ужасное?
Я не знал.
– Самое ужасное, что я до сих пор считаю ее виноватой.
Мы замолчали. У меня все еще кружилась голова от выпитого, но обои, потолок и бармен за стойкой, да и весь мир вокруг, уже перестали казаться мне прекрасными. Мне захотелось обнять Алису, прижать ее как можно ближе к себе, но я знал, что не могу этого сделать. Только не в такой момент, только не сейчас.
– Знаешь, – сказал я и грустно улыбнулся, – а мне стал иногда мерещиться розовый слон. Помнишь, тот, что нарисован мелком на задней стене в клубе самоубийц? И я вижу его не только во сне. А еще у меня и правда нет денег, так что я не знаю, как мы будем расплачиваться.
Алиса грустно улыбнулась в ответ и сказала, что денег у нее тоже нет, зато у нее, как и у меня, были кеды. Тогда я предложил бежать, потому что это было первое, что пришло мне в голову.
По счету мы рванули с места и кинулись к дверям. За нами никто не гнался, бармен только лениво кинул вдогонку что-то вроде «эй», но мы все равно пробежали не меньше сотни метров до первого перекрестка и завернули за угол. «Черт, это было круто, – сказал я. – Надо будет как-нибудь повторить». Я сказал это и только потом понял, что сморозил глупость. «Только если в другой жизни». – Алиса улыбнулась.
Мы простояли там, на этом углу, наверно, с минуту и просто смотрели друг на друга. Нужно было уже уходить, но я притворялся, что мне надо отдышаться. Я и сам знал, что просто оттягиваю неизбежное, что нам с Алисой придется прощаться, но мне так хотелось, чтобы время остановилось здесь, сейчас, на этом углу. Я пытался запомнить Алису, потому что думал, что уже никогда больше ее не увижу. Мы неизбежно расстанемся, и она будет искать верный способ убить себя, а я ей не буду нужен. Я этого не хотел. «Слушай, я знаю этот район, – сказал я, пытаясь придумать что-нибудь, – мы могли бы еще пошататься, я бы показал тебе место, где я когда-то начинал играть на гитаре. Место жуткое, отвратительное и чрезвычайно грязное, тебе должно понравиться». Но Алиса только качнула головой, оторвав от меня свои потухшие глаза. «Проводи меня до остановки», – сказала она, и у меня внутри что-то сжалось, так сильно сжалось, что стало физически больно. Я подумал, какого черта, и взял Алису за руку. Она на стала сопротивляться, и мы пошли под руку, грязные, уставшие, к остановке. Все было совсем неправильно: ее рука была холодная, да еще начался дождь. И Алиса вдруг спросила: «За что ты там, говоришь, не любишь осень?».
Это была такая Алисина шутка, но мне от ее шуток никогда не было слишком весело. Вот и тогда я не улыбнулся. Мне просто хотелось вечно идти так, держаться за руки, и чтобы все остановки в мире рассыпались в прах к чертовой матери.
11.
Алиса не разрешила мне поехать вместе с ней, и тогда я попросил ее хотя бы обменяться телефонами. Свой номер Алиса не оставила, чем меня неслабо обидела, но мой все же записала. Я еще раз извинился за ампулы, отдал ей те три упаковки, что уцелели, а потом спросил, где она теперь живет. Она ответила, что все там же, в их с матерью старой квартире, недалеко от реки. «На каком этаже?». «На девятом». Я улыбнулся: «Одна моя соседка как-то упала с одиннадцатого этажа и осталась жива. Просто хочу, чтобы ты знала и не наделала глупостей». «Я учту это, – пообещала Алиса, – буду действовать наверняка».
Мне показалось, что автобус пришел слишком быстро. Мы помахали друг другу на прощание, Алиса поднялась внутрь, и я еще долго смотрел ей вслед сквозь мутное заднее стекло. И даже когда она исчезла из виду, скрылась за поворотом, я все еще стоял и смотрел, как будто не мог в это поверить.
Потом, не знаю через сколько, я поднял глаза и увидел, что небо сплошь обложило серыми бетонными тучами, из-за которых вокруг стало так тоскливо и черно. Эти проклятые тучи навалились на улицы района, который я так не любил, и заперли меня со всех сторон сопливым дождем. Автобус увез Алису, а я все стоял на той остановке, просто не знал, что нужно делать дальше. У меня не было даже плеера, чтобы подыграть своему настроению – я был абсолютно одинок. Внутри меня что-то неприятно скреблось и рвалось наружу, но я старался не поддаваться этому чувству, потому что если бы поддался, то уже не смог бы остановиться и разревелся бы, наверно, как девчонка.
Мне понадобилось несколько минут, тогда я запинал свое нытье поглубже и вышел из-под козырька остановки в одной рубашке, потому что сам настоял, чтобы моя куртка осталась у Алисы. Я был еще пьян и идти мне было некуда, кроме как домой, но туда мне не хотелось. Поэтому я просто зашагал пешком специально в противоположном направлении от того, куда поехал Алисин автобус. Дойдя до какого-то сквера я, ни о чем не думая, лег на мокрую скамейку и заснул под большим черным деревом чтобы проспать целых семь часов, до одиннадцати. До прекрасной, излечивающей темноты.
Следующая неделя была пуста, но пуста по-особенному, по-настоящему. Я больше не думал о том, как безболезненно со всем покончить, я вообще не мог больше думать о себе. Я мог думать только об Алисе и о том, что с ней стало. Эти мысли сводили меня с ума. Я почти перестал есть и даже снова начал курить – понемногу, по полпачки в день, но все же. С теткой я перессорился, и мы с ней больше не общались: она была зла на меня из-за того, что меня не было почти два дня. Но больше всего, как я понял, ее во всем случившемся «разочаровала моя безответственность». «Ты что, не мог позвонить? Я сходила из-за тебя с ума». Мне нечего было на это ответить, я был виноват и знал об этом, но мне было совершенно не до выяснения отношений. «Ты просто убиваешь меня, – говорила моя тетка сквозь слезы. – Своей безответственностью ты убиваешь своих близких, свою семью, самых дорогих тебе людей!». Я качал головой, а она продолжала: «Что с тобой, пожалуйста, объясни, как тебя понять, что с тобой происходит?». И я снова качал головой, потому что, ну, как тут объяснишь, когда я и сам ничего про себя не знаю? Как же я мог разобраться в себе, когда меня почти и не существовало? Мое место было рядом с Алисой, на той плотине, где под нашими ногами разбивались бы волны о бетонные утесы… «Не знаю, что со мной не так, но точно знаю, что не могу жить, как все», – вот что я тогда ответил тетке. Глаза у нее горели, и после того разговора она стала запирать дверь в свою комнату на два оборота. То же самое стал делать и я. Мы стали на два оборота дальше друг от друга, чем прежде.
Помню, я потом лежал у себя с закрытыми глазами, за всеми этими запертыми дверьми, знал, что мне не помешают, слушал музыку через хрипящие колонки и думал об Алисе как о девушке. Я имею в виду, мечтал об Алисином теле: о ее художественно порезанных запястьях, о ее губах, о ее ребрах под майкой с надписью «Nirvana». Я чувствовал себя виноватым, я знал, что это было неправильно – мастурбировать, думая об Алисе. Это звучит ужасно мерзко, я и сам себя чувствовал погано, но ничего не мог с собой поделать. Это странно, но, когда я мастурбировал раньше, думая о незнакомых девушках из сети, которых я не любил, я делал это как будто механически. Просто удовлетворял свою потребность. Но с Алисой все было не так: я чувствовал себя преступником, как будто я прикасался грязными руками к чему-то чистому, как будто мое воображение могло оскорбить ее. Наверно, зря я об этом рассказываю. Просто так я пытаюсь объяснить, чем Алиса была для меня. Она была первым чистым человеком за очень долгое время. Человеком, котором мне хотелось обладать физически и духовно. Вот что я хочу сказать.
Сразу после того как я закончил, зазвонил телефон. Меньше всего мне хотелось с кем-нибудь говорить в тот момент, но телефон все звонил и звонил, и я решил ответить, подумал, что это могла быть Алиса. Это оказалась не она, а мой знакомый, с которым мы шатались на пустыре, когда я увидел объявление клуба самоубийц. Он был в хорошем настроении, спрашивал, как я там, чем занимался все это время, извинялся, что не звонил. Я тоже извинился, что не набрал сам, соврал, будто у меня были дела. Кое-как мы вроде разговорились, и я даже был благодарен приятелю, что он обо мне вспомнил, но потом оказалось, что ему просто нужны были деньги в долг. Черт, а как издалека он начал, меня аж передернуло: «Слушай, мы ведь с тобой уже сколько лет знакомы, а? О, почти пять лет, точно-точно, с девятого класса». Он знал, что я подрабатывал только летом, а вот уже несколько месяцев у меня у самого ни черта не было, но все равно мне позвонил, потому что, видимо, не хотел упускать даже малейшую возможность. Я честно сказал ему, что у меня осталось тысяч десять, которые я уже отдал тетке, потому что жил за ее счет. Мне было интересно, что он скажет, поэтому я добавил: «Но если тебе очень нужно, я могу попросить деньги назад». И тогда мой приятель сказал: «Ты меня так выручил!». Черт, честное слово, мне не было жалко денег, но он сказал это так, как будто все было уже решено. Я спросил: «А что там у тебя случилось?». Он ответил: «Да так, просто долг надо вернуть, а то тот парень меня уже достал!». И если этот дурак мне не врал, то он унижался и брал в долг, чтобы отдать долг. Вот таких вещей я никогда не понимал. Из-за таких вещей, я, наверно, и не хотел жить как все.
Мы договорились, я встал с кровати, постучал к тетке и забрал эти сраные деньги, за которыми вскоре должен был заехать мой друг. Я сделал это несмотря на то, что был уверен, что никогда его больше не увижу. Сейчас я думаю, что действительно убивал «свою любимую» тетку такими вот поступками, но тогда во мне все горело, и мне было по херу, что будет потом. Я просто мечтал, чтобы весь мир оставил меня в покое, и я мог бы продолжить спокойно думать об Алисе. Как же я был на ней повернут, только за нее я, кажется, тогда переживал.
12.
В следующую субботу начался октябрь. Алиса мне так и не позвонила, поэтому я опять поехал на заброшенный комбинат в туманной надежде вернуться к самому началу и встретить ее в комнате с розовым слоном.
Из-за проблем с деньгами у меня не хватало даже на проезд. Я добрался до станции пешком, а там у турникетов повсюду торчали менты, как будто им больше заняться нечем, кроме как ловить зайцев. В общем, перелезть не было никакой возможности, и мне пришлось спрыгнуть на рельсы и пройти вдоль них по уже кем-то вытоптанным осенним листьям до самой платформы. Только когда сел в электричку, я заметил, что где-то по пути умудрился потерять мобильник – ту единственную ниточку, которая могла привести меня к Алисе в случае чего. Двери закрылись, поезд тронулся, и мне оставалось только ругать себя, никчемного косорукого кретина, за то, что не проверил карманы.
Я приехал на пустырь с небольшим опозданием, поэтому, едва сошел с поезда, сразу рванул на территорию комбината, пролез через дырку в сетчатом заборе, пролетел темный бетонный коридор и прямо так, не вытирая ноги о грязную тряпку, вбежал в комнату с розовым слоном. Было уже десять минут двенадцать или около того, ночь откровений уже началась. Горел фонарь, какая-то девица с глазами на мокром месте прервала свою исповедь, и все уставились на меня. Я сразу начал искать глазами Алису, но ее нигде не было, только розовый слон таращился на меня своими большими и безразличными, подведенными розовым мелком глазами с дальней стены. Внутри у меня все рухнуло, я прошептал, что не буду мешать, и хотел уже уйти, но Первая встала, мертво улыбнулась и усадила меня на свободное место. Она объяснила, что нельзя прерывать ритуал, каждый, вошедший в круг, обязан остаться до самого конца. «К тому же, – сказала она, – я надеюсь уже услышать и твою исповедь». Я потерянно опустился на пол, девчонка продолжила плаксиво говорить, но я ее особо не слушал. Я думал только о том, что Алисы нет со мной рядом.
Потом как-то незаметно очередь дошла до меня, и первая с улыбкой сказала: «Хватит убегать от неизбежного, здесь ты в кругу друзей, не нужно бояться, расскажи, почему ты решил умереть?». А я уже и не был уверен, что вообще когда-то хотел умирать. Я пожал плечами: «Все слишком сложно, я так запутался». «А ты просто попробуй начать, – настаивала Первая, – и тебе станет легче». Тогда я понял, что она от меня не отстанет, и подумал, какого черта, наговорю ей чего-нибудь, чтобы поскорее свалить и пойти искать Алису, если еще не слишком поздно.
Я зажег фонарь на коленях, яркий белый свет неприятно ударил в лицо, и полдюжины призраков повернулись в мою сторону, посмотрели на меня будто бы с пониманием и нежностью. И вдруг, сидя под этими пристальными чуть живыми взглядами, я ощутил пугающее, но извращенно прекрасное чувство сопричастности. Эти мертвецы – такие же одинокие и запутавшиеся, как я сам – они готовы были выслушать меня и попытаться понять. Не притвориться, что понимают, как обычно происходит в семье или с друзьями, а по-настоящему выслушать и понять. Я почувствовал, что каждый из них готов встать на мое место, стать мной. Я был как под гипнозом. Неожиданно для себя самого я поддался этой ритуальной искренности, закрыл глаза и начал говорить. Из меня полились самые темные и далекие мысли, которые словно высветились в ярком свете фонаря. И бледные тени слушали, не осуждая и не прерывая потока, вырывавшегося из глубин моего сознания.
Я рассказывал им о своем одиночестве, которого так боялся и от которого все же был так зависим. Я рассказывал им о своей семье, о друзьях и близких, которых я избегал и которым я не умел показать свою любовь. Я рассказывал им об учебе, о подработках и о том времени, когда играл в группе и мечтал стать рок-звездой – словом, обо всем, к чему я быстро потерял интерес. Я рассказывал им о том, что чувствую себя чужим и посторонним, вечно отдаленным от этого странного окружающего меня мира. Но больше всего прочего я рассказывал им об Алисе. Как будто всякая моя мысль непременно сводилась к ней, и я бродил по замкнутому кругу имени ее. Я с улыбкой говорил о той первой ночи откровений, когда впервые увидел Алису у дальней стены, о том, как она танцевала на пустыре, о том, как стеснялась своей улыбки и прикрывала ее рукой, об этом ее милом «м» и даже о том, как мастурбировал, думая о ее теле. И все эти бледные незнакомцы, у которых проблем, наверно, было побольше моего, все же внимательно слушали все, что я рассказывал им об Алисе и, казалось, даже ни разу не моргнули.
А в конце я не удержался и сказал, обращаясь скорее к самому себе, что больше всего жалею, что отпустил Алису, а теперь не знаю даже, что с ней стало, какие глупости она могла с собой сделать. Я сказал, что мне надо было вцепиться в нее зубами, прижать к себе и никогда уже не отпускать.
На этом я закончил, выключил фонарь, и клуб самоубийц погрузился в темное молчаливое ничто. Когда я озвучил все, что во мне накипело, вывалил из себя всю эту чушь, я с удивлением обнаружил, что мне действительно стало чуть легче. И я был рад, что никто надо мной не посмеялся, хотя мои слова совсем не были похожи на исповедь в грехах, а больше походили на признание в любви.
Спустя несколько секунд один из призраков, парень примерно моего возраста, кашлянул, разрушив тишину, и тихо сказал, что у меня еще остался «шанс все пережить». Он назвал меня самым живым из всех присутствующих. Многие из круга были с ним согласны, их измученные голоса советовали мне не сдаваться, попробовать забыть об Алисе, отпустить ее и начать все с чистого листа. Забыть об Алисе? Жаль, но этого я точно никак не мог. Пока все пытались меня подбодрить, Первая молчала. Она так и не сказала ни слова, но даже в темноте я чувствовал на себе ее пристальный холодный взгляд.
По решению большинства мне не был вынесен приговор, вернее, я был приговорен к жизни, навсегда лишен путевки в вечный кетаминовый сон. После ночи откровений я вышел из подвала клуба самоубийц на свежий воздух и почувствовал себя так, как будто заново родился. И вместе с тем я почувствовал себя совсем стариком. Я вроде застрял где-то на грани, оставаясь чужим для обоих миров: для мира живых я был слишком мертв, для мира призраков я оказался слишком живым.
Я простоял на пустыре несколько минут, просто стоял и смотрел, как в серой рассветной дымке восходит печальное московское солнце, словно его из-за горизонта вытаскивал на небо огромный розовый хобот. Я думал о том, что мне делать дальше и не находил ответа, ходил по бесконечному кругу. В моей живой голове крутились мертвые мысли, и я никак не мог понять, за что же именно мне стоило продолжать бороться, если все, что было мне дорого, возможно, уже мертво? Лежит сейчас оно, мое самое дорогое, в одиноком гробу, обитом белой тканью с черной каймой…
На тонувший в земле бетонный блок рядом со мной села ворона и мерзко завопила над сырым простором. Я очнулся, постарался затолкать дурные мысли обратно в самый темный свой угол, сделал большой пьянящий вдох тяжелого бетонного воздуха и зашагал в полном одиночестве обратно к станции. Живой или мертвой, но я твердо решил отыскать Алису, иначе бы просто не смог себя простить.
13.
Пока я ехал в электричке, у меня появилась одна сумасшедшая идея, которую мне не терпелось проверить, но для этого нужно было выйти в сеть. Как же я ненавидел себя в тот момент за то, что так не вовремя посеял мобильник! Пришлось тратить кучу времени и добираться до какого-то почтового отделения, работающего в воскресенье, и ждать его открытия до девяти, чтобы мне разрешили посидеть недолго за одним из компьютеров в зале. Алиса говорила, что живет на девятом этаже в одном из новых районов неподалеку от реки, на которой была плотина. Я решил, что таких мест не могло быть много, что я смогу найти его. И мне повезло – на карте действительно нашелся один район, идеально подходивший под Алисино описание, он был на юге, в нескольких километрах за городской чертой. Я сразу отправился туда.
Вот что мне всегда казалось удивительным в Москве, так это ее невыносимый размер. Столько районов, столько улиц, столько мест, которых, прожив в одном городе всю жизнь, можно ни разу не увидеть. Я стал думать об этом, еще когда подрабатывал курьером и гонял туда-сюда, из одной климатической московской зоны в другую. В то время как на одном конце города было тепло и шел легкий листопад, на другом конце, в пятидесяти километрах оттуда, могло быть холодно до дрожи и заливать как из ведра. Спускаясь в метро и выходя из него через час, я каждый раз оказывался в совсем другом городе. И вот что я тогда понял: если бы во всей Москве жили только два человека, за сто лет жизни они бы никогда не встретились и даже не увидели друг друга издалека. К сожалению, как это ни печально, я знаю, о чем говорю.
Район, в котором жила Алиса, снова открыл для меня новою маску города. На пустоши, покрытой пожелтевшей травой, торчали редкие бетонные утесы высоток, связанные пьяно бегущими от них двухполосными дорогами, которые потом впадали в шоссе вдалеке. Было раннее воскресное утро, и людей на улицах я не увидел, что дополнило картину какого-то по-настоящему Алисиного одиночества. Под ударами воющего ветра, от которого некуда было спрятаться в этом поле, я пешком дошел до первых многоэтажек и решил проверить все квартиры на девятых этажах в ближайших к реке домах. Наверно, это была самая глупая затея за всю мою жизнь, но что мне оставалось? Других вариантов у меня не было.
Сначала я подходил к подъезду, одному из пяти-шести на дом, и ждал, потирая руки, пока мне кто-нибудь откроет. Иногда консьержки пускали меня внутрь, тогда я благодарил их и, чтобы не тратить зря время, узнавал, кто живет на девятом этаже. Но чаще внутрь меня не пускали, оставляли мерзнуть без куртки на улице, и я ждал выходящих людей, пробирался внутрь и обзванивал все квартиры на девятых этажах самостоятельно. Это было похоже на какое-то безумие: за четыре часа я обошел только семь домов и даже не мог быть уверен, что не пропустил среди них Алисину квартиру, ведь иногда на мои звонки никто не отвечал, и я не знал даже, был кто-то внутри живой или нет. Это сводило меня с ума. Помню, я опустился на батарею на очередной лестничной клетке очередного девятого этажа и нервно закурил. Я мог едва шевелить пальцами на руках, так я замерз. Я выглянул в окно, посмотрел на пустынный-пустынный двор, возможно, на тот самый двор, на который каждый день смотрела Алиса, и внутри у меня снова что-то сжалось. Как будто каждый раз думая о ней я до крови раздирал рану, только начинавшую подсыхать – такое было у меня чувство. Я курил долго, не торопясь, а потом потушил сигарету, прожженную до фильтра, и решил, что обойду еще пару-тройку высоток и поеду к чертям отсюда, потому что все это стало походить на поиск иголки в стоге сена.
Но я не сделал так, как решил, просто никак не мог остановиться и ходил по району до самой темноты. Я обошел столько домов и выкурил столько сигарет на лестничных клетках, что сбился со счета. А потом, когда холод и боль в ногах стали почти невыносимыми, а надежда почти угасла, я позвонил в звонок, дверь открылась, и на пороге стояла Алиса. Живая, хотя, когда я взглянул на ее потухшие глаза, сгорбленную фигуру и на ее руки, покрытые свежими ранами, сложно было назвать ее живой. Почему-то я сразу понял, что всю неделю с нашей встречи она не ела и почти не спала, что даже не пыталась мне позвонить. Я просто обнял ее там, на пороге, и ничего не сказал. Она тоже молчала, так мы стояли, наверно, несколько секунд. Она не издала ни звука, но мое замерзшее плечо вдруг почувствовало тепло и влагу – Алиса заплакала.
Мы прошли внутрь, в ее квартиру. Там было темно, потому что был уже вечер, а свет Алиса не оплачивала. Она вообще не оплачивала счета. Мне запомнилась пустота комнат: кроме кровати, пары стульев, стола и китайского бумажного фонарика, казалось, во всей квартире ничего не было. Голые стены, что-то валялось по углам. Как только я вошел, то сразу почувствовал странный сильный запах, пахло как в больнице. Я догадался, что это был кетамин. Как потом оправдывалась Алиса, она перестала есть, чтобы увеличить шанс отравиться насмерть, но накачаться сама, разумеется, не смогла. В одной ампуле была слишком маленькая концентрация, поэтому на голодный желудок Алиса поставила что-то около трех ампул из тридцати, а потом просто впала в транс, вырубилась. Она выразилась так: «Все пропало, меня выбросило под потолок, я летала и смотрела на себя сверху, как будто близко и одновременно издалека».
Тем вечером, когда Алиса впустила меня в свой мир, я увидел все эти шприцы, которые валялись повсюду, темные капли крови на полу, целые и пустые ампулы, сваленные в кучу. Я не стал ее осуждать или что-то говорить. Все ссоры я оставил на потом, а тогда я просто остался с ней.
Ночью без отопления было холодно, поэтому мы накрылись моей курткой, которую Алиса сохранила. Я обнял ее, смотрел, как она спала, и был счастлив, что все-таки не бросил, не отпустил. Призраки из клуба самоубийц мне врали, хоть и хотели помочь. Я не смог бы забыть Алису. Да и теперь, наверно, не смогу.
14.
В своей осознанной жизни, если начать считать с детского сада, я встретил не так уж много людей. Думаю, от силы наберется пара сотен тех, кому я смотрел в глаза, с которыми разговаривал больше пары раз, которых впустил в свою жизнь. И, конечно, у меня были отношения с девушками до того, как я встретил Алису. Я помню их имена, как и где мы познакомились, с ними были связаны приятные и не очень воспоминания. Но штука в том, что никого из них я не воспринимал, как часть себя. Это странно звучит, еще сложнее это объяснить, но я постараюсь.
Например, я помню, когда учился в старших классах, мы с моей тогдашней подругой напились и накурились кальяна на вписке у общих друзей. Я был совершенно счастлив в тот момент, потому что все оставили нас в покое, закрыли дверь, чтобы нам не мешать, и мы остались в комнате одни. Я поставил музыку, как сейчас помню, что-то из Эми Уайнхаус, и мы долго целовались. Это был прекрасный момент, я люблю его, этот момент, но не могу сказать, что любил ту свою подругу. Может быть, тогда я и испытывал к ней что-то вроде привязанности или нежности, но не более того. Прошло время, и теперь я уже не смогу в точности вспомнить: ее внешность, как она смеялась, холодные ли были у нее руки, какие книги она читала, кто у нее был любимый актер. Я просто помню тот один прекрасный момент, который, надеюсь, был прекрасным и для нее тоже. Вот и все. А с Алисой было по-другому. Как только я ее увидел, то сразу понял, что это не просто момент, а что-то намного более значимое. Будто я наконец нашел ту недостающую важную часть головоломки в моей жизни, без которой не выходило полной картины. Так что, когда я говорю, что не смог бы забыть Алису, я говорю чистую правду. Я не забуду именно ее саму, целиком и без остатка, а не только те моменты, что у нас с ней были.
Когда недостающая часть головоломки проснулась и открыла глаза, я был рядом. Наступил новый день, и Алиса вдруг снова стала новой, непонятной. Она взглянула на меня, быстро поднялась и начала ходить по комнате, вскинув голову и положив руки на шею так, что ее худые локти будто бы тянулись к потолку. «Прости, прости, – затараторила она в каком-то безумном смущении, – тут так не убрано, грязно, прости». И тут же опустилась на пол и начала сгребать валявшийся мусор в кучу, как будто меня это волновало. Кое-как мне удалось уговорить ее бросить это дело. Чтобы хоть как-то привести Алису в себя, я решил рассказать о том, как искал квартиру. Я все немного приукрасил, в красках описал, как матерился с консьержками, бегал от них по этажам и все в таком духе – она заулыбалась, мне удалось ее вернуть.
– Все-таки хорошо, что ты пришел, – сказала Алиса. – Я не хотела, чтобы меня искали, но рада, что нашел именно ты.
От ее слов мне стало по-настоящему тепло, мне захотелось жить. Алиса повеселела, и я повеселел вместе с ней. Я предложил пойти куда-нибудь поесть, чтобы отвлечься от всех этих капель крови и шприцов.
– Я угощаю, – сказал я.
– А деньги-то у тебя есть?
Я действительно совсем забыл о деньгах.
– Не-а, а ты, надеюсь, еще не потеряла свои кеды, если снова придется бежать?
– Не потеряла, – игриво передразнила меня Алиса. И мы заулыбались, как будто все было в порядке.
Мы вышли из квартиры в десять утра. Был понедельник, и улицы снова пустовали. Большинство нормальных уже разъехалось по своим делам, а у нас с Алисой совершенно не было дел, мы просто шли по улице. Чувство было такое, будто мы были детьми, которых взрослые оставили дома без присмотра. Полная свобода шалить или страдать от одиночества.
Алиса привела нас в какую-то жуткую палатку, которую и кафешкой назвать невозможно: в таких еще стульев нет, одни высокие столы, чтобы быстро перекусить стоя. Мы кое-как наскребли мелочи на одну шаурму на двоих. Мне было стыдно, я проклинал себя за то, что отдал деньги в долг дружку, ведь нам с Алисой не хватило даже на кофе.
– Готов? – спросила она с улыбкой. – Смотри, не урони, это наш завтрак, обед и ужин!
– Готов, – отозвался я, – постараюсь!
И мы, смеясь, разломали несчастный лаваш на части, из него полезли внутренности, которые пришлось потом заталкивать обратно, чтобы они не упали на землю. Зрелище было жуткое, но скажу честно, ничего вкуснее той шаурмы я давно не ел.
– Ну, как, м? – спросила Алиса, вытирая губы салфеткой. – Ощутил все оттенки вкуса?
– О, да! – Подыгрывал я. – Начинка, как в бабушкином пироге!
И мы с Алисой, два дурака, одновременно издали стон наслаждения: «Ммммм!». Парень, скрутивший нам ту шаурму, косился на нас сквозь свое окошко, как на двух ненормальных.
Мы доели и окончательно развеселились. Еще откуда-то вылезло яркое солнце. Алиса потащила меня по своему району, показывала всякие места, тыкала пальцами по сторонам, вспоминая о разных забавных случаях вроде: «а тут за мной погналась собака, и я залезла на горку, мне тогда было лет четырнадцать»; или «здесь, в этом дворе я каталась зимой на коньках, его специально заливали»; или «я как-то просидела всю ночь за этими гаражами, ждала подругу, мы вместе планировали бежать, но она так и не пришла». Алиса говорила о таких вот простых вещах с таким искренним детским восторгом, что я просто не мог отвести от нее глаз. Иногда она улыбалась и, поймав мой взгляд на себе, прикрывала улыбку рукой.
Потом, когда мы почти сделали круг по району, я наконец спросил Алису о том, как прошла эта неделя, после того, как мы расстались. «Я вернулась в свою пустую квартиру, – рассказывала Алиса, – по дороге купила в аптеке кучу шприцов, думала вколоть весь кет, что остался, но без капельницы ничего не вышло». «Это было очень глупо. – Я закачал головой. – Ведь ты обещала мне, что не наделаешь глупостей! Обещала же. Скажи, ну, зачем ты это сделала?». А она ответила этим своим особенным: «Ни знаю». Прямо так и сказала. Алиса опустила голову, будто обидевшись от моих слов, и мгновенно провалилась в какие-то свои мысли. Больше она не показывала пальцем на всякие памятные места, мы просто шли молча. Я понял, что накосячил, что опять теряю Алису, поэтому извинился, хотя и не считал себя виноватым: «Я знаю, это не мое дело, прости меня». «Окий, прощаю», – отозвалась она.
Мы дошли до поворота. Дорога резко поворачивала налево, а впереди была стена густого подмосковного леса. Вокруг тишина – никого кроме нас на километр – и в этой тишине я вдруг отчетливо услышал, как где-то вдали, за деревьями, волны бьются о бетон. «Покажешь мне плотину?» – вдруг спросил я и даже сам удивился, что спросил это вслух. Мы остановились, и Алиса подняла на меня глаза, в которых невозможно было что-то прочитать. «Ты правда этого хочешь?» – шепнула она. Я помолчал, думая, как лучше ответить. «Наверно, хочу», – шепнул я в ответ после паузы. Мне казалось, что если я не увижу, как волны бьются о тот бетон за лесом, то никогда уже не смогу разгадать Алису. «Ладно, – сказала она теперь уже совсем тихо, что я едва услышал ее голос, – если хочешь, я покажу тебе эту чертову плотину».
15.
Алиса провела меня по тропе, заваленной листьями, через лес, и вскоре мы вышли к реке. Тогда я и увидел ее, эту чертову, как выразилась Алиса, плотину. Над ней светило яркое солнце, но она все равно произвела на меня впечатление какой-то необъяснимой тоски и одиночества. Мы забрались прямо по скошенным плитам наверх и облокотились на ржавое заграждение. Я опустил голову и посмотрел туда, где в нескольких метрах под нами была похоронена Алисина страшная тайна, где волны, казалось, такой маленькой и слабой реки так неистово разбивались о бетон снова и снова, бесконечно и бессмысленно. Взвыл холодный ветер, и я даже не мог поднять голову, чтобы не заслезились глаза. Я смотрел прямо вниз, в пену волн под ногами. И чем больше я смотрел в эту пену, тем больше мне казалось, что в ней будто проявлялся силуэт слона. Увидев этого слона однажды, я уже никак не мог от него отделаться. Он стал для меня каким-то символом всего самого печального и безысходного, он стал моим личным сортом меланхолии. Слон на стене клуба самоубийц, слон в облаках, слон из пены волн. Он не преследовал меня, я просто видел его, когда меня охватывала необъяснимая, внезапно возникающая тоска. Вкус ее оставался прежним, менялись только декорации со слоном.
Мы стояли на этой плотине несколько вечностей, солнце закатилось за облака, а ветер взвыл еще больше. И вдруг Алиса заговорила, выбив меня из транса неприятных мыслей.
– А здесь, – сказала она и ткнула пальцем вниз, как будто показывала мне очередное памятное место, – здесь я убила свою любимую младшую сестренку.
Это была очередная горькая Алисина шутка. Она посмотрела на меня, но я даже не улыбнулся. Тогда Алиса задумалась и вдруг медленно проговорила:
– Знаешь, в то время у меня были длинные волосы. А после того, как я вернулась с плотины домой вся мокрая и грязная, то заперлась в комнате и остригла их. Моя мать так ни разу и не спросила, что с ним стало, с моими прекрасными длинными волосами. Она переживала только из-за чудовища. «Что же ты наделала, что ты наделала?» – только это все время и твердила, плакала и повторяла одно и то же. Ее прямо заело, как пластинку.
Я покачал головой и промолчал. Когда Алиса говорила о своей семье, ее переполняла такая ненависть. От этого меня всегда передергивало, я все никак не мог поверить, что когда-то она, тринадцатилетняя девочка, стояла на этом самом месте, а потом решилась столкнуть человека вниз. Я вспомнил тринадцатилетнего себя: как ругался с родителями, а потом в тайне желал им смерти. Что если бы в моей семье тоже родился неполноценный монстр, забирающий себе всю любовь и внимание, если бы отец тоже ушел из семьи, не выдержав пытки, если бы моя жизнь тоже рухнула из-за одного существа? Может быть, я бы тоже отвел его на плотину? Мне не хотелось даже думать о таком.
– Ну почему же у нас все так неправильно? – спросил я. – Ну почему мы не можем жить, как живут все?
– Потому что мы уроды, – ответила Алиса быстро и очень серьезно. А потом, сказав это, она замолкла, и очередная волна собралась с силами, чтобы разбиться о непреодолимую преграду в глупой надежде попасть на другую сторону.
– Мы вымирающий вид, – продолжила Алиса спустя несколько секунд, дав время волне разбиться, – мы последнее поколение бетона, мы дети ржавых изгородей, битых стекол, глухих дворов и изрисованных гаражей. Мы росли, пока все вокруг нас рушилось, летело к чертям и гнило на пустырях. Как же мы можем подстроиться под этот черный мир и не вырасти уродами?
Она замолчала. Я знал, что в Алисе говорит ее вечно переменчивое, как московская погода, настроение. А еще, наверно, в ней говорили этот истеричный ветер, эти волны и это лживое, скрывшееся солнце. И все же мне было больно слышать это от девятнадцатилетней девушки.
– Алиса, я знаю, почему ты хочешь умереть, – тихо сказал я. – Ты хочешь умереть не из-за того, что сделала, а потому что боишься остаться одна, верно?
Алиса молчала, а я продолжал:
– Ты боишься одиночества, но его ведь боятся все. Я вот дико его боюсь. От этого страха мне иногда становится физически больно. Но ведь теперь мы не одни, правда? Теперь у меня есть ты, а у тебя есть я... А еще у нас обоих есть немного «special k»!
Я сказал это и сам понял, что шутка вышла неуместная и тупая. Поспешил исправиться:
– Я просто хочу сказать, что сейчас, в эту вот саму минуту… мы же не одиноки, правда?
– Правда. – Алиса кивнула. – Но счастливы ли мы от того, что сейчас не одиноки?
Я не знал, что на это ответить. Мы снова уставились на бетонные утесы под нашими ногами. Из-за облака выкатилось солнце, но уже не могло поднять нам настроение. Все было упущено.
– Надо раздобыть капельницу, – прошептала Алиса, и эти ее негромкие слова тут же сгорели на ветру.
От нахлынувшей печали внутри у меня что-то глухо упало, а из бледной пены, от которой я до сих пор не мог оторвать взгляд, вдруг начал подниматься огромный розовый слон. Сначала я подумал, что это просто камень, но он продолжал всплывать, становясь все больше и больше, а когда в волнах показался хобот и безразличные черные глаза, сомнений уже быть не могло. Сначала слон стал объемным, как будто его надул кто-то из-под воды, а потом вдруг и вовсе ожил, поднялся на ноги и громко протрубил, от чего вся плотина затряслась. Одной рукой я вцепился в ржавое ненадежное ограждение, а другой – крепко схватил Алисину ладонь: мне показалось, что все могло вот-вот рассыпаться в мелкую бетонную крошку, и мы с ней упали бы вниз. Алиса посмотрела на меня очень странно, но сопротивляться не стала. Большой розовый слон вдруг замолчал, опустил хобот, бросил на меня прощальный безразличный взгляд и, медленно повернувшись ко мне задом, побрел против течения прямо по руслу, как будто преследовал золотую рыбку. Несколько минут я смотрел ему вслед, до тех пор, пока он не скрылся за дальними деревьями у изгиба реки. Все это время мы стояли с Алисой, взявшись за руки, и не сказали друг ругу ни слова.
16.
Тем же вечером мы впервые разделили на двоих кетаминовую меланхолию. До этого я ничего не употреблял, если не считать баловство плюшками, от которых, если честно, я не получал особого удовольствия. Помню, как-то сидел с друзьями: мы вдыхали едкий густой дум из пластмассовой бутылки. Все вокруг меня ржали, не могли даже говорить, так их пробрало, а я просто тупо пялился в стену. Вот и весь мой опыт употребления веществ. И все же в том, что я впервые ввел в себя кетамин – кет, «special k» или «настю», как его еще почему-то называют, – не было Алисиной вины. Конечно, тогда-то я думал, что спасаю ее от передоза единственным доступным способом – разделяю с ней иглу. На самом же деле, теперь я это понимаю, мне просто было любопытно. Я решил, что мне уже нечего терять, я просто хотел почувствовать то же, что чувствовала девушка, в которую я был влюблен. Время пришло, когда после плотины у меня и у Алисы настроение было такое, будто нас растоптал огромный розовый слон, и нам ничего не хотелось, разве что упасть куда-нибудь и сдохнуть. Я тогда подумал, если Алиса говорила правду, если существовало хоть какое-то лекарство, способное вытащить нас из наших тел пусть ненадолго, то я готов был его попробовать. В конце концов, ничто не держало меня в этой реальности, кроме Алисы. А если она готова была покинуть этот мир вместе со мной, то мне этого было достаточно.
На обратном пути с плотины мы зашли в какую-то большую аптеку, вроде супермаркета для больных и умирающих, где тебе улыбаются при выходе и просят обязательно приходить еще. Мы хотели раздобыть пару капельниц и складных штативов, но денег у нас уже не было, поэтому пока Алиса притворялась на кассе, что роется в карманах, я схватил пакет с прилавка, и мы рванули к дверям. Никто не собирался нас преследовать, никто нас не остановил. Может, у них там были камеры, но нам с Алисой было все равно. Молча и без остановок добежав до дома, мы поднялись на лифте, быстро закрыли за собой дверь на лестничную клетку и вошли в квартиру. С полминуты мы просто стояли в коридоре, тяжело дышали и смотрели друг на друга. «Все-таки кеды пригодились», – сказал я. Алиса ничего не ответила, и мы прошли в комнату.
Как-то внезапно наступил вечер, и солнце быстро покатилось вниз, готово было вот-вот скрыться за дальней высоткой. До наступления ранней осенней темноты мы уже успели подготовиться: поставили в комнате капельницы, в каждой по двойной дозе «special k», Алиса принесла большой фонарь, потому что другого источника света у нас не было, плеер, который она подзаряжала, пользуясь розеткой внизу, у консьержки, и механический будильник – на всякий случай. Во время подготовки мы не сказали друг другу ни слова, просто шатались туда-сюда по скрипучему полу Алисиной квартиры, каждый шаг в окружении этих голых стен казался просто невыносимо резким и громким. Сердце у меня сильно билось от волнения перед надвигающейся химической неизвестностью, но я старался не подавать виду.
Когда со всеми сборами было покончено, мы сели на пол в центре комнаты, каждый рядом со своей капельницей. Становилось уже довольно темно, поэтому, чтобы найти вену, нам пришлось включить фонарь. Яркий белый луч света ударил нам в лицо, и Алиса вдруг сказала чуть хриповатым и неровным от долгого молчания голосом: «Похоже, у нас тут личная ночь откровений». Она улыбнулась, а у меня по спине побежали мурашки, настолько точно это было сказано. Я испытал дежавю, вспомнил о клубе самоубийц и даже на всякий случай бросил взгляд на дальнюю стену комнаты, боясь увидеть там силуэт слона, выведенный розовым мелком. Конечно, его там не оказалось – только стены с оборванными обоями. «Не бойся, – усмехнулась Алиса, увидев, вероятно, мое волнение, и решив, что я просто испугался ставиться, – я с тобой, мы теперь вместе, так ведь ты говорил, м?» Я неуверенно кивнул головой. Резко запахло больницей: Алиса уже ввела иглу в свое левое, изрисованное шрамами запястье, и проверила, работает ли капельница. Закончив, она кивнула и пододвинула мне фонарь. Настала моя очередь: я нащупал вену, поработал кулаком, чтобы она проявилась, потом помедлил секунду и наконец вставил иглу. В луче, направленном мне на руку, капелька крови заблестела рубиновым светом. Я смахнул ее, вздохнул и поставил фонарь между мной и Алисой.
Я смотрел в ее глаза, а она смотрели в мои. То и дело мы глупо улыбались, но старались не моргать и не разрывать связь. Было в этом моменте что-то мистическое и прекрасное: как опускалось солнце за окном, как мы сидели друг напротив друга, как тихо и пусто было вокруг и как по каплям разрушались звенья цепей, которыми мы были прикованы к ненавистной реальности. Спустя пару минут я начал ощущать первые симптомы: какую-то меланхоличную, болезненную усталость. Из меня вытягивали жизненные силы, а я будто был этому рад. Я вдруг превратился в жертву из фильма про вампиров и испытывал какое-то необъяснимое удовольствие от укуса в шею.
Мне захотелось что-то сказать, словно мне потребовалось доказательство того, что я все еще существую в этом мире. Мои губы были как под наркозом у стоматолога, и я медленно проговорил:
– А где вся мебель?
– М? – спросила Алиса. Я видел, что ей тоже далось это нелегко.
– Куда ты дела мебель? – повторил я по слогам.
– А-а-а, поняла. – Алиса медленно кивнула головой и тяжела вернула ее в прежнее положение, будто ее череп весил сто килограмм. – Когда мамы не стало, я выкинула все.
– Зачем?
Алиса пожала плечами.
– Чтобы ничего не осталось.
– Что, даже холодильник выкинула? – Я попытался улыбнуться, но, думаю, со стороны это было похоже на то, что у меня свело нижнюю часть лица.
– Нет. – Алиса махнула головой. – Холодильник, нет, не… не пролез в окно.
Я уставился на нее.
– Ты что, выкидывала мебель в окно?
– Ту, что могла поднять. Остальную разломала и выкинула по частям. А холодильник, дай подумать, он на балконе. Мне не хватило сил.
Мы засмеялись, так нам, по крайней мере, показалось.
– Черт, ты ненормальная! – воскликнул я и чуть не опрокинул свою капельницу.
– Спасибо!
Вдруг Алиса зашевелилась, начала раскачиваться и после нескольких попыток поднялась с пола.
– Ты чего? – испуганно спросил я.
– Сейчас, сейчас, – заговорила она, – я вернусь, я знаю, чего не хватает нашей ночи откровений.
– Куда ты?
Но Алиса уже не ответила. Она резко повернулась ко мне спиной и начала движение в коридор, медленно передвигая перед собой капельницу. Когда она скрылась за стеной, мне показалось, что вместе с ней исчез и звук ее шагов, как будто Алиса совсем исчезла. Мне стало страшно, но я не стал кричать и звать ее, потому что остатком сознания догадывался, что Алиса где-то тут, рядом, хотя мне было тяжело заставить себя в это поверить. Я не мог точно посчитать время ее отсутствия, поэтому направил свет фонаря на будильник и стал следить за стрелкой. Эта стрелка то двигалась, то не двигалась, превращаясь в нарисованную черточку на циферблате, то двигалась слишком быстро, то – слишком медленно. Это чертова стрелка совсем не хотела идти как надо, и меня это дико бесило.
Наконец – не знаю, сколько прошло времени – Алиса вернулась с бритвой в руке. Видимо, она ходила в ванную.
– Зачем? – спросил я. Это все, что я смог тогда спросить.
Алиса прицелилась, чтобы сесть, и уже начала медленно опускаться, но вдруг упала на пол совсем рядом со мной и засмеялась. Я чудом успел удержать ее капельницу. Алиса горячо вздохнула и устало опустила голову мне на плечо, трубочки наших капельниц чуть не переплелись.
– Прости, – шепнула она.
– Ничего.
– Знаешь, чего нам не хватает, м?
Я пожал плечами.
– Не знаю.
Алиса улыбнулась, взяла меня за руку, посмотрела мне в глаза, приложила палец к губам и сказала:
– Тссс, не бойся, больно не будет. – С этими словами она резко порезала мое правое запястье, но я действительно этого не почувствовал, боли не было. Густая кровь потекла по моей коже, а я внимательно смотрел на багровую речку, выходившую из берегов, и ничего не говорил.
– Не пролей, – сказала Алиса и порезала свое запястье тоже.
– Зачем все это? – спросил я безразличным голосом.
– Пошли за мной. – Она кивнула мне на дальнюю стену.
Я не стал больше ничего спрашивать, решил зря не тратить силы. Мы поползли по полу, гремя капельницами, стараясь не капать кровью на пол и глупо улыбаясь. Кажется, кто-то из нас ногой задел фонарь, он упал и покатился: свет замелькал как на дискотеке, стены, пол и потолок покосились, все затанцевало, зарябило перед глазами. Лучи стреляли очередями, а между обоймами на комнату обрушивался мрак. Я уже не мог точно сказать, где нахожусь. Но я не запаниковал, потому что в одном был уверен на сто процентов – рядом со мной была Алиса.
– Рисуй, – сказала она, когда мы доползли до стены.
– Что? Чем? – не понял я. Ото всех этих плясок света мне показалось, что вокруг война.
– Ты рисуй хвост, я – хобот. Кровью, дурачок.
Я послушно начал рисовать на стене хвост.
– Да не такой! – крикнула Алиса. – Хвост слона, как в клубе!
Я нервно закивал, размазал алую линию рукавом и начал рисовать заново. Фонарь наконец докатился до стены позади нас, ударился в нее и остановился. Луч света замер на бетонном холсте, на котором мы с Алисой рисовали собственной кровью большого слона. Не знаю, сколько времени прошло перед тем, как где-то посередине стены наши изрезанные руки встретились – рисунок был закончен. Мы отодвинулись назад и уставились на свою работу: было похоже, что мы совершили какой-то жуткий ритуал по призыву демона.
– Может, ему улыбку пририсовать? – спросил я.
– Нет. – Алиса снова положила голову мне на плечо. – Все так, как должно быть.
Мы просидели вместе, пялясь на стену в полубреду и погружаясь в сон, какое-то время. Я провел окровавленной рукой по Алисиным коротким остриженным волосам и оставил на них несколько темных капель.
– Не надо, – шепнула она.
– Что не надо?
– Все портить.
Алиса оторвала голову и потянулась за плеером, он валялся на полу неподалеку.
– Помнишь, я говорила, что ты должен послушать ту песню?
– Какую?
– «Special K», «Placebo». Сейчас самое время.
– Хорошо.
Я кивнул и лег на спину. Алиса пристроилась рядом и протянула мне один из наушников. Заиграла музыка. Во всем мире для нас одних Брайан Молко взял гитару и запел свое «no escaping gravity» в припеве. Мы закрыли глаза и погрузились в холодную кетаминовую меланхолию, разбившую свет и звук на отдельные идеально правильные кусочки. Мне не было страшно ускользать из реальности, потому что я держал Алису за руку. В какой бы из самых невыносимых миров нас не занесло – я знал, вернее я тогда думал, что мы будем вместе до самого конца.
Мы лежали там в окружении голых стен Алисиной комнаты, не в силах пошевелиться или сказать хоть слово, пока на повторе крутилась песня, и мы танцевали под нее внутри.
17.
Следующие две или три недели – не могу сказать точно – стали самыми странными в моей жизни. Это была моя и Алисина кетаминовая осень. Наш особый раствор из крови, безумия, голых стен и «special k». Только для нас двоих, только для меня и для нее. Я остался в ее квартире, забыв о деньгах, о тетке, о бывших друзьях – словом, разом отказался от всего, что связывало меня с прошлым. Закрывшись от окружающей неприятной действительности, остановив течение времени, мы с Алисой создали свой маленьких хрупкий мирок, в котором не строили никаких планов, а просто существовали, наслаждаясь каждым мгновением. Мы верили, что нам не суждено было стать здравомыслящими и обычными, что мы никогда не сможем смириться с окружающей, давящей со всех сторон рутиной и бродить с девяти до шести по лабиринтам офисов. Мы даже не пытались подстроиться и найти свое место во всем этом хаосе среди нормальных людей, а просто сдались без боя. Мы не знали ничего об ипотеках, не разбирались в ценных бумагах, не говорили о политике, никогда не были в пенсионных фондах, у нас не было скидочных карт из торговых центров. Мы были двумя выпавшими из реальности, столкнувшимися нейтронными звездами. Мы запутались в гравитационных объятиях друг друга, и нас затянуло во всепоглощающую кетаминовую черную дыру. Так мы разменяли серые московские будни на безумные ночные ритуалы.
Втянувшись во все это из извращенного любопытства, мы никак не могли остановиться, потому что уже не представляли, как существовать иначе. Лежа на полу в пустой комнате, полуживые-полумертвые, днями и ночами напролет мы мечтали о возмутительно прекрасных вещах: следили за медленным движением облаков за окном и представляли, что кроме нас на всей планете никого не осталось. Мы воображали спасительный зомби-апокалипсис или подрисовывали кровью на стекле ядерные грибки над горизонтом. Мы хотели остаться вечно одинокими, мы не хотели просыпаться, мы врали самим себе, что наша осень с запахом медикаментов и крови никогда не кончится, а если вдруг это произойдет – то мы просто однажды возьмем и исчезнем, безболезненно и тихо, как по волшебству.
«Когда все пройдет, – прошептала как-то Алиса, пока мы в очередной раз лежали на полу в луже собственной крови, – когда кончатся эти прекрасные ампулы, ты спрыгнешь со мной с плотины?». Мне стало страшно от этих слов, но я не хотел терять Алису, не хотел ломать это хрупкое равновесие между нами, поэтому сказал то, что она хотела услышать: «Да».
Я так и не научился предсказывать перемены в ее поведении, а может быть, это вообще было невозможно, и я зря пытался. Иногда Алиса носила маску беспричинно хорошего настроения. В такие моменты она вдруг говорила: «Хочешь увидеть паркетного ангела?». А я весело отвечал ей: «Хочу!». Тогда Алиса начинала махать руками, лежа на спине на полу, размазывая по паркету свою кровь, показывая этого дурацкого ангела. А потом лезла ко мне обниматься, смеялась и мило прикрывала рот своей тонкой изрезанной рукой.
Я был счастлив в такие моменты. Я мог спрашивать Алису о чем-нибудь личном, и она мне отвечала. Например, я несильно прижимал ее к себе, чтобы ничего случайно не испортить, и спрашивал: «Кем ты хотела стать в детстве?». И тогда Алиса начинала рассказывать. Она с улыбкой говорила, что всегда считала себя умнее других детей – она мечтала быть испытателем аттракционов. «Кто-то ведь должен их проверять, чтобы они были безопасными, м?». Вот этим бы Алиса и занималась. Она бы каталась на каких-нибудь самых опасных в мире американских горках, сидела бы в своей кабинке в полном одиночестве на огромной высоте, неслась бы на невероятной скорости вверх-вниз, вверх-вниз. А если бы что-то вдруг пошло не так, она бы все равно не успела опомниться – умерла бы счастливой, разбившись вдребезги на сумасшедшем вираже. Алиса рассказывала мне об этом, закрывала глаза, пока я гладил ее волосы, и мне казалось, что нам было очень хорошо вместе. Я мечтал, чтобы эти минуты не кончались.
А иногда Алиса надевала маску беспричинно плохого настроения. Она могла вдруг выставить меня за дверь, крикнув что-то вроде: «Убирайся, оставь меня в покое, вали и не возвращайся!». Тогда я даже не знал, что делать. Просто стоял на лестничной клетке и барабанил в дверь, надеясь на то, что это Алисино настроение изменится раньше, чем я замерзну или чем ей придет в голову какая-нибудь глупость.
Алиса была для меня загадкой. И загадкой она останется для меня уже навсегда. Кем я был для Алисы? Тем, кто просто находился рядом и мог в крайнем случае поймать капельницу или подставить плечо? Или я все же был для нее чем-то большим, но она просто боялась себе в этом признаться? Я не знал ответа и старался не забивать этим голову, а просто погружаться все глубже и глубже в пучины наших с Алисой сознаний. И все же один раз я сорвался и чуть все не испортил.
Как-то мы лежали, обнявшись и свернувшись калачиком, будто став одним целым. Было холодно – за окном поздний вечер или раннее утро, я точно не знаю, потому что к тому моменту мы уже успели окончательно выпасть из течения времени, измеряли его в оставшихся ампулах. Я просто чувствовал, что сейчас осень, потому что постоянно льют дожди и падают листья, а рядом со мной Алиса, я ощущал на себе ее теплое дыхание и слышал ровное биение сердца. Я тихонько провел рукой ей по плечу, чтобы разбудить, и зашептал:
– Помнишь, в том баре, когда мы были пьяные, ты мне еще тогда сказала, что меня раскусила, что я просто хочу с тобой мутить?
– Не помню, – сонно отозвалась Алиса.
– Ты это точно сказала, я знаю.
– Ну, значит, это была шутка.
– А для меня нет. – Я сильнее прижал Алису к себе. – Может, тогда я еще не разобрался, но теперь знаю наверняка, что мне нужно больше, чем то, что у нас сейчас.
Алиса открыла глаза и попыталась освободиться, но я ей не позволил.
– Отпусти меня, – сказала она.
Я покачал головой. Я уже не мог ее отпустить, стал дышать чаще, не мог себя контролировать, перевернулся и сел на нее сверху, прижав к полу.
– Не смей, – Алиса начала извиваться, когда я захотел ее поцеловать. – Прекрати сейчас же, сука, пусти!
Я запустил одну руку к ней под майку с надписью «Nirvana», нащупав грудь, а другую – в джинсы, там она была вся сухая. Алиса тут же вскрикнула, как ошпаренная, а я испугался и тут же убрал руки. Пока я приходил в себя, она заехала мне локтем в кадык и, скинув с себя, рванула в дальний угол, к стене с кровавым слоном. Она вжалась в нее, затряслась и засверлила меня сумасшедшими, широко открытыми глазами, как будто я был конченый маньяк.
– Уходи! – завопила она так, что у нее охрип голос.
Я поднялся с пола и увидел трясущуюся, напуганную мной до смерти Алису. Из глаз у меня потекли слезы, которые я не мог никак сдержать, я пополз к ней и начал тараторить что-то вроде «прости, прости меня!». Как же, наверно, гадко это выглядело со стороны.
– Уходи! – повторила Алиса и ткнула пальцем в сторону двери. Ее рука тряслась, вся она была как заведенная. Как же она боялась меня в тот момент.
Я послушно встал и быстро прошел в коридор. Пока надевал ботинки, я тоже трясся, будто и сам себя боялся в тот момент. Мне понадобилось не меньше минуты, чтобы завязать шнурки. Алиса так и не выглянула из комнаты, поэтому перед тем, как закрыть дверь я сказал:
– Я все равно вернусь. И если ты меня впустишь, то обещаю, что это больше никогда не повторится.
Я постоял еще несколько секунд, подождал, но ответа не было, так что я захлопнул за собой дверь и прямо так, в чем спал – без рубашки, но в ботинках – вышел из квартиры.
Думаю, тогда, шатаясь после всего случившегося по пустынному холодному району, я и понял, что не смогу уже разгадать Алису. Поначалу я, конечно, был зол на себя за то, что я такой кретин. Ругал себя матом, пока быстро шагал по какой-то улице. Встал на светофоре у перекрестка, хотя ни машин, ни людей рядом не было, и попытался успокоиться. Замерзшими руками начал чиркать зажигалкой, чтобы раскурить на ветру последнюю сигарету, припасенную на черный день. Но ничего не получалось, и в приступе гнева я бросил сигарету вместе с зажигалкой под ноги, забил на светофор, потому что не мог просто стоять на месте, меня потянуло вперед.
С быстрого шага, чтобы разогреться, я перешел на бег, мысли и дыхание сменили темп, и я стал неожиданно зол на Алису. Я бежал и бежал, про себя поливал ее грязью, ругал, винил во всем случившемся. «Какого черта, за кого она меня принимает?! Я для нее что, игрушка?! Она меня только френдзонит, думает, что может делать со мной, что хочет, а на меня самого ей насрать! Чертова эгоистка, пошла она, не вернусь к ней, и посмотрим, что она будет делать без меня! Пусть хоть сдохнет там одна, как мечтала, бла-бла-бла, бла-бла-бла!» – что-то в таком духе я орал про себя, пока бежал по неровному московскому асфальту в темноте под фонарями Алисиного района, горевшими через один. А потом, спустя несколько минут, дорога все улетала вперед, а гнев уже иссяк, и я остановился, обхватив руками колени. Мой желудок издал дикий вопль, и я вдруг вспомнил, что мы с Алисой уже, наверно, несколько дней не ели. Мне стало страшно за нее, я представил, как Алиса все еще сидит там, вжалась в стену и боится даже выглянуть в коридор, такая голодная и несчастная.
Я отдышался и поднял голову – надо мной разверзлась космическая беззвездная пустота. Только душный черный небесный купол, будто бы залитый бетоном, и ничего больше. Я огляделся по сторонам и понял, что Алисин район остался позади. За моей спиной светили его огни, а я стоял на каком-то пустыре, в самой середине подмосковного мрака. Я всегда это знал: куда бы ни унесли меня ноги, я всегда оказываюсь на каком-нибудь пустыре. И мне было совсем без разницы, куда я попал на этот раз, я просто знал, где я должен быть – рядом с Алисой, никогда ее не отпускать, не делать ей больно, а просто быть рядом. И быть готовым остаться или уйти, если она попросит. И все же – вот какая штука – я до сих пор надеялся, что однажды мы с Алисой будем вместе. Физически. Эта глупая надежда засела глубоко внутри меня, как заноза, которую я боялся вытащить, чтобы не было больно. Я пожалел, что выкинул ту последнюю сигарету, развернулся и побрел обратно, ориентируясь на огни района.
По пути, перед тем, как вернуться в квартиру, я зашел в круглосуточный магазин и сгреб в горсть все пробники каких-то черствых французских булок. Наверно, это было очень забавно – посмотреть со стороны на то, как я бежал по улице в одних трусах, держа руки перед собой и боясь просыпать крошки.
Когда я поднялся на этаж, Алиса сразу открыла мне дверь, и мы обнялись на пороге, как и в тот раз, когда я ее тут нашел. Мы обнялись просто и по-дружески, а потом я заставил Алису поесть. В ту ночь мы легли спать отдельно у разных стен. Я накрыл ее своей курткой, а сам прижался к кровавому слону и пялился в окно, пока не взошло солнце. Мне не спалось, но и плохо в ту ночь мне не было тоже. Я просто кое-что понял.
18.
Кажется, это было на следующий день после всей этой драмы: мы с Алисой решили дернуть побольше «special k». Тогда у меня случился первый и, надеюсь, что уже последний передоз в жизни. Погода была отвратительная: весь день за окном шел мелкий противный дождь, иногда, правда, вылезало тусклое солнце, но оно совершенно не спасало. «Давай двойную от вчерашнего?» – предложила Алиса, кивнув на уже небольшую кучку ампул. И я согласился, терять-то было нечего, так я думал. Обычно мы занимались этим по вечерам, когда было темно и настроение было подходящее, но тут вдруг решили сделать исключение при дневном свете.
Мы, как всегда, воткнулись и сели друг напротив друга. Алиса смотрела на меня все еще немного испуганно после вчерашнего, от чего выглядела как-то по-особенному милой, недоступной и прекрасной. Мне опять захотелось перед ней извиниться, но я сдержался, чтобы не напоминать лишний раз о случившемся. Алиса тоже молчала, хотя явно хотела что-то сказать. Это было так странно: у нас с ней уже появились темы, которые мы старались не затрагивать. Каждый из нас как будто боялся словом разрушить то хрупкое, что между нами было.
Сначала я привычно ощутил болезненную усталость, но я уже знал, что вскоре, если не дать себе заснуть, должно будет открыться второе дыхание, и сонливость в одно мгновение исчезнет, и мир вокруг рассыплется на прекрасные идеальные кусочки. Я сидел напротив окна, а Алиса спиной к нему и лицом ко мне. Она выбрала музыку и протянула мне один из наушников, я кивнул и взял его. Музыка начала уже приятно заполнять меня изнутри, фрагментируясь и постоянно преобразуясь во что-то иное, потустороннее, совершенное, как будто каждую секунду начинала играть новая мелодия. А может быть, этих мелодий действительно было несколько, и они просто сложились в моей голове в одну, потому что я не заметил времени. Звуки будто отпечатались во мне все разом. Потом я помню, что хотел что-то спросить у Алисы, но меня вдруг как будто затянуло в пропасть, и я исчез с лица земли. Я не заснул, меня просто не было: не было моей памяти, моего тела, моего сознания – все полетело в провал к чертовой матери.
Когда я открыл глаза, то почувствовал, что со мной что-то не так, но долго не мог сообразить, что именно. Сначала я увидел окно и серое небо за ним, но ракурс был какой-то неправильный. Я опустил глаза и понял, что лежу на боку на полу и пытаюсь говорить, но из моего рта только вытекает слюна, она пенится где-то внизу, у подбородка. И тут резкая боль согнула меня пополам, молнией выстрелила из левой руки и ударила в самое сердце. Я догадался, что капельница все еще доставляет в меня яд, но я ничего не мог с этим поделать – я лежал на боку, захлебываясь в слюне, из глаз почему-то тоже текли неконтролируемые безвкусные слезы. Я чувствовал, что весь дрожу, как в припадке, но никак не мог справиться и унять эту дрожь, а мог смотреть только прямо, в окно. А там, за стеклом, вдруг ослепительно посветлело, как будто самурайским мечом рассекло тучи, и из огромной открытой раны вытекло солнце. Оно все надувалось и надувалось, а потом лопнуло, как желток на раскаленной сковороде, и у него изнутри полетели на землю, кружась и беспомощно помахивая хоботами маленькие розовые слоны. Все это время, пока я лежал, трясся и смотрел в окно, кто-то все прибавлял и прибавлял громкость в наушниках, из-за чего я вскоре стал слышать только подобие рева волн, бьющихся о бетон.
Кое-как мне удалось откинуться на спину, и пока я переворачивался, игла вместе с хоботком трубки выскочила у меня из запястья. Только когда перестало жечь руку, я вспомнил об Алисе. Сначала я искал ее у окна, потому что помнил, что она сидела к нему спиной – но теперь ее там не было. Тогда я повернулся на другой бок и увидел, что Алиса вжалась в угол ближе к двери. Ее глаза были закрыты, губы синие, и вся она была совсем-совсем белая. На пределе возможностей, не чувствуя конечностей, я пополз к Алисе и, выдернув иглу, начал бить ее по щекам. Тут еще зазвонил этот механический будильник, от которого у меня сердце упало. Я откинул его в сторону и попытался докричаться до Алисы, но у меня все еще ничего не выходило, я только издавал какие-то булькающие звуки и продолжал трясти ее за плечи.
Я запаниковал, когда понял, что пульс у Алисы почти исчез. Я пытался откачать ее ударами в грудь, но руки плохо меня слушались – выходили какие-то нелепые неритмичные шлепки. Спустя минуту безуспешных попыток привести ее в чувства, я отчаялся и обхватил голову руками, думая, куда бы бежать за помощью, но Алиса неожиданно открыла глаза и начала закашливаться. Я помог ей сесть, она прислонилась к стене, и ее вырвало чем-то желтым, больше похожим на густую слюну. Она попыталась что-то сказать мне, но начала задыхаться. Я знаком приказал ей молчать, а сам рванул на кухню за водой – там у Алисы стояли бутылки, которые она брала внизу, у консьержки, а иногда и сама наполняла их дождевой водой. По пути я делал дикие скачки от стены к стене, мне приходилось врезаться в них, чтобы удержаться на ватных ногах и не упасть. Кое-как, с такими вот перебежками, чуть не смяв круглый бумажный фонарик, вцепившийся мне в ногу, я добрался, и мне удалось схватить одну из открытых пластиковых бутылок. Я расплескал половину пока нес, но все же дал Алисе попить. Ей стало немного лучше, тогда я вздохнул и опустился на пол рядом.
Она посмотрела на меня – в этом ее взгляде была какая-то рассеянная нежность – и снова открыла рот, чтобы заговорить, но у нее ничего не вышло. Мы оставили попытки объясниться и просто уставились в окно. На улице начинало вечереть, и по железному карнизу забарабанил очередной дождь. Я знал, что самое ужасное уже позади, но все равно схватился за Алисино запястье и, убедившись в том, что пульс, хоть и редкий, но есть, немного успокоился.
Мы заснули прямо там, у стены, не в силах даже накрыться чем-нибудь о холода, и проспали больше двенадцати часов. А потом нас настигло страшное кетаминовое похмелье. Это был один из самых страшных дней в моей жизни.
19.
Иногда дождевой воды из пластиковой бутылки достаточно, чтобы вернуться к жизни. После передоза нас знатно прочистило, и мы с Алисой выпили каждый литра по три, не меньше. Словно призраки мы раз в полчаса бродили туда-сюда, от комнаты до кухни, обессилившие и страдающие от неутолимой жажды. «If you marry me, would you bury me?» – напевала Алиса себе под нос. Время текло очень медленно, а вода кончалась быстро. «Ты никогда не пыталась устроиться на работу?» – спросил я, когда увидел, что все бутылки уже опустели. «Зачем?» – удивилась Алиса. «Чтобы хотя бы оплачивать счета». Она покачала головой: «Нет, не пыталась». Я вздохнул.
Когда живешь как Алиса, совсем без денег, приходится учиться мало есть и экономить воду: например, чтобы помыться, Алисе было достаточно и пяти литров. Она к этому уже привыкла, а для меня поход в душ в ее квартире превращался в настоящую пытку, настолько я был зависим от комфорта. Каждый раз нам приходилось искать воду: выходить на балкон и проверять тазы, накапало ли туда чего-нибудь, а если дождя в ближайшие дни не было, то нужно было спускаться вниз и выпрашивать воду у консьержки, потому что с соседями по этажу Алиса наотрез отказывалась общаться. «Я их боюсь, – говорила она. – Я вообще боюсь людей, но эта старушка внизу, она довольно милая. Ее я не боюсь, иногда она отливает мне кипяченой воды из своего чайника, когда прошу».
В тот раз, после дичайшего отравления, на балконе ловить было уже нечего, мы осушили все, что было, так что – выбора не оставалось – мне пришлось тащиться на первый этаж. В моменты, когда плетешься вдоль бетонной стены выпрашивать воду у старушки, тебе начинает казаться, что в твоей жизни что-то определенно пошло не так.
– А кем бы ты стала работать, если бы вдруг пришлось? – спросил я, когда вернулся с двухлитровой бутылкой кипяченой воды.
– Слишком много «бы», – улыбнулась Алиса и сделал глоток.
– И все же, – настаивал я, – неужели тебе ничего не интересно?
Алиса задумалась.
– Наверно, я бы рисовала.
– Картины?
– Ну да.
Я покачал головой.
– Не думаю, что художники много зарабатывают.
– Да уж, на яхту на Москве-реке вряд ли бы хватило!
Мы засмеялись, и Алиса прикрыла улыбку рукой.
– Ты где-то училась рисовать?
– Да, ходила в художку в детстве. Отец возил, ему почему-то хотелось, чтобы я туда ходила, гордился, наверно. – Она поставила бутылку на пол.
– А тебе самой нравилось?
Алиса пожала плечами.
– Не знаю, наверно… иногда.
– А чего бросила тогда?
– Почему же, вон, рисую. – Она кивнула на нашего кровавого слона на стене, а потом вдруг стала серьезной и проговорила после небольшой паузы: – А бросила, потому что, как мне кажется, хотела забыть о детстве. Я думала, что станет легче, если тот человек, кем я была, навсегда исчезнет. Я пыталась придумать себя заново, но все без толку – себя-то не обманешь.
Она попыталась грустно улыбнуться, а я провел взглядом по голым стенам, лишенным всяких воспоминаний – ни старых семейных фотографий, ничего – и сделал глоток старушечьей воды, чтобы как-то заполнить молчание.
– А отец? – тихо спросил я потом. – Ты говорила, что он перестал приезжать, а сама ты пробовала с ним связаться после… ну, понимаешь?
– После смерти матери? – уточнила Алиса холодно.
Я кивнул.
– Нет, не пыталась.
– Но ты ведь теперь совсем одна, – сказал я. – А где-то живет твой отец и, возможно, ни о чем до сих пор не знает. Если бы ты нашла его, у тебя был бы хоть кто-то, кто о тебе позаботится.
– Я уже не одна, ты обо мне заботишься, – сказала Алиса с нежной улыбкой, от чего я даже покраснел. – Я не хочу искать отца, потому что не смогу, наверно, его простить. У меня до сих пор есть его номер, но я ни разу не пыталась по нему позвонить. Может, отец его давно сменил, сбегая от обязанностей? Разве можно положиться на человека, на взрослого человека, который однажды уже нарушил обещание?
– Может быть, с ним что-то произошло, что-то случилось? – предположил я. – Что если он не виноват, а ты даже не знаешь, что с ним стало?
Алиса развела руками, начиная заводиться.
– Ну, значит, так тому и быть, – сказала она нервно. – Так или иначе, его не было рядом, когда он был так нужен. А теперь я и без него отлично справляюсь.
Я покачал головой, снова огляделся вокруг, посмотрел на весь этот голый ужас из одноразовых шприцов, разбитых ампул и крови, размазанной по полу.
– Ты же сама видишь, что не справляешься.
– Ну я пытаюсь! – воскликнула Алиса.
– Нет, ты пытаешься сбежать, – сказал я громче, чем следовало бы, и сразу же пожалел об этом – Алисин взгляд вспыхнул, ее маска сменилась.
– А ты разве там же не занимаешься, м? У тебя ведь тоже кто-то есть, тетка, да? Я же видела пропущенные, когда мы сидели в той кафешке сразу после того, как ты разбил ампулы!
– Я их не разбивал.
– Не важно, – отмахнулась Алиса. – Важно, что у тебя тоже есть семья, но ты ее по какой-то причине избегаешь. А причина эта проста: мы с тобой уроды, просто больные, никому не нужные уроды! Нас никто из нормальных понять не может, а мы не можем понять их, да и сами себя понять не можем. Вот в чем дело! Никогда нам не стать такими же, как все вокруг. Мы не будем в тридцатник продавать кофеварки, ездить на выходные закупаться на всю неделю в гребаный «Ашан», не будем по вечерам укладывать сопливых ангелочков по кроваткам и читать им сказку! Ничего у нас не будет, ничего и никогда!
В приливе эмоций Алиса резко махнула рукой и задела открытую бутылку – она громко расплескала свои недопитые внутренности по полу и покатилась в угол. Алиса тут же замолчала. У нее из глаз брызнули слезы, а голос скатился на какой-то хриплый шепот: «Ну почему у нас все не так?..». Я уже винил себя в том, что начал этот разговор. Мне захотелось успокоить Алису, сказать, что все у нас так, что она ошибается, что все у нас будет хорошо, но почему-то не стал. Просто промолчал, даже не обнял ее – наверно, испугался. Мы просидели с минуту в полной тишине, пока Алиса немного не успокоилась. А потом мне в голову пришла сумасшедшая идея, отлично подходившая, чтобы отвлечься от всех этих плохих мыслей. Я подполз к Алисе и предложил ей выкинуть наконец холодильник, последнюю частичку ее прошлого, застрявшего, как кость в горле, на балконе.
– Нормальные не могут себе это позволить, – сказал я, – а вот мы – спокойно!
– Ты думаешь, у нас хватит сил? – спросила Алиса, вытерев слезы.
Я кивнул.
– Угадай, сколько дураков нужно, чтобы выкинуть холодильник из окна? – с тупой улыбочкой спросил я.
– Два? – Алиса тоже развеселилась.
– Точно.
Я помог ей подняться с пола.
– Прости меня, – шепнула Алиса.
– И ты меня прости, – шепнул я.
20.
Это оказалось сложнее, чем я думал, но мы, еще страдающие от кетаминовой слабости, все-таки отправили холодильник вниз и тут же высунулись, чтобы посмотреть ему вслед. Перед тем, как он разлетелся вдребезги о дорогу, будто на секунду завис в воздухе, и мне даже показалось, что этот парень не сдается, он совсем не хочет падать, а вот-вот взмахнет своими белыми гладкими дверцами и улетит за бетонный горизонт у дальних высоток. Но этого не случилось: не поборов притяжение, холодильник со смачным звуком врезался в асфальт всего в нескольких метрах от какой-то машины. Она и еще несколько рядом с ней начали сигналить, а из всех ближайших дворов в небо рванули испуганные птицы. Мы с Алисой тут же спрятались, сползли вниз, чтобы через окно нас не было видно, и глупо засмеялись. «Гражданин Холодильник закончил жизненный путь. Пусть добрая светлая память сохранится в наших сердцах на долгие годы!» – весело сообщил я. Алиса даже не пыталась сдерживаться, она все смеялась и смеялась, запрокинув голову и иногда посматривая на меня. Потом попыталась придать своему лицу серьезное выражение, но получилось у нее неважно. «Все сознательную жизнь он только и делал, что хранил в себе еду, а последние свои дни доживал в одиночестве, запертый на балконе!» – с трудом проговорила Алиса и опять расхохоталась.
Это был хороший момент, уходить совсем не хотелось. Погода тоже была ничего, и мы просидели на балконе до самой темноты, говорили о всяком, много смеялись. Нам нравилось наблюдать за реакцией прохожих, проходивших мимо разбитого холодильника. Кто-то вообще не обращал на него внимания, просто шел с работы мимо разлетевшихся внутренностей, уткнувшись в свой смартфон и весь перемотанный проводами от наушников – такой и конца света не заметит. Но были еще всякие женщины с детьми или старушки: эти, наверно, повсюду видели опасность, поэтому едва заметив труп холодильника, сразу начинали паниковать. Они будто чувствовали, что здесь что-то не так, что случилось что-то ужасное, непонятное, находящееся за пределами их нормального течения жизни. Тогда они испуганно поднимали голову, и мы с Алисой снова прятались. Иногда нас успевали увидеть, и мы слышали истеричные крики и угрозы снизу. Мы сползали вниз, смеясь, но не уходили с балкона, сам не знаю почему. Это было похоже на игру. Наверно, нам просто нравилось это чувство – чувство пьянящей безответственности. Мы были как дети, которые не хотели взрослеть, получали кайф от того, что были другими, не такими, как все.
А потом, помню, был закат. Один из тех редких закатов, когда вдруг начинает казаться, что ты главный герой чего-нибудь, кино или книги, и весь мир только и крутится вокруг тебя. Мы с Алисой все еще стояли, обнявшись, в одной куртке на двоих, на балконе и смотрели в никуда, в небо. Улицы уже были пусты, только дети гоняли мяч по двору, было свежо, тихо и как-то по-хорошему тоскливо. Совсем недолго, пока солнце опускалось, догорая, за горизонт, облака светились розоватым светом. Мне показалось, что за ними, как за тонкими занавесками, стояла лампа.
Я снова пожалел, что не было сигарет, так вдруг захотелось затянуться. «Не знала, что ты куришь», – сказала Алиса. «Да я вроде бросил, но потом подумал, какого черта, и снова начал. И так у меня постоянно, никак не могу принять решение и окончательно бросить». Алиса улыбнулась: «Ну, я думаю, курить в такие вот моменты, как сейчас, прекрасно. Когда что-то сгорает и уходит навсегда с дымом сигареты, от этого настоящее становится более ценным и хрупким». «Я тоже так думаю, – я кивнул, – есть что-то романтичное, первобытное и ритуальное в саморазрушении, верно?». «Верно». И мы с ней прижались друг к другу.
Готов поклясться, что в эти минуты, пусть и совсем ненадолго, но я почти дотянулся до нее, почти начал понимать Алису. Наши чувства будто наконец попали в нужную тональность и все зазвучало так, как надо, без фальши. Мы молчали, выдерживая правильные паузы, мы говорили и не издавали лишних звуков. Это странно, но тем вроде бы обычным вечером, на том вроде бы обычном балконе, случилось что-то очень важное, по крайней мере, для меня. Я не могу объяснить, что это было, я просто так боялся разрушить все: сделать лишний вдох, пошевелиться и чем-нибудь спугнуть Алису. Я боялся испортить этот невероятный момент, и она, кажется, тоже этого боялась. «Все будет хорошо», – почему-то сказал я. Наверно, потому что это было самое подходящее время для таких вот глупых слов, и я просто не удержался.
Тем вечером мы решили не вмазываться, потому что, во-первых, еще были напуганы тем, что случилось с нами накануне, а во-вторых, в этом не было необходимости – мне и Алисе было вполне неплохо и в реальном мире. У нас оставалось уже меньше десяти ампул, стоило их сэкономить, растянуть на подольше. Конечно, мы оба знали, что однажды, уже совсем скоро, они закончатся совсем, и наша кетаминовая осень оборвется, но я старался об этом не думать, а просто в тот миг мечтал остановить время и зависнуть в свободном падении. Как холодильник, перед тем, как разбиться об асфальт внизу. И я, дурак, надеялся, что в самый последний момент найду выход и сбегу от всего плохого, как-нибудь, на чем-нибудь улечу за горизонт у дальних высоток…
Солнце упало, а мы просидели на балконе еще с полчаса, пока совсем не замерзли. Тогда мы пошли в комнату спать, накрывшись моей курткой. Я пожелал Алисе спокойной ночи, и уже повернулся на бок, когда она шепнула мне на ухо: «Знаешь, я тут подумала…». «О чем?» – отозвался я. Но она вдруг замолчала, вздохнула, очень тяжело вздохнула, как будто приняла какое-то важное решение, и сказала только: «Ладно, ничего… спи». Но разве после такого заснешь? Я не стал переспрашивать, решил не доставать Алису, а теперь об этом жалею. Я так и не понял, так и не узнал, что она хотела мне сказать тем вечером. И уже точно никогда не узнаю.
21.
Неизбежно наступило утро, значит, ночь нашего с Алисой откровения осталась в прошлом и все несказанное было похоронено несказанным. Я открыл глаза и увидел яркие солнечные лучи, осветившие грязные пятна на полу, а еще – зайцев, вырвавшихся из раскиданных повсюду ампул и дрожавших теперь на стенах. Больше всего я ненавидел открывать вот так глаза по утрам, зная, что в один момент все оборвется, станет воспоминанием, хламом в копилке памяти, которым я буду наслаждаться в одиночестве, иногда протирая от пыли.
Алиса уже поднялась, она сидела в углу спиной ко мне, склонившись над чем-то. По квартире гулял легкий ветер, пролезший внутрь через открытый балкон, в прихожей шуршал и катался китайский бумажный фонарик. Я не спешил выдавать себя, просто лежал в полудреме под всеми этими солнечными лучами и зайцами и наблюдал за Алисой: она определенно была чем-то занята, ее локти и лопатки то и дело вздрагивали. Мне не хотелось ее отвлекать, что бы это ни было, но она вдруг сама обернулась, как будто почувствовала на себе мой взгляд, и улыбнулась.
– Проснулся уже? – спросила Алиса.
Я кивнул.
– Что ты там делаешь?
– О, это пока секрет! – Она что-то спрятала от меня, и я услышал, как шуршит бумага. – Не подглядывай!
Я и не собирался. Мне было достаточно того, что Алиса была в хорошем настроении.
– Как скажешь.
Я встал с пола, потянулся и, чтобы не мешать ей, вышел на балкон. Погода была солнечная, что-то вроде запоздалого бабьего лета. Я поймал себя на мысли, что уже много дней не выходил в сеть и не знал даже, какое теперь число или что вообще творится в мире. Вдруг где-то началась очередная война, очередной страшный вирус вырвался на волю или на нас с Алисой уже сброшены все бомбы, а я просто не знаю об этом, стою и лениво потягиваюсь?
Я взглянул вниз, туда, где вчера умер холодильник, но к утру от трагедии уже не осталось и следа, кто-то успел все убрать, будто не было ничего, и все это нам только приснилось.
– Ты видела? – крикнул я Алисе в комнату.
– М?
– Холодильник убрали!
– Кто?
– Не знаю, просто вижу, что внизу его нет.
– Жаль, – сказала Алиса.
– Согласен, – вздохнул я.
Вот так просто холодильник был увезен каким-то мусоровозом вместе с воспоминанием о прошлом вечере. Этого я и боялся. Я имею в виду, не успеваешь оглянуться, как все консервируется, остается призрачным следом, а когда наконец до тебя доходит, что все уже прошло, то становится слишком поздно. Ничего не вернуть, не собрать заново и не выкинуть снова из окна. В каком-то смысле все мертвое – лучше живого, потому что мертвое неисправимо и от этого кажется более совершенным.
– Алиса? – крикнул я.
– М?
– А пошли прогуляемся.
– Ладно, только дай мне пять минут закончить.
Я прождал эти пять минут там же, на балконе, пялясь в окно, как и вчера, но курить мне теперь совсем не хотелось – момент был не подходящий. Наверно, у меня что-то вроде эстетической зависимости.
Пока ждал, я немного выпал, погрузился в свои мысли, а пришел в себя только когда Алиса подкралась ко мне сзади и закрыла своей холодной рукой глаза. Я почувствовал щекой рубцы от ее порезов.
– Угадай, – шепнула она. Я сразу понял, что она что-то держит в другой руке.
– Не знаю, – сказал я. – Что там?
Она убрала руку и разрешила повернуться.
– Та-дам! – Из-за спины Алиса достала лист бумаги, на котором было нарисовано нечто абстрактное и непонятное: брызги акварели, смешанной с кровью, на скелете из карандашных линий. С первого взгляда было похоже на ветвящееся дерево с разноцветными горящими, рвущимися, мечущимися во все стороны листьями и тонкими, очень хрупкими корнями. Такое невозможно описать словами, можно только увидеть самому.
На несколько секунд я смутился, пытаясь разгадать, в чем тут дело. Она заметила, как я сосредоточился, и засмеялась, прикрыв рукой рот.
– Это ты! Я тебя нарисовала.
– Меня? – Я пытался найти на Алисином рисунке хоть что-то похожее на человека. – Ну… спасибо.
Поняв, что для Алисы это много значит, я взял рисунок в руки и внимательно и долго пялился на него, изучал, хотел прочувствовать.
– Если не нравится, – проговорила Алиса уже не так весело, – то так мне и скажи.
– Нет, почему, нравится. – Я пожал плечами. – Правда.
– Окий.
Алису это обидело – что я не сразу все понял. Так оно, в общем, и было – в тот момент я не заметил в этом буйстве красок что-то важное. Теперь же, по прошествии времени, я, кажется, наконец увидел то, что раньше увидеть не мог. Этот крик, обрушенный Алисой на лист бумаги, из красок, крови и тонких карандашных линий был самым точным выражением того, что творилось у меня восемнадцатилетнего внутри. Может, это все глупости, и мои чувства просто играют со мной в игру, но мне все же хочется думать, что Алисе действительно удалось понять меня лучше, чем я мог понять себя самого. Пусть будет так.
Потом я аккуратно сложил Алисин рисунок, убрал его во внутренний карман куртки, и мы пошли шататься по району. Я специально выбрал маршрут подальше от реки и плотины – мы направились в сторону шоссе, куда стекались все дороги, подальше от неприятных воспоминаний.
В ярком солнечном свете я увидел, какая грязная у меня была куртка, какие поношенные у меня были кеды, да и сам я, наверно, со стороны выглядел не лучше. Не люблю такие дни: все становится слишком очевидным, чувствуешь себя как на ладони. Солнечная погода только для жизнерадостных людей, которым нечего скрывать.
Мы с Алисой быстро разговорились, начали нести всякую чепуху, придуривались, что у нас полно дел. Она изобразила, будто идет на высоченных каблуках и смотрит на часы. «Сколько сейчас времени? Хотя не важно, я все равно опаздываю! – Алиса притворилась, что хмурится. – Надо будет заехать за платьем, оно, я ведь тебе говорила, сейчас в прачечной. Хм, а потом обязательно надо успеть покрасить ногти, а то у меня ужин с парнем в галстуке в дорогущем ресторане! Я съем карпаччо из тунца и побегу на фитнесс, а то абонемент пропадет!». Я смеялся и пытался ей подыгрывать, но Алиса была в ударе, и мне до нее было далеко.
Мы прошли пару дворов, когда мимо нас продефилировала какая-то девчонка с толстыми боками, и Алиса сразу сменила тему и начала говорить, как сильно она ненавидит этих жирух: «Я их боюсь!». Я улыбнулся и сказал, что Алиса и так всех боится, кроме той старушки-одуванчика с первого этажа. Алиса кивнула: «Так и есть! Но жирух я боюсь, потому что они могут меня сожрать!». Я опять засмеялся.
Как всегда, непредсказуемая московская погода подкинула нам сюрприз – солнце вдруг закатилось за тучу, и на землю обрушилась грязная стена вонючего городского дождя. Мне показалось, что небо начало тошнить, так внезапно все это началось. Мы с Алисой забежали под козырек у какого-то подъезда, чтобы переждать. Мы помялись там минут пятнадцать, и Алисе стало скучно – она вдруг оставила мне куртку и выбежала под самый ливень в одной только своей майке с надписью «Nirvana». Она подняла голову, раскинула руки и прокричала что-то, обращаясь будто бы к кому-то наверху, но я не услышал, потому что нас разделял дождь. А потом она начала прыгать, танцевать совсем одна, посреди пустых улиц. Я не удержался, бросил куртку на скамейку и присоединился к Алисе. Дорогу мгновенно затопило, и мои кеды начали разваливаться, но мне было все равно – меня заразила Алисина маска неудержимого веселья. Она всегда поддавалась своему чувству целиком, без остатка и без всяких колебаний, как будто если бы пошла на поводу у логики, то изменила бы самой себе.
Мы дурачились, все промокшие и грязные, и орали до хрипоты, пока все нормальные сидели по домам. И снова мне хотелось, чтобы этот дождь не кончался.
Я рассказываю все это, потому что боюсь упустить что-то важное, забыть какую-то деталь, без которой общая картина перестанет быть ясной. В те осенние дни, что я провел рядом с Алисой, в ее квартире с голыми стенами, без гроша в кармане, я, пожалуй, впервые за всю свою сознательную жизнь был так удивительно и почти непрерывно счастлив. И это счастье невозможно описать одним словом, оно было будто сложено из тысячи маленьких кусочков: из пустырей и бетона; из клуба самоубийц и его призраков; из плотины и китайского фонарика; из старушки-консьержки и бутылок с дождевой водой; из ампул кетамина и крови, из последней сигареты и разговоров на балконе; из любимых песен и всяких дурачеств; из розового слона и капельниц; из солнечных лучей и вонючих дождей. И весь этот прекрасный хаос вращался вокруг Алисы – ключевого элемента моего безумного химического романса. Может, звучит пафосно, но так ведь оно и было. Алиса стала центром той самой прекрасной, самой особенной осени, которая уже никогда не повторится, потому что мне тогда было восемнадцать, рядом была девушка, на которой я был повернут, и я совсем не думал о будущем, а просто падал и падал вниз с плотины навстречу ревущим волнам, золотой рыбке и бетонным утесам.
Не знаю, стоит ли эта простая истина моих не слишком точных слов, не знаю, поймет ли меня кто-нибудь, но знаю точно, что мне станет легче, когда я допишу эту историю до конца, чтобы она перестала висеть у меня на душе тяжелым грузом.
22.
Было очевидно, что этот день настанет – что наш «special k» однажды кончится и все изменится, но я не был к этому готов. В жизни я вообще никогда и ни к чему не был готов, все просто случалось и мне потом приходилось мириться с результатом. Накануне у нас с Алисой был еще один прекрасный вечер: мы танцевали в наушниках под очередную любимую Алисину песню, голые стены вокруг рассыпались на части, в полумраке в воздухе, как в формалине, плыли бумажные китайские фонарики и золотые рыбки. Мне казалось, что мы стоим на самом краю плотины, что вода обрушивается в необозримую даль под нашими ногами, и нам было страшно и вместе с тем хорошо – так страшно и так хорошо, что мы не могли выговорить ни слова, а только улыбались друг другу. А на следующее утро, вернее, было уже около двух часов дня, я проснулся и понял, что все кончено. Кетаминовая осень так просто ушла, превратилась в холодильник и выпала из окна, и теперь ее тоже увозит мусоровоз на какой-нибудь пустырь или свалку. Внутри у меня все перевернулось.
Я не был зависим от «special k», вовсе нет. Химической зависимости не было точно. За все время мы с Алисой вмазались раз шесть, не больше, а этого слишком мало, чтобы стать торчком. Если верить Берроузу, чтобы хоть как-то сесть с чистяка, нужно ширяться по крайней мере три месяца дважды в день. А я даже ломки потом не испытывал, и вообще не уверен в том, что кет может вызывать ломку. Похмелье – похмелье было, но оно проходило, иногда, правда, выворачивало, но потом, спустя сутки или около того, все приходило в норму. Это я сейчас о физическом состоянии – с ним все было в порядке. Но когда я увидел, что ампул больше не осталось, то испугался, что потеряю Алису и эти странные дни навсегда. «Ты спрыгнешь со мной с плотины?» – затрубил слон в моей голове, и во рту у меня все пересохло, я сполз на пол и обхватил голову руками.
Алиса проснулась позже меня. Я почему-то соврал ей, что немного ампул у нас еще осталось, что я просто убрал их в карман. Она успокоилась, так что я решил, что у меня есть время по крайней мере до вечера, чтобы что-нибудь придумать. В общем, я снова не принял никакого решения, а просто, как умею, продолжил оттягивать неизбежное, которое уже звенело как перетянутая струна, и готово было вот-вот порваться.
В последнее время у Алисы была полоса хорошего настроения, поэтому сразу после подъема мы протрепались почти без перерыва. Я старался выглядеть как можно более веселым, но, мне кажется, Алиса заметила, что со мной было что-то не так, хотя ничего и не сказала. Она просто внимательно смотрела мне прямо в глаза, а я отводил взгляд, как какой-то школьник. Я для Алисы был открытой книгой – ничего не мог от нее скрыть, она читала меня насквозь.
В этот раз во время разговора все было довольно подозрительно: Алиса проявляла удивительно много внимания ко мне и к моему прошлому, а ведь раньше мне казалось, что я был ей совершенно не интересен. Мы сидели на полу, и она расспрашивала о моем увлечении гитарой, хотела узнать, почему я перестал играть в группе. Я ответил: «Меня попросили, потому что я забивал на репетиции и не учил материал». Алиса засмеялась, как всегда прикрыв губы рукой, – никогда не забуду этот жест – и сквозь смех сказала: «Значит, ты был слишком безответственным для рок-группы?». Я тоже улыбнулся и пожал плечами: «Выходит, что так».
Может быть, Алиса считала, что чем-то была мне обязана и просто хотела как-то подбодрить меня этим своим вниманием перед тем, что нам предстояло – перед двойным самоубийством. Но она не знала, что я вовсе не собираюсь прыгать с плотины, а наоборот – хочу спасти ее саму от этой глупости. Я все еще надеялся, что мы переживем нашу меланхолию, что потом все будет хорошо, нужно только потерпеть и подождать – и тогда раны сами по себе, как по волшебству, заживут, и мы с Алисой, взявшись за руки, уйдем в закат под прекрасную музыку и финальный титры...
Для нас день только начался, а тяжелое солнце, едва появившись над дальними высотками, уже покатилось вниз, как под тяжестью серых облаков и дыма красно-белых труб. Время летит как сумасшедшее, когда этого совсем не хочется. Алиса поднялась с пола сказала, что ей надо спуститься к консьержке, чтобы воспользоваться розеткой и подзарядить плеер для нашей личной ночи откровений. Она сказала с улыбкой: «Сегодня ведь суббота, сядем с фонарем напротив друг друга, как будто мы в клубе, и расскажем какие-нибудь ужасные секретики, подурачимся напоследок, м?». Это была очередная Алисина шутка, и мне снова не было смешно. «Стой, сегодня что, правда суббота?» – спросил я и задумался.
У меня в голове вдруг появилась сумасшедшая идея, где бы я мог достать «special k» – у той, кого звали Первой. Я был уверен, что у нее этого должно быть в избытке, раз уж она каждую субботу выносила приговоры направо и налево. Сразу родился план: я решил поехать на заброшенный комбинат, возможно, надавить на эту сектантку, если понадобится, и даже не задумался, насколько это была глупая затея. Тогда мне казалось, что все средства хороши, лишь бы продлить нашу с Алисой кетаминовую осень. «Можешь сходить в гости к старушке без меня? – сказал я. – Мне нужно выйти ненадолго, но я скоро вернусь, ты и не заметишь». Алиса удивилась: «Куда это ты собрался?». Я не мог ей сказать, что иду за лекарством, а просто повторил, что очень скоро вернусь, но напоследок, уже обуваясь в коридоре, все же решил добавить: «Только дождись меня, не наделай глупостей». Она нахмурилась и вздохнула: «Окий». Я понимал, что оставляю Алису одну, но мне ведь казалось, что я делаю все это ради нее.
Мы вышли из квартиры вместе и вместе поехали в лифте. Если бы я тогда знал цену этого момента. Алиса вдруг встала на цыпочки и быстро поцеловала меня в губы. Сердце подскочило, а этажи быстро полетели вниз. Все произошло слишком быстро, я не успел даже ничего понять. Я растерянно посмотрел на Алису, а она улыбнулась и сказала: «Не знаю, что бы я без тебя делала, честно». Я пошутил: «Ты меня сегодня пугаешь». Она засмеялась, прикрыв рот рукой, обняла меня непривычно крепко и прошептала: «Не бойся, я тебя дождусь». Я тогда ничего не понял, кретин. И мы разошлись. Алиса осталась на первом этаже, чтобы якобы подзарядить плеер, а я сразу направился на улицу и, как только дверь подъезда захлопнулась за моей спиной, побежал к остановке.
В половину седьмого я был на пустыре у заброшенного комбината. Мне понадобилось около двух часов, чтобы добраться с одного конца Москвы на другой – с замкадного юга на замкадный север, из одной погодной зоны в другую, из одного города в другой. Пришлось ехать зайцем и просчитывать маршрут, я даже вспомнил то время, когда работал курьером и наворачивал подземные километры в постоянной спешке.
С каждой минутой темнело все больше. В электричке, уже подъезжая к пустырю, я стоял в тамбуре рядом с целующейся парочкой. Вокруг них грязь, сотни людей, набитых в вонючий прокуренный вагон, за окном – сопливая московская осень, бетон и серое небо. А они были так счастливы и влюблены, будто плавали так глубоко в своем собственном мире, что меня тут же схватило за горло какое-то подобие зависти. Я мог думать только о том, что наш с Алисой мир рушился на глазах из-за моей собственной лжи.
За четыре часа до начала ночи откровений я уже стоял в подвале с розовым слоном, и впервые я был там в одиночестве. Древний бог пялился на меня со стены своими большими безразличными глазами, подведенными розовым мелком. Я показал говнюку средний палец и на душе стало немного легче.
Я решил дождаться и подкараулить Первую здесь, потому что рассчитывал, что она придет раньше остальных. Тридцать или сорок минут просто ходил от стены до стены в почти кромешной темноте или сидел на полу, качался взад-вперед и вслушивался, как откуда сверху падают капли и разбиваются о бетон. Время казалось мне вечностью, с каждым мгновением, проведенным вдали от Алисы, я переживал за нее все больше и больше, и уже ругал себя за то, что все это затеял, но поворачивать назад было поздно.
Наконец я услышал шаги прямо за железной дверью. Я тут же вскочил со своего места и успел подскочить к входу в тот момент, когда взвыли петли. Зажегся фонарь, и от этого яркого света я ослеп на несколько секунд – слишком долго просидел в темноте. «Что ты здесь делаешь? – сказала Первая, я сразу узнал ее холодный мертвый голос. – Ночь начнется в одиннадцать!». Поначалу она меня не узнала, пришлось напомнить. «И что тебе нужно?» – холодно спросила она, видно, не сильно была мне рада. Я так же холодно ответил: «Кетамин для меня и Алисы, немного, трех-четырех упаковок будет достаточно». Я сказал это и вдруг почувствовал на себе взгляд сзади – как будто розовый слон ожил и теперь смеется мне в спину. Первая качнула головой: «Я не даю лекарств наркоманам, я делаю хорошее дело». Она сказала так, как будто сама в это верила. Может, она действительно была совсем поехавшая. «Хорошее? Ты убиваешь людей! – крикнул я, потому что меня взбесил ее тон. – Ты толкаешь слабых на край, и они больше не возвращаются в той хренов клуб, потому что их больше нет, они умирают из-за тебя и твоей гребаной философии!».
Первая внимательно на меня посмотрела, а потом улыбнулась одной из самый жутких улыбок, что я видел, и сказала: «А сам ты, значит, считаешь себя сильным?». Я пытался найти ответ, но она не дала мне времени, сделала несколько уверенных шагов в мою сторону и начала шипеть, будто вся окончательно превратилась в змею: ее холодные глаза засверкали в свете фонаря, язык будто раздвоился, так быстро она начала говорить. «Я знаю таких, как ты. Слышишь? Знаю, знаю! – Она просто затараторила на нечеловеческой скорости. – Ты хочешь жить, так и живи, сопляк, а другим не мешай делать свой выбор! Ноешь, что подружка не дает? Угадала?».
Я испытал какой-то мистический страх и чуть ли не вжался в стену. Первая усмехнулась, она все сверлила меня своими сумасшедшими глазами, не моргая и не отводя фонарь от моего лица. Этот фонарь трясся у нее в руке, стрелял во все стороны светом, и я знал, что от этого розовый слон сейчас радостно пляшет на стене за моей спиной, злорадный сукин сын. «Мир не крутится вокруг твоих потребностей и вокруг твоего члена! Твои проблемки с проблемами других и рядом не стоят, понял? Не лезь со своей подростковой чушью к тем, у кого уже ничего нет и терять нечего. Если кто-то действительно хочет умереть, то он умирает, и никак его не спасти, если он принял решение! А ты?.. Знаю я таких, как ты. Ты никогда не решишься покончить с жизнью. У тебя кишка для этого тонка, понял?!» Она вдруг застыла, все так же не моргая, с фонарем наперевес напротив меня, как будто ждала моего ответа. Я промямлил: «Понял».
И тут Первая как по волшебству опять изменилась в лице, оно у нее приняло привычное мертвое и вместе с тем ласковое выражение. Мне показалось даже, что она мне по-дружески подмигнула: «Ну вот и хорошо. Извини, что не могу выполнить твою просьбу, мне правда очень жаль. На ночь, я так понимаю, послушать других ты не останешься?». Я покачал головой.
Долбанутая тетка. Дрожь берет, как о ней вспоминаю. Но она была права, от этого все становится еще ужасней.
23.
Предчувствие чего-то страшного преследовало меня всю дорогу обратно в Алисину квартиру, и я хотел добраться побыстрее. Я почти бежал по этим бесконечным одинаковым улицам, засыпанным осенними листьями, как будто их каждое утро поставляли в город на грузовиках. Когда внутри погано, когда кажется, что даже собственные мысли какие-то чужие, противно становится от того, что вокруг продолжается жизнь. Все было зря: моя ложь, мои поездки туда-сюда. Во всех этих жалких попытках не было никакого смысла – с каждой секундой я терял Алису. Только теперь я это понял: нужно было просто остаться с ней, быть с ней рядом, как я сам этого хотел. Моя жизнь рассыпалась под моими насквозь промокшими ногами в убитых кедах, на душе скреблись кошки – с таким настроением я возвращался поздним вечером в квартиру с голыми стенами. Мне, уставшему и потерянному, было отвратительно смотреть на шатающихся повсюду подбухнувших веселых и живых людей. Я задержался всего на минуту, чтобы стрельнуть сигарету на остановке и одной затяжкой сжег ее до фильтра. Эта минута, если бы я тогда не потратил ее так глупо, изменило бы это что-нибудь? Мне страшно думать о таком.
Я выкурил сигарету, а когда поднялся на этаж, то понял, что Алисы нет. Потом я потратил еще одну минуту, цену которой не знал, чтобы на всякий случай проверить ванную комнату, в которой не было воды, и кухню, на которой мы никогда ничего не готовили. Разумеется, все было без толку – Алисы не было нигде, она ушла. Квартира была пуста, а на полу, заваленном пустыми ампулами и залитом нашей с Алисой кровью, лежала записка. В этот момент, когда увидел этот клочок бумаги, я точно помню, что уже знал, что там написано. Я поднял листок и, прочитав его, будто постарел на целую жизнь.
Алиса не стала заряжать плеер у консьержки. Алиса знала, что ампул у нас не было, что я ей соврал. Алиса попрощалась со мной в лифте, подождала, пока я уйду, а потом – пошла на плотину. Алиса писала, что будет ждать меня там до 23:00 нашего последнего субботнего вечера, нашей последней ночи откровений, чтобы мы вместе, как я ей обещал, взявшись за руки, спрыгнули вниз и разбились о бетонные утесы. Чтобы быть счастливыми теперь и навсегда. А если бы я не пришел на плотину, то она оставила бы меня в покое и покончила бы со всем сама. Вот что писала Алиса.
Я посмотрел на часы – было без двух минут одиннадцать. Я знал, что никак не успею добежать до реки, но все равно побежал. Я не закрыл квартиру, я проклинал лифт за те пять или шесть секунд, которые мне пришлось его ждать, я не помахал консьержке, ногой выбил дверь прямо у нее на глазах и вырвался наружу. Я побежал так быстро, как никогда в жизни еще не бежал. Мир вокруг стал распадаться на части, как будто я был под «special k»: все казалось нереальным, мои глаза отказывались верить в окружающую действительность, смешавшуюся в одну кучу из звуков и цветов. Ноги увязали в каше из осенних листьев и грязи; вокруг бродили пьяные компании; меня чуть не сбила машина на перекрестке; шумели провода; на голову давил черный беззвездный купол; фонари, горевшие через один, превратились в китайские фонарики; из каждого двора за мной тянулся розовый хобот; шум реки за лесом превратился в змеиное шипение Первой.
В каком-то полубреду я добежал до плотины, хрипло кричал, звал Алису, но никто мне не ответил. Тогда в кромешной темноте я поднялся по скользким бетонным плитам наверх, и дошел до того места, где совсем недавно мы с ней стояли, прислонившись к ржавому ограждению, и посмотрел вниз – в черную пучину, в которой ничего не было видно. Было уже семь минут двенадцатого. Я опоздал, но никак не мог поверить, что все было кончено. Я все еще надеялся, что это все мне просто снится, что скоро я проснусь в залитой солнечной лучами комнате, и Алиса опять будет сидеть ко мне спиной в углу и что-то рисовать… Эта глупая надежда стала моим обезболивающим. Только поэтому я, кажется, и не заплакал.
Я простоял там, на плотине, в полном одиночестве еще несколько минут, пока волны бились о бетон под моими ногами. В тот момент я хотел прыгнуть, действительно хотел. Я уже расставил руки, закрыл глаза, сделал последний вздох – я сделал все, кроме самого последнего шага. Как всегда. Я просто не смог.
24.
После этого я прожил в Алисиной квартире еще около недели. Надежда так глубоко впиталась в мою кровь, что мне потребовалось немало времени, чтобы понять, что Алисы действительно больше нет на этом свете.
Наступил ноябрь, и я вернулся к тетке, вернее, вернулось то немногое, что от меня осталось. Думаю, что выглядел я ужасно, потому что тетка даже не стала ругаться или спрашивать меня о том, где я пропадал, а просто позвонила родителям. Отец забрал меня вместе с гитарой, с которой я приезжал. Я собрался для очередного переезда, будто ничего не изменилось. Помню, мы ехали в машине, матери с нами не было, и я злобно сказал отцу с заднего сиденья: «Ну что, я попытался начать жизнь с чистого лица, как вы и хотели. Доволен?» Отец резко затормозил и хорошенько мне врезал. Не могу сказать, что это помогло, мне было совершенно насрать на себя самого и на всех вокруг.
Позже я понял причину родительского беспокойства: тетка заметила небольшой синяк от иглы, совсем крохотный такой синяк, у меня на руке. Из-за всего этого отец вел со мной серьезные беседы, а мать стала относиться как к больному, то и дело плакала – при мне она старалась это скрывать и улыбаться, но я все видел по ее опухшим красным глазам.
Потом меня отправили на лечение в какую-то клинику, недешевую, как я думаю. Разумеется, никто не поверил мне, когда я сказал, что никакой химической зависимости у меня нет и никогда не было. В общем, я и сам был не особо настроен бороться за справедливость – мне было совершенно по херу, куда ехать, лишь бы подальше от своих мыслей. В той клинике я провел семь недель, где меня, «молодого парня, у которого вся жизнь впереди», пытались привести в порядок. Выглядел я и правда болезненно, отказывался от еды, ни с кем особо не разговаривал. Но никто, конечно, не понял причины моего депрессивного поведения, все просто решили, что оно было связано с ломкой.
Каждый субботний вечер у нас была социальная терапия. Мы, наркоманы, собирались в кружок и по очереди исповедовались в своих грехах и отчитывались о прогрессе, достигнутом в борьбе с болезнью за последнюю неделю. Все говорили по кругу. Сначала говорил один, его никто не перебивал, а потом, когда он заканчивал свою исповедь и смолкал, другие могли обсудить его проблемы и вынести приговор – заслуживает ли он освобождения или нет. Некоторых, кто особенно хорошо себя показал, по итогам этой терапии выписывали из клиники раньше остальных.
«Первый шаг к решению проблемы – это признание ее», – говорила женщина в неформальной одежде, которая проводила все эти сеансы. «Все мы здесь равны, потому боремся с одним недугом, я ваш друг, а не враг». И она смотрела на нас и улыбалась, но за этой улыбкой читалось мертвое безразличие. Каждый раз, когда приходила моя очередь, я специально во всех красках и подробностях описывал свои кетаминовые приходы, закатывал глаза и говорил, как сильно я мечтаю о дозе, клялся, что как только меня выпустят, я сразу найду, где бы вмазаться, и всех присутствующих приглашал присоединиться ко мне, чтобы устроить крышесносный рейв. После такого у женщины в неформальной одежде, считавшей себя нашим другом, в глазах вспыхивали ужас и презрение, а меня это чертовски забавляло. Я уже смирился с тем, что весь мир вокруг меня был одним большим клубом самоубийц, в котором одни умирали, а другие были обречены жить несмотря ни на что. Я смирился с тем, что бродил по замкнутому кругу.
В клинике я не провел ни дня без мысли об Алисе, но боль вскоре стала тупой, а потом и вовсе исчезла, оставив после себя дыру, которую мне, наверно, уже не заполнить. Все на свете можно пережить – вот, что я тогда понял. Иногда переживаешь даже быстрее, чем думаешь. И это, пожалуй, самое плохое из того, что я узнал о жизни. Я был просто обречен пережить смерть Алисы.
В клинике мне исполнилось девятнадцать, но это был уже не прежний я, а кто-то совсем другой – полумертвый и полуживой. Восемнадцатилетний я, тот, которым я был когда-то, перегорел, сгнил, исчез навсегда, прыгнул с плотины вместе с девушкой, в которую я был влюблен. Никто меня не понимал, некому было рассказать, что творилось у меня внутри. Зато на день рождения на деньги моих родителей мне устроили неплохой праздник за больничной решеткой: с тортом и газировкой. Черт, до чего же глупой мне казалась моя жизнь!
Через какое-то время меня все-таки выписали. Была зима, не помню, какой месяц. Все было в снегу, ни одного поганого осеннего листа – и я впервые за много недель смог спокойно вздохнуть. Приехал домой к родителям, соврал им, что продолжу учебу, повесил Алисину картину на стену… Я даже удивился, как легко все вернулось в некое подобие нормального существования. А потом, случайно наткнувшись на старую новостную статью, я узнал, что в конце ноября в нескольких километрах вниз по течению той реки, недалеко от плотины, нашли труп девушки. Тело застряло в бетонной трубе, слив был забит осенними листьями. Та самая Алиса, которая прикрывала рот рукой, когда смеялась, застряла в бетонной трубе. И это была последняя нота нашего химического романса.
С тех пор прошло два года, а я все еще жив: жру, сру и брожу туда-сюда. Все так же убиваю себя и своих любимых. Вот уже вторую осень я прячусь за своими ненадежными керамзитобетонными стенами, скрываясь от того, что было, и не выхожу из дома, пока не пройдет последний осенний дождь.
P.S.
Чтобы написать эту историю, я закрылся от всех на три недели. Я писал быстро и почти ничего не менял впоследствии, потому что все уже было у меня в голове, мне просто оставалось вывалить свои чувства на вордовские страницы. Не думаю, что в этом есть какая-то литературная ценность, я стремился только поделиться своими мыслями и эмоциями, переполнявшими меня в восемнадцать лет. Я рад, что мой поток сознания теперь имеет какую-то форму, и даже если я однажды догорю, окончательно повзрослею и стану другим человеком, то смогу хотя бы вспомнить о своих чувствах перечитав написанное.
Я долго думал лишь над названием, среди вариантов были: «Убей своих любимых», «Клуб Самоубийц», «Special K», «Меланхолия» или даже – «Бетонная Меланхолия в Розовых Слонах». Ни одно из этих названий в итоге не подошло по разным причинам.
Описанное во многом автобиографично и произошло со мной сразу после того, как я по собственному желанию отчислился с первого курса филфака, чтобы посвятить себя музыке, к которой у меня, к сожалению, не было никаких способностей. Меня это, впрочем, не сильно волновало, ведь мне тогда было восемнадцать, мне было плевать на образование, карьеру и деньги. Все горело у меня внутри, я критично воспринимал окружающий мир и смутно мечтал о чем-то прекрасном и великом. Многие мои друзья тоже в то время побросали универы и до сих пор перебиваются, кто как умеет. Наверно, нам казалось, что весь мир лежал у наших ног и что так будет всегда.
Одно время я подрабатывал, чтобы хоть чем-то заняться и купить свою независимость, а в свободное время просто слушал музыку, мечтал, бродил по городу, по самым мрачным и глухим его местам – по пустырям и свалкам, которые теперь, несколько лет спустя, застраивают новыми церквями и торговыми центрами. Эта эстетика отвратительного преследовала меня с самого рождения, как, вероятно, и все мое поколение, появившееся на свет после распада Союза и породившее взрыв субкультур. В то время, пару лет назад, я отчаянно пытался найти людей с такими же бетонными крыльями, как у меня, слушавших такую же депрессивную музыку, страдающих от такого же непонимания. Тогда же я встретил девушку, которой сначала и хотел посвятить эту книгу. С этой девушкой у меня ничего не вышло по многим причинам, но прежде всего из-за того, что я был совсем ребенком, да и, кажется, до сих пор еще до конца не вырос. Может быть, так происходит со всеми, кто ищет себя, не знаю, но я действительно был просто чертовски странный тип, думал только о себе и все время летал где-то в облаках.
Мне хотелось бы сказать, что этот небольшой роман – обо мне и о моем бетонном поколении, но, перечитав написанное, я понял, что – хорошо это или плохо – у меня получилась история о неразделенной любви и одиночестве. Теперь слишком поздно что-то менять. Пусть так и останется, раз уж я решил быть искренним до самого конца.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg



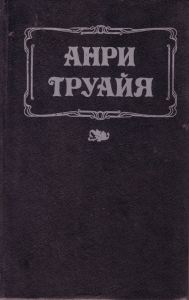


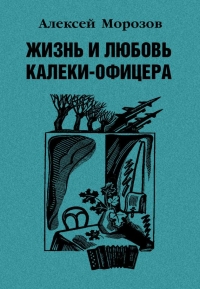


Комментарии к книге «Алиса убивает любимых», Саша Карин
Всего 0 комментариев