Виталий Бернштейн Долгий полет Повести и рассказы
В четверг протрубит ангел
Вторник, 10 июля
1
Над Восточным побережьем вставала заря. Тускнели утренние звезды и фонари на улицах Вашингтона. Розовые, а за ними оранжевые краски, проступая из-за горизонта, со стороны невидимого, но близкого океана, осторожно растекались по небу. Июльский день обещал быть жарким и душным.
Тонкий писк мобильного телефона не сразу разбудил О'Браена, он грузно сел на кровати. Номер этого телефона знал дежурный на главном пульте Федерального бюро расследований. О'Браену, директору ФБР, ночью звонили только в случаях чрезвычайных. Светящиеся часы на тумбочке возле кровати показывали четверть шестого. Тряхнув головой, чтобы проснуться окончательно, О'Браен взял трубку. Звонили не из ФБР – из Белого дома. Это был Арнолд Фридмэн, помощник президента по национальной безопасности.
– Билл, дружочек, прости, что разбудил.
Фридмэн слегка шепелявил. Много лет назад, когда совсем молодыми ребятами служили они с О'Браеном в одном взводе, осколок вьетнамской мины попал Фридмэну в челюсть и что-то там нарушил в движениях губ и языка. Теперь шрам от осколка надежно прикрывала модная бородка. А шепелявость осталась.
– Привет, Арни. Лучше побереги свои извинения для дома, – хриплым со сна голосом отозвался О'Браен. – Почему тебе в такую рань не спится с молодой, красивой и, главное, новой женой?
Шутка, видимо, понравилась Фридмэну, который женился в третий или четвертый раз около года назад, – он расхохотался.
– Ловлю тебя на слове, дружочек. Давай прямо на этой неделе выберем свободный вечер, пообщаемся, вспомним молодые годы и почешем языки насчет наших жен… А теперь слушай внимательно. В восемь утра нас ждет президент. Приходи в мой кабинет минут на двадцать раньше. Я тебя коротко введу в курс. Дело серьезное.
Положив трубку, О'Браен еще немного посидел на кровати, пытаясь сообразить, что за дело требует сегодня его присутствия в Овальном офисе. Он стал директором ФБР лишь полтора месяца назад и с тех пор всего пару раз виделся с президентом; встречи были короткими, формальными.
Назначение О'Браена на эту должность оказалось неожиданным для многих в вашингтонской администрации, да и для него тоже. За тридцать с лишним лет он прошел в ФБР почти все ступени карьерной лестницы и руководил Нью-Йоркским управлением, когда в Вашингтоне, у себя за рабочим столом, скончался от сердечного приступа прежний директор. В последние десятилетия возглавлять ФБР приходили обычно люди со стороны. Но нынешний президент уже столкнулся с проблемами, назначив после своего избрания некоторых политиков-непрофессионалов на должности, требующие профессиональных знаний; например, главой Пентагона была утверждена – после долгих препирательств в Сенате – представительница феминистского движения. Теперь президенту приходилось улаживать бесконечные конфликты и отвергать обвинения оппозиции в некомпетентности таких руководителей. Наверное, это и привело президента к решению – выбрать нового директора ФБР из числа его сотрудников. О'Браен знал, что рассматривались несколько кандидатур. В обход двух заместителей прежнего директора должность досталась О'Браену – в нужный момент его назначение поддержал Фридмэн. К советам Фридмэна президент прислушивался.
Итак, расписание О'Браена на сегодня менялось. В семь тридцать он собирался лететь в Нью-Йорк. Теперь надо будет позвонить, чтобы вертолет ждал его не раньше десяти. Спать больше не хотелось. О'Браен прошлепал по коридору в ванную и сразу же услышал, как в соседней спальне заворочалась жена. Они прожили вместе полжизни. И когда бы он ни встал, жена тоже вставала, готовила завтрак, провожала его. «Старая ирландская хлопотунья, – подумал умиротворенно О'Браен. – Чего этот Фридмэн без конца меняет жен? Мне и одной до гроба хватит». Стоя под душем, он растирал еще сильными руками плечи и грудь. «А, впрочем, мы с женой уже лет пять, как спим в разных спальнях. Бычку Фридмэну такое, наверное, и в голову не приходит». И О'Браен захлопал мокрыми ладонями по толстому животу.
2
В восемь утра Дэнис уехал на работу, Таня осталась одна. В Хантер колледже, где она преподавала русскую литературу, наступили летние каникулы. В пятницу и у Дэниса начинается отпуск – на пару недель они решили сбежать из нью-йоркской жары на Кейп Код. Таня любила этот покрытый соснами и маленькими озерцами мыс, высовывавшийся в океан чуть южнее Бостона. Даже в самые раскаленные летние дни там дул морской ветерок, и было не так жарко.
Тане шел тридцать первый год, но выглядела она моложе. Невысокая, ладно сложенная. Густые черные волосы, короткая, под мальчишку, стрижка. С круглого улыбчивого лица открыто и добро глядели на мир черные глаза. Как-то после семинара по творчеству Толстого молоденький студент подошел к ней в коридоре и, покраснев, пробурчал, что глаза у нее, как у Катюши Масловой. Придя домой, Таня, смеясь, рассказала об этом Дэнису. Полистав «Воскресенье», она перевела ему те места, где Толстой упоминал Катюшины глаза: «черные, как мокрая смородина», «блестящие», «глянцевитые», «чуть косящие». Потом Таня долго изучала свое лицо в зеркале – глаза вроде бы не косили…
Таня решила посвятить сегодняшнее утро давно задуманной генеральной уборке. Их небольшой домик, в Бруклине, в нескольких кварталах от берега Ист-ривер, был куплен когда-то ее дедом-врачом, а после смерти деда перешел по наследству к Тане. Из окна Таниной спальни были видны через реку верхушки знаменитых небоскребов среднего Манхеттена: «Крайслер», «Эмпайр Стейт», «Пэн Эм», «Сити Бэнк». У самого берега Ист-ривер лучился на солнце стеклянный прямоугольник ООН.
Таня вымыла и натерла до блеска окна, пропылесосила ковры и все укромные закоулки под кроватью, тумбочками, диваном, где могла скопиться пыль. На кухне прошлась мыльной шваброй по линолеуму, натерла порошком раковину для мытья посуды, стенки электрической плиты и холодильника. Довольная, огляделась вокруг, вытерла вспотевший лоб тыльной стороной маленькой, но сильной кисти. Хотела, было, приняться за сборы к предстоящей поездке. Но передумала – лучше повременить, вечером придет Дэнис и скажет, что для него брать на Кейп Код. Она не любила сидеть без дела. Может, заняться стиркой? Нет, все было постирано, поглажено и разложено по полкам еще два дня назад. Грядки с помидорами – в крошечном дворике за домом – уже политы. И тут Таня вспомнила про кладовку.
Четыре года назад, когда не стало деда, у нее не поднялась рука выбросить что-либо из его одежды или бумаг, заполнявших ящики письменного стола. Все вещи деда Таня отнесла тогда в кладовку. И вот теперь надо было все-таки разобраться. Она недавно сообразила – его одежду можно отдать в «Армию спасения», кому-нибудь да пригодится. Дед, наверное, согласился бы с этим. Эмигрант из России, он был бережлив и не одобрял американцев, обращавших в мусор горы вещей, которые перестали быть им нужными. Таня, улыбнувшись, вспомнила: когда сломалась старая швабра, которой мыли пол, дед палку не выбросил, сберег, а летом приспособил в огороде, чтобы поддерживала тяжелый куст с помидорами. Читая воспоминания о Толстом, Таня высмотрела у того сходную черту. Граф, наподобие справных деревенских мужиков, берег все, что могло еще послужить. Получив письмо, где часть листа была чистой, он отрывал ее и использовал потом для черновика.
Таня открыла скрипучую дверь кладовки, включила там свет. В углу кладовки, прикрытая от пыли прозрачной пленкой, висела на плечиках одежда деда. Повлажневшие глаза Тани остановились на знакомых фланелевых рубашках, которые тот любил носить дома. А вот старые выцветшие джинсы – в них он обычно возился во дворике; на потертых коленках топорщились неуклюже пришитые заплаты. Таня вдруг вспомнила – это же она их поставила. Одев тогда джинсы, дед внимательно осмотрел заплаты, пожевал губами, молча погладил ее по плечу и пошел поливать грядки во дворе…
Давным-давно, когда Танина мама была еще маленькой, дед и бабка разошлись. Дед больше не женился, жил бобылем, по воскресеньям забирал дочку к себе, гулял с нею, катался на лыжах. А потом, когда дочка подросла и поступила в институт, взял да эмигрировал в Америку. Все это Таня знала смутно, по рассказам мамы. Американский родственник оказался весьма кстати через пятнадцать лет, когда экономика в посткоммунистической России развалилась и Танины родители решили тоже эмигрировать. Дед прислал им вызов, встретил, помог на первых порах. Танин отец, специалист по компьютерам, быстро нашел работу в отделении одной из страховых компаний в Миннесоте, куда и переехала их семья. Там, в провинциальном тихом городке, Таня окончила через несколько лет школу и надумала продолжить образование в каком-нибудь большом университете. Родители были не в восторге от ее планов начать самостоятельную жизнь. Но, в конце концов, отпустили в Нью-Йорк, под надзор деда.
А надзора никакого и не было. Дед ей доверял и почти не делал замечаний, даже если она, молоденькая студентка, гуляла иногда с друзьями допоздна. Но и спать в такой вечер не ложился, сидел за кухонным столом, записывал что-то в свои тетрадки, поглядывал на часы. Он знал, что у Тани всегда есть надежные провожатые – или на машине подвезут, или от автобусной остановки проводят до дверей дома. И все-таки беспокоился. Поэтому, если запаздывала, она обязательно звонила: «Дедуля, я уже еду».
Таня вздохнула, отвлеклась от воспоминаний и поискала глазами саквояж деда. Вот он на полу, черный, пузатенький. Дед брал его с собой, когда навещал пациентов, укладывал в него стетоскоп, другие врачебные инструменты. В саквояж Таня и переложила бумаги деда: потрепанные тетрадки, прихваченные скрепками отдельные исписанные листки. Таня ценила деликатность деда, он не докучал вопросами о ее личных делах – знал, если найдет нужным, сама расскажет. И Таня отвечала тем же. Она никогда не заглядывала в эти тетрадки, даже если дед оставлял их по рассеяности на кухонном столе. После его смерти тоже было не до того…
Достав из саквояжа верхнюю тетрадку, она подошла ближе к лампочке. Таня сразу узнала почерк деда – буквы крупные, неуклюжие, но разборчивые. Записи были фрагментарными, перескакивали с одного предмета на другой, так пишет человек сам для себя.
3
Из тетрадок деда.
* * *
Завидую тем, кто верует. У самого – не получается. Наверное, потому, что веровать следует сердцем, не рассуждая. А мне все надо и умом постичь. Ньютон когда-то сказал, что движение планет по орбитам удается объяснить, не прибегая к допущению о существовании Бога, но без такого допущения остается непонятным, кто сделал первый толчок. Что ж, возможно, это Он создал сей мир и «втолкнул» в него человека. Но боюсь, ныне Он в дела человеческие не вмешивается, только горестно наблюдает. А быть может, и не наблюдает, давно повернулся спиной и занят чем-то другим. Человеку в отличие от животных, почти целиком запрограммированных инстинктами, дана свобода выбора, человек сам прокладывает свою орбиту, с него и весь спрос.
* * *
Чем старше становлюсь, тем больше обступают воспоминания. Вот самое раннее. Я на руках у мамы – вижу себя в полутемной комнате, как бы со стороны, сверху. Мама дает мне грудь и сразу же забирает. Чувства недоумения, несправедливости, обиды охватывают меня, и я реву. Лет сорок спустя я рассказал об этом маме. «Неужели помнишь?.. Я хотела закончить грудное кормление в июле, когда тебе исполнился год, но соседка отсоветовала, мол, в летнюю жару это рисковано, могут приключиться поносы. Молока у меня было много, вот и кормила для верности до сентября. А где-то еще месяца через два меня, дуреху молодую, одолело любопытство – помнишь ли ты грудь. Дала ее тебе, ты набросился с такой жадностью, я испугалась, сразу же отняла. И ты заплакал – да так горько. Значит, был тебе тогда годик и четыре месяца».
* * *
По самому определению Гомо сапиенс выделен из мира животных – наличием разума. Но, думаю, старик Линней с этим термином, «Человек разумный», поторопился. Сравнение животных и человека – так часто не в пользу последнего. Волк, например, убивает лишь существа, не принадлежащие к собственному виду, да и то, когда голоден. А человек с момента появления на земле шагает по трупам себе подобных. И примитивные убийства вследствие голода случаются среди людей много реже, чем, скажем, убийства во имя власти, или какой-нибудь фанатичной идеи, или вследствие злобы, зависти, или просто от скуки. Кажется, за прошедшие тысячелетия все изучено в Книге книг – Библии. Но никто еще не удосужился подсчитать на ее страницах общее число убитых. Уже в самом начале Каин убивает брата своего Авеля. И пошло, и поехало… А вот пример из истории ацтеков, населявших Мексику и покоренных Кортесом в шестнадцатом веке. Они отличались большими познаниями в медицине и астрономии, оставили после себя скульптуры, настенную мозаику, архитектурные памятники. Но эта богатая культура сочеталась у ацтеков с ритуальными убийствами, когда они варили разрубленные на куски тела людей с маисовой похлебкой и съедали во время оргий коллективного каннибализма. Кто они – неужели Гомо сапиенс? Не правильнее ли тут использовать иной термин – Гомо инсанус, «Человек безумный»?
* * *
В пять лет я заболел корью, которая осложнилась воспалением среднего уха. Высокая температура, бред, состояние критическое, антибиотиков тогда и в помине не было. В очередной раз вывалившись из бреда, увидел возле кровати папу. Уж не знаю почему – наверное, заметив отчаянье в его глазах – я задал совсем не детский вопрос: «Папа, я умру?» Помню, при этом я не испытывал никакого страха, спрашивал как будто о постороннем. Папа издал носом нечленораздельный звук, вроде как хрюкнул, и выбежал в соседнюю комнату. Неверующий, там он молился и плакал. Он дал самый трудный для себя обет – бросить курить, только бы я поправился. К вечеру температура упала, началось выздоровление. А папа, потерпев несколько дней, не выдержал и опять взялся за папиросы.
* * *
Читаешь газеты, смотришь телевизор – и диву даешься. В Нью-Йорке полицейские обнаружили в уличном баке для мусора грудного ребенка с пробитым черепом и сломанной ножкой; он громко плакал по ночам – родители-наркоманы выбросили его. В столице Алжира у стены школы взорвалась мощная бомба, четыре подростка погибли, еще девятнадцать получили ранения; у исламских террористов, организовавших взрыв, не было никаких претензий к школьникам – просто захотелось в очередной раз напомнить о себе. В славной российской армии четверо бывалых солдат изнасиловали зеленого новобранца, а потом все вместе на него помочились. Как назвать подобных людей? Животными? Но животные так не делают. Нет, это опять наш знакомец – подвид Гомо инсанус.
* * *
Еще раз я ощутил смерть рядом в семь лет. Мы жили тогда в Омске. В жаркий летний день папа, мама и я поехали на берег Иртыша. Папа сразу же уплыл, мама улеглась на песочке загорать. А я плавать не умел, бродил вдоль кромки воды и пытался руководить папой. Я крикнул, чтобы он плыл обратно, но папа был далеко и меня не слышал. Тогда я зашел в воду по колено и крикнул снова, затем крикнул, зайдя в воду по пояс, затем – по плечи. И вдруг сильное течение подхватило меня. Я успел повернуть голову к берегу, крикнул: «Мама, тону!»– и ушел под воду. Какое-то мгновенное подсознательное чувство высветило единственный шанс на спасение. Маленький дурачок, я не барахтался, а стоял на носках, вытянув над водой руки. Из-под ног вымывало песок, руки быстро погружались, потом остались торчать одни ладошки. Казалось, прошла вечность, нестерпимо хотелось вдохнуть. Но мама успела добежать – ухватив за ладошки, рванула меня вверх, к солнцу. Еще раз она подарила мне жизнь. Долго сидел я на берегу, не шевелясь, оглушенный и испуганный.
* * *
В отличие от Ньютона современная астрофизика объясняет «первый толчок», приведший мир в движение, без ссылки на Бога. Так называемое «красное смещение» в спектрах галактик свидетельствует, что они с огромной скоростью разлетаются в разные стороны. Если проложить их траектории в обратном направлении, окажется, что примерно тринадцать миллиардов лет назад вся масса галактик была сконцентрирована в одной точке пространства. Гравитационное поле все более спрессовывало эту огромную массу, немыслимо повышая ее температуру. В конечном итоге произошел «Большой взрыв». По некоторым представлениям, скорость разлетающихся ныне галактик будет постепенно убывать, а потом под действием гравитации начнется их обратное сближение. И когда они опять сольются, предельное сжатие их массы вызовет новый «Большой взрыв». Такова поражающая воображение масштабами теория «пульсирующей Вселенной». Но нетрудно заметить, что эта теория описывает не всю Вселенную – лишь ее часть, поддающуюся наблюдению с помощью современной аппаратуры. А что дальше, за пределами этого пульсирующего комка галактик? Только ли бездонная черная пустота? Или иные миры и иные формы развития неживой и живой материи? И сокрыт ли во всем этом некий высший смысл? И если Бог, действительно, повелевает мирозданием, снисходит ли он до того, чтобы слышать каждого человека? Не людская ли гордыня придумала это? Ведь в беспредельном пространстве, Его пространстве, Земля выглядит мельчайшей пылинкой. Заинтересует ли наблюдателя индивидуальная судьба каждого из миллиардов вирусов, с трудом различимых даже в самый сильный микроскоп? Вопросы, вечные вопросы без ответа…
4
Дежурный офицер вошел в спальню президента в три двадцать пять утра. Последние пять дней президент провел в разъездах, ежедневно выступая в разных штатах на предвыборных митингах, банкетах, – в ноябре ему предстояло переизбираться на второй срок. Только вчера вечером он вернулся в Вашингтон. Усталый старик с приоткрытым ртом и вынутыми зубными протезами спал, по-детски положив щеку на ладошку. Офицер осторожно прикоснулся к его плечу – президент сразу открыл глаза, бросил на вошедшего быстрый взгляд.
– Звонок из Пентагона, сэр. Министру обороны нужно срочно переговорить с вами.
Президент взял трубку специальной линии связи. Махнул рукой, показывая, что офицер может идти.
– У нас чрезвычайное происшествие, сэр, – отрывисто прозвучал низкий женский голос. – Этой ночью с нашего склада в Медвежьих горах, что под Нью-Йорком, похищена бомба… Водородная. Военная контрразведка приступила к расследованию. К счастью, бомба – без спускового устройства. Такие устройства хранятся отдельно, на другом складе.
Президент облегченно перевел дыхание, после короткой паузы спросил:
– Нужна вам сейчас помощь других ведомств?
– Не думаю, сэр. Надеюсь, справимся сами. Чем больше участников, тем вероятнее утечка информации. На самом деле, похищенная бомба – это просто металлическая емкость, заполненная в основном смесью двух изотопов водорода. Без спускового устройства бомба не может взорваться. Но тем не менее, если такая информация попадет в газеты, вы представляете, с какими заголовками они выйдут. В Нью-Йорке может разразиться паника.
«Разумное рассуждение, – подумал президент, – за четыре месяца до выборов такая сенсация дополнительных голосов не принесет».
– Что ж, под вашу полную ответственность. Примите все меры к розыску. Я сейчас переговорю с Фридмэном. Он будет в своем кабинете – сразу же звоните ему, если выяснится что-либо новое. А в восемь жду вас с подробным докладом.
Потом президент позвонил Фридмэну, коротко сообщил о случившемся, попросил немедленно приехать в свой кабинет в Белом доме. Его и О'Браена он тоже хотел видеть у себя в Овальном офисе в восемь утра.
Остаток ночи президент спал плохо, донимала отрыжка. Наверное, больше, чем следовало, съел на вчерашнем банкете, где собирались деньги в фонд его избирательной кампании. Сквозь полусон в голову лезли мысли об этой кампании, потом о проклятой бомбе, потом опять о кампании. В семь утра он поднялся. Как обычно, заставил себя пробежаться трусцой вокруг Белого дома. В душе он этого терпеть не мог. Но по утрам возле Белого дома дежурили телеоператоры, фотокорреспонденты. Было важно лишний раз показаться на экране – президент, сохраняющий такую отличную физическую форму, президент, которого поддерживает народ.
Без пяти восемь он уже входил в приемную перед Овальным офисом. Секретарша была на месте. Он спросил ее о самочувствии мужа, которому недавно сделали какую-то там операцию. Это было его правило – проявлять дружеское внимание к подчиненным. Не вслушиваясь в ответ, президент открыл дверь Овального офиса и уже на пороге распорядился:
– В восемь придут Лентини, Фридмэн и О'Браен. Пока не закончим, никого со мной не соединять.
5
Карла Лентини стала министром обороны три с половиной года назад, после победы Демократической партии на президентских выборах. Это был звездный час феминистского движения и не только его. Ликовали также сторонники и сторонницы однополой любви: «их» человек возглавил Пентагон. Надо отдать должное – Лентини быстро разобралась в рычагах управления военным ведомством и крепко держала их в своих руках. Некоторые генералы, чьи старомодные взгляды не соответствовали прогрессивным понятиям наступившего двадцать первого века, демонстративно подали в отставку. Но им без труда нашлась замена.
Широкой мужской походкой Лентини вошла в Овальный офис, где возле круглого столика уже рассаживались президент, Фридмэн и О'Браен. Президент предложил кофе, одарив каждого улыбкой и показав белоснежные зубы. Потом кивнул министру – можно начинать.
– Вот основная информация по состоянию на семь тридцать утра. Склад водородных бомб расположен в глубоком горном тоннеле возле Вест Пойнта, штат Нью-Йорк. Караул из двух человек заступил вчера на ночное дежурство в одиннадцать вечера. В одиннадцать двадцать начальник караула сержант Кори позвонил в Нью-Йорк, на центральный пульт, и поинтересовался расписанием своих дежурств на следующей неделе – хотел знать, будет ли у него возможность пойти на бейсбольный матч. Оператор на центральном пульте ответил, что расписания на следующую неделю пока нет. Где-то часа через полтора он случайно заметил это расписание, пришпиленное к стенке, и сам позвонил на склад. Но никто не снял трубку. Оператор решил, что караул обходит территорию, и позвонил через пятнадцать минут – опять без ответа. Все лампочки на пульте горели нормально: никаких отклонений температурного режима, никаких сигналов, что дверь в одну из камер, где хранятся бомбы, открывали. Тем не менее молчание караула показалось необычным, и оператор доложил по инстанции. Поднятая по тревоге группа военной контрразведки в час двадцать пять утра была доставлена вертолетом на территорию склада.
Лентини сделала паузу, отхлебнула кофе из стоявшей перед ней чашечки. После бессонной ночи под ее глазами легли тени. Широкие скулы, крепкий подбородок, надменный взгляд – ее лицо, которое нельзя было назвать заурядным, привлекало внутренней силой.
– Оба охранника лежали во дворе, убитые выстрелами в спину. Всего вероятнее, на них напали внезапно, сзади, когда они обходили территорию. Внутри склада одна из камер была открыта и пуста. Оказалось, что с помощью специального подъемника, используемого на складе, бомбу из этой камеры вывезли наружу и перегрузили на один из армейских автофургонов, стоявших во дворе. Следы фургона вели через открытые ворота и терялись на проходящем рядом Шестом шоссе, которое через четыре мили соединяется со скоростной дорогой Пэлисейд. Действительно, проезжавший там полицейский видел фургон армейского типа около полпервого ночи – фургон сворачивал с Шестого шоссе на скоростную дорогу Пэлисейд, в сторону Нью-Йорка. Если это был тот самый фургон, значит, он покинул склад где-то в двенадцать двадцать пять. В час пятьдесят весь этот район был взят под наблюдение, в воздух подняты вертолеты, оснащенные приборами ночного видения, на главных шоссе появились машины с сотрудниками контрразведки в штатском. Но, боюсь, еще до того фургон имел достаточно времени, чтобы проскользнуть на левый берег Гудзона и раствориться в ночном Нью-Йорке. Работник, который взимал плату за проезд по мосту Вашингтона, видел похожий фургон, переезжавший ночью в Манхеттен. Точного времени не помнит… Следственная группа на складе занята сейчас поиском возможных улик, трупы направлены на вскрытие, извлеченные пули будут подвергнуты баллистической экспертизе. Вот пока все.
Президент молчал. Фридмэн знал его манеру – при обсуждении важного вопроса поначалу не вмешиваться, дать другим высказаться без оглядки на то, что думает он сам.
– Я хотел бы уточнить некоторые детали, Карла, – сказал Фридмэн. – Какова мощность бомбы?
– Ее тротиловый эквивалент – двадцать мегатонн, – ответила Лентини; заметив недоуменный взгляд президента, пояснила: – Взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму, был эквивалентен примерно тринадцати килотоннам тротила. Похищенная этой ночью – в полторы тысячи раз мощнее.
– И если, не дай Бог, она взорвется в Нью-Йорке, каковы будут последствия? – спросил Фридмэн.
Лентини раскрыла папку, которая лежала перед ней, нашла нужный листок.
– Тут мне подготовили некоторые выкладки. Бомба такой мощности за счет ударной волны сравняет с землей все постройки в радиусе около пятнадцати миль, а за счет теплового и радиоактивного воздействия уничтожит все живое в радиусе восьмидесяти миль.
– Если мы опишем круг радиусом восемьдесят миль с центром в Манхеттене, внутри окажется практически весь Лонг Айленд на востоке, около трети штата Коннектикут на севере и почти весь штат Нью-Джерси на западе и на юге, – Фридмэн зябко повел плечами.
– Ваши опасения несколько преувеличены, – холодно возразила Лентини. – Как я уже докладывала этой ночью президенту, бомба – без спускового устройства и практически безвредна. Такие устройства хранятся на другом складе. На всякий случай я приказала усилить там охрану.
– А без этого устройства взорвать бомбу никак нельзя? – не отступался Фридмэн.
Лентини порылась в папке, достала еще листок.
– В основе действия бомбы – синтез гелия из водородных изотопов: дейтерия и трития. Синтез может идти только при необычайно высокой температуре, примерно такой, как в центре Солнца. Чтобы обеспечить такую температуру, внутри бомбы в качесте «запала» используют миниатюрную атомную бомбу с минимально необходимым количеством плутония. Так вот, функция спускового устройства, о котором мы говорим, – это мгновенное сжатие плутония до объема, при котором начинается цепная реакция.
Лентини подняла голову от листка.
– Как мне объяснили, можно смастерить что-то вроде спускового устройства кустарным способом. Но для этого нужно инженерное образование, детальное знание конструкции бомбы, наличие кое-каких технических узлов… Не думаю, что бомба похищена с целью взорвать ее на американской территории. Вы читаете, как и я, обзоры ЦРУ. Некоторые исламские страны делают сейчас все возможное, чтобы обзавестись ядерным оружием в качестве козырной карты в борьбе с Израилем, с Соединенными Штатами да и друг с другом тоже. Полагаю, похитители попытаются вывезти бомбу из страны. Единственная помощь, о которой я теперь прошу, – это усилить таможенный контроль, особенно в нью-йоркском морском порту, а также охрану сухопутных и морских границ… Бомба имеет яйцеобразную форму, длиной около шести футов и около четырех с половиной в поперечнике. О любом подобном предмете, задержанном при попытке похитителей нелегально пересечь границу, Пентагон должен знать немедленно.
Фридмэн делал короткие пометки в блокноте. Президент продолжал молчать, постукивая пальцами по столу.
– У меня есть пара вопросов, – нарушил молчание О'Браен.
Лентини нехотя повернула голову. Ее раздражало присутствие здесь этого нового директора ФБР. Конечно, президент волен приглашать к себе, кого ему заблагорассудится. Но Пентагон, разыскивая свою бомбу, не нуждается в помощи этих «шерлок-холмсов».
– Первый вопрос. Два охранника – это обычный состав караула на таком важном объекте?
Лентини повернула глаза в сторону президента.
– Вот видите, сэр. Пентагон всегда обвиняли в раздувании штатов, а теперь, напротив, мы виноваты в недокомплекте… Да, это обычный состав караула. В первую и вторую смены на складе работает также несколько техников, регулярно проверяющих состояние бомб и всего оборудования. А на ночь мы считаем возможным оставлять только двух охранников. Но если мистер О'Браен помнит мое предыдущее объяснение, склад дополнительно находится под непрерывным контролем с центрального пульта в Нью-Йорке. Территория обнесена высокой бетонной стеной с колючей проволокой поверху. Каждую ночь во двор выпускаются сторожевые собаки.
– Собаки? – быстро переспросил О'Браен. – А что с ними стало?
– Члены общества по защите животных могут не волноваться, с собаками ничего не случилось.
– Рад это слышать, – задумчиво отозвался О'Браен. – И еще вопрос. Ваши контрразведчики обнаружили дверь в камеру, где хранилась бомба, распахнутой. А вот лампочка на центральном пульте, как вы сказали, все это время сигнализировала, что дверь закрыта.
– Я не очень-то разбираюсь в технических деталях, – ответила Лентини. – Как мне объяснили, лампочка на центральном пульте горит нормально, если ее цепь замкнута через систему фотоэлементов, расположенных возле двери в камеру. Открытая дверь перекрывает свет, падающий на фотоэлементы, их сопротивление резко возрастает, на пульте включается сигнал тревоги. Так вот, похитители сначала соединили накоротко провода, замыкаемые фотоэлементами. И электрический ток пошел в обход, не завися теперь от того, закрыта или открыта дверь.
– Мне кажется, факты, приведенные вами, позволяют уже сейчас сделать один существенный вывод, – сказал О'Браен. Президент и Фридмэн внимательно слушали его. Лентини, наклонив голову, укладывала листки в папку.
– У нас две временные точки: в одиннадцать двадцать, когда звонил сержант Кори, на складе все было в порядке. А в двенадцать двадцать пять ночи, согласно расчетам, фургон с бомбой уже выезжал с территории склада. Таким образом, вся операция была организована великолепно и заняла не более часа. Надо иметь навык, чтобы так быстро разобраться в проводах, закоротить те, что идут к фотоэлементам, ознакомиться с работой подъемника, въехать на нем в камеру, погрузить бомбу, поднять по тоннелю на поверхность, вывезти во двор, перегрузить в фургон… Думаю, среди похитителей был кто-то из работающих на складе.
– Возможно, но вовсе не обязательно, – возразила Лентини. – А почему бы не допустить, что похитители, заблаговременно и тщательно готовясь к операции, получили по кусочкам все необходимые сведения от какого-нибудь болтуна, работающего на складе, но к самому похищению не причастного?
– Вы забыли о собаках, – терпеливо пояснил О'Браен. – Собаки невредимы и, следовательно, не мешали. Не мешали, потому что знали кого-то из похитителей. Кстати, когда охранники вышли для обхода территории, этот человек уже поджидал их, чтобы прикончить выстрелами в спину, а собаки не лаяли.
– Пожалуй, звучит убедительно, – признала Лентини. – Мы, конечно же, собираемся проверить всех работающих на складе и их контакты.
– Итак, Карла, если я понял вас правильно, – вступил в разговор президент, – вы хотели бы сосредоточить розыскную работу в руках военной контрразведки?
– Именно так. Вы знаете, что за последние годы она не раз демонстрировала свою высокую эффективность.
– Любая розыскная работа на территории страны, осуществляемая в обход ФБР, без использования накопленного нами опыта и налаженных каналов информации, явно будет менее успешной. – О'Браен повернулся к президенту. – Если вы отстраняете ФБР от этого дела, наш престиж не пострадает. А дело пострадать может.
– Я этого не сказал, Билл, – примирительно ответил президент. – Но мне надо четко знать, с кого главный спрос. И сейчас мы договорились – за это дело отвечает Министерство обороны и лично его руководитель. Что касается ФБР, то, конечно же, любая информация о бомбе, полученная по вашим каналам, будет чрезвычайно важна. Но я ставлю одно жесткое условие – никакие сведения о случившемся не должны просочиться наружу… Карла, надо приложить все усилия и найти бомбу как можно быстрее. Потом мы подыщем подходящие выражения, чтобы проинформировать прессу.
Президент сделал паузу, улыбнулся каким-то своим мыслям, повернул голову к Фридмэну.
– Арни, берите блокнот и записывайте. Первое. Операция получает кодовое название. Cкажем, «Анджелина». – Фридмэн на мгновение оторвался от блокнота, бросил взгляд на президента. – Второе. Вы, Арни, немедленно подготовите мое распоряжение о том, чтобы предельно усилить контроль на таможенных пунктах и охрану границ. Третье. Пусть ЦРУ предоставит вам, Арни, подробный анализ касательно всех террористических организаций и террористических государств, пытающихся обзавестись ядерным оружием. Четвертое. Все новые сведения, имеющие отношение к «Анджелине», вы, Карла и Билл, немедленно сообщаете Фридмэну. Мы с ним видимся по несколько раз на день, он будет держать меня в курсе. Пятое. Если нужна любая помощь, вы оба можете обращаться к Фридмэну, и он обеспечит это от моего имени.
Президент встал, совещание закончилось.
6
О'Браен собирался в Нью-Йорк, чтобы встретиться сегодня с Роджерсом, своим преемником по Нью-Йоркскому управлению ФБР. Того перевели из Майами только неделю назад, надо было на месте обсудить с ним основные задачи управления. И еще одно дело добавилось теперь – где-то в Нью-Йорке, по всей видимости, затаилась «Анджелина». Президент поручил розыскную работу военной контрразведке. Но и ФБР не возбраняется вести параллельный поиск. Что ж, так даже спокойнее – за возможные ошибки отвечать Пентагону. А вот если его ребята сумеют первыми выйти на след и утереть нос этой мадам Лентини, О'Браен будет очень доволен.
Перед вылетом он позвонил Роджерсу, извинился за опоздание, сказал, что по приезде прежде всего хочет видеть Дэниса Пирсона. Он знал Дэниса уже лет пятнадцать. Тот участвовал под началом О'Браена во многих операциях, а потом и сам стал возглавлять следственные группы. С годами из него получился отличный оперативный работник. О'Браен ценил умение Дэниса мыслить логически, принимать решения, просчитывая ситуацию на несколько ходов вперед, как в шахматной партии.
Дэнис уже ждал его в приемной Роджерса. О'Браен заглянул на минуту к тому в кабинет и пообещал засесть с ним за все дела управления через час. А потом заперся с Дэнисом в его кабинетике, чтобы спокойно поговорить с глазу на глаз.
Дэнису было сорок два года. Светловолосый, худощавый, выше среднего роста, с виду флегматичный.
– Ну, как живешь, амиго? – спросил, улыбнувшись, О'Браен. Словечко это прилепилось к Дэнису после давней операции по разгрому подпольного картеля, переправлявшего в США колумбийские наркотики. Дэнис играл тогда роль оптового перекупщика, несколько раз встречался с заправилами картеля на их явках в Мексике. Если бы заподозрили, не сносить головы. Но обошлось.
– Живу неплохо, шеф. В пятницу собираюсь в отпуск.
– Боюсь, с отпуском придется повременить. Уж извини. Ты мне нужен…
О'Браен рассказал Дэнису о похищенной бомбе. Старался не упустить ни одной детали из того, что услышал сегодня утром в Овальном офисе. В их деле даже самая, казалось бы, пустяковая деталь становится иногда решающей.
– Основную розыскную работу ведет военная контрразведка, нас к этому делу им подпускать не хочется. На взаимодействие или на обмен информацией не рассчитывай. На складе, где это произошло, они собираются все обследовать сами. Понимаю, амиго, что твои возможности будут ограничены, и отпускаю в свободное плаванье. Сам прикинь, за какие ниточки потянуть. Мне лично кажется, что похищение не обошлось без кого-то, кто работает на складе. И помни: дальше тебя все, что я рассказал, не идет. Понял?
– Понял, как не понять.
– Даже своим ребятам, если возьмешь на подмогу, поясни, что разыскиваете какую-нибудь железяку, похищенную с военного склада, ну, например, миномет. Роджерсу я просто скажу, что ты откомандировываешься в мое распоряжение для одного крайне важного дела. В случае нужды не стесняйся, звони прямо мне, днем или ночью. Запиши номер моего личного мобильного телефона… А это – номер факс-машины Фридмэна, помощника президента по национальной безопасности. Если понадобится ордер Министерства юстиции на арест, прослушивание и тому подобное, посылай свой запрос прямо ему. Так это будет сделано быстрее, да и объяснений никаких от тебя не потребуется. Используй кодовое название операции – «Анджелина».
О'Браен помолчал, посмотрел на часы.
– Пожалуйста, передай мои извинения жене за то, что поломал ваш отпуск… Как вы там детишками не обзавелись? – Дэнис отрицательно мотнул головой. – Значит, плохо стараешься – уже три года прошло, как мы с супругой были на вашем бракосочетании. Нам твоя жена очень понравилась – такой милый человечек.
7
Дэнис нашел Пита Дюваля в комнате младших агентов. Тот поднялся навстречу во весь свой внушительный рост, шесть футов с четвертью. На черном круглом лице расплылись в улыбке толстые губы. Пит стал работать в ФБР недавно, два года назад, и Дэнис покровительствовал ему, как когда-то О'Браен покровительствовал новичку Дэнису. Семья Пита перебралась из Гаити в США, когда тот был подростком. Родной язык – французский, но и по-английски говорит практически без акцента. Окончил колледж. Толковый, трудолюбивый, надежный в критических ситуациях.
– Пойдем ко мне, – сказал Дэнис, – есть дело.
Едва они вошли в его маленький кабинетик с картой штата Нью-Йорк во всю стену – зазвонил телефон. Дэнис нажал кнопку. Из динамика раздалась скороговорка длинноногой красотки Ширли, секретарши Роджерса.
– Дэнис, звоню по поручению шефа. Две новости: плохая и хорошая. Плохая – ваш отпуск отменяется. Хорошая – вас освобождают от всех текущих дел. Вы переходите в распоряжение центра. Всем службам Нью-Йоркского управления приказано выполнять ваши запросы вне очереди, немедленно… Мой бедненький, пропала ваша поездка на Кейп Код?
– Куда денешься, моя дорогая, против начальства не попрешь, – в тон ей ответил Дэнис. Он замечал, что Ширли более чем приятельски поглядывает на него, поддерживал установившуюся в их разговорах чуть легкомысленную интонацию, но определенной черты не переступал. Несколько лет назад он наверняка приволокнулся бы за такой красоткой. Но после того, как в его жизнь вошла Таня…
– Ну что, слышал новости? – повернулся он к Питу. – Садись, я тебе сначала расскажу коротко об этом деле, а потом будем думать, с какого конца к нему подступиться. Значит, так… Сегодня ночью с военного склада похитили миномет. Это в Медвежьих горах. Помнится, я не раз проезжал мимо.
Дэнис подошел к карте штата и повел пальцем вверх от Нью-Йорка, вдоль правого берега Гудзона.
– Вот смотри. Тут скоростная дорога Пэлисейд. Левее, тоже с юга на север, идет Восемьдесят седьмая автострада. А между ними, пониже Вест Пойнта, – перемычка, двухрядное Шестое шоссе. Возле шоссе, чуть в лесочке, и расположен этот склад. Похищенный миномет вывезли в армейском же фургоне. А обоих охранников убили. Есть некоторые основания подозревать в причастности к этому кого-то из работающих на складе. Но вся заковыка в том, что военные, оберегая честь мундира, намерены вести расследование самостоятельно, на склад нас не пускают и никакой информацией делиться не хотят. Тут бы и сказать им – ну, и разыскивайте свою железяку сами, а мы пойдем в заслуженный отпуск. Так?
– Так, – улыбнулся Пит.
– Но на сцене появляется наше высокое начальство. Оно, видишь ли, жаждет обскакать Пентагон. И кому поручают это мертвое дело? Конечно же, нам с тобой. Два года назад ты закончил колледж, сдавал экзамен по криминалистике – вот и скажи, как там твои учебники рекомендуют приступать к подобному расследованию?
Пит задумчиво поскреб голову, покрытую жесткими, курчавыми волосами.
– Ну, сперва выезжают на место происшествия, ищут вещественные улики.
– Но на склад-то нас не пускают.
– Тогда хотя бы надо осмотреть район вокруг.
– И что же ты там рассчитываешь найти? Оброненный носовой платок?
– Скорее всего, похитители подъехали к складу на своей машине. Вдруг они ее потом бросили и укатили на фургоне?
– Вряд ли. Один из них по завершении операции просто уехал в этой машине.
– Но почему мы говорим о похитителях во множественном числе? А если это был одиночка?
– Одному обернуться со всем за час было бы трудновато. Но утверждать наверняка не могу. Мы отработаем и эту версию.
– Значит, едем на место происшествия? – спросил Пит.
– Торопишься. Для начала просто позвони в полицию штата. Про миномет упоминать ни к чему. Пусть они запросят свою патрульную службу, нет ли в том районе какой-нибудь брошенной машины. Тогда и поедем… Действуй.
Пока Пит названивал по телефону, Дэнис подошел к окну. С высоты двадцать шестого этажа открывалась панорама нижнего Манхеттена. Были видны букашки-пешеходы. Игрушечные автомобильчики, моргая лампочкой левого поворота, взбегали на Бруклинский мост… Конечно, О'Браен прав: надо искать концы среди работающих на складе. Заиметь бы их полный список, адреса, телефоны, допросить, проверить контакты каждого, покопаться в прошлом – глядишь, ниточка и вылезла. Но никакого списка нет и не будет. Как же подступиться?
– Готово, – бодро отрапортовал Пит. – В полицейском управлении пообещали осмотреть Шестое шоссе в районе склада – нет ли где брошенной машины. Потом сразу позвонят.
– Ладно. Теперь дай-ка и мне телефон.
Дэнис набрал номер их технического отдела. Ответила Пэги Мартинес, старая одышливая дама, живая история их Нью-Йоркского управления. Как-то, мимоходом она сказала Дэнису, что помнит еще молодого О'Браена в самом начале его карьеры – «застенчивый был такой, худенький паренек».
– Пэги дорогая, это твой давний друг Дэнис. Огромная срочная просьба.
– Не подлизывайся, – ворчливо ответила Пэги, – сегодня тебе этого не требуется. Мы только что получили распоряжение Роджерса – твои запросы выполнять вне очереди. Приказывай, я вся твоя.
– Если бы ты всегда была такой сговорчивой… Вот слушай. Возле Вест Пойнта есть склад Министерства обороны – телефонный номер в справочниках, конечно, не числится. Выясни этот номер, пожалуйста, по своим каналам. Компьютер телефонной компании, ты знаешь, хранит информацию по каждому звонку с каждого телефона – куда звонили, когда, сколько минут. Мне нужна вся информация о звонках со склада и на склад. Начиная, скажем, с января. Информация должна включать имена и адреса владельцев тех телефонов, куда и откуда звонили… Нет, нет, сведения, в каком году родились их бабушки, мне не требуются… Видишь, совсем пустяковая просьба… Да, сразу же дай знать.
Дэнис положил трубку, посмотрел на Пита.
– Жена моя литературу в колледже преподает и все просвещает меня по части мудрых изречений. Как сказал какой-то там древний философ, тот сделал полдела, кто начал. Мы свое расследование начали. А теперь пошли в наш кафетерий, перекусим. Потом так закрутиться может – и времени не найдем.
8
Из тетрадок деда.
* * *
Мамина семья была из Архангельской губернии, чистокровные русские. Говорю «чистокровные», потому что в тот край не докатились монголы и не подмешали своих генов, как на остальной Руси. Мама хранила фотографию деда: Иосиф Данилович сидит в кресле, на коленях костистые рабочие руки, продолговатое, как на старинных иконах, лицо. Совсем маленьким остался без отца, а когда ему было четырнадцать, умерла мать. Скитался по чужим домам, просил милостыню. Потом кто-то надоумил – он стал носить по деревням на продажу нитки, иголки, пуговицы. Закрою глаза и вижу: серое северное небо, то дождик, то снежок, и бредет по холодной грязи проселочных дорог мальчик-коробейник. Видимо, был он от природы смышленым, не боялся никакого труда. Через несколько лет дело пошло, обзавелся маленькой лавкой, стал уважаемым человеком в Мезени, городке возле самого Полярного круга.
* * *
Прекраснодушные французские энциклопедисты – Гельвеций, Руссо – утверждали, что все люди от рождения равны и лишь неодинаковые условия жизни вызывают их нравственное и умственное расслоение. Понятие «гены» восемнадцатому веку было неведомо – научную проверку этот вопрос получил только через два столетия. Были взяты две группы близнецов: однояйцовые, имеющие идентичный генетический набор, и двуяйцовые, которые генетически не идентичны, хотя и близки, как родные братья и сестры. Исследователи подобрали одинаковое количество однояйцовых и двуяйцовых близнецов, которые во взрослой жизни совершили те или иные преступления. А потом посмотрели – случались ли нарушения закона у второго близнеца из той же пары. Оказалось, что среди двуяйцовых пар такое совпадение составляло около 25 %, а среди однояйцовых – около 75 %. Столь значительное расхождение между взятыми группами уже никак не объяснялось различиями в окружающей среде, воспитании или образовании. Ведь в каждой паре оба близнеца получали в семье одинаковое воспитание, одинаково ходили или не ходили в школу и так далее. Связь между криминальными наклонностями и генетическим набором стала очевидной. Сходные исследования на близнецах выявили зависимость от генетического набора и их умственных способностей. Иными словами, люди уже от рождения не равны. Полученные ими гены определяют – хотя и не полностью, но в большой степени – соотношение в человеческой душе добра и зла, ума и глупости.
* * *
Первая жена Иосифа Даниловича умерла от родильной горячки, оставив троих детей. Дед женился во второй раз, на моей бабке. Та рожала почти каждый год, но только после шести девчонок, включая мою маму, появился на свет долгожданный сын. И опять беда – после родов от потери крови бабка умерла, еще молодая. Дед женился в третий раз, на младшей сестре бабки. Та родила еще четверых. Четырнадцать детей он подымал. Мама всегда видела его работающим – в лавке, по дому. Приказчика не держал; при нужде в лавке помогали старшие дети. Зимой – на санях, в длинном тулупе до пят, за сотни верст – ездил за товаром в Архангельск; жене и детишкам обязательно привозил гостинцы. Был немногословен, но если что скажет, то это – закон для всей семьи. Каждое воскресенье с выводком детей ходил в церковь. Чтобы обеспечить их всех молоком, держал две коровы. После революции, на закате нэпа, задавили деда налогами, лавку отобрали, а самого объявили нетрудовым элементом и кулаком. «Как же не кулак, если две коровы». Коров увели в колхоз. Хорошо еще, что самого не сослали, – наверное, дальше Полярного круга ссылать было некуда. Дед умер в год моего рождения. Было ему под семьдесят, босыми ногами месил глину, чтобы замазывать щели в печке, упал и умер. Сердце не выдержало.
* * *
Американский физик Шокли еще молодым, в тридцать восемь лет, прославился открытием транзисторного эффекта. И за это получил Нобелевскую премию. А потом увлекся социологическими проблемами – его беспокоило возможное снижение интеллектуального потенциала американского общества. К тому времени в результате научных исследований уже было известно, что так называемый коэффициент интеллектуальности (КИ) примерно на три четверти зависит от генетического набора, наследуемого индивидуумом, и только на одну четверть от того, какое воспитание и образование он получил. Вместе с тем, согласно статистике, уровень деторождения у женщин с низким КИ в два-три раза выше. При сохранении год за годом такой тенденции возникает угроза для генофонда нации в целом. Привыкший к открытому обсуждению в кругу коллег любых научных проблем, нобелевский лауреат представил свой доклад на заседании Национальной академии. Он предлагал добровольную стерилизацию людей с низким КИ при условии выплаты им за это тридцати тысяч долларов. Реакция коллег оказалась для него неожиданной. Одни испуганно промолчали. Другие выступили против – без всякой фактической аргументации, просто потому, что было нарушено «табу» так называемой политкорректности. Впоследствии этих своих оппонентов Шокли прозвал «перевернутыми либералами».
* * *
Дедушка Давид родился в Аккермане, городке неподалеку от Одессы, на берегу Днестровского лимана. О прадеде Моисее знаю только, что тот был из польского города Лодзи. Далее в прошлое следы теряются. Наверное, это был обычный беженский путь евреев через Средневековье: из Испании и Франции в Германию, оттуда в Польшу, затем в Россию. Каким-то чудом сохранился паспорт дедушки, выданный одесским полицмейстером в 1900 году. Почти через столетие держу его в руках. Записи в паспорте свидетельствуют, что дедушка иудейского вероисповедания, исполнял воинскую повинность в призыв 1886 года, получил при Императорском Харьковском университете звание зубного врача в 1899 году. Когда несколько десятков лет спустя, в тридцатые годы двадцатого столетия, ввели и более высокое звание – стоматолога, дедушка поступил в институт заочно и через три года стал стоматологом. Было ему в ту пору за шестьдесят – чтобы зачислили в студенты, он убавил себе возраст в анкете на десять лет. Помню его совсем стареньким: добрый, молчаливый, с чуть грустной улыбкой.
* * *
Когда Шокли попробовал разъяснить в печати свои опасения о будущем национального генофонда, «перевернутые либералы», составляющие большинство в американской журналистике, подвергли Шокли резкой и бездоказательной критике. На знаменитого физика просто налепили ярлыки фашиста и расиста… «Перевернутые либералы» – первейшие борцы за свободу слова, но слово это, конечно же, должно быть либеральным. Если какой-нибудь факт вступает в противоречие с их социальными догмами, тем хуже для факта. Даже обсуждать его они считают «политически некорректным». Начало социологических исследований Шокли совпало с президентством Джонсона, провозгласившего создание «великого общества». Последнее свелось к тому, что миллионы бездельников получили возможность жить и плодиться, не работая, – за счет налогоплательщиков. Минуло несколько десятилетий – нет в живых ни Джонсона, ни Шокли. А деградация генофонда нации продолжается по нарастающей.
9
Из управления полиции позвонили через полтора часа. На Шестом шоссе, в четверти мили от склада, найдена брошенная машина. Полицейский, объезжавший накануне это шоссе, утверждает, что вчера ее тут не было. Дэнис попросил ничего не трогать, ждать их приезда.
Они отправились на двух машинах. Улыбающийся Пит лихо крутил баранку их восьмицилиндрового «крайслера». Сзади на грузовичке следовал Чарли из дактилоскопического отдела. Дэнис искоса бросил взгляд на Пита – улыбаться рано, это дело еще копать и копать. Внутри «крайслера» гудел кондиционер, навевая прохладу. А снаружи изнемогал от влажной жары Нью-Йорк. Пешеходы с улиц почти исчезли, да и машин было меньше, чем обычно. Быстро пересекли Гудзон по мосту Вашингтона, после него свернули направо, на Пэлисейд. Дорога постепенно забирала все выше – в покрытые лесом горы. Дэнис выключил надоевший кондиционер, открыл окно. Обдало сухим, настоянным на хвое воздухом. «Эх, в отпуск бы сейчас» – поймал он себя на малодушной мысли.
Достигнув пересечения с Шестым шоссе, свернули на него. И через несколько минут увидели на обочине полицейскую машину с включенной мигалкой на крыше. Дэнис посмотрел на спидометр – примерно тридцать восемь миль от моста Вашингтона. Ночью, когда движения практически нет, фургон с бомбой вполне мог доехать отсюда до моста минут за тридцать-тридцать пять. Дэнис подошел к полицейскому в машине, назвал себя, показал удостоверение. Полицейский уехал.
Чуть в стороне от шоссе, на маленькой песчаной поляне с редкими островками травы, окруженная сосенками, стояла брошенная машина. На багажнике желтел нью-йоркский номер, дверца водителя приоткрыта. Пит обошел машину, фотографируя ее под разными углами. Потом Чарли, докурив сигарету и раздавив ее каблуком в песке, натянул резиновые перчатки, стал отыскивать на машине – снаружи и внутри – отпечатки пальцев и копировать их на специальную пленку.
После него – тоже с резиновыми перчатками на руках – в кабину заглянул Дэнис, открыл ящичек справа на панели, где водители обычно хранят всякие бумажки. Пусто. На переднем сиденье и под ним – тоже ничего. На зад нем сиденье лежал оторванный лист газеты. «Нью-Йорк Таймс» за прошлую пятницу, страницы пятнадцатая и шестнадцатая. В центре листа – коричневатое пятно, похоже, машинное масло. Возможно, в эту газету было завернуто оружие, из которого убили охранников. В правом верхнем углу шестнадцатой страницы Дэнис задержался на фотографии господина с небольшой курчавой бородкой. Подпись гласила, что это помощник президента по национальной безопасности Арнолд Фридмэн. Тот самый, которого утром упоминал О'Браен. Ниже следовало короткое интервью Фридмэна по поводу выступления президента на Генеральной ассамблее ООН в ближайший четверг. Газетный лист был оторван неровно, так что половина лба и левый глаз Фридмэна отсутствовали. Но правый глаз смотрел весело, а бородка выглядела даже игриво. Дэнис уложил газету в пластиковый мешок и передал Питу – вдруг да и пригодится в следственной работе.
Оставалось открыть и проверить багажник. У Пита был особый талант к открыванию всевозможных замков. Он достал из «крайслера» набор отмычек, которые возил с собой, и приступил к делу. Мягко, без нажима засунул внутрь замка отмычку, покрутил ее в разные стороны – никакого результата. Попробовал другую – что-то щелкнуло, и багажник раскрылся. Дэнис заглянул внутрь: запасное колесо, домкрат – больше ничего.
Пока Пит оформлял протокол, а потом вместе с Чарли выталкивал машину на асфальт, чтобы прицепить сзади к грузовичку, Дэнис прошелся по лесу в направлении склада. Когда его стена выглянула из-за деревьев, Дэнис сразу различил прореху в колючей проволоке, натянутой поверху. Перекусили кусачками, отогнули концы и, должно быть, с помощью лесенки перебрались. Не выходя из-за деревьев, Дэнис поискал лесенку глазами, но не увидел. Хоть в этом доблестные контрразведчики преуспели, нашли ее, наверное, у себя под носом и уже приобщили к вещественным доказательствам. А вот брошенной машины на расстоянии в четверть мили не заметили. На стоянке перед воротами склада, у армейских автобусов лягушачьего цвета, суетились какие-то люди в штатском и в военной форме. Дэнис насмешливо посмотрел в их сторону и лесом пошел назад.
10
На обратном пути Дэнис позвонил по мобильнику в управление, сообщил номер найденной машины, попросил установить имя и адрес владельца. По возвращении его уже ждал факс из городской полиции с этой информацией. В факсе упоминалось также, что сегодня утром владелец заявил в полицию о пропаже машины, припаркованной вчера на улице, в квартале от дома.
Адрес по Девяносто девятой стрит был знаком Дэнису – там располагался массив однообразных многоквартирных домов для людей умеренного достатка. В последние годы городские власти начали широко подселять в эти дома получателей вэлфера (пособия для неимущих), оплачивая их квартиры за счет городской казны. Новые жильцы быстро изменили облик когда-то тихого и чистого района. Прежние квартиросъемщики посостоятельнее стали уезжать. Оставшиеся, кому переезд был не по карману, старались по вечерам на улицу не высовываться. В темное время суток она принадлежала теперь мелким уголовникам, проституткам, наркоманам, просто молодым недоумкам, которые потехи ради угоняли оставленные автомобили, чтобы покататься на них, а к утру бросить где-нибудь разбитыми. Найденная возле склада машина тоже, по-видимому, была угнана. Чтобы отработать эту версию до конца, Дэнис решил послать Пита к владельцу машины. Пусть Пит проверит, что тот за человек, порасспросит, нет ли у того какой догадки об угонщиках.
Сам Дэнис хотел посидеть в кабинете, поразмыслить, не торопясь, над длинным списком телефонных номеров, которые гордо вручила ему Пэги Мартинес; было бы неплохо запустить эту информацию в дело сегодня же. Большинство номеров принадлежало тем или иным учреждениям Министерства обороны, расположенным в разных штатах. Дэнис вычеркнул эти номера. Пересчитал оставшиеся. Не так и много, всего восемнадцать – в Нью-Йорке и в прилегающей к нему части штата Нью-Джерси, на правом берегу Гудзона.
Неслужебные телефонные звонки со склада и на склад начинались обычно после трех часов дня, во вторую смену, когда складское начальство, видимо, уезжало и оставалась охрана да кое-кто из технического персонала. Одни номера упоминались в списке часто, несколько раз в неделю, другие – лишь изредка. Был один номер, куда и откуда часто звонили в январе-марте, а с апреля он исчез из списка; возможно, сотрудника склада перевели служить в другое место. Дэнис хотел, было, вычеркнуть этот номер тоже, но потом оставил. Владельцами семнадцати номеров были частные лица, чьи имена ничего ему не говорили. Восемнадцатый номер принадлежал гарлемскому клубу под названием «Люди солнца».
Дэнис смутно помнил, что когда-то этот термин ввел в оборот один негритянский профессор, противопоставляя бездуховных и ущербных «людей льда», которые обитали в холодных пещерах Европы во время ледникового периода, и «людей солнца», чья одаренность объяснялась высокой концентрацией меланина в их коже. Клуб под таким названием иногда упоминался во внутренних сводках ФБР, но все по мелочи – тут поигрывали в запрещенные азартные игры; крутились мелкие торговцы наркотиками; постоянный посетитель клуба, позвонив сюда, мог заказать проститутку. В клубе регулярно проводились собрания, где социальные проблемы участников рассматривались под одним углом – с позиций безусловной вины перед ними «людей льда». Правда, все это ограничивалось словами; в террористические игры члены клуба, вроде бы, не играли. Но вдруг кто-то из них был причастен к похищению бомбы?
Дэнис заполнил специальную форму, необходимую, чтобы получить разрешение на прослушивание отобранных восемнадцати номеров. В графе, где требовалось обосновать причину, коротко написал: «По делу об `Анджелине'». И факсом отправил эту форму Фридмэну, помощнику президента по национальной безопасности. Было уже начало шестого, все чиновники, конечно же, разбежались по домам. «Хорошо бы завтра с утра получить разрешение, – подумал Дэнис. – Сразу приступили бы к прослушиванию».
Зазвонил телефон, это был Пит.
– Владелец машины – благообразный старичок семидесяти четырех лет, ветеран вьетнамской войны, ходит прихрамывая, обе коленки поражены артритом. Ездит на машине только в ближайший магазин да в аптеку за лекарствами для себя и жены. Не имеет никакого представления, кто мог угнать машину, говорит, в их районе каждый третий на это способен.
– Итак, принимаем версию, что машина была угнана… А еще нам надо учесть тот факт, что старичок служил в армии. Догадываешься почему?
– При приеме на военную службу берут отпечатки пальцев – на случай, если в будущем понадобится идентифицировать убитого на поле боя. Такая дактилоскопическая карточка должна сохраниться. Ее следует сопоставить с теми отпечатками, что обнаружены сегодня на машине.
– Молодец. Теперь езжай домой. До завтра.
Дэнис связался с Чарли, передал сведения о владельце найденной машины, поручил запросить отпечатки его пальцев из картотеки Министерства обороны. Устало потягиваясь, встал из-за стола. Все, на сегодня хватит, пора и домой. И тут ожила факс-машина, из нее выползла бумага. «Вот это оперативность, – подумал Дэнис, разглядывая разрешение на прослушивание, – неплохо иметь в своей команде помощника президента».
Он позвонил Пэги. Но та уже ушла домой, ответила сменщица. Дэнис продиктовал восемнадцать телефонных номеров – разговоры по этим номерам следовало теперь записывать. Попросил также завтра с девяти утра отключить телефон в клубе «Люди солнца». Пусть думают, что линия не в порядке. Под видом телефонного монтера можно будет спокойно осмотреть клуб, а если понадобится, и «жучок» поставить.
Среда, 11 июля
11
Придя утром в управление, Дэнис первым делом заглянул к Чарли. Проведенная дактилоскопическая экспертиза ничего существенного не принесла. Снаружи на машине найдены отпечатки пальцев разных людей. Идентифицировать удалось лишь те, что принадлежали владельцу машины, сравнив их с полученными из дактилоскопической картотеки Министерства обороны. Остальные отпечатки могли принадлежать просто прохожим, случайно коснувшимся кузова. А внутри, на руле и передней панели, были найдены только отпечатки пальцев владельца. Этого следовало ожидать – те, кто угнали машину, работали профессионально, в перчатках.
Дискеты с записями телефонных разговоров – за период от восьми вечера до восьми утра – лежали на столе Дэниса. Восемнадцать дискет – соответственно числу телефонных номеров, которые он указал. К каждой приложен список с необходимой информацией: временем, когда состоялся данный разговор, номером, куда или откуда звонили, именем и адресом владельца. Незнакомые голоса, молодые и старые, мужские, женские, детские, зазвучали в кабинете Дэниса. Вместе с Питом он прослушивал дискету за дискетой – обычная телефонная болтовня соседей, родственников, одноклассников. Никаких упоминаний или хотя бы косвенных намеков на бомбу и на то, что произошло сутки назад в Медвежьих горах.
Дэнис все-таки выделил два телефонных разговора. Один состоялся между расположенными недалеко друг от друга нью-джерсийскими городками. Некто из трущобного Ньюарка позвонил вчера в девять вечера в Спрингфилд, где в особнячках, окруженных ухоженными лужайками, проживала в основном состоятельная публика. Разговор был коротким, каким-то приглушенно-невнятным.
– Ну, обошлось?
– Утром привезли. Я уже боялся, что засветились.
– Хвоста не было?
– Проверял. Кажется, не было.
– Ладно, завтра созвонимся…
И все. Дэнис повернулся к Питу.
– Свяжись с полицией в Ньюарке и Спрингфилде, сообщи имена владельцев телефонов и адреса. Может, найдутся какие-нибудь материалы на этих собеседников.
Второй телефонный звонок, на который Дэнис обратил внимание, был сделан сегодня перед восьмью утра из клуба «Люди солнца» в Бруклинский торговый порт, что напротив Губернаторского острова. Хриплый, прокуренный голос долго добивался, чтобы позвали Джонатана:
– Не знаю я его фамилии. Худой такой, плюгавенький. Ходит прихрамывая. Ну вот, сообразила, наконец… Джонатан? Куда же ты пропал, дружок бесценный, сука поганая? Хочешь, чтобы и вторая ножка поломалась?
На другом конце провода заикающийся голос бормотал, что еще не успел, что постарается…
– За язык тебя не тянул – сам обещал. Короче, встречаемся вечером. Приготовь все. И учти, я тебя под землей достану!
Этот телефонный разговор, сдобренный блатными выражениями, тоже не имел прямого отношения к бомбе. Но О'Браен вчера подчеркнул – не исключено, что ее попытаются вывезти за пределы страны. Торговый порт мог быть удобным местом для этого.
И еще один номер из указанных восемнадцати привлек внимание Дэниса – куда кто-то со склада часто звонил в январе-марте, а потом перестал. С этого телефона в Бронксе вчера вечером в восемь, десять и одиннадцать звонили в Манхеттен, но манхеттенский номер не отвечал. Казалось бы, ничего особенного. Однако Дэниса насторожил адрес, куда звонили. Это был как раз тот район многоквартирных домов по Девяносто девятой стрит, откуда угнали машину, брошенную потом возле склада.
Дэнис выключил проигрыватель, посмотрел на Пита.
– Что ж, улов пока скромный. Но ведь это за каких-нибудь двенадцать часов прослушивания. Пойдем вдоль первых ниточек. Все они, конечно, могут окончиться тупиками. А на смену появятся новые. В таком деле терпение нужно, как при промывке песка на золотом прииске.
Пит уселся у телефона, созваниваясь с полицейскими отделениями в Спрингфилде и Ньюарке. В дверь заглянула Пэги Мартинес. Лицо старое, морщинистое, но прическа модная, губы ярко накрашены, на шее голубенький шарфик.
– Пэги, дорогая, – воскликнул Дэнис, – если бы ты знала, как подходит этот шарфик к твоим глазкам!
Та улыбнулась мимолетно, но благосклонно. «Женщина остается женщиной, – подумал Дэнис. – Правдивый комплимент, неправдивый – слушает все равно с удовольствием».
– Вот что, мистер льстец, ты не забыл, что с девяти утра мы отключили телефон в том клубе? Их секретарша дважды звонила на телефонную станцию, интересуется, когда починят.
Дэнис посмотрел на часы: уже без четверти одиннадцать.
– Нет проблем. Если позвонит еще, пусть на станции ответят, что монтер придет около половины двенадцатого. Мы с Питом, можно сказать, готовы. Только переодеться надо соответственно.
12
Из тетрадок деда.
* * *
Как-то у нас дома папин приятель начал расхваливать чехословацкие реформы 1968 года – так называемый «коммунизм с человеческим лицом»; затем эти реформы были прихлопнуты в одну ночь советскими десантниками, высадившимися в пражском аэропорту. Папа слушал, не перебивая, но потом спросил: «Друг мой, а могли бы вы себе представить крокодила с человеческим лицом?» В 1930 году в Архангельске, где папа тогда работал и где познакомился с мамой, он увидел на улице группу старичков в рясах – их вели в порт, должно быть, отправляли на Соловки. Один попик, наверное, больной, упал и не мог подняться. Конвоир в буденовке чуток постоял над ним, затем щелкнул выстрел. Попик застыл на мостовой, остальные побрели дальше… Как все советские служащие, папа был обязан ходить на собрания, как все, послушно подымал руку, когда объявлялось голосование в поддержку очередного бредового мероприятия властителей. Но от чести выступать на таких собраниях всегда старался уклониться и от последней мерзости – вступления в партию, что весьма помогло бы в карьере, себя уберег. «Счастлив, кто посетил сей мир в его минуты роковые» – эти строки увидели свет в 1831 году. Их автор вытянул у судьбы недурную карту: более двадцати лет на благополучной дипломатической работе в Германии и Италии, потом до конца дней на высоких спокойных постах в Петербурге. Хотел бы я посмотреть на милейшего Федора Ивановича, перенесенного машиной времени на сто лет вперед, в роковые годы России двадцатого столетия. Боюсь, он попросился бы обратно.
* * *
Вспомнился случай из школьной жизни. В десятом классе учительница истории Вера Ивановна излагала строго по программе, как были присоединены прибалтийские республики, которым Советский Союз протянул «руку братской дружбы». Я сидел, не очень вслушиваясь, думал о чем-то постороннем, наверное, о девочках. И вдруг, вроде бы, про себя, но внятно, на весь класс изрек: «Какая там дружба, просто взяли, что плохо лежало». Класс замер от неожиданности, я тоже. Лицо Веры Ивановны побагровело. «Витя, замолчи!» – взвизгнула она. А затем вернулась к материалу урока. Было это в последние годы жизни Сталина, при нем и невиновных забирали, а тут такая вот открытая клевета на политику родной партии и правительства. Далее произошло самое нетипичное. Ни один из двадцати девяти ребят не «настучал» на меня, как будто никто и не слышал. И Вера Ивановна тоже. А ведь она была обязана – не докладывая, рисковала сама… Через двадцать пять лет состоялась встреча учеников и учителей нашего 10-А, выпили по маленькой. Мишка, сидевший когда-то за соседней партой, подошел и спросил: «А помнишь, что ты ляпнул тогда про прибалтийские республики?» Я-то забыл, а он помнил… Потом я пригласил старенькую Веру Ивановну на танец. Она, смеясь, отказывалась, но я настоял. Пожалуй, это был последний танец в ее жизни. Через год она умерла. Да будет ей земля пухом.
* * *
Если не ошибаюсь, пахану Ленину принадлежат слова, которые следовало изучать советским людям в кружках марксизма-ленинизма: «Революционная идея становится материальной силой, если она овладевает массами». На ту же тему, перефразировав, можно сказать и так: «Гомо инсанус превращается в Гомо фанатикус, если им овладевает революционная идея». Кровавый двадцатый век дает многообразные примеры. Немецкая кинохроника тридцатых годов – многотысячные толпы на улицах Берлина. Широко раззявленные пасти, выпученные в экстазе глаза – они приветствуют своего фюрера, они счастливы, они готовы следовать за ним хоть в пропасть. Что, кстати, и произошло. И в подобное коллективное умопомрачение за какие-то несколько лет впала нация Гете и Бетховена, одна из культурнейших в Европе, нация здравого смысла и, казалось бы, прочных христианских традиций. Чего уж говорить про люмпенов из российской деревни – как восторженно они следовали большевистскому лозунгу «Грабь награбленное!», растаскивая после революции помещичьи усадьбы. А через двенадцать лет те же люмпены изводили под корень кулака, лучшего работника на деревне. Под стать им были «хунвейбины» в Китае, «красные кхмеры» в Камбодже. «Мыслящий тростник» – всегда индивидуален, всегда сам по себе. Сброд, чернь, толпа – это все названия коллективного Гомо инсанус. Когда им овладевает человеконенавистническая идея – социальная, или национальная, или религиозная.
* * *
В шестнадцать лет пришла мне пора получать паспорт. Время было серьезное – сталинская охота на «безродных космополитов», которые почему-то все оказывались евреями… При получении паспорта разрешалось выбирать фамилию и национальность отца или матери. Папа уговаривал меня записаться русским: «Пойми, какое сейчас время, не дури, сделай свою жизнь хоть немного легче». И я, действительно, считал себя русским – родился в России, родной язык русский, душа заполнена до краев великой русской литературой. Но паспорт на фамилию Гринберга, национальность – русский, воспринимался бы как анекдот. «Ты и фамилию мамы возьми, – говорил папа, – хорошая русская фамилия». Но тут я уперся: «А это уже будет подло. Получится, что я стыжусь фамилии отца». Так я стал обладателем паспорта, где все выглядело незамутненно ясно: «Виктор Гринберг, национальность – еврей». Сейчас, на закате, «читая жизнь мою», многие страницы, если бы мог, переписал. Эту – нет.
* * *
Все газеты мира печатают страшные фотографии африканских детишек – высохшие ручки и ножки, вспученные животы, стариковская тоска на лицах, по которым ползают мухи. В Африке голод. И год за годом летят туда самолеты, плывут корабли с продовольствием из экономически развитых стран. Но это почему-то не решает проблемы. Если пользоваться самым общим определением, голод есть результат несоответствия между количеством пищи и количеством едоков. В животном мире такой голод – один из естественных регуляторов численности популяции. Но в отличие от саранчи или леммингов разумная человеческая семья прежде, чем обзавестись ребенком, задает себе вопрос, сможет ли выкормить его, воспитать, поставить на ноги. Мужские и женские особи в экономически отсталых странах об этом и не думают. Для них дети – просто побочный продукт половой активности. Причем данная активтивность не в последнюю очередь умеряется чувством голода. Гуманисты, старающиеся помочь этим ни в чем не повинным детям, делают, конечно же, доброе дело. Но еще гуманнее было бы ограничить появление на свет таких страдальцев.
* * *
Папа преподавал в мединституте биохимию, предмет тяжеловесный, напичканный химическими формулами. Натура яркая, артистичная, он делал это так, что после заключительной лекции один из курсов преподнес любимому профессору в подарок палехскую шкатулку с надписью: «Поэту биохимии». Среднего роста, широкий в плечах, физически очень сильный, с живыми глазами, правильными чертами лица. Был он преданнейшим отцом. Но не мужем. Старше мамы на девять лет, а второй жены – даже на двадцать четыре года, он часто увлекался, легко, по-мальчишески загораясь и так же легко остывая. В восемьдесят лет, разойдясь со второй женой, он, как всегда легкий на подъем, уехал со мной начинать новую жизнь за океаном, в эмиграции.
13
О своей работе Дэнис рассказывал скупо. Если и поделится с Таней чем-нибудь интересным или смешным, то лишь по окончании дела. Вчера вечером, услышав от Дэниса, что их поездка на Кейп Код по какой-то там важной причине откладывается, она поначалу расстроилась. А сегодня подумала, что так даже лучше. Поедут чуть позже, но зато теперь появились совершенно свободные дни, и можно, наконец, засесть за давно вынашиваемую статью о Мандельштаме.
Любовь к русской поэзии передалась ей от деда. Он знал наизусть много стихотворений, учил Таню видеть их внутреннюю красоту, объяснял те или иные темные строчки. Обычно немногословный, порой даже скрытный, дед ни разу не обмолвился о том, что сам пишет стихи. Для Тани было открытием, когда в одной из найденных вчера тетрадок она обнаружила засунутую туда тонкую пачку стихотворений. Их чтение она оставила на потом, после того, как закончит читать тетрадки.
Важные литературные критики в своих статьях, книгах перечисляли многообразные признаки истинной поэзии. А у деда этот признак был предельно прост. «Если хочется запомнить стихотворение наизусть, значит, оно настоящее, – говорил он. – Его носишь под сердцем, оно всегда наготове, чтобы зазвучать в тебе». Таня тогда возразила, что разные люди запоминают почему-то разные стихотворения. Дед усмехнулся: «Так это говорит только о том, что поэзия многолика – у каждого своя. И не имеет значения, сколько сердец отозвалось резонансом на данные стихи – пятьдесят или полмиллиона. К счастью, истинность искусства путем голосования не определяется. Но вот если ни у кого не возникло внутренней потребности унести в себе это стихотворение, значит, оно – лишь литературная поделка, пусть даже профессионально исполненная».
Таню давно манила поэзия Мандельштама, она столько передумала о ней. Но никак не решалась подступиться к этой теме, казалось – еще не готова. О Мандельштаме было написано так много, и все же Таня мечтала сказать о нем по-своему, по-новому. Во второй половине двадцатых годов поэт не написал ни строчки, а потом, в страшные тридцатые, поэзия вернулась. На эти годы пришелся самый зрелый и самый трагический период его творчества. Одним из первых Мандельштам разглядел жуткую суть большевистского режима, пронзительная обреченность зазвучала в его стихах: «Мне на плечи кидается век-волкодав»; «Кто-то чудной меня что-то торопит забыть. Душно – и все-таки до смерти хочется жить»; «И всю ночь напролет жду гостей дорогих, шевеля кандалами цепочек дверных»…
В 1933 были написаны стихи о «кремлевском горце». В пору, когда большинство советских писателей раболепно воспевало режим и его властителя, а меньшинство имело мужество хотя бы промолчать, хотя бы обойти эту тему стороной, Мандельштам сказал все, что думал о Сталине. И тем самым подписал себе смертный приговор.
Согласно воспоминаниям вдовы поэта, было всего девятнадцать человек, которым Мандельштам читал по секрету, каждому наедине, стихи о «кремлевском горце». Это – она сама, два брата (его и ее), несколько личных друзей, несколько близких коллег по литературе (Ахматова, Пастернак, Эренбург, Шкловский). На страницах своих воспоминаний вдова опять и опять возвращалась к мысли о том, кто же мог донести. Но имени не называла, боялась ошибиться. Таня, когда дед еще был жив, показала ему эти страницы. Тот скупо заметил: «Всего только один доносчик на девятнадцать советских людей – слишком уж благополучное соотношение. И три, и четыре могли побежать наперегонки и доложить». Человек искренний, порой детски наивный, порой вспыльчивый, не умеющий притворяться, Мандельштам был изначально обречен. Как будто предчувствуя, еще за три года до первого ареста он написал о себе: «Щелкунчик, дружок, дурак! А мог бы жизнь просвистать скворцом, заесть ореховым пирогом, да, видно, нельзя никак».
Начало стихотворения о «кремлевском горце» существует в двух вариантах. Тот, который перепечатывают во всех изданиях, казался Тане менее удачным: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, а как хватит на полразговорца, там припомнят кремлевского горца». Здесь какое-то противоречие. В первых двух строчках автор утверждает, что современники разговаривают, даже речи произносят, но тихо, с опаской. А далее, напротив, описывается их немота, лишь иногда им хватает слов «на полразговорца». Последовательнее другой вариант: «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за десять шагов не слышны, только слышно кремлевского горца, душегубца и мужикоборца». Почему же окончательным текстом считается первый вариант? В примечаниях к одному из сборников Мандельштама Таня вычитала, что стихотворение воспроизводится по автографу поэта, написанному на Лубянке во время допроса. Однако для следователя Мандельштам мог выбрать строчки без «душегубца» просто потому, что они звучали чуть менее крамольно. А значит, существующий автограф еще не есть доказательство, что поэт именно данный текст считал окончательным. Но если воля автора неизвестна, кто и как должен решать? Попробуй ответь…
За утро Таня написала всего три странички, испещренные помарками, вставками. Работа над статьей шла медленно. Перечитывая написанное, Таня каждый раз не могла понять – хорошо или плохо. Только что понравившееся ей через пятнадцать минут приводило в отчаянье, казалось бездарным. «Обычные муки творчества» – утешала она себя.
К середине дня Таня сделала перерыв. На два у нее был назначен визит к врачу. Таня чувствовала себя неплохо. Но за последние пару недель какие-то смутные изменения начались в ее теле – набухли груди, по утрам подташнивало. А вдруг это беременность?
Сухонький пожилой терапевт, давний коллега деда, усадил Таню на кушетку. Раскрыл ее историю болезни, зачем-то долго перечитывал свою предыдущую запись двухлетней давности, когда Таня приходила с обычной простудой. Бросив взгляд поверх очков, спросил, наконец, что ее беспокоит. Подробный ответ выслушал, не перебивая, хотя по его лицу Тане было видно, что это все ему известно заранее. Задал один уточняющий вопрос – когда был последний менструальный период; удовлетворенно хмыкнув, записал дату. Он помял пальцами ее живот. Как бы выполняя ритуал, приложил стетоскоп в нескольких местах к ее кофточке, прослушивая легкие и сердце (дед когда-то сказал Тане, что через одежду ничего путного в стетоскоп не услышишь). Затем медсестра перетянула жгутом Танину руку выше локтя, ловко попала иглой во вздувшуюся вену, набрала кровь в пробирку. «Пошлем в лабораторию, – сказал доктор, делая запись в ее истории болезни. – Думаю, результат будет известен завтра или послезавтра. Я позвоню».
Возвращаясь домой, Таня из окна автобуса скользила взглядом по знакомым бруклинским улицам. Вот один из старческих домов, где у деда были пациенты. А вот на углу маленькая парикмахерская – ее толстый, говорливый хозяин, тоже эмигрант из России, подстригая деда, любил обсуждать с ним события на родине.
Читая тетрадки деда, Таня испытывала такое трогательное чувство. С их страниц для нее зазвучал опять его неторопливый, глуховатый голос, сквозь толщу времени проступили незнакомые черты прадеда и прабабки, русского и еврейского прапрадедов – ее корни. Но в одном тетрадки вызывали у Тани несогласие. Мрачный взгляд на природу человека, явно недемократические идеи, как эту природу улучшить, – тут дедуля был, конечно же, неправ. Прогресс человечества неостановим; надо только обеспечить равные возможности для всех живущих на Земле – дальше все само обязательно устроится. К сожалению, эти либеральные убеждения Таниных коллег по колледжу почему-то не разделял и Дэнис. Тут сказывался, наверное, характер его работы. Человек, вынужденный день за днем заниматься изнанкой жизни общества, может легко утерять объективный взгляд на его несомненное поступательное развитие.
Таня вышла из автобуса на остановке недалеко от дома. О своем визите к доктору она решила Дэнису ничего пока не говорить, подождать, что покажет анализ крови. Выросший в многодетной фермерской семье, Дэнис давно мечтал о ребенке и беспокоился, почему его все нет.
14
Клуб «Люди солнца» располагался не в самой лучшей части Гарлема. Приезжавшим в Нью-Йорк туристам ее не показывали. И даже полицейские без нужды, особенно в темное время, заглядывать сюда не любили. Это было царство порока, преступлений, нищеты, безысходности. Грязные, засыпанные мусором и битым стеклом тротуары, кое-где с кучками собачьих и человеческих испражнений. Обшарпанные дома, многие нежилые, – с выбитыми окнами и полусгоревшей крышей. Дэнису вспомнился рассказ Тани о ее покойном деде, который однажды сбился с пути и заехал на машине в Гарлем. Вернувшись благополучно домой, он задумчиво сказал Тане: «У меня сразу возникло ощущение, что я уже когда-то это видел. Потом вспомнил. Мальчиком, в сорок третьем году, я смотрел кинохронику – о Сталинграде. Тот разрушенный войной город очень смахивал на нынешний Гарлем». С тех пор в домашних разговорах дед называл Гарлем «Сталинградом»…
За рулем «крайслера», как обычно, сидел Пит. Он был одет в рабочий комбинезон, на заднем сиденье лежала сумка с инструментами и маленькая складная лесенка – то, что нужно телефонному монтеру. Чтобы тоже меньше выделяться на здешних улицах, Дэнис надел майку с надписью: «Занимайся любовью», неопределенного цвета джинсы с дыркой на бедре и видавшие виды тяжелые армейские ботинки с подковками на каблуках и носках. Их «крайслер» тоже выглядел более чем скромно – старая, исцарапанная развалюха с проржавевшими крыльями и вмятиной от удара на радиаторе. Другое дело, что мощный мотор, трансмиссия, тормоза были новыми, их регулярно проверяли в гараже ФБР.
Пит остановил машину в квартале от клуба. Под лямку комбинезона прикрепил миниатюрный передатчик, нажал, проверяя, кнопку – бипер Дэниса сразу отозвался короткими гудками. Повесив на плечо сумку с инструментами и взяв лесенку, Пит зашагал к углу. Монтер, пришедший для ремонта и копающийся в телефонных коммуникациях, подозрений не вызывает. Поставить «жучок» Пит сумеет – руки у парня золотые, в электротехнике разбирается. Задача самого Дэниса была простой – вступить в дело, если только у Пита в клубе возникнут непредвиденные осложнения и бипер Дэниса подаст сигнал тревоги.
Когда Пит завернул за угол, Дэнис вылез из машины, закрыл на ключ дверцу. Оглядевшись, подобрал под ногами жестяную банку из-под пива – с такой банкой в руках он как-то лучше вписывался в окружающий пейзаж. Помахивая ею, двинулся в направлении клуба. Заходить внутрь он не собирался, но хотелось все-таки составить хотя бы общее представление об этом месте.
Небольшое здание клуба мало отличалось от соседних домов – осыпающаяся со стен штукатурка, одно из окон заколочено фанерой. Поток жаркого, липкого воздуха слегка покачивал полуоткрытую дверь, за ней было тихо. Между боковой стеной клуба и соседним домом уходил во двор узкий проезд. Вряд ли через этот проезд мог протиснуться армейский фургон. Дэнис, слегка покачиваясь, забрел во двор – там было пусто, у забора громоздилась куча мусора. Он вышел обратно на улицу, пересек под безжалостным солнцем ее проезжую часть и нырнул внутрь маленького продовольственного магазинчика. В нем было немноголюдно, работал кондиционер, а через витринное окно хорошо просматривался клуб. Удобный пункт наблюдения. Не теряя из поля зрения дверь клуба, Дэнис достал из кармана мобильник, набрал домашний номер.
– Здравствуй, моя родная. Выдалась свободная минута – звоню… Не расстраивайся, поедем чуть позже… Вчера ты рассказала – мне тоже стало интересно. Да вот по-русски не понимаю… Может, когда поедем на Кейп Код, ты возьмешь тетрадки с собой, там будешь мне переводить? Дед – часть твоего мира, а я хочу знать о твоем мире все… Я на работе иногда закручусь, секунды нет, чтобы еще о чем-то подумать. И все равно – не сознанием, а подсознанием – продолжаю ощущать, что ты рядом, что ты со мной… Не надоело каждый день объяснения в любви выслушивать?.. Пока. До вечера.
Дэнис повесил трубку, посмотрел в окно, возвращаясь от Тани к тому, что сейчас его окружало. Дверь клуба была по-прежнему приоткрыта, никто не заходил, не выходил.
Покинув прохладный магазинчик, он прошелся до угла, бросил взгляд в сторону оставленного через квартал «крайслера». Возле него суетились какие-то фигуры. Дэнис неторопливо двинулся к машине, помахивая пивной банкой… Два чернокожих молодца небольшим ломиком старались приподнять капот. Еще один возился с отверткой возле дверцы водителя. Вряд ли они собирались угнать эту развалюху. Но под капотом был аккумулятор, а внутри кабины лежал на сиденье мобильный телефон Пита. И то, и другое можно было продать за бесценок – на вырученные деньги купить порцию «крэка».
Пистолет «глок» был спрятан под джинсами Дэниса, над щиколоткой. Выхватить пистолет, крикнуть: «ФБР!», положить всех троих на тротуар лицом вниз, вызвать по телефону полицию – все это было нетрудно. Но раскрывать себя никак не входило в планы Дэниса. За пару шагов до машины он остановился, спросил пьяненьким голосом:
– Эй, парни, что вы делаете с моим «крайслером»?
Те повернули головы, весело осклабились. Один из стоявших возле капота сделал шаг навстречу, протянул руку. Зрачки расширены – уже с утра под «крэком». На грязной майке нарисованы длинные женские груди, коричневые соски почти на уровне пояса. Поза расслабленная, спокойная – чего бояться, трое на одного, плюс ломик, плюс отвертка, а может, и еще что-то в карманах имеется.
– Иди сюда, белая крыса, не трясись. Деньги у тебя есть?
Дэнис робко шагнул вперед. Первый, в майке, оказался слева и чуть сзади; второй стоял перед Дэнисом, опираясь ломиком о капот; третий, скаля зубы, оставался у дверцы водителя. Дэнис сделал молниеносное движение – его левый локоть глубоко ушел первому под ложечку, как раз между нарисованными сосками. Тот, покачнувшись, издал тихий булькающий звук. Но Дэнис недооценил быструю реакцию второго. Поймав краем глаза взметнувшийся ломик, Дэнис лишь успел чуть отклониться в сторону, выбросив поверх головы правую руку. Ломик, нацеленный в голову, скользнул по касательной вдоль предплечья. Подпрыгнув, Дэнис ударил второго ногой в пах. Тот согнулся – и второй удар ботинка с металлическими подковками пришелся по челюсти. Противник рухнул, из носа и рта выползли струйки крови. Дэнис резко обернулся – и вовремя. Первый еще держался одной рукой за живот, а другая уже вытаскивала из кармана нож. Жесткий удар ребром ладони по шее – нож выпал, тело медленно завалилось на землю. Все произошло быстро – третий с открытым ртом продолжал стоять у дверцы водителя. Дэнис прыгнул в его сторону. Вобрав голову в плечи, тот бросился наутек – через дыру в соседнем заборе. В щели между дверцей и кузовом «крайслера» осталась торчать отвертка.
Дэнис оттащил обоих на тротуар, проверил пульс. Ничего, отойдут. Вывернул их карманы – еще один нож, пакетики с белым порошком. Приподняв с помощью ломика ржавую крышку канализационного люка, он выбросил в образовавшееся отверстие оба ножа, отвертку, порошки, ломик.
По противоположной стороне улицы брела старуха-негритянка с тяжелой сумкой в руках. Все произошло на ее глазах, но она и головы не повернула. Она давно усвоила житейскую мудрость: пока не касается лично тебя, ничего не видеть и ни во что не вмешиваться. Потом из-за угла с лесенкой в руках показался Пит. Подойдя, вопросительно посмотрел на постанывающих парней на тротуаре.
– Хотели проверить, есть ли у меня деньги, – коротко пояснил Дэнис. – Садись, поехали.
Пит положил лесенку на заднее сиденье, включил зажигание. Сказал, улыбаясь:
– Вообще-то называть это клубом – слишком громко. Сразу за дверью – средних размеров зал, заставленный рядами обшарпанных стульев. А сбоку – небольшой офис с продавленным диваном, парой кресел, конторским столом и телефоном на нем. «Жучок» внутрь телефона я пристроил без труда, в клубе сейчас только молоденькая девчушка-секретарша. Делая вид, что проверяю телефонную проводку, прошелся по залу – ничего подозрительного. Не знаю, есть ли у них подвал или чердак, лестниц из зала вниз или вверх не видел. Еще одна дверь из зала – во внутренний двор. Я хотел туда выглянуть, но дверь оказалась запертой.
– Я был во дворе, – отозвался Дэнис, – там пусто. Да и маловероятно, что похитители, если они члены клуба, ста-ли бы держать здесь этот фургон. Но выболтать что-нибудь, разговаривая друг с другом, они могут, и тогда наше прослушивание принесет плоды.
По мобильнику Пит связался с Пэги Мартинес, попросил позвонить на станцию, чтобы подключили телефон клуба. Заметив, что Дэнис растирает правое предплечье, спросил участливо:
– Ничего серьезного?
– Ломиком прошлись. Но кости целы.
Пит помолчал, вливаясь в поток машин на Пятой авеню. Потом глухо сказал:
– Такие подонки только играют на руку расистам. Тем становится легче клеветать на всех чернокожих американцев.
– Цвет кожи у подонков может быть разным, – ответил Дэнис. – У расистов – тоже.
15
Во второй половине дня О'Браену позвонил Фридмэн.
– Наш старик слегка нервничает и поручил мне узнать, как продвигается это дело. С Карлой я здесь только что обстоятельно поговорил. Тебя, дружочек, тоже хотел бы сегодня повидать. Не возражаешь, если мы пообщаемся, а заодно и поужинаем в моем гольф-клубе? Повар там отличный… Договорились, жду к шести. Администратора я предупрежу.
О'Браен знал этот клуб для элитной публики, расположенный в одном из богатых пригородов Вашингтона. Но сам он не состоял его членом, как и никакого другого клуба. Если случалось свободное время, О'Браен предпочитал поехать куда-нибудь на рыбалку или просто поваляться дома с книжкой в руках. Лишь изредка жене удавалось вытащить его на концерт классической музыки. Кстати, в пятницу, послезавтра, О'Браену опять предстояло выполнять этот нелегкий супружеский долг – идти слушать какую-то там симфонию Моцарта…
В начале седьмого в обширном холле клуба с роскошным персидским ковром на полу было еще пусто. К О'Браену неторопливо приблизился высокий важный администратор во фраке. Сверху вниз окинул взглядом незнакомого толстячка в мятом костюме из магазина готовой одежды, вежливо-холодно поинтересовался, что тому угодно. О'Браен назвал себя. Было забавно наблюдать гамму чувств, пробежавших по лицу администратора: безразличие – удивление – восторг. Преданно заглядывая в глаза, администратор проводил О'Браена в зал, к столику, за которым уже сидел Фридмэн.
Ресторанный вечер только начинался. На столике уютно мерцала зажженная свечка. На эстраде, у противоположной стены одинокий пианист негромко наигрывал сладкие мелодии аргентинских танго.
Официант принес закуски, разлил вино. Фридмэн приблизил бокал к носу, понюхал. Потом сделал маленький глоток. С видом знатока заключил:
– Вино неплохое… И все же самым памятным глотком в моей жизни был глоток обыкновенного виски. Неужели не помнишь? Вьетнам, мы сидим в блиндаже, а снаружи моросит мерзкий тропический дождичек… Хлебнув из горлышка, ты пускаешь по кругу свою знаменитую плоскую фляжку. Когда наступает моя очередь, я делаю могучий глоток и захожусь в кашле. Я тогда и пить-то не умел, еврейский маменькин сынок из Бруклина… Все хохочут надо мной. А потом по телу разлвается тепло. Я нежно и тревожно вглядываюсь в лица ребят – как будто предчувствую, что через несколько дней троих из них не станет. Мина, что разметала их на кусочки, и мне оставила эту отметину.
Фридмэн ткнул пальцем в подбородок. Приподняв бокал, грустно предложил:
– За память о тех ребятах и за нашу молодость, которая неведомо как осталась далеко позади.
Они выпили, принялись за закуски.
– Теперь насчет «Анджелины», – произнес Фридмэн уже другим, деловым тоном. – У Карлы по существу ничего нового. Ее люди допросили всех, кто работает на складе, покопались в их прошлом и контактах. Нет никаких оснований подозревать кого-либо. Сейчас Карла озабочена прежде всего тем, чтобы эта штука не выпорхнула из страны. Ты, конечно, понимаешь – такой таможенный и пограничный контроль может продолжаться недели и месяцы. А наш старик резонно считает: каждый дополнительный день увеличивает риск, что сведения просочатся в прессу. И произойдет грандиозный скандал.
Фридмэн замолчал. Подошедший официант поставил на стол новые блюда, наполнил бокалы, неслышно удалился.
– Что-то сегодня встряхнуться хочется, – Фридмэн придвинул к себе бутылку. – Давай по второй?
– Не слишком ли торопимся? – возразил О'Браен. – Ты еще про Карлу не досказал.
– Нечего и досказывать. Она мне с важным видом сообщила, что на лесной полянке, недалеко от склада, ее люди нашли на песке следы автомобильных шин и сделали отпечатки. Это, дескать, поможет распознать подозрительную машину. Если, конечно, ее найдут… А еще они обнаружили там окурок с остатками слюны – слюна тоже будет, мол, способствовать идентификации преступника. Ты его поймай сперва… Не нравится мне все это. Выпьем.
Ресторанный зал постепенно заполнялся. Многие, увидев Фридмэна, раскланивались издали. В ответ он приветственно махал рукой.
– Ну, а как по твоей линии? – спросил Фридмэн. – Вчера мне уже пришел из Нью-Йоркского управления ФБР запрос на телефонные прослушивания. Что-нибудь удалось выяснить?
– Я поручил это дело одному из самых толковых работников в управлении. Если всплывет что-нибудь существенное, он незамедлительно даст знать. А сам ему сегодня не звонил, мне по собственному опыту известно – такие звонки только нервируют. Да и что можно ожидать от следователя, у которого руки связаны. Осмотреть место происшествия нельзя, допросить работающих на складе тоже нельзя. Вчера в Овальном офисе из уважения к его хозяину я сдержался. Вас заботит прежде всего возможный скандал – вдруг газетчики пронюхают про «Анджелину». А другой вариант вы полностью исключаете? А что если она вдруг сработает – на другом континенте или даже здесь? На кону огромная ставка, а дело ведется удивительно непрофессионально – в угоду этой мадам.
О'Браен раздраженно покрутил головой, налил себе еще вина, залпом выпил. Фридмэн последовал его примеру, потом подозвал официанта, заказал вторую бутылку.
– Дружочек, ты и прав, и неправ. В условиях демократии высшее искусство политика – умение идти на компромисс. За четыре месяца до выборов от этой мадам, как ты выразился, зависят голоса чрезвычайно активной группы избирателей. Мы не имеем права их терять. И все же наш старик уже склоняется к решению. У Карлы в запасе сутки. Если завтра до вечера ее люди не выйдут на «Анджелину», а это при их расторопности маловероятно, твоему ведомству будет официально приказано возглавить расследование.
Фридмэн помахал рукой даме, усаживавшейся со своим спутником за столик неподалеку. Было видно, что дама уже далеко не первой молодости, но фигурка еще хорошая.
– Ах, какая очаровательная девочка была. Лет тридцать назад… Хоть есть, что вспомнить, – Фридмэн грустно вздохнул. – Так вот, дружочек, нам опять предстоит собраться вчетвером. Ты, конечно, знаешь: завтра наш старик выступает в Нью-Йорке на Генеральной ассамблее. Начинает в пять. К шести, думаю, закончит. А в десять тридцать мы с ним вылетаем из аэропорта Кеннеди в Европу. В промежутке он и хотел бы собраться – Карла доложит о ходе расследования. Тебе нетрудно завтра к семи быть в Нью-Йорке, в его резиденции?
Сосредоточенно пережевывая кусок горячей осетрины, О'Браен утвердительно кивнул. Фридмэн опять разлил по бокалам вино, они выпили.
– Все, хватит, – сказал О'Браен, отодвигая пустой бокал, – пора заказывать кофе.
– А как же это? – огорченный Фридмэн показал на вторую бутылку. – Еще больше половины осталось.
– Нет, не могу, – возразил О'Браен. – Я свою норму знаю. Еще глоток – и буянить начну, как в том сайгонском кабаке. Помнишь?.. Заказывай кофе.
– Дружочек, уж ты прости, но кофе тут делать не умеют. Если ты понимаешь толк в кофе, едем ко мне, я его приготовлю по собственному рецепту – закачаешься. Едем, едем… Жена сейчас на съемках, никто нам мешать не будет. И поболтаем еще.
Машина Фридмэна ждала возле клуба. За рулем – молчаливый шофер-охранник, положенный Фридмэну по должности. Они уселись на заднее сиденье. Следом шофер О'Браена пристроил свою машину.
Фридмэн с женой жили вдвоем; его дети от предыдущих браков давно выросли и стали самостоятельными. Жена была лет на тридцать моложе. Смазливое личико, некоторые актерские способности, а главное, приятельские связи Фридмэна в Голливуде позволяли ей получать время от времени небольшие роли в кино. Гостиная, куда они вошли, отражала, видимо, вкусы хозяйки. Мягкие диванчики и пуфики, на тумбочках разностильные безделушки, на стенах фотографии хозяйки в компании тех или иных кинозвезд. У широкого окна, на подоконнике – горшочки с яркими цветами. От них исходил чуть слышный пряный аромат. Фридмэн увидел наклонившегося к цветам О'Браена, хлопнул себя по лбу:
– Опять я утром позабыл! Уезжая, жена наказала поливать цветы каждый день… Ничего – полью перед сном.
Из гостиной они прошли в кабинет Фридмэна. Тут все выглядело иначе: никаких безделушек, огромный письменный стол, заваленный бумагами. И книги: раскрытые – на столе и на полу вокруг стола, закрытые – на полках до потолка вдоль стен кабинета. Перехватив взгляд О'Браена, Фридмэн сказал:
– Через всю мою жизнь прошли две страсти – к женщинам и к книгам. Грустно признавать, дружочек, но первая становится последние годы все менее важной. Вот уехала моя супруга на съемки, и я удивленно ощущаю, что наедине с книгами даже как-то уютнее… Кстати, ты с ней не знаком. Поэтому и не понял, наверное, юмора, который наш старик вложил в кодовое название операции. Анджелина – это имя моей бесценной половины. Старик – вдовец и считает себя большим специалистом по части семейной жизни. Вот как-то наедине я и поплакался ему на взрывной характер супруги.
Фридмэн сходил на кухню, принес оттуда пузатую бутылку французского коньяка, два бокала. Поставил их на маленький столик в углу кабинета, уселся возле на диван. Рядом присел на кресло О'Браен.
– Кофе я уже поставил, через несколько минут будет готов. Но чтобы этот кофе по-настоящему оценить, его аромат должен смешиваться во рту с запахом коньяка. Предлагаю выпить.
– Коньяк, налитый на донышко бокала, следует согреть в ладонях и затем смаковать маленькими глотками, – неуверенно сказал О'Браен. – Зачем ты набухал столько в эти бокалы?
– Я налил – теперь сам решай. Хочешь – пей маленькими глотками, хочешь – капай на язык по одной капле в минуту. Я себя чувствую в отличной форме, а тебе, пожалуй, пора и остановиться.
– Это ты кому говоришь, это ты ирландцу говоришь? – вскипел О'Браен. – Сорок лет назад я тебе фору давал по этой части, еще посмотрим, кому пора остановиться!
Они выпили. Глаза Фридмэна довольно блестели, бородка растрепалась. Раскрасневшийся О'Браен ослабил галстук, расстегнул воротник рубашки. Разговор стал еще более оживленным, но не всегда последовательным.
– Ты сегодня вспомнил про мою плоскую фляжку, – сказал О'Браен. – А ведь она у меня сохранилась.
– Не может быть! – привскочил Фридмэн. – Слушай, я хочу напроситься к тебе в гости. Но с условием – ты нальешь в эту фляжку виски, мы присядем на корточки где-нибудь у стены, жен спровадим на кухню, чтобы не мешали, и будем по очереди прихлебывать из горлышка. Это же, как возвращение в молодость!
Фридмэн мечтательно прикрыл глаза. Потом испуганно повел носом, принюхиваясь, и трусцой заспешил на кухню.
– Так и есть, кофе сбежал, – виновато признался он, возвращаясь. – А впрочем, его рано пить – я чуть позже опять приготовлю. Мы же не успели как следует коньяк продегустировать.
Фридмэн долил коньяк в бокалы, сказал без всякой связи с предыдущим:
– Дружочек, относись к Карле поспокойнее. Она в сущности неплохой работник. В Пентагоне хоть какой-то порядок навела. Ты вчера обратил внимание, как грамотно она отвечала на вопросы об устройстве «Анджелины»? Уверен, еще за день до того она об этом устройстве и знать не знала. И вот разобралась. А что до ее лесбиянства, то, говорят, бедняжку еще в колледже сокурсница этому научила – как высшему проявлению женской эмансипации. Теперь это Карле, пожалуй, и не нужно, но она – натура гордая, сама себе признаться не хочет, что полжизни не тем занималась, – Фридмэн пьяно причмокнул. – А ведь какая женщина пропадает. Уж я в них толк знаю. Могу представить эту необъезженную кобылку в постели опытного мужчины… Вроде меня.
– Да не волнуют меня ее половые проблемы, – пробурчал О'Браен. – С ней же разговаривать невозможно. Разговариваешь и чувствуешь, как ее всю распирает от беспричинного раздражения, недоброжелательности.
– Но это как раз и проистекает из ее половых проблем! Ты разве не задумывался, почему представители однополой любви без конца устраивают демонстрации, подписывают петиции протеста, обвиняют всех и вся в дискриминации. На дворе уже двадцать первый век, никому до них давно дела нет – валяйте, друзья, развлекайтесь по-своему, если по-нормальному не получается. Но не могут они успокоиться, что-то их гложет. Вот и пытаются раз за разом убедить мир, а еще больше себя, что с ними все в порядке. Типичный комплекс неполноценности. И у Карлы то же самое. Давай выпьем, и я пойду опять кофе готовить.
Фридмэн опрокинул в себя коньяк, поставил пустой бокал на столик, приподнялся, но ноги уже не слушались. Потеряв равновесие, он шлепнулся на диван, захохотал.
– Ты, конечно, думаешь – Фридмэн пьяный. Нет и нет! Голова у меня абсолютно ясная. Хочешь, речь Линкольна в Геттисберге наизусть прочитаю?.. Не хочешь… А хочешь знать, кто был бы сегодня президентом, не попади проклятый осколок в эту челюсть?.. Правильно – Фридмэн. Но, представляешь, выступает такой тип с трибуны и в каждом слове шепелявит – никакие избиратели не выдержат… Будь я президентом, нашего старика тоже не обидел бы, он в сущности неплохой. Пристроил бы послом – в Ватикан, например… Говорят, по соседству с Ватиканом монастырь есть. Монашки молоденькие…
Глаза Фридмэна мечтательно прищурились. Он откинул голову на спинку дивана, закрыл глаза и вдруг захрапел. «Готов» – понял О'Браен. Пошатываясь, он подошел к дивану, снял с Фридмэна туфли, уложил того поудобнее. Заглянув на кухню, удостоверился, выключена ли залитая кофейной жижей электрическая плита. Потом набрал в большую кружку воды, прошел в гостиную, полил цветы.
На крыльце, закрыв за собой дверь, О'Браен проверил, защелкнулся ли язычок замка. Держась руками за перила и осторожно, боком, спускаясь по ступенькам к ждущей его машине, он бурчал про себя:
– Каков нахал, ирландца хотел перепить…
16
Из тетрадок деда.
* * *
По приблизительным подсчетам, в 1830 году на Земле было около одного миллиарда людей. Через сто лет, к 1930 году, это число удвоилось, а еще через сорок пять лет, к 1975 году, достигло четырех миллиардов. К началу двадцать первого века, как ожидается, численность рода человеческого превысит шесть миллиардов. И результаты такого безудержного размножения налицо. В экономически отсталых странах, где население растет особенно быстро, – хронический голод. В некоторых регионах Земли все более дефицитна пресная вода. Беспощадно вырубаются леса, и увеличивается площадь пустынь. Загрязняются почва, вода и воздух. Увеличиваются дыры в озоновом слое атмосферы – все большая часть вредоносной ультрафиолетовой радиации Солнца достигает земной поверхности. Деградация окружающей среды сочетается с деградацией человеческого генофонда – Гомо инсанус плодится намного быстрее. Недавно профессор-демограф из Корнельского университета в Нью-Йорке подсчитал, что в оптимальном варианте население Земли не должно превышать двух миллиардов. Увы, поезд давно ушел – к этому надо было призывать намного раньше. Но кто услышал бы? И кто сейчас услышит? Упомянутый профессор предлагает снизить уровень рождаемости во всем мире так, чтобы в среднем половина женщин имела не больше двух детей и половина – не больше одного. Да вот как осуществить на практике это благое пожелание – призвать женщин добровольно ограничить деторождение? Предположим, что, осознав опасность, нависшую над родом человеческим, Гомо сапиенс пойдут на это. А Гомо инсанус?
* * *
Советским властителям пришлось чуть приоткрыть дверцу эмиграции в начале семидесятых годов. Я много думал об этом, но решение вызревало трудно. Столько нитей привязывали меня к родине, слишком больно было резать по живому. Да и возраст не самый завидный – вроде бы, поздновато начинать с нуля новую жизнь. А потом, уже в сорок семь, буквально в одночасье пришло ощущение – больше не могу; если не попытаюсь вырваться из этого царства лжи, сам к себе уважение потеряю. Собрал необходимые справки, заполнил анкеты, отнес по назначению. Дальше все пошло по обычному сценарию. В моем институте состоялось собрание, где родной коллектив, в том числе и вчерашние доброжелатели, единодушно заклеймил «отщепенца» и потребовал лишить его ученой степени доктора медицинских наук. Выгнали меня с работы. Потянулось ожидание: выпустят – не выпустят. И все равно на душе было светло и торжественно: я уже был не «их», я уже не должен был играть в «их» игры. В Москве ожидание выездной визы занимало тогда около года. Кошка развлекалась с мышками и никуда не торопилась. Иногда спрячет когти и выпустит нескольких на свободу, потом вдруг намертво вопьется в какого-нибудь невезучего «отказника». Обычно люди, подав заявление на эмиграцию, ждали решения своей участи тихо, стараясь не раздражать власть имущих. Я рискнул действовать ина че и обратился в суд с заявлением о незаконном увольнении с работы. Даже судейские с партбилетами в кармане знали, что подобного закона, действительно, не существует. Но и восстановить «отщепенца» на работе казалось им немыслимым. Дело стали тянуть, а я начал посылать жалобы в разные инстанции. Видимо, в одной из них и приняли мудрое решение – спровадить кляузника побыстрее. Так я получил свою выездную визу – всего-то за пять месяцев. И наступило последнее утро, прощанье в Шереметьевском аэропорту. В те годы эмигрировать – значило исчезнуть из этой жизни навсегда. Я всматривался сквозь слезы в лица друзей, не побоявшихся прийти, чтобы прово дить меня. Мы знали: видим друг друга последний раз. Я как будто присутствовал на их похоронах, они – на моих.
* * *
Многие современные семьи, имея двух или трех детей, решают этим и ограничиться. Наиболее надежный способ предупредить беременность – стерилизация. При этом у жены или у мужа перевязывают трубопроводы, по которым движутся созревшие яйцеклетки или сперматозоиды. Такие операции несложны, обычно в тот же день пациент уходит домой. Что касается принудительной стерилизации, то в США, некоторых европейских странах она практиковалась в начале двадцатого века – при серьезных психических заболеваниях, у закоренелых преступников. Позднее подобные законы были отменены, повсеместно возобладали либеральные представления о примате индивидуальных прав и свобод. Давняя проблема: что важнее – интересы общества в целом или отдельного человека? По-видимому, правильный ответ где-то посредине. Одинаково опасны и диктат общества в ущерб разумным правам индивидуума, и полный отказ последнего от обязанностей и ограничений, неизбежных, если живешь в обществе. Конечно, стерилизация преступника-рецидивиста, или наркоманки, или больной СПИДом ущемляет их демократические свободы. Но ведь обычно им дети и не нужны. Да и что за детство ожидает ребенка, если его отец не вылезает из тюрем, если еще до рождения мать заразила ребенка СПИДом или повредила его мозг «крэком»? Почему бы не предупредить появление на свет этих несчастных? Нет, нет, возражают «перевернутые либералы» и выкладывают свой козырной аргумент – ведь к такой принудительной стерилизации призывал Гитлер! Странная логика. Если Гитлер был вегетарианцем, неужели поэтому все вегетарианцы – нацисты? Кстати (уж коли опускаться до аргументов подобного уровня), сторонником принудительной стерилизации задолго до Гитлера был его злейший враг Черчилль. Еще в 1910 году, возглавляя британское Министерство внутренних дел, он настаивал на стерилизации «умственных дегенератов».
* * *
Прилетев в Нью-Йорк, я взял через месяц первую подвернувшуюся работу – лаборантом по эхокардиографии у частнопрактикующего врача. Пришлось приврать, что знаком с этой методикой. Учился на ходу, но мой хозяин был терпелив – он платил мне в два раза меньше, чем пришлось бы платить американцу. Спустя несколько месяцев я освоился на работе, перевел дыхание, стал осматриваться. Чтобы работать врачом, требовалось преодолеть два экзамена по медицине (первый – однодневный, второй – трехдневный) и экзамен по английскому языку. Сидел над учебниками все нерабочее время, сдал первый экзамен по медицине, через год второй. Споткнулся на экзамене по английскому, точнее, на разделе – разговорная речь. Проигрывалась пленка с короткими диалогами на житейские темы. После каждого – простенький вопрос: о чем шел данный разговор, или где он происходил, или в какое время года и т. п. Из четырех приведенных ответов в течение минуты надо было выбрать и пометить правильный. Казалось бы, несложно. Но тут я с ужасом обнаружил, что просто не готов к темпу разговорной речи. Мой мозг еще медленно и тупо соображал – о чем это они там говорили, как уже начинался следующий диалог. Провалив английский, пошел в радиомагазин, купил дешевенький приемник, настроился на станцию, которая круглосуточно передавала только новости. Чем бы я дома ни занимался, приемник бомбардировал мои уши английским. Не выключал приемник даже ночью, когда спал. Каждый месяц приходил на экзамен. Пятый «заход» оказался успешным.
* * *
Давно покинул Россию. А душа все там, и боль моя там. Среднестатистический советский человек всегда был неважным работником – таким в массе и остался. Крах большевистского режима он понял однозначно: раньше подворовывал, теперь можно вовсю воровать. Огромная карательная машина, следившая прежде за каждым его шагом, рухнула, а моральных ограничений у него самого оказалось маловато. Прекраснодушные либералы, внутренние и зарубежные, обсуждают сейчас пути демократических преобразований в новой России. А мне видятся наивные портняжки, припасшие блестящие пуговицы, красивые нитки, модные выкройки и собирающиеся пошить костюм самого современного западного фасона. Да вот беда – материал им достался гнилой, все расползается, и никакие пуговицы, нитки, выкройки не помогут. Проблема человеческого «материала» не нова. Три с половиной тысячелетия назад Моисей водил евреев по сравнительно небольшому пятачку Синайского полуострова; водил сорок лет, пока все вышедшие из плена египетского и сохранившие рабскую психологию не умерли; лишь их детям было даровано войти в землю обетованную. Более или менее нормальное общество западного образца сформируется в России, дай-то Бог, через одно-два поколения. А пока ей и Пиночет какой-нибудь очень бы сгодился. Если только можно найти в России хотя бы одного честного Пиночета.
* * *
Сдав экзамены и пройдя затем обязательную стажировку в больнице, я открыл маленький врачебный офис. Пациентов поначалу было мало, заработков тоже. Потом обнаружил еще одно обширное поле деятельности – старческие дома. В Америке родители и взрослые дети живут обычно порознь. И наступает пора, когда старики уже не в состоянии обслуживать себя. Одним везет, и они быстренько умирают. А другие оказываются в старческих домах. Уход здесь совсем неплохой, в комнатках стоят телевизоры, кормят вкусно, если надо, то и с ложечки. Круглосуточно дежурят медсестры, по часам раздают лекарства, при нужде – подмывают и переодевают. И все равно впечатление необычайно грустное. Ежемесячно навещаешь такого пациента и горестно наблюдаешь постепенный, необратимый распад и тела, и души. Поэтапно убывает память. Сначала теряется ориентировка во времени – человек забывает, какое сегодня число, какой месяц и год. Потом нарушается ориентировка в пространстве – он не осознает, где находится. И последним стирается из памяти собственное имя. Иногда такой бедолага уже не может ходить и даже сидеть. Уставившись глазами в одну точку на стене, он лежит неподвижно в постели. Руки и ноги, согнутые в локтях и коленях, поджаты к животу, как это было когда-то в утробе матери. Каждые пару часов медсестры переворачивают больного с боку на бок – и все равно образуются пролежни, течет гной. Сколько ни смотри, к этому не привыкнешь. Да минует меня чаша сия.
17
Был поздний вечер, начало двенадцатого. Таня уже спала, дышала почти неслышно. Лунный свет из окна освещал ее голое плечо, короткие завитки волос на затылке. Дэнис осторожно, чтобы не разбудить ее, выскользнул из-под одеяла, накинул халат, вышел на крыльцо.
Полная луна висела над притихшей «столицей мира». Звездное небо прочерчивали огоньки самолетов, заходящих на посадку в нью-йоркские аэропорты Кеннеди и Ла Гардиа. Дневная жара отпустила, со стороны океана дул легкий ветерок. Дэнис присел на ступеньки крыльца, потер ушибленное днем предплечье. Саднило уже меньше.
До Тани у него было немало женщин – с одними все ограничивалось несколькими встречами, с другими случались затяжные романы с размолвками, ревностью, примирениями. В постели женщины вели себя по-разному: были страстными или холодными; громко стонали, или не издавали ни звука, или бормотали что-нибудь сладко-непристойное. Но с каждой – Дэнис знал заранее – ему предстояло пройти в постели через те же три фазы: нарастающего возбуждения, потом максимального взлета, ослепительного, как вспышка молнии, и потом глубокого провала, когда наступала полная опустошенность, хотелось закрыть глаза, прийти в себя.
С Таней было по-другому. Если бы потребовалось определить одним словом, какое чувство испытывал он с ней, это была нежность. Нежность отодвигала приход второй фазы. По многу минут Дэнис зацеловывал ее губы, мочки ушей, шею, груди. Она всегда лежала молча, с закрытыми глазами, но он слышал ее прерывистое дыхание, ладонь ощущала короткие толчки дрожи, пробегавшие по ее гибкому, послушному телу. Дэнис знал: в этот миг они – одно целое… А потом, усталый, он лежал рядом с ней и не чувствовал никакой опустошенности. Все та же нежность переполняла его, и он благодарно шептал ей глупые и счастливые слова.
Они прожили вместе уже три года. Все в Тане было ему по сердцу: ее отзывчивость к людям, бескорыстие, здравый смысл, мудрая уступчивость, трудолюбие, кошачья чистоплотность. Правда, уступчивость была до определенной черты – Дэнис знал, что ни он, никто другой не заставят Таню сделать что-нибудь против совести, что-нибудь с ее точки зрения непорядочное. Порой его даже охватывали сомнения – может, просто ослеп от любви и идеализирует? Однажды она пришила к его рубашке оторвавшуюся пуговицу. Одевая рубашку, Дэнис обнаружил, что пришито не так. За годы холостяцкой жизни он твердо усвоил: пришив пуговицу, надо затем обмотать нитку несколько раз вокруг «ножки», так будет прочнее. А Таня этого не сделала. Придя на кухню, где она готовила завтрак, Дэнис радостно рассказал о своем открытии.
– Чему же ты радуешься? – спросила она.
– Если я сразу заметил даже такой крохотный недостаточек, значит, все прекрасное, что вижу в тебе, – не плод моего воображения!
Дэнису вспомнились слова из книжки какого-то давнего французского автора. Ее читала Таня; из любопытства Дэнис тоже заглянул, полистал страницы. Те безыскусные слова завершали рассказ о двух влюбленных, соединившихся после многих злоключений: «А потом они жили долго и счастливо и умерли в один день». Неужели это правда: у каждого есть на свете половинка, и остается пустяк – найти друг друга?
Покружив возле фонарика, который висел над крыльцом, на перила уселась синяя бабочка – необыкновенной величины и красоты. Такие водятся только в тропиках. Как она оказалась в Нью-Йорке? Лунный свет, отражаясь от блестящих каемок на ее подрагивающих крыльях, серебристыми нитями уходил в ночное небо. Через минуту бабочка оторвалась от перил, мягко скользнула к забору и вдруг исчезла, как будто пронзила его насквозь. В неверном свете фонарика Дэнису показалось, что в этом месте на гладком дощатом заборе возникло на мгновение и пропало прозрачное пятнышко. Он сонно тряхнул головой. Померещилось, пора спать идти…
А Тане в это время снился сон. Покойный дед стоял возле грядок с помидорами и что-то торопливо говорил – она не могла разобрать его слов. Он был в тех самых джинсах с заплатами на коленках, но выглядел непривычно: седые волосы на голове потемнели, морщины разгладились. Только был он почему-то небритым. Таня знала – это ей снится. И все равно очень обрадовалась. Лишь сейчас она поняла, как скучает по деду. Таня потянулась к нему, поцеловала в щетинистую щеку. И дед исчез. «Как хорошо, все-таки свиделись» – растроганно думала она во сне…
Полная луна освещала и лужайку перед Белым домом, заглядывала в окна. В одной из комнат на верхнем этаже спал президент, положив щеку на ладошку. Завтра ему предстояло выступать на Генеральной ассамблее, где соберутся главы государств со всей планеты. Подготовленная речь содержала новые смелые идеи о помощи экономически отсталым странам. В мире производится достаточно продовольствия для всех жителей планеты – надо лишь организовать его справедливое распределение. Богатым государствам пора забыть о своем национальном эгоизме. Ни один родившийся на Земле ребенок не должен умереть от голода! Президент повторил во сне эту гордую фразу. Сказанная завтра с трибуны ООН, она войдет в историю, ее подхватят все сторонники общечеловеческого равенства и братства. Что, конечно же, принесет и дополнительные голоса избирателей… Но в темных закоулках сна щемила какая-то неясная тревога. Президент пытался вспомнить ее причину и не мог.
На широкой кровати под балдахином, повидавшим немало интересного, спала в одиночестве Карла Лентини. Пару месяцев назад из-за пустяковой ссоры она рассталась со своей очередной сожительницей. А завести новую все не собралась. Сон ей снился странный. Она шла по лесной тропинке и кого-то маленького вела за руку. «Кто бы это мог быть? – думала она. – Неужели мой ребенок? Да нет же…» На тропинку выползали извилистые корни деревьев. Спотыкаясь о них, малыш послушно переставлял ножки. Карла подхватила его на руки. И вдруг незнакомое чувство пронзило ее. Она прижала малыша к груди…
Фридмэн спал на диване без всяких сновидений, в той позе, как уложил его О'Браен. Выпивку наподобие сегодняшней он позволял себе нечасто, раза два-три в год. И сколько бы ни выпил, на следующий день чувствовал себя великолепно, голова никогда не болела, даже какой-то прилив энергии наступал. Фридмэн блаженно похрапывал; галстук, свесившийся с дивана, колебался в такт дыханию…
Не до сновидений было и О'Браену. Возле дома безмерно удивленный шофер помог ему выбраться из машины и осторожно довел до двери. Мимо отворившей дверь жены О'Браен ввалился внутрь и сразу же ошеломил ее словами: «Эту ночь мы проведем вместе – это будет, как симфония Моцарта». «Хорошо, милый» – послушно отозвалась она. Но, едва войдя в ее спальню, он в одежде рухнул на постель и мгновенно заснул. Позднее, проснувшись от сильной головной боли, он обнаружил себя уже раздетым. Возле постели сидела жена, поддерживая холодный компресс на его раскалывавшемся лбу. О'Браен промычал что-то благодарное, стыдливо поцеловал ее руку и опять провалился в темноту…
Полная луна продолжала свой неспешный путь среди созвездий. Затих ветерок с океана. Через несколько минут – полночь. Большая синяя бабочка, влекомая к неведомой цели, летела через мглистую Ист-ривер – из Бруклина в Манхеттен, из среды в четверг.
Четверг, 12 июля
18
Вчера, к концу рабочего дня, Дэнис получил ответы из Спрингфилда и Ньюарка. По данным полиции, за владельцем телефона в Спрингфилде ничего предосудительного не числилось. Майор американской армии, уважаемый прихожанин местной баптистской церкви, живет в собственном двухэтажном особнячке. В семье три человека: сам майор, жена – медсестра в соседней больнице, их восемнадцатилетний сын. С сыном, видимо, не все ладно. Бросил, не доучившись, школу, нигде не работает. Недавно в состоянии подпития врезался в столб на папиной машине. Но в чем-либо более серьезном не замечен.
Внушительнее выглядела информация из Ньюарка. Владельцу телефона тридцать два года. Из них один, а потом еще четыре с половиной провел за решеткой. Первый раз сел за поножовщину на школьной перемене. Второй срок, уже после окончания школы, – за групповое изнасилование. Оба раза гуманные власти освобождали его досрочно – просто потому, что тюрьмы были переполнены. В последнее время подозревается в наркобизнесе, верховодит мелкими торговцами на улицах Ньюарка, но поймать с поличным пока не удается.
На одной из дискет, которые принесла утром Пэги Мартинес, был записан телефонный разговор, состоявшийся вчера днем между Ньюарком и Спрингфилдом. Как и предыдущий, разговор был коротким. Те же голоса деловито уточнили единственный вопрос – вес пакетиков.
– Пакетики какие-то… Что об этом думаешь, Пит?
– Думаю, позавчера майоров сынок сообщал о доставке партии наркотика от оптового продавца. А вчерашний разговор – о расфасовке наркотика для розничной торговли. Конечно же, этим удобно заниматься в папином доме, пока родители на работе, – у полиции дом вне подозрений. Сегодня пакетики появятся на улицах Ньюарка.
– Логично, – согласился Дэнис. – Но нас сейчас не уличные торговцы наркотиками интересуют. Их в нью-йоркском мегаполисе – сотни, если не тысячи. Мы разыскиваем людей, которые убили охранников и похитили с военного склада миномет. Вряд ли такие люди на следующий день будут с пакетиками возиться. Не тот уровень. Эта ниточка, считай, в сторону уводит.
– Прекращаем прослушивать этот номер? – спросил Пит.
– Да нет, повременим пока. Но вероятность, что выйдем на тех, кого ищем, тут небольшая.
Следующей Дэнис засунул в проигрыватель дискету с записями из гарлемского клуба «Люди солнца». На ней были и собственно телефонные разговоры, и записанные через «жучок» разговоры в офисе. Дэнис сразу узнал заикающегося Джонатана, позвонившего из Бруклинского торгового порта вчера около четырех дня. Тот же прокуренный, хриплый голос ответил ему. Джонатан долго и сбивчиво объяснял, что денег к вечеру собрать не сможет, что в четверг получит на работе чек и сразу же принесет долг, что он никогда, никогда не обманет своего черного брата Ахмеда. Голос собеседника стал мягче: «Хорошо, притащишь завтра… Сколько же дурака учить: нету денег – не играй».
– Вот тебе и Джонатан, – вздохнул Дэнис. – Проигрался, видать, по маленькой. А мы-то заподозрили его в причастности к мокрому делу.
И еще один телефонный разговор кое-что прояснил. В девять вечера некто позвонил в клуб и передал, чтобы Винни его ждала.
– Опоздал – ее уже забрали. На всю ночь, – прохрипел Ахмед.
– Ну тогда эта… с могучей кормой.
– Нинет что ли? А ты когда завалишься?
– Дежурство заканчиваю в одиннадцать – минут через сорок-пятьдесят подъеду.
– Договорились. Нинет тоже забрали, но на пару часов. Отработает, вернется, скажу пусть ждет.
Подобных звонков, чтобы заказать проститутку, за вечер набралось несколько. Но Дэнис выделил именно этот – звонок был с того самого склада в Медвежьих горах.
– Так рушатся великие гипотезы, – сказал он Питу. – Возможно, все телефонные контакты между складом и клубом заключались только в том, что оттуда периодически названивал этот сексуально озабоченный тип. И, значит, мы опять не там ищем.
Но один разговор в офисе – вчера, часа через полтора после того, как был установлен «жучок», – все-таки привлекал внимание. Разговор между секретаршей и ее боссом Ахмедом.
– Ну, нравится тебе работа?
– Очень, сэр! Только кончила школу – и работаю. Подружки говорят, я везучая.
– Тут до тебя была уже одна. Я ее выгнал. Оказалась грязной шлюхой. Когда меня не было в офисе, она совокуплялась на этом диване сразу с несколькими парнями. Эта шлюха позорила наш клуб. Ты знаешь о целях нашего клуба?
– Немножко, сэр.
– Четыре века назад первых черных рабов привезли в эту страну. Потом в трюмах кораблей их везли еще и еще. А тех, кто подох, выбрасывали в море. Белые лицемеры объявили об отмене рабства при Линкольне. Но это были только слова. Расизм продолжается и сегодня. Посмотри вокруг. Почему мы, как свиньи, живем в самых грязных и запущенных городских районах? Почему наши мужчины составляют только шесть процентов от населения этой страны, а в тюрьмах по приговорам белых судей – их сорок четыре процента? Почему так много наших братьев и сестер больны СПИДом – он встречается среди них в восемь с половиной раз чаще, чем среди белых? Да потому, что вирус этот был специально создан в лабораториях Пентагона, чтобы искоренить черную расу!
Было слышно, как Ахмед яростно стукнул кулаком по столу.
– Все они расисты, открытые или скрытые. Даже так называемые либералы. Мортимер Зет, парень, который основал наше движение несколько десятилетий назад, услышал однажды, что разбился самолет со сто двадцатью пассажирами. И вот что сказал: «Значит, в этой стране стало на сто двадцать белых расистов меньше». А может, тебе знакомо имя другого нашего брата Джерри Джеймсона? Он когда-то выставлял свою кандидатуру в Сенат, но суки-расисты проголосовали против. В молодости Джерри подрабатывал официантом и, неся тарелку с супом из кухни к столику белого, каждый раз незаметно плевал в нее. Его не интересовало, какие у того взгляды, – белый есть белый.
Ахмед громко высморкался, под ним жалобно скрипнули пружины дивана.
– Наш клуб никогда не прекратит борьбы с этими суками. И не только с ними. Среди черных есть «дядюшки томы», которые хотят жить по правилам этого лицемерного общества и делать свою холуйскую карьеру. А мы говорим: это общество надо взорвать! И час близок! Четыреста лет мы работали на них. Пусть теперь четыреста лет они работают на нас!
– Ой, сэр, вы так хорошо говорите. А я об этом и не задумывалась.
– Пока мы одни, хочу тебя кое о чем важном проинструктировать. Защелкни дверь на замок… Садись на диван. Ближе… Если желаешь служить нашему делу и работать в клубе, запомни: ты солдат и беспрекословно подчиняешься мне, командиру… Ну, ложись, ложись…
– Ой, сэр, что вы делаете!.. Ой, я не хочу!..
Ритмично заскрипел диван, стало слышно сладострастное мычание Ахмеда. Дэвид остановил проигрыватель.
– Вот подонок! – вскочил Пит. – Вчера в их офисе я обратил внимание на эту милую девчушку. Через год он превратит ее в такую же шлюху, как и предыдущую, а потом выгонит.
Не отвечая, Дэнис опять запустил проигрыватель, чтобы повторно прослушать этот разговор: «…Делать свою холуйскую карьеру. А мы говорим: это общество надо взорвать! И час близок! Четыреста лет…» Чем взорвать? Скорее всего, обычное экстремистское словоблудие. А вдруг это про «Анджелину»?.. Нет, клуб «Люди солнца» все-таки рано сбрасывать со счетов.
19
Из тетрадок деда.
* * *
Дневные дела и мысли преломляются – проще или сложнее – в наших снах. Но существует и обратная связь. Этой ночью, через столько лет, приснилась Наташа – такой, как я увидел ее первый раз: в белом халате, накрахмаленной белой шапочке. И вот хожу весь день, как потерянный, «печаль моя светла». Мне было тогда уже тридцать девять, за спиной – шесть лет семейной жизни, развод, потом необременительная доля холостяка, разные женщины. В стылом московском январе пошел в стоматологическую поликлинику. Докторша, молоденькая, с милым русским лицом, осмотрела зубы, сказала, что все в порядке. Спустя пару дней, разузнав ее домашний телефон, набрался нахальства, позвонил и пригласил в субботу покататься на лыжах. На удивление естественно, без всякого жеманства, она согласилась. Мы начали встречаться, а через несколько недель так же естественно оказались в постели. До того бывали у меня и покрасивее, и пообразованнее, но ни с кем не чувствовал себя так удивительно легко. Безотцовщина, дворничихина дочка, она сама пробилась в институт; в годы учебы подрабатывала по ночам санитаркой в больнице. Много читала, много думала о жизни, мне было интересно говорить с ней. Никогда не ощущал, чтобы у нее были на меня особые виды, да и сам не очень задумывался на сей счет. Был я в ту пору общительный, энергичный, самоуверенный, легко плыл по жизни. Недоуменно перехватывал иногда изучающий взгляд Наташи. Задним умом все мы крепки – сейчас понимаю, что надо было бороться за нее и делать себя лучше. Но я считал, что и так не плох – подлостями себя в жизни не мараю, к ней отношусь нормально, чего еще нужно? В декабре Наташа сказала, что нам надо расстаться. В таких случаях долгие выяснения отношений бессмысленны. По сей день толком не знаю, что послужило непосредственной причиной; может, просто не любила… И мы расстались.
* * *
Демократией называют такое общественное устройство, когда, имея одинаковые политические права и свободы, все люди на равных, через выбранных ими представителей, управляют государством. Звучит великолепно. Но прежде, чем строить демократическое общество, скажем, внутри племени каннибалов, не лучше ли изменить сперва их вкусовые предпочтения? Проще говоря, до демократии надо дорасти. Причем полная демократия идеальна лишь для народа, состоящего сплошь из Гомо сапиенс. Однако такого народа на Земле не существует. У каждого есть своя прослойка асоциальных элементов, отребья, Гомо инсанус. И чем больше удельный вес этой прослойки (а он разный у разных народов), тем опаснее центробежные силы, раздирающие общество. В таких случаях демократия нуждается в ограничениях. В иерархии человеческих ценностей она никогда и не стояла на первом месте. Главная ценность – сама жизнь. Если, например, данное общественное устройство, обеспечивая безбрежные демократические свободы, развязывает руки преступникам, а законопослушный гражданин боится выйти вечером на улицу, он, несомненно, предпочтет как-то ограничить эти свободы. И на втором месте в своей иерархии ценностей он опять-таки поставит не демократию, а просто возможность быть сытым. Вот почему в условиях посттоталитарного развала и нищеты так много людей в России загрустили о прошлом. Конечно же, они перепутали причину и следствие – именно экономика, оказавшись в беспросветном тупике, вызвала крах большевистского режима, а не наоборот. И все же их грусть, если не принять, то понять можно.
* * *
Потеряв Наташу, я вдруг обнаружил, что мучительно тоскую по ней. Клин вышибают клином – пробовал встречаться с другими. Но теперь после каждой оставалось чувство опустошенности и стыда – не то, не мое. Начал писать стихи. Доктор Фрейд прав: сублимация, творчество убавляли тоску. Но лишь на время. Забыв о гордости, приходил пару раз вечером к ее дому возле площади Маяковского. Упирался глазами в освещенное окно комнаты на втором этаже, где она жила с матерью. Иногда там мелькала Наташина тень. Потом, бормоча стихи, свои и чужие, ехал в полупустом вагоне метро к себе на проспект Вернадского. Много лет спустя Наташа призналась, что тоже переживала тогда, боялась, не проглядела ли настоящее. Однажды не удержалась и позвонила мне, но телефон молчал. Быть может, как раз в этот час я болтался под ее окнами. Такая вот невезуха… Приспело время моей эмиграции – я позвонил Наташе. Она уже была замужем. Сказала мужу, что должна попрощаться с давним другом, уезжающим навсегда. Мы встретились у памятника Пушкину и долго бродили по Москве, по талым мартовским лужам. Грустно молчали. И без слов все было ясно. На прощанье она попросила: «Пиши хоть изредка. Чтобы знать, что ты жив». И я канул в «антимир». К чему было писать – только бередить рану…
* * *
Отличительная черта фанатика – изначальная нетерпимость ко всем, кто думает иначе, нежелание прислушаться к здравому смыслу, пойти на компромисс. Вот, вроде бы, частный вопрос – об абортах. Здравый смысл подсказывает: их запрет ничего не даст. Тогда женщина, решившаяся на аборт, пойдет не к врачу, а к подпольному абортмахеру. Да и, казалось бы, ничего страшного, если у нее будет меньше детей, но зато каждый – любимый и жданный. «Нет, – с пеной на губах отвечают консервативные противники абортов, – человеческая жизнь священна, даже если это плод в утробе матери». Недавно один из таких «гуманистов» в знак протеста убил врача, делавшего аборты; о священной человеческой жизни он почему-то позабыл. Теперь появились новые таблетки. Принятая наутро, после ночи любви, такая таблетка предупреждает внедрение оплодотворенной и успевшей всего несколько раз поделиться яйцеклетки в стенку матки. Но противники абортов начеку. По их логике, оплодотворенная яйцеклетка – это уже живое существо, и, следовательно, таблетка совершает убийство. Остался один шаг, и они встанут грудью на защиту жизни и достоинства каждого сперматозоида.
* * *
Всего трех месяцев не дотянул папа до девяностолетия. В последние годы он както усох, уменьшился в росте, но сохранял свое обычное жизнелюбие, ясный ум. Жил он один, не желая ни от кого зависеть. Раз-другой в неделю отвезу его на своей машине в супермаркет, он пополнит запасы в холодильнике, заварит крепкий чай по собственному рецепту, усядется за стол. На столе куча раскрытых книг с пометками на полях, листки с набросками статей на разные темы – от научно-популярных до политических. Человек был при деле, не терял вкуса жизни. А потом приключился удар, парализовало левую сторону. Такие паралитики при надлежащем уходе могут потянуть еще годы и годы, уж я на них насмотрелся в старческих домах. Но эта доля была не для папы. Несмотря на уговоры, он отказывался от лекарств – хотел умереть. И в душе я понимал его. За два дня до смерти, когда я пришел в больницу, он был уже без сознания. В тишине одноместной палаты был слышен каждый его вдох и выдох, они ослабевали иногда и опять усиливались. Мысль о близком расставании пронзила душу; сидя возле кровати, я уткнул лицо в свои ладони и разрыдался. Потом из коридора заглянула медсестра, я заставил себя успокоиться, взял папину руку. Он лежал с закрытыми глазами. И вдруг губы его шевельнулись и внятно произнесли два слова, последние в его жизни: «Витенька, Витенька…» Сквозь смертную мглу, окутавшую его мозг, пробилось все-таки мое рыданье, и он попытался еще что-то важное мне сказать.
20
Все утро Дэнис с Питом продолжали прослушивать дискеты. Ничего существенного. Оставалась последняя, когда позвонил О'Браен.
– Я бы не стал отвлекать тебя от дел, амиго. Но вечером предстоит разговор на самом верху. Вот и хочу узнать, есть ли какой прогресс?
– К сожалению, топчусь на месте. Прослушиваю телефонные разговоры, через них пытаюсь выйти на возможного соучастника, который работает на складе. Пока безрезультатно.
– У наших друзей тоже успехом не пахнет. Они проверили всех, кто работает на складе. По их словам, никаких зацепок. Кстати, неподалеку от склада они обнаружили полянку со следами автомобильных шин, да еще окурок с остатками слюны. По слюне надеются потом идентифицировать преступника.
– Тут мы как раз можем им легко подсобить, – хмыкнул Дэнис. – Я этого курильщика видел час назад в коридоре… Помните Чарли из дактилоскопического отдела? Он и раздавил в песке окурок перед тем, как начал работать с машиной.
– Так, значит, вы опередили наших друзей и нашли машину, пока те хлопали ушами? – О'Браен довольно расхохотался.
– Сейчас она у нас в управлении. Машину угнали за несколько часов до событий на складе. А потом похитители бросили ее, уехав на армейском фургоне. К сожалению, внутри машины нам удалось обнаружить лишь отпечатки пальцев ее владельца. Видимо, похитители работали в перчатках.
– Амиго, ты сегодня скромничаешь, пожалуй. Все же найденная машина – хоть и маленький, но успех. Вы ее сфотографировали?.. Давай так договоримся. Приготовь один снимок для меня. В семь у нас эта встреча в Нью-Йорке, и я буду рад сунуть снимок кое-кому под нос. В управление, чтобы забрать его, заеду около полшестого. Тогда и поговорим. К тому времени, может, и еще что-нибудь пронюхаешь. День-то – он долгий…
Дэнис засунул в проигрыватель последнюю остававшуюся дискетуу. На ней были записи, полученные при прослушивании телефона в Бронксе. Того самого, откуда позавчера несколько раз безуспешно пытались дозвониться до района многоквартирных домов по Девяносто девятой стрит в Манхеттене. Вчера вечером это, наконец, удалось. Говорили два голоса, женский и мужской:
– Нормэн?
– Да.
– Куда ты пропал? Я звонила вчера, позавчера. В понедельник утром ушел от меня – даже не попрощался. Я проснулась, когда хлопнула дверь и задребезжала посуда в кухонном шкафчике… Что ты молчишь?
– Слушаю тебя. Это ты образно описала эффект хлопающей двери.
– Но все-таки почему с понедельника не отвечал твой домашний телефон?
– С понедельника много интересного случилось. Да и дома меня не было. Зашел сейчас, чтобы принять душ, переодеться, и опять ухожу. Очень занят.
– Значит, нашел работу?
– Да нет, – мужчина хихикнул, – правильнее назвать это «хобби».
– А что с прежней работой? Пришел, наконец, ответ на твою жалобу?
– Как раз в понедельник вытащил из почтового ящика. Эти мерзавцы написали: «Уважаемый мистер Фицпатрик, увольнение было полностью обоснованным». Вышвырнули на улицу, в пособии отказали… Они думают, что поставили в деле точку. Ошибаются, точку поставлю я – нет, не точку, а большой, большой восклицательный знак! – повысив голос, мужчина зашелся в кашле; потом успокоился. – Слушай, а как твой кашель? Прошел?
– Нет.
– Ходила к врачу?
– Нет, – женщина вдруг всхлипнула, – я боюсь!
– Бояться надо было раньше. Сколько раз говорил, чтобы не брала мой шприц.
– Ишь теперь чистенький какой. А кто меня колоться научил?
– Слушай, ты ведь с матерью давно не виделась… Слетала бы к ней в Чикаго… Прямо завтра утренним рейсом и отправляйся.
– Ты меня не выпихивай! – взвизгнула женщина. – Если нашел другую, скатертью дорога, приставать не буду!
– Значит, не хочешь мать повидать, – задумчиво сказал мужчина. – Может, и правильно рассудила… Ну, мне пора.
– Норми, подожди! Куда же ты?
– Иду громко хлопнуть дверью. Прощай.
Дэнис прослушал этот разговор еще раз: «с понедельника много интересного случилось»; «точку поставлю я – нет, не точку, а большой, большой восклицательный знак»; «иду громко хлопнуть дверью»… Тут что-то нечисто. Конечно, потом может опять оказаться, что к «Анджелине» это не имеет отношения. Но проверить все-таки следует. Парень упомянул, что дома сейчас не бывает. Неплохо бы осмотреть его жилье. Вещи иногда рассказывают о своем хозяине удивительно правдиво.
Дэнис заполнил форму для Министерства юстиции, запрашивая разрешение на обыск квартиры Нормэна Фицпатрика – в отсутствие хозяина. Форму отправил факсом Фридмэну.
21
Обычно на ланч президент подымался в свою небольшую уютную столовую на втором этаже Белого дома. Так было заведено покойной женой. По-прежнему в полпервого он усаживался за стол, разворачивал на коленях крахмальную салфетку, подымал глаза к двери, ждал – сейчас дверь откроется, и войдет жена. Но входила Рози, их давняя, чуть ли не с первых месяцев семейной жизни, служанка. Толстая, подвижная негритянка, она была на пять лет старше жены. Рози – уже шестьдесят четыре. А жена два года назад, всего в пятьдесят семь, легла в могилу. Проклятый рак…
Одному, без жены, сидеть за столом было тоскливо. Поэтому президент обычно приглашал на ланч кого-нибудь из своих сотрудников. Сегодня это был Фридмэн. Перед их поездкой в Европу следовало обговорить некоторые дела.
Начало июля принесло президенту немало новых забот. Почти каждый день в столице проходили всевозможные демонстрации, митинги. На тракторах съезжались в Вашингтон фермеры со всей страны, добиваясь дополнительных государственных субсидий. По Пенсильвания авеню, от Белого дома к Капитолию, сплоченными рядами шествовали зараженные СПИДом – они требовали резко увеличить ассигнования на медицинские исследования в этой области. Получатели вэлфера протестовали против недостаточного размера пособия, что не позволяло им вести образ жизни, достойный американского гражданина. Еженедельно случались уличные стычки между теми, кто настаивал, чтобы за произведенный аборт, если он сделан по желанию женщины, платило государство, и их противниками, рассматривавшими любой аборт как уголовно наказуемый. Каждая протестующая группа тянула одеяло на себя. Но в год выборов президент не имел права терять голоса ни одной из них. Ему приходилось всем что-то обещать, изворачиваться, транжирить еще и еще деньги из казны, увеличивая ее уже и без того огромный долг.
А только что начался шумный скандал, связанный с однопартийцем президента – сенатором Коннели. Тот представлял в Сенате важнейший штат в избирательной гонке – Калифорнию. На прошлой неделе, в День независимости, когда этот добрый семьянин и примерный христианин возвращался около полуночи с холостяцкой вечеринки, его машина свалилась с моста в реку. Сенатор, к счастью для себя и для избирателей, выплыл. Бросив в машине под водой пьяненькую секретаршу, он добрел до гостиницы на берегу, где и заночевал благополучно. Политические противники мертвой хваткой уцепились за этот скандал, вовсю старались его раздуть. Президенту следовало выработать правильную линию поведения. Через неделю – по его возвращении из Европы – был запланирован большой предвыборный митинг в Лос-Анджелесе с двумя главными ораторами: президентом и Коннели. Но разумно ли сейчас показываться рядом с Коннели? Не лучше ли под каким-нибудь благовидным предлогом отменить свое участие в митинге?
Намазывая тонкий слой творога на хрустящий сухарик, президент задумчиво говорил Фридмэну:
– Я могу понять: человек малость перебрал, машина потеряла контроль, свалилась с моста. Не очень хорошо, но и только. Думаю, каждый нормальный мужчина отыщет в памяти какое-нибудь автомобильное происшествие, когда он был виноват. Тот факт, что наш друг Коннели оказался никудышным джентльменом, даже не попытавшись вызволить из машины секретаршу, его, конечно же, не красит. Хотя и это могу понять. В конце концов, нигде не записано, что американский сенатор обязан рисковать жизнью из-за секретарши только потому, что переспал с нею. Но одного никак не пойму. Почему, заявившись в гостиницу, он не обратился сразу за помощью, не позвонил в полицию? Ведь еще оставался какой-то шанс на спасение секретарши. Неужели он был пьян столь мертвецки и заснул, начисто все позабыв?
Фридмэн хитро прищурился:
– Да нет, сэр, он не спал. Пронырливые газетчики разнюхали, что из гостиничного номера он немедленно сделал несколько телефонных звонков – своим адвокатам.
– Так почему он не мог сделать еще один звонок – в полицию?
– У человека, совершившего серьезную автомобильную аварию, сразу же берут кровь на анализ.
– И что с того? Обнаружили бы следы алкоголя. И так ясно.
– Сэр, при этом в крови проверяют наличие не только алкоголя, но и наркотических веществ.
Президент отодвинул тарелку, изумленно уставился на Фридмэна:
– У вас есть основания предполагать и это?
– Лишь в качестве гипотезы, сэр. Но такая гипотеза сразу же делает понятным, почему сенатор позвонил в полицию только утром. Когда наркотические вещества уже исчезли из крови.
Президент грустно покачал головой:
– Выходит, Коннели – еще больший сукин сын, чем я полагал.
– Но он – наш сукин сын! За его спиной отлаженная партийная машина крупнейшего штата страны. И как ни противно, на митинге в Лос-Анджелесе вам следовало бы выступить, своим присутствием показывая, сколь несправедливы наскоки консерваторов на этого чистейшего человека.
Ничего не отвечая, президент опустил голову, расправил на коленях салфетку.
– Сэр, вы знаете не хуже меня: политика – грязное дело, не для белоручек. Иногда мы вынуждены заниматься ею, зажав нос. Но ведь кто-то должен ею заниматься. Страна – на пороге больших перемен. Добившись переизбрания, вы могли бы принести пользу этой стране, двинуть ее в нужном направлении.
Президент, помолчав, кивнул:
– Хорошо, об участии в этом митинге я еще подумаю, посоветуюсь кое с кем…
После ланча Фридмэн коротко доложил о некоторых текущих вопросах, курируемых непосредственно Советом национальной безопасности. Среди этих вопросов одним из важнейших был международный терроризм. Надежды, что наступивший двадцать первый век станет более «вегетарианским», чем его предшественник, пока не оправдывались. Скорее, наоборот. Безумие терроризма захлестнуло все континенты, такого еще не бывало. Фанатики, принадлежащие к разным течениям ислама, самозабвенно уничтожали «неверных», да и друг друга тоже; им давно стало тесно в границах своих стран – улицы европейских и американских городов все чаще содрогались от их бомб. В Северной Ирландии экстремисты-католики и экстремисты-протестанты продолжали выяснение отношений и не могли остановиться вот уже несколько десятилетий. Террористы из перуанской «Сияющей тропы», колумбийского «Движения 19 апреля», палестинского «Хамаса», сепаратисты-баски в Испании, тамилы на Цейлоне, курды в Турции все так же привычно пытались решить свои проблемы проторенным путем человекоубийства. И меры, принимаемые правительством Соединенных Штатов, других развитых стран, практически не давали результатов. Только-только ценой огромных усилий пожар терроризма удавалось загасить в одном месте, как он тут же вспыхивал по соседству, еще сильнее. Фридмэн невесело подытожил:
– Боюсь, третья мировая война уже началась. Война террористов всех мастей против остального мира.
Президент усмехнулся:
– Вы, Арни, чересчур мрачно на это смотрите. Ведь терроризм – тоже следствие общественной несправедливости. Но социальный прогресс неостановим. Рост образования, борьба с нуждой, особенно в отсталых странах, ликвидируют раньше или позже питательную среду терроризма. И сегодняшний доклад на Генеральной ассамблее, наши предложения по избавлению всех людей на земле от голода – еще один шаг в нужном направлении.
Фридмэн неопределенно повел плечами, ничего не ответил.
В заключение они обсудили, как обстоит дело с «Анджелиной». Ответ ЦРУ на запрос Фридмэна был коротким: ЦРУ не располагает прямыми или косвенными данными, что какое-либо экстремистское государство или организация планируют похищение американского ядерного оружия. Ответ, конечно, не очень внятный. То ли, действительно, никто этого не планирует, то ли планирует, да ЦРУ сведениями не располагает. Как считал Фридмэн, вероятность, что бомбу собираются задействовать внутри страны, невелика. Иначе похитители уже дали бы о себе знать, позвонив в газеты или на телевидение, выдвинув те или иные требования. Фридмэн также рассказал о своих вчерашних беседах с Лентини и О'Браеном. Практически поиск бомбы военной контрразведкой зашел в тупик. А время не ждет.
– Итак, – вздохнул президент, – пора передавать дело в руки ФБР. Вы с Лентини будете сегодня на моем выступлении в ООН. Оттуда вместе поедем в мою резиденцию. Надеюсь, вы позаботились, чтобы О'Браен был там к семи?.. Вот тогда и примем окончательное решение.
Президент условился встретиться с Фридмэном через час на вертолетной площадке во дворе Белого дома, чтобы лететь вместе в Нью-Йорк. Потом он прошел в спальню, где возле открытого чемодана его уже ждала верная Рози. Надо было собраться перед поездкой. Президент почувствовал вдруг какое-то усталое безразличие и присел на кровать.
– Рози, дорогая, собирай сама. Столько раз это делала. Пожалуй, лучше меня знаешь, какие рубашки и костюмы уложить.
Он взял с тумбочки фотографию жены. Молодая, красивая, счастливая. Ему до мельчайших подробностей запомнились краски и запахи давнего солнечного дня, когда фотографировал ее. Они год, как поженились, ждут ребенка, но по стройной фигуре жены этого еще не заметно. Она стоит возле молоденькой цветущей черешни, посаженной им во дворе их дома, глаза широко и доверчиво открыты, они видят впереди долгую и счастливую жизнь. И вот жены уже нет. Господи, как же быстро все проходит…
Рози кончила возиться с чемоданом, сбоку подошла к президенту и тоже засмотрелась на фотографию, положив ему руку на плечо. Президент, не оборачиваясь, благодарно погладил эту черную шершавую руку. После смерти жены остались только два человека, которым ее не хватает каждый день. Это он и Рози. Дети не в счет, у них своя жизнь. Президент встал с кровати, положил фотографию в чемодан – он всегда брал ее с собой в дорогу. Закрыл чемодан. Пора ехать.
22
Из Министерства юстиции разрешение на обыск квартиры Нормэна Фицпатрика пришло по факсу после перерыва. Дэнис бросил взгляд на часы: уже четверть третьего. А в полшестого – встреча с О'Браеном. Маловато времени, чтобы обернуться с обыском, особенно если что-нибудь серьезное обнаружится. Пожалуй, лучше отложить до завтра.
Фотография найденной ими машины уже была приготовлена для О'Браена. Все дискеты прослушаны. Следующую их партию Пэги Мартинес принесет завтра утром. Пит полулежал, откинув черную курчавую голову на спинку мягкого кресла. Руки расслаблены, глаза закрыты. В свободную минуту он иногда занимался медитацией по какой-то там модной системе. Уверял, что после этого улучшается скорость мышечных реакций.
Дэнис снял телефонную трубку, набрал номер Фицпатрика. Зазвучали долгие монотонные гудки. Никого нет.
– Пит, давай быстро переодеваться. Все-таки познакомимся сегодня, хотя бы предварительно, с той квартирой. И не забудь свои отмычки.
– Они у меня в машине, шеф…
Многоквартирные дома из красного кирпича по Девяносто девятой стрит были исписаны на уровне первого этажа непристойными словечками, а также анатомически грамотными изображениями соответствующих частей тела. Деревянные рейки, огораживающие газоны во дворе, поломаны, трава вытоптана. Заглушка пожарного гидранта отвернута, из него бьет мощная струя воды. Под струей прыгают молодые обитатели домов – приятно освежиться в летний день.
Перед тем, как выйти во дворе из машины, Дэнис опять набрал на своем мобильнике телефонный номер Фицпатрика – послышались долгие гудки, никто не снимает трубку… В подъезде, куда зашли Дэнис и Пит, пахло мочой. Они были одеты, как и вчера. Дэнис приберег даже вчерашнюю пустую банку из-под пива, держал ее в руке. Квартира Фицпатрика располагалась на третьем этаже. Дэнис остался на одну лестничную площадку ниже – чтобы увидеть заранее, если кто-нибудь пойдет со двора. Пит достал отмычки и начал колдовать над замком. Замок оказался непростой, только минуты через три Пит повернул голову и кивнул – открыто.
Теперь они поменялись местами. Пит непринужденно уселся на лестнице, в руке банка пива – человек отдыхает. Еще в машине они договорились: если Фицпатрик неожиданно заявится, Пит нажмет кнопку радиопередатчика под лямкой комбинезона, предупреждая Дэниса. В таком случае Фицпатрика придется задержать – в тот момент, когда он будет открывать дверь. Задержать хотя бы временно, для допроса.
За дверью Дэнис обнаружил маленькую прихожую, прямо – вход на кухню, налево – в комнату. Все замусорено. На кухонном столике – засохшие остатки пищи, тут же пустой шприц и резиновый жгут, который накладывают на руку перед внутривенной инъекцией. Это понятно…
В комнате – неприбранная кровать, в углу стол, на нем разбросанные бумаги. Еще какие-то бумаги наколоты на гвоздики, вбитые в стену около стола. Дэнис подошел ближе. На одном из гвоздиков висела газета – первая страница «Нью-Йорк Таймс» за прошлую пятницу. Газетный лист оборван неровно, в левом верхнем углу остался кусочек смежной страницы, на ней виден чей-то левый глаз и половина лба… У Дэниса пересохло во рту. Оторванный лист – с фотографией Фридмэна на шестнадцатой странице – был найден позавчера на заднем сиденье угнанной машины!
Он оглушенно присел на стул возле стола. Все-таки сработал его метод. И меньше, чем за три дня; впрочем, в этом как раз просто повезло, могло пройти и намного больше времени. Но все равно – молодец. Будет о чем доложить О'Браену сегодня.
Среди бумаг на столе Дэнис увидел два вскрытых конверта. На одном – обратный адрес Генеральной инспекции Министерства обороны, другое – из врачебного офиса. Первым он достал из конверта письмо от врача, отправленное еще три недели назад. «Мистер Фицпатрик, анализ Вашей мокроты показал присутствие в ней грибка Пневмоцистис карини. Это объясняет имеющиеся у Вас симптомы пневмонии с сухим кашлем, одышкой, повышенной температурой. Я уже звонил Вам и рекомендовал начать лечение анитибиотиками, что может увеличить продолжительность жизни. Вы обещали, но так и не пришли на прием в назначенный день. Как показывает статистика, без лечения у больных СПИДом, осложнившимся такой формой пневмонии, средняя продолжительность жизни исчисляется всего несколькими месяцами… Это письмо отправлено заказной почтой, его копия будет храниться в Вашей истории болезни. Тем самым я выполнил свою обязанность и поставил Вас в известность о прогнозе. С уважением…»
Теперь ясно, почему в телефонном разговоре Фицпатрик спрашивал у своей подружки, ходила ли та к врачу. Обычная история. Сначала наркотики внутривенно. Потом, раньше или позже, прилипает эта смертельная зараза – СПИД. Потом через общую иглу или половым путем инфекция передается партнеру. И вот впереди уже маячит смерть, остались считанные месяцы. Такому парню, действительно, терять нечего.
О содержании второго письма, из Министерства обороны, Дэнис приблизительно догадывался. «Уважаемый мистер Фицпатрик, проверка показала, что приказ о Вашем увольнении от 3 апреля сего года полностью обоснован… Начальник караула сержант Кори, обходя склад, застал Вас, делающим себе внутривенную инъекцию… Согласно инструкциии, немедленно препроводил Вас в военный госпиталь… В шприце обнаружены остатки героина… Высокая концентрация опийных алкалоидов в Вашей крови… По ходу вен на обоих предплечьях – множественные точечные рубцы, следы предыдущих инъекций… Абсолютно несовместимо с пребыванием в рядах…» Все сходится. И то, что бомба была похищена, когда опять дежурил сержант Кори, – очень, видимо, хотелось всадить пулю между лопаток именно ему. А также то, что доблестные представители военной контрразведки, проверив всех работающих на складе, не нашли никакой зацепки, – ведь Фицпатрика уволили на три месяца раньше, он выпал из поля их зрения.
Еще два толстых пакета, розовый и коричневый, лежали на столе. В розовом Дэнис обнаружил пачку фотографий. На первой – белокурый, голубоглазый малыш на руках у молодой женщины; на обороте полустершаяся надпись: «Норми и мама». Тот же мальчик постарше, классе в пятом, – среди сверстников на баскетбольной площадке; благополучные дети из зажиточного белого пригорода. Вот и девушки рядом появились – молоденький кадет Нормэн Фицпатрик в форме военного училища. А этот его снимок, пожалуй, последний – глаза тоскливые, здорово исхудал, при СПИДе быстро теряют вес. Фотографии, вместившие всю недолгую жизнь, которая катится теперь к концу. Их перед уходом разглядывал, видимо, сентиментальный владелец.
В коричневом пакете хранились всевозможные счета: за квартиру, электричество, телефон. А вот какая-то мятая квитанция из гаража… Дэнис знал этот гараж на Двадцать третьей стрит, недалеко от шоссе Рузвельта. Обычно секции гаража были заняты автомобилями-рефрижераторами, привозившими в Нью-Йорк свежую рыбу, мясные продукты. Согласно квитанции, которую Дэнис держал в руке, секция номер один была арендована в понедельник, девятого июля. Осмотреть ее надо сегодня же – кто знает, вдруг фургон с бомбой сейчас там!
И еще квитанции – за последний месяц в разных местах были куплены какие-то технические узлы, детали с непонятными названиями. Зачем они Фицпатрику? Вот два листка с многоэтажными физическими формулами, расчетами. На одном – неразборчивая, дергающаяся запись; с трудом Дэнис вычленил несколько слов: «плутоний», «сжатие», «критическая масса». Стоп… О чем-то подобном – со слов Лентини – ему рассказывал позавчера О'Браен. Чтобы запустить в бомбе цепную реакцию, надо сжать плутоний. Неужели из закупленных деталей этот парень собрается сам смонтировать недостающее спусковое устройство и взорвать бомбу? Или уже смонтировал?.. Вон как обернулось. Никакая не террористическая организация – бомбу, по всей видимости, похитил одиночка. Оригинал-самоубийца, которому захотелось за компанию прихватить на тот свет еще миллионов двадцать. Как это он сказал подружке по телефону – «иду громко хлопнуть дверью»? Надумал отомстить человечеству за то, что сам разрушил до основания собственную жизнь… Таня упомянула вчера неплохой термин, вычитанный в тетрадках деда. «Гомо инсанус», кажется?.. Надо бы запомнить.
Задумавшись, Дэнис уперся невидящим взглядом в стену перед собой. Кстати, зачем Фицпатрик повесил на гвоздик эту страницу из «Нью-Йорк Таймс»? Только сейчас Дэнис обратил внимание – на ней было что-то помечено. Он привстал, приблизил глаза к газете. Заголовок, набранный крупным шрифтом: «План международного братства». Красный карандаш подчеркнул начало статьи: «В четверг, 12 июля, в 5 часов вечера президент Соединенных Штатов поднимется на трибуну ООН. Главы государств всего мира будут слушать его речь». Слова «В четверг, 12 июля, в 5 часов вечера» были подчеркнуты дважды. Сбоку, на полях, пририсован жирный восклицательный знак – в верхней части он утолщался, напоминая гриб… А вдруг подчеркнутое дважды – это время запланированного взрыва?! Дэнис бросил взгляд на свои часы – четыре тридцать семь. Господи, если так, остались всего двадцать три минуты!
Захлопнув дверь, он выбежал из квартиры и, не разбирая ступенек, кинулся вниз. Сидевший на лестничной площадке Пит вскочил и устремился следом. Они торопливо прыгнули в стоящий у подъезда «крайслер», Дэнис назвал адрес гаража на Двадцать третьей стрит.
– Кажется, фургон сейчас там… Только бы успеть!
Взревев мотором, «крайслер» выскочил со двора на Лексингтон авеню; через три квартала, на Девяносто шестой стрит, повернул налево. Полтора часа назад почти пустая, теперь Девяносто шестая стрит была полна машин. Конец рабочего дня, час пик, – чертыхнувшись, сообразил Дэнис. Обгоняя других, рискованно перепрыгивая из ряда в ряд, а иногда и на встречную полосу движения, Пит устремился в сторону Ист-ривер, на шоссе Рузвельта.
Схватив мобильник, Дэнис набрал номер Роджерса. Ответила Ширли:
– Дэнис? Вас не видно и не слышно уже третий день. Как поживаете?
– Ширли, срочно соедините меня с Роджерсом!
– Ой, он только что вышел. Кажется, в технический отдел.
– Дорогая, отыщите его! Мне сейчас срочно нужны в помощь несколько агентов. Собираюсь брать вооруженного преступника по тому делу, что поручил О'Браен. Запишите адрес…
Когда «крайслер» въезжал на шоссе Рузвельта, было сорок две минуты пятого. Между Девяносто шестой и Двадцать третьей стрит по шоссе Рузвельта – четыре мили. Каких-нибудь пять минут езды – если бы не час пик. Все ряды на шоссе были забиты медленно ползущими машинами, не протолкнуться. Можно, конечно, выскочить с шоссе на пересечении с Семьдесят девятой стрит и попробовать по Второй авеню, но там на всех перекрестках светофоры – как бы не получилось еще дольше. Слева от шоссе на поверхности грязноватой Ист-ривер переливались нефтяные разводы. Справа неторопливо проплывал Манхеттен. Четыре сорок восемь – Рокфеллеровский институт. А если не успеем?.. Четыре пятьдесят – дуга моста Квинсборо над головой. Господи, а как же Таня?!. Четыре пятьдесят три – прямоугольная стекляшка ООН. Быстрее!.. Четыре пятьдесят семь – съезд с шоссе Рузвельта на Двадцать третью стрит. Наконец-то!
Возле гаража было пусто, на дверях секций – тяжелые замки. Только крайняя, та самая, номер один, чуть приоткрыта. Людей Роджерса не видно – еще не подъехали, не торопятся. Четыре пятьдесят восемь… Будем брать вдвоем.
Они тихо, сбоку подошли к приоткрытой двери. Дэнис осторожно заглянул внутрь. Маленькая пыльная лампочка горела под потолком. Армейский черно-зеленый фургон пятнистой жабой заполнял гараж! На ветровом стекле лениво распластала крылья большая синяя бабочка. Откуда она взялась опять? Между задней стеной гаража и фургоном что-то шевельнулось – сбоку выглянуло бледное, искаженное мукой лицо. На мгновение их глаза встретились. Выставив перед собой зажатый в ладонях «глок», Дэнис прыгнул внутрь гаража.
– ФБР! Стой, ни с места!
Лицо качнулось и исчезло за фургоном. Бабочка нехотя поднялась в воздух.
– Сто-о-ой!
23
Из тетрадок деда.
* * *
Конец двадцатого века. Все выше научно-техническая мощь человечества, все ниже его нравственный потенциал. На Филиппинах борющиеся против центрального правительства партизаны поручают тринадцатилетним подросткам приводить в исполнение расстрельные приговоры – что вырастет из таких детей? Боснийские сербы, исповедующие православие, расстреляв группу пленных боснийских мусульман, таких же славян по крови, бросают их в топку мартеновской печи, некоторых еще живыми. Боснийские мусульмане ничуть не лучше поступают с попавшими в их руки. Бок о бок с сербами живут и хорваты; они тоже славяне и тоже христиане, да только католики; этого достаточно – родственные народы, не поделив территории, грабят друг друга, убивают, насилуют. Представим: пронесся над двумя соседними домами ураган, сорвал крыши, выбил окна и двери, повалил забор, разграничивающий участки. Выбежали во двор оба хозяина и сцепились – где стоять забору. Свищет в полуразрушенных домах ледяной ветер, плачут голодные дети, но для Гомо инсанус, сцепившихся во дворе, главнее забора уже ничего на свете не существует.
* * *
В пору горбачевской «перестройки» поднялся «железный занавес», и я полетел в Москву. Через десять лет. О Наташе за минувшие годы ничего не знал. Оказалось, она работает все в той же поликлинике. Остановив пробегавшую по коридору медсестричку, попросил передать докторше таинственную записку: «Но чтоб продлилась жизнь моя, я утром должен быть уверен, что с вами днем увижусь я. Телеграфист Желтков». Через минуту удивленное Наташино лицо выглянуло из-за двери. Увидев меня, она широко раскрыла глаза, молча потянула в свой маленький кабинетик, прижалась, обнимая. С моих задрожавших губ неожиданно слетели первые, такие банальные слова: «Я тебя люблю». О них за минуту до того и не думал; казалось, все позади. Но вот вспышка молнии высветила душу – а в ней была Наташа. Услышав такую историю про других, наверное, не поверил бы. Мне было уже пятьдесят семь; ей, значит, сорок семь. Годы сделали ее милое лицо менее улыбчивым, появились первые морщинки, но глаза остались все те же – блестящие, с чуть заметной татарщинкой, родные. Я прилетел только на несколько дней. Все часы, которые Наташа смогла утаить, мы провели вместе: гуляли по Москве, закрывались в моем номере в гостинице «Белград», что на Смоленской площади. Все вернулось. О своей жизни она говорила скупо – детей нет, муж как муж, не хуже других. Потрясенный, я возвратился в Нью-Йорк, стал писать длинные письма, звонить ей на работу. Пошли стихи. Через полгода, бросив все дела, опять прилетел в Москву. Наташа в своей поликлинике сказалась больной. Уходила из дома, вроде бы на работу, а я уже ждал ее. «Больше мы не можем мучиться сами и мучить других, – решился я. – Или надо расстаться: не видеться, не писать, не звонить. Или же ты говоришь мужу всю правду, разводишься и уезжаешь ко мне. У нас тоже есть право на счастье». Она молча поцеловала меня. Потом сказала, что не хочет корежить оставшиеся у нас дни, – будет говорить с мужем после моего отъезда.
* * *
Моисея признают пророком и иудейская, и христианская, и мусульманская религии. На Синайской горе Бог изрек ему десять заповедей. Первые четыре – религиозно-ритуального характера. А в остальных – сконцентрированы основы человеческой морали. Основы эти могут быть сведены к одной простой формуле: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе сделали. «Почитай отца и мать» – ведь и ты станешь в свой черед старым, неужели хочешь, чтобы дети твои не почитали тебя? «Не убий», «Не укради», «Не лжесвидетельствуй», «Не возжелай ничего, что у ближнего твоего» – неужели хочешь, чтобы кто-то убил тебя, или обокрал, или лжесвидетельствовал против тебя, или отнял принадлежащее тебе? Сложнее разобраться с заповедью «Не прелюбодействуй». Прелюбодеянием называют половую жизнь вне брака. Но само понятие «брак» существенно менялось по ходу человеческой истории. В первобытные времена это был так называемый групповой брак, в библейские – преобладало многоженство, а сейчас – парный брак. Вот и выходит, что Анна Каренина, отдавшись по любви Вронскому и уйдя от мужа, занималась прелюбодеянием. Напротив, царь Соломон, который сам сболтнул в «Песне песней», что у него «шестьдесят цариц, и восемьдесят наложниц, и девиц без числа», считался вполне добропорядочным человеком. В «Притчах» Соломон еще и других поучал: «И для чего тебе, сын мой, увлекаться постороннею и обнимать груди чужой?.. Чужая жена – тесный колодезь; она, как разбойник, сидит в засаде и умножает между людьми законоотступников». Легко ему было поучать.
* * *
Вернувшись в Нью-Йорк, позвонил Наташе: «Говорила?» – «Никак не соберусь с духом». Позвонил неделю спустя. «Да, говорила. Было так тяжело. Он плакал. Уже ходила к адвокату насчет развода». А еще через неделю она мучительно кричала в телефон: «Решила остаться! Мальчик мой родненький, прости!» Все рухнуло. И опять я не спросил – почему. Поди пойми сердце женщины. Как гениально высветил Достоевский души своих героинь: Настасьи Филипповны, Грушеньки. Мятущиеся, ищущие, теряющие. И у Наташи что-то от них. Больше мы не виделись. Некий философ высокомерно изрек: любовь – это добровольное безумие. Ну и что с того, зато какое духовное, какое солнечное безумие. Я знал истинную любовь – многие ли могут так сказать? Заслуживаю я жалости или зависти? Бедный я или богатый? В тот далекий январский день, на пути в поликлинику, чтобы проверить свои зубы, кабы увидел я в магический кристалл, что ждет впереди, – не свернул бы… Почему именно Наташа? Не знаю, это приходит свыше. Перечисление ее хороших качеств все равно ничего не объясняет. Бывают и другие, не хуже. А любишь одну. И горит эта свечечка, не гаснет ни на каком ветру.
* * *
Иоанну, одному из четырех евангелистов, приписывают также авторство «Апокалипсиса», страшных видений конца света. Ангел Господень трубит и возглашает «горе живущим на земле» – за грехи их. «И вот произошло великое землетрясение, и солнце стало мрачно, как власяница, и луна сделалась, как кровь… И небо скрылось, свившись, как свиток… И сделался град и огонь, смешанные с кровью, и пали на землю…» Не уверен, надо ли будет ангелу Господню особенно утруждать себя в тот страшный день. Быть может, прилетев на Землю, он увидит людей, самолично осуществляющих этот «конец света» – на вполне квалифицированном уровне. Уж слишком много Гомо инсанус заполонили планету, слишком огромные разрушительные силы накопились в руках людских. Можно ли еще остеречь, остановить безумное сползание человечества в пропасть? Или уже поздно?..
24
С утра Таня дочитала тетрадки деда. А его стихи оставила на вечер. Потом принялась за свою статью о Мандельштаме. Как и вчера, работа шла медленно, трудно. Устав, она сходила в соседний супермаркет. К возвращению Дэниса надо приготовить что-нибудь вкусненькое. На работе он обычно пьет кофе, а ест мало, предпочитая дождаться вечера. Ему нравятся блюда русской кухни, которые умеет готовить Таня, особенно борщ.
Телефонный звонок в три часа сразу поломал весь стройный распорядок ее дня. Доктор, у которого она была вчера, сообщил, что анализ крови подтверждает беременность. Взволнованная Таня сперва решила сразу же позвонить Дэнису. Но потом передумала. Пусть будет сюрприз, когда тот придет домой.
Продолжать работу над своей статьей она уже не могла. Поглощенная новостью, Таня ходила из комнаты в комнату с тряпочкой в руке, автоматически снимая с мебели какие-то невидимые пылинки. Она вдруг счастливо рассмеялась, заметив, что другая ее рука непроизвольно, как бы оберегая новую жизнь от всех опасностей мира, лежит на нижней части живота. Оказывается, уже несколько недель живет внутри нее это неведомое существо…
Вытирая кухонный стол, Таня еще раз полистала оставленные на нем тетрадки деда. Вот ведь как получается. Жил рядом родной человек, каждый день она видела его. И столь многого о нем не знала. Ни о его стихах. Ни о любви, которую он пронес до конца. А теперь уже не расспросишь, сохранились только эти тетрадки, исписанные крупным неуклюжим почерком. Быть может, где-то в Москве живет еще его Наташа. Разыскать бы, поплакать по-бабьи вместе, вспоминая его.
Дед умер совсем еще крепким стариком. В последние годы он закрыл свой врачебный офис, но немного подрабатывал к пенсии, навещая пациентов в старческом доме неподалеку. Таня помнит, как в то ясное и теплое сентябрьское утро он взял свой саквояж, чмокнул ее в щеку и вышел из дому. Выглянув в окошко, она полюбовалась на его прямую спину и легкую походку. А через минуту с улицы раздался визг колес по асфальту, глухой звук удара, пронзительный вскрик соседки. Таня, похолодев, выскочила на крыльцо. Когда дед переходил улицу, вынырнувшая из-за угла машина сбила его и умчалась; через час водителя-наркомана нашли и арестовали.
Таня подбежала к распростертому телу – дед был мертв. Рука все еще сжимала ручку саквояжа. Сразу побелевшее лицо выглядело незнакомым, торжественным, уже нездешним.
У деда был давно куплен участок на кладбище – соседний с могилой его отца, прадеда Тани. Как-то в разговоре дед обмолвился, что после смерти хочет быть кремирован. «Уж лучше, чтоб сразу остался один пепел». Таня выполнила его волю. Пепел из урны высыпали в гроб, закрыли крышкой, опустили в могилу. На ней Таня посадила многолетние цветы, каждый год они цвели так ярко… Неделю назад, в день рождения деда, она побывала у негона кладбище. И в сентябре, в четвертую годовщину смерти, тоже обязательно поедет. Таня вспомнила о сегодняшнем звонке доктора. «Если будет мальчик, – решила она, – дадим ему имя деда. Витенька…» Минувшей ночью она увидела деда во сне, было такое трогательное чувство. Говорят, плохая примета, если приснилось, что поцеловала умершего. Но ведь она так соскучилась.
Было уже около пяти, конец рабочего дня у Дэниса. Никогда не приходит вовремя – что за работа такая. Хоть позвонил бы, когда ждать сегодня. У нее потрясающая новость, а он может заявиться и через два часа, и через три. Таня подошла к окну в спальне. Солнце клонилось к закату, смещая на восток тени манхеттенских небоскребов.
Волна нежаркого, сухого воздуха с севера, из Канады, прихлынула, наконец, в Нью-Йорк. Толпы горожан и туристов, наслаждаясь хорошей погодой, заполнили центральные улицы Манхеттена. На углу Пятой авеню и Сорок второй стрит, возле старомодно-импозантного здания городской библиотеки, чернокожий саксофонист, раздувая щеки, выводил замысловатые вариации блюза. Слушатели, улыбаясь, кидали монетки в открытый футляр саксофона на асфальте. Маленькая курчавая болонка тоскливо заскулила на руках у рыжего мальчишки, которого мама придерживала за воротник рубашки. Быть может, болонку раздражал звук саксофона. А может, она единственная услышала, как протрубил ангел Господень, и ощутила приближение того страшного, что должно было свершиться…
Таня продолжала стоять у окна, когда огненный шар вдруг подпрыгнул в воздух где-то на том берегу Ист-ривер. Свет его был ярче тысячи солнц. Он полоснул невыносимым жаром по лицу и мгновенно ослепил Таню. Не успев ничего понять, она вскинула руку к глазам. Господи, что случилось?.. Что случилось?!
Спустя секунды, ударная волна беззвучно – быстрее звука – достигла бруклинского берега Ист-ривер, сметая все на пути. Рухнул домик, засыпав своими обломками Таню. Ударная волна принесла раскаленный воздух. Язычки пламени сразу занялись на развалинах. Горели деревянные обломки стен и крыши, горел ковер в спальне и линолеум на кухне. Горела мертвая Таня. Легким пеплом стали ее густые волосы, жирная копоть вычернила тело. Рука Тани, вернее, то, что было недавно рукой, прикрывала, как бы оберегая, нижнюю часть живота.
Ядерный смерч в одно мгновение слизнул здание ООН со всеми его обитателями: важными главами государств и членами делегаций, сидевшими в зале Фридмэном и Лентини, поднимавшимся на трибуну президентом. Вертолет О'Браена был уже на подлете к Нью-Йорку, когда ударная волна легко перевернула его. Взорвался бензобак, объятый пламенем, вертолет рухнул на землю.
Над мертвой «столицей мира» расползалось грибовидное облако. Устало взмахивая крыльями, большая синяя бабочка, уцелевшая неведомо как в самой сердцевине термоядерного взрыва, уходила все выше и выше в бездонное небо…
1994Осень в Бостоне
Глава первая
А осень в этом году выдалась, действительно, золотая. Дни стояли солнечные, теплые, тихие. По ночам, правда, холодало, все-таки конец октября. Но заморозков еще не было. Клен за окном, старый, с корой, изборожденной глубокими морщинами, медленно ронял яркожелтые листья. Падая, они плавно кружились в воздухе, а потом, поворочавшись немного, чтобы улечься поудобнее, затихали на пожухлой траве.
Клен рос на полянке, что протянулась вдоль одной стороны этой короткой, тупиковой улочки, покрытой потрескавшимся, уже не первой молодости, асфальтом. А на противоположной стороне стояли всего два дома, задами они смотрели прямо в лес. Живя здесь, в Рэндолфе, одном из зеленых пригородов Бостона, Городецкий все не переставал умиляться трепетному чувству близости к природе. В «той» жизни типичный горожанин, коренной москвич, решившись на эмиграцию семнадцать лет назад, он поначалу попал в Нью-Йорк, не менее шумный и грязный, чем Москва. Математик с кандидатской степенью, Городецкий устроился там после долгих мытарств на работу простым программистом. А через несколько лет перешел уже с повышением в другую компанию, в Бостоне, стал прилично зарабатывать и обзавелся этим вот домиком.
Как же быстро канули семнадцать лет… Все силы и время были посвящены одной цели – преодолеть трудности, утвердить себя в новом, неведомом мире. Каждый раз думалось: вот еще одна преграда, а за ней наступит, наконец, настоящая жизнь. Но за взятой преградой объявлялись другие. И не успел оглянуться, как уже шестьдесят пять, уже три месяца на пенсии. Городецкому вспомнилось вычитанное где-то, кажется, у Солженицына, описание голодных зэков в лагере. Получив пайку, одни, жадно давясь, мгновенно проглатывали ее – обычно такие быстро «доходили». А другие, опытные, медленно жевали каждый кусочек, мяли его языком, подсасывали щеками, долго перекатывали во рту, стараясь сполна насладиться и вкусом, и запахом. Вот так бы человеку относиться к отпущенной жизни, просыпаясь каждое утро с убеждением, что наступивший день и есть самый главный, неторопливо и мудро впитывая его в себя минута за минутой, наслаждаясь и полуденным полетом шмеля к раскрытому зеву цветка, и вспышкой вечерней зарницы вполнеба, и женским шепотом на ночной подушке. Вот так бы… А он все куда-то спешил. И самая лучшая пора жизни, оказывается, давно позади.
Невысокий, худощавый, с седым ежиком на голове, в одних трусах (он только что проснулся), Городецкий вздохнул, почесал волосатую грудь. Но не в его характере было долго предаваться грусти, все равно от нее никакого проку. Да, если честно, и ныть-то грех. Здоров, для своих шестидесяти пяти достаточно бодр, есть пенсия, есть этот маленький домик. Вот и научись радоваться каждому дню. Жизнь, она продолжается…
Отойдя от залитого солнечным светом окна, Городецкий поприседал немного, помахал руками – это означало у него утреннюю зарядку. Потом босиком проследовал на кухню. Он считал, что ходьба босиком полезна, так как предупреждает простуду. Пол в домике всегда был безукоризненно чистым. Городецкий принадлежал к той редкой породе холостяков, жилье которых пусть и не отмечено женским уютом, но зато поражает стерильной чистотой и порядком.
На кухне, возле пустой кормушки его уже ждал котенок. Шерстка на голове, спине и боках котенка была черной с серыми подпалинами, а на груди, брюшке и кончиках лапок – белоснежной. Котенок сидел, не шевелясь. Глаза, не мигая, с обидой смотрели на Городецкого.
– Сейчас, сейчас, Лука, – заторопился тот. – Тебе завтракать пора, а негодный хозяин заспался…
Городецкий достал из холодильника большую консервную банку с кошачьей мордой на этикетке. Переложить консервы в кормушку было не так-то просто. Приходилось все время отпихивать котенка, который, норовя выхватить кусочек, крутился возле кормушки и сладострастно мяукал.
Имя для него Городецкий взял из своего далекого московского детства. Там, в шумной коммунальной квартире, где они с мамой занимали одну комнату, жила в длинном коридоре «ничья» кошка по имени Лукерья. Поначалу Городецкий так и назвал котенка. Но потом, обнаружив, что явно ошибся, переделал Лукерью в Луку…
Котенок припал, наконец, к кормушке. Сидя на корточках, Городецкий погладил мягкую, вылизанную до блеска шерстку.
Котенок был приблудный. Он стал для Городецкого любовью с первого взгляда. Как-то, месяца полтора назад, открыв дверь на крыльцо, Городецкий обнаружил там это маленькое, жалобно мяукающее существо. К шерстке прилипла лесная паутина, на хвосте торчал большой репей. Видимо, удрав от хозяев, котенок долго блуждал по лесу. На всякий случай Городецкий наведался тогда к соседнему дому. Возившийся во дворе верзила с длинным бугристым шрамом поперек правой щеки подошел к калитке, смерил Городецкого с котенком на руках подозрительным взглядом, буркнул, что они никаких животных не держат. И калитка захлопнулась. Довольный Городецкий понес котенка к себе.
Раньше этот большой, дорогой дом – не чета домику Городецкого – принадлежал приветливой пожилой паре. Но полгода назад, выйдя на пенсию, те перебрались во Флориду, а дом продали. С новыми соседями Городецкому познакомиться еще не довелось, они оказались какими-то нелюдимыми. После покупки весь участок вокруг их дома был сразу же обнесен высоким глухим забором. Роскошная машина соседей, большой черный «кадиллак», тянула так тысяч на сорок – никакого сравнения с дешевеньким «эскортом» Городецкого.
На днях, проходя со своим дружком Ваней Белкиным мимо соседского дома, Городецкий увидел «кадиллак», выезжавший из ворот. За рулем был тот самый верзила, а сзади – пара, он и она. Ближе к Городецкому, у открытого бокового окна сидел мужчина. Несмотря на теплую погоду, он был в плаще с поднятым воротником. Из-под шляпы с обвисшими полями выбивались густые, давно не стриженные волосы цвета соли с перцем. Такого же цвета были широкие усы. Городецкий, как и положено воспитанному человеку, поздоровался с соседом. Тот скользнул по Городецкому пустым взглядом; нажав кнопку на подлокотнике, поднял боковое дымчатое стекло. «Кадиллак» укатил.
Ваня Белкин, наблюдавший эту сценку, присвистнул.
– Ну, и жлобы достались тебе в соседи!
Помнится, потом, сидя на кухне у Городецкого и выпивая по маленькой, они даже поспорили. Ваня, как всегда, сделав из единичного случая широкие обобщения, обличал американцев в черствости и бездуховности. Городецкий, напротив, в смысле внешней культуры ставил их намного выше среднестатистического «совка».
– Ах, учтивые американцы обязательно спрашивают при встрече, как ты поживаешь, – кипятился Ваня. – И не вздумай по наивности рассказывать. Им, зацикленным только на себя, это абсолютно неинтересно!
Размахивая пустой рюмкой, зажатой в могучем кулаке, Ваня тогда разгорячился. А Городецкий лишь посмеивался в ответ. В былые московские времена он и сам предпочитал такую вот манеру безоглядного выяснения правды-матки. Но, пожив в Америке, научился обсуждать сложные вопросы, избегая категорических ноток, а в случае, если собеседника убедить не удается, миролюбиво уводить разговор в сторону. Ведь это – тоже признак внешней культуры. Ване, пожалуй, было до этого еще далеко. Что не мешало Городецкому с искренней дружбой относиться к Ване.
Как и Городецкий, тот эмигрировал в «застойные», брежневские годы. Но не из Москвы – из Одессы. Они познакомились здесь, в Рэндолфе. Как-то в местном супермаркете Городецкий услышал за спиной русскую речь. Повернувшись, увидел маленькую, хрупкую женщину и двух крепких мужиков, пожилого и молодого. Женщина распоряжалась, а мужики послушно ходили по рядам, отыскивая то, что следовало купить. Городецкий подошел, сказал по-русски: «Здравствуйте». Те сразу заулыбались в ответ. Это и был Ваня со своим семейством – женой Ритой и сыном Павликом.
Городецкий как-то удивительно быстро сдружился с ними. Когда минувшей весной он простыл и расхворался, Рита готовила для него особые, целебные бульоны, а Ваня приносил эти бульоны, ходил за лекарствами в аптеку. Милые люди… Ваня был на девять лет моложе Городецкого, пенсия еще не скоро. Английский неважный, да и специальности, считай, никакой – окончил когда-то институт физкультуры, работал в одесском «Буревестнике» тренером по борьбе. В новой стране, трезво взвесив свои возможности, Ваня подался в таксисты. Рита тоже подрабатывала – давала уроки фортепианной игры. Скромно, но перебивались, на вэлфере этом и дня не сидели. А после того, как Павлик закончил колледж и сам стал зарабатывать, почувствовали себя почти богачами. Сегодня Ваня вкалывал – гонял где-то там по Бостону свое такси.
Накормив котенка, Городецкий принял душ и приступил к ответственной процедуре – приготовлению утреннего кофе по собственному рецепту. Размолол кофейные зерна, порошок высыпал в большую стеклянную чашку, залил холодной водой. Добавил туда чайную ложку сахара и пару тоненьких ломтиков лимона. Поставил чашку в микроволновую печку. Через минуту вынул чашку, перемешал ложкой содержимое и поставил обратно. Теперь следовало быть начеку. Когда коричневая пена, грозно вспучиваясь, устремилась к краю чашки, Городецкий нажал на кнопку, выключил микроволновку. Кофе готов, пусть отстоится.
И тут зазвонил телефон. Это был Ваня – легок на помине.
– Ефимыч, уже начало десятого – ты встал, надеюсь?.. А я с шести за баранкой. Из забегаловки звоню, заскочил на минутку кофе хлебнуть… Только ему далеко, конечно, до твоего кофе… Слушай, я тебе почему звоню – тут в центре, в даунтауне ихнем, что-то серьезное случилось. Знаешь остановку сабвея на углу Парк стрит и Тремонт стрит?.. Десять минут назад я хотел отсюда проехать к Южному вокзалу, с утра там пассажиров всегда навалом, которые с пригородных поездов… Но обе улицы – и Тремонт, и Парк – перекрыты, полно машин «Скорой помощи», полицейских машин. Ты пошуруй по телевизору – может, что-то об этом уже есть в новостях. А я тебе позднее перезвоню…
Городецкий включил телевизор, нашел канал, по которому в течение дня регулярно передавали местные новости. Показывали какой-то дурацкий телесериал для домохозяек. На экране герои сериала упражнялись в примитивном остроумии, а за экраном периодически раздавался бодрый хохот, чтобы тупоумный зритель знал, когда ему должно быть смешно. «Все-таки, критикуя американцев, Ваня иногда прав, – подумал Городецкий. – Действительно, передача для идиотов».
Вдруг хохот оборвался, экран на мгновение погас; потом на нем появился телеведущий, знакомый Городецкому по вечерней программе новостей. Но в отличие от вечерней программы его лицо сейчас было без грима и, наверное, поэтому выглядело бледным, постаревшим.
– Мы вынуждены прервать на минуту демонстрацию телесериала, – торопливо заговорил тот. – Только что получено сообщение о массовом отравлении пассажиров сабвея неизвестным газом. Это случилось двадцать минут назад одновременно во всех шести вагонах поезда на подходе к станции «Парк стрит». По словам потерпевших, в воздухе внезапно появился сладковатый запах. От него перехватывало дыхание, начинались рвота, судороги, у некоторых наступила потеря зрения. По предварительным данным, многие пассажиры найдены в вагонах в бессознательном состоянии. Есть погибшие. Сейчас на станции «Парк стрит» работают спасательные бригады; ФБР приступило к расследованию. Наша телевизионная группа – на пути к месту трагедии. Всю новую информацию мы будем сообщать вам немедленно по ее поступлении…
И на экране опять забегали герои дурацкого телесериала. Городецкий покачал головой. Да, в этом сумасшедшем мире не соскучишься. Уже который раз города Америки сотрясаются от террористических актов с массовыми жертвами. Теперь, видать, пришла очередь Бостона.
Что-то мягкое и теплое потерлось о босую ногу Городецкого. Это был Лука. Поев, он никогда не забывал поблагодарить. Славное существо. А кофе, конечно, давно остыл, придется разогревать…
Глава вторая
Родители надеялись, что после колледжа Павлик продолжит образование в юридической школе, станет обладателем престижного адвокатского диплома. Но школа эта требовала больших денег. Чтобы подзаработать, Павлик решил на пару лет сделать перерыв в учебе. Пройдя краткосрочные курсы, он стал полицейским. Кстати, опыт работы в полиции будет немаловажен и в его будущей адвокатской практике. Работа оказалась не такой и трудной – патрульная служба на скоростных шоссе, где надо было следить за порядком, штрафовать водителей, нарушающих правила, составлять протоколы и оказывать помощь при автомобильных авариях.
Сегодня Пол Белкин патрулировал на автостраде номер девяносто, что, начинаясь в центре Бостона, прямой линией уходит на запад, в сторону Олбани, столицы штата Нью-Йорк. Заканчивался без особых происшествий утренний час пик, когда в восемь пятьдесят шесть поступил приказ – срочно следовать к станции сабвея «Парк стрит». Полицейская машина Пола резко набрала скорость, над широкой автострадой в ясном осеннем воздухе поплыл тревожный вой сирены. Идущие впереди автомобили торопливо принимали вправо, освобождая левую полосу…
Возле станции «Парк стрит» уже стояло несколько полицейских машин. С включенными мигалками на крыше подъезжали машины «Скорой помощи». По ступенькам на поверхность выбирались шатающиеся, бледные пассажиры. Санитары выносили тех, кто сам уже не мог идти. У выхода, на тротуаре, стояли в ряд носилки. На них лежали пострадавшие, дышали часто, судорожно. Кое-кто уже не дышал.
Всем распоряжался рыжеволосый крепыш с карточкой ФБР, прикрепленной к лацкану серого мешковатого пиджака. Пол вспомнил, что видел его как-то в их полицейском управлении. Это был Кристофер Стивенс, начальник отдела по борьбе с терроризмом при Бостонском управлении ФБР.
Пол подошел, доложил:
– Пол Белкин. Из полиции штата Массачусетс.
Стивенс обернулся, торопливо спросил:
– Это твоя машина?.. Разверни ее поперек Тремонт стрит – там уже одна есть. Надо перекрыть движение, оставь только узкий проезд для машин «Скорой помощи». Потом пойдешь вниз с Арчи, моим помощником. Произошло массовое отравление пассажиров каким-то газом… А впрочем, Арчи уже спустился… Разворачивай машину, и пойдем вниз вместе. Понесешь вон ту сумку…
Одолжив у санитаров матерчатые маски, прикрывавшие нос и рот, Стивенс и Пол спустились на платформу. Воздух там, вроде бы, уже был чистым. В первом вагоне, куда они зашли, санитары «Скорой помощи» подымали с пола и укладывали на носилки двух пассажиров, потерявших сознание. Видимо, прежде тех рвало – лица были измазаны слизью и комками непереваренной пищи. В углу вагона еще один пассажир сидел, откинувшись на спинку скамьи. На мертвенно-бледном лице – широко открытые глаза, зрачки сужены до размеров точки. Руки безжизненно свисают с сиденья; на левом безымянном пальце – золотое кольцо с какой-то монограммой.
Стивенс подошел ближе.
– Мертв… А это что такое? – он заглянул под сиденье; там лежала на боку пластмассовая канистра, обернутая газетой; в открытую дверь Стивенс высунул голову на платформу, громко крикнул: – Арчи, иди сюда!
В вагон поднялся запыхавшийся Арчи с фотоаппаратом в руках. Он выглядел всего лет на пять старше Пола, но на макушке, среди белесых волос, уже проступала отчетливая лысина. Под разными углами Арчи сфотографировал труп и лежащую на полу канистру.
Стивенс достал из сумки, которую нес Пол, резиновые перчатки, надел их и пошарил рукой по полу под сиденьем. Нащупав пробку, он закрыл ею горловину канистры, тщательно закрутил. Канистра была уложена в один из больших пластиковых мешков, тоже оказавшихся в сумке Пола. На куске белой липкой ленты, приклеенной снаружи к мешку, Стивенс написал цифру «1» – номер вагона. Потом он проверил карманы погибшего – они были пусты, никаких документов.
То же самое повторилось в остальных вагонах. В каждом где-нибудь под сиденьем обнаруживалась открытая канистра, завернутая в газету, а возле, на сиденье, – труп. Всего три мужских трупа и два женских. Только в последнем, шестом, вагоне сиденье, под которым валялась канистра, было пустым. Стивенс быстро подошел к санитарам – у соседних дверей те возились с пожилой задыхающейся дамой; она лежала на полу, густая слизь вытекала из угла ее рта.
– Зачем вы забрали труп с того сиденья? Я ведь распорядился – помогайте живым, а мертвых не трогать!
Санитар бросил взгляд в ту сторону, куда указывал палец Стивенса.
– Сэр, мы зашли в вагон десять минут назад; в том углу никакого трупа не было…
Стивенс обернулся к Арчи:
– Слышал?.. Вот первая задачка. Какую роль могли играть люди, сидящие возле открытых канистр в первых пяти вагонах?.. Одно из двух. Или это – ничего не подозревавшие жертвы, которые погибли в первую очередь потому, что были ближе всех к источнику отравления. Тогда как убийцы, внезапно открывшие под сиденьем канистры, имели какой-то шанс отбежать, задержав дыхание, в другой конец вагона и в распахнувшиеся двери первыми выскочить на платформу и далее на улицу. Или же, напротив, наши мертвецы как раз и были теми самыми камикадзе, которые отвинтили пробки.
– Мне кажется, эту версию нетрудно проверить, – отозвался Арчи, почтительно глядя в глаза начальника. – Надо сравнить отпечатки пальцев у трупов и, соответственно, на пробках.
– Конечно… Предположим, что отпечатки совпадут. Тогда сразу же возникает вопрос, как найти человека, открывшего канистру в этом, шестом, вагоне. Если тот еще жив, он мог бы дать нам важнейшую информацию.
– Сэр, могу я сказать? – Пол робко высунул голову из-за плеча Арчи.
С веселым удивлением Стивенс бросил на него взгляд из-под рыжих бровей.
– Сэр, у трупов в предыдущих пяти вагонах есть одно общее: у каждого на левом безымянном пальце золотое кольцо…
– Золотое кольцо на этом пальце носит половина американцев; значит, человек состоит в законном браке.
– Но это не обычные обручальные кольца, сэр, – на каждом одна и та же монограмма…
– Ну-ка, пройдемся еще раз по вагонам, – оживился Стивенс.
Действительно, у всех пяти трупов были кольца с одинаковой, выполненной чернью, монограммой: две переплетенные буквы «АТ», а сбоку – человеческая фигурка с распахнутыми крыльями за спиной.
– Похоже, наши мертвецы водили одну теплую компанию, – задумчиво сказал Стивенс. – Арчи, сфотографируй кольцо крупным планом… Раздашь потом фотографии всем членам нашей следственной группы. Будем искать обладателя такого кольца из шестого вагона.
Они стояли на платформе в голове поезда. Тускло светили пыльные лампочки под потолком. Санитары, стуча по ступеням тяжелыми ботинками, выносили на улицу последних пострадавших.
– Значит так, Арчи… Уточни адреса всех больниц, куда могут поступить сегодня пострадавшие. Наши ребята, надеюсь, уже заканчивают предварительный опрос пассажиров у выхода. Потом пусть едут по этим адресам и начинают формальный допрос тех пострадавших, которые в сознании. Не вспомнят ли что-нибудь интересное. А заодно пусть ребята поглядывают и на руки пострадавших – вдруг заметят кольцо, которое мы ищем… Кстати, среди пострадавших, что лежат на носилках наверху, несколько уже скончались. Не исключено, что в ближайшие часы трупов станет больше. Поэтому кто-то из наших должен также посетить морги – может, обладатель такого кольца обнаружится там… Действуй!
Арчи трусцой побежал наверх. Стивенс повернулся к Полу, хлопнул его по плечу.
– Слушай, парень, уж ты извини – я запамятовал, как тебя зовут.
– Пол Белкин.
– Белкин… Я такой фамилии никогда не слышал.
– Мои родители приехали из бывшего Советского Союза. Семнадцать лет назад. Мне было тогда шесть лет.
– Ты, наверное, и по-русски говоришь? Это неплохо… А что ты делаешь в полиции?
– Патрулирую на скоростных шоссе, сэр.
– Слушай, Пол. Я попросил откомандировать в мое распоряжение десяток ребят из полиции только на это утро, чтобы помогли в первые, самые суматошные часы. Дальше мы будем раскручивать это дело сами… Но ты мне понравился. Хочешь, я договорюсь, чтобы тебя передали в мою группу до конца расследования?
– Да, сэр, – радостно выдохнул Пол.
– Тогда не называй меня «сэр». Ребята зовут меня просто Крис… А теперь беги наверх. Там Арчи будет сейчас раздавать адреса больниц.
Глава третья
Позавтракав, Городецкий затеял сперва небольшую постирушку. Потом, вытащив мокрое белье из стиральной машины, развесил его на протянутой во дворе веревке. На это время во двор был выпущен и котенок. Из старого кожаного ремешка Городецкий сделал для котенка ошейник. К ошейнику цеплялась тоненькая длинная цепочка, другой конец которой висел на гвоздике, прибитом к краю веранды. Ваня Белкин, смеясь, говорил, что так выгуливают собак, а не кошек. Но Городецкий отмахивался – для него было важнее, чтобы котенок не удрал опять в лес и не потерялся.
Развешивая белье, он вспомнил, что сегодня пятница, а значит, надо ехать к окулисту – забрать готовые очки, первые в жизни. Городецкий всегда гордился своим зрением, свысока поглядывал на сверстников, которые к пятидесяти, а то и к сорока обзаводились очками. Да вот все-таки и его пора приспела… Сухопарая девица, помощница окулиста, надела на Городецкого очки, бросила изучающий взгляд. Шевельнув покрытые яркой лиловой помадой губы, изобразила удовлетворенную улыбку. Городецкий подошел к висевшему на стене зеркалу – массивная черная оправа, широкие линзы, сквозь них предательски проступает сеть мелких морщинок под глазами.
Отраженная в зеркале входная дверь офиса открылась за спиной Городецкого. Он увидел худенькую фигурку Риты, жены Вани Белкина. Войдя, та прищурила свои добрые, близорукие глаза:
– Ой, Семен Ефимович, тебя в очках и не сразу признаешь. А я звонить тебе сегодня собралась, все по тому делу… Погоди минуточку, только запишусь на прием.
Последнее время Рита принимала деятельное участие в устройстве холостяцкой судьбы Городецкого. «Ну вот, опять будет кого-нибудь сватать» – смятенно подумал он. Пару недель назад, пригласив на Ванин день рождения, Рита как бы невзначай усадила за столом Городецкого рядом с внушительной дамой лет пятидесяти, своей давней знакомой еще по Одессе. «Агнесса Ароновна» – представилась та и церемонно протянула пухлую ладошку. На рыхлом лице дамы отчетливо проступали черные усики. Разговор с ней сразу навеял на Городецкого тихую тоску. Преуспевающий американский врач, Агнесса Ароновна важно поведала Городецкому о своих заботах – в какой вид недвижимости лучше вкладывать деньги и каким образом скостить по возможности непомерно раздутые государством налоги. Она ела много и с аппетитом, к усикам приклеилась капелька майонеза. Когда вышли из-за стола, Городецкий удрал от нее в другой угол комнаты, достал с книжной полки любимую Ванину книгу «Жизнь двенадцати цезарей» Светония, стал сосредоточенно перелистывать…
Записавшись на прием, Рита подошла к Городецкому.
– Пожалуйста, Семен Ефимович, не кори меня за тот день рождения. Когда вы уселись рядом за столом, я присмотрелась… Нет, тебе не такая нужна. Агнесса, конечно, богатая невеста, да ведь не в одних деньгах счастье.
– Риточка, а ты уверена – мне, действительно, так уж надо жениться?
– Чего же хорошего болтаться неприкаянному? Ведь не молоденький. Главное – найти человечка по душе… Слушай, я тут познакомилась с одной милой женщиной. Из Белоруссии. Там она в школе литературу преподавала. Здесь работает секретаршей в какой-то небольшой компании. Лет под пятьдесят, как и Агнессе, но совсем на Агнессу не похожая – худенькая, мягкая, женственная. А чистюля какая, подстать тебе… Мужа потеряла четыре года назад – гнал машину под дождем, разбился, бедняга. Дочка этим летом замуж выскочила. Я ей, Верочке, про тебя намекнула. Вот на бумажке телефон ее, обязательно позвони. Вдруг и приглянетесь друг другу. Тогда, как и положено, – Рита засмеялась, – свахе отрез на платье подарите…
Навстречу «эскорту» пробегали за его окном тихие зеленые улочки Рэндолфа. Пешеходов почти нет, все передвигаются на машинах… «А может, и в самом деле позвонить этой Верочке? – вяло думал Городецкий. – Хотя, всего вероятнее, еще одно `не то' получится. Поздновато, пожалуй, семейную жизнь начинать».
До эмиграции рядом с Городецким всегда была его мама. Отца он помнил плохо – отца убили на фронте в сорок втором. Женщина умная, волевая, мама никогда не вмешивалась в сердечные дела сына. После того, как Городецкий защитил кандидатскую, поднакопил денег, переехал с мамой в духкомнатную кооперативную квартирку на Каширском шоссе, там появлялись иногда его подружки. Проводив такую гостью, Городецкий всегда интересовался потом маминым мнением. Но та уходила от прямого ответа, пожимала плечами, говорила, что решать надо самому. И Городецкий понимал – значит, мама не в восторге. Ореол очередной кандидатки на руку и сердце почему-то быстро тускнел.
Стряслась, правда, у Городецкого однажды большая любовь в Москве. Тут, наверное, он и к маме не прислушался бы. Да вот беда – любовь эта, Мариной ее звали, замужем была. Встречались они тайком. И случилась такая история. Муж ее (то ли Славиком она его звала, то ли Стасиком?) поехал на два дня, субботу и воскресенье, в Коломну, родителей проведать. А храбрая Марина на субботу пригласила Городецкого к себе. К вечеру, после долгого горячечного дня вдвоем, они сидели, обнявшись, на диване, уже вполне одетые. Городецкий читал ей стихи, свои и чужие.
И вдруг, как в дурацком анекдоте, повернулся ключ в замке, открылась дверь квартиры. И вошел Славик-Стасик. Потянуло его зачем-то домой раньше срока. Так и замер, растерявшись, у порога. Городецкий помнит, как где-то подспудно шевельнулось в его душе чувство вины перед этим сразу побелевшим мужиком. Городецкий поднялся с дивана, тихо спросил Марину: «Уходим?» Ушла бы – и составила, как говаривали в старину, счастье его жизни. Но она отрицательно качнула головой, не отрывая глаз от мужа. Городецкий обошел застывшую «статую командора», притворил за собой дверь. Потом, слышал, они быстро помирились. А у Городецкого через год мама от инфаркта умерла, рассыпался его привычный мир, и он махнул в эмиграцию…
Подъезжая к дому, Городецкий увидел в окне котенка. Тот сидел на подоконнике, ждал, как всегда, хозяина. На кухне Городецкий еще раз мысленно прошелся по своим скучным хозяйственным делам. На сегодня, кажется, ничего больше не запланировано. Значит, можно предаться любимому делу – сесть за стол, водрузить на нос новые очки, достать листки с последним, недописанным стихотворением.
Пробовать себя в поэзии он начал еще в студенческие годы. Но никогда не относился к этому серьезно, не ожидал ни славы, ни денег, просто писал, когда писалось. По журналам свои стихи не рассылал – боялся отказа, щелчка по самолюбию. Хранил их в тонкой папочке, под настроение читал друзьям. Порой, переписав поразборчивее, дарил знакомым девушкам.
Обычно новое стихотворение начинало в нем свою жизнь исподволь, незаметно. Посреди самого банального разговора, или когда Городецкий, задумавшись, вел машину, или в наступившем полусне – неожиданно из глубины сознания всплывала первая строчка, потом она пропадала куда-то, потом снова появлялась. Возникала потребность найти вторую строчку. Городецкий писал, не спеша; если внутренний стимул затухал, он откладывал начатое – иногда на недели, месяцы. Потом нежданно этот таинственный стимул появлялся опять, и мучительно-радостная работа над словом возобновлялась. В современной русской поэзии ему мало кто нравился, мода на словесное жонглирование, за которым – ни чувства, ни мысли, вызывала раздражение. Как и всякий уважающий себя автор, свои стихи он считал, конечно же, лучше (если бы считал хуже – и писать не стал).
Нынешние стихи тоже зародились как-то сами собой. Выглянув утром в окно, за которым старый клен на полянке недвижно простирал бугристые ветви, покрытые еще кое-где золотом листьев, увидев солнечную прохладную синеву неба, Городецкий благодарно прошептал: «Ах, какая осень золотая…» Прямо перед окном тянул из-под крыши почти невидимую нить паучок, шевелил в воздухе лапками, опускался все ниже… И всю неделю потом, а за ней и вторую это осеннее великолепие не менялось. Подходя по утрам к окну, Городецкий слышал, как внутренний голос грустно и умиленно повторял те же слова: «Ах, какая осень золотая…» И он вдруг понял – это же стучится первая строчка, пятистопный хорей.
За прошедшие дни стихотворение было вчерне написано. Но некоторые слова еще царапали ухо, казались приблизительными – тут стоило поработать. Стихотворение получилось небольшим, пять строф. Городецкий не любил многословия. Лирическое стихотворение хорошо, если, обозначив тему и вызвав эмоциональный настрой в душе читателя, обрывается в той волшебной точке, где читательскому воображению еще предстоит что-то довоссоздать самому.
Почерканные листки лежали на столе. Городецкий почти к ним не прикасался. Поиск слов шел медленно. Городецкий перебирал их, мысленно ощупывал, менял местами, ударял друг о друга, прислушиваясь к протяжному звону… Нет, третья строчка не тянет: «С тихим вздохом лис тья облетают …» Сколько уже вздохов свершилось в поэзии – избито… «Кувыркаясь, листья облетают»?.. Слово «кувыркаясь» помогает зрительно представить падающий лист. Но ведь кувыркаются акробаты – в цирке, под мажорную музыку оркестра. А настрой стихотворения отнюдь не мажорный… «Как уныло листья облетают»?.. Нет. «Как послушно»… «Как покорно»… «Как подранки»… Стоп… «Как подранки, листья»? Да! И настрой верный, и зрительный образ схвачен. Так птица-подранок в первые мгновения после выстрела еще смятенно цепляется крыльями за воздух, пытается планировать, но уходит кровь из раны, уходят силы – и тело неудержимо устремляется к земле… Кажется, то, что нужно. Пошли дальше…
Часа через два Городецкий вспомнил, что пора кормить котенка. Но тот куда-то подевался. Городецкий прошелся по комнатам, заглядывая во всякие укромные уголки; увидев приоткрытую дверь на чердак, забрался и туда. Лука, свернувшись в клубок, безмятежно спал на пятне солнечного света под чердачным оконцем…
Покормив котенка, Городецкий вынул из холодильника и разогрел остатки вчерашнего обеда, перекусил сам. Белье во дворе уже высохло. Он снял его с веревки, выгладил, рубашки повесил на плечики в стенной шкаф.
В пять, вспомнив об утренних событиях в сабвее, Городецкий включил телевизор. Все тот же телеведущий, что и утром, но только помолодевший, с хорошо наложенным гримом, передавал первую вечернюю сводку новостей. Он повторил сообщение о трагедии на станции «Парк стрит», дополнил его новыми деталями:
– По предварительным данным, число погибших возросло к этому часу до тридцати одного. Свыше сотни пострадавших госпитализированы. Сотрудники ФБР, ведущие расследование, воздерживаются от комментариев, считают их преждевременными. Нашему корреспонденту удалось, однако, узнать, что газ, задействованный в сабвее, принадлежит к группе так называемых нервно-паралитических веществ. Синтезированные в тридцатые годы немецким концерном «Фарбениндустри», эти вещества использовались вначале как инсектициды. Позднее нацистское командование разработало план, но так и не решилось применить их в боевой обстановке. Однако нервно-паралитические газы были все-таки нацистами опробованы – на узниках концлагерей – и показали высокую поражающую способность.
Городецкий прослушал новости, еще раз подивился человеческому безумию. Сверху на телевизоре валялась какая-то мятая бумажка. Городецкий повертел ее перед глазами. Это был телефонный номер, который Рита дала ему утром. Наверное, придя домой, он машинально вытащил бумажку из кармана, положил на телевизор. Выбросить?.. Или все же позвонить?..
Негромкий женский голос отозвался после нескольких протяжных гудков, когда Городецкий уже хотел положить трубку. Преодолевая смущение, он заговорил каким-то не своим, «гусарским» тоном:
– Это Верочка? Я уж, было, подумал – вас дома нет… Только что вернулись с работы? Понятно… Вы меня не знаете. Рита Белкина, наша общая знакомая, дала ваш номер телефона. И вот я, рисковый, звоню… Городецкий. Семен Ефимович. А мама когдато звала Сенечкой, задумчивый такой, послушный был мальчик… Рита много хорошего о вас рассказала. Может, встретимся, посидим где-нибудь в ресторанчике, поболтаем за жизнь?.. Не любите… Куда?.. Это здорово – выходит, вам поэзия нравится. Мне тоже, только не всякая… Итак, встреча с поэтом Ямпольским в Гарвардском университете… Как же, наслышан – знаменитость… За вами я хоть куда, даже на Ямпольского… В воскресенье, послезавтра, без четверти два у входа в зал?.. Маленькая черная сумочка в руке? Примета не то, чтобы очень… Ладно. А я буду держать букетик цветов. Скажем, красных гвоздик. Не для поэта – для вас… Всего наилучшего. До послезавтра.
Городецкий положил трубку, облегченно перевел дух.
Глава четвертая
Управление ФБР располагалось в центре Бостона. Его подковообразное здание огибала шумная Кембридж стрит. Из окна на шестом этаже, в кабинете Стивенса, была видна вдали Бостонская гавань. В субботу утром, в восемь тридцать, группа Стивенса была в сборе. Арчи принес из соседней комнаты недостающие стулья, поставил тесно друг к другу.
Стивенс вытащил из своего письменного стола синюю папку с бумагами. Из-под рыжих бровей обвел глазами собравшихся. Заметив Пола, скромно примостившегося у стенки, позади других, кивнул ему, как старому знакомому.
– Подведем итоги вчерашнего дня. Общее число пострадавших в сабвее – триста пятьдесят три. К счастью, у большинства отравление – в легкой форме, после оказания медицинской помощи они отправлены домой. Число погибших непосредственно в сабвее и в первые часы после этого – тридцать четыре. Еще восемьдесят шесть – остаются госпитализированными. Пятнадцать минут назад Арчи обзвонил больницы: состояние части пострадавших еще тяжелое, но, по мнению врачей, угроза для жизни миновала.
Стивенс надел очки, открыл папку.
– Вот официальное заключение из химической лаборатории. Внутри найденных в сабвее канистр присутствуют остатки прозрачной жидкости. Согласно анализу, это так называемый зарин, легко испаряющееся вещество нервно-паралитического действия. Его смертельная концентрация – две десятых миллиграмма на литр воздуха при дыхании в течение одной минуты. Если же в литре воздуха присутствуют два миллиграмма зарина, смерть наступает после первого вдоха… А вот отчет, который мы получили вчера к вечеру из нашего дактилоскопического отдела. Отпечатки пальцев на пробке канистры и у трупа возле нее в каждом из пяти вагонов совпадают. Выходит, именно эти убийцы-самоубийцы открыли канистры в тесно набитых вагонах утреннего сабвея. Компьютерный поиск не выявил в нашей картотеке идентичных отпечатков; видимо, в прошлом эти люди в каких-либо криминальных деяниях замечены не были.
Стивенс снял очки.
– Первые вопросы, на которые мы должны найти ответ: кто это сделал и зачем. Послушаем вас, ребята – что удалось узнать… Кстати, в нашей группе новичок – Пол Белкин из полиции штата. Я договорился, чтобы его откомандировали к нам на время расследования.
Все обернулись в сторону Пола – изучающие взгляды, вежливые улыбки.
Первым докладывал худенький паренек, сидевший неподалеку от Пола. Желтоватая кожа, широкие скулы, узкий разрез черных глаз – родом, видимо, из Азии. Имя у паренька было вполне американское – Милтон. Говорил без акцента, излагал факты коротко, четко:
– Допросил девятнадцать пострадавших. В Массачусетском госпитале. Описывают случившееся более или менее одинаково. Все произошло внезапно. Сладковатый запах в воздухе, спазм в горле, ощущение удушья, иногда потеря сознания. Перед этим чего-нибудь подозрительного в своем вагоне не припомнят. А после – разразилась паника, каждый был занят спасением собственной жизни, не до наблюдений. Ни у одного из допрошенных кольца с монограммой, как на фотографии, не обнаружил.
Информация, собранная в других больницах, мало отличалась от того, что рассказал Милтон. Пол видел, как все более скучнело лицо Стивенса. Лишь в конце, когда докладывал Арчи, Стивенс немного оживился. Вчера Арчи самолично посетил морги, где находились тела тридцати четырех погибших. Во второй половине дня в моргах побывало немало взволнованных людей, чтобы удостовериться, нет ли их родственников среди погибших. Ни один из пяти трупов, что найдены возле открытых канистр с зарином, никем опознан не был. Кроме этих пяти, у остальных двадцати девяти погибших не обнаружено колец с разыскиваемой монограммой. Однако Арчи обратил внимание, что у девяти трупов имелись кольца с иной монограммой. На фотографии, которую сделал Арчи, были видны две переплетенные буквы «ХС» и сбоку восьмиконечная звездочка с расходящимися лучами.
– Это уже кое-что, – заинтересованно сказал Стивенс. – Ясно, что пятеро камикадзе принадлежат к одной группе. Характер их действий был одинаковым и одновременным; у каждого – кольцо с идентичной монограммой. Но тогда в качестве рабочей гипотезы уместно предположить, что девять погибших, у которых на кольцах иная монограмма, тоже принадлежат к какой-то группе. Может, они оказались просто случайными жертвами. А может, и нет… Арчи, удалось установить их личности?
– В их карманах обнаружены водительские удостоверения, кредитные карточки. Думаю, собрать информацию о них будет нетрудно. Кстати, в сумочке у одной из этих девяти – список хозяйственных дел, намеченных на пятницу и субботу. Такое впечатление, что о близкой смерти она и не думала. Напротив, у пятерки, совершившей террористический акт, – никаких документов; лишь у троих в карманах – вырванные из молитвенника тексты молитв.
Арчи замолчал. Стивенс увидел, что Пол поднял руку.
– Прости, Пол, я как-то упустил тебя. Есть что добавить?
– Я нашел кольцо с монограммой, которое мы разыскиваем.
– Вот так, ребята, подтверждается старая истина: когда к игорному столу подсаживается новичок, поначалу ему всегда идет козырная карта, – Стивенс довольно потер руки. – Давай, Пол, выкладывай подробности.
– Женщина с этим кольцом поступила в Бостонский медицинский центр. Вчера врачи расценивали ее состояние как критическое. Я провел в ее палате минут двадцать. Она была без сознания. В регистратуре мне сказали, что никаких документов при ней не найдено.
– Пол, я перебью тебя на минутку. – Стивенс повернулся к Арчи. – Надо, не откладывая, заполучить отпечатки ее пальцев и сравнить с теми, что на пробке канистры из шестого вагона.
– Я уже сделал это, – подал голос Пол.
– Каким образом?
– Вчера в палате я взял стаканчик на тумбочке, протер его снаружи носовым платком и потом прижал к стаканчику пальцы больной. В пластмассовом мешке привез стаканчик в управление и передал в дактилоскопический отдел. Сегодня утром мне там сказали, что отпечатки пальцев на стаканчике и на пробке совпадают.
– Да ты, оказывается, прыткий парень.
– Без четверти восемь я позвонил в больницу, говорил с медсестрой. Больная еще очень слаба, но уже в сознании. На вопросы не отвечает. Сказала только, что зовут ее Салли. Да еще поинтересовалась номером своей палаты. Все время плачет, молится, просит у кого-то прощения.
Пол замолчал. Стивенс задумался, пригладил рыжий хохолок, торчащий на макушке.
– Итак, подытожим. Из шести исполнителей вчерашне-го террористического акта пятеро погибли на месте, а ше-стая – в больнице. Возможно, преступление имеет какую-то религиозную основу. В пользу этого говорят вырванные из молитвенника листки в карманах трех погибших террористов. Да и та, что сейчас в больнице, тоже предается молитвам… Теперь о девяти трупах в морге, у которых кольца с иной монограммой. Мы имеем их водительские удостоверения, кредитные карточки. Надо сегодня же опросить родственников, сослуживцев, соседей. Что объединяет эту девятку? Почему они оказались в вагонах сабвея в момент, когда были открыты канистры с зарином? Случайно? Или же, зная, что должно произойти, они осознанно решили тоже покинуть сей мир? Или, напротив, ничего не ведая, они и были главным объектом газовой атаки?.. Короче, ты, Арчи, берешь ребят и рассылаешь по имеющимся адресам. Пусть раскопают всю информацию.
Стивенс собрал бумаги, уложил в папку. Сунул папку в ящик стола.
– Также, Арчи, не забудь обзвонить морги. Если труп кого-нибудь из пяти террористов будет опознан родственником или знакомым, я должен знать немедленно. Номер моего мобильника, надеюсь, все помнят?.. А я сегодня попробую потянуть за самую многообещающую ниточку – допросить ту женщину в Бостонском медицинском центре. Ты, Пол, ее нашел – поедем вместе. И на всякий случай давай еще кого-нибудь прихватим… Как, Милтон, не возражаешь прокатиться?
Дорога заняла минут десять. Милтон вел машину мягко, спокойно, каждый раз послушно останавливался на перекрестках перед знаком «Стоп». Стивенс разговаривал с кем-то по мобильному телефону. Сидевший сзади Пол слышал его отрывистый, не очень, вроде бы, довольный голос.
– И вот всегда так, ребята, – сказал Стивенс, отключив мобильник. – Мое высокое начальство вместе с губернатором штата проводит в двенадцать пресс-конференцию о вчерашних событиях. Посему в одиннадцать мне приказано явиться в кабинет начальника управления, доложить, что удалось выяснить, о чем можно и о чем не следует пока говорить с журналистами. А ведь мне сейчас время дорого – делом заниматься надо. Да и докладывать-то еще нечего…
В холле Бостонского медицинского центра сквозь высокий, на уровне четвертого этажа, стеклянный потолок синело безоблачное небо. А внизу, как всегда, шла суматошная больничная жизнь. У справочной толпились посетители. Озабоченно и важно шествовали по своим делам молодые врачи-стажеры. Шустро пробегали через холл медсестры в белых брючках.
Пол, который был здесь вчера, поднялся в лифте вместе со Стивенсом и Милтоном на восьмой этаж. Проходившая по коридору медсестра, узнав Пола, остановилась, кокетливо повела плечами, пышные груди шевельнулись под тонкой кофточкой.
– Доброе утро, Нэнси.
– Привет, Пол, как поживаешь?.. А нашей больной сегодня лучше. И вы у нее будете не первыми посетителями – час назад уже наведалась какая-то ее приятельница.
– Выходит, больная все-таки назвала свою фамилию? – спросил Стивенс.
– Нет.
– А как же приятельница могла догадаться, что та в вашей больнице, именно в этой палате, если справочная внизу не знает ее фамилии?
Нэнси удивленно вскинула тонкие брови, задумалась на минуту.
– В палате телефон есть… Наверное, больная сама позвонила, сказала, где находится.
– Приятельница еще здесь?
– Уже ушла.
– Вы присутствовали при их разговоре?
– Нет. Я как раз возилась с тяжелым больным в соседней палате. Помню, приятельница заглянула ко мне, сказала, что больная пить просит, а стаканчик в палате куда-то задевался. Дала я ей пластмассовый стаканчик… Потом, минут двадцать назад, видела в коридоре ее спину, когда та уходила из отделения.
– Как доктор оценивает состояние больной? – спросил Стивенс.
– В семь, когда я заступила на дежурство, он обход делал, сказал, что никакой опасности для жизни уже нет. С утра Салли все плакала, молилась – даже в коридоре было слышно. А теперь, после визита приятельницы, успокоилась… Ой, меня старшая сестра зовет. Если что нужно, скажете. – Нэнси бросила еще один лучезарный взгляд на Пола и торопливо зашагала по коридору; под натянутыми белыми брючками задвигались в лад упругие полушария.
– Неравнодушна она к тебе, Пол. Не упускай шанса, – негромко пошутил Милтон, когда следом за Стивенсом они входили в палату.
В одноместной палате было тихо. Больная, видимо, устав плакать и молиться, спала. Лицо на подушке выглядело умиротворенным, розовый румянец во всю щеку.
– Мадам, мы из ФБР. Простите, что беспокоим, но нам нужно поговорить с вами.
Стивенс присел у кровати, дотронулся до руки больной. Та не просыпалась.
– Мадам…
Что-то дрогнуло в голосе Стивенса. Пол вдруг осознал – ведь больная не дышит! Стивенс быстро приложил пальцы к ее запястью, пытаясь нащупать пульс. Потом почему-то наклонил голову и понюхал воздух возле ее приоткрытого рта. Тяжело поднялся, посмотрел на Милтона и Пола.
– Когда-то в университете я проходил небольшой курс судебной медицины… Нет дыхания, нет сердцебиений, ро-зовый румянец во все лицо, слабый запах горького мин-даля изо рта – что бы это значило?
– Отравление цианидами? – неуверенно предположил Пол.
– Молодец. Знаешь.
– Крис, может, мы еще попробуем оживить ее? – быстро спросил Милтон. – Я начну массаж грудной клетки – я знаю, как это делать. А Пол даст знать медсестре, через три минуты сюда сбежится больничная бригада по реанимации.
– Поздно, – покачал головой Стивенс. – Видишь пустой стаканчик на подоконнике? Больная туда дотянуться не могла. Значит, стаканчик – после того, как его содержимое было выпито, – поставила на подоконник приятельница. А ушла она минут двадцать назад. Поздно… Ах, черт! Единственная реальная ниточка была в наших руках, и мы ее упустили. Нам следовало бы еще вчера установить тут круглосуточное дежурство…
Стивенс медленно прошелся по палате.
– Серьезные, видать, у нас противники. Брать на душу покойников не боятся. Значит, так… Первое – тело погибшей отправить на судебно-медицинскую зкспертизу. Второе – связаться с нашим техническим отделом, пусть постараются узнать через телефонную компанию, куда был звонок из этой палаты сегодня рано утром. Третье – вам, ребята, тщательно осмотреть одежду больной, обувь, сумочку, все закоулки в палате; вдруг да и наткнетесь на что-нибудь интересное. Теперь, Пол, будь добр, позови Нэнси.
Та впорхнула в палату, все еще сохраняя на лице кокетливую улыбку, которой она одарила Пола в коридоре.
– У нас плохая новость, Нэнси, – Стивенс чуть помолчал. – Больная умерла. Боюсь, приятельница отравила ее цианидами. Вы можете описать, как та выглядела?
Нэнси испуганно охнула, прижала ладони к щекам.
– Да я ее почти и не разглядела… Ну, роста моего или чуть ниже. Лет так тридцать… Пахнет духами – Шанель номер пять. На руках модные нитяные перчатки… Ну, глаза зеленые. Стрижка короткая, на лбу коричневая челка… Вот еще такая примета: над бровью – над правой?.. над левой?.. – да, над левой бровью маленькая, размером с яблочное семечко, родинка вишневого цвета. А больше, к сожалению, ничего и не помню.
– Вы уже много важного припомнили. Необходимо воссоздать словесный портрет этой женщины – специалисты у нас в управлении вам помогут. Я попрошу больничное начальство, чтобы вас со мной отпустили на пару часов… Через пятнадцать минут мне тоже надо быть в управлении. Я вас подвезу.
Стивенс повернулся к Милтону и Полу, кивнул в сторону стаканчика на подоконнике.
– Прихватите его, пусть химики попробуют определить, что в нем содержалось. Да и в дактилоскопическом отделе надо показать. Хотя сомневаюсь, чтобы на стенках обнаружились отпечатки пальцев посетительницы. Та, видать, работала, не снимая своих нитяных перчаток… Машину я забираю.
После его отъезда Милтон и Пол тщательно обыскали палату, проверили складку за складкой одежду женщины, вытряхнули и перебрали содержимое ее сумочки. Единственной заслуживающей внимания находкой оказался клочок бумажки – его Милтон нащупал внутри сумочки, под надорванной в этом месте матерчатой подкладкой. То ли бумажка завалилась туда случайно, то ли была спрятана. На бумажке – написанные карандашом десять цифр, похоже, номер телефона.
Пол предложил проверить – набрать этот номер. Но Милтон сказал, что торопиться не стоит. Он связался с техническим отделом, попросил установить через телефонную компанию, куда был сделан звонок из этой палаты сегодня рано утром. Заодно продиктовал и номер, найденный в сумочке; если такой телефон, действительно, существует, пусть выяснят имя и адрес владельца.
Милтон достал из широкого кармана своей куртки фотоаппарат и сделал под разными углами несколько снимков умершей. Минут через десять пришли санитары, увезли тело на вскрытие. А Милтон и Пол, прихватив сумочку и уложенный в пластиковый пакет стаканчик, отправились в управление.
По приходе Милтон прежде всего позвонил в технический отдел. Ответ на первый вопрос оказался неутешительным. Установить, куда был сделан утренний звонок из палаты, не удалось – телефонные звонки из палат сначала поступают на коммутатор больницы, а телефонная станция просто фиксирует все звонки с данного коммутатора – несколько сотен каждый час. Более обнадеживающим выглядел ответ на второй вопрос. Да, телефон с таким номером существует. Имя владельца – Герберт Донован, адрес – в Челси, одном из небогатых пригородов Бостона.
С этой информацией Милтон и Пол почтительно проскользнули в приемную начальника управления. Важная секретарша неторопливо скрылась за массивной дверью. Через минуту из-за двери появился взлохмаченный Стивенс – без пиджака, с приспущенным галстуком. Сразу ухватив суть дела, распорядился:
– Звонить не надо. Если этот Донован принадлежит к той же террористической группе, можете его вспугнуть. Поезжайте по адресу. Не торопитесь. Прежде всего, не раскрывая себя, понаблюдайте за домом. Если этот человек – просто знакомый, он должен быть допрошен. А если он причастен ко вчерашним событиям – арестован. Но без нужды не рискуйте; вы ведь убедились – мы имеем дело с людьми, которые ни перед чем не останавливаются. В случае чего свяжитесь со мной – пришлю для ареста еще ребят на подмогу. И не забудьте взять с собой фотографии убитой. Полагаю, Донован может знать ее.
Глава пятая
Ваня Белкин работал через день. Он брал такси напрокат, на сутки, и старался использовать «до упора» – выезжал чуть свет, добирался домой заполночь. А вчера пришлось гонять такси по Бостону даже дольше обычного. По пятницам особенно многолюдно в ресторанах, ночных клубах, прочих увеселительных заведениях в центре города – пассажиров и после полуночи хватает, от заработка отказываться грех.
Сегодня утром Ваня отсыпался. В квартире было тихо. Рита неслышно возилась на кухне, загодя готовила обед – после двенадцати будет некогда, пойдут ученики, заиграет ее старенькое пианино в столовой. А Павлик еще совсем рано умчался. Сказал матери, что и в субботу, и в воскресенье работает – включен в группу, которая расследует вчерашний жуткий случай массового отравления в сабвее.
Белкины жили в многоквартирном доме, удобно расположенном возле остановки автобуса, что ходил до ближайшей станции бостонского сабвея. Квартира маленькая, сравнительно недорогая. О домике, как у Городецкого, давно мечтала Рита, но он пока был им не по карману.
Ваня встал в полодиннадцатого. Прежде всего приступил к зарядке. Он делал ее лишь через день, когда не надо было спозаранку спешить на работу, но зато делал основательно. Выше среднего роста, массивный, с еще твердыми буграми мышц, перекатывающимися под кожей, он методично перемежал упражнения на руки, плечевой пояс, брюшной пресс, спину, ноги. Отжимался от пола, махал тяжелыми гирями. Постепенно лицо и глубокие залысины, вторгавшиеся с двух сторон в его негустую шевелюру, покрылись росинками пота. Воздух с шумом вырывался из широкой грудной клетки. Выполняя наиболее трудные упражнения, он при каждом выдохе внятно пришептывал: «Врешь!» И потом через паузу: «Не возьмешь!»
Как-то зайдя в спальню во время его утренней зарядки, Рита шутливо спросила: «С кем это ты там препираешься?» Он серьезно ответил: «Со старостью».
После завтрака Белкин позвонил Городецкому – они собирались сегодня встретиться. Недавно Городецкий пожаловался, что мотор в его «эскорте» начал барахлить: работает как-то неритмично, упала мощность. Белкин тогда посоветовал не торопиться к автомеханику, который, конечно же, обнаружит самые серьезные дефекты и заломит цену. Прежде надо просто проверить свечи. Заметив незамутненную ясность в глазах Городецкого, который, наверное, и не знал, где свечи эти расположены, Белкин пообещал, что в субботу проверит их сам.
Когда Городецкий приехал, Белкин вынес из дома ящик с инструментами, поднял капот «эскорта», сосредоточенно прислушался к звуку работающего мотора. Так и есть – одна свеча из четырех, кажется, не дает искры. По очереди вывинчивая свечи, он нашел ту, что барахлила, показал Городецкому.
– Видишь, у нее электроды маслом забрызганы, потому и искра пробиться не может. А случается это обычно, если слишком много масла залито. Ты щупом-то пользуешься? Или просто льешь по принципу, что маслом каши не испортишь?.. Где-то у меня тут свеча валялась, вроде бы того размера, что к «эскорту» подходит, – Белкин пошарил в своем ящике. – Вот. Давай заменим.
С новой свечой мотор заработал веселее, перебои исчезли. Захлопнув капот, друзья решили прогуляться к небольшому озерцу, что синело неподалеку между деревьями. День снова выдался солнечный, теплый, дышалось легко.
– Слушай, Ваня, а ведь я сделал потрясающее открытие насчет моих дорогих соседей, – вспомнил, оживившись, Городецкий. – Забрался я вчера на чердак, выглянул в оконце, которое смотрит в сторону их дома…
– Не знал за тобой таких талантов – на чердаке наблюдательный пункт устраивать.
– Да случайно это вышло. Лука опять удрал на чердак – я за ним и полез. Не перебивай… Так вот со стороны двора к их дому пристроена широкая, застекленная от пола до потолка веранда. Вокруг двора забор высокий, веранду за ним не видно. А из моего чердачного оконца она как на ладони. Выглянул я – и челюсть отвисла… На веранде толстый ковер расстелен, а на нем в чем мама родила двое резвятся: шофер, помнишь, с бугристым шрамом через щеку, и дамочка та. А в кресле третий сидит, тоже голышом. Только не разобрал – тот ли, которого мы тогда видели на заднем сиденье «кадиллака», или кто другой. В машине сидел усатый, а этот, вроде бы, без усов. Впрочем, видно было плохо – кресло в глубине веранды стояло… И вот, значит, приморился первый мужик. Тогда дамочка подбегает ко второму, что в кресле сидит. А он, видать, с комплексами – сует ей в руки плетку какую-то. И начала дамочка его стегать. Он валится из кресла перед ней на колени, рот разевает – визжит, вроде бы. А она его плеткой, плеткой… Плюнул я и понес Луку вниз, чтобы покормить.
– Везучий ты, Ефимыч. Я про мазохизм этот столько читал, а видеть не доводилось… Ничто не ново под луной – подобные штучки еще у Светония описаны. Помнишь у него: Нерон отдавался своему вольноотпущеннику Дорифору и при этом каждый раз вопил, как насилуемая девственница?.. Тогда сверху донизу великий Рим загнивал. Теперь загнивает Америка.
– Ну, сел на своего конька, – улыбнулся Городецкий. – Чего же ты приехал в эту Америку?
– Хорошая страна – потому и приехал. Благодарен ей, что приютила. Вот и тревожусь. Ведь она вниз катится. Даже на нашей памяти, за семнадцать лет, число «болезней» у нее только прибавилось. И ни одну по-настоящему не лечат – внутрь загоняют. Преступность. Наркотики. СПИД. Все ниже уровень школьного образования. Адвокатов больше, чем во всем остальном мире, а судебная система деградирует. Где это видано, чтобы убийцу, замазанного в крови двух своих жертв, присяжные оправдали просто потому, что у него с ними один цвет кожи? Или вот вчерашний кошмар в сабвее – разве это не есть еще один признак надвигающейся катастрофы?
– Все-то, Ваня, ты говоришь верно. Да только выводы делаешь больно мрачные. Основы американского общества крепкие, здоровые. Осилит оно и эти проблемы, не впервой. Не случайно Америка – лидер западного мира и политический, и экономический.
– Вот-вот, насчет экономики ты кстати напомнил. Ни одна нормальная семья не позволит себе жить в долг, тратить год за годом больше, чем зарабатывает. А это, как ты изволил выразиться, здоровое общество существует подобным образом уже десятки лет. Выплата одних лишь процентов по государственному долгу уже намного превышает, например, все расходы страны на оборону. Толпе потребителей важно только, чтобы не ущемляли ее сегодняшнего благополучия. А политикам, чуть лучше осведомленным, какой экономической катастрофой это рано или поздно кончится, на будущее страны начихать – им бы на очередных выборах любой ценою набрать голосов!
Городецкий молчал – спорить с Белкиным на эту тему бесполезно, надо уводить разговор в сторону. Они стояли на берегу озерца, образовавшегося в лощине после того, как запруда перегородила протекавший тут ручей. Когда по весне таял снег или когда случались сильные дожди, вода в озерце заметно прибывала. Но теперь, после нескольких недель солнечной сухой погоды, оно обмелело, сквозь прозрачную воду было видно близкое дно, по которому торопливо шныряли мелкие рыбешки. На поверхности воды вспыхивали и гасли солнечные блики, тихо колыхались желтые, намокшие листья.
– Хороша погодка сегодня. Осень золотая… – умиротворенно сказал Городецкий. – Чует ее душа человеческая, хочется говорить о чем-то возвышенном. Вот лучше признавайся. Мужик ты видный, в молодости, наверное, красавцем слыл. Женщины тебя любили?
– Глубоко копаешь, гражданин следователь, – сразу заулыбался Белкин. – И женщины любили, и девушки, и даже отдельные вдовицы… Занятная история вспомнилась – хочешь, расскажу? Была у меня дамочка одна, докторша из нашего врачебно-физкультурного диспансера. Папа с мамой, видать, долго имена перебирали – Леонорой назвали. А я в минуты экстаза Норочкой ее звал. Действительно, все на месте… И вот, значит, уехала Ритуля моя на пару дней в Николаев – там ученики из ее музыкальной школы выступали на каком-то конкурсе…
– Постой, постой, – вздрогнул Городецкий. – Я тебя о молодых холостяцких годах спрашивал. А ты, выходит, уже женатый, изменял такому золотому человеку, как Риточка?
– Обижаешь, гражданин следователь… Есть измена и измена. Как говорят у нас в Одессе, две большие разницы. Душой я Ритуле никогда не изменял. Ну, а телом… Пойми: здоровый мужик, мастер спорта по вольной борьбе в полутяжелом весе. Поначалу сам тренировался, потом других тренировал, в году по шесть месяцев в отъезде – на разных там сборах, соревнованиях. Тут и ангел не выдержал бы. Пошаливал иногда… Так вот, воспользовался я случаем и привел Норочку к себе.
– А Павлик?
– А его я утром в детский садик отвел.
– Ну, а если бы Риточка вдруг вернулась раньше срока? Ведь и такое бывает… уж поверь мне.
– Опять обижаешь, гражданин следователь. Я же ей пораньше утром позвонил в Николаев – она рассказала, что ее ученики выступают хорошо, что возвращается завтра. Казалось бы, все предусмотрел. Но правильно говорят: человек предполагает, а Бог располагает… В самый момент экстаза – звонят в дверь. Конечно, не реагирую, чтобы экстаз не нарушить, – позвонят и уйдут. Однако через минуту слышу: дело плохо, ключ в замке ворочается. Запасной ключ мы у тещи держали – никак она. Правда, когда зашли мы с Норочкой, я, как по наитию, замок на предохранитель поставил… Ключ минуты две в замке ворочался, теща настырная все пыталась замок открыть. Потом угомонилась. У меня, конечно, весь экстаз пропал. Осторожно отодвигаю краешек оконной занавески. Из окна бросаю взгляд вниз. Сидит на скамеечке теща, лицо суровое, глаза уперлись в дверь подъезда. Ясно, что с места не сойдет хоть до завтра. Что делать?..
Белкин подобрал плоский камушек, валявшийся под ногами. Размахнувшись, запустил его, и тот запрыгал по поверхности воды.
– Жили мы в «хрущевском» доме, на последнем, четвертом этаже… В подъезде, к стене возле двери нашей квартиры, железная лесенка прикреплена, а над ней люк на чердак. И вот принимаю решение – уходим через чердак. Первой Норочка лезет, я ее подсаживаю. Как сейчас помню, ножки ее стройненькие снизу так соблазнительно смотрятся, хоть обратно в квартиру веди. Но сдержался. Толкнула она ладошкой люк – слава Богу, не заперт. По чердаку переходим к люку над соседним подъездом, спускаемся туда по железной лесенке, идем вниз, к выходу. Я инструктирую Норочку, выходит она наружу. Теща сразу засекла ее боковым зрением, но глаз от нашего подъезда не отводит. А я заховался, через щелку наблюдаю. Норочка торопливо подходит к теще и спрашивает, где здесь ближайшая аптека. Потеряв на мгновение бдительность, теща поворачивается ко мне затылком, показывает, как к аптеке пройти. Пользуюсь этим, выскальзываю из подъезда, иду себе спокойненько по тротуару вдоль дома – будто только что сошел с автобуса, возвращаюсь из своего спортклуба. Теща окидывает меня долгим, задумчивым взглядом. Объясняет, что пришла забрать порванную курточку Павлика, заштопать собиралась, да вот замок не отпирается. «Ах, мамаша, – отвечаю, – у меня с этим замком тоже морока… Ключ сначала нужно засунуть до упора, потом на себя потянуть, но только самый чуток – и тогда поворачивать… Вот смотрите, мамаша…» Интуиция у нее богатая – так мне до конца и не поверила. А сказать нечего.
– Ну, Ваня, давал ты прикурить, – то ли с восхищением, то ли с осуждением покачал головой Городецкий.
– Теща по сей день в Одессе живет, не захотела эмигрировать. Веришь, я по ней скучать начал. Посылки ей по несколько раз в год отправляем… А если честно, и я, наверное, в эмиграцию не поднялся бы – это Ритулина заслуга. Уж больно тошнотворной была для нее вся советская ложь. «Едем, – говорит, – пока дверь приоткрыли. У моего отца в роду бабушка, вроде бы, еврейкой была – воспользуемся». Как я теперь благодарен Ритуле. И у Павлика совсем другая жизнь будет… Если только тут либеральные идиоты не загубят страну окончательно.
Белкин посмотрел на часы.
– Смотри-ка, время уже обеденное, как говорят здешние аборигены, пора ланч принимать. Ритуля с утра что-то там стряпала. Пошли перекусим?
– Я бы с удовольствием. Но ведь в субботу ученики у нее – не до гостей хозяйке. Да и мне пора котенка кормить. У тебя следующий свободный день – понедельник? Вот как отоспишься – и подтягивайся. Я заранее водочку в холодильнике остужу, что-нибудь приготовлю по-холостяцки, посидим, потреплемся…
Уже возле дома Белкин остановился, повернул к Городецкому посерьезневшее лицо.
– Разболтался я с тобой, Ефимыч. Делишки мои непутевые – они все в прошлом. А вот без Ритули я жизни своей не мыслю. Столько связывает – и в радости, и в горе… Ты и не знаешь, у нас до Павлика еще сыночек был. Пошел с соседскими ребятами купаться… и утонул. В четырнадцать лет. Ума не приложу как – ведь лучше меня плавал. Когда это стряслось, Ритуля сутки в беспамятстве лежала, а я тупо сидел возле нее, уставившись в окно… И вдруг подлетает к окну большая птица. Какой породы – не спрашивай, не знаю; даже какого цвета – не знаю. Но большая, распластанными крыльями полокна закрыла. Бьется эта птица о раму, влететь хочет, а я сижу, как заколдованный, шевельнуться не могу. Через минуту исчезла, будто растаяла. Ни до того, ни после в мое окно птицы не бились. Ни разу в жизни. Вот ты и скажи, могла это быть душа сыночка?.. Ничего-то мы о самом главном и не знаем… Только ты не проговорись – я Ритуле никогда об этом не рассказывал.
Задумавшийся Городецкий поехал на своем «эскорте» домой. Теперь мотор работал мягко, ритмично. Рассказ Вани о птице, как нитку за иголкой, потянул воспоминания. Встал перед глазами тот вечер в замызганной московской больнице, где лежала мама, вроде бы уже оправляясь от инфаркта. Сидя возле кровати, Городецкий с робкой надеждой вглядывался в ее лицо. А мама нарочито бодрым голосом расспрашивала о каких-то мелких домашних делах: не забыл ли заплатить за телефон, не протекает ли опять потолок в ванной. И вдруг посреди этого пустякового разговора лицо мамы стало отрешенным, глаза уставились вдаль, она, прислушиваясь, замолчала. «Что с тобой?» – испуганно спросил Городецкий. Мама вытянула указательный палец с распухшим подагрическим суставом туда, где смыкались потолок и стенка больничной палаты, глухо выдавила: «Зовут…» Волна немыслимого холода обдала сердце Городецкого, он торопливо забормотал: «Ты сыну нужна – пусть не зовут, не время еще…» Через мгновение мамино лицо приняло обычное выражение. Будто и не помня только что сказанного, она продолжила разговор о протекающем потолке. А наутро больничный врач позвонил Городецкому на работу и сообщил, что сорок минут назад мама скончалась. Наверное, прав был Толстой, когда написал, кажется, в дневнике: «Ни в какие предчувствия не верю, а в предчувствие смерти верю». Где она ждет – эта костлявая с косой? За каким поворотом?
Глава шестая
В воскресенье утром, подождав, пока все рассядутся в кабинете, Стивенс вытащил из стола свою синюю папку. Выглядел он озабоченным.
– К сожалению, за вчерашний день следствие продвинулось ненамного. Как вы, конечно, уже слышали, единственная оставшаяся в живых террористка была убита прямо в больничной палате. За двадцать минут до того, как мы приехали. Вот судебно-медицинское заключение: смерть наступила в результате отравления цианистым калием. Составлен словесный портрет посетительницы, которая принесла яд в больницу. Удалось установить также имя отравленной – Салли Донован. В Челси живет ее муж, по-видимому, не причастный к террористическому акту; они расстались полтора года назад. В его квартире сейчас Милтон и Пол – охраняют свидетеля. Неровен час, и того убрать могут… Сразу после нашего совещания еду туда для допроса; некоторых свидетелей лучше допрашивать в их привычной обстановке, они тогда не так скованы… А как твои дела, Арчи? Что удалось выяснить о тех девяти погибших, у которых кольца с монограммой «ХС»?
– Ну, значит, мы с ребятами собрали вчера кое-какую информацию. Все девять – принадлежали к одной религиозной общине под названием «Храм Сириуса». Отсюда такая монограмма, а восьмиконечная звездочка сбоку как раз изображает этот Сириус. Вчера удалось разыскать и допросить нескольких прихожан из «Храма». Те считают себя христианами, но не признают над собой авторитета ни одной из основных христианских конфессий: католической, протестантской или православной.
Арчи достал из кармана блокнот со своими заметками.
– Главная их идея – близок конец света, когда, как написано в Апокалипсисе, «люди будут искать смерти, но не найдут ее, пожелают умереть, но смерть убежит от них». Поэтому – считают последователи Храма – надо уйти из жизни до того. В этом случае их души спасутся на звезде Сириус. Следует только подождать особого знака на небесах, о котором возвестит их пастырь, пророк Джошуа. Ожидание это длится уже четыре с половиной года. Сектанты, а среди них много состоятельных людей, пожертвовали Храму большие деньги, ведь эти деньги на Сириус все равно с собой не возьмешь. «Храм Сириуса», официально зарегистрированный властями штата как религиозная организация, арендует полуподвальное помещение в одном из зданий неподалеку от станции сабвея «Парк стрит». По утрам сектанты съезжаются сюда для молитвенных собраний. Гибель в минувшую пятницу девяти собратьев была воспринята теми, кого я допрашивал, как происки дьявола. Они считают, что души погибших не сумеют в одиночку добраться до Сириуса – это возможно только после того, как пророк Джошуа узрит знак на небесах. Всем допрашиваемым я предъявлял фотографию кольца с монограммой «АТ» – они мялись, твердили, что ничего не знают, что, мол, лучше спросить пророка.
Арчи улыбнулся.
– К сожалению, того сейчас нет в Бостоне. Допрошенные сообщили, что неделю назад он удалился куда-то, чтобы молиться наедине, но каждое утро звонит в Храм, проверяет паству. Через телефонную компанию было нетрудно установить, что эти звонки – из отеля в Атлантик-Сити. На всякий случай в конце дня я связался с нашими коллегами в штате Нью-Джерси, попросил, чтобы просто понаблюдали за пророком. Но уже в одиннадцать вечера его пришлось арестовать – по обвинению в половой связи с несовершеннолетними. Оказывается, он привез на курорт и поселил в своем дорогом номере двух пятнадцатилетних сектанток из «Храма». При обыске в номере обнаружены также несколько пакетиков с марихуаной. Думаю, находясь сейчас под арестом, пророк будет охотнее сотрудничать с нами, поделится всей известной ему информацией о монограмме «АТ». Если не возражаешь, Крис, я мог бы сегодня слетать в Атлантик-Сити для допроса?
– Арчи, вы все славно поработали вчера. И идея слетать в Атлантик-Сити звучит разумно. Только, пожалуйста, до отлета составь список всех полицейских отделений в Бостоне и пригородах и распредели отделения между ребятами. Пусть они наведаются туда сегодня, потолкуют, покажут словесный портрет дамы, что принесла цианистый калий в больницу, а также фотографии убийц-самоубийц из сабвея. Может, удастся опознать кого-нибудь из них… А я сейчас еду в Челси…
Вчера всю вторую половину дня Милтон и Пол наблюдали за квартирой Донована. Из их машины, припаркованной у противоположного тротуара, был виден длинный одноэтажный фасад, унылый ряд окон с давно не крашенными рамами, обшарпанные двери квартир, выходящие прямо на улицу. Милтон послал Пола проверить двор. Вернувшись, тот сообщил, что у квартир выхода во двор нет, туда смотрят только небольшие оконца – по-видимому, из ванной комнаты и из кухни.
Квартира номер семь – в отличие от соседних – не подавала признаков жизни, никто не заходил туда, не выходил, занавески безжизненно висели на окнах. Дома ли хозяин? Милтон достал мобильник, набрал номер.
– Позовите, пожалуйста, Нэнси, – голос Милтона звучал игриво; он подмигнул Полу. – Ошибся номером?.. Извините.
Милтон отключил мобильник.
– Усталый мужской голос. Тот ли, кого ищем? И один ли он там?.. Спешить не будем. Авось выйдет, пройдется куда-нибудь. Подождем… – Милтон потянулся, откинул поудобнее спинку сиденья. – Хорошее имя – Нэнси. Да и сама она – красотка хоть куда. Везучий ты, Пол.
Пол смущенно хмыкнул. Женщин в его жизни еще не было. Нравилась ему, правда, одна разбитная студенточка на их курсе в колледже, но он так и не решился открыться ей в этом. А теперь вот колледж позади. Видимо, по характеру Пол пошел не в отца.
– Ты в Америке родился или приехал откуда? – спросил он Милтона.
– В Америке – имею законное право выдвигать свою кандидатуру на пост президента Соединенных Штатов. Родители – из Вьетнама. От коммунистов бежали, в газетах тогда существовал такой термин «лодочные люди».
– А вот мне президентом не бывать, – улыбнулся Пол. – Шестилетним привезли из Советского Союза… Выходит, и твои, и мои родители знают, что такое коммунизм, не понаслышке…
Только к вечеру они взяли Герберта Донована – прямо на улице, когда тот, прихрамывая, с сумкой в руках заворачивал за угол в соседний супермаркет. Милтон и Пол подошли к нему с двух сторон, Милтон назвал себя, показал удостоверение ФБР. Донован послушно вернулся с ними в квартиру. Милтон быстро осмотрел ее: в спальне неприбранная кровать, грязные носки валяются в углу; на кухне – на столе и в раковине – гора немытой посуды.
Донован молча сидел у кухонного стола, глаза сквозь толстые стекла очков выглядели испуганными, беззащитными.
– Сэр, не волнуйтесь, пожалуйста. Вы нам нужны как свидетель, для опознания. Мы нашли ваш телефонный номер на бумажке, засунутой за подкладку дамской сумочки… Вы знаете эту женщину? – Милтон выложил на стол фотографии женщины, убитой утром. Донован, близоруко вглядываясь, наклонился над ними, через мгновение вскрикнул:
– Салли!.. Что с ней? Она в больнице?
– Вы знаете ее?
– Она – моя жена. Мы расстались полтора года назад. Что с ней?
– Сэр, вынужден вас огорчить – она умерла. Ее отравили. Мы ищем тех, кто это сделал. Вы должны помочь нам.
– Салли умерла!.. Я же говорил ей, я говорил! – очки Донована упали на стол, крупные слезы брызнули из-под прикрытых век. – Я все вам расскажу, теперь мне нечего бояться за ее жизнь!.. Только не сейчас, не сейчас… Салли умерла!
Донован забился в истерике. Милтон вышел на улицу. Вечерело, на чистом небе появились первые звезды. Сев в машину, Милтон достал мобильник, позвонил Стивенсу, коротко рассказал обо всем.
– В таком состоянии допрашивать его не стоит. – Стивенс помолчал. – Сделаем так: пусть придет в себя, проспится, а утром я сам приеду. Вы с Полом останетесь в квартире. Объясните хозяину, что это в его интересах. Может, мои опасения преувеличены, но уж очень не хотелось бы, приехав завтра, обнаружить еще один труп.
Всю ночь Милтон и Пол бодрствовали по очереди. Утром, в десятом часу, невыспавшийся Милтон увидел в окно машину Стивенса, тормозившую у тротуара, и вышел, чтобы встретить шефа.
– Как Донован? – спросил Стивенс.
– Лучше. Ночью часто стонал во сне. Рано утром Пол сбегал в супермаркет, мы все вместе позавтракали, выпили кофе. Потом втроем навели хоть какой-то порядок на кухне, перемыли гору посуды. Сейчас Донован выглядит намного спокойнее, ждет вас.
– Никаких посетителей не было?
Милтон замялся.
– Посетителей не было. Но кое-что показалось подозрительным. Около полуночи я дремал на кухне, а Пол вышел на крыльцо подышать свежим воздухом. Вдруг смотрит – останавливается возле дома машина. Уже дверца приоткрылась, водитель выйти хотел. А потом дверца захлопнулась, и машина укатила. Возможно, машина эта и не имеет к Доновану никакого отношения. Но, предположим, кто-то хотел навестить его – увидел на крыльце незнакомца, изменил планы. Конечно, тут я виноват, надо было Пола предупредить, чтобы не высовывался. Что за машина, он по ночной поре не разобрал. Вроде бы, черного цвета, большая.
– Да, высовываться не стоило, – недовольно хмыкнул Стивенс.
На кухне, поздоровавшись, Стивенс уселся за стол напротив Донована. Сбоку устроился Милтон, положил перед собой ручку, привезенные Стивенсом бланки допроса, диктофон. Стивенс разъяснил права свидетеля: не отвечать, если ответ может быть использован против самого свидетеля; отложить допрос, если считает необходимым присутствие адвоката.
– Нет, адвокат мне не нужен, – отозвался Донован.
Ему еще раз были предъявлены фотографии, и он подтвердил, что на них его жена Салли. Стивенс уложил фотографии в пакет, вздохнул.
– Примите мои искренние соболезнования, мистер Донован… Сегодня утром получено официальное судебно-медицинское заключение: вашу жену отравили цианистым калием. Кто это сделал? Зачем?.. Буду благодарен за любую информацию, которая поможет выйти на след преступников.
– Кажется, я их знаю, – Донован снял очки, устало потер веки. – Только разрешите начать с начала, так мне будет легче не упустить какую-нибудь важную для вас деталь.
– Конечно, конечно, – согласился Стивенс.
– Мы поженились двадцать три года назад, когда меня, военного фельдшера, демобилизовали из армии после ранения в ногу во время вьетнамской войны. Салли была на четырнадцать лет моложе, милая, чистая, доверчивая девочка. Через год у нас родилась дочка – к несчастью, болезненная, с каким-то тяжелым пороком сердца. Салли любила ее безумно, возила по всевозможным врачам, даже знахарям. Но дочка умерла в двухлетнем возрасте. Больше детей у нас не было… В отличие от меня Салли – из религиозной семьи. После трагедии с дочкой она стала все отчаяннее погружаться в религию. И тут на беду встретила случайно свою давнюю школьную подружку. Та уже была членом этой проклятой секты.
– Какой секты?
– «Семья небесной любви». Салли посетила пару раз их молитвенные собрания. Их пастырь, так называемый апостол Теофилус, имел с ней долгую беседу… Короче, в один прекрасный день Салли твердо сказала, что будет жить в секте, ибо там – истина. Что мне оставалось делать? Я любил ее, она была центром моего мироздания. Мы продали наш маленький домик здесь, в Челси, отдали деньги в секту и перебрались туда. Спали на полу – апостол учил, что чем неприхотливее здешняя жизнь, тем больше воздастся в жизни небесной. Да и ждать переселения туда оставалось недолго. Апостол обещал заранее возвестить о конце света, чтобы все его последователи успели вместе уйти из этой жизни и попасть прямо в руки Божьи. Дни проходили в работе на ферме, где жила секта. К вечеру начинались многочасовые молитвенные собрания. Раз в неделю надо было ходить на исповедь к апостолу, рассказывать без утайки о себе и о том, что заметил за другими членами секты. По сути это были еженедельные доносы друг на друга. После исповеди апостол изрекал, могу ли я иметь близость с моей женой в течение следующей недели, сколько раз и каким способом.
Донован зябко повел плечами.
– Ради Салли я, наверное, и дальше терпел бы эту мерзость. Но недель через шесть после нашего переселения в секту случилось особо долгое молитвенное собрание, на всю ночь. Оказывается, такие собрания проходили в секте раз в два месяца. После бесконечных молитв и песнопений, уже под утро апостол вынес в молитвенный зал большой золотой кубок, наполненный странно пахнущей жидкостью. Каждый должен был отпить из кубка. Я взял жидкость в рот, но не проглотил – отойдя в угол, незаметно выплюнул. Наверное, к жидкости были подмешаны какие-то галлюциногены. После этого члены секты, уже одурманенные многочасовыми исступленными молитвами, окончательно потеряли контроль над собой, начали возбужденно приплясывать на месте, выкрикивать что-то невнятное. И тут апостол приказал всем раздеться догола. Мне было так стыдно… из-за Салли. Чтобы не обнаружить, что я сохранил способность контролировать себя, я тоже разделся. Апостол включил какую-то громкую ритмичную музыку. Сначала стоя, а потом упав на пол, члены секты задергались под музыку быстрее и быстрее… И начался свальный грех. Спасая Салли, я прикрыл ее своим телом. Но через несколько минут метавшийся по залу апостол заметил это и, отбросив меня, швырнул Салли в объятия двух корчившихся рядом мужчин с выпученными глазами. Она, одурманенная, ничего не понимала… Я закрыл глаза, я не мог этого видеть.
– А сам апостол тоже участвовал в оргии?
– Нет, он только бегал по залу, выкрикивал что-то, на губах пузырилась пена… Знаете, мне кажется, у него какие-то неполадки по этой части.
Донован помолчал немного.
– На следующий день, наедине с Салли, я сказал, что мы должны уйти. Она отказалась. И я ушел, вернее, сбежал один. Умолял ее звонить, оставил ей бумажку с нашим прежним телефонным номером – потом, поселившись опять в Челси, я попросил телефонную компанию установить в моей квартире телефон с этим же номером.
– Салли звонила?
– Ни разу. Но, как видите, хранила бумажку, спрятав за подкладку сумочки. Выходит, я для нее еще что-то значил, – Донован всхлипнул. – Как ни странно, только после ухода из секты я стал истинно верующим. Каждый день молился за Салли. Но ни в какую церковь не ходил; думаю, не это главное. Церквей много, а Бог – один. Главное – иметь Его в сердце своем.
– Больше вы апостола не видели?
– Месяца через два после моего ухода я неожиданно столкнулся с ним возле местного супермаркета. Все-таки разыскал меня… Подошел, негромко сказал, что я должен молчать, забыть все, что видел. Иначе – Салли умрет. Глаза гипнотизирующие, безжалостные. Я знал: он не шутит. Живя в «Семье небесной любви», я слышал глухие разговоры, как свято беспощаден может быть апостол к упорствующим в заблуждениях. Вроде бы, за год до нашего там появления одна сектантка родила ребенка – кажется, у того было шесть пальчиков на руке. Апостол объявил это знаком антихриста и велел матери утопить малыша в ванне. Но она никак не могла решиться. Тогда по приказу апостола три фанатичных сектанта вошли ночью в комнату, где та спала, и зарезали: три удара ножом в горло – во имя Святой троицы; по удару в каждую грудь – за то, что кормила антихриста. А ребеночку проткнули сердце деревянным колом. Тела потом закопали во дворе, где-то возле баков с мусором.
– Вы знаете адрес фермы?
– Это на окраине Шэрона, недалеко от Девяносто пятой автострады. Адреса не знаю, но как туда ехать, могу показать.
Стивенс достал из пакета и положил на кухонный стол словесный портрет женщины, что навестила Салли Донован в больнице.
– Знакома вам?
– Запамятовал, как ее зовут. Это помощница апостола. Тот лишь изредка оставался ночевать на ферме, чаще, после вечерних молитвенных собраний, уезжал куда-то. И она вместе с ним.
– Помощница принимала участие в той оргии?
– Самое активное.
– Апостол приезжал и уезжал на машине?
– Да.
– Не помните номер машины или хотя бы марку?
– К сожалению, в этом смысле от меня проку мало – зрение никудышное, – Донован ткнул пальцем в толстые линзы очков. – Видите: восемь диоптрий… Помню только, что это была большая машина черного цвета.
Стивенс многозначительно посмотрел на Пола. Тот виновато опустил голову.
– Машина всегда останавливалась за воротами фермы, апостол выходил, а машина уезжала. Если он не собирался ночевать на ферме, машина к ночи опять появлялась за воротами.
– Значит, был шофер?
– Да. Но он никак не участвовал в жизни секты на ферме. Кроме апостола и той помощницы, шофера никто не знал.
Стивенс достал из пакета фотографию кольца с монограммой «АТ», показал Доновану.
– Такие кольца носят все члены секты, – объяснил тот. – «АТ» означает Апостол Теофилус, а человеческая фигурка с крыльями изображает ангела, который возвестит о конце света.
– Как апостол выглядит?
– Выше меня примерно на полголовы, широкий в плечах, физически очень сильный. Всегда был одет в сутану с капюшоном. Иногда капюшон соскальзывал, и становилась видна большая, бугристая, совершенно лысая голова. Когда во время проповеди он подымал руки вверх, рукава сутаны опадали, обнажались предплечья, сплошь покрытые татуировками: змеи там всякие, черепа, ножи. Вот, вроде бы, все, что помню…
– Мистер Донован, вы предоставили очень ценную информацию. Но ваша помощь еще будет нам нужна. Следует создать словесный портрет апостола. Также вам предстоит печальная обязанность – официально опознать тело Салли в морге. Но это все потом. А сейчас, не откладывая, мы едем с вами на ферму. Боюсь, там нас ждут не очень веселые открытия.
Стивенс достал мобильник, набрал номер своего отдела. Ответила секретарша.
– Значит, Арчи уже улетел, а остальные разъехались по полицейским отделениям? Так… Прямо сейчас свяжись с ребятами. Пусть отложат свои беседы в полицейских отделениях. Передай мой приказ: через час всем быть в Шэроне. Там городская библиотека есть – встречаемся у входа, на парковке.
Стивенс посмотрел на часы. Повернулся к Милтону, Полу и Доновану.
– Едем!
Глава седьмая
Без четверти два тщательно выбритый Городецкий стоял с букетиком красных гвоздик, как и договорились, у входа в зал, где должен был выступать именитый поэт. Желающих его послушать в этот воскресный день было много, вокруг разноголосо звучала русская речь. Городецкий занял позицию чуть сбоку от дверей, вглядываясь в лица проходящих женщин. К слишком молодым или слишком старым он сразу терял интерес, на остальных бросал – как бы невзначай – изучающие взгляды. Иногда в его глазах вспыхивала надежда, иногда они туманились неприкрытым ужасом.
Появления Верочки он не заметил. Чья-то рука, на которой висела небольшая черная сумочка, дотронулась сбоку до его локтя, мягкий женский голос спросил: «Семен Ефимович?» Это была она. Городецкий, засмущавшись, вручил ей букетик и торопливо отошел к кассе за билетами.
Ему удалось рассмотреть Верочку, лишь когда они уселись в зале. Волосы у нее были густые, черные, кое-где проступали и седые. Носик ровный. Перед ушной раковиной кожу прочертила вертикальная морщинка, та самая, которую подсмотрел когда-то Бальзак у стареющих женщин. Когда Верочка наклоняла вперед голову, кожа ниже подбородка собиралась в складку, но небольшую, не так, как у Агнессы. («Погляди лучше в зеркало, старина, – рассердился вдруг на себя Городецкий, – сам-то каков»). Зато глаза у Верочки были блестящие, полные жизни и, кажется, добрые.
Они успели перекинуться всего несколькими общими фразами, потом свет в зале начал медленно тускнеть, на освещенную сцену вышла дебелая дама. Пальцы с тяжелыми золотыми кольцами сжимали микрофон. Дама начала издалека, с Пушкина, которым открылась эпоха великой русской поэзии. А завершает эту эпоху, по словам дамы, гениальное творчество Ямпольского. Как-то так получалось, что после Ямпольского ничего нового уже появиться не может, развитие русской поэзии благополучно закончилось. Во вступительном слове были подробно рассмотрены яркие детали его биографии, основные мотивы творчества. «А теперь перед нами выступит, – дама закатила глаза к потолку, голос ее взволнованно задрожал, – величайший поэт двадцатого столетия!»
Поэт вышел на эстраду в ярком малиновом пиджаке и давно не глаженных желтых вельветовых брюках. Над брюками нависал плотный животик. Умные, ироничные глаза прищурены. Городецкий видел поэта въявь первый раз. «Нормальный мужик, – подумал он, – кажись, и выпить умеет, и закусить, и по женской части. А вот что касаемо его поэзии…»
В течение полутора часов Ямпольский читал свои стихи. Интересна была манера чтения. Подвывание, обычное у многих поэтов, читающих стихи, он довел до совершенства – делал его громче или тише, менял скорость. Собственно слова разобрать почти не удавалось. Внезапно в одном месте Ямпольский произнес ясно и обыденно два простеньких словечка: «ебёна мать» – и снова завыл. Затем поэт отвечал на записки. Среди прочих ему был задан вопрос о том, как он относится к творчеству Блока. Видимо, Ямпольскому не раз докучали этим вопросом, он утомленно поднял от записки глаза: «Да не люблю я Блока… Он же принес скулеж в русскую поэзию». Услышав такое, Городецкий сердито засопел – Блок был среди его самых почитаемых.
По окончании поклонники устроили Ямпольскому шумную овацию… Протискиваясь сквозь толпу к выходу, Городецкий придерживал Верочку за кончики пальцев. Она послушно следовала за ним.
– Ну, как впечатление? – спросил Городецкий, когда они выбрались на улицу.
– Мне очень стыдно – я многих слов не разобрала, Ямпольский так своеобразно читает. Он, конечно же, талант. Но называть его величайшим поэтом столетия… Ведь в этом столетии жили Блок, Мандельштам, Пастернак… А вы как думаете?
– Я перечитывал Ямпольского не раз, все старался понять секрет успеха. Cтихотворная техника, конечно, отменная. Но лично меня его стихи оставляют холодным – выстроены от головы, не от сердца. И потом – такое утомительное многословие.
– Но вы же слышали, как аплодировал зал…
– Эх, Верочка, любовь зала переменчива, от моды зависит. Вон как аплодировали когда-то Северянину, «королем русских поэтов» объявили, а что осталось? Время все расставляет по местам… Мне рассказывал приятель, он литчастью в одном провинциальном театрике заведовал. Вы знаете, в тексте пьесы бывают иногда авторские ремарки типа: «Толпа зашумела». Как поведал приятель, статисты, играющие толпу, повторяют при этом быстро и вразнобой – потому и не разобрать – одну и ту же фразу: «О чем говорить, когда не о чем говорить». Боюсь, эта гениальная фраза применима ко многим современным поэтам. К священной жертве их Аполлон не требует, а сочинить что-нибудь этакое хочется. Вот и появляются на свет потоки профессиональной графомании. Не уверен, многие ли из нынешних светил лет через сто сохранятся на небосводе русской словесности. А Блок – он будет… Поживем – увидим.
– Оказывается, вы долго жить собираетесь, – улыбнулась Верочка.
– Человек предполагает, а Бог располагает, – вздохнул Городецкий. А потом тоже улыбнулся. Он вдруг вспомнил, что не далее, как вчера, слышал эту пословицу от Вани Белкина. Но совсем в ином контексте.
Продолжая разговор, они стояли на тротуаре у входа в зал. Только теперь Городецкий заметил: за пару часов, что они провели внутри, улица изменилась. Ее проезжую часть огородили синие барьерчики, возле них кое-где маячили массивные фигуры полицейских.
– Что сие означает? – удивился Городецкий.
– Разве вы не читали в газетах – на сегодня намечен марш борцов в защиту однополой любви. Пойдут и по этой улице.
– А я машину оставил в трех кварталах отсюда, с той стороны, – как же мы до нее доберемся?.. Впрочем, знаете, это и к лучшему. Мое предложение посидеть в ресторане вы позавчера отклонили. Вон там видите небольшое кафе – хотя бы мороженым могу вас угостить?.. Заодно и этот «марш энтузиастов» переждем.
В чистеньком кафе было малолюдно. Они сели за столик у окна, из которого хорошо просматривалась улица. Мороженое, вроде бы, Верочке понравилось. Городецкий исподтишка поглядывал, как ладно она орудовала ложечкой, не торопясь, не жадно, снимала с нее пухлыми губами кусочки мороженого. На коже ее рук проступали кое-где коричневые пятнышки, что появляются обычно с возрастом. Но движения рук были ловкими, молодыми.
– Верочка, а какие-нибудь стихи вы наизусть помните? – спросил Городецкий.
– Конечно. Я ведь в прежней жизни литературу старшеклассникам преподавала. Если сама стихотворения наизусть не знаешь, как можешь требовать этого от ученика? Да к тому же любимые строчки хочется всегда при себе носить.
– Вот, скажем, Пастернака вы упомянули… Что вам у него нравится?
– Ой, много, – наморщила лоб Верочка. – Пожалуй, из самых любимых – «Мело, мело по всей земле, во все пределы». Такое прозрачное и трепетное.
– Да, да, – оживился Городецкий, – и мне оно безумно нравится. Начинал Пастернак со стихов сложных, как сам он признавал потом, с «засоренным слогом». А в конце пути, пользуясь его же словами, «впал, как в ересь, в неслыханную простоту». Хотя и в этой божественной «Зимней ночи», упомянутой вами, есть пара темных строчек, как-то выпадающих из общего строя классической ясности.
– Каких это строчек?
– Помните: «И жар соблазна вздымал, как ангел, два крыла крестообразно»? Героев стихотворения сжигает лихорадка любви, это понятно. Но в какой связи появляется тут вдруг ангел, его перекрещенные крылья?
Верочка засмеялась:
– А женщине это так понятно. Когда она снимает платье, ее перекрещенные руки подымают подол, и возникает иллюзия крыльев…
Городецкий восторженно хлопнул себя по лбу.
– Какое прелестное объяснение! А я, балда, не догадался… Но позвольте, позвольте… В таком случае строфы в стихотворении требуют иной последовательности. В четвертой автор отобразил финал – «скрещенья рук, скрещенья ног». А в пятой строфе башмачки еще только падают «со стуком на пол». И лишь в седьмой – любимая снимает платье.
– Формально, Семен Ефимович, вы правы… Но чтобы написалось такое стихотворение, поэта самого должна сжигать лихорадка любви – до мелочей ли формальной логики.
– Ладно, так и быть, простим эту непоследовательность моему обожаемому Борису Леонидовичу… Только, если можно, зовите меня просто Сеня… А помните, Пастернак еще в одном стихотворении описал женщину, снимающую платье, – видать, крупный был специалист по этой части. «Ты так же сбрасываешь платье, как роща сбрасывает листья, когда ты падаешь в объятье в халате с шелковою кистью». Первые три строчки отличные. А последняя?
– «В халате с шелковою кистью»? – Верочка задумалась. – Согласна, эта строчка ощущается как бы не обязательной. К слову «листья» подвернулась рифма «кистью». А с кистью бывает пояс у халата. Вот и объявился халат в четвертой строчке.
– И это все – ничего более существенного не заметили?.. Ведь тут Борис Леонидович очевидную промашку дал. Вдумайтесь: любимая сбрасывает платье и падает в объятье героя, а на ней халат – выходит, она его под платьем носила?
Верочка захлопала глазами, не найдя, что ответить. Довольный Городецкий засмеялся. Потом кивнул в сторону окна.
– А «энтузиасты» уже пошли…
Верочка повернула голову к окну. По улице, между полицейскими барьерчиками, разворачивалось торжественное шествие гомосексуалистов и лесбиянок. В первых рядах шли некоторые официальные лица. Конгрессмен Айзек Кларк несколько лет назад открыто признал себя гомосексуалистом. Это не мешало ему пользоваться твердой поддержкой своих либеральных избирателей в одном из богатых пригородов Бостона. Теперь он возглавлял колонну, посылая лучезарные улыбки зрителям на тротуарах. Рядом шел еще один известный либерал, Дик Макфадден. Добрый семьянин, отец семерых детей, примерный прихожанин католической церкви, он, казалось, не имел никакого отношения к этому шествию. Но через месяц Макфадден собирался официально выдвинуть свою кандидатуру для участия в предстоящих выборах на пост губернатора штата Массачусетс. Опытный политик, он твердо усвоил истину: как и деньги, голоса не пахнут. Для него было важно заручиться поддержкой этой шумной группы избирателей.
Поверх марширующих вздымались транспаранты: «Ассоциация учителей-гомосексуалистов», «Лига католических лесбиянок», «Гомосексуалисты африканского происхождения», «Мормоны за однополую любовь». Медленно проехала автоплатформа; на ней бородатые люди держали над головами в ермолках транспарант: «Бет Симхат Тора, синагога для геев и лесбиянок». Лесбиянки-мазохистки, затянутые в упряжь, с оглоблями в руках, везли, закусив удила, своих партнерш, лесбиянок с садистскими наклонностями. Те, поигрывая вожжами, восседали в двухколесных колясочках. Благостно улыбающаяся старушка пронесла плакатик: «Сын – гей, дочка – лесбиянка. Господь благословил меня дважды». Прошел голый по пояс мазохист – на коже, вокруг туловища, нарисована колючая проволока, в соски вколоты всамделишные металлические кольца. В инвалидных колясках провезли бледных молодых парней; один из них держал плакат: «Америка, твои дети умирают от СПИДа – не жалей денег на борьбу со СПИДом»…
Неподалеку от кафе застряло на перекрестке такси Вани Белкина, срывался его рабочий график. Пассажир, сидевший в такси, ушел – решил добираться пешком. Разглядывая демонстрантов, Белкин внятно ругался: «Пидоры… Ковырялки… Ефимыча бы сюда – удостовериться, загнивает Америка или не загнивает».
Перед Белкиным, за синим барьерчиком, медленно проплыли, полуобнявшись, трое так называемых транссексуалов. Послушные могучему внутреннему зову, транссексуалы подвергали себя серьезным хирургическим операциям. Чтобы выглядеть, как представительницы противоположного пола, они вшивали под кожу силиконовые груди, пытались исправить природу и в устройстве другой части тела. Троица перед Белкиным имела женские прически, женские платья, женские туфли на высоких каблуках. Они несли плакат: «Свободу Фопиано!»
Белкин вспомнил, что о деле Фопиано месяца два назад писали газеты. Транссексуала Фопиано, мелкого торговца наркотиками, посадили в тюрьму. И тут возникла проблема. Тюремная администрация отказывалась содержать его в женской камере, так как по документам он числился мужчиной. Но и в мужской камере появление этого женоподобного существа привело бы к далеко идущим последствиям и явному нарушению тюремного режима. Поэтому Фопиано содержался в одиночной камере. Однако это, в свою очередь, нарушало его гражданские права – одиночное заключение предусматривалось для наиболее опасных преступников, а не для такой безобидной личности, как Фопиано. Вот и требовали его единомышленники-транссексуалы разрубить этот узел и вообще освободить страдальца.
Выключив мотор, Белкин достал из ящичка на панели карандаш и блокнот, куда записывал, не надеясь на память, трудные маршруты – как лучше проехать из одной части Бостона в другую. «Ефимыч стихами балуется… А я вот прозу начну сочинять. Потом ему покажу – еще посмотрим, чей талант ярче». Шевеля губами и бросая язвительные взгляды на демонстрантов, Белкин писал что-то в свой блокнот, морщил лоб, зачеркивал, опять писал… Демонстранты освободили улицу неожиданно быстро, минут через сорок. Полицейский споро отодвинул барьерчики к тротуару. Белкин включил мотор, в ящик на панели сунул блокнот со своим сочинением. Окончательный текст выглядел так: «Из газеты `Нью-Йорк Таймс'. Гнусное преступление в Центральном парке. Вчера в Центральном парке, находясь в состоянии алкогольного делирия, известный гомосексуалист Педро Аморалес изнасиловал совершавшую там тренировочную пробежку лесбиянку Голди Фингер. Нью-Йоркское отделение Всепланетной лиги лесбийской любви немедленно выступило с гневным протестом против столь отвратительного полового извращения»…
По окончании марша Городецкий отвез Верочку домой. В машине она долго молчала, о чем-то задумавшись. Потом спросила:
– Сеня, а вы сами стихи пишете?
Тот молча кивнул.
– Так я и думала… Тогда традиционный репортерский вопрос: над чем сейчас работаете?
– Рад сообщить вашим радиослушателям, что вот накропал недавно небольшое стихотворение… «Осень». Название, конечно, на оригинальность не претендует. У стольких поэтов была своя осень, теперь и у меня есть. Нахлынуло как-то настроение – осень в природе, осень в жизни…
– Прочитайте.
– Нет, нет, – засмущался Городецкий, – кое-что доработать надо, пройтись по строчкам еще разок. Да и читаю я непрофессионально, выть, как Ямпольский, не научился. Обещаю – к следующей встрече перепишу набело и подарю вам… Ведь мы увидимся?..
Когда машина остановилась у дома Верочки, Городецкий поднес ее руку к губам, хотел поцеловать на прощанье. А потом передумал, молча прижал ее ладошку к своей щеке, подержал мгновение…
«Эскорт» бойко катил домой, в Рэндолф. Голос Городецкого неуклюже выводил какую-то мелодию, ему одному ведомую (музыкального слуха у него не было никакого). Если прислушаться, можно было и слова разобрать – слова Пушкина: «И может быть – на мой закат печальный блеснет любовь улыбкою прощальной…»
Глава восьмая
В понедельник утром следственная группа, как и в предыдущие дни, собралась в кабинете Стивенса.
– Ну что, ребята, вчера острых впечатлений нам хватило? – спросил Стивенс. – Только Арчи повезло, на курорте прохлаждался. С него и начнем… Как там поживает драгоценный пророк Джошуа?
– Пророк Джошуа – в миру Джон Лаферти. Сорока восьми лет. Образование девять классов. Потом удрал из родительского дома, бродяжничал. Две судимости. Первая, в двадцать три года, за мелкое жульничество. Продавал верующим пузырьки с водой из Гефсиманского сада, освященной самим папой Римским, – разъяренные покупатели застукали его, когда он наливал в такие пузырьки воду из крана у себя на кухне. Отделался условным приговором. Вторая судимость в тридцать шесть лет. За многоженство – оставил безутешных жен в пяти штатах, каждая из них готова была его простить, если вернется. Приговорили к двум годам тюрьмы. За хорошее поведение выпустили через пятнадцать месяцев. С тех пор, вроде бы, остепенился. Несколько лет работал помощником в офисе психотерапевта, там поднаторел в приемах группового внушения, гипноза. Это пригодилось, когда позднее он присоединился к религиозной секте, так называемой «Семье небесной любви». Провел там два года.
Арчи поднял голову от блокнота.
– Пророк Джошуа согласился сотрудничать с нашим следствием, надеясь, что это ему зачтется в суде при рассмотрении его собственной, как он выразился, слабости – сожительства с несовершеннолетними. Думаю, он дал мне правдивую информацию о «Семье небесной любви». Ее идеологическая основа – приближающийся конец света. Поэтому члены секты, отбросив все мирское, должны быть готовы к уходу в мир иной, когда апостол Теофилус, глава «Семьи», возвестит появление знака на небесах. Присоединившись к «Семье», Джон Лаферти быстро продвинулся в ее иерархической структуре, стал одним из ближайших сподвижников пастыря. Но его не устраивала жестко регламентируемая, основанная на физических лишениях жизнь в секте. Еще больше его не устраивал вспыльчивый, деспотичный, не приемлющий малейших возражений характер апостола Теофилуса. Постепенно Джона стала посещать мысль, что он и сам мог бы возглавить подобную секту. Разрыв с Теофилусом произошел, когда Джон рискнул показать тому какую-то эзотерическую книгу, где утверждалось, что души избежавших «страшного суда» спасутся на звезде Сириус. Тогда как апостол учил, что это будет звезда Вега. Теофилус побагровел, захлопнул книгу, изо всей силы ударил ею по лицу ослушника – у того из носа потекла кровь… Покинув «Семью», Джон увел с собой нескольких последователей. Он основал так называемый «Храм Сириуса», а себя объявил пророком Джошуа. За прошедшие четыре с половиной года число членов этой религиозной секты значительно увеличилось.
– Образ жизни в «Храме» и в «Семье» отличались?
Вопрос задал расположившийся за письменным столом Стивенса, сбоку от хозяина, незнакомый Полу господин. На шее старомодная, черная в белый горошек, бабочка. Пучок седых волос на затылке легкомысленно заплетен в тоненькую косичку. «Не знаешь, кто такой?» – тихо спросил Пол у сидевшего рядом Милтона. Тот отрицательно мотнул головой.
Перед тем, как ответить на вопрос, Арчи полистал свой блокнот.
– Допрашивая пророка Джошуа, я этим специально не интересовался. Но, насколько понимаю, режим в «Храме» не столь изуверский. Члены общины приезжают на ежедневные молитвенные собрания, но живут раздельно, в своих домах, квартирах. Они не обязаны жертвовать все свои сбережения «Храму». Во время допроса пророк категорически отрицал использование галлюциногенов или групповой секс, как это было, по его словам, в «Семье».
– Ну, а сам-то он веровал в то, чему учил?
– Не думаю. Например, я поинтересовался, когда же, по его расчетам, наступит конец света. А он доверительно ответил, что упоминание о конце света – лишь риторический прием, необходимый, чтобы заронить в сердца паствы благие евангельские истины. Потом признал еще более откровенно, что его проповеди – просто форма психотерапии для душ слабых, сломленных жестокостью этого мира.
– Формой психотерапии?.. Тут он, пожалуй, прав на все сто процентов, – довольно улыбнулся господин с седой косичкой.
– Ребята, я забыл представить вам нашего гостя, – сказал Стивенс. – Это профессор Розентол из Гарвардского университета. Его книга «Психология преступника» переведена на многие языки. Он иногда консультирует ФБР, сегодня мы будем иметь возможность услышать его мнение… Но сперва давайте закончим рассмотрение тех фактов, которые за вчерашний день нам удалось раскопать – в переносном и в прямом смысле слова… Итак, Арчи, что же думает пророк Джошуа о случившемся в пятницу на станции «Парк стрит»?
– Он не сомневается, что террористический акт в сабвее был осуществлен по приказу апостола Теофилуса. Джошуа характеризует своего коллегу как тяжелого психопата, который самоутверждается, подавляя других. По мнению Джошуа, Теофилус, не колеблясь, мог отправить в небытие своих последователей, просто чтобы ощутить пьянящее чувство вседозволенности; причем чувство это особенно остро, если по его приказу такое коллективное самоубийство произойдет в общественном месте, унесет еще другие жизни. Правда, к собственной жизни Теофилус относится весьма бережно – избегает сквозняков, не употребляет в пищу продукты, содержащие много холестерина, каждую осень делает прививку от гриппа. Джошуа не считает случайной гибель в пятницу девяти последователей своего «Храма». Теофилус злопамятен и вполне мог приурочить террористический акт ко времени, когда отступники – на пути в «Храм» для утреннего молитвенного собрания – съезжаются к станции «Парк стрит».
– Ты показал Джошуа словесный портрет женщины, отравившей в больнице Салли Донован?
– Он назвал ее имя – Кристабел. Фамилии не знает. В секте все денежные пожертвования принимала она. По словам Джошуа, она была правой рукой Теофилуса, а может, и еще чем-то.
Арчи замолчал. Стивенс надел очки, вытащил из ящика письменного стола свою папку.
– Теперь, выходит, моя очередь рассказать о результатах вчерашнего посещения фермы в Шэроне. Члены нашей следственной группы – за исключением Арчи – были там, видели все своими глазами. Поэтому постараюсь говорить сжато – прежде всего, чтобы ввести в курс дела нашего уважаемого консультанта профессора Розентола… Ферма, где жила «Семья небесной любви», расположена на отшибе; со стороны дороги ее прикрывает лесок. Оттуда мы провели сперва наружное наблюдение. На ферме все было тихо, во дворе перед домом и в поле за ним никто не работал. Дом большой, двухэтажный: на первом этаже, как выяснилось потом, – зал для молитвенных собраний, на втором, по обе стороны узкого коридора, – спальные комнатки без кроватей, с циновками на полу. В зале, куда мы вошли со двора, через незапертые двери, окон нет. Вместо них широкие зеркала от потолка до пола. В промежутках стены задрапированы плотной тканью – перемежающиеся полосы черного и красного цвета. В зале нас ждало первое открытие. На полу – кругом, ногами к центру – лежали двадцать девять трупов: одиннадцать мужских, пятнадцать женских, три детских… Вот судебно-медицинское заключение. Анализ крови показал присутствие в ней цианистого калия. Кстати, бутылочка с остатками этого яда найдена на полу. При осмотре и вскрытии тел эксперты констатировали трупные изменения двухдневной давности. Иначе говоря, смерть наступила в пятницу. Таким образом, в один день произошло массовое самоубийство членов секты – наверное, пастырь узрел, наконец, долгожданный знак на небесах. Одни, на ферме, приняли цианистый калий. Другие, в вагонах сабвея, отравили себя и окружающих зарином.
Стивенс достал из папки еще несколько листков.
– В примыкающем к дому сарае обнаружены металлические бочки, стеклянные и пластиковые бутыли. В них, согласно заключению экспертов, содержатся химические соединения, необходимые для изготовления зарина… На ферме есть телефон с автоответчиком; на его ленте сохранилось сообщение – присутствовавший при обыске Герберт Донован опознал голос жены. Салли Донован звонила из Бостонского медицинского центра, умоляя Теофилуса простить ее. Мол, виновата – нашло затмение, выскочила со всеми из вагона. Мол, жаждет умереть, выполнить предначертание апостола. Сообщила номер своей палаты… Вот ответ из телефонной компании: удалось установить, что в пятницу и субботу, кроме этого, было еще несколько звонков на ферму. Проверяли, видимо, есть ли сообщения на автоответчике. Но звонившие оказались людьми предусмотрительными – все эти звонки сделаны с телефонов-автоматов, расположенных в южных пригородах Бостона: Брэйнтри, Рэндолфе, Кэнтоне.
Стивенс вздохнул.
– А вот заключение об эксгумации двух полуразложившихся трупов, закопанных во дворе фермы, под мусорными баками. Один труп принадлежит женщине, другой – новорожденному младенцу; в его грудную клетку вбит деревянный кол. Услышанная Донованом жуткая история о казни ослушницы и ее ребенка оказалась правдой… И еще одна находка, наиболее важная для продвижения следствия. В маленькой комнатке, примыкающей к залу, обнаружен в шкафу золотой кубок. Перед началом оргий апостол наполнял его раствором, содержащим галлюциногены, и выносил в молитвенный зал. На кубке – отпечатки пальцев. Идентичные отпечатки найдены в дактилоскопической картотеке ФБР. В течение минувшей ночи коллеги из разных штатов обеспечили меня всей имеющейся информацией о том, кому эти отпечатки принадлежат. Были также получены несколько фотографий этого человека в разном возрасте. На них Донован без колебаний опознал апостола Теофилуса.
Стивенс помолчал, пригладил рыжий хохолок на макушке.
– Итак, апостол Теофилус. Урожденный Теодор Андерсон. В пятнадцать лет верховодит группой сверстников в одном из бедных районов Лос-Анджелеса, кличка – Тэдди-нож. Хулиганят, немного подворовывают. Однажды ловят бродячую собаку, подвешивают за лапы к забору, по очереди тычут ножами – животное истекает кровью. Несовершеннолетнего садиста после непродолжительного задержания отдают на поруки матери. Кстати, коллеги из Лос-Анджелеса поделились сведениями и о ней: хроническая наркоманка, «кололась» даже во время беременности… Еще один эпизод в криминальной истории нашего героя обнаруживается в Рино, штат Невада. Ему уже двадцать три. Как-то вечером он побуждает свою сожительницу выйти на улицу, подработать проституцией. Та отказывается. Когда Андерсон бросается на нее с ножом, она успевает выскочить в соседнюю комнату, захлопывает дверь на задвижку, звонит в полицию. Приехавшие полицейские застают Андерсона беснующимся в квартире; на коже грудной клетки поверхностный линейный разрез – в ярости он полоснул себя ножом… А в тридцатилетнем возрасте Андерсон живет уже в Майами, кличка – Теодора. Выступает на сцене подпольного притона для гомосексуалистов: сначала партнер хлещет его плеткой, потом прямо на сцене с ним совокупляется. В Майами же Андерсон попадает ненадолго в психиатрическую больницу.
– Вам известен диагноз? – спросил Розентол.
– Острый приступ панического возбуждения в результате передозировки ЛСД, – прочитал Стивенс, заглянув в свои листки. – А еще через десять лет Андерсон – в Нью-Йорке. Там он уже оказывается замешан в серьезную криминальную историю. Бруклинская полиция обыскивает – на предмет хранения наркотиков – помещение секты, исповедующей некую смесь восточных религий. В подвале неожиданно находят труп мужчины с многочисленными колотыми ранами. По подозрению в ритуальном убийстве арестованы трое вожаков секты, в том числе гуру Теоболд – так именует себя в ту пору Андерсон. Следствие длится несколько месяцев – арестованных за недостатком улик в конце концов отпускают… Такая вот яркая биография.
Стивенс аккуратно уложил свои листки обратно в папку, продолжил:
– Доктор, во всяком случае хороший доктор, врачует в два этапа: сначала ставит диагноз, потом назначает лечение. В нашем следственном деле за прошедшие трое суток первый, диагностический, этап, вроде бы, завершился. Мы знаем, кто и как организовал массовое самоубийство членов «Семьи небесной любви». Уже выписан ордер на арест Теодора Андерсона и его сподвижницы Кристабел. Его фотография и ее словесный портрет разосланы в полицейские отделения Массачусетса, а также в редакции газет и на телевидение… Нам предстоит обсудить следующие шаги: как найти и арестовать апостола и Кристабел. В частности, надо побывать в Брэйнтри, Рэндолфе и Кэнтоне: посетить полицейские отделения, обойти местные магазины, банки, рестораны, другие общественные места, показать портреты преступников. Может, кто-то видел похожих людей, особенно если те разъезжали в большой черной машине. Надо сегодня же связаться с нашими коллегами в Калифорнии, Неваде, Флориде, Нью-Йорке, обеспечить их всей имеющейся информацией. Не исключено, что Андерсон укрылся где-нибудь там. Короче, дел хватает. Но сперва давайте послушаем профессора Розентола. Разыскивая такого преступника, как апостол Теофилус, важно разбираться в его психологии, в изгибах его темной, искореженной души… Профессор, нам крайне интересны ваши соображения и замечания.
Розентол окинул собравшихся черными любопытными глазками, почесал затылок у основания седой косички.
– Принципиальные особенности психологии преступника подробно и скучно изложены в моей книге на нескольких сотнях страниц – интересующихся отсылаю туда. Позволю себе лишь коротко суммировать. Мозг человека – самая сложная функциональная система, известная нам во Вселенной. Но сложность и совершенство, сложность и надежность – отнюдь не синонимы. Как раз вследствие своей сложности человеческий мозг допускает немало сбоев. Смею вас уверить: абсолютно нормального человеческого мозга не существует. Просто у одних такие сбои незначительны и сопровождаются самообучением мозга. Напротив, у других сбои велики и неустранимы. Вот давайте мысленно представим шкалу, на которой слева находятся индивидуумы с нормальной – если не на сто, так на девяносто девять процентов – мозговой деятельностью, а справа – страдающие тяжелыми психическими заболеваниями, те, которых в криминалистике безоговорочно признают невменяемыми. Но не пытайтесь провести между этими двумя группами четкую грань. Потому что между ними – многообразие так называемых пограничных состояний. Расстройств личности: психопатических, истероидных, ипохондрических, параноидных, шизоидных. Синдромов депрессии и тревоги. Минимальных органических повреждений мозга – токсическими веществами, радиацией, в результате его кислородного голодания, механической травмы. Особенно если повреждения эти случаются во внутриутробном периоде или в первые месяцы жизни, когда мозг наиболее хрупок.
Розентол повернулся к Стивенсу:
– Я не слишком заумно все это излагаю?
– Нет, нет, профессор, продолжайте.
– Человек с нормальной психикой редко, лишь в экстремальной ситуации, может стать преступником – он умеет контролировать себя, законопослушен, его сдерживают моральные принципы, он хорошо понимает, что за преступлением рано или поздно может последовать наказание. Человеку с тяжелым психическим заболеванием, невменяемому, совершить преступление тоже удается сравнительно нечасто – как раз вследствие грубых аберраций в восприятии действительности, ошибок при планировании своих действий. Вот и получается, что основная масса преступников принадлежит к группе так называемых пограничных состояний. Эта группа поставляет также алкоголиков, наркоманов, извращенцев. Из нее выходят в основном и фанатики всех мастей, уверовавшие, что именно им открыта высшая истина и дано право реализовать ее любой ценой – в сфере социальной, национальной или религиозной.
Розентол погладил лежащую на столе Стивенса папку.
– Религиозные фанатики, убивающие себя во славу Божию, существуют так же давно, как и сама религия. Вот самые свежие случаи, на нашей памяти. Тысяча девятьсот семьдесят восьмой год – девятьсот двенадцать последователей «Народного храма» по приказу пастыря Джима Джонса принимают отраву и кончают счеты с жизнью. Девяносто третий год – восемьдесят сектантов из «Ветви Давидовой» предпочитают погибнуть в горящем здании, но не сдаться властям. И вот теперь, три дня назад, – схожая трагедия у нас в Бостоне…
Вздохнув, Розентол бросил задумчивый взгляд в окно, из которого с высоты шестого этажа открывался вид на Бостонскую гавань.
– Мне как психологу было чрезвычайно интересно слышать все, что рассказали сегодня Арчи и Крис. Не сомневаюсь: покончившие самоубийством рядовые члены «Семьи» – это люди с теми или иными пограничными состояниями. Если бы можно было покопаться в их психике, наверняка, выявилась бы слабость тормозных механизмов; импульсивность; быстрый переход от депрессии к эйфории и обратно; быстрая истощаемость умственной активности – особенно в стрессовых ситуациях, которыми так насыщена современная жизнь; повышенная внушаемость. Такие люди теряются, когда предстоит принять важное решение, с радостью перекладывают эту ответственность на чьи-нибудь плечи. Как слепому поводырь, им нужен лидер, ведущий.
Было видно, что Розентол все более увлекается, погружаясь в любимую тему.
– Арчи и Крис описали сегодня два классических типа таких лидеров… Конечно, пророк Джошуа – человек без моральных принципов. Но никаких серьезных психических отклонений в его действиях не просматривается. Его биография – это история веселого жулика: дурачит верующих, продавая им водопроводную воду; легко обманывает многочисленных жен; тратит, чтобы развлечься на модном курорте, деньги, пожертвованные «Храму». Но зато, как он справедливо выразился, обеспечивает своих последователей столь нужной им психотерапией. Даже сожительство с несовершеннолетними – хотя и криминал, но еще не признак психической аномалии. Если девицы соглашаются, почему бы и нет?
Розентол ухмыльнулся. Потом придал лицу задумчивое выражение.
– Напротив, апостол Теофилус – несомненно, человек с серьезными психическими отклонениями. Давайте припомним некоторые вехи его биографии. Мать «кололась» во время беременности – те или иные нарушения мозга у плода неизбежны. Садистские наклонности в подростковом возрасте – истыканная ножом собака. Спустя много лет в нью-йоркской секте будет найден истыканный ножом труп мужчины – знакомый почерк. Вспышка бешенства в Рино, когда Андерсон бросается – опять-таки с ножом – на свою сожительницу. Та успевает закрыться в другой комнате, и тогда в бессильной ярости он рассекает у себя кожу на груди; правда, поверхностно, поверхностно. Такие легкие самоповреждения характерны для многих психопатических личностей. Садизм у Андерсона своеобразно уживается с мазохизмом – вспомним притон гомосексуалистов в Майами, где партнер хлещет его плеткой… Перед началом нашей сегодняшней встречи я успел полистать материалы допроса Герберта Донована. А потом все мы слышали рассказ Арчи о допросе Джошуа. Оба допрашиваемых однотипно высвечивают характер апостола Теофилуса – человека эмоционально нестабильного, мстительного, нетерпимого к чужому мнению, жестокого. Схожий характер был гениально выписан Достоевским в его романе «Бесы». Их вожак – Вех…, Вен… О, эти ужасные для произношения славянские фамилии.
– Верховенский? – робко подсказал Пол.
– Да, да, Вер-хо-вен-ский, – повторил по складам Розентол. – Крис, я в восторге: ваши сотрудники читают Достоевского!
Розентол поправил на шее сбившуюся бабочку, вытащил из кармана старомодную луковицу часов.
– Однако заболтался я… Через тридцать пять минут моя лекция в университете начинается. Да и вам уже пора делом заниматься. Посему закругляюсь… К сожалению, все сказанное мною – лишь общие рассуждения. Более конкретная характеристика психики Теофилуса возможна лишь после детальной беседы с ним самим. Но все же могу предположить, что последовать за своей паствой в мир иной он не собирается. И выйти на его след, боюсь, будет непросто. В опыте и криминальных способностях ему не откажешь. Он может затаиться где-нибудь, изменить внешность – тем более, что денег, оставшихся от паствы, у него, не сомневаюсь, предостаточно. При задержании он способен на любую неожиданность, перед кровью не остановится. Будьте к этому готовы… Крис, я прошу прощения – мне надо мчаться на лекцию. Если возникнут вопросы, я к вашим услугам, звоните в любое время дня или ночи. Успеха вам всем, ребята.
Стивенс уважительно проводил гостя до двери кабинета.
Глава девятая
Вчера, к полуночи, когда Белкин развозил по Бостону последних пассажиров, погода вдруг испортилась. Набежавшие тучи в одночасье затянули небо. Сначала осторожно, а потом все увереннее по ветровому стеклу его такси заскользили дождевые капли…
Дождь продолжался всю ночь. Его косые струи барабанили в окна, мешали спать уставшему Белкину. Он проснулся поздним утром; зябко поеживаясь, бросил взгляд в окно. От вчерашнего золотого великолепия не осталось и следа. Промокшие деревья царапали растопыренными сучьями низкое, серое, холодное небо. Лужи на тротуаре тоже были серыми; их зыбкая поверхность вспучивалась редкими пузырьками. Дождь, вроде бы, ослабевал.
На кухне Белкин застал Риту в накинутом на плечи пуховом платке – в квартире было прохладно. Одной рукой Рита расставляла на столе все необходимое для его завтрака. А в другой – держала телефонную трубку. Разговор, видимо, был интересным, Рита часто улыбалась.
– Ну вот, хорошая новость, – сказала она, положив трубку. – Они понравились друг другу.
– Кто они? – не понял Белкин.
– Ах, какой ты глупый у меня. – Рита поцеловала сидящего за столом Белкина в широкую залысину, все еще красную после зарядки и душа. – Ты же помнишь о моем плане познакомить Семена Ефимовича и Верочку. Я только что говорила с ней. Вчера они встретились. И понравились друг другу.
– Извини, дорогая, если я опять скажу что-нибудь невпопад. Мне кажется, от Верочки ты могла узнать только то, что Ефимыч ей понравился. И это немудрено. А вот понравилась ли Верочка – надо у него спросить.
– Нет, нет, Верочка рассказала, как он на нее смотрел, как обещал при следующей встрече подарить свои стихи… Я уверена – Верочка ему безумно понравилась.
– И все-таки я не спешил бы с выводами, дорогая. Ефимыч – мужик хоть куда, выглядит моложаво. Умница. Деликатная натура. Опять же стихи сочиняет. Где еще во всем Бостоне такого жениха найдешь. Нет, он просто так не потеряет голову из-за первой подвернувшейся юбки.
Ваня шутил – Рита знала это. И все равно разгорячилась.
– Да Верочка – очаровательное существо! Она еще честь окажет твоему дружку, если полюбит.
– Хорошо, хорошо, – пошел на попятную Белкин, – может, ты и права; чего только ни случается на свете. Мы с Ефимычем собирались сегодня встретиться. Вот и поговорю с ним, постараюсь разузнать и о его впечатлениях.
За завтраком Белкин поинтересовался, как идут дела у Павлика. Они не виделись уже несколько дней – позавчера Павлик вообще дома не ночевал, сегодня опять умчался чуть свет. Рита рассказала, что тот очень увлечен новой работой. Провожая его утром, Рита полюбопытствовала, удалось ли установить личность того, кто организовал трагедию в сабвее. Павлик важно ответил, что это – пока тайна следствия.
– Ишь ты, – засмеялся довольный Белкин, – давно ли под стол пешком ходил, а теперь вот «тайна следствия».
После завтрака он позвонил Городецкому, но телефон у того молчал. Куда понесло Ефимыча в такую погоду – в магазин, что ли? Белкин включил телевизор. В утренней программе новостей как раз повторялись кадры вчерашнего марша борцов в защиту однополой любви. На экране перед Белкиным опять продефилировали учителя-гомосексуалисты, лесбиянки-мазохистки, больные СПИДом в инвалидных колясках, транссексуалы… Текст телеведущего был строго нейтральным: никакого одобрения, но и никакой, избави Боже, недоброжелательности. Знаменитый взвешенный стиль американской большой журналистики – в строгих рамках «политической корректности».
Следующей темой, на которой остановился телеведущий, было массовое отравление в бостонском сабвее. Эта тема все еще будоражила Америку.
– Как сообщили сегодня журналистам на пресс-конференции в Бостонском управлении ФБР, за минувшие сутки следствие значительно продвинулось вперед. Нашей редакции и другим ведущим средствам массовой информации передана фотография человека, подозреваемого в организации этого преступления.
На экране появилась крупным планом голова мужчины лет пятидесяти. Гладко выбритое лицо. Тяжелый подбородок. Излучающий опасность, даже какой-то гипнотический взгляд из-под густых, нависших бровей. Широкий шишковатый череп, покрытый блестящей кожей без единого волоска.
– Имя этого человека – Теодор Андерсон. В разные годы у него также были клички: Тедди-нож, Теодора, гуру Теоболд, апостол Теофилус. Он возвестил членам своей религиозной секты под названием «Семья небесной любви» о близком пришествии «страшного суда». И по его приказу те совершили массовое самоубийство. Сообщаем его дополнительные приметы. Оба предплечья густо покрыты татуировкой: черепа, змеи, ножи. На груди – наискосок, от левого плеча к правому подреберью, – тонкий линейный шрам. ФБР обращается с просьбой ко всем, кто знает или видел этого человека, позвонить по указанному на экране телефону. Ваша информация будет сохранена в тайне. ФБР предупреждает, что этот человек может быть вооружен и что за его спиной немало кровавых преступлений. За информацию, которая приведет к поимке подозреваемого, назначена награда в размере семидесяти тысяч долларов. Такое совместное решение приняли сегодня губернатор штата Массачусетс и Совет директоров бостонского сабвея…
Белкин выключил телевизор. «Ищите ветра в поле, – подумал он. – Этот бандюга, изменив внешность, уже прогуливается, небось, в белых брюках по набережным Рио-де-Жанейро». Он опять позвонил Городецкому, но телефон молчал. Еще через час – то же самое.
– Знаешь, Риточка, я что-то беспокоиться начинаю, – сказал Ваня. – Ефимыч уже более двух часов не отвечает. А ведь просил, как проснусь сегодня, позвонить ему.
– Да что с твоим дружком может статься? Наверное, бегает сейчас по улицам и стихи, посвященные Верочке, сочиняет.
– В такую погоду по улицам не очень побегаешь. Когда немолодой человек живет один, да вдруг его телефон замолкает, чего только в голову ни полезет. Помнишь наших соседей по подъезду в Одессе? Жена в восемь ушла на работу, а мужа в полдевятого кондрашка хватила, парализовало. Так и лежал на полу, пока в пять жена не вернулась – до телефона на стене, чтобы «Скорую» вызвать, дотянуться не мог.
– Ой, какие страсти ты говоришь, – вздрогнула Рита. – Так сходи да проведай. Это лучше, чем сидеть тут и на меня страх нагонять. Только зонтик взять не забудь…
Дождь опять припустил. Зонтик не очень-то помогал. Порывы ветра, подхватывая пригоршни дождевых капель, сбоку швыряли их в Белкина. Пока он прошел несколько кварталов, промокли и брюки, и куртка. «Ну и погодка мерзкая, – думал Белкин. – И настроение почему-то сразу портится, какая-то хандра на душе…»
Белкин издалека увидел белый «эскорт», который, как обычно, стоял перед домом Городецкого. Дверь в прихожую слегка приоткрыта, внутрь залетают брызги, сквозь щель видна лужица на полу. На всякий случай Белкин нажал кнопку звонка. Потом вошел внутрь.
– Ефимыч, друг милый, ты где? – позвал он с порога.
Никто не откликался. Белкин обошел комнаты, заглянул в ванную, на кухню. На кухонном столе – чашка с налитым кофе; на ощупь чашка совсем холодная, кофе давно остыл. На всякий случай Белкин забрался на чердак – там тоже было пусто. Машина Ефимыча здесь – без нее куда бы он в такую погоду подался?.. А вдруг, действительно, почувствовал себя плохо, вызвал «Скорую» – в больницу повезли? Сквозь сетку дождя из чердачного оконца был виден забор с прислоненной к нему знакомой лесенкой Ефимыча. За забором – массивный соседский дом; черный «кадиллак» заворачивает с улицы в ворота. Надо бы у соседей разузнать – может, кто-то из них был дома, видел приезжавшую «Скорую». Соседи, конечно, жлобы и извращенцы, но спросить все-таки надо. Может, даже знают, в какую больницу повезли.
Белкин спустился с чердака. Прикрываясь зонтиком, вышел наружу. Ворота соседей еще были раскрыты, посреди луж во дворе стоял пустой «кадиллак». Белкин поднялся на крыльцо, постучал костяшками пальцев в дверь. Она открылась. В дверном проеме появился тот самый верзила с бугристым шрамом через всю правую щеку. Волнуясь и поэтому с еще большим трудом подбирая английские слова, Белкин начал что-то объяснять про своего друга и их соседа. Быть может, он есть больной… Быть может, он есть в больнице теперь… Быть может, уважаемые соседи видеть этим утром «Скорую»…
Верзила, плохо понимая, таращился на Белкина. За спиной верзилы, в прихожей, большое зеркало, повернутое к двери под углом, отражало соседнюю комнату. В этой комнате глаза Белкина, еще продолжавшего свои путаные объяснения, наблюдали что-то непонятное. Угрюмый усатый мужик, только что сбросивший на кресло мокрое пальто, взялся одной рукой за усы, другой – за косматую, с проседью шевелюру. И вдруг одним махом сбросил их тоже. Тускло замерцала кожа на широком, шишковатом, без единого волоска черепе. «Постой, я где-то видел…» Но Белкин не успел додумать. Лысый мужик обернулся – их глаза встретились в зеркале.
– Взять его! – взвизгнул лысый.
Боковым зрением Белкин заметил взметнувшуюся ладонь верзилы. Он, наверное, еще мог бы как-то среагировать, подставить под удар предплечье, но помешал дурацкий зонтик в руке. Ребро ладони жестко опустилось на косточку за ухом. Кувыркнулся в воздухе зонтик. Перед глазами Белкина поплыли черные круги, подогнулись колени – он рухнул на крыльцо…
Сколько времени прошло после удара, две минуты или два часа, очнувшийся Белкин сообразить не мог. В помещении, где он лежал, было темно, лишь маленькое оконце у потолка пропускало немного света. В голове гудело. Он лежал на холодном полу. Пошарив по нему левой рукой, определил – пол цементный. Значит, подвал. Правая рука Белкина была схвачена в запястье наручником, замкнутым на трубе водяного отопления. Ничего себе, влип… Белкин перекатился набок, ощупывая свободной рукой пространство вокруг. И тут услышал, как кто-то тихо позвал его. Белкин приподнял голову, она загудела еще сильнее. Стараясь разглядеть мутную тень у противоположной стены, неуверенно спросил:
– Ефимыч?
– Ваня, дружок, ты как тут оказался?
– Да вот, тебя разыскивая, надумал навести справки у твоих бандитских соседушек…
– А ты знаешь, кто они?
– Уже догадался. Утром по телевизору показывали фотографию лысого мужика, который наверху. Его разыскивает ФБР как организатора массового отравления в сабвее… А что с тобою-то приключилось?
– Ой, Ваня, совсем глупая история. Из-за Луки страдаю. Утром сварил кофе, потом вдруг хватился – Луки нет. А он по утрам голодный, всегда на кухне крутится, еды требует. Начал его искать. Вечером я мусор выносил – может, тогда он и сиганул за дверь? Выглянул во двор. Слышу за забором, вроде бы, какое-то сдавленное мяуканье. Прислонил к забору лесенку, высунул поверх голову. Так и есть. У соседей моток ржавой проволоки из-под веранды торчит, Лука за конец проволоки ошейником и зацепился, только задними лапами на землю опирается. Я еще раньше из окна видел: соседский «кадиллак» куда-то поехал. Дома, наверное, никого нет. А ждать, пока вернутся, нельзя – Лука, видать, который час на проволоке болтается, задохнется еще. Перебрался я по лесенке через забор. Понимаю: вторжение на частную территорию противозаконно. Да ведь живое существо спасать надо…
– Что-то в этом духе мы уже проходили, – пробурчал Белкин. – Все блага мира не стоят и единой слезинки страдающего котенка.
– Ну вот, отцепил я Луку. Тот сразу наутек – в лунку под забором протиснулся, домой побежал. Я тоже к забору иду – с их стороны на заборе перекладины есть, так что перелезть можно и без лесенки. Уже у самого забора слышу: позади кто-то бежит. Успел только обернуться – верзилу-шофера увидел; тот, значит, дома оставался. Ударил он меня чем-то тяжелым по голове, и я начисто отключился.
– И это мы проходили…
Слушая рассказ Городецкого, Белкин продолжал вяло шарить левой рукой по полу. И вдруг нащупал какой-то твердый предмет под батареей. Это был гаечный ключ – весь в пыли, не один год, может, под батареей валялся. Затягивали когда-то муфту на трубе да и оставили. Ключ был большой, тяжелый, удобно лежал в руке.
– Затащил меня верзила в дом, в комнату, что над нами, – продолжал Городецкий; он говорил медленно, с долгими паузами, иногда то ли всхлипывал, то ли хихикал. – Как раз лысый и дамочка приехали. Стали допрашивать. Истории про котенка, конечно, не поверили. Признавайся, дескать, кто тебя подослал. Решил я подыграть им – из полиции, говорю. Думаю, испугаются, заспешат, чтобы смыться, да и меня порешить не рискнут, все-таки из полиции. А они опять не верят – дескать, знали бы копы, где мы, уже всю улицу оцепили бы… Толкнул меня верзила в кресло, жгут на руку наложил, держит ее на подлокотнике. А дамочка-гадюка воткнула мне в вену шприц. Это, мол, «сыворотка правды», сейчас ты у нас язык развяжешь. Наверное, галлюциногены – контроль над тем, что говоришь, теряется… Лысого больше всего волновало, не подослан ли я каким-то «Храмом Сириуса» – вроде бы там его враг заправляет. А что я могу сказать, если и название такое первый раз слышу? Да еще сыворотка эта сжала все в груди, вздохнуть не могу. Еле оклемался. А они говорят: даем пару часов на размышление, потом загоним двойную дозу сыворотки, или расколешься, или подохнешь. Посадили меня тут на цепи. Голова сейчас, как у пьяного…
– Погоди, Ефимыч… Авось что-нибудь сообразим, – Белкин прислушался к шагам наверху; нет, еще не сюда, протопали и затихли.
– Когда я под сывороткой почти совсем отключился – они думали, я не слышу – о делах между собой перекинулись. Удирать собираются. Задержались потому, что еще не все деньги со счетов сняли. Вчера было воскресенье – банки закрыты. Вот и ездят сегодня по банкам. Пачки денег у них в чемодан свалены, сам видел.
«Да, у нас с Ефимычем шансов, считай, нет, – подумал Белкин. – Если бы не томило бандюг этих желание про какой-то ихний `Храм Сириуса' выпытать, мы бы уже мертвяками были. Трупов на них столько висит – еще два ничего не изменят…»
Крышка подвального люка со скрипом поднялась. Белкин увидел, как из люка опустилась на верхнюю ступеньку лестницы одна нога, затем вторая. Ноги были в сапогах на толстой подошве, под голенищами – мясистые икры. Спускаясь по лестнице, верзила посветил фонариком в сторону Белкина. Тот лежал с полузакрытыми глазами, слегка постанывал, левая рука бессильно подвернулась за спину. Гаечного ключа не видно…
Верзила присел на корточки возле Городецкого, чтобы снять с него наручник. Глаза верзилы после комнаты наверху еще не совсем освоились в полутемном подвале – он не сразу попал ключом в отверстие замка. «Выходит, сейчас потащит наверх Ефимыча, – заключил Белкин. – А потом – мой черед… Верзила так уверен в себе. Только бы не насторожить его. Расслабленный, присядет вот так же, наклонит головку… Будет единственный шанс. Только один удар – пан или пропал… Оставил мне свободной левую руку. А я – как раз левша; на соревнованиях все приемы левой проводил лучше, чем правой».
Подталкивая в спину, верзила увел наверх все еще заторможенного Городецкого. Какое-то время там было тихо. Потом послышался чей-то глухой крик, затопали по полу тяжелые шаги. Потом опять все затихло. «Господи, – подумал Белкин, – уж не снится ли мне? Сидел утром на кухне, болтал с Ритулей. Кажется, с той поры тысяча лет прошла…»
В люке опять показались сапоги верзилы. Сипло дыша, он тащил на руках Городецкого. Сбросив его тело, как мешок, на пол, верзила с включенным фонариком подошел к Белкину. Сквозь чуть приоткрытые веки Белкин увидел наклонившуюся к нему голову, бугристый шрам через правую щеку, блеснувшие в свете фонарика капельки пота на виске. Верзила присел на корточки, положил на пол фонарик. Белкин сжал гаечный ключ. Нет, еще рано… Пытаясь попасть ключом в отверстие замка, верзила наклонил голову ниже. Время!.. Левая рука Белкина яростно рванулась из-за спины к долгожданной цели. Головка гаечного ключа обрушилась на висок! Глухо хрустнула кость. Тело верзилы вяло завалилось на бетонный пол.
Белкин освободил из наручника затекшую правую руку, присел на корточки. «Видишь, сука, счет у нас сравнялся: один – один. И я пока на что-то годен… Да жив ли ты?» Он приложил пальцы к шее верзилы. Доктор Норочка когда-то просветила Белкина: пульс лучше всего прощупывать на шее, чуть ниже угла челюсти. В этом месте пальцы Белкина уловили слабые ритмичные толчки. «Здоров, однако, – с уважением подумал он. – Ведь таким ударом, гаечным ключом по виску, и быка убить можно».
Он защелкнул на безжизненной руке верзилы наручник, ключ от него положил себе в карман. Потом пошарил по карманам верзилы. Так и есть – без «пушки» не ходит. Тяжелый черный пистолет приятно холодил ладонь. Проверил магазин – все патроны на месте. Снял с предохранителя. Ну, теперь жить можно…
Белкин подошел к противоположной стене. В тусклом свете, падающем из подвального оконца, проступает сухонькое тело Ефимыча. Лежит на боку, голова неуклюже запрокинута назад, веки чуть приоткрыты, видны только белки глаз. Присев, Белкин слегка потряс друга за плечо. Потом приложил задрожавшие пальцы к его шее. Пульс не прощупывается!.. И дыхания не слышно!.. Ефимыч, да как же так?! Ах, суки, ах, суки… Ну, хорошо же.
С руками за спиной, сжимая в левой пистолет, Белкин начал медленно подыматься по лестнице. Голова достигла уровня люка. Еще шаг вверх, еще… Перед глазами большая комната. На полу несколько открытых чемоданов. В кресле с высокой резной спинкой у противоположной стены сидит лысый, буравит подымающегося из люка Белкина гипнотическим взглядом. Валяй гипнотизируй, недолго осталось… А где же дамочка?
Он достиг уже предпоследней ступеньки, когда чей-то истерический взвизг и одновременно сухой хлопок раздались сзади. Дамочка, которая стояла в дальнем углу комнаты, увидела пистолет в руке за спиной Белкина и выстрелила. Обожгло его правое плечо. Оттолкнувшись от ступеньки, Белкин кинул тело в сторону, вторая пуля прошла мимо. Падая на пол, еще в полете, он ткнул дуло пистолета в направлении взвизга – не целясь, нажал на спусковой крючок. А потом увидел медленно клонящееся вперед, отрешенное лицо дамочки, маленькую, вишневого цвета родинку над левой бровью, а над правой – фиолетовую дыру и струйку крови сползающую на глаз. Готова…
Лысый, оторопев, не двигался в кресле. Белкин быстро присел на корточки, палец на спусковом крючке. Потом поднялся, подошел ближе.
– Ну, что, пахан, вот и пришел твой «конец света», собирайся… Только вместо «страшного суда» будет мой – быстрый и правый. А то еще гуманисты в судейских мантиях сострадание проявят – мол, трудное детство виновато, не расщедрятся на «вышку». А уж я Ефимыча тебе не прощу, не такой я человек… Извини, будет чуток больно. Хотя для мазохиста это и есть самый смак, верно?
Белкин говорил по-русски, но было такое ощущение, что лысый понимает. Вскочив с кресла и выставив перед собой руки с растопыренными пальцами, он что-то лопотал – за жизнь цеплялся.
Целясь в середину груди, туда, где сердце, Белкин мягко нажал на спусковой крючок… С удовольствием добавил бы и вторую пулю – в блестящую бугристую голову на полу. Но вовремя передумал. Неровен час, либеральные американские крючкотворы придут к глубокомысленному заключению, что второй выстрел превышал необходимый предел обороны. Доказывай им…
Пистолет выскользнул из разжатых пальцев Белкина, стукнулся об пол. Только теперь он заметил, что на его правом рукаве, пониже плеча, расплылось кровавое пятно. Но, вроде бы, навылет – кость цела. Белкин перешагнул через открытый чемодан с наваленными туда пачками денег. Бросил машинальный взгляд в отверстие люка на полу. Сквозь отверстие был виден цементный пол подвала, на нем чуть согнутая в колене нога Городецкого. Нога вдруг шевельнулась… Жив?!
Белкин торопливо спустился по ступенькам в подвал. Ефимыч лежал все так же, на боку. Но теперь его хриплое дыхание было хорошо слышно! Белкин подхватил сухонькое тело Городецкого на руки. Не чувствуя тяжести поднялся по лестнице, потом вышел на крыльцо. Возле крыльца еще валялся его раскрытый зонтик…
Поудобнее положив голову друга себе на плечо, Белкин шел по улице. Холодные дождевые струйки скатывались по лицу Ефимыча. И тот, не открывая глаз, слизывал их с губ. «Пить хочет! – сообразил Белкин. – Погоди, сейчас придем – дам тебе пить… Вот мы и дома уже…»
Толкнув ногой незапертую дверь, Белкин занес Ефимыча на кухню, уложил на мягкий диванчик у стены. Приподнял голову Ефимыча, придвинул к его губам чашку с холодной водой. Послушно сделав несколько глотков, тот на секунду приоткрыл глаза, вроде бы, даже улыбнуться попробовал.
– Ефимыч дорогой, как себя чувствуешь? – спросил Белкин.
– Спа-си-бо, – медленно произнес тот. С закрытыми глазами, допил воду, повернулся лицом к спинке дивана. Белкин сунул ему под голову подушечку. Дыхание у Ефимыча было теперь ровным, спокойным.
Белкин уселся за кухонный стол, снял телефонную трубку. Через справочную узнал номер ФБР и позвонил. Дежурный на другом конце провода ответил сперва, что Пол Белкин среди сотрудников Бостонского управления ФБР не числится; после долгих объяснений соединил с группой Стивенса. Там, узнав, что звонит отец, попросили подождать, пока позовут Пола. Ему на работу Ваня никогда не звонил – через минуту в трубке послышался встревоженный голос Павлика.
– Да нет, сынок, у нас ничего не случилось. Случилось, но не у нас… Короче, те, которых вы разыскиваете, – они здесь, в Рэндолфе, соседи Городецкого… Не беспокойся, никуда не убегут, я позаботился… Потом все расскажу. Приезжай со своими, я в домике Ефимыча.
Что-то теплое потерлось о мокрую лодыжку Белкина. Это был котенок. Он поднял на Белкина голову и сердито мяукнул.
– Лука, голубчик, кушать, никак, хочешь? Со вчерашнего голодный…
– Консервы для него в холодильнике, на нижней полке, – не открывая глаз, отозвался вдруг Городецкий.
Белкин достал из холодильника банку с кошачьими консервами, переложил их в кормушку. Туда сразу же уткнулась голова котенка.
Кровь из простреленной руки уже почти не сочилась, и боли особой Белкин не чувствовал. На всякий случай он забинтовал рану, отыскав бинт в одном из кухонных шкафчиков. Потом присел у стола, устало прикрыл глаза ладонью. Посидел так, приходя в себя. А когда убрал ладонь, заметил на столе исписанный рукою Ефимыча листок. Сверху на листке было аккуратно выведено: «Милой Верочке – от всей души…» Дальше следовал текст стихотворения:
Ах, какая осень золотая. Солнышко в нежаркой синеве. Как подранки, листья. Облетают. Тихо умирают на траве. Скоро, скоро запуржит, завьюжит, Заметет, закружит, загудит. Ляжет снег, настоянный на стуже, Будто саван на земной груди…Дочитать стихотворение Белкин не успел. Повернув голову к окну, увидел: две машины со скрипом тормозят возле дома. Из первой выскочил Павлик, за ним какой-то рыжеволосый в сером мешковатом пиджаке. Потом из машин посыпались еще люди в куртках с надписью «ФБР»… А дождь все моросил. Обложной, осенний.
1996Возвращение
Глава первая
Далеко внизу сквозь редкие разрывы в тучах холодно поблескивала поверхность океана. Гул двигателей был едва слышен внутри «Боинга», но все его огромное тело била мелкая дрожь. Край иллюминатора, к которому Алик Федоров прислонился щекой, тоже чуть вибрировал.
Еще когда «Боинг» выруливал на взлетную полосу в аэропорту Кеннеди, из туч, наползавших на Нью-Йорк, заморосил, наконец, дождичек. «Дождь в дорогу – добрая примета» – вспомнилось Алику. Он только cмутно усмехнулся. Боль, поселившаяся в его душе четыре дня назад, не отпускала…
Для своих сорока трех Алик выглядел совсем неплохо. Не так, как у некоторых к этому возрасту, – ни живота, нависающего поверх брючного ремня, ни мешочков под глазами. На круглом лице, над тонкими улыбчивыми губами – аккуратно подстриженные черные усы. Густые, чуть вьющиеся волосы зачесаны назад. Справа на лбу, на границе с волосами, – небольшой шрам, след давней мальчишеской драки.
И в студенческие годы, и позже друзья и подруги звали его просто Алик. К своему полному имени и отчеству – Александр Егорович – он так и не привык. Даже здесь, в Америке, знакомясь, он непринужденно представлялся: «Алик». Барбара, жена-американка, тоже величала его «Алык», произносить звук «л» мягко не научилась.
С Барбарой он познакомился десять лет назад в Москве, куда она приехала с группой студентов их колледжа для совершенствования в русском языке. Увидев в ГУМе миловидную девчонку, которая с явным английским акцентом пыталась что-то объяснить продавщице, Алик великодушно посодействовал общению представительниц двух миров. Он помог выбрать матрешку, проводил до метро, скромно полюбопытствовал насчет телефончика. Барбара оказалась на удивление доверчивой, влюбчивой. Многоопытный холостяк, Алик окружил ее деликатным мужским вниманием, дважды пригласил в театр. Когда мама уехала с ночевкой на их садово-огородный участок, пригласил Барбару домой. Выпили по маленькой сладкого винца, потанцевали под старую мамину пластинку с песнями Шульженко – песен этих Барбара, конечно, никогда и не слышала. И все последующее получилось очень мило, естественно. Их жаркая любовь продолжалась целых три недели. Потом Барбара вместе с сокурсниками улетела в свой Сан-Франциско.
Через несколько дней, столкнувшись с Яшкой Гуревичем в пивном баре, что в Столешниковом, Алик небрежно поведал о своей победе на международной арене. Яшка всегда отличался цепким, практическим складом ума, сразу ухватив перспективу, о которой Алик как-то не подумал.
– Старик, ведь это же верный шанс свалить за бугор!
Когда из далекого Сан-Франциско пришла открыточка от Барбары, Алик настрочил ей нежный ответ на четырех страницах. Завязалась переписка. Через год Барбара, замороченная его письмами, прилетела в Москву. Времена становились полиберальнее – «ускорение», «гласность», «перестройка». Алик сумел без особой нервотрепки зарегистрировать брак с иностранной гражданкой, а потом получить выездную визу – для воссоединения семьи. Так он очутился в Америке.
Странно сказать, но с Барбарой, быстро располневшей после родов, они жили совсем неплохо. Характер у нее оказался легкий, покладистый. Да и дочка Машенька, конечно, связывала. Угнетало Алика только то, что Барбара, успешно продвинувшись по службе в своей фармацевтической компании, зарабатывала больше него. А он по давней домостроевской традиции считал, что главным добытчиком в семье должен быть мужик, «хозяин». Правда, в новой стране всем поначалу непросто. Его диплом с идиотской специальностью «инженер-экономист» никого тут не впечатлял. Хорошо хоть, английский дался легко. Алик устроился в агентство, посредничающее в купле-продаже недвижимости, набрался опыта, приобрел за минувшие годы добрую репутацию среди клиентов. Уже мечтал открыть собственное агентство – в Америке лучше всего работать на себя, тогда и деньги можно делать хорошие. Да тут это и случилось. Четыре дня назад. И все рухнуло. Думать об этом не хотелось…
По узкому проходу между креслами стюардесса везла тележку с прохладительными напитками. На губах, густо покрытых помадой, застыла профессиональная улыбка. Соседнее с Аликом кресло было пустым, а в кресле у прохода развалился мужик в дорогом двубортном костюме – с засохшим пятном какого-то розового соуса на рукаве. Явно навеселе, он что-то невнятно бормотал под нос; удавалось распознать только отдельные крепкие словечки – на «великом и могучем» языке. Когда тележка приблизилась, мужик взял две банки пива. Одну протянул Алику.
– Дринк?
– Спасибо, не хочется что-то, – ответил по-русски Алик.
– Ладно, еще пригодится, – тот положил банку на пустое сиденье между ними, открыл свою и припал к ней. Опорожнив банку, провел ладонью по мокрым губам, вытер ладонь о брючину и протянул Алику для знакомства.
– Степан, – сказал он, излучая пьяное дружелюбие.
– Алик.
– Ты, приятель, что-то невесело сегодня смотришься. Ну, да мы это дело поправим. Видал? – он вытащил из внутреннего кармана пиджака плоскую бутылку «Абсолюта». – Сейчас мы это дело поправим…
Слегка пошатываясь, он подошел к стюардессе, медленно продвигавшейся вдоль прохода, взял у нее два пластмассовых стаканчика и вернулся на место. Ловко, не потеряв и капли «Абсолюта», наполнил стаканчики до половины. «Может, действительно, выпить, расслабиться немного?» – вяло подумал Алик… В опорожнившиеся стаканчики Степан тут же разлил пиво из второй банки. «А это уже `ерш' будет» – заключил Алик. И опять выпил.
– А вот закусить нечем, – вздохнул Степан. – Ничего, переморщимся. Через полчаса завтрак повезут, я их порядки изучил, полетал уже на разных междунардных линиях.
Он откинул назад спинку кресла, устроился поудобнее, повернул голову к Алику.
– Вот пробыл я по делам нашей конторы десять дней в ихней хваленой Америке – и уже домой тянет. Хорошая житуха на родине пошла, только ушами хлопать не надо. Свобода, блин… А ты, случаем, не из Москвы?
– Оттуда.
– Сюда тоже по делам приезжал? Или в гости?
– Теперь я в Штатах живу. Уже девять лет.
– В Москву-то наведывался?.. Да ты что?! Ты ее и не узнаешь теперь. Наш мэр, который в кепочке, такое в центре понастроил. А девочки какие по Москве сейчас порхают! Девять лет назад ты и представить не мог… Может, еще по одной? Земляки, как ни говори.
– Нет, нет, спасибо, – торопливо отказался Алик. – Мне хватит. Я ведь из Сан-Франциско лечу, в Нью-Йорке пересадку делал. Считай, ночь не спал. Отдохнуть надо малость.
Он откинул назад спинку кресла, закрыл глаза. Спать ему не хотелось, но надо было как-то отвязаться от говорливого попутчика. Чуть приоткрыв веки, Алик увидел, как тот опять плеснул в стаканчик почти доверху «Абсолюта», выпил залпом. И сразу заснул. Был он, пожалуй, того же возраста, что и Алик. Разве что лицо выглядело потрепанным – но если так прикладываться, то и станет потрепанным. Такие же черные усы, как у Алика. И даже шрам на лбу есть, только не справа, а слева. Наверное, работает в крупной компании – летает по свету…
Алик повернул голову к иллюминатору. Внизу по-прежнему громоздились тучи, а над головой, в чистейшей голубизне висело не по-земному яркое солнце. Вот так же величественно и равнодушно будет оно светить и через год. Алик его уже не увидит… При таком диагнозе вряд ли год протянешь.
Курил он с мальчишеских лет, почти все ребята с их двора начинали это баловство классе в седьмом-восьмом, хотели выглядеть повзрослее. А ведь был у Алика пример перед глазами – отец, заядлый курильщик, умер от рака легкого. Но и после его смерти Алик курева не бросил. По молодой глупой самонадеянности казалось, что любые беды, существующие в мире, могут стрястись с кем угодно, только не с ним. Как все курильщики со стажем, Алик обычно долго откашливался по утрам, сплевывал в умывальник накопившуюся в груди за ночь зеленую тягучую слизь. Когда пару недель назад среди этой зелени он увидел розоватые прожилки, поначалу не придал им значения. Но после того, как заметил их второй раз, записался на прием к своему врачу.
Доктор Кригел сразу пояснил, что у курильщиков наиболее частой причиной появления крови в мокроте бывает просто хронический бронхит. Потом позвал лаборантку, распорядился, чтобы сделали рентген.
Прикрепив проявленную пленку к светящемуся экрану, доктор Кригел долго разглядывал ее, многозначительно хмыкал. Ткнув пальцем в правое легкое, с того края, что ближе к середине грудной клетки, повернул голову к Алику. Почему-то глядя в сторону, сухо сказал, что вот, мол, эта тень, по всей вероятности, опухоль. Доктор еще продолжал что-то говорить, губы шевелились. Но Алик вдруг перестал его слышать. «Рак? У меня?.. За что?!» Через несколько секунд слух вернулся. Дрогнувшим голосом Алик выразил готовность вырезать опухоль незамедлительно.
– Об операции говорить преждевременно, – возразил доктор Кригел. – Чтобы поставить окончательный диагноз, давайте сначала пройдем все необходимые обследования.
Не включая мотора, Алик долго сидел в своей машине возле врачебного офиса. Вот так новость… У Леонида Андреева в «Рассказе о семи повешенных» верно подмечено: жизнь стала бы невыносимой, если бы человек точно знал, когда умрет. Алик теперь знает. Отец после того, как ему поставили этот страшный диагноз, протянул одиннадцать месяцев. Их районный онколог сказал тогда маме, что операцию делать уже поздно и что лечить будут лекарствами и облучением. Однако такое лечение и само было небезвредно. Отца часто рвало, совсем пропал аппетит, выпали волосы, исхудал – кожа да кости. Не леченье, а мученье. Может, и продлили жизнь на несколько месяцев, но разве это была жизнь?
Тогда, сидя в машине, Алик и решил вдруг слетать в Москву. Напоследок, пока еще не скрутила болезнь. За девять лет так и не удосужился побывать на родине. Когда три года назад внезапно, от инсульта, умерла мама, хотел лететь на похороны да не успел. Телеграмма от соседки, тети Даши, пришла на второй день, в пятницу под вечер. Начинать хлопоты насчет визы было в понедельник уже ни к чему – маму похоронили…
Прямо после визита к доктору Кригелу Алик поехал в знакомое туристическое агентство. Там они с Барбарой обычно заказывали билеты, собираясь в отпуск кудани-будь в теплые края – на Гавайи или в Мексику. В агентстве Алику пообещали оформить визу за три дня, и он заказал билет в Москву на субботу. Чем раньше улетит, тем лучше. О своем диагнозе он решил пока дома не говорить. Зачем наваливать этот страшный груз еще на чьи-то плечи. Вернется – там будет видно.
Придя вечером домой, он сказал Барбаре, что вот, мол, запала вдруг шальная мысль, надумал недели на две слетать на родину, столько лет там не был. Говорил это с улыбкой. Барбара помолчала немного, потом ответила, что надумал правильно – давно пора навестить родительские могилы. Она, конечно, почувствовала – у Алика что-то стряслось, но допытываться не стала. В этом отличие американской жены от русской. В душу мужику американская жена не лезет. Правда, и в свою не всегда пустит. А уж русская, если любит, – вся твоя, раскрыта без остаточка.
В пятницу, накануне отлета, он побывал в больнице. В рентгеновском отделении Алика уложили на узенький столик, который начал медленно просовывать его тело внутрь какого-то странного устройства, наподобие большого бублика. «Бублик» чуть слышно гудел, делая послойные снимки его грудной клетки. Потом была бронхоскопия. Под наркозом из его правого легкого отсосали слизь с содержащимися в ней клетками, отщипнули подозрительный узелок, выступавший в просвет бронха. Как пояснил врач, собранный материал будет изучен под микроскопом. Если обнаружатся раковые клетки, это и станет окончательным подтверждением диагноза. В зависимости от формы раковых клеток будет рекомендован тот или иной метод лечения.
Алик покорно прошел назначенные обследования. Хотя для него и так все было ясно. Прислушиваясь теперь к своим ощущениям, он заметил какое-то тупое давление как раз в той точке, справа от грудины, куда ткнул палец доктора Кригела на рентгеновском снимке…
Туго набитый человеческими жизнями, «Боинг» привычно тащил свой груз через Атлантический океан. Выглянув в иллюминатор, Алик заметил, что тучи внизу поредели. На водной поверхности, далеко внизу, болталась крохотная щепочка, за ней можно было различить белесоватый хвост пены. Щепочка шла тем же курсом – с запада на восток. Какая все-таки неимоверная высота. А что, если самолет сейчас падать начнет? Ведь кому-то и не повезти должно – крутится в Зазеркалье рулетка, выбрасывает счастливые и несчастливые номера… И вдруг падающий самолет войдет в воду по касательной – не расколется, скользнет в глубину со всем содержимым? Еще какое-то время люди будут жить в его утробе, задыхаясь и сходя с ума. Нет, уж коли это, действительно, суждено сегодня, пусть лучше случится над земной твердью. Удар – и конец, легкая смерть. Для Алика, с его диагнозом, воистину подарок небес.
Он с детства инстинктивно боялся высоты. Соседские мальчишки лихо бегали по крыше их четырехэтажного дома, на спор спускались на одних руках, не опираясь ногами о перекладины, по пожарной лестнице с крыши во двор. Алик от них ни в чем не отставал – самолюбие не позволяло. А страх высоты продолжал жить где-то внутри. Уже повзрослев, сидя как-то вечером на скамеечке с Катюхой и разглядывая звездное небо, он признался ей в этом страхе. Катюха тогда увлекалась эзотерической литературой.
– Это значит, что в одной из прежних жизней ты падал с высоты, – уверенно заключила она. – Помнишь, спартанцы сбрасывали в пропасть младенцев, родившихся хилыми или больными. Может, ты был одним из них?
Алик лишь засмеялся в ответ. А теперь отнесся бы к Катюхиным фантазиям посерьезнее. Кто знает, есть ли что-либо за гранью этой земной жизни или нет?..
По проходу опять двигалась тележка, развозили завтрак. Скрючившись в кресле, сладко спал Степан. Алику есть не хотелось; он тоже закрыл глаза, поворочался немного, пытаясь устроиться поудобнее. Чуть вибрировал под щекой край иллюминатора… Милая Катюха. Где она сейчас?
Глава вторая
После выпитого Степан так и проспал девять часов полета. Когда «Боинг» начал снижение, на светящемся табло поверх кресел зажглась команда: «Застегнуть ремни». Подошедшая стюардесса – все с той же, будто приклеенной, улыбкой – попыталась разбудить Степана. Но он только мычал в ответ. Придя на помощь, Алик крепко тряхнул попутчика за плечо. Тот, наконец, открыл глаза. Они смотрели раздраженно, от прежнего пьяного добродушия не осталось и следа.
– Пристегнись, Степа. На посадку идем.
Дрожащей рукой тот нащупал ремень, защелкнул его и опять закрыл глаза.
В иллюминатор проступала все более крупным планом подмосковная земля: деревеньки, поля, извилистые речушки, проселочные дороги, леса. У Алика запершило в горле. Мальчишкой с родителями он ездил в эти леса по грибы. Отправлялись затемно, даже завтрак откладывали на потом. После долгой тряски в душной электричке выходили на покрытую утренней росой платформу, углублялись по узенькой тропке в лес. Где-нибудь на полянке, уже прогретой солнышком, усаживались втроем, завтракали перед началом долгого, на полдня, грибного промысла. Иногда, перекусив, отец тянул маму за руку:
– Пойдем, Маша, сперва разведаем, где тут грибная семейка затаилась. Потом все вместе собирать будем. – Отец грозил сыну-несмышленышу пальцем с желтым от курева ногтем. – А ты сиди и стереги лукошки! Мы живо обернемся.
Отец был строгий, не то что мама. Они возвращались минут через пятнадцать. Раскрасневшаяся мама смущенно отводила глаза, целовала Алика в щеку. Только став взрослым, Алик догадался, какой разведкой они занимались. Что ж, понять можно, были молодые, любили друг друга. И то сказать – отцу в ту пору было лет на десять меньше, чем Алику сейчас… Заядлые грибники, родители забывали об усталости. Алику, напротив, поиск грибов быстро надоедал. Приходилось перебираться через поваленные, полусгнившие деревья, к лицу липла лесная паутинка. Через час-другой он капризно заявлял, что у него устали ножки.
– Ну, ты и лентяй, – притворно сердитым голосом говорил отец. Потом одним движением сильных рук подымал сына над головой и усаживал себе на плечи. Для большей устойчивости Алик клал ладошки на его загорелую, потную шею. Верхом на отце собирать грибы становилось интереснее. Алик вглядывался в мох под деревьями. Увидев среди зелени коричневую шляпку, тыкал мокрым от отцовского пота пальцем в ее сторону, восторженно кричал:
– Вон, вон белый! Ничего без меня не видишь, разиня!
Отец послушно поворачивался, легко приседал перед грибом, аккуратно подрезал его ножку у основания…
«Боинг» летел уже совсем низко, выпустив колеса. Мелькнула в иллюминаторе проволочная ограда, травяной лужок за ней, а потом серым бетоном заструилась внизу посадочная полоса. «Боинг» мягко коснулся ее и побежал, гася скорость.
На первом этаже международного аэропорта «Шереметьево-2», в полутемном, без окон зале, Алик прошел сперва паспортный контроль. За стеклянной перегородкой полногрудая дама в кителе с погонами долго, глубокомысленно разглядывала визу и американский паспорт Алика. Тяжело вздохнув, шлепнула печать.
После паспортного контроля пассажирам нью-йоркского рейса надлежало получить свой багаж. Они терпеливо жались возле пустой ленты транспортера, ожидая, когда на ней появятся их чемоданы. А у Алика, кроме сумки в руках, никакого багажа не было. Он помахал на прощаньеСтепану, но тот, уставясь тяжелым, похмельным взглядом на ленту транспортера, его не видел. У выхода из багажного зала таможенник пропустил сумку Алика через рентгеновскую установку. Потом поставил сумку на стол перед собой, расстегнул ее, зачем-то пощупал аккуратно сложенную Барбарой рубашку, что лежала сверху. Черкнув закорючку, вернул таможенную декларацию и вяло махнул рукой – проходите…
Обленились, однако, ребята за минувшие девять лет. Алику вспомнилось, какой шмон устроили таможенники, когда он улетал, – все вещи перетряхнули. А иконку, которую мама сунула ему в чемодан, так и не пропустили. Мама в молодости сумела выбраться из голодной деревни в Москву на заработки и эту иконку привезла с собой – простенькая такая иконка. Нет, сказали таможенники – для вывоза за границу иконки требуется разрешение Министерства культуры. А вдруг она имеет художественную ценность? Вернул тогда Алик иконку маме. Та его на прощанье перекрестила…
В зале для встречающих было многолюдно. Ответив на чей-то нетерпеливый вопрос, что за рейс прибыл, Алик выбрался из толпы. Поставив у ног сумку, выпростал из-под рукава часы. Они показывали время в Сан-Франциско – пять сорок пять утра; Барбара еще третий сон видит. Между Москвой и Сан-Франциско одиннадцать часовых поясов. Алик перевел часы на московское время – четыре сорок пять дня.
– Ну что, хозяин, поехали? – массивный шоферюга в черной кожаной куртке стоял перед Аликом, щерил, изображая улыбку, крупные желтые зубы; волосатые пальцы раскачивали цепочку с ключами от машины. – Да ты не сомневайся, много не возьму. Десять баксов дашь? Ведь это же по нынешним временам не деньги. Просто в центр порожняком ехать не хочется, люблю поболтать с попутчиком.
«Действительно, недорого – в Сан-Франциско за поездку из аэропорта до дома слупили бы не меньше тридцатки» – подумал Алик.
– Мне в Измайлово надо, – сказал он.
– Нету проблем. Это, можно сказать, по пути мне.
В углу зала Алик увидел окошечко, а над ним надпись: «Обмен валюты».
– Подожди только, я сейчас доллары обменяю.
– Дело, конечно, хозяйское. Но я бы не советовал – в центре найдешь пункты обмена, где курс получше. А со мной тебе рублями расплачиваться не надо. Я же сразу сказал – десять баксов… Поехали, нечего время терять.
Прихватив мощной рукой сумку Алика, он вывел его наружу. Под широким навесом, вдоль тротуара жались друг к другу разномастные машины. Открывая заднюю дверцу красных «жигулей», шоферюга сказал:
– Садись сзади, хозяин, там тебе с сумкой удобнее будет.
В толчее подъезжающих и отъезжающих машин «жигули» осторожно выбрались из-под навеса. В глаза Алику ударил солнечный свет, пронизывающий коричневатую дымку над аэропортом. Трава по краям дороги была еще прошлогодней, пожухлой; лишь кое-где проступали изумрудные пятнышки молодой травки. Начало мая. Видать, весна в этом году в Москве поздняя.
– Ну, как погода в Нью-Йорке?
– Дождик, – отозвался Алик.
– А у нас, наконец, тепло пришло. Душа не нарадуется.
Дорога от аэропорта поднялась на эстакаду. Сразу за эстакадой «жигули» свернули налево и выскочили на широкое многорядное шоссе. «Ленинградское шоссе» – вспомнил Алик.
– Вот, блин, опять стоит, – выругался шоферюга. – Спасенья нету от этих гаишников.
Впереди, у края шоссе, застыла фигура в милицейской форме; в руке – протянутая горизонтально милицейская палочка. Скрипнув тормозами, «жигули» остановились на обочине.
Не говоря водителю ни слова, пузатый, невысокий гаишник прошелся вдоль машины; зачем-то постучал палочкой по колесам; сквозь боковое стекло осмотрел все внутри. Оглянувшись, резко распахнул заднюю дверцу, плюхнулся на сиденье рядом с Аликом, молча потянул из его рук сумку.
– Ты чего, ты чего? – удивленно забормотал Алик.
– Замри, падла! – сидевший впереди шоферюга повернулся и ткнул могучим кулаком в лицо Алика. Удар пришелся по нижней челюсти, во рту сразу появился солоноватый привкус крови. Нашарив левой рукой дверную ручку, Алик резко дернул ее. Но дверь не открылась. «Заблокировали, все предусмотрели» – пронеслось в голове.
– Да что же ты, падла, делаешь? – заорал шоферюга, заметив попытку Алика открыть дверцу. Перегнувшись с переднего сиденья, он сдавил волосатыми пальцами шею Алика. Пальцы были словно клещи. Алик захрипел.
– Ты там поосторожней, не придуши совсем, ему еще чуток пожить надо, – не подымая головы от сумки, недовольно распорядился «гаишник». Пальцы на шее немного расслабились. Скосив глаза, Алик наблюдал, как «гаишник» переворошил содержимое сумки – будто искал чего-то. Потом принялся за карманы Алика.
Мимо, по Ленинградскому шоссе, с ревом проносились тяжелые автофургоны, катили автобусы, легковушки. Никому не было дела до красных «жигулей», остановившихся на обочине. «Гаишник» засунул руку с массивным золотым перстнем на указательном пальце во внутренний карман куртки Алика, куда тот положил после таможенного досмотра свои документы. Вытащив паспорт, «гаишник» раскрыл его, прочел по складам латинские буквы: «А-лек-сан-дер Фе-до-ров». Недоуменно бросил взгляд на фотографию в паспорте, потом – на Алика.
– Ты кого же мне привез, отморозок? – глухо спросил он шоферюгу.
– Кого ты сказал, того и привез. С нью-йоркского рейса. И вот усики, как на той фотографии, что ты мне показывал. А еще и отметина на лбу.
– Так отметина должна быть слева, а у этого – справа! – «Гаишник» многоэтажно выругался. – Давай быстро в аэропорт – авось, того еще застанем!
– А с этим что делать?.. Пришить – и дело с концом.
– Тебе, отморозку, только бы пришить. Время потеряем!.. Извиняюсь, мистер Александер, за беспокойство… А ну, вываливай, пока я добрый!
«Гаишник» открыл дверцу со своей стороны, вытащил Алика наружу, кинул на обочину его сумку и документы.
– Забудь все поскорее – ради собственного здоровья! – крикнул он, захлопывая за собой дверцу. Нарушая правила движения, красные «жигули» задним ходом взобрались на эстакаду – благо, она была пуста – и, развернувшись, понеслись в сторону аэропорта.
Алик подобрал с земли документы. Сплюнул розовую слюну в пожухлую траву под ногами. Достав из сумки сигареты, закурил, постоял немного, чтобы успокоиться.
«Ну, здравствуй, первопрестольная. Весело ты жить стала… Может, в милицию заявить? Да пошли они все подальше!»
Надо было как-то добираться до города. Алик поднял руку, надеясь остановить такси или частника. У обочины затормозила машина, высунулось хмурое лицо водителя.
– Куда?
– В Измайлово.
Водитель отрицательно мотнул головой. Потом несколько машин проехали мимо, не останавливаясь. Наконец, еще одна остановилась.
– Мне бы в Измайлово, – неуверенно сказал Алик. – Только рублей у меня нету, есть доллары.
– Сорок баксов, – ответил молодой парень за рулем.
– А мне вот тут недавно один предлагал отвезти за десятку, – попробовал поторговаться Алик.
– Это он пошутил, дядя. Таких цен по Москве сейчас нету.
Алик согласно кивнул, с сумкой в руке залез в машину. Действительно, тот пошутил, еще как пошутил… Во рту оставался солоноватый привкус крови. Но зубы не шатались. И на том спасибо.
Глава третья
Дом был «сталинской» постройки. Это означало, что потолки в доме высокие – в отличие от более поздних «хрущоб». Четыре этажа, шесть подъездов. Между третьим и четвертым подъездами – та самая пожарная лестница, по которой на спор мальчишки спускались на одних руках с крыши.
С сумкой, перекинутой через плечо, Алик стоял возле пятого подъезда, вглядываясь в окна на третьем этаже. Там была их квартира. А вокруг простирался двор, где детишками играли в прятки, гоняли мячик, дрались и мирились; каждый день в детстве был наполнен радостью открытий и длился так долго… Став постарше, Алик допоздна засиживался тут летними вечерами. Рядом, на скамеечке – мальчишки и девчонки с их двора. Яшка Гуревич играет на гитаре. Окна квартир приоткрыты – поэтому играет негромко, чтобы не побеспокоить какого-нибудь раздражительного соседа. Репертуар обширный: от Вертинского до Окуджавы и Высоцкого. Тенорок у Яшки слабенький, но музыкальный слух имеется; не зря в детстве мамаша водила его за ручку в музыкальную школу… Поступив в юридический институт, Яшка вскоре переехал в район Савеловского вокзала – родители поменяли квартиру. Но Алик и Яшка не теряли друг друга из виду, перезванивались, иногда пересекались в каких-нибудь общих компаниях. Надо будет разыскать его непременно.
Вот она дверь подъезда, откуда в детские годы Алик выскакивал с лыжами на плече. А во дворе его уже ждали ребята, чтобы идти кататься в Измайловский леcопарк… На первом этаже, налево, – обитая коричневым дерматином дверь. Тут жили Ходоровские, они еще раньше Алика свалили за бугор, в Израиль. У Ходоровских был велосипед; иногда, если Алик вел себя хорошо, тетя Роза, добрая душа, давала ему велосипед покататься по двору. А потом с велосипедом случилась такая история. Алик был летом в пионерском лагере – где-то неподалеку, за Кольцевой автодорогой. Отец надумал съездить, проведать сына и попросил у Ходоровского этот самый велосипед. И вот в пути, когда дорога шла под уклон, переднее колесо вместе с проржавевшей вилкой отвалилось. Отец ткнулся головой в асфальт – потом неделю ходил с шишкой на лбу. Притащив на себе разломанный велосипед обратно, отец виновато сказал отворившему дверь Ходоровскому:
– Извини, Ароныч. Видишь: развалился он в дороге… Ты не сомневайся, я тебе заплачу за поломку, вот будет на заводе получка шестнадцатого.
Ходоровский молча осмотрел изъеденное ржавчиной место разлома, потом ответил:
– Ему давно было пора на свалку… Это я тебе должен заплатить – ты свой лоб подставил, а мой сберег.
Вечером отец, тронутый справедливостью Ходоровского, спустился к нему на первый этаж с бутылочкой в руке. Посидели, тетя Роза выставила на стол свою знаменитую фаршированную рыбу. Хорошие были люди.
На втором этаже, справа – квартира Полуновых. Левка на год моложе Алика, но они дружили. Правда, Алик был в детстве забияка, а Левка – тихоня. Отец Левки занимал какой-то небольшой партийный пост районного масштаба. Иногда его даже привозила с работы служебная машина. Но Полунов старший не важничал – тоже всегда выглядел тихим, чуть ли не испуганным. Карьеры не сделал, умер в годы «застоя»; перед смертью позвал Левку и наказал никогда не вступать в партию. Много позднее Левка поделился этим по секрету с Аликом. «Я был молодой, глупый, верил в идеалы, – говорил отец, задыхаясь от эмфиземы. – Вступил в партию и постепенно прозрел. А уже не выйдешь. Вся эта бандитская партия по макушку в крови человечьей. Сам я зла не делал, да все равно злу прислуживал». Левка наказ отца выполнил, не лез в этот гадюшник.
А на четвертом этаже, прямо над Аликом, жил Ванька Белов. Телефонов у них в доме долго не было; если требовалось срочно переговорить, Ванька стучал три раза по трубе водяного отопления: два быстрых удара и после паузы – третий. Услышав этот сигнал, Алик вставал на подоконник, открывал форточку, и они с Ванькой перекликались. Тот был на год старше, но где-то классе в пятом его оставили на второй год. После этого Алик с Ванькой учились в одном классе, сидели за одной партой. Обменивались интересными книжками, собирали марки. После седьмого класса Ванька ушел в техникум, но не закончил; как говорили взрослые, «связался с дурной компанией». Чем-то приторговывал, что-то подворовывал. Торопясь по утрам в институт, Алик иногда сталкивался на лестнице с Ванькой, возвращавшимся домой после ночного загула, – лицо помятое, разит водярой. Потом Ванька съехал из родительской квартиры. Уже перед отъездом в Америку дошли до Алика слухи, что Ванька мотает срок – вроде бы, за грабеж магазина… А ведь когда-то плечом к плечу засиживались после школы у Ваньки на диване, читали вместе про детей капитана Гранта… Надо бы зайти к его родителям, узнать, что и как. Может, образумился. И к Левке тоже надо наведаться. Но это не сегодня…
Алик стоял на третьем этаже перед дверью своей квартиры. Через эту дверь он выносил гроб с телом отца – помогали пришедшие на похороны заводские сослуживцы отца, Яшка, Левка. На узкой лестничной площадке, чтобы развернуть гроб ногами в сторону ступенек, головной конец пришлось приподнять. Уже в автобусе, по пути на кладбище, Алик подтянул сползшее тело отца, невесомое после долгой болезни, уложил голову поудобнее на подушечку.
А маму выносили без него… Она была маленькая, ей длинный гроб не требовался, развернуть ее гроб на лестничной клетке, наверное, было легче. Хоронила маму соседка по квартире, тетя Даша, да еще из деревни приехали дальние родственники… Алик так и не успел. Через пару недель его знакомый полетел из Сан-Франциско в Москву и захватил деньги для тети Даши, чтобы возместить расходы на похороны. Потом Алик получил от нее письмецо – она писала, что похоронили маму вместе с отцом, в той же оградке. Еще тетя Даша сообщала, что скромную мебель из их комнаты забрали деревенские родственники, а на освободившуюся жилплощадь подселили очередника – мать с ребеночком. Строчки в письме неуклюже наползали одна на другую, но американский адрес на конверте был выведен четко, другим почерком, – тетя Даша попросила кого-то.
За день до вылета Алик позвонил ей из Сан-Франциско. Она сразу узнала его голос, хотя до этого столько лет не слышала. Обрадованно сказала, что, конечно же, он может остановиться у нее… Их квартира состояла из трех комнат. Когда распределялось жилье, тетя Даша с мужем и двумя дочками получила две комнаты, а семье Алика дали на троих одну, но зато большую, квадратную. Дочки тети Даши были старше Алика; когда тот еще ходил в начальную школу, дочки уже бегали на танцы. Они быстро выскочили замуж и покинули родительское гнездо. Муж тети Даши, который работал на том же заводе, что и отец Алика, умер года через два после отца. Вот тетя Даша и доживала век одна, как она любила выражаться, «в двухкомнатных хоромах». Долгие годы они с мамой мирно сосуществовали на общей кухне. Обе были чистюлями – все на кухне блестело. Праздники обычно встречали вместе, у мамы фирменным блюдом был студень, у тети Даши – пельмени. Когда Алик уезжал, ему было как-то легче от мысли, что мама не одна, что вместе с ней тетя Даша.
Алик нажал на кнопку звонка, и дверь почти сразу отворилась. За ней стояла тетя Даша, сухонькая, постаревшая, сгорбившаяся. Но глаза из-под седых бровей все так же лучились добротой и интересом к жизни. Алик поцеловал ее. Она всхлипнула.
– Не дождалась тебя мамочка… Да ты, милок, раздевайся. Обувку ставь под скамеечку, не забыл, небось. А вот твои тапки старые, мамочка все берегла… Теперь беги в ванную, душ прими после дороги. Там чистенькое полотенце я на стиральную машину положила. Пельмени уже накрутила. Ты мойся, а я их в кипяток бросать буду…
В комнатках тети Даши было, как всегда, чисто, ни пылинки. Будто ничего и не изменилось за девять лет: на стене, над кроватью, висит все тот же порыжелый коврик с лебедями, на тумбочке – знакомый Алику со школьных лет телевизор с крохотным черно-белым экраном. В углу – божница с иконками.
На столе испускает вкусный пар миска с горячими пельменями, стоит баночка со сметаной, тарелка с селедкой и отварной картошкой. Две початые поллитровые бутылки: в одной – водка, в другой – розоватая настойка с ягодами клюквы на дне.
– Давно мечтал твоих пельменей отведать, тетя Дашенька. Сбылась мечта, – раскрасневшийся после душа Алик налил себе в рюмку водки, а тете Даше плеснул клюквенной настойки на донышко – для приличия, он знал, она не пьет. – Ну, со свиданьицем!
После выпитой водки во рту появился уже забытый Аликом сивушный привкус – типичный «сучок». А пельмени были вкусные. Тетя Даша не держала в секрете способ их приготовления. По ее рецепту иногда делала пельмени мама. Но у тети Даши все равно получались вкуснее.
– Как живешь, тетя Дашенька? Я читал, у пенсионеров жизнь теперь тяжелая. Концы с концами сводишь?
Тетя Даша помолчала, потом ответила:
– Пенсионерам нынче трудно. Иной старичок или старушка на хлебе и картошке перебиваются, а уж что-нибудь повкуснее попробовать или там одежку, обувку купить и не думают, старое донашивают. У меня другое дело, мне повезло – дочки достались хорошие. У старшенькой с мужем дача своя – летом все выходные там вкалывают, зато зимой кормятся. И мне подбрасывают. Видишь, отварная картошечка какая рассыпчатая – в подполе у них до весны хранится, будто только из земли выкопали… А младшенькая моя – она на бирже этой работает. Все деньгами подсобляет – на, мамочка, на, мамочка. Хорошие детки мне достались.
Тетя Даша поднялась из-за стола. Открыв дверцу шкафа, пошарила внутри, из-под стопки наглаженного белья вытащила конверт.
– Вот, милок, коли о деньгах заговорили… Когда мамочка померла в одночасье, я денег на похороны у дочек призаняла. Потом твой знакомый баксы эти принес, и я с дочками расплатилась. А еще потом на надгробный камушек потратилась. Только ты много прислал – это в конверте остаток. Забирай, нам лишнего не нужно.
– Да ты что, тетя Дашенька, какой там остаток! Я тебе и так навсегда обязан, что маму в последний путь проводила. Потрать эти деньги на себя, не обижай.
– Коли так, то спасибо… Вот пойду в воскресенье в церкву, поставлю большую свечку за помин души рабы божьей Марии.
Будильник, который стоял на телевизоре, показывал семь. А в Сан-Франциско, значит, еще только восемь утра… Вчера Алик поднялся ни свет, ни заря. Барбара отвезла его в аэропорт к утреннему семичасовому рейсу. Потом перелет через всю Америку – от Тихого океана до Атлантического. Несколько часов ожидания на пересадке в Нью-Йорке, в аэропорту Кеннеди. Долгий полет над Атлантическим океаном и через Европу. И все это время поспать по-настоящему не удавалось – дремал, скрючившись в самолетном кресле. Выходит, он без настоящего сна уже вторые сутки. И спать почему-то не хочется.
Алик плеснул еще водки в свою рюмку, ее краешком символически стукнул о рюмку тети Даши на столе, выпил. В желудке разлилась приятная теплота. Подумаешь – сивухой отдает. И не такое по молодости пили.
– Тетя Дашенька, а как соседи наши поживают? Левку Полунова со второго этажа часто видишь?
Тетя Даша поджала губы, перекрестилась на божницу.
– Помер твой Левка прошлым летом… И что за мужики пошли нынче – все норовят молодыми помереть. Ну, другие, понятно, за воротник много закладывают. А ведь Лева-то не пил, тихий такой всегда, приветливый – весь в отца… Сказывали, от белокровия, что ли. За несколько месяцев скрутило. Двое детишек остались.
Алик подпер лоб ладонью, на минуту закрыл глаза. Вот так новость. Действительно, не пил, не курил даже, на год моложе – и уже там… До скорой встречи, Левка, друг детства…
– А про Ваньку Белова, который над нами жил, что-нибудь слышно?
– Вроде, в тюрьме он.
– Все там?.. Его же посадили еще до моего отъезда?
– Это попервой. Ты уехал – его вскорости выпустили. Сама с ним на лестнице встретилась – водкой пропах, не продохнуть. Приходил родителей проведать, те еще живы были. А года четыре назад, сказывали, он снова в тюрьму угодил. Непутевый – с детства таким был.
Тетя Даша подвинула к Алику блюдо с пельменями.
– Накладывай еще, пока не остыли. Такими пельмешками, чай, жена тебя там не накормит… Как доченька растет? Марией назвали?
– Мэри… По-нашему Мария. В честь мамы. Шаловливая девчонка, вроде меня в детстве, – Алик довольно улыбнулся. – Осенью в школу пойдет. Я букварь наш раздобыл, по вечерам его вместе с ней читаем. И вообще мы с женой решили – дома только по-русски говорим. Английский к дочке сам придет. А я хочу, чтобы она и язык отца знала.
– Правильно делаешь… Ты доедай пельмешки-то, грех на тарелке добро оставлять. А я пойду пока на кухню, чай заварю. Будем пить со смородинным вареньем – дочка прошлым летом на даче сварила…
Отодвинув пустую тарелку, Алик встал из-за стола, подошел к окну. В неверном лунном свете был виден ряд кустов, за ним скамеечка, смутные силуэты сидящей парочки. Когда-то на этой самой скамеечке теплыми летними вечерами сиживал он с Катюхой.
Вернувшаяся из кухни тетя Даша поставила на стол вазочку с вареньем, знакомые Алику с детства чашечки с красными петушками. Он хотел, было, спросить ее о Катюхе, но передумал. Когда приключилась вся эта история с Катюхой, и тетя Даша, и мама очень Алика осуждали.
– Забыла сказать, милок. Ведь одного из твоих дружков я видела месяца два назад. Пошла как-то в наш гастроном молочка купить. Останавливается у гастронома машина. Большая. Сказывали, в моде нынче такие машины у богатых, «широкий» называется.
«Это она, наверное, джип 'чероки' в виду имеет» – улыбнувшись, подумал Алик.
– И вот выскакивает из машины важный господин, торопится в гастроном за чем-то. Я его попервоначалу не признала. А он увидел меня, сразу остановился. «Тетя Даша, тетя Даша, ты меня разве не помнишь?» Присмотрелась – Яша Гуревич это, во втором подъезде его родители раньше жили, потом квартиру поменяли. Про тебя он спрашивал, нет ли весточек. А что я ему скажу? Пока мамочка жива была, ты и писал, и звонил. Потом пропал – ни полсловечка. А я тебе, чай, не чужая. Бывало, по молодости родители твои вечерком в кино побегут – меня просят за тобой присмотреть. И нос тебе подотру, и на горшочек посажу, и убаюкаю, когда время придет.
Алик виновато опустил голову.
– Так вот, Яша-то в большие начальники выбился. Дал мне бумажку, плотненькую такую, – мол, позвони, если помочь чем нужно будет. А какая мне еще помощь? Сама справляюсь. Да и дочки мне достались хорошие.
Тетя Даша подошла к тумбочке, взяла бумажку, лежавшую сбоку от телевизора, протянула ее Алику.
– Видишь, где он работает?
На визитной карточке золотыми буквами было напечатано: «Яков Наумович Гуревич. Юридический консультант. Ойл-банк». На обороте то же самое повторено по-английски. Указан номер служебного телефона. Завтра с утра надо будет позвонить. Сейчас все равно нет смысла – воскресный вечер. Алик вдруг почувствовал, как он устал. Сонно потер глаза.
– Знаешь, тетя Дашенька, мне что-то расхотелось чай пить. Лучше бы на боковую. Я уже вторые сутки без сна.
– Конечно, конечно, милок, – засуетилась тетя Даша. – Идем в комнатку, где девчонки мои раньше обитали. Я тебе сейчас на диване все чистенькое постелю. Приморился с дороги…
Глава четвертая
Алик проснулся среди ночи. В темноте привычно протянул руку за сигаретами – к тумбочке возле кровати. Рука уперлась в спинку дивана. Только тут Алик сообразил, что он в Москве, что он спит на диване у тети Даши. Беспокоить ее, топать сейчас через ее комнату на кухню, чтобы покурить, – неприлично. Ладно, и до утра потерпеть можно. Алик уже собирался снова провалиться в сон, как все та же мысль ожгла его мозг. Днем он более или менее справлялся с этой мыслью, загонял в подсознание. По ночам она возвращалась к нему во всей своей беспощадной наготе.
Отпущенную ему жизнь меряют уже не годы – месяцы. А потом?.. Неужели за той гранью исчезнет без следа весь его мир, его память, его душа? Попы, раввины, муллы – все они учат: за гробом начинается новая жизнь. Кто это видел? Язык без костей – вон сколько высокопарного вранья сказано и написано за тысячелетия… Но и отрицать какое-то продолжение по ту сторону земного – тоже ведь бездоказательно. Ум человека слаб, даже проблемки попроще, вроде бесконечности времени или пространства, объять не может. Много веков назад изрек Сократ свою знаменитую фразу: «Я знаю, что я ничего не знаю». Человеческое незнание неизмеримо больше человеческого знания – так есть, так будет всегда. И утверждение верующих о вечной душе, и отрицание этого атеистами не противоречат фактам, их просто нет… Но, как известно, из двух теорий, не противоречащих фактам, следует выбирать ту, что проще. А значит, мудро готовить себя к уходу в никуда, в пустоту… Все-таки мало пожил – жалко себя и страшно… Черная воронка, ускоряя вращение, засасывала Алика в бездну. Все глубже, глубже…
Утром его разбудил осторожный скрип половиц в соседней комнате. Там тетя Даша накрывала на стол к завтраку. Алик оделся, вышел к ней.
– Все куришь, куряка? – тетя Даша увидела пачку сигарет в его руке, укоризненно покачала головой. – Иди на кухню, открой фортку и дыми, сколько хочешь… Только не шуми очень – соседка под утро вернулась с ночной смены, спит.
– На заводе работает? – поинтересовался Алик.
– Считай, что так, – тетя Даша обнажила в улыбке беззубый рот. – В клубе она по ночам представление дает. Забыла я словечко это – она, значит, танцует и под музыку с себя одежку сбрасывает. Пока не останется, в чем мать родила.
– Стриптиз?
– Он самый… Говорит, что мужикам такой танец очень даже нравится.
– Сюда-то хоть не водит?
– Этого нет. У меня зятек – в милиции большая шишка, майором работает. Он сразу ее предупредил. А так она женщина неплохая. На кухне чистоту поддерживает. Сыночек ее – у деда с бабкой в Люберцах, она деньгами им подсобляет… Воистину, и смех, и грех. Даже осуждать не берусь. Трудно сейчас простой народ живет – каждый исхитряется, как может.
После завтрака, взяв Яшкину визитку, Алик вышел в коридор к телефону, набрал номер. Воркующий голосок секретарши отозвался без промедления.
– Якова Наумовича пока нет. Что передать?
– Спасибо. Я еще позвоню.
Позднее утро за окном выглядело солнечным, тихим.
– Поеду я, тетя Дашенька. Сперва на кладбище. Потом Москву посмотрю.
– Я тебе тогда писала – мамочку похоронили с отцом, в той же оградке. Найдешь?
– Найду.
– А домой когда ждать? К обеду-то приедешь?
– Думаю, часам к трем-четырем обернусь. У меня на сегодня больше никаких планов нету. Только вот до Яшки дозвониться надо… У вас где тут валюту обменять можно?
– Да прямо возле метро – два пункта обмена.
Выйдя из своего подъезда во двор, Алик прошелся вдоль дома. Девять лет назад в это время дня двор кишел малышней. А сейчас пусто. Рожать перестали?.. Алик зашел в первый подъезд. На втором этаже, на двери под номером четыре, висела, как и прежде, небольшая медная табличка: «Доцент И.И.Никитин». Тут живут, никуда не переехали. Как старую знакомую, Алик погладил дверную ручку. Чуть поколебавшись, нажал кнопку звонка.
Дверь открыл сам Никитин. «Хорошо, что не мать» – подумал Алик. В советские времена Никитин преподавал в их строительном институте марксистско-ленинскую философию. Про таких, как он, говорят – не от мира сего. Когда случилась эта история у Алика с Катюхой, Никитин и не заметил. А Елена Петровна была в курсе и, понятное дело, симпатии к Алику не испытывала.
– Здравствуйте, Иван Иванович. Катя дома?
– Здравствуйте, – Никитин прищурился, всматриваясь в Алика. – Простите, вы кто?
– Я раньше жил в этом доме, в пятом подъезде. Алик меня зовут. Вот оказался рядом и надумал зайти, Катю проведать.
– В пятом подъезде? Уж не Федоровых ли сын?.. Как же, помню ваших родителей, мир их праху. А с папашей вашим мы иногда во дворе сражались в шахматы, черными он любил сицилианскую защиту разыгрывать… Да вы заходите, заходите.
На Никитине был свитер с протертыми на локтях рукавами; ширинка на брюках по стариковской забывчивости не застегнута. В комнате, куда они вошли, Алику прежде всего бросился в глаза желтый кожаный диван. Их с Катюхой диван.
– А Катя дома? Она с вами живет?
– Катенька на работу с утра пошла. Работа у нее тяжелая – в детдоме для дефективных детишек. Сутки работает, потом двое суток дома. Если вы сумеете к нам завтра заглянуть, Катенька будет рада… Нет, нет, вы садитесь. Несколько минуток для старика найдете? Я ведь теперь на пенсии – мне интересно со свежим человеком пообщаться, обсудить текущий момент. Меня сейчас такая мысль заботит…
Дверь тихо отворилась, и вошла Елена Петровна. Неровно застегнутые пуговицы на халатике. Из-под него высовывается длинный подол ночной рубашки.
– Леночка, тебе чего-нибудь надо? – озабоченно обернулся к ней Никитин.
Елена Петровна смотрела прямо перед собой. Не отвечая, она прошла мимо Никитина, постояла немного у противоположной стены, уставившись на нее безжизненным взглядом, потом повернулась и так же молча вышла из комнаты.
– Вас, кажется, Алик зовут?.. Не обращайте внимания, Алик. Это у Леночки болезнь такая – Альцгеймер называется. Недавно читал, что Рейган, бывший американский президент, тоже эту болезнь имеет. Тот хотя бы по заслугам ее получил – матерым поджигателем войны был. А за что Леночка страдает? Память совсем потеряла, даже нас с Катенькой не признает. Если не покормим, то и не попросит. И одеть ее надо, и раздеть, и, извините, в туалет отвести…
Никитин торопливо подошел к столу. На столе – ворох газет. Томик в синем коленкоровом переплете, на обложке большими буквами оттиснуто: Ленин. Еще один синий томик лежит раскрытым – карандашные линии по краю страницы помечают особо важные взлеты нетленной мысли.
– Так вот, уважаемый Алик, я хотел бы вернуться к теме нашей беседы. Посудите сами – сколько десятков лет партия большевиков рубила головы этой гидре национализма. И все-таки недоработали данный вопрос. Как же быстро национализм развалил на части такую великую страну! И обратите внимание: в результате на Украине, в Грузии, Азербайджане, Казахстане у руля оказались бывшие руководители местных компартий. Право слово, оборотни. Никаких принципов или идеалов. Лишь бы до власти дорваться.
– Верные ученики своего учителя, – Алик кивнул в сторону письменного стола, где лежали томики Ленина. – Вспомните его крылатую фразу в октябре семнадцатого: «Главный вопрос – это вопрос власти».
– Ах, Алик, не улавливаете вы принципиального различия. Ильичу нужна была власть, чтобы повести народ к счастью. А у этих – власть самоцелью является. Возьмите, к примеру, нашего нынешнего президента. Как торопливо и радостно он подписал в Беловежской пуще документик о развале Союза. И все это с единственной шкурной целью – выбить поскорее шатающийся стул из-под Горбачева. Разве российский президент о России в тот момент думал?
– Извините, Иван Иванович, что перебиваю, – ответил Алик, с удивлением замечая, что заводится. – Большевики вообще никогда о России не думали. Вспомните Никиту, этого шута на троне, – как он в одночасье Крым подарил Украине. А Крым-то Потемкин с Суворовым у турок добывали, он к Украине никогда никакого отношения не имел. Согласны?
– Двадцать третий съезд партии осудил волюнтаристские ошибки Хрущева.
– Это верно – осудил. А подарочек незаконный в чужих руках остался. И разве это единственный случай, когда большевики Россию по живому резали?.. Вот Катя мне рассказывала когда-то про деда своего, вашего покойного батюшку. Яркая, к слову сказать, биография.
– Да. Мой отец еще в студенческие годы примкнул к революционному движению, сидел в царских тюрьмах… Потом и в наших тюрьмах довелось… Но ведь партия разобралась, осудила культ личности. Моего отца реабилитировали… посмертно.
– Хороша партия, которая самозабвенно лижет пятки очередному «фюреру», а когда тот повержен, так же самозабвенно его разоблачает. Впрочем, я не о том. Батюшка ваш университет кончал в Одессе?
– Да. Еще до революции.
– А как тот университет назывался?
– Одесский?.. Нет, не припомню.
– Так вот, Иван Иванович, он назывался: Новороссийский. Новороссией именовались территории вдоль черноморского побережья – нынешние Одесская, Николаевская, Херсонская области. Эти территории к Малороссии, как тогда Украину называли, тоже никакого отношения не имели, никакие малороссы там не жили. Новороссию опять же у турок русские солдатики отвоевывали. А когда Екатерина раздавала земли в новых краях своим приближенным, те своих русских крепостных туда переселяли. И кто же Новороссию подарил Украине? Опять-таки большевики во главе с незабвенным Ильичом. Он, наверное, еще и похихикивал по обыкновению. Мол, чего там мелочиться – переложим добро из одного кармана в другой. Мол, карманы-то все равно наши… А теперь про эти территории никто и не заикается – исконными украинскими землями стали!
Дверь в комнату отворилась, снова вошла Елена Петровна, остановилась у порога. Разгоряченный разговором, Алик вскочил со стула, быстро подошел к ней.
– Елена Петровна, дорогая, это я – Алик… Помните меня?
Он хотел, было, взять ее руку, погладить, но не решился. В широко открытых глазах – зеленых, как у Катюхи, – что-то шевельнулось на мгновение. Может, все-таки узнала? Или это только показалось? Елена Петровна молча повернулась и вышла. Алик проводил глазами ее согнутую спину, удаляющуюся по коридору, – старенький халатик, из-под низу ночная рубашка, на отечных ногах стоптанные домашние тапочки.
– Иван Иванович, уж вы меня извините за горячность, пожалуйста. Я ведь и ваши переживания прекрасно понимаю… Если разрешите, я завтра зайду, чтобы Катю повидать… Не серчайте, Бога ради!
Торопливо шагая по ступенькам вниз, к выходу из подъезда, Алик мысленно отчитывал себя: «Нашел, с кем дискуссии разводить! У старика и так все прошлое в развалинах. Как себе самому признаться, что жизнь прожил, молясь не Богу – дьяволу… А Катюху я завтра увижу».
Возле метро Алик поменял часть привезенных долларов. С трудом пересчитал непривычные бумажки со многими нулями. Один доллар – пять с половиной тысяч рублей. А когда-то за те же самые, те же самые пять с половиной тысяч Яшкины родители купили «жигули», первую модель… Кстати, надо бы позвонить Яшке.
В телефонной будке были выбиты стекла, но аппарат работал. Алик достал записную книжку, куда переписал утром Яшкин номер, набрал его.
– Да, Яков Наумович пришел. Но, к сожалению, он сейчас у руководства – срочное совещание… Обычно часов до шести тут задерживается… Да, позвоните еще.
Если по прямой, Бабушкинское кладбище располагалось не так и далеко от Измайлова – по ту сторону лесопарка «Лосиный остров». Можно, конечно, взять такси и махнуть по Кольцевой автодороге. Но Алик решил прокатиться на метро, столько лет его не видел. Привычные объявления из динамиков зазвучали на остановках: «Осторожно. Двери закрываются. Следующая станция…» И станции метро, и его вагоны за прошедшие годы как-то постарели, погрязнели. Но по сравнению, например, с нью-йоркским сабвеем московское метро выглядело все-таки неплохо.
От ВДНХ до Бабушкинского кладбища Алику пришлось проехать еще несколько остановок на автобусе. У старушки возле входа на кладбище он купил два букетика. Давно тут не был… Напротив входа, по ту сторону Ярославского шоссе, купола небольшой церквушки лучатся позолоченными крестами, кирпичные стены свежевыкрашены в темно-красный цвет; у церковных ворот сидит на земле нищенка… Посетителей на кладбище почти нет – понедельник. Заметно пригревает майское солнышко. Кресты, памятники, богатые, скромные. На них – фотографии умерших в овальных рамочках, трогательные и наивные надписи. Вокруг большинства могил проволочные оградки. Алик быстро нашел свою. Внутри – два надгробных холмика, тесно прижавшиеся друг к другу. Алик всхлипнул.
«Вот я и пришел, мои родные, мои самые близкие… Никому в этом мире, по большому счету, ничего не должен: мне делали добро – я отвечал тем же. Только у вас двоих в долгу неоплатном. Наверное, не самым плохим сыном был, но и тысячной доли своего долга не вернул. Это вы подарили мне жизнь и маленького носили на руках. Учили первым словам и первым буквам, вразумляли, что есть плохо и что хорошо. А когда вырос и время от времени попадал, молодой дурачок, в беду, это вы летели мне на помощь, не раздумывая. Я знал – у меня за спиной родительский очаг, там меня всегда ждут и любят, не отвернутся, не предадут».
Нагнувшись, Алик положил на холмики цветы. Посопел немного, успокаиваясь. Внутри оградки он смастерил когда-то небольшую скамеечку. Для мамы – она часто приезжала сюда побыть с отцом. Алик уселся на скамеечку.
Ему вспомнился отец в последние недели перед смертью. Он уже совсем ослаб; порой проваливаясь в забытье, мог и наделать под себя. Тогда Алик брал его легонькое, высохшее тело на руки, а мама над тазиком подмывала отца, меняла постельное белье, вытирала клеенку, предусмотрительно положенную на матрас. Однажды после такой процедуры отец открыл глаза – в них застыли тоска и стыд. «Скорее бы…» – тихо сказал он и опять закрыл глаза. Отцу не говорили о его страшном диагнозе. И он, чтобы не расстраивать маму и Алика, делал вид, что не догадывается. И все-таки проговорился – скорее бы смерть. Неужели и Алику предстоит мука сия? Он где-то читал о предусмотрительном раковом больном, который, жалуясь на бессонницу, загодя обзавелся целым пузырьком снотворных таблеток. А когда скрутила совсем болезнь, высыпал их всех на ладонь – и в рот… Надо будет об этом подумать. Если только хватит решимости… Скоро, скоро черед Алика. Уйдет к отцу и матери. Если они пребывают где-то, Алик их снова увидит. А если ничего нет, то все равно уйдет к ним. Туда же, где и они сейчас, – в никуда.
Глава пятая
После кладбища Алик доехал на метро до центра, вышел у Китай-города. Поднялся к Политехническому музею – мимо сумрачных зданий бывшего ЦК КПСС. Теперь тут обитают новые хозяева… Напротив, в уютном зеленом скверике все так же темнел памятник «Героям Плевны». У этого памятника Алик иногда назначал свидания Барбаре, а до Барбары и другим – место удобное, в центре, но толпы нет, не потеряешься… Куда-то спешили озабоченные пешеходы. Одеты совсем неплохо. После девятилетнего отсутствия Алику бросилось в глаза обилие машин на улицах, много иностранных марок.
У Политехнического Алик свернул на Ильинку, в сторону ГУМа. Изнутри ГУМ выглядел помолодевшим, свежеотремонтированным. На прилавках и за сверкающими витринами обилие товаров, почти все – импортные. Пересчитывая цены по курсу обменного пункта, где побывал утром, Алик обнаружил, что некоторые цены даже выше, чем в стране «желтого дьявола». А средний заработок здесь, по данным официальной статистики, на порядок ниже. Кому же по карману эти товары? Но, как ни странно, покупатели в ГУМе не переводились, хотя очереди вдоль прилавков, столь привычные в прошлом, исчезли.
На третьей линии ГУМа Алик заглянул в секцию электронной аппаратуры. На полках – неведомый прежде выбор товаров. И тут его осенила идея. В подарок тете Даше он решил купить телевизор. Сколько лет уже стоит у нее этот крохотный, с черно-белым экраном – давно пора выбросить. Коробку с «Сони» он вытащил наружу, нашел такси и поехал к себе в Измайлово. Такси катило знакомыми улицами – по Мясницкой, которая раньше называлась улицей Кирова, через площадь трех вокзалов, через Сокольники, Преображенскую площадь, Черкизово, по Щелковскому шоссе. Улицы в центре выглядели почище, понаряднее, чем прежде. Все-таки, вроде бы, что-то делается, что-то меняется к лучшему. Дальше от центра улицы становились привычно тусклыми, запущенными.
Таксист помог Алику поднять коробку с телевизором на третий этаж. Тетя Даша, открыв дверь, удивленно взглянула на запыхавшегося Алика.
– Вот, тетя Дашенька, подарок тебе.
Новый телевизор едва уместился на тумбочке.
– Ой, милок, красота-то какая! Спасибо… Только ведь дорогой он – зачем так потратился?
– Будешь смотреть телевизор и меня вспоминать… Хочу, чтоб потом меня вспоминали… А этот, старенький, мы выбросим, он свое отслужил.
– Да ты что – как можно? Он же еще работает.
– Ладно, тогда я его на кухню приспособлю. Начнешь там стряпать – и краем глаза передачи смотреть.
– Это другое дело, – одобрила тетя Даша. – Пойду-ка я сейчас обед разогревать…
Алик вышел в коридор, набрал Яшкин номер.
– Да, можно, – проворковала секретарша. – Минуточку.
– Слушаю, – голос у Яшки стал погуще, посолиднее.
– Яков Наумович, что же вы тогда ремешок мне такой коротенький бросали?
– Не пойму… Какой ремешок?
– Я же до него ну никак дотянуться не мог…
– Простите, кто это говорит?
– Лед обломился – я в воде барахтаюсь. А вы из брючек своих ремешок вытащили и его конец мне с берега бросали, подсобить пытались…
В марте это было, во втором классе Алик учился. Он, Яшка и еще несколько ребят с их двора в воскресный солнечный денек забрели в Измайловский лесопарк. Зимой они тут на лыжах катались. Но по весенней поре снег уже отсырел – пошли без лыж, просто так, пошататься. От валенок с галошами оставались в снегу глубокие следы – на донышке чернела талая вода. На берегу Лебедянского пруда затеяли беготню. Увертываясь от пущенного Яшкой снежка, выскочил Алик на лед, пробежал несколько шагов – и провалился. Уцепившись пальцами за ледяную кромку, стал подтягиваться. Да только тонок мартовский лед – обломился опять. Сгрудились испуганные ребята на берегу, что-то кричат. Яшка вытащил из брюк своих ремешок и его конец с пряжкой бросает Алику, помочь старается. Да короток ремешок, не дотянуться до него. Торчит из воды голова Алика, от страха он и холода не чувствует. Сообразил он, что вылезая на лед, нельзя всем телом на ладошки опираться – слишком большое давление под ними возникает. Приподнялся Алик еще раз из воды и начал осторожно животом на лед выползать. Распластался на нем – лед лишь потрескивает. И пополз медленно к берегу. А с берега уже Яшка свесился, тянет за воротник пальтишка…
– Неужто не припомните, Яков Наумович? На Лебедянском пруду данное событие имело место быть.
– Это кто?.. Алик, это ты?! Старик, старик, как же я рад слышать твой голос! Ты где сейчас?.. В родной квартире, значит… Давай так договоримся. Сегодня у нас тут, в конторе, заварушка небольшая приключилась, буду занят часов до семи. Освобожусь – прыгаю в машину и лечу к тебе. Жди – понял? Потом обсудим, куда стопы направить. Старик, я так рад!
В комнате тетя Даша уже стелила на стол белую скатерть.
– Тетя Дашенька, а как ты смотришь на такое предложение? Сейчас мы обедать не будем – только перекусим слегка, чтобы червячка заморить. А капитально сядем за стол в семь – Яшка Гуревич приедет.
– Уже разыскал дружка? Это хорошо, одобряю. А я как чувствовала – пельмешек свежих накрутила. Положу их пока в холодильник.
С бутербродом в руках Алик подсел к телевизору. На хлеб тетя Даша щедро положила шмат домашнего сала, нежного, пропитанного чесночным духом. Хорошо, что Барбара не видит сейчас, какую ужасную холестериновую отраву поглощает Алик, – ей стало бы дурно.
Дикторша передавала сводку московских новостей. Держалась свободно – не то, что прежние, которые от текста, профильтрованного в десяти инстанциях, на полсловечка отойти не имели права.
– А теперь – криминальная хроника, – дикторша посмотрела на Алика, соблазнительно улыбнулась. Было такое ощущение, что улыбнулась именно ему. Хороша баба.
– Как говорится, еще не вечер. Но за первую половину дня в столице уже зарегистрированы три убийства. Два – на бытовой почве, по пьянке. Подозреваемые уже задержаны. Третье привлекает особое внимание следственных органов. В лесопарковой зоне «Покровское-Глебово», недалеко от съезда с Ленинградского шоссе, сегодня утром найдены красные «жигули». На заднем сиденье – труп мужчины со следами неглубоких колотых ран и ожогов. Одно ухо отрезано. Такое впечатление, что убитого перед смертью пытали. Имеются также две огнестрельные раны – в грудь и голову. Как удалось узнать нашему корреспонденту, судебно-медицинская экспертиза не выявила сколько-нибудь значительного скопления крови в огнестрельной ране головы. Это позволяет заключить, что выстрел был сделан уже посмертно. Такой «контрольный» выстрел в голову типичен для убийц-профессионалов. Установлено, что владелец красных «жигулей» отношения к преступлению не имеет – его машина была угнана со стоянки утром в воскресенье. В кармане убитого обнаружен его заграничный паспорт. Согласно отметкам в паспорте, Степан Анатольевич Мясников вылетел из Нью-Йорка в минувшую субботу и прибыл в «Шереметьево-2» в воскресенье. Удалось также установить, что убитый работал в Ойл-банке. Следствие продолжается.
Уставившись на экран, Алик давно перестал жевать свой бутерброд с салом. Это же про Степу, его самолетного знакомца! И красные «жигули» Алику тоже знакомы… Выходит, поначалу те двое приняли его за Степу. А где Алик прежде слышал название это – Ойл-банк?.. На Яшкиной визитке оно золотом оттиснуто! Полчаса назад, разговаривая по телефону, Яшка сказал, что у них в конторе сегодня заварушка приключилась. Еще бы – убийство сотрудника может означать, что на их банк кто-то «наезжает». Ладно, вечером Яшка заявится, поговорим… А Степа бедный в самолете все распространялся, какая тут жизнь хорошая пошла, мол, только ушами хлопать не надо. Отрезали ухо-то…
Алик отнес на кухню старый телевизор, поставил на холодильник, включил. Чтобы изображение на экране получилось почетче, покрутил из стороны в сторону антенну. Барахло, конечно… Пусть стоит.
Покачивая бедрами, на кухню вошла соседка. На вид лет двадцать пять. Пожалуй, только недавно проснулась. На слегка припухшем после сна лице – улыбка многоопытной женщины.
– Ах, какая новость – мужчина в доме! Тетя Даша уже сказала мне… Я знаю: вас Алик зовут и вы живете в Сан-Франциско. Это меня тетя Даша просила написать на конверте ваш адрес, когда письмо вам отправляла… А меня зовут Лолита.
– Здравствуйте… А мама с папой как вас звали, когда маленькой была?
– Наденькой…
– Наденька звучит лучше.
– Не скажите… Я в ночном клубе выступаю – вам, наверное, тетя Даша говорила. Многим посетителям имя Лолита очень нравится. Даже роман такой был.
– Был… Вы его читали?
– Не.
– А сыночка как зовут?
– Ой, вам тетя Даша и про него говорила?.. Петя он. А я зову его Петюнчик.
– Скучает, наверное, без вас?
– Очень… И я тоже… Четыре годика ему. Когда меня нет, он все с куклами моими старыми играет. Говорит им: «Не плачьте, Наденька скоро приедет».
В глазах у Наденьки-Лолиты промелькнуло что-то детское, беззащитное.
– Ой, Алик, расстроили вы меня своими вопросами, – она повернулась и вышла из кухни. Бедра при ходьбе уже не покачивались…
Яшка заявился в полвосьмого. В прихожей они с Аликом обнялись. Яшка потолстел, надо лбом проступили ранние залысины. Был он все такой же шумный, говорливый.
– Старик, старик, я вот ехал и думал, почему так обрадовался, когда ты позвонил. И понял: потому что ты из моего детства. Ведь что выходит – становишься взрослым, детство все больше отдаляется, и начинает казаться, что было оно у кого-то другого. Тот мальчишка тебе хорошо знаком, но все-таки он – не ты!.. Старик, улавливаешь ход моей мысли?.. Потом – звонок давнего друга. И друг оборачивается неоспоримым доказательством: именно ты жил в ту прекрасную пору, это было твое детство… Здравствуй, тетя Даша!
Они прошли в комнату.
– Ну, старик, ты еще, как огурчик! – Яшка внимательно оглядел Алика. – И шевелюра все та же – не то, что моя. Только глаза почему-то с грустинкой… Ничего, мы живо настроение подымем. Собирайся. Есть тут одно местечко – завалимся, погудим в честь встречи.
– Не в форме я сегодня. После полета все часовые пояса в башке перепутались. Давай отложим этот культпоход.
– Ладно, время терпит. Тогда завтра.
– Лучше посидим вечерок у тети Даши, поболтаем. Она пельменями нас угощать собралась.
Яшка с удовольствием ел пельмени, подливал себе клюквенной настойки – от водки, подозрительно оглядев бутылку, отказался.
– Видишь, этикетка чуть неровно наклеена. Эту водку, может, на соседней улице делали – из бочки наливали технический спирт, из-под крана добавляли водопроводную воду. Тут и отравиться недолго.
– Я вчера пару рюмок опрокинул – ничего…
– Ну, как там Америка – цветет и пахнет? Все собираюсь съездить, поглазеть, да дел невпроворот.
– Прилетай ко мне в Сан-Франциско. В моем доме место для тебя всегда найдется. Только поскорее прилетай, пока я… не перебрался куда-нибудь.
– У нашего банка партнеры по бизнесу в основном в Нью-Йорке. Но если туда прилечу, и к тебе денька на три завалиться могу. Спасибо за приглашение.
– А что у тебя за должность в банке? «Консиглиори»?
– Я – юридический консультант. «Консиглиори» – это по-каковски?
– По-итальянски. «Крестного отца» читал? Помнишь, у дона Карлеоне был такой советник, правая рука, Том Хейген?
– Ну, ты сравнил – там же про мафию… А у нас законопослушный финансовый бизнес: «дебит», «кредит», «учетная ставка».
– А вот американские газеты пишут, что в России сейчас всем преступники заправляют – снизу доверху. Примеры ужасающие приводят.
– Похожие примеры и у вас найти можно, сколько угодно. Прессе без сенсаций, без уголовных историй дня не прожить… Как тебе, наверное, известно, исходный этап в развитии капитализма – первоначальное накопление капитала. В Штатах ваших на это чуть ли не столетие ушло. И кровушки было пролито немало. Напротив, надо удивляться, что у нас сей процесс протекает сравнительно цивилизованно… Тетя Даша, пельмени у тебя – объеденье, ни в одном ресторане такими не накормят… Сейчас бы нам перекур устроить – не возражаешь?
– Кури, если невмоготу.
– Нет, она не любит, чтобы в комнате дымили, – вмешался Алик. – Пошли на кухню. Заодно и разговор интересный продолжим.
На кухне Алик открыл форточку, они закурили. Заметив под окном, возле подъезда автомашину, мерцающую в сумерках большим черным телом, Алик спросил:
– Твоя?
– Моя… «Мерседес», восемь цилиндров.
– А тетя Даша говорила, у тебя джип «чероки».
– Джип – это для «качков». Уважающий себя бизнесмен в «мерседесе» ездит… Я тогда брал джип на один день в нашем банке, пока «мерседес» на профилактике был.
– Я читал, что в Москве машины часто угоняют. Не боишься?
– Чего бояться – у меня там шофер за рулем.
– А у нас владельцы машин сами их водят. За исключением разве что мультимиллионеров.
– Мы тоже не бедные… Понимаешь, Алик, тут хорошая нынче жизнь пошла для умного человека.
– Только ушами хлопать не надо? Это я уже слышал… Кстати, привет тебе от Степы.
– От кого?
– От Степана Анатольевича, твоего покойного коллеги по банку. О нем сегодня по телевизору всякие страсти рассказывали. Мы со Степой из Нью-Йорка вместе летели, в соседних креслах. Подозреваю, что в «Шереметьево-2» меня поначалу за него приняли. Любопытная история – думаю, тебе интересна будет…
Алик рассказал в деталях все, что случилось с ним вчера в красных «жигулях». Яшка слушал, не перебивая, взгляд сразу стал цепким, холодным.
– Тех двоих описать поподробнее можешь?
– Хрен их знает. Хорошей зрительной памятью никогда не отличался. Про шоферюгу помню, что был он в черной кожаной куртке. А «гаишник», понятно, в милицейской форме… Значит, на сиденье «гаишник» располагался справа от меня, шмонал, повернувшись вполоборота, правой рукой… Вспомнил: на указательном пальце у него – золотой перстень, русалка изображена. А мизинец короткий, без ногтя – нет последней фаланги… Вот еще про шоферюгу вспомнил: когда тот душил меня, перегнувшись с переднего сиденья, левое ухо в глаза бросилось. Бесформенное оно, заплывшее, как это случается у профессиональных борцов.
– Молодец! А говоришь, что зрительная память плохая, – похвалил Яшка. – Дай я сейчас повторю, чтобы не перепутать. Значит, так: у «гаишника» на правом указательном пальце – золотой перстень с русалкой, и отсутствует последняя фаланга мизинца. А у шоферюги – левое ухо заплывшее. Верно?.. Мне теперь звонить надо. В банке у нас специальная группа организована, дежурство круглосуточное. Выясняют, кто стоит за этим убийством.
– Звони, – Алик кивнул на телефон в коридоре.
– Отсюда, пожалуй, не буду. Тетя Даша может услышать или соседка. Ни к чему это… Старик, подожди чуток – к машине сбегаю, там у меня мобильник лежит.
Алик прислонил лоб к прохладному оконному стеклу. За ним – знакомый с детства двор, тихая майская ночь. Жить бы да жить… Яшка вернулся через несколько минут, уже успокоившийся, улыбающийся.
– Просили поблагодарить тебя за информацию – кстати пришлась. Теперь попробуют вычислить тех двоих.
– Может, следует и на Петровку, в уголовный розыск сообщить?
– Надо будет, сообщат. У нас в банке, в службе безопасности, профессионалы работают.
– Небось, уже «на матрасы ушли»?
– Это ты опять своего «Крестного отца» изволишь цитировать? Там же мафиози были, бандиты без чести и совести… А у нас, говорю тебе, профессионалы высшей пробы. Ты знаешь, кто эту службу в банке возглавляет? Бывший генерал КГБ. Понял?
– Теперь, конечно, понял. Разве ж между итальянской мафией и КГБ могло быть схожее когда-нибудь?.. Пошли, Яшка, в комнату, там тетя Даша заждалась. Чаем будет поить. С вареньем из черной смородины.
Глава шестая
Утром, за завтраком тетя Даша заговорила о Яшке:
– Верно сказано: старый друг лучше новых двух. Яша – он у тебя друг надежный. Только что же все неженатым ходит? Вы с ним одногодки – значит, уже сорок три, не мальчик… Бизнес один в головах у них, ни о чем больше думать не могут. Младшенькая моя тоже на этом свихнулась. С мужем она еще при тебе разошлась, детишек нет. Только и разговоров у нее – что на бирже этой покупать, что продавать…
Тетя Даша аккуратно дочистила блюдечко с вареньем, облизнула ложку.
– Ты мне, старухе, объясни, пожалуйста. Много сейчас богатых людей по Москве развелось. А откуда деньги у них – в толк не возьму. Раньше, при отцах-дедах, как было? Засеял поле, урожай уродился, собрал его, продал – вот и деньги в кармане. Или там построил мельницу, везут к тебе хлебушко помолоть – платят за это. А ведь нынешние богатеи и не сеют, и не строят… Дочка все втолковывала мне: мол, финансовые люди товары не производят, они деньги из своих бумажных операций добывают. Один чего-то там неверно подсчитал. А другой, более сноровистый, заметил, пересчитал, сделал операцию эту, и деньги от первого ко второму уплыли. Пусть так. Но прежде, у первого-то, такие большущие деньги откуда взялись, украл что ли?
– В самый корень смотришь, тетя Дашенька. Тебя не задурить. Конечно, разворовывают все, что только можно.
– Разбаловался народишко… Может, и вправду – лучше бы ничего не менять? Раньше порядка больше было.
– Порядок тот на крови держался. Хоть прав, хоть виноват – всем молчать было приказано. Так тоже жить нельзя.
– И то верно, милок. Когда партийные наши не могли власть поделить, друг друга к стенке ставили, туда им и дорога, паукам в банке. Но зачем они над простым народом так измывались? Я из деревни происхожу – такого в молодости насмотрелась… Однако к чему за примерами далеко ходить. Вот давай про собственную мамочку историю послушай, она ведь тоже крестьянского роду. Сказывала она тебе о семье своей, о родителях?
– Немного: что хлебопашествовали где-то на Харьковщине, что отец и мать ее давно умерли.
– Вот-вот, всю правду не говорила. Когда ты уже уехал, как-то сидели мы по-вдовьи вдвоем, вечер долгий – она разоткровенничалась. Мол, не хотела сына против советской власти настраивать, жить ему тут, среди волков этих, – уж лучше, чтоб не знал… Семья ихняя многодетной была, по тем временам дело обычное. Мамочка – младшенькая. Жили хорошо, дом большой, добротный, под железной крышей – один на всю деревню. Потому что родители трудились всю жизнь, спины не разгибали. А отец к тому же не пил – ни капельки. Всякой рвани и пьяни, которые работать на своей земле не любили, и тогда по деревням хватало. Людишкам этим очень глаза кололо, что вот живет рядом сосед, таким же наделом владеет, а в доме достаток. И крыша железная. Когда начались колхозы, пришло в деревню указание – составить список кулаков. Послали список в город, а в нем под номером один – имя деда твоего. Уже ходила молва, что имущество кулаков будут забирать в колхоз, а их самих – в Сибирь.
Тетя Даша повернулась к божнице, перекрестилась.
– В ночь перед выселением помолилась твоя бабка пресвятой деве Марии, положила ее иконку своей младшенькой в кармашек и отвела на дальний конец деревни к родственникам. Мол, приютите, не дайте дитю пропасть вместе с нами. А приказ строгий был – все семьи кулацкие от мала до велика в теплушки грузить, чтоб и духу их не осталось. Когда пришла утром комиссия эта по раскулачиванию, в ней и свои, деревенские, тоже были. Знали они уже, что младшенькая дочка кулака у родственников затаилась. Но даже у них язык не повернулся, чтобы приехавшему начальству доложить, грех на душу взять. Так и спаслась твоя мамочка.
– А с остальной семьей что было?
– Доходили потом в ту деревню слухи. Мол, выгрузил конвой семьи кулацкие прямо в снег посреди Сибири. Там и померли почти все в первую зиму от голода и холода… Надо же, что партийные делали. Хуже фашистов. Фашисты хоть над чужими народами так измывались. А эти – над своим.
– Вот видишь. А ты только что сомневалась, надо ли было их власть менять. Теперь-то хоть свободно говорить можно.
– Свобода, конечно, дело хорошее… Но иногда людям и покушать хочется.
– Яшка вчера как раз на эту тему со мной распространялся. Дескать, в России сейчас идет первоначальное накопление капитала. То есть самые шустрые разворовывают все, что можно, и друг друга помаленьку отстреливают. А потом, когда капитал этот накопится окончательно в руках тех, кто жив остался, начнется нормальный капитализм, и экономика заработает. Кто его знает, может, на самом деле так нужно.
Тетя Даша с сомнением покачала головой, но спорить не стала.
По телевизору передавали сводку московских новостей. Вчерашняя дикторша обворожительно улыбнулась Алику с экрана:
– За истекшие сутки ненамного продвинулось следствие по делу об убийстве сотрудника Ойл-банка Мясникова. Как мы уже сообщали, его труп был обнаружен в понедельник утром в лесопарковой зоне «Покровское-Глебово». Согласно данным судебно-медицинской экспертизы, смерть наступила в ночь на понедельник, через несколько часов после того, как он прилетел в «Шереметьево-2» из Нью-Йорка. Мясников ездил в Соединенные Штаты по служебным делам. На след убийц выйти пока не удалось. Вместе с тем через сотрудника Министерства внутренних дел, который просил не называть его имени, наш корреспондент сумел выяснить, что сам Мясников за свои сорок три года не раз вступал в столкновения с законом. Первый тюремный срок он получил в восьмидесятых годах. Тогда в составе группы работников Министерства рыбной промышленности он участвовал в контрабандном вывозе за рубеж больших партий черной икры, упакованной в стандартные жестяные банки с надписью «Кильки». Оказавшись досрочно на свободе, Мясников в годы «перестройки» активно включился в финансовый бизнес. В девяносто втором году он провел шесть месяцев в тюрьме под следствием – в связи с деятельностью финансовой компании, на чьи счета поступали в качестве кредитов большие суммы из Центрального банка; потом эти суммы исчезли вместе с самой компанией. Однако судья не усмотрел убедительных доказательств участия Мясникова в этой афере, и его освободили. По случайному стечению обстоятельств теща судьи, скромная пенсионерка, купила вскоре просторную дачу в Подмосковье… По поводу криминального прошлого Мясникова наш корреспондент звонил в Ойл-банк. Представитель банка разъяснил, что там ничего не известно о противоправной деятельности Мясникова в прошлом. Напротив, за годы работы в банке тот показал себя человеком высоких моральных качеств. Его потеря очень тяжела для банка.
«Ай да Степа – еще тот хват был» – подумал Алик. Он заглянул в ванную, причесал усы, осмотрел себя в зеркале – выглядит вроде бы нормально, болезнь еще не видна.
Привычно сплюнул желтую слизь с розоватыми пятнышками в умывальник. Было уже начало первого. И он пошел к Катюхе.
Дверь квартиры номер четыре, как и вчера, открыл Никитин.
– Катенька в магазин побежала. Думаю, минут через десять вернется. Заходите… Она знает, что вы собирались наведаться. Посидите тут, а я пока на кухне Елену Петровну кашкой покормлю.
Алик присел на желтый кожаный диван. Их диван… Катюха была моложе его на семь лет – разница в детские и отроческие годы огромная. В ту пору Алик и не знал, как ее зовут, – просто знал, что это «дочка Никитиных». Худая голенастая девчонка пробегала иногда через двор за покупками в соседний продуктовый магазин, куда ее посылала мать. Иногда помогала матери выбивать ковры, развешенные на веревке во дворе. Иногда, в хорошую погоду, Алик видел ее примостившейся где-нибудь на скамеечке с книжкой в руках. В отличие от других девчонок их двора – веселых, громкоголосых, общительных – она держалась не то, чтобы нелюдимо, но как-то особняком. Задумчивая, как бы всегда прислушивающаяся к тому, что прорастает внутри. Много лет спустя, уже в Америке вспоминая Катюху, он сообразил, с кем она была схожа. С пушкинской Татьяной. Только той все же достался мужик попорядочнее. Онегин отчитал влюбленную девчонку. Алик – воспользовался…
В том году Катюха закончила школу. Обычно, уезжая в отпуск куда-нибудь на юг, супруги Никитины брали с собой и дочку. Но тем летом ей предстояло поступление в институт – на весь июль и август Катюха осталась одна. Как-то проходя по двору, Алик заметил ее на скамейке с учебником литературы в руках. И удивленно остановился – в расцветшей девушке на скамейке он не сразу признал вчерашнего неуклюжего подростка. Теплый ветерок шевелил подол легкого ситцевого платья, под платьем проступали крепкие, прижатые друг к другу бедра. Маленькие вздернутые груди не нуждались в лифчике, сквозь ситец наметанный глаз Алика угадал темные пятна сосков.
Подойдя, Алик поинтересовался, что она читает. Оказалось – главу о творчестве Шолохова. Алик любил «Тихий Дон», считал его одной из вершин в литературе двадцатого века. Он присел на скамейку и завел разговор о загадках великого романа. Катюха о них никогда и не слышала. Ни о странном отсутствии черновых, рабочих, рукописей романа. Ни о том, что Шолохов был уж слишком молод (всего-то двадцать три года), когда первая книга этого глубокого и мудрого произведения увидела свет. Ни о Крюкове, донском писателе из казаков, который, как и Гришка Мелехов, сражался против большевиков и которому некоторые приписывают авторство «Тихого Дона». Язык у Алика был всегда хорошо подвешен, а литературу он любил. Конечно, на вступительном экзамене высказывать крамольные сомнения в отношении авторства «Тихого Дона» не следовало. Катюха это понимала. Но все равно слушала Алика с интересом.
Назавтра он опять присел на скамейку, чтобы помочь Катюхе разобраться в творчестве Маяковского. А еще день спустя погода испортилась, покинутая скамейка мокла под июльской грозой, и Алик храбро позвонил в дверь с медной табличкой «Доцент И.И.Никитин». Катюха распахнула дверь раскрасневшаяся, глаза блестели – ждала его. Ежедневные разговоры о литературе переместились теперь в квартиру Никитиных – благо, на дворе продолжало дождить. В первый день, будто увлеченный разговором, Алик осмеливался иногда положить свою руку на тонкие Катюхины пальцы на столе. На следующий день – наклонился и поцеловал эти пальцы. Потом начались настоящие поцелуи.
Через неделю, целуясь с Катюхой на этом желтом кожаном диване, он совсем потерял голову. Дрожащая Катюха сидела на коленях Алика, безвольно уронив голову на его плечо, глаза закрыты. Он расстегнул ее кофточку. Лифчика на Катюхе не было. Алик стал целовать ее маленькие груди с острыми темно-вишневыми сосками. Не открывая глаз, она только повторяла шепотом: «Не надо. Аличка милый, не надо…» Он положил Катюху на диван, откинул кверху подол юбки. Онемелыми, негнущимися пальцами начал стягивать трусики – как сейчас помнит, красненькие. А она все шептала в горячке: «Не надо… Погоди, я сама сниму… Не надо, Аличка милый… Аличка!» Потом они долго оттирали темное пятно на желтой коже дивана. Он был у нее первый.
Весь июль и август нагрянувшая любовь носила их, ослепших, по своим волнам без руля и без ветрил. Какая уж тут подготовка к вступительным экзаменам. Катюха недобрала баллов и в институт не прошла.
В конце августа вернулись ее родители… Три дня Алик не видел Катюху. Потом она позвонила, и они встретились под вечер у входа в Измайловский парк. Прильнули друг к другу, как после долгой разлуки. И вдруг, расплакавшись, Катюха рассказала о последних новостях. Соседка, заметив визиты Алика в квартиру номер четыре, без промедления сообщила об этом вернувшейся матери. И та сразу же отвела дочку в поликлинику, где знакомая докторша-гинеколог подтвердила беременность. Алик представлялся матери человеком ненадежным, пустым. Пожалуй, в ту пору это было недалеко от истины. И мать приняла решение: нужно делать аборт. «А ты как думаешь?» – Катюха подняла на него заплаканные глаза.
Столько лет минуло – Алику было стыдно вспоминать себя в той истории. Рядом стояла доверившаяся ему девчонка, а он суетливо просчитывал в голове варианты: «Ребенок, женитьба – не рано ли?.. А жить где?.. Он, Катюха, ребенок плюс мать с уже болевшим отцом – и все в одной комнате?.. Или же у Никитиных – вместе с тещей, которая в душе его никогда не простит?..» Алик облизнул пересохшие губы, неуверенно пробормотал:
– Даже и не знаю, что ответить… Может, твоя мама права?
– Хорошо… – тихо отозвалась Катюха. – Мне уже бежать нужно. Я маме сказала, что на полчасика к подружке наведаюсь… Не надо, не провожай.
И Алик остался один у входа в Измайловский парк. На миг в душе шевельнулась тревога: что-то большое и важное в его жизни прошло сейчас мимо, потеряно навсегда. Но тревогу эту перекрыла другая, успокаивающая мыслишка – обошлось.
Потом они с Катюхой сталкивались иногда во дворе, здоровались, обменивались ничего не значащими вежливыми улыбками. Замуж она так и не вышла. Да и ухажеров у нее, насколько Алик знал, больше не было. Хотя смотрелась совсем неплохо. Когда он подался в Америку, с Катюхой даже не попрощался…
Задумавшийся Алик услышал, как хлопнула дверь в прихожей. Он вскочил с дивана. Вошла Катюха. Он пытался разглядеть ее лицо – изменилась ли, постарела? И не мог. Видел только ее глаза, зеленые, усталые.
– Здравствуй, Алик. Какими судьбами?
– Заскучала душа по родным местам. Прилетел.
Они уселись – Алик на желтый диван, она на стул.
– Когда была жива мама твоя, царствие ей небесное, останавливалась иногда со мной во дворе, о тебе рассказывала. Знаю: все у тебя благополучно. Доченька, жена Барбара… Хорошее имя – была такая святая Варвара, казнили ее, не отреклась от Христова учения.
Катюха перекрестилась. Только теперь Алик заметил серебряный крестик – там, где была расстегнута верхняя пуговка ее темной кофточки.
– Ты верующей стала?
– Да, вера – мое счастье и спасение теперь… Ты ведь знаешь: в семье у нас религию не признавали, я такой же росла. И все-таки постепенно прозрела. Уж очень тошно было смотреть на людскую суету и неправду. Люди земную выгоду все ищут. А надо готовить себя к другой, вечной жизни.
– Ты уверена – есть и другая жизнь?
Она посмотрела на Алика, как на несмышленыша.
– Об этом в Священном писании сказано.
– Так ведь его люди писали, люди и ошибаются иногда.
– Верно, строчки в Священном писании рука человеческая выводила, но было оно – боговдохновенным… Ты пытаешься своим умом до всего дойти. А надо сердцем принять, уверовать. И сразу станет светло на душе.
– Если во всем есть «высший промысел», отчего вокруг столько зла? Я уж не говорю о том зле, что люди друг другу причиняют… Ну вот, например, болезни. У человека рак легкого – выхаркивает он кровь с кусочками распадающегося легкого, дышать невмоготу, метастазы по телу расползаются: в печень, мозг, позвоночник. А смерть не приходит – сперва надо с годик так вот помучиться. Зачем это?
– Зачем – только Он знает… Кто умирает в муках, тому будет лучше в другой жизни – это нам батюшка в церкви говорил. Был такой Апостол Петр, слышал? Его за веру еще страшнее, чем Христа, распяли – головой вниз. А теперь он по правую руку от Учителя сидит.
Алик понял: спорить дальше бесполезно. Люди делятся на ведущих и ведомых. Катюха относится ко вторым. Когда-то вот так же слепо пошла за ним. Теперь – за Священным писанием. А может, и права… Он протянул руку, взял Катюхины пальцы, они были холодные, даже не шевельнулись.
– Расскажи, как живешь, что за работа у тебя.
– Так и живу… Может быть, помнишь: в пединститут через год я поступила. Окончила по специальности – дефектология. Безработица мне не грозит, дефективных детишек по России все больше становится. Матери-пьяницы, матери-наркоманки повреждают мозг своих детей еще в утробе. Да и после рождения детишки в иных семьях среди такого ужаса живут… Сначала я в подростковой группе работала – и не выдержала. Некоторых там не выправишь, не спасешь, их души уже загублены. Теперь перешла в ясельную группу – совсем маленькие, а как добро чувствуют, привыкают к тебе, тянутся. Я за сутки работы так устану, только бы до дому добраться. А дома сижу и о них думаю – как там тот, как там эта. Прикипает сердце.
«Материнский инстинкт выхода ищет» – виновато подумал Алик.
– Знаешь, Алик, ты иди сейчас. Мне маму купать надо. Вчера ты ее видел, понял, в каком она состоянии.
– Вечером зайду?
– Вечером я в церковь ухожу.
– Какая ж там во вторник служба?
– Церковь открыта – свечку поставить можно и помолиться тоже.
– А завтра? Ты ведь не работаешь…
– Не надо, Алик. Не обижайся – мне сейчас никого видеть не хочется. Веришь ли, не отец с матерью, не детишки эти – я бы давно в монастырь ушла, поближе к Господу… Можно, перекрещу тебя на прощанье?
Глава седьмая
– Куда ходил-то? – спросила тетя Даша, открывая дверь. – Не отвечай – с балкона видела, как ты в первый подъезд завернул. И глаза твои невеселые тебя выдают… Такого золотого человечка проморгал, вертопрах.
Восемнадцать лет назад история с Катюхой дошла до мамы и тети Даши быстро. Жильцы дома знали друг друга многие годы, новости между соседками распространялись без задержки. Мама тогда переживала, осуждала Алика. Когда в сентябре она услышала, что Кате Никитиной сделали аборт, несколько дней не разговаривала с Аликом – кажется, единственный раз в жизни…
Тетя Даша в ванной загружала белье в стиральную машину. Алик присел опять перед телевизором, прошелся по каналам. Их стало больше, чем девять лет назад. Хотя до Америки все равно далеко. На одном из каналов внимание Алика привлекло интервью. Собеседником ведущего был бородатый мужчина. Титры на экране сообщили его имя: Илья Пенкин, обозреватель «Всеобщей газеты». Он говорил, возбужденно тряся бородой:
– Вспомним крылатую фразу Карамзина, вернее, не фразу – просто одно слово. Когда Карамзин приехал в Германию для лечения на водах, встретившийся ему соотечественник полюбопытствовал, как там дела в России. Писатель ответил коротко: «Воруют». С тех пор прошло почти двести лет, в России уже не воруют – ее растаскивают. И наша газета, одна из немногих, открыто разоблачает наиболее вопиющие случаи, невзирая на лица, несмотря на угрозы – и со стороны коррумпированных представителей власти, и со стороны полукриминального бизнеса.
– Илья, расскажите, пожалуйста, как вы добываете сенсационные материалы для своих статей. Должно быть, имеете разветвленную разведывательную службу?
– Нет, дело обстоит проще. Большая часть таких материалов приходит самотеком. Например, у взяточника-министра бывают сотрудники, обиженные им или зарящиеся на его кресло; у вора-финансиста есть конкуренты по бизнесу. Обычно на условиях конфиденциальности эти люди снабжают нас необходимой информацией: копиями секретных документов, записями телефонных разговоров, даже видеозаписями. Мы понимаем, что средства и цели наших информаторов не всегда чисты, что в освободившееся кресло высокопоставленного жулика норовит усесться другой жулик. Но в момент публикации статьи у нашей газеты одна задача – разоблачить преступление, которое уже совершилось.
– Если не секрет, над какой темой теперь работаете?
– Недавно в редакцию поступил любопытный материал. Имена и детали мы сейчас перепроверяем, я не собираюсь их здесь приводить. Как говорится, дорога ложка к обеду – статья появится в одном из ближайших номеров нашей газеты… В самых общих чертах история такова. Пять лет назад, на заре российской демократии, одному из видных деятелей либерального движения всучили взятку, десять тысяч долларов. Подумаешь, сейчас и взяткой в сто тысяч долларов никого не удивишь. Положил бы в карман наличные – и дело с концом. Но по тогдашней всеобщей финансовой безграмотности, он удовольствовался чеком для предъявления в одном из американских банков. Прилетев в Нью-Йорк в составе какой-то делегации, наш герой посетил этот банк, расписался на обороте чека, получил «зеленые». Все треволнения для него начались потом. Он и не знал, что оплаченный чек – как доказательство выполненного банком поручения – пересылается обратно тому, кто данный чек выписал. Таким образом, в руках у взяткодателя оказался неопровержимый документ: на лицевой стороне – сумма взятки и имя получателя, на обороте – его подпись, штамп банка и дата выплаты. Великолепная возможность для будущего шантажа… У нас еще есть несколько минут?
– Продолжайте, продолжайте. Интересная история.
– За минувшие годы взяткополучатель стал одним из влиятельных членов правительства, особенно в части приватизации и аукционов, а взяткодатель превратился в крупного финансового воротилу. И каждый раз, когда последний участвовал в аукционах, наш член правительства был вынужден оказывать ему предпочтение, даже если тот «давал на лапу» меньше, чем предлагали другие. Ведь у финансового воротилы лежал в сейфе тот самый чек.
– То есть вы хотите сказать, что вице-премьер оказался на крючке у…
– Не пытайтесь поймать меня на слове – это вы cказали «вице-премьер». А я веду речь об «одном из членов правительства». Наберитесь терпения, статья скоро появится. – Пенкин многозначительно улыбнулся в бороду. – И вот совсем недавно в истории этой случился крутой поворот. Вы слышали, наверное, – через месяц предстоит крупный аукцион. На продажу среди прочего выставлен весьма прибыльный, если попадет в умелые руки, алюминиевый комбинат. На комбинат «положил глаз» упомянутый финансовый воротила – и в успехе на аукционе не сомневался. Пока в одно прекрасное утро, придя в свой хорошо охраняемый офис, не обнаружил сейф открытым, а заветный чек похищенным. Вскоре ему удалось установить, что сделано это по заданию главного конкурента, владельца крупного банка, который тоже стремился прибрать к рукам алюминиевый комбинат. Теперь, обладая похищенным чеком, уже этот банкир заимел на крючке нашего невезучего члена правительства.
– И обворованный финансовый воротила обратился в правоохранительные органы?
– Что вы, он не так наивен. Какая ему польза, если чек будет обнаружен, скажем, где-нибудь при обыске и приобщен к материалам следствия?.. Как известно, всякий крупный, уважающий себя бизнесмен имеет нынче собственную службу безопасности, составленную обычно из отставных офицеров КГБ и МВД, бывших спортсменов и просто полууголовных элементов. А к наружному периметру такой службы безопасности примыкает еще и какая-нибудь чисто криминальная группировка, привлекаемая в разовом порядке для выполнения особо грязных заданий.
Борода Пенкина растрепалась, глаза блестели, как у библейского пророка, обличающего в Синайской пустыне своих греховных соплеменников.
– Итак, возмущенный до глубины души безнравственным «наездом» конкурента, финансовый воротила дал задание своим людям – вернуть чек любой ценой… Как говорится, слухами земля полнится. По слухам, война между кланами уже началась, есть первые жертвы. Два дня назад был убит один из сотрудников банка, возглавляемого вышеупомянутым конкурентом. Известно, что сотрудник этот возвратился в воскресенье из краткосрочной деловой поездки за рубеж, прошел паспортный и таможенный контроль в «Шереметьево-2». И пропал. Его труп был найден в понедельник утром. Заказными убийствами нас не удивишь, но это было выполнено как-то нетрадиционно – после долгих пыток. Опять же по дошедшим до нас слухам, таким путем прорабатывалась версия – не вывез ли этот сотрудник заветный чек за границу, не положил ли его на хранение в сейф какого-нибудь западного банка. Но бедняга никакого отношения к чеку не имел и ничего путного своим истязателям сообщить не смог.
– То есть вы хотите сказать, что найденный вчера утром убитым сотрудник Ойл-банка…
– Это вы хотите сказать… А я воздерживаюсь пока называть любые имена. Еще раз рекомендую – следите за ближайшими номерами «Всеобщей газеты».
– Илья, есть телефонный звонок от нашей слушательницы. Время передачи, к сожалению, заканчивается, но все-таки постараемся ответить на ее вопрос…
– Здравствуйте, Илья, – раздался в студии торопливый дамский голос. – Я с интересом слежу за вашими выступлениями, разоблачающими жуликов и мздоимцев. Но вот недавно наткнулась в прессе на сведения, что в одном из лучших уголков Подмосковья вы построили шикарную дачу в три этажа.
– Да, построил. И даже оформил на собственное имя. А не на тещино, как сейчас модно делать.
– И это за счет гонораров?
– На обычные журналистские гонорары такую дачу, понятно, не потянешь. Но есть особые газетные статьи, заказные… Не путать с заказными убийствами, – Пенкин захохотал. – Появление такой статьи на страницах «Всеобщей газеты» небедный заказчик готов оплатить по высшему разряду. И мы принимаем эти предложения. Но с условием: как бы ни настаивал иногда заказчик, в статье будет правда, ничего кроме правды. Такая статья требует от автора стольких сил, да и связана порой с прямым риском для жизни – думаю, гонорар за нее никогда не завышен.
– А за то, чтобы какая-нибудь статья не появилась на страницах «Всеобщей газеты», вам тоже платят?
– Простите, наше время истекло, – заторопился ведущий. – Еще раз спасибо вам, Илья, за беседу.
Алик выключил телевизор, покачал головой. Действительно, крутой поворот сюжета. Надо будет Яшку вечером расспросить. Впрочем, вряд ли тот захочет обсуждать эту тему. Слишком большие деньги замешаны, да и кровь уже полилась… Карамзину такое и не снилось.
С тазиком выстиранного белья тетя Даша прошла через комнату на балкон. Развесив белье на протянутых там веревочках, вернулась, потрепала задумавшегося Алика по голове.
– Не грусти, милок, про любовь потерянную. Что было, то было… Давай лучше я ту историю доскажу тебе. Про мамочку, которую деревенские родственники от Сибири спасли. Когда она умерла, две сестры троюродные из деревни на похороны приезжали. А потом всю мебель из вашей комнаты увезли. И я не возражала – думаю, ты со мной согласишься. Комнату все равно освобождать нужно было. Но одну вещичку я утаила, не отдала им.
Тетя Даша подошла к божнице.
– Видишь эту иконку?.. С ней мамочка твоя к родственникам пришла. Сказывала мне: мол, хотела дать тебе иконку эту, когда ты уезжал в Америку, как материнское благословение. Да только не разрешили дураки партийные.
Алик быстро встал, взял из рук тети Даши иконку. Знакомый ему с детства деревянный прямоугольничек – краска кое-где поблекла, потрескалась. Немудрящая работа деревенского богомаза, какая уж там художественная ценность. И только большие, близко поставленные глаза Божьей матери жили, в них тлела печаль – «что ж вы над собой делаете, люди?»
Глава восьмая
Вечером заехал Яшка. Они расположились на заднем сиденье его «мерседеса». На Алике был темно-серый костюм, который он перед приездом Яшки достал из своей дорожной сумки и отгладил. У Яшки из нагрудного кармашка его модного, с позолоченными пуговицами, желтого пиджака торчал розовенький, под цвет галстука, платочек.
За рулем сидел бритоголовый парень.
– Его Ленчик зовут… Ленчик у нас – обладатель «черного пояса», – сказал Яшка. – Я правильно обозначил твой разряд по карате?
Парень, не оборачиваясь, утвердительно мотнул головой, непропорционально маленькой по сравнению с могучей шеей и широкими плечами. На переднем сиденье, справа от него, лежала книжка.
– А в свободное время он читать любит… Что сейчас читаешь, Ленчик?
– «Любовь в Античном мире».
– Слышал? – Яшка, улыбаясь, посмотрел на Алика. – Человек Античным миром интересуется… Ну и как там насчет этого обстояло?
– Пидоров много было. А по части способов – все то же; ничего новенького не придумали.
«Мерседес» мягко шуршал шинами по вечерним улицам. В сумерках, прерываемых светом нечастых фонарей, Москва смотрелась поопрятнее.
– Сперва мы в Замоскворечье поедем, – сказал Яшка. – Там есть один элитный ресторан, столик я уже заказал. Кормят вкусно.
«Мерседес» остановился в полутемном переулке, возле двухэтажного особнячка, построенного в стиле ампир, наверное, еще лет сто назад. Над входной дверью мерцало неоновое название: «Андромеда».
Выйдя из машины, Яшка наклонился к открытому окну водителя.
– Ленчик, мы тут часа два-три посидим. Можешь пока смотаться куда-нибудь.
– Не велено, Яков Наумович, вас оставлять. Я вон там за углом, в проулке, машину поставлю, буду ждать, сколько нужно. Книжку полистаю – тут картинки интересные.
Высоченный швейцар, в брюках с лампасами и в фуражке с кокардой, улыбнулся Яшке, как старому знакомому, распахнул дверь. Брючный карман у швейцара оттопыривался. Поймав взгляд Алика, Яшка обронил: «'Пушка' у него в кармане. Для порядка».
Теплый воздух внутри большого прямоугольного зала источал запахи ресторанных блюд. Покачивая бедрами не хуже, чем Лолита, к их столику быстро подошел смазливый официант, положил перед каждым меню. Список блюд в меню был длинным, на нескольких страницах. «Белужья икра с блинами и гарниром по-гречески», «Баварская утка под медово-имбирным соусом», «Медальоны из омара, обжаренные, с муссом из креветок» – названия блюд звучали возвышенно-аристократически. Под стать им были двухзначные и трехзначные цены в долларах.
– Что пить-есть будем? – спросил Яшка.
– Да не разбираюсь я в этих идиотских названиях. Заказывай сам. Честно говоря, я и есть-то особенно не хочу. – Алик вздохнул, под пиджаком привычно приложил ладонь к тому месту справа от грудины, где уже несколько дней, как поселилось постоянное тупое давление.
Официант принял заказ. Быстро принес ледяную водку в запотевшем графинчике, закуску – «Рулет из копченой лососины с лимонным суфле». Опрокинув рюмочку, немного пожевав без аппетита, Алик положил вилку.
– Что ж, Яшка, рассказывай о себе – как живешь. Столько лет не виделись.
– Живу ничего, в бизнесе раскрутился, деньги делаю хорошие.
– А кроме бизнеса, для души?.. Вон тетя Даша утром свое беспокойство мне высказала – чего же это, мол, Яша все не женится?
– Если еще раз спросит, расскажи ей старый анекдот. Помнишь, один мужик на подобный вопрос удивленно говорит: «Ради стакана молока заводить целую корову?»
– У тебя когда-то музыкальный талант прорезался – на скрипке играл.
– Не забыл ты… Музыка со мной. Иногда найдет настроение – запрусь дома, отключу телефон, достану свою скрипочку. Техника, конечно, без ежедневных упражнений слабовата стала, но ведь никто и не слышит, играю для себя – как ты изволил выразиться, для души… А иногда просто сижу и весь вечер слушаю в одиночестве классическую музыку, компакт-дисков у меня навалом. Знаешь, все больше влюбляюсь в Шуберта. В его лучших произведениях столько изящества, никому ничего не навязывает – ни громокипящих страстей, ни слезливых всхлипов. Журчит себе прозрачный ручеек, о чем-то сокровенном размышляет мудрый и грустный автор, и на душе у слушателя тоже становится светло и чуть грустно.
– Прямо-таки про тебя поэт сочинил: «Еврейский музыкант – он Шуберта наверчивал, как чистый бриллиант».
– Какой уж там еврейский… Сам себя часто спрашиваю, кто я? В том и дело, что русский я до последнего закоулка в душе. И Москва, где я родился и вырос, – это мой город. Ее бесшабашность, и размах, и то, что она слезам не верит, и милосердие ее, и греховность – во мне все. По-научному «ментальность» называется?.. Если бы не антисемиты, наверное, и не задумывался, что за фамилия у меня такая. Спасибо им, не дают забыть про корни.
Яшка замолчал, вытер салфеткой губы со следами лимонного суфле.
– Сегодня по телевизору передавали интервью с Пенкиным, – осторожно начал Алик.
– Знаю.
– В каком, однако, кровавом дерьме это ваше «первоначальное накопление» варится.
– Да не слушай ты этих газетных врунов. Чтобы увеличить свои тиражи, они такое наплетут… Если наш банк и вступает в конкурентные отношения с какой-нибудь другой финансовой группой, возникающие проблемы мы всегда стараемся решить по-джентльменски. – Явно переводя разговор на другую тему, Яшка указал пальцем на лоб Алика. – Помнишь, старик, как ты этот шрам получил?
– Вроде бы классе в четвертом подрался с кем-то у нас во дворе.
– А я как сейчас вижу. С Ванькой Беловым ты дрался. Тот на год старше, но ты заводной был, не испугался. Мы с Левкой в стороне стояли, не вмешивались – драка честная, на кулачках, один на один. А он, сука, в кулаке ключ от квартиры зажал да им по лбу тебе и вдарил. За эту подлянку гнали мы его потом с Левкой до четвертого этажа в вашем подъезде, пока он за дверь своей квартиры не шмыгнул.
– Где он теперь, Ванька бедный?
– Кто его знает. Может, в тюряге опять. А может, сгорел уже по пьянке.
Яшка снова наполнил рюмки. Алику пить не хотелось – он только пригубил. Официант принес горячее блюдо – «Французский голубь на гриле с тольятелли из каштанов и жареными лисичками в зеленом соусе».
На эстраду в конце зала стали подниматься патлатые музыканты. Долго настраивали инструменты. Потом заиграли. По принципу: чем громче, тем лучше. Известная певица – Алик помнил ее еще по прежним годам – выскочила из-за спин музыкантов. Микрофон засунут чуть ли не в рот; под коротенькой, не по возрасту, юбочкой колышутся рыхлые бедра немолодой женщины. Изображая неземное томление, певица поведала миру, как она любит его и как он любит ее. Грохотал барабан, гудели духовые инструменты, визжала певица. Разговаривать стало невозможно. Доев «французского голубя», Яшка подозвал официанта, расплатился. Алик попытался было принять в этом участие, но Яшка обиженно отстранил его руку.
Швейцар в брюках с лампасами открыл им дверь, уважительно спросил:
– Почему так рано, Яков Наумович? Тут только самое представление и начинается. Позднее стриптиз будет.
– В следующий раз, дорогой, в следующий раз непременно, – Яшка вложил в широченную ладонь швейцара зелененькую бумажку.
На улице было темно и пусто. Вверху, в просветах между плывущими облаками, тревожно загорались и гасли звезды.
– А теперь мы держим путь в один частный клуб, – сказал Яшка. – Посторонних туда не пускают. Там великолепные девочки.
– И они – за деньги?
– Старик, где это сейчас видано – задаром?
– Да не смогу я так… Чтобы получить от этого дела удовольствие, мне нужна хотя бы иллюзия, что я бабу охмурил, понравился ей. А за деньги – у меня никогда и не было.
– До чего ты любишь все усложнять… Там есть и с высшим образованием девочки – попрошу, чтобы поначалу с тобой о Кафке поговорили. Пока у тебя иллюзия не появится… Приедем – сам будешь решать, твое дело.
В глубине проулка темнел «мерседес». Алик открыл заднюю дверцу, внутри зажегся свет. Поджидавший их Ленчик спал, откинув голову на спинку сиденья.
– Поехали, шеф, – сказал Яшка, усаживаясь вслед за Аликом, и слегка потряс разоспавшегося Ленчика за плечо. Тот качнулся и, не просыпаясь, начал сползать набок. На пиджаке, между лопатками стало видно большое темное пятно. Снаружи две тени метнулись с обеих сторон к машине, задние дверцы распахнулись, из темноты уставились внутрь пистолетные стволы с глушителями.
– Ни звука! Руки за спину!
Яшка дернулся – видно, хотел выскочить. Тяжелая рукоятка пистолета обрушилась на его лоб. Кто-то третий просунулся внутрь, за спиной отключившегося Яшки ловко защелкнул на его запястьях наручники. Потом, обежав «мерседес», надел наручники и на Алика. Через минуту черный джип медленно, задом въехал в проулок, приблизился к «мерседесу». Задняя дверца джипа поднялась – второй ряд сидений в нем отсутствовал. Алика и Яшку быстро перетащили в джип, уложили лицом вниз. Мужик в синих джинсах и черной кожаной куртке сел между ними на пол. В каждой руке по пистолету. В затылок Алика уперся глушитель.
Было слышно, как захлопнулась задняя дверца, потом обе передние. Водитель прибавил газу, джип затрясся по ночным улицам. Лежать было неудобно, места мало, ноги в коленях согнуты. На поворотах прижатый к затылку глушитель с силой вдавливал лицо Алика в металлический пол – сидящий использовал глушитель как опору. От его джинсов исходил густой запах пота. Ехали недолго – джип затормозил, потом заскребли, расходясь в стороны, гаражные ворота. Джип въехал внутрь, ворота закрылись.
– Не разговаривать, падлы! – мужик распахнул заднюю дверцу и выпрыгнул. К нему подошли двое – те, что сидели впереди. Чуть сдвинув вбок голову, Алик сумел рассмотреть всех троих в тусклом свете лампочки, висевшей под потолком гаража. Главным был невысокий, пузатый – он показался Алику знакомым. Пузатый держал мобильный телефон; тыкая указательным пальцем, набирал номер. На пальце желтел массивный перстень. Алик сообразил – это же «гаишник», обыскивавший его на Ленинградском шоссе в воскресенье. А здоровенный мужик в черной кожаной куртке и джинсах – водитель тех красных «жигулей», даже заплывшее левое ухо видно. Третьим был молодой парень с полуоткрытым от усердия ртом – на верхних зубах золотые «фиксы».
– Яшка, ты оклемался? – тихо спросил Алик. Тот повернул голову.
– Ах, падла! Я же сказал – не разговаривать! – мужик в кожаной куртке подскочил к джипу; согнувшись под его низкой крышей, ударил лежащего на животе Алика кулаком в пах. От острой боли тот вскрикнул.
– А ты все-таки поосторожней, – Яшка неуклюже перевалился на спину, прислонил голову к стенке джипа.
– Да я и тебе сейчас врежу! – заорал мужик, поворачиваясь в его сторону.
– Меня ваш шеф не раз к себе на работу зазывал. А что если я теперь соглашусь? Как мы с тобой в конторе встречаться-то будем?
– Ты, отморозок, полегче, однако, – пробурчал пузатый, заглядывая внутрь джипа. – Вот довезем до места – там свои способности и покажешь.
Мужик в кожаной куртке недовольно отошел от джипа.
– А друга моего вы в разборки эти не впутывайте, – сказал Яшка. – Он ничего не знает, случайно сегодня со мной оказался.
– Как же, как же… В воскресенье он на нашем пути случайно встретился. Сегодня опять. Два раза подряд случайно не бывает, – мужик в куртке помахал поднятым пальцем, видимо, сам поражаясь силе своей логики.
– Он гражданин США, – добавил Яшка. – Свяжетесь с ним, вам на хвост не только Петровка – ФБР сядет.
– Ах, испугалися, – мужику стало весело. – Месяц назад знакомые ребята из Долгопрудной про америкашку одного рассказывали. Денежки заплатил и решил, что гостиница его, хозяйничать может. Завалили империалиста автоматной очередью прямо в метро. Подумаешь, ФБР.
Боль в паху отпустила. Алик повернул голову, попросил:
– Мне по малой нужде надо.
– А ты под себя, – мужик захохотал. – Когда до места доедем, мне надо, чтобы ты уже сломанный был – со сломанным работать легче. А ну, давай под себя, падла!
Парень, что стоял возле пузатого, услышал последние слова.
– Постой! Он же мне машину завоняет.
– Тогда и волоки его сам в угол, – мужик отошел в сторону.
Парень помог Алику вылезти из джипа, отвел в угол гаража, освободил из наручника одну руку.
– Там его, когда нужду справит, и посади, – крикнул мужик. – Чтоб промежду ними контактов не было…
Парень так потом и сделал. Недалеко от угла, из стены гаража торчала арматура, упиралась наискосок в бетонный пол. Там парень усадил Алика. Продел наручник под арматуру, защелкнул его на свободной руке. В углу рта у парня дымилась сигарета. Заметив завистливый взгляд Алика, он вытащил ее изо рта, блеснул золотыми «фиксами».
– На, покури. Заодно и подумай. Когда приедем на место, у тебя только один шанс будет, ты должен рассказать все без утайки. – Парень кивнул в сторону мужика в кожаной куртке, понизил голос. – Он будет очень, очень стараться. Сделает из тебя такое – ни один морг не примет. Подумай пока что…
Алик блаженно затянулся сигаретой. То ли у парня еще какие-то остатки совести сохранилась, то ли просто работает в паре с тем мужиком? Алик читал где-то, как психологически тонко доблестные чекисты умели расколоть упирающегося «врага народа». Следователи чередовались на допросах, один – орал и бил, другой – излучал сострадание, вот так же папироску предлагал. Даже камень, если его перемещать из огня в лед и обратно, не выдерживает – трескается… Подонки эти ни перед чем не остановятся, им чек нужно найти. Значит, пытать будут. Как Степу. Отморозок в кожаной куртке – большой специалист. Хорошо, если Яшка что-нибудь важное про чек знает и сразу выложит. Тогда, может, и без пыток обойдется. Но убьют в любом случае – им свидетели не нужны. Впрочем, если убьют, Алику-то стоит ли из-за этого волноваться? Для него, пожалуй, даже лучше – избавят от нескольких месяцев предстоящих мучений…
Порой в гараже раздавался тонкий писк мобильного телефона. Пузатый у противоположной стены торопливо подносил его к уху, скороговоркой докладывал, слов не разобрать. Потом сам начинал звонить куда-то. Другие двое молча сидели в джипе – опустив стекла, курили. Время тянулось медленно.
Алик докурил сигарету до самых губ, выплюнул на бетонный пол. Последняя в жизни? Прислонившись к стене, закрыл глаза. Что ж, через несколько часов прогремит, наверное, выстрел в голову. Успеет ли Алик почувствовать боль? Мелькнет ли напоследок какая-то мысль?.. Толстой описал ощущения умирающего Ивана Ильича: неодолимая сила засасывала того все глубже в черную дыру, и вдруг в конце дыры засветилось что-то… Или вот еще строчки на ту же тему, их Алик вычитал у кого-то из нынешних поэтов: «В последний миг нездешний свет кометою хвостатой пронзит зрачки – и света нет. И тьма. И нет возврата…» Написать можно – бумага все стерпит. Тот, кто воистину знает, уже не напишет.
Лишь часа через полтора пузатый получил от своего начальства окончательные указания. Алика засунули в джип, снова уложили вместе с Яшкой лицом вниз. Между ними сел мужик в кожаной куртке. Со скрипом разошлись в стороны ворота гаража.
Ехали быстро – было уже далеко заполночь, улицы пустые. Мужик вытащил, было, два своих пистолета. Но потом убрал их обратно под куртку. Понял: лежащие на полу, в наручниках, с руками, сведенными за спиной, никуда не денутся. Почти что нежно потрепал Алика по затылку, мечтательно сказал:
– Потерпите немного, ребята. Вот ужо доедем до нашей дачки. В сосновом бору она – воздух чистейший, вам понравится. Там и начнем работать профессионально. Про «слоника» слышали? Одеваем на мордочку противогаз, пережимаем «хобот» – клиент начинает медленно задыхаться, за глоток воздуха любой секрет отдаст. Или вот еще способ есть – давно собираюсь попробовать. Как рассказывал один культурный гражданин, этим способом товарищ Сталин призвал к порядку товарища Зиновьева. Тот на Лубянке поначалу пошел в глухую несознанку. Тогда следователь, человек с горячим сердцем и чистыми руками, засунул ему в задницу провод, оголенный на конце. Подал на провод напряжение. И раскололся верный ленинец, товарищ Зиновьев, – подписал всю правду, как он и левым центром руководил, и правым, вредительством повсюду занимался… Вроде бы, у нас на дачке тоже завалялся где-то кусок провода нужной длины… Так что отдыхайте пока, ребята.
Незаметно погасли на стеклах световые блики от придорожных фонарей, пропал шум встречных машин, стало ощутимо потряхивать на колдобинах – видимо, выехали на проселочную дорогу. Снаружи угрюмо застыла тишина, слышно только, как протянутые ветви деревьев царапают иногда бок торопящегося в ночи джипа.
И вдруг джип как бы споткнулся, вильнул вправо, начал медленно валиться под уклон. Реакция у мужика в кожаной куртке оказалась великолепной – в каскадерском прыжке он вылетел через распахнувшуюся заднюю дверцу. Алика покатило по полу, бросило на Яшку. Джип мягко опрокинулся на правый бок. Снаружи вспыхнул свет, донеслось какое-то приглушенное тарахтенье – будто чуть слышно заработали сразу несколько швейных машинок. Потом они смолкли. После короткой паузы послышались приближающиеся голоса. Чья-то голова заглянула внутрь джипа. Алику и Яшке помогли выбраться, освободили от наручников.
– Яков Наумович, ты живой? – пожилой мужчина в очках обнял Яшку. Еще пятеро в камуфляжных костюмах с короткоствольными автоматами в руках стояли чуть сзади.
– Да не обнимай – грязный я весь. Лучше закурить нам дай… Алик, познакомься – это генерал Байков.
– Генерал в отставке, – уточнил тот, протягивая сигареты.
Алик закурил, огляделся. С разодранными в клочья шинами лежит на боку джип. Позади него поперек грунтовой, в ухабах дороги – металлическая лента с шипами. Три автомашины сбоку от дороги освещают фарами сцену. Парень, который в гараже поделился с Аликом сигаретой, свешивается из открытой боковой дверцы головой вниз – не успел выскочить. У противоположного края дороги распласталось тело мужика в кожаной куртке. Глаза закрыты, в углу рта засыхает струйка крови. Шагах в трех от него лежит в колее пистолет с глушителем – отлетел в сторону.
– А я уже надежду потерял, господин генерал, – сказал Яшка. – Грешным делом, решил, что ты след упустил и нам хана.
– Как мог такое подумать, Яков Наумович? Ты же сам в понедельник вечером звонил, приметы дал. Бывшие коллеги мне помогли – за ночь просмотрели всю картотеку на московских блатных, некоторых давних сексотов с кроватей подняли. К утру уже вышли на тех двоих. Оказывается, по ним давно тюрьма плачет – в розыске они. А потом мы номер их мобильного телефона раздобыли. Дальше дело техники – прослушивать стали… – Байков повернулся. – Ребята, не теряйте времени. Осмотрите трупы. Может, в карманах какие нужные документы найдутся, особенно у начальника.
– Труп начальничка в кабине застрял…
– А вы сперва поставьте джип на колеса. Впятером не справитесь?.. Только прежде, чем к джипу прикасаться, перчатки наденьте.
После всех потрясений этой ночи ноги у Алика стали, как ватные, подташнивало. Даже у сигареты появился какой-то отвратительный привкус. Алик отошел в сторону, присел на придорожный камень. Выплюнутая сигарета упала в колею – рядом с валяющимся пистолетом.
– И вот, Яков Наумович, прослушиваем мы в течение дня их телефонные разговоры, – продолжал Байков. – Разговоры вроде невинные. Но перед полуночью связываются они с начальством своим – мол, «заказанный товар прибыл». А вскоре звонит мне швейцар из «Андромеды» – знакомы еще по прежним годам. Взволнованно докладывает, что в «мерседесе» лежит убитый Ленчик и что ты пропал. Объявляю тревогу, собираю свою группу. Часа через полтора перехватываем приказ – «везти товар на дачу». Про дачу эту мы еще раньше знали, адрес ее нам был известен – на отшибе она, в лесной глухомани. Успеваем приехать сюда первыми, ленту с шипами поперек дороги протягиваем, изготовились… Не генеральское, конечно, дело в оперативных разборках участвовать. Вон Володя – можно было ему поручить, бывший капитан из «Альфы». Да только решил для верности и сам поехать – все же опыта у меня на десять володей наберется… Как видишь, все правильно было просчитано.
Четверо в камуфляжных костюмах, положив на землю автоматы, подымали джип, пытались поставить на колеса, натужно кряхтели. Пятый, капитан Володя, стоял рядом, распоряжался. Посреди дороги, довольно посасывая сигареты, беседовали Яшка и Байков.
Вдруг Алик заметил, как в трех шагах от него, у обочины, мужик в кожаной куртке шевельнул губами с запекшейся на них кровью, оторвал от земли голову. Алика он не видел – мешал багровый пузырь, вздувшийся над левым глазом. Трясущаяся рука вытащила из-под куртки пистолет. Алик вспомнил: ведь у мужика их было два! Один валялся сейчас у ног Алика, а другой медленно поворачивался дулом в сторону Яшки и Байкова. Как-то совершенно автоматически Алик поднял лежавший рядом пистолет – зажав в ладонях, выставил перед собой. Дернулся указательный палец, чтобы надавить на спусковой крючок. И не смог. «Убить человека?!» – пронеслось в сознании… Ходил ходуном пистолет в бессильной руке мужика – ему никак не удавалось поймать цель… В миллиметре от спускового крючка судорога свела палец Алика…
Все это длилось, наверное, не дольше секунды. Потом с того края дороги раздался приглушенный треск швейной машинки – капитан Володя заметил ожившего мужика, послал в его сторону короткую автоматную очередь. Стрелял, вроде бы, не целясь, от пояса. Голова с заплывшим левым ухом мягко ткнулась обратно в колею. Из раздробленного черепа потекла темная кровь с белесоватыми кусочками мозга… Алика вырвало… Подошедший Байков деликатно развел в стороны его ладони, все еще сжимавшие пистолет. Тот упал на землю.
– В первый раз убить человека нелегко, знаю по собственному опыту… А потом все проще и проще. – Байков снял очки, протер краем рубашки; водрузив их обратно на нос, устало посмотрел на часы. – Двадцать пять третьего уже… Отправлюка я вас по домам – за ночку эту вон сколько впечатлений свежих получили. А мы тут задержимся ненадолго, все в порядок приведем… В том числе, чтобы и на пистолете этом никаких отпечатков не осталось. Ясное дело, вы – жертвы разбойного нападения. Ни божеский суд, ни человеческий вас ни в чем обвинить не может. Да только до суда лучше не доводить. Начнутся вопросы всякие неудобные, шумиха газетная, пенкины-фуенкины… А коллег с Петровки я по старой дружбе по-прошу, чтоб не усердствовали очень при расследовании. Они даже рады будут, что бандиты эти, второй год в розыске числящиеся, копыта откинули… Скажу сейчас Володе, пусть отвезет вас.
Глава девятая
Тетя Даша в ночной рубашке открыла дверь, сердито посмотрела на Алика.
– Опять за гулянку принялся, вертопрах… Тебе вечером жена звонила. На старости лет пришлось мне враньем заниматься – сказала, что ты с другом в театр отправился. Знаю я ваш театр. Посмотри на себя – весь замурзанный.
– Тетя Дашенька, да не виноват я ни в чем, вот те крест. Так получилось – в небольшую заварушку мы с Яшкой попали.
– Ладно, время позднее, иди мойся. Утро вечера мудренее – завтра сказки свои рассказывать мне будешь.
В ванной Алик разделся. На пиджаке, со спины, белесые следы известки – запачкал, наверное, когда сидел, прислонясь к стене гаража. На брюках – корка подсохшей рвотной кашицы, «тольятелли из каштанов и жареные лисички»… Он долго лежал в горячей ванне, закрыв глаза, стараясь ни о чем не думать. Потом на цыпочках через комнату тети Даши прошел к себе. На диване уже было постелено. Он нырнул под одеяло, блаженно вытянулся и сразу заснул без всяких сновидений…
Проснулся Алик поздно. Странно, но курить не хотелось. Во рту все еще сохранялся отвратительный привкус сигареты, которую он выплюнул минувшей страшной ночью. Тетя Даша приоткрыла дверь в его комнату.
– Беги скорее к телефону. Жена твоя из Америки звонит опять… Правильно делает, проверяет.
Алик бросил взгляд на часы – без четверти одиннадцать. Значит, в Сан-Франциско сейчас без четверти двенадцать ночи. Он наспех натянул брюки, накинул на плечи, не застегивая, рубашку. В тапочках на босу ногу выскочил в коридор.
– Алык, это есть ты?.. Здравствуй. Уже я звонила тебе, – Барбара говорила по-русски, как было заведено у них при домашнем общении.
– Здравствуй, дорогая. Тетя Даша сказала мне о твоем звонке. Понимаешь, вчера я вернулся позднее, чем предполагал. Мы с приятелем попали в заварушку одну.
– Что есть «заварушка»?
– Ну, событие такое – неожиданное и не очень приятное. Только ты не волнуйся, пожалуйста, все обошлось, все уже нормально.
– Алык, я имею новость… Но зачем ты сказал мне ничего? Я есть твоя жена. Бог велел – жена прилепись к мужу, я прилепилась. Сегодня я плакала весь день. Почему ты не сказал мне о своей болезни?
– Как ты узнала?
– Доктор Кригел звонил. Он удивился, что ты улетел. Он сказал мне все, я плакала. Ты должен скрывать ничего от своей жены. Мы есть одна душа… Ой, какая я глупая сегодня – я забыла сказать самое главное. У тебя все хорошо! Доктор Кригел сказал – нет раковых клеток под мик-роскопом. А узелок, он видел на рентгене, это есть аденома.
– Что, что? – переспросил оглушенный новостью Алик.
– Это не есть рак! Это есть опухоль, но она есть неопасная.
– Доброкачественная?
– Да, да! Доктор Кригел просил позвонить, успокоить тебя. А еще он сказал – ты не должен курить… Сколько лет я прошу тебя. Сделай это ради меня и Машеньки!
– Ладно, ладно, приеду – тогда поговорим на эту тему… Как дочка?
– Каждый вечер мы с ней читаем твой букварь. Когда после работы я забираю ее из детского садика, она спрашивает – сейчас мы поедем в аэропорт встречать папу?.. Мы обе очень скучаем… Но ты отдыхай, не волнуйся – мы подождем.
На кухне, усевшись на табуретку под открытой форточкой, Алик привычно вытащил из кармана пачку сигарет. Задумчиво подержал ее в руке, разглядывая. Потом скомкал и выкинул в мусорное ведро… За каких-то десять часов судьба-рулетка выбросила ему два счастливых номера, дважды подарила жизнь. Но как сказал бы вчерашний отморозок, два раза подряд случайно не бывает. Может, не рулетка, а «высший промысел»?
Только сейчас Алик осознал до конца, какая непомерная тяжесть пригибала его плечи. Свалилась тяжесть – и все внезапно преобразилось, стало легким, праздничным, сверкающим первозданными красками. Даже это вот мусорное ведро в углу кухни, на эмалированной крышке которого еще можно разобрать имя, нацарапанное им, мальчишкой, в незапамятные времена: «Алик». Он приложил ладонь к той точке справа от грудины, где все последние дни ощущал постоянное тупое давление. Это ощущение исчезло! Алик вскочил, захохотал, завальсировал по кухне, вместо дамы прижимая к груди табуретку.
– Тетя Дашенька, у меня добрая новость! – сообщил он, входя в комнату.
– И что за новость такая?
– Жизнь прекрасна!
– Вон куда тебя понесло… Это еще бабушка надвое сказала – когда прекрасна, а когда не очень.
– Нет, нет, мы просто заелись – забываем порой, как прекрасна жизнь. По сравнению со смертью она всегда прекрасна!
– И новость эту жена тебе по телефону сказала?
– И эту, и еще другую – что она меня любит!
– Отчего же тебя не любить? Парень видный, душа добрая. А коли гульнешь иногда, так умная жена для собственного спокойствия не заметит… Все вы, мужики, одним миром мазаны.
– Тетя Дашенька, говорю, как на духу, – я от нее ни разу не погуливал. Все эти девять лет в Америке голова была другим занята – на ноги надо было становиться. Жизнь моя там вроде наладилась, но и теперь налево не побегу. Жена таким душевным человеком оказалась, не хуже нашей русской бабы. Этим дорожить надо.
– Ах, красиво ты говоришь. Коли так, дай-то Бог. Однако знаю я твой несерьезный характер. Поманит тебя какая-нибудь вертихвостка… Завтрак на стол ставить?
– Ставь. Я пока побреюсь и из ванной костюм грязный заберу. У нас в Сан-Франциско, в двух шагах от дома, хорошая химчистка есть – там его быстро приведут в порядок.
В коридоре он столкнулся с Лолитой.
– Доброе утро, Алик. Я вас увидеть хотела, – она смущенно хихикнула. – Вот визитная карточка нашего клуба, адрес. Я тут на обороте написала – вас пропустят как моего гостя, бесплатно. Приходите сегодня… Вы, наверное, не очень хорошо о работе моей думаете. А я считаю, что это тоже искусство.
– И вы правы, Наденька. Величайшие художники изображали обнаженное женское тело как драгоценный предмет искусства… Я вам так благодарен за приглашение.
– Значит, придете? Сегодня вечером…
– Такая жалость – не смогу.
– Будете заняты?
– Я?.. Да, занят. Я сегодня… домой улетаю!
– Так быстро – всего через четыре дня?
– Понимаете, четверть часа назад позвонила жена, сообщила очень важную новость. И я понял, что мне надо лететь.
– Надеюсь, новость хорошая?
– Прекрасная, ослепительная! Но мне надо лететь. Без задержки! – Алик дружески чмокнул ее в щеку, покрытую еле заметным детским пушком.
Решение лететь сегодня домой пришло к Алику так же внезапно, как и прежнее, неделю назад, – лететь в Москву. После мучительных переживаний минувших дней, мыслей об ужасной болезни, о смерти, ему захотелось побыстрее прижаться к своим близким – жене, дочке. Уверовать окончательно, что страшная угроза осталась позади…
Тетя Даша уже сидела за столом, ждала его к завтраку.
– Тетя Дашенька, а иконку эту я заберу.
– Бери. Для тебя и хранила.
– В носовой платок заверну, положу в карман куртки… Они сейчас досмотр кое-как делают, не то, что прежде.
– Ты о ком?
– О таможенниках… Забыл сказать – я надумал домой лететь сегодня.
– Вот те на… Ты же собирался недели две погостить?
– Сама полчаса назад сказала – характер у меня несерьезный. Что-то кольнуло меня, дурня, и вдруг понял – хочу домой. Нагряну внезапно, жену и дочку порадую.
– А девчонки мои собирались в пятницу прийти, на тебя поглядеть.
– Извинись за меня, ради Бога, перед ними… Я еще прилечу. Обязательно. Через год возьму дочку и прилечу. Ей надо тоже знать, где все мои корни. Приютишь, не прогонишь?
– Приезжай хоть втроем, с женой вместе. Мои двухкомнатные хоромы теперь пустые.
Билет у Алика был куплен «вкруговую» – от Сан-Франциско до Москвы и обратно. Но дату обратного вылета Алик не указал – сам не знал, сколько ему в Москве поживется. В огромном «Боинге» всегда какие-то места бывают свободными. Чтобы не прозевать такое место, лучше приехать в аэропорт пораньше.
После завтрака Алик уложил свои пожитки в дорожную сумку. Вышел на балкон – попрощаться со своим двором. Прилетел он в воскресенье, сегодня уже среда. За четыре теплых дня деревца во дворе зазеленели. Еще несколько таких дней – и полетят майские жуки, «шаранки». Это название было знакомо ему с детства, но откуда оно пошло, Алик не помнил. Каждый год, в середине мая, кто-то из мальчишек, заметив первым, восторженно орал на весь двор: «Шаранки летят!» Жуки были большие, неуклюжие, низко гудели в предвечернем воздухе. Ребятня носилась за ними, махала шапками, а то и снятыми рубашонками, старалась сбить на землю. Охота на «шаранок» прекращалась, когда становилось совсем темно. Мальчишки выгребали из карманов добычу, считали – у кого больше. Какая потом у жуков судьба была, Алик запамятовал. Хорошо, коли выпускали на волю. У жуков век и без того короткий – им тоже пожить хочется…
Перед выходом Алик вспомнил, что надо позвонить Яшке. Но тот его опередил.
– Старик, как ты там? Отоспался, пришел в себя?.. А я про тебя шефу рассказал. Он на дачу нас соизволил пригласить – есть интересное предложение. Поедем вечерком.
– Яшка, дорогой, не получится вечерком…
– И не думай отказываться! Таких мощных фигур у нас в стране немного. У него и министрам не всегда просто аудиенцию получить.
– Домой я сегодня улетаю… Жена позвонила. Скучает.
– Ну, ты даешь… Самолет-то когда?
– Вылет в четыре, регистрация начинается в два. Мне надо приехать к самому началу, чтобы место свободное не прозевать.
– Давай я тебя в аэропорт отвезу. Только кое-какие дела докончу, через полчаса-час освобожусь.
– Мне тоже очень хотелось бы с тобой еще повидаться. Но ты не суетись – когда освободишься, приезжай прямо в «Шереметьево-2». А я сам доберусь, всего-то багажа – сумка через плечо. Увидимся на втором этаже, где идет регистрация пассажиров. Запомни: четырехчасовой рейс на Нью-Йорк.
На прощанье Алик и тетя Даша присели по русскому обычаю, помолчали минутку. В дверях тетя Даша его перекрестила.
Такси Алик не нашел и решил еще разок прокатиться в метро, спешки никакой… В длинном подземном переходе от «Площади Революции» к «Театральной» интеллигентного вида старик играл на скрипке. Одет бедно, под воротничком рубашки – сохранившаяся от лучших времен черная бабочка. У ног – шляпа, донышком кверху. Лицо у старика печальное, глаза полузакрыты. Музыка льется изящно, задумчиво. Вроде бы, Шуберт? Яшка, тот сразу определил бы… От «Театральной» Алик доехал до «Речного вокзала». Оттуда на автобусе покатил по Ленинградскому шоссе в аэропорт. Вот уже показался впереди съезд с шоссе на Шереметьево. Вон там, на обочине с другой стороны, гаишник остановил четыре дня назад красные «жигули». Давно это было…
Алик успел к началу регистрации. Свободное место для него нашлось – возле иллюминатора, как он любил. Алик засовывал в карман посадочный талон, когда Яшкина рука хлопнула его сзади по плечу.
– Старик, видишь, я не опоздал… А выглядишь ты сегодня прекрасно. Глаза блестят, на лице улыбка.
– Так и должен выглядеть человек, которому еще раз подарили жизнь… Это твой? – Алик кивнул на здоровенного парня с бритой головой. Чтобы не мешать их разговору, тот топтался шагах в трех за спиной Яшки, бросал исподлобья быстрые взгляды вокруг.
– Мой.
– А как же «мерседес»? – изобразил испуг Алик. – Вдруг там сейчас под днище бомбу цепляют?
– Не боись… По указанию шефа, мне охрану удвоили. Второй в машине сидит. Только приехал я сегодня на джипе – «мерседес» пока на Петровке. Думаю, завтра отдадут. Байков договорился.
Яшка был, как всегда, весел, оживлен. Синяк на лбу – после вчерашнего удара рукояткой пистолета – густо припудрен. Они отошли в сторону.
– Слушай, Яшка, ведь мы друзья с детства. Поговорим, наконец, честно, без увиливаний. На кой черт тебе эта грязь и кровь, эти криминальные игры? Минувшей ночью повезло, а в следующий раз и без головы остаться можешь… Деньжата, полагаю, у тебя кой-какие есть. Не лучше ли прикрыть лавочку и податься в места поспокойнее? В Израиле, например, ты сразу получил бы гражданство.
– Думал я об этом. Очень даже серьезно. И в Израиль приезжал, посмотрел, прикинул… Понимаешь, жизнь там тоже непростая, а главное, чужая. Желаю Израилю самого доброго. Только не мое все там. Да и был бы я там, если честно, гражданином второго сорта.
– Это почему?
– Четвертушка крови – нечистая. Бабка моя по матери была из оренбургских казачек. Представляешь?.. И у Иосифа Виссарионовича, и у Адольфа Алоизовича мое еврейское нутро сомнений не вызвало бы – со всеми вытекающими последствиями. А вот для ортодоксальных израильских святош я – чужак. Недавно по той же причине – недостаточной чистоты крови – они отказались хоронить на еврейском кладбище убитого в бою молоденького солдатика, эмигранта из России. Причем некоторые из таких святош сами от службы в армии уклоняются – мол, служба эта отвлекает от молитв… Вчера в ресторане уже признался тебе – русская у меня душа. Тут мне и жить.
Яшка достал из кармана пачку сигарет, протянул Алику. Тот помотал головой.
– Завязал.
– Чего, чего?..
– Бросил я курить. И тебе очень советую. От курения рак легкого бывает.
– И что за метаморфоза с тобой произошла? Вчера и позавчера с мрачным видом дымил без остановки. А сегодня лучезарно распространяешься о вреде табака. Рак, конечно, дело серьезное. Да, авось, пронесет? «Авось»… Хорошее словечко. Наше. Где-то, кажется, я читал, что в русском языке все слова на букву «а» – заимствованные из других языков. За исключением «авось» и «абы».
Яшка захохотал. Потом принял серьезный вид.
– Давай, старик, лучше поговорим напоследок о деле. В Нью-Йорке уже несколько лет наш банк имеет представительство. А теперь серьезные контакты завязываются в Калифорнии. Там нам тоже пора открывать свой офис. Вот я и рассказал шефу, какой ты замечательный мужик. Возьмешься?.. Дело денежное – куда там твоему агентству по продаже недвижимости.
– Заманчивое предложение… Но хотелось бы прежде уточнить свои рабочие обязанности. Значит, во-первых, открыть в Штатах фиктивную компанию. Так?.. Оформлять на нее продажу сырья, которое вывозят из России завязанные на ваш банк предприятия. И показывать в документах предельно низкую цену. Так?.. Потом от лица этой компании продавать сырье уже по рыночной цене реальным американским покупателям. А разницу между второй ценой и первой переводить на зарубежные счета руководителей вашего банка или подставных лиц. В общих чертах я правильно понимаю свои функции, так?
– Опять ты утрируешь… Конечно, какую-то сумму каждый серьезный бизнесмен держит на своем личном счету – на всякий случай. У ручья стоять да воды не напиться? Но основные деньги наш банк непременно возвращает в Россию, вкладывает в ее экономику. Ты не сравнивай нас с коррумпированными чиновниками и политиками – те, действительно, стараются все наворованное припрятать на Западе. Тогда как бизнесмены…
– Яшка, друг мой давний, уж извини – не хочу впутываться в ваши игры. Живи я сейчас в Москве, не удержался бы, наверное. Каждому кусочка хлеба с маслом хочется. Но, к счастью, благодаря твоему мудрому совету свалил я девять лет назад за бугор. Ничем России-матушке в трудную пору помочь не могу, так хоть вредить не буду… Слушай, где-то тут я телефон-автомат видел.
– Позвонить хочешь?.. У меня в машине мобильник лежит. Пошли, посадку объявят минут через двадцать, время есть.
Они спустились на первый этаж. Там было, как всегда, многолюдно. Возле перегородки, из-за которой вытекал медленный ручеек тех, кто прилетел, толпились встречающие. Чуть в стороне прохаживались таксисты и частники, высматривая денежных пассажиров, чтобы везти в город. В одном из кресел у стены, привалив к ней голову, спал какой-то мужик. Одет не по сезону – в грязный ватник; из-под видавшей виды кепки выбиваются космы седых волос; рот полуоткрыт – передних зубов нету. Что-то в его лице показалось Алику знакомым. Он замедлил шаг. Неужто это…
– Яшка, посмотри туда, – Алик остановился, кивнул. – Не узнаешь?
Яшка подошел ближе, вгляделся, сказал задумчиво:
– Да ведь это, вроде, Ванька Белов. Постарел-то как, поизносился – едва узнаешь… Вон смотри, на правой руке наколка – якорек. Когда вы во дворе дрались и он вдарил тебя по лбу ключом, зажатым в кулаке, мне этот якорек в память запал… Эй, продери глаза, друзья детства пришли!
От Ваньки исходил запах давно не мытого тела, перемешанный с водочным перегаром. Яшка потряс его за плечо – раз, другой. Наконец, один глаз, с капелькой желтого гноя в уголке, приоткрылся, с ненавистью уставился на Яшку.
– Отвали, гад, – и веко опять бессильно наползло на глаз.
– Нет, сегодня установить с ним контакт не легче, чем с внеземной цивилизацией, – вздохнул Яшка.
– Надо бы что-то сделать для него. В одном дворе росли… Постой, я ведь рублей наменял да не все потратил, – вспомнил Алик. – Не везти же их теперь в Сан-Франциско.
Он вытащил из брюк мятую пачку «деревянных», быстро сунул их в карман ватника. «Эх, не сообразил, – подумал он, – в переходе между `Театральной' и `Площадью революции' тому старику со скрипочкой тоже надо было в шляпу подбросить…» На морщинистом лице спящего Ваньки черными точками проступали сальные поры. Что он делает в Шереметьево-2, прилетел, улетает? Вряд ли. Может, просто заснул по пьянке в случайном автобусе – на конечной остановке, в аэропорту, вытолкал водитель алкаша… Прощай, Ванька, мальчик из детства…
За рулем Яшкиного джипа сидел еще один бритоголовый парень. Ну и мода у них пошла… Яшка достал из джипа свой мобильник. Деликатно отошел в сторону. Алик набрал Катюхин номер. Не забыл его с тех самых пор.
– Здравствуй… Это я, Алик… Звоню – попрощаться. Надумал домой лететь сегодня.
– И правильно. Тут, в нашем сумасшедшем доме, все равно ничего хорошего не увидишь. Счастливой встречи тебе с домашними – Барбарой и Машенькой. Вчера вечером в церкви я вас троих в молитве помянула.
– А ведь молитва твоя была услышана! Со вчерашнего вечера мне столько доброго привалило.
– Вот видишь… Тебе тоже надо к Господу оборотиться.
– Сначала что-то в душе прорасти должно. А бубнить молитвы без веры – все равно, что Бога обманывать. Он меня такого легче простит, чем если притворяться стану… Знаешь, хоть и с опозданием, я понял: вершина моей жизни пришлась на те два месяца, июль и август. Ничего ослепительнее, трепетнее никогда – ни раньше, ни позже – не было… Сам все проворонил. Но даже память греет… Я буду думать о тебе. А через год прилечу, приду проведать, уроню повинную голову на твои колени.
– Не надо, Аличка. В этой жизни ты принадлежишь своей семье, это твой светлый долг. А в той, другой, я верю… Аличка милый, прощай…
В трубке раздались короткие гудки. «Аличка милый» – так она называла его в тот день на желтом кожаном диване… Неужели все любит? А ничего не вернуть…
Когда Алик и Яшка поднялись на второй этаж, на табло перед номером рейса на Нью-Йорк часто моргал огонек – посадка началась. Они обнялись.
– Спасибо за дружбу, Яшенька. Прилетай в Сан-Франциско. Это будет праздник для меня. Поживешь недельку-другую, отдохнешь от забав по первоначальному накоплению капитала… Уж побереги себя, пожалуйста.
Рентгеновская установка для таможенного досмотра проглотила сумку Алика, высветила на экране ее содержимое. Таможенник бросил на экран безразличный взгляд. Через несколько секунд лента транспортера выплюнула сумку с противоположной стороны. Перед тем, как завернуть в коридорчик для паспортного контроля, Алик обернулся. Позади стойки таможенника еще стоял Яшка, махал рукой…
Взревев двигателями, «Боинг» оторвался от взлетной полосы. Внизу, за иллюминатором, разлилась сочная, майская зелень подмосковного леса. Придвинувшись к иллюминатору, чтобы рассмотреть получше уходящую землю, Алик ощутил что-то твердое во внутреннем кармане куртки. Он и забыл – это же иконка… Вот она.
Когда-то иконка эта стояла на божнице в большой деревенской избе. Клала перед божницей поклоны его бабка. Однажды по ночной безлюдной улице она вела маленькую испуганную девочку, и у той в кармашке лежала иконка. Потом девочка выросла, стала его мамой и тоже молилась перед иконкой. А теперь иконка Божьей матери в руке у Алика. Простое русское лицо – лицо деревенской бабы, в глазах негасимая печаль. Сколько же пришлось вынести за века этим женщинам, главным хранительницам русской души. Вот она Россия – тетя Даша, и Катюха, и бедная Наденька-Лолита. А мужики, которых Алик увидел за эти дни? Из песни слова не выкинешь – они тоже плоть от плоти этой великой и несчастной страны. И спившийся Ванька, и доцент Никитин, отчаянно боящийся взглянуть в глаза правде о прожитой жизни, и «качок» Ленчик, почитывавший в свободное время литературу об Античном мире, и печальный старик-скрипач, играющий Шуберта в подземном переходе метро. И бандюга в кожаной куртке, которого прошила автоматная очередь минувшей страшной ночью, – из песни слова не выкинешь. И Яшка, он тоже кусочек России. Как многолика она, как богата красками – светлыми, темными… Божья матерь, Божья матерь, помоги моей родине… Алик плакал, слезы были сладкие, облегчающие.
1998Присяжный поверенный и министр
Вот послушай, сынок, давнюю историю. Она со мной приключилась, поэтому никаких измышлений – только то, что сам видел и слышал. Почти семьдесят лет прошло, а помню, будто вчера это было.
Значит, окончил я в шестнадцатом году гимназию, Первая мировая война тогда шла… И очень хотел поступить на медицинский факультет. Но для так называемых лиц иудейского вероисповедания существовала до революции «процентная норма». Внутри «черты оседлости», где жить им разрешалось, то есть в основном в губерниях на территории нынешних Польши, Украины, Белоруссии, «норма» помягче была. В тамошние университеты лиц иудейского вероисповедания разрешалось принимать не больше десяти процентов от общего числа слушателей. Напротив, в Петербурге и Москве норма составляла только три процента. А в нашей Одессе – пять. Но заметь: дискриминация основывалась именно на религиозной принадлежности. Если еврей крестился, все ограничения для его учебы и места проживания сразу отпадали… Не то, что при родной советской власти, когда даже наиболее пронырливые евреи, не побрезговавшие пролезть в партию, все равно четко понимали – они граждане второго сорта.
Что это такое – «пятипроцентная норма» для Одессы, где в начале века около половины населения были евреи? Ну-ка прикинь… Получается, что на каждое «иудейское» место в нашем Новороссийском университете, так он тогда назывался, в среднем приходилось в десять раз больше претендентов, чем на место, предназначенное для не иудея. И ведь это – еще без учета еврейских ребят со стороны, которые приезжали из разных украинских и белорусских местечек, чтобы тоже попытать счастья в Одессе.
В отличие от «великой эпохи строительства коммунизма» взяток тогда при поступлении в высшее учебное заведение не давали и не брали. Да и денег на это у моих родителей, будь благословенна их память, не нашлось бы: заработки у твоего деда были скромные, а в семье как-никак росло пятеро детей. Словом, при поступлении в университет все зависело от знаний, полученных в гимназии. Что тут тебе сказать?.. Занимался я вроде бы неплохо, но среди лучших учеников никогда не числился. Поведение у меня хромало, хулиганистый был, маму периодически вызывали в гимназию для объяснений. Да любил часами гонять мячик – футбол как раз входил в моду в России. Да в старших классах еще интерес к прекрасному полу пробудился. На учебу времени оставалось немного.
Короче, в Новороссийский университет я не прошел. Где мне было тягаться с молодыми «зубрилами», все гимназические годы горбившимися над учебниками столь же самозабвенно, как их деды горбились над талмудом… Хотя потом встречал я немало подобных «зубрил», которые во взрослой жизни ничего стоящего так и не добились.
Провалившись при поступлении на медицинский факультет в Одессе, прослышал я от кого-то, что есть вакансии на этом факультете в Дерпте. Дерпт – так нынешнее Тарту называлось. Да вот беда: Прибалтика была вне пределов «черты оседлости». И значит, чтобы поступить в тот университет, мне требовалось разрешение Министерства народного просвещения. Можно было, конечно, послать прошение об этом по почте. Но письма долго ходили, про авиапочту тогда никто и не слыхал. Да и не было никакой уверенности, что ответ будет благоприятный. Вот и пришла тогда в мою семнадцатилетнюю голову внезапная идея – поехать и прошение подать лично. Надеялся: мол, если самому обивать пороги министерских кабинетов, вдруг да какой-нибудь чиновник снисхождение окажет.
Был конец июля… Нет, не в Петербург я поехал, запамятовал ты. Когда в четырнадцатом году война с немцами стряслась, власти срочно переименовали Петербург в Петроград – чтобы и духу немецкого в названии не осталось. А что до простых людей, то как прежде они столицу звали, так и продолжали звать – Питер.
Денег на дорогу просить дома не стал, лишних денег в семье не было. К тому же, если бы папа – дед твой – узнал заранее о моем авантюрном плане, запретил бы он эту поездку. Вот и пошел я на поклон к бабушке, маминой маме, – в главных любимцах у бабушки числился. Она уже много лет вдовствовала. Чтобы прокормить себя, занималась знахарством, корешки какие-то собирала, листочки, сушила их, настои делала. Жила она возле «Привоза», многие торговки с базара навещали ее, лечили свои хвори, оставались довольны. Так что бабушка не бедствовала; иногда, в безденежные дни, бегала к ней мама, перехватывала несколько рублей.
Поведал я бабушке о своем намерении ехать в столицу, чтобы подать прошение. Попросил ссудить деньгами – хотя бы только на билет в вагоне третьего класса туда и обратно. Собрала она недовольно складки вокруг беззубого рта, помолчала. Но потом достала-таки из комода просимую сумму, протянула мне, погладила по голове.
От бабушки направился я прямиком на вокзал – пока она не сообразила сообщить маме о моем плане. Купил билет. И уже через час в вагонном окошке дернулись и поплыли назад пыльные акации одесского вокзала. Помнишь замечательные строчки Блока про железную дорогу тех лет? «Вагоны шли привычной линией, подрагивали и скрипели; молчали желтые и синие, в зеленых плакали и пели». Желтого цвета были вагоны первого класса. Синие – второго. А я ехал в зеленом вагоне третьего класса, где плакали и пели простые русские люди. И пили тоже – пили самогон прямо из горлышка, а для маскировки обертывали бутылку тряпочкой. Официально, ввиду войны, «сухой закон» существовал. Да только никто его не соблюдал. Ни наверху (начиная с самого батюшки-царя), ни внизу. Типично российское отношение к любому закону…
Съестного я с собой не взял, торопился скорее удрать – прежде, чем родители помешают. Сверх бабушкиных денег, оставшихся на обратный билет и запрятанных за подкладку гимназической куртки, была у меня в кармане еще пара мятых рублей. Негусто. Заглянул я на остановке в вокзальный буфет – коптят керосиновые лампы, освещают буфетные яства на стойке. А мне даже на сушки потратиться – расточительство. Все-таки разменял я один из своих двух рублей, купил полфунта ситного хлебушка, налил в жестяную кружку, взятую у кондуктора, крутого кипятку, понес это добро к себе в вагон. А там соседи мои уже расстелили рушники, на них прихваченная из дома снедь: вареные яички, сальце с чесночком, помидоры молоденькие, хлеб домашний. Глянули соседи на полфунта ситного и на кружку с пустым кипятком в моих руках, понимающе улыбнулись: «Сидайте с нами, молодой человек, откушайте, что Бог послал». Простые люди. Но отличала их общая черта – отзывчивость, сочувствие к чужой нужде. Ох, как поубавилось это благое качество в русском народе за кровавые десятилетия большевистской мясорубки…
Нет, я не через Москву ехал. В Житомире, кажется, одну пересадку сделал, потом другую где-то в Белоруссии. Дней пять или шесть до Питера добирался… И все это время меня, худенького еврейского паренька, кто-то в вагонах подкармливал. И махоркой тоже делились. Ведь я, молодой дурачок, уже курил вовсю. Лежали на полках вокзальных буфетов коробки с папиросами «Ира», да только не по карману они мне были… Курильщик курильщику всегда посочувствует. Кто поприжимистее, давал мне на одну закрутку – и на том спасибо. А у кого душа шире, мог и побольше из кисета отсыпать. Права русская пословица: мир не без добрых людей.
Приехал я в Питер поздним вечером. Было еще не совсем темно, хотя белые ночи уже кончились. На вокзальной площади стояли извозчичьи пролетки, на мордах лошадей торбы с овсом. Рядом толклись извозчики, зазывали пассажиров. Только тут до меня окончательно дошла вся мальчишеская несерьезность моей поездки. Что дальше-то делать? Никаких знакомых, чтобы остановиться, у меня в Питере нет. Денег на ночлежку, считай, тоже нет.
Вот и побрел я по улицам неведомо куда. На них малолюдно – пройдет запоздалый прохожий, простучит по камням пролетка… В каком-то темном переулке навстречу мне отделилась от стены женская фигура. Сказала сиплым голосом: «Пошли к нам, господин хороший, гостем будешь». Взяла под руку, спустилась со мной по ступенькам к полуподвальной двери. Над дверью фонарик красный горит. Сообразил я, куда меня приглашают. Дверь отворил плечистый хмурый мужик – «вышибала», который за порядком внутри надзирает. Рассмотрел я, наконец, свою даму – лицо испитое, под глазом синяк. Изобразила она лучезарную улыбку, показала несвежие зубы и опять пошла наверх – зазывать клиентов.
Присел я на мягкий диванчик у стенки. Прежде в публичном доме не был никогда, но «Яму» Куприна читал. В углу, за стойкой, буфетчица. Перед ней несколько тарелок с бутербродами, бутылки с жидкостью розового цвета, на этикетках название – «Крюшон». За столиком три господина разместились, рассматривают размалеванных девиц, сидящих на стульях возле буфета, ухмыляются, опрокидывают в себя рюмки, в которых тот самый «крюшон» налит, закусывают бутербродами. Тут дошло до меня, что пьют они подкрашенную водку. А может, самогон. Один из них подходит, наконец, к девицам, выбирает ту, что подороднее, тянет ее к лестнице, которая ведет на верхний этаж, в «номера». Но девица упирается, кивает на буфетчицу, мол, сперва заплатить следует. Начальствует, значит, в заведении буфетчица, «бандерша», иначе говоря. Попробовал этот господин с буфетчицей торговаться, но она на своей цене твердо стоит. Уступил он, выложил на стойку, сколько положено. И пошел с девицей по лестнице наверх, похлопывая ее широкой ладонью ниже талии. А девица, изображая томление, даже головку ему на плечо уронила.
Интересное дело: вся мировая литература пронизана стенаниями по поводу несчастной доли этих падших существ. Как трогательно, например, описывает Достоевский свою Сонечку Мармеладову. А мне кажется, что обычной проституткой две простые причины движут: деньги хорошие да и удовольствие к тому же. Помнишь то место в «Преступлении и наказании», где Мармеладов со слезой в голосе рассказывает о дочкином «почине»? Я эту страницу перечитал даже. Мол, вышла Сонечка из квартиры в шестом часу, а в девятом вернулась и молча на стол тридцать целковых выложила. Много это или мало? В том же самом разговоре с Раскольниковым жалуется Мармеладов: дескать, честным трудом бедная девица не больше пятнадцати копеек в день заработать может. Вот и выходит, что за три часа Сонечке отвалили столько, сколько честная-то получила бы за двести дней работы без выходных. Вроде, после такого заработка могла Сонечка и отцовской семье подсобить, и сама – если не двести дней, то хотя бы пару недель – пожить благонравно. А она вечер за вечером на панели. В толк не возьму – тянет ее что ли? Ты как думаешь?
Отклонился я, однако, от темы… Сижу, значит, на диванчике в публичном доме. Хотя интересно мне все вокруг, но чувствую – глаза слипаются, время позднее. И тут замечаю: бросает на меня буфетчица косые взгляды. Мол, как же так – в буфете ничего не заказывает, к девицам тоже не подходит. Непорядок. Подзывает она к себе «вышибалу», негромко ему что-то говорит, кивает в мою сторону. И вылететь бы мне через минуту на улицу. Да случилось непредвиденное.
Наружная дверь вдруг широко распахивается. Громко стуча по ступенькам подкованными сапогами, в заведение вваливаются полицейские. Начинают проверку документов, время-то военное, шпионов, может, каких ищут. Командует пожилой урядник – взгляд суровый из-под седых кустистых бровей. Полицейские бегут в «номера» наверху. Через пару минут тащат оттуда по лестнице упирающегося полуголого мужика. Урядник, хоть и строгий, а увидел мужика – даже заулыбался: «Давненько мы с тобой не встречались, Иван. Два года с лишним, как с каторги сбежал, – да вот попался… В участок его! Глаз не спускать, чтоб не удрал сызнова!»
Проверив документы у сидящих за столом, подходит урядник ко мне. И тут только я со страхом осознаю, что у меня-то, кроме моего просроченного гимназического билета, никаких документов вообще нет. Урядник раскрывает мой билет, читает медленно. Потом подымает глаза. «Из Одессы… А вид на жительство в столице имеется?» Все, думаю, влип. Сейчас меня тоже в участок потащат. Сбивающимся голосом объясняю: мол, приехал всего на пару дней, чтобы подать прошение, мол, мечтаю учиться в университете. Слушает меня урядник, не перебивает, бросает еще раз взгляд на гимназический билет, потом на мою поношенную гимназическую куртку, пошитую мамой два года назад и уже тесноватую в плечах. И вдруг говорит обычным, даже каким-то домашним голосом: «Вам, юноша, надо будет завтра обратиться в управление при Петроградском полицмейстере. Думаю, пребывание в столице на пару дней разрешат». Протягивает мне обратно билет, отходит к буфетной стойке. Глубокомысленно разглядывает бутерброды на тарелке, потом берет один, начинает, не торопясь, жевать. Ничего, конечно, не платит. Говорит буфетчице: «Смотри, Матвеевна, чтоб порядок был, – головой отвечаешь… А юноша этот пусть посидит тут до утра. Куда ему ночью-то идти, на улицах пошаливают, мало ли что случиться может». Буфетчица в ответ только поддакивает, улыбается льстиво…
Рано утром покидаю я гостеприимный публичный дом. Солнышко уже ярко светит. Иду по Питеру, размышляю, чешу затылок. Вроде бы, дело у меня нехитрое – написать прошение и подать в министерство. Но загвоздка в том, что прошение должно быть исполнено по форме, специальным суконным языком, да и мотивировать следует поубедительнее. Конечно, лучше всего, если такое прошение напишет какой-нибудь судейский крючкотвор. Но, сам понимаешь, никого из этой братии я в Питере не знаю. И вдруг вспоминается одно имя… Слышал ли ты, сынок, о процессе киевского еврея Бейлиса, которого обвиняли в ритуальном убийстве христианского мальчика – мол, его кровь для приготовления мацы понадобилась? Перед войной, в тринадцатом году, процесс этот прошумел… Молодец, знаешь… Защищали Бейлиса несколько превосходных адвокатов, добились оправдательного приговора. И запомнилось мне имя одного из них, присяжного поверенного Грузенберга. Многие газеты в России, в других странах печатали его речи на том процессе. А жил Грузенберг в столице… Нет, не был он выкрестом. К тому времени некоторым категориям евреев – например, купцам первой гильдии, лицам с высшим образованием, квалифицированным ремесленникам – не возбранялось уже выбирать место жительства по всей территории России. Вот и надумал я обратиться прямо к знаменитому адвокату. Пусть он мне прошение напишет. Представляешь, каков был молодой нахал? Терять-то мне все равно нечего. Только вот незадача – адреса Грузенберга я не знал.
В размышлениях бреду по Питеру, добираюсь до какой-то широкой улицы. На ней утренняя жизнь уже во всю кипит. Пешеходы куда-то торопятся, мчатся автомобили, шоферы в широких очках, защищающих глаза от ветра, сердито гудят в рожки. На углу висит табличка с названием улицы. Да ведь это же Невский! Сколько о нем читал, а вижу впервые. Иду по Невскому, пересекаю поперечную улицу, Садовую. На углу – двухэтажное здание с колоннами. Нынче в нем Библиотека имени Салтыкова-Щедрина. Тогда тоже библиотека размещалась, только называлась иначе – Императорская Публичная. Она на моем пути кстати оказалась. Заглянул я в читальный зал и уже через полчаса выяснил домашний адрес Грузенберга. Обнаружил адрес в тонкой брошюрке под длинным названием. Как сейчас помню: «Список присяжных поверенных округа Санкт-Петербургской судебной палаты». Перед войной брошюрка издана, столица еще Санкт-Петербургом именуется. Указан в ней адрес Оскара Осиповича Грузенберга – улица Кирочная, дом 32, дробь 34.
Язык до Киева доведет. Прохожие на Невском показывают, как пройти. Мол, нужно сначала по Невскому до пересечения с Литейным проспектом, по нему повернуть налево и там вскоре обнаружится Кирочная улица – она от Литейного с правой стороны отходит. Мог я и на трамвае доехать – они тогда по Невскому ходили, но решил рубль с мелочью, что у меня в кармане, попридержать.
Добираюсь, наконец, до дома 32, дробь 34. Массивный домина, четыре этажа, окна большие, высокие. За широкой аркой – внутренний квадратный двор. Вижу там дворника с метлой. Объясняет он, где квартира Грузенберга. Подымаюсь по лестнице, звоню в дверь. Немного нервничаю. Дома ли? Согласится ли прошение написать – денег-то у меня кот наплакал? Открывает сам Грузенберг. Я его сразу узнал, вспомнил фотографии в газетах, когда дело Бейлиса шумело. Лицо крупное, густые волосы назад зачесаны, длинный прямой нос в широкие усы упирается, по бокам рта усы сливаются с бородой и бакенбардами. На цепочке болтается пенсне – наверное, читал что-то.
Стоя возле порога, начинаю свой рассказ. А Грузенберг вроде и не слушает, сторонится от двери, показывает, чтобы вошел я. Ведет по длинному коридору в кабинет, усаживает в кресло сбоку от стола. Стол у него большой, весь бумагами разными завален. Сам не садится, молча меня сверху вниз разглядывает, потом спрашивает, как зовут. «Саша? Очень приятно… Так что у вас за дело?». Когда услышал, какая нужда меня из Одессы к нему привела, рассмеялся, руки потер. «Это вы, Саша, правильно сделали, что на огонек заглянули, я такие прошения писать мастак. Сейчас мы сочиним…» Садится за стол. Достав из ящика лист бумаги, изучающе смотрит на него – отбрасывает в сторону. «Нет, для вашего прошения бумага нужна особая, чтобы впечатление производила, я этих чинуш знаю». Достает из другого ящика лист плотной бумаги с какими-то водяными разводами. Высунув по-детски кончик языка, начинает писать – быстро, разборчиво, без помарок. Удовлетворенно перечитывает написанное. «Ну вот, такое прошение хоть куда подавать не стыдно». Показывает, где мне подписаться надо.
Подымаюсь я с кресла, начинаю благодарить. Невнятно бормочу, что вот у меня рубль только есть – хотел бы заплатить за работу. А он рукой машет, мол, пустое. Спрашивает: «Вы, Саша, наверное, и не завтракали еще? Пойдемте-ка на кухню, покормлю вас. Воскресенье сегодня – все мои домашние на даче. Но что-нибудь на кухне раздобудем». Я для приличия отнекиваюсь, а сам, конечно, слюнки глотаю, со вчерашнего не ел…
Сидит Грузенберг со мной на кухне, весело смотрит, как я челюстями работаю. Объясняет: «Министерство народного просвещения на Фонтанке располагается, возле Чернышева моста, – дорогу каждый вам покажет. Туда и надо подать прошение. Да только сегодня неприсутственный день, воскресенье… А что если не ждать вам до завтра и обратиться непосредственно к министру, графу Игнатьеву? Я его домашний адрес знаю, на Галерной улице живет. Конечно, в воскресенье можете и не застать его, погода хорошая, люди на дачах отдыхают. Но чем вы рискуете – вдруг он дома и прошение принять согласится? Пошло бы оно по инстанциям намного быстрее, да и вероятность положительного ответа больше… Я о Павле Николаевиче Игнатьеве немало доброго слышал. Тут недавно такая история была: в Царскосельский военный госпиталь привезли с фронта раненого, а он оказался иудейского вероисповедания. Подлечили его, после ранения отпуск предоставили. Обратился он в полицию с просьбой разрешить на время отпуска пребывание в столице. А там, согласно существующим положениям, отказали. Прослышал об этой истории Игнатьев. Как любой порядочный человек, возмутился. Чтобы обойти полицейские рогатки, приказал выдать этому раненому министерскую справку о зачислении в студенты Петроградского университета. Утерлась полиция…»
Я поел, пора и честь знать – собираюсь откланяться. Но тут замечаю, что Грузенберг начинает на кухне суетиться, выдвигает на середину кухни скамеечку, ставит на нее тазик, чайник с теплой водой. А потом говорит: «Знаете, Саша, если честно, запашок от вас исходит. Понимаю, что не виноваты: в вагонах третьего класса почти неделю ехали – ни разу не раздевались, не мылись по-настоящему. Прежде, чем предстать пред министерские очи, давайте хотя бы голову вам помоем. Все-таки к графу идете, шталмейстеру двора Его Императорского величества». Сняв свою гимназическую куртку, беру я в руки кусок мыла, наклоняюсь над тазиком. А Грузенберг мне на голову из чайника поливает… Много лет спустя рассказал я эту историю одному доброму приятелю – он усомнился. Ладно, говорит, пришел семнадцатилетний мальчишка незваным к знаменитому адвокату домой, а тот мальчишку не вытурил, более того, прошение по доброте душевной написал – подобное еще представить могу. А вот насчет мытья головы – присочинилоднако… Было это, сынок! Понимаешь, такие люди тогда были.
Дал мне Грузенберг адрес Игнатьева, объяснил, как на Галерную улицу пройти. На прощанье похлопал ободряюще по плечу. И зашагал я опять по питерским улицам, настроение хорошее – прошение в кармане, сытый и даже голову помыл. День воскресный, народ по тротуарам шастает. На углу мужик продет квас, черпает его из ведра кружкой. Промаршировала по мостовой рота солдат – котелки и лопатки к поясам прикреплены, на спинах походные котомки; может, на фронт отправляются.
Дошел я по Литейному до моста – тогда он назывался мост Александра Второго – и свернул на набережную. Теплый ветерок с Невы треплет полы моей куртки, сушит мокрые волосы. Французская набережная, потом Дворцовая. Слева – чугунная решетка Летнего сада. А ведь тут когда-то Пушкин гулял… Возле Зимнего дворца полосатая будка, часовой с винтовкой стоит. Следующая набережная – Адмиралтейская. Сбоку от нее площадь, на ней Медный всадник коня вздыбил. Значит, Сенатская площадь это – здесь построили своих солдат в каре декабристы. Русская история… На Английской набережной, там, где на Васильевский остров уходит Николаевский мост, сворачиваю от Невы налево. И рядом уже Галерная. Улица как улица, дома двух– и трехэтажные. Да только и она русской истории принадлежит. Потом уже вычитал я: в начале тридцатых годов девятнадцатого века, перед тем, как на Мойку перебраться, на Галерной жил с молодой женой Пушкин. А в двадцатом веке – Блок.
Нашел я дом Игнатьева. Думал, что у того особняк свой, но оказался обычный двухэтажный многоквартирный дом. Правда, подъезд у Игнатьева отдельный, и за дверью швейцар сидит. Робко говорю, что мне бы их сиятельство увидеть, прошение подать. «Подождите, сейчас доложу» – отвечает швейцар и удаляется куда-то внутрь квартиры. Значит, опять мне повезло – у себя хозяин… Минуты три прошло, не больше. И вижу: спускается по лестнице со второго этажа сам Игнатьев! Одет по-домашнему, в халате, но выглядывает из-под халата накрахмаленный воротничок белоснежной рубашки. Высокий, усы пушистые, «запорожские». Начинаю я историю свою излагать, а граф, заметив бумагу в моей руке, перебивает: «Прошение?.. Давайте». Потом чуть наклоняет – холодно, но вежливо – лысеющую голову: «Вам сообщат». Поворачивается и с моим прошением уходит вверх по лестнице.
В тот же день уехал я в Одессу. Даже в управление при Петроградском полицмейстере идти не понадобилось, вид на жительство выправлять. А еще недели через две получил я долгожданный ответ из Министерства народного просвещения – разрешили мне поступить в Дерптский университет. Меньше года там проучился. В феврале семнадцатого рухнул царский режим – один из первых законов, принятых новой властью, отменил в России всякую дискриминацию по религиозному или национальному признаку. И перевелся я домой, в Новороссийский университет.
Часто думаю: эх, если бы после Февральской революции да не было Октябрьской. Если бы большевистские «бесы» не выкорчевывали десятки лет все лучшее в русской душе. Была бы Россия теперь воистину великой страной, первой в мире. Ведь какой народ был… Опять вспоминаю: вагонных попутчиков, которые по доброте душевной подкармливали меня в дороге, строгого урядника, озаботившегося, чтобы «бандерша» не выгнала меня до утра на улицу, милейшего Грузенберга, графа Игнатьева, который принял меня. Можешь представить, чтобы какой-нибудь вонючий советский начальничек, какой-нибудь там секретарь обкома разрешил беспокоить себя в выходной день, домой к нему заявляться? Охрана и к порогу не подпустила бы такого типа! А то, глядишь, и арестовала бы.
Никого из тех, о ком рассказал, уже нет давно. Да и мне пора «на выход»… Неужели все забудется, травой зарастет? Записать-то как хочется, сохранить. У меня и название для этой истории готово: «Присяжный поверенный и министр»… Слишком прямолинейное название, говоришь?.. Нет, сынок, менять не буду, мне нравится. Вот соберусь я, однако, сяду за стол, изложу все, как было.
Так и не собрался, умер… Шли годы, а история, услышанная от отца, не отпускала, бередила память. И я понял: теперь этот долг перешел по наследству ко мне – сохранить рассказ о тех днях, о той России. Изложил его на бумаге с опозданием лет в пятнадцать. Какие-то детали мог, конечно, подзабыть. Но не суть.
Удалось отыскать и некоторые материалы о двух людях, которым обязан рассказ своим названием. Были это, действительно, личности с большой буквы.
Оскар Осипович Грузенберг родился в 1866. С отличием окончил юридический факультет Киевского университета. По окончании получил заманчивое предложение – остаться при кафедре, делать научную карьеру. Но для этого надо было креститься. И Грузенберг отказался. Вряд ли был он истово верующим евреем. Все, что сумел вычитать о нем, рисует Грузенберга типичным либеральным интеллигентом той поры. Думаю, менять вероисповедание он отказался прежде всего из чувства собственного достоинств – чувства, которое, к сожалению, так присмирело у последующих поколений российской интеллигенции… Потом были годы блистательной адвокатской практики Грузенберга, прославившее его дело Бейлиса. Участвовал он и в дореволюционных политических процессах: защищал писателей Короленко и Горького, кадета Милюкова, даже одного из главных грядущих «бесов» – Троцкого. После революции избрали Грузенберга членом Учредительного собрания, которое должно было заложить основы демократической России. Уже к концу первого дня собрание это прихлопнули большевики… Начались эмигрантские скитания – Германия, Латвия, затем Франция. И на чужбине Оскар Осипович не забывал о родине, принимал близко к сердцу ее беды. Незадолго до смерти он признается в частном письме: «России я обязан всем, начиная с языка». Умер во Франции в 1940. После Второй мировой войны прах его перевезли в Израиль, там перезахоронили.
Павел Николаевич Игнатьев родился в 1870, то есть примерно в одно время с Грузенбергом. Но происходил из совершенно иной, аристократической, среды. Дед его председательствовал в Российском Кабинете министров. Отец сделал успешную дипломатическую карьеру, а после убийства Александра Второго стал Министром внутренних дел. Мать – правнучка Кутузова. Сам Павел Николаевич, являясь в Киевской губернии крупным землевладельцем, сначала возглавлял там земскую управу. Позднее переехал в Петербург, занимал руководящие должности в Министерстве земледелия. В годы Первой мировой войны стал Министром народного просвещения. На этом посту планировал либеральную реформу средней школы и всеобщее начальное образование. Вел себя довольно независимо, дважды подавал в отставку. Первый раз – когда в 1915 царь не прислушался к Игнатьеву и некоторым другим министрам, отговаривавшим его от самоубийственного решения принять на себя командование русской армией. В тот раз царь убедил Игнатьева остаться на министерском посту. Но в конце 1916, не желая дольше разделять ответственность за бездарные решения правительства, Игнатьев снова подал прошение об отставке – и она была принята. После захвата власти большевиками последовала, как и у Грузенберга, жизнь на чужбине: Франция, Англия, потом Канада. Во всех трех изданиях «Большой советской энциклопедии» есть статьи об Игнатьеве – слишком заметной фигурой был в предреволюционном десятилетии. И в каждой статье приводится ошибочный год смерти —1926. На самом деле прожил Павел Николаевич до 1945, пятерых сыновей вырастил на гостеприимной канадской земле. Один из них, кстати, стал впоследствии крупным дипломатом, Постоянным представителем Канады в ООН.
Таких вот детей своих отторгла от себя Россия. Не только двух героев этого рассказа, но еще тысячи и тысячи – лучших, «соль земли». И за это тоже расплачивается сейчас. Что имеем, не храним…
Придя на кладбище, по еврейскому обычаю кладу на могилу отца камушек. Много их скопилось, целая горка. «Вот, отец, не забудется теперь твой рассказ. Доволен ли, что я сберег его? Ну, отзовись, дай знак…» А он молчит. Так и ухожу в неведении – слышал он меня или не слышал.
1999Рыжий кот
На третью ночь кот выбрался из могилы. Cидя на холмике под деревом, он пытался сообразить, что же с ним случилось. Листья дерева над головой невнятно шептались о чем-то. Поодаль, в полутьме летней лунной ночи, проступали очертания небольшого домика.
Постепенно разрозненные клочки памяти стали возвращаться к коту. Домик показался ему знакомым, возникло смутное воспоминание, будто раньше он жил там. Кот задумчиво почесал задней лапой за ухом. И вдруг осознал странную перемену. Когда он почесал за ухом, кожа не ощутила никакого прикосновения. Кот приблизил к глазам и внимательно осмотрел лапу. Прежде покрытая шерстью – рыжей, с белыми крапинками – лапа теперь стала прозрачной. Расположенная между глазами и стволом дерева, она не мешала видеть этот ствол. Лапа состояла из воздуха. Только по ее контуру можно было уловить легкое голубоватое мерцание. Изучение остальных лап дало такой же результат. Он стал бестелесен.
Наконец-то, до кота дошла истина: тело его, уже тронутое тленом, осталось в этой засыпанной землей яме. Тут, на могильном холмике, – только его душа. (У людей душа, конечно же, обширнее, сложнее. Но и у кота она была, тоже по-своему неповторимая). Теперь коту стало понятно, почему удалось ему так легко выбраться из ямы. Душе это сделать проще, чем телу. Выбираясь, кот не чувствовал никакого сопротивления земли – та как бы осыпалась сквозь него.
В этой яме, в углу двора, его похоронил Хозяин. Три дня назад на улице, неподалеку от их домика, кота сбила машина. В отличие от людей перед тем, как перебежать через улицу, коты не смотрят по сторонам. Не оттого, что глупы. Просто у них нет никакого знания об угрозе, которую таит в себе мчащаяся машина. А когда это знание приходит, обычно бывает уже поздно.
Тем теплым июльским утром кот собирался наведаться к дому на противоположной стороне улицы, где жила беленькая кошечка. Он делал это регулярно, стараясь не пропустить нечастых дней, когда та становилась любвеобильной. В такие дни к ее дому сбегались и другие коты, обитавшие в этом небольшом пригородном поселке. В борьбе за благосклонность кошечки они угрожающе орали друг на друга, устраивали кровавые драки….
Итак, тем утром рыжий кот прыгнул с тротуара на проезжую часть улицы, не чувствуя никакой опасности. Опасность могла исходить от других котов. Но воздух на улице не содержал их запахов. А прочие запахи не имели к коту отношения, ведь он не делал никому ничего плохого, просто бежал по своим кошачьим делам. Опасность возникла внезапно, слева, в виде чего-то большого, грохочущего, страшного. Разглядеть, что это такое, не было времени – кот просто оттолкнулся лапами от асфальта, отпрыгивая в сторону. Но не успел. Буфер машины безжалостно ударил его в левый висок и отбросил на тротуар. Будто ослепительная молния вспыхнула и погасла в голове кота, он даже не почувствовал боли. Последнее, что промелькнуло в сознании, было удивление – за что? Еще несколько секунд он оставался жив. Бессознательно скребя лапами по тротуару, кот отполз на травяной газон. И затих.
Обычно в хорошую погоду кота почти не бывало дома. Забежит, чтобы перекусить, и опять исчезнет. Поэтому Хозяйку ничуть не взволновало его долгое отсутствие в тот день. Под вечер, надумав заглянуть к соседке, она зашлепала своими разношенными домашними туфлями по тротуару. И вдруг остановилась с похолодевшим сердцем. Хозяйка увидела в зеленой траве знакомую шкурку, рыжую с белыми крапинками. Кот лежал на левом боку, вытянув лапы и чуть запрокинув голову. Будто спал. На траве, возле головы, проступало пятно засохшей крови.
Хозяйка схватила кота на руки и бросилась домой, к мужу.
– С нашим котом что-то случилось! – закричала она с порога. – Скорее едем к ветеринару!
Хозяин только недавно вернулся с работы и сидел за кухонным столом, заканчивая ужин. Он подошел к жене, приподнял голову кота и увидел глубокую кровавую рану на левом виске. Потом потрогал негнущиеся лапы.
– Поздно. Он мертв уже несколько часов. Наверное, сбила машина, – глухо сказал Хозяин; помолчав, как бы оправдываясь, добавил: – Но ведь не могли же мы держать его всю жизнь взаперти.
Когда кот был еще маленьким, они не раз обсуждали вопрос – не прооперировать ли его, избавив от будущих любовных безумств, драк с другими котами, длительных исчезновений из дому. Хозяин долго колебался, но потом сказал жене:
– Знаешь, есть мудрое правило: не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе сделали. Как же я могу одобрить это?
Они рассмеялись тогда. А кот, который слышал их разговор, еще больше зауважал справедливого Хозяина. Когда тот усталый приходил вечером с работы, кот, если был дома, встречал его у двери, терся об ноги. Иногда он даже сам прыгал на колени к ужинавшему Хозяину. Но не для того, чтобы выпросить кусочек, – кот был гордым и никогда не попрошайничал. Просто он хотел выказать свое доброе отношение. Порой, сидя на коленях Хозяина и не в силах сдержаться, кот еле слышно мурлыкал, чего в других случаях никогда не делал. Он считал, что мурлыкать пристало кошкам, а уважающий себя кот должен обходиться без этих дамских нежностей.
Матери кот не помнил – Хозяйка привезла его от родственников совсем крохотным, он даже не умел еще пить молоко из блюдечка. А кто был его отцом, не знала, наверное, и сама мать; когда у кошки в очередной раз наступает пора любви, она проявляет благосклонность ко многим ухажерам.
Кот рос в убеждении: живущие с ним Хозяин и Хозяйка и есть члены его семьи. Иногда в их домик наведывались другие люди, так называемые гости. С ними кот был вежлив, но до фамильярных отношений не снисходил. Он позволял гостям немного погладить себя, а потом удалялся в спальню. Там стояли две кровати, между ними лежал на полу небольшой ворсистый коврик, а в углу, возле двери, стояла плетеная корзинка с мягкой тряпочкой на дне. Корзинка считалась постелью кота. Покинув гостей, он укладывался в корзинку и терпеливо ждал, когда те, наконец, уйдут, оставят его семью в покое.
Корзинка была не единственным местом, где кот спал. Иногда ночью он прыгал на кровать Хозяйки и ложился у нее в ногах. Это тоже был с его стороны знак особого расположения. Однажды, правда, случилась такая история. Кот прыгнул к Хозяйке, когда в ее кровати был и Хозяин. Они занимались любовью, одеяло было отброшено в сторону. Прыгая, кот нечаянно задел ногу Хозяина – нога раздраженно дернулась и скинула кота на пол.
Он, конечно же, не ушибся. Но очень обиделся. Утром, кормя кота, подкладывая ему на блюдечко особо вкусные кусочки, Хозяйка шепотом извинялась за неучтивого Хозяина. А кот угрюмо отводил глаза в сторону – такую невоспитанность не забывают, больше он в Хозяйкину кровать ни ногой. Лишь через несколько дней, по зрелом размышлении, кот иначе взглянул на поступок Хозяина. Вспомнились сказанные тем когда-то мудрые слова: «Не делай другому того, чего не хочешь, чтобы тебе сделали». Кот представил, что это он занимается с кошечкой любовью, а какой-то невежа в этот момент толкает его. Конечно, он поступил бы с подобным невежей точно так же!
Изредка кот стал снова наведываться ночью к Хозяйке. Но если у нее был Хозяин, кот, улегшись на коврике, терпеливо ждал, когда тот покинет Хозяйкину кровать. В отличие от кота у Хозяина любовь занимала почему-то неоправданно много времени. Видимо, старался – детей у них с Хозяйкой не было. Но разве дети были так уж необходимы? Ведь у них был он – кот.
Сидя на могильном холмике, кот вспоминал радостные, смешные, грустные события своей жизни. Нет, она была совсем неплохой, грех жаловаться. Конечно, оборвалась слишком рано, невесело умереть в расцвете сил. Но, с другой стороны, доживи он до преклонных лет – начались бы болезни, старческое слабоумие, половое бессилие…
Набегавший ветерок шевелил листья дерева. Звезды в вышине многозначительно подмигивали друг другу. Кот чувствовал: его земные минуты сочтены, осталось совсем немного. А потом душа покинет сей мир навсегда. Ему захотелось на прощанье побывать там, где прошла его жизнь. Голубоватый, мерцающий контур кота оторвался от земли и поплыл по воздуху через двор. Форточка, через которую кот обычно проникал внутрь, если приходил слишком поздно, была закрыта. Но это уже не имело значения. Он скользнул прямо сквозь стену и очутился на кухне.
Прежде всего кот понюхал по привычке одному ему ведомое пятно на полу. На самом деле, пятна никакого не было. Пол на кухне имел только один запах – свежевымытых досок; Хозяйка протирала пол влажной тряпкой каждый день. Но это место, возле стола, было памятно коту. Когда первый раз Хозяйка принесла его, совсем крохотного, в дом и посадила на пол, он, растерявшись в новом, неведомом мире, напустил под себя лужицу. Хозяин стал выговаривать ему за это нарочито строгим голосом. А Хозяйка заступилась:
– Не ругайся, – сказала она мужу. – Он еще такой несмышленыш. Он больше так не будет… Не будешь, Рыженький?
Она отнесла кота на веранду, где стояла заполненная песком коробка. Песок было так удобно скрести лапой, сооружая из него холмик. Кот сразу понял назначение коробки и первые месяцы пользовался только ею. Даже во время игр во дворе он торопливо бежал по нужде к своей коробке на веранде, чем смешил Хозяйку. Лишь позднее кот сообразил, что не только песок в коробке – обычная земля тоже вполне годится для сооружения холмика…
Кот обвел взглядом кухню. Казалось бы, все выглядело по-прежнему. Но он заметил: исчезло его блюдечко, которое обычно стояло на полу. Тут и обижаться вроде нечего, а все-таки… Вспомнилась грустная пословица: «С глаз долой – из сердца вон».
Вздохнув, кот скользнул сквозь стену в спальню. Кровать Хозяина была пуста, он был у Хозяйки. А в углу еще стояла плетеная корзинка, в которой кот обычно спал. Спасибо, хоть корзинку пока не убрали… Кот присел на коврик, лежавший между кроватями. Коврик был слегка порван с одного края – когда кот был молодым и глупым, ему нравилось царапать коврик когтями. Хозяйка ругала его за это. Потом, повзрослев, он сообразил, что когти лучше точить о кору дерева во дворе.
Коту вспомнилась давняя история, связанная с этим ковриком и затаившейся под его бахромой тоненькой серебряной цепочкой. Началом истории послужила очередная кошачья драка – возле дома, где жила беленькая кошечка. После драки левый глаз кота заплыл кровью. Обеспокоенный Хозяин, засунув кота в картонную коробку, поехал на своем старом дребезжащем автомобиле к ветеринару. Будь дома Хозяйка, и она, наверное, тоже увязалась бы за ними. Но ее не было, на несколько дней она уехала – навестить родственников.
Осмотрев глаз, ветеринар сказал, что зрение восстановится. Капли, которые он закапал, потом долго щипали глаз… С картонной коробкой в руках – в ней недовольно мяукал заточенный туда кот – Хозяин вышел от ветеринара на улицу. И вдруг остановился на тротуаре, как вкопанный. Чуть не столкнувшись, они молча стояли друг перед другом – Хозяин и та женщина. В стенке коробки для лучшей вентиляции были прорезаны небольшие отверстия. Сквозь такое отверстие, прильнув к нему правым, здоровым, глазом, кот разглядывал женщину. Уже не первой молодости. С темными грустными глазами. Надо лбом густая прядь темно-коричневых волос (крашеные – определил кот). Строгий деловой костюм облегал еще стройную фигуру. В руке дорожная сумка. Косые лучи заходящего солнца отбрасывали на тротуар тень женщины.
– Ну, здравствуй, – хрипло сказал Хозяин.
– Ну, здравствуй, – отозвалась она.
– Сколько лет, сколько зим… – сказал Хозяин. – Какими судьбами?
– Поезд привез. Здесь у меня пересадка. Доберусь до аэропорта и полечу… – женщина назвала город, куда летела. – Рейс через четыре часа. Вот и решила немного прогуляться по центру, посмотреть, что изменилось за шестнадцать лет.
– Почти все семнадцать, – поправил Хозяин.
– Хорошо, пусть будет семнадцать, – глухо согласилась женщина.
Они стояли на тротуаре, перекидываясь ничего не значащими словами. Но кот чувствовал приглушенную боль, звучавшую в их голосах.
– Что же это мы стоим тут? – спохватился Хозяин. – Вон на углу моя машина. Я отвезу тебя в аэропорт… Хотя время до отлета еще есть – можем посидеть, поговорить.
В машине Хозяин поставил коробку на заднее сиденье, кивнул в ее сторону:
– Познакомься – там мой кот.
Кот уже не мяукал, ему было интересно слушать их разговор.
– Значит, летишь в тот город… По служебным делам? – спросил Хозяин.
– Да, по служебным… Нет… Не хочу врать – не по служебным… Лечу проведать сына. Он там в колонии для малолетних преступников.
– Сколько ему лет?
– Шестнадцать. И уже за решеткой… Горе невыразимое… Был такой добрый, послушный мальчик. Повзрослел – и связался с подростками старше себя. Те оказались наркоманами. И все покатилось в пропасть… А потом его же дружки свалили на него это убийство… Вот говорят: родители плохо воспитывают. В хорошую почву бросишь одно зернышко, и оно прорастет. На камнях – и пригоршня семян всходов не даст… У нас он – единственный ребенок. Мы с мужем всю душу вкладывали, растили, учили добру. Не в коня корм… А у тебя дети есть?
– Мы с женой хотели бы, да Бог не дает.
– Не переживай. Мир такой нынче – не знаешь даже, что лучше: иметь детей или не иметь.
Женщина открыла сумку, засунула туда руку с тоненькой серебряной цепочкой на запястье, вытащила пачку сигарет.
– Раньше ты не курила, – сказал Хозяин.
– Научилась.
– Дайка и мне за компанию, – сказал Хозяин.
Они закурили. Кот с отвращением отодвинулся в дальний угол коробки. И он, и Хозяйка терпеть не могли табачного дыма. Обычно, если Хозяину хотелось покурить, он выходил на крыльцо.
– А билет на самолет у тебя уже есть? – спросил Хозяин.
– Нет. Куплю перед вылетом.
– Знаешь, – голос Хозяина дрогнул, – поедем ко мне… Столько лет не виделись… Полетишь завтра. Есть еще утренний рейс в этот город, вылет в девять.
Женщина удивленно подняла глаза. Хозяин глухо уточнил:
– Жены дома нет… Уехала. Вернется завтра к вечеру…
– Что ж, поедем, – отрешенно, задумавшись о чем-то своем, ответила женщина.
Хозяин, видимо, волновался. Когда подъехали к домику, он даже позабыл про коробку с котом. Спасибо, женщина взяла ее с заднего сиденья. На кухне, открыв коробку, она дружелюбно сказала:
– Выходи на свободу, Рыженький.
Кот удивился, откуда та знает, как его зовут. Погладить себя он женщине не позволил, независимо отошел в сторону, а потом прыгнул на подоконник. В окно был виден их двор, дерево у забора, на вечернем небе проступала желтая полоса – с той стороны, где только что опустилось солнце. Форточка была открыта, но гулять коту не хотелось. Да и глаз побаливал.
Хозяин заглянул в холодильник. Суетливо рассматривая его содержимое, спросил:
– Чем же я тебя угощать буду?.. Что тебе приготовить?
– Все равно, на твой вкус.
– Ладно, тогда отведаешь мое фирменное блюдо – яичницу.
«Как будто он еще что-то умеет готовить, – подумал кот. – Уже третий день сидим с ним на яичнице…»
Хозяин поставил на кухонный стол бутылку вина, принес помидоры с огородика во дворе. Потом на столе появилась сковородка с шипящей яичницей. Женщина ела мало, вяло тыкала вилкой в тарелку. Но выпив две рюмочки, разрумянилась, помолодела.
– Сохранилась ли еще та парта в нашем классе, за которой мы сидели с тобой? – Она чуть помолчала. – А помнишь, как после выпускного экзамена мы ушли вдвоем в лес? День был солнечный, теплый, благоуханный.
– И я стал целовать тебя… И то, чего мы так ждали и так боялись, случилось…
– Сперва я переживала, считала себя великой грешницей… Теперь понимаю: если такое происходит по истинной любви, это подарок небес.
– Ах, какие мы были молодые дурачки, – вздохнул Хозяин. – И не вспомню уже – из-за чего мы тем летом поссорились…
– Это все мой нескладный характер. Обидчивая была… Ты о чем-то пошутил невпопад, я надулась и ушла… А еще – не надо было тебе бежать за мной, просить прощения. Мне тогда казалось, что только слабаки просят прощения.
– Бежал, потому что так любил… На следующий вечер увидел тебя на танцплощадке с другим. Хотел, было, полезть с ним в драку. Но все-таки хватило ума понять – дракой тебя не вернешь.
– А я стремительно выскочила замуж… Почему, зачем? Наверное, назло тебе… И мы тут же уехали из города, – женщина зажгла сигарету, глубоко затянулась. – Книга жизни пишется сразу набело – ни одну строчку не перечеркнешь… Судьба.
Хозяин тоже закурил. Табачный дым волнами поплыл по кухне. Не желая дышать этой мерзостью, кот спрыгнул с подоконника и ушел в спальню. Улегся в свою корзинку, задумался. А он-то полагал, что в отличие от котов человеку на всю жизнь отпущена только одна любовь. Как бы не так… Выходит, у Хозяина женщин было две. А может, и больше? Да и сейчас, судя по всему, просто разговорами у них не ограничится…
Боль в левом глазу, наконец, отпустила. Свернувшись калачиком в корзинке, кот заснул.
Разбудили его звуки, доносившееся из кровати Хозяина: прерывистое дыхание женщины, затем его хриплый стон. «А с Хозяйкой он так не стонет» – с ревнивой обидой подумал кот.
Все стихло. Потом женский голос прошептал:
– Милый мой, родной, как хорошо мне… Я вышла сегодня из поезда, а где-то в душе теплилась надежда – вдруг тебя увижу. И это чудо свершилось.
– А я ведь тебя почти не вспоминал… Теперь понимаю – боялся боли. И вот встретил сегодня – будто расстались только вчера, будто не было этих семнадцати лет… Завтра утром оставь адрес, куда я мог бы писать тебе. Пожалуйста, – сказал Хозяин.
– Не надо, не проси сейчас ни о чем… Нет ни завтра, ни вчера, есть только эта ночь. И мы вдвоем…
«Как много пустых разговоров, – пренебрежительно подумал кот. – У нас, у котов, это происходит более осмысленно – сделал дело и можешь сразу уходить».
Кот перевернулся на другой бок, задремал. А Хозяин и женщина, наверное, так и не уснули в ту ночь. Рано утром, выйдя из спальни, кот нашел их на кухне. Они пили кофе. Лицо женщины выглядело отрешенным, постаревшим.
– О чем задумалась? – спросил Хозяин.
– О сыне. Так душа за него болит… Веришь ли, жить не хочется. У меня ведь вся голова седая – крашусь.
«А я сразу догадался» – подумал кот.
Хозяин сочувственно вздохнул, не зная, что сказать. Потом неуверенно напомнил:
– Может, ты оставишь мне свой служебный адрес… Я бы писал тебе. Хоть изредка.
Женщина допила кофе, отодвинула чашку. Твердо ответила:
– Мы уже взяли грех на душу – украли одну ночь… У тебя есть жена, у меня – муж. Они ни в чем не виноваты – это мы сами так бездарно распорядились своими судьбами. Больше нам в этой жизни не встретиться… Пока ты кофе готовил, я вот сочинила коротенькую записочку. Прочтешь через полчаса после того, как мы расстанемся. Обещаешь?
– И опять, как прежде, за нас двоих решаешь ты одна… Что ж, обещаю.
– Ты ведь мне никогда не врал?
– Ты же знаешь.
Женщина протянула Хозяину сложенный пополам листок.
– А провожать в аэропорт не стоит… Мне надо побыть одной, прийти в себя… Помнится, в двух кварталах отсюда была автобусная остановка. Автобус, который идет в аэропорт, все еще там останавливается?
– Да.
Женщина взяла свою сумку, вытащила зеркальце. Посмотрелась в него, чуть припудрила лицо. Встала. Тихо сказала:
– Прощай… Нет, не обнимай… А то я заплачу.
Она погладила сидевшего на полу кота, которому почему-то стало очень грустно. И ушла.
Хозяин застыл на табуретке, уставившись глазами в какую-то точку на кухонной стене. Сидел долго, не шевелясь. Пожалев Хозяина, кот прыгнул ему на колени. Прошло, наверное, полчаса. Хозяин протянул руку к записке на столе. Видимо, почерк был неразборчивым. Хозяин читал записку медленно, вслух: «Мой любимый! Через семнадцать лет откроюсь тебе. Сын, к которому я еду, – он наш. Муж знает и все равно относится, как к родному. Сын не знает. Помолись за нашего сына. Прощай – теперь насовсем».
Вечером вернулась Хозяйка… Радостный кот ходил следом за ней из комнаты в комнату, терся о ноги. В спальне, пока Хозяйка распаковывала чемодан, кот от полноты чувств повалился на спину, начал перекатываться с боку на бок на коврике между кроватями. Так вот и получилось, что его когти зацепили невзначай тоненькую серебряную цепочку, потянули ее из-под бахромы коврика. Наверное, та женщина не заметила, как ночью цепочка расстегнулась и соскользнула с руки. Хозяйка увидела цепочку, подняла с пола.
– А это чья? – дрогнувшим голосом спросила она у вошедшего в спальню Хозяина.
На Хозяина было жалко смотреть. Будто задыхаясь, он расстегнул воротник рубашки.
– Ну что ж, и тебе врать не буду… В молодости стряслась у меня любовь. Задолго до тебя. Вчера, через семнадцать лет, мы случайно встретились. И она была здесь. А больше уже никогда не увидимся… Если можешь, прости…
Цепочка выскользнула из хозяйкиной руки. Оглушенная, она присела на свою кровать, потом легла, отвернулась к стене. Не плакала, даже дыхание было еле слышно. Хозяин стоял рядом. Ему хотелось успокоить ее, что-то сказать, но он не решался…
Хозяйка, добрая душа, конечно же, его простила. Уже утром, как обычно, она хлопотала на кухне, готовила завтрак. Только потухшие глаза выдавали ее. С Хозяином она не разговаривала. Но кот заметил, как перед уходом на работу Хозяин робко поцеловал руку жены, когда она собирала посуду с кухонного стола. И та руку не убрала.
А вечером, за ужином, вернувшийся Хозяин уже обсуждал с женой какие-то домашние дела. Он попытался даже рассказать ей о чем-то смешном, что случилось сегодня на работе, но лицо жены все еще оставалось отчужденным. Виновато замолчав на полуслове, Хозяин придвинул к себе газету, лежавшую на столе, бросил на нее усталый взгляд. И вдруг вскрикнул. Его трясущийся палец уперся в заголовок на первой странице.
– Вчера разбился самолет – тот самый рейс, на котором она улетела! И все погибли!.. А ведь она еще сказала, уходя, что жить не хочет… Господи, за что Ты так?!
Хозяин закрыл ладонью глаза, беспомощно уронил голову на газету. К нему подошла жена. Молча, жалостливо положила руку на его плечо…
Такая вот история припомнилась коту. Он все еще сидел на коврике. А из кровати Хозяйки слышался ее голос:
– Вот уже третью ночь засну сначала, а потом будто током ударит – проснусь и вспомню: нашего кота больше нет. И спать не могу…
Она всхлипнула. Хозяин грустно ответил:
– Я и сам сейчас не спал. Тоже никак места не найду… Слезами горю не поможешь, надо смириться. Возьмем котенка. Рыженького. Ты его полюбишь.
– Конечно, – согласилась Хозяйка. – И все равно не смогу забыть нашего кота. Он же был личностью. Разговаривая с ним, я ощущала: он все понимает… Он же был членом нашей семьи!
Хозяйка уткнулась в подушку, заплакала. Коту стало жалко ее. И себя тоже. Он прыгнул на кровать и стал тереться о ноги Хозяйки. Кот хотел, чтобы та знала: он рядом, он никогда не забудет ее. Но она ничего не почувствовала. Поняв это, кот сам чуть не заплакал.
Неведомая сила стала медленно подымать его. Задержавшись на мгновение под потолком, кот еще раз бросил взгляд на уткнувшуюся в подушку Хозяйку, бережно обнимающего ее Хозяина. Потом мерцающий контур кота пронзил потолок, потом – крышу. Звезды над головой стали быстро приближаться.
Ах, все-таки жизнь была прекрасна! Как жаль расставаться с этими близкими существами там, внизу. Он будет их помнить. И ждать. Наверное, в том мире, куда раньше или позже попадут их души, найдется место и для его кошачьей души… А еще он постарается отыскать наверху ту женщину. После всего случившегося и она коту не чужая. В мире, где живут души, не должно быть места подлости и злобе. И значит, ревности?.. Быть может, когда Хозяин и Хозяйка в свой час присоединятся к коту, та женщина будет жить с ними тоже. И ее бедный сын…
Кот посмотрел вниз – домик уменьшился в размерах, выглядел совсем крохотным. Но через ставшую почему-то прозрачной крышу кот еще сумел разглядеть две маленькие фигурки на кровати. И тут звезды внезапно погасли. Возникло ощущение, будто они были нарисованы на полотне, обратная сторона которого абсолютно черна. Проткнув это полотно и продолжая полет, кот очутился в ином мире – полный мрак, пустота, безмолвие. Лишь через несколько минут полета (а может, часов или дней…) из кромешной тьмы стало проступать Нечто. Его было невозможно описать земными словами. Оно приближалось.
1999Эшелон на север
Памяти Григория Бескровного
Часто снилась потом Гришке дедова хата, где прошли его счастливые детские годы. Просторная, добротно обустроенная – лучшая хата в Небраткове. Стояла она на краю села, на взгорке, оттуда видны были заречные луга, лесок за ними.
По деревенским понятиям семья Иванчуков считалась не такой и большой. Четверых детей подняли дед Василь с бабкой Катериной. Да еще один ребеночек умер у Катерины в ангельском возрасте – Бог дал, Бог и взял.
Когда объявили НЭП, Андрей, их старший сын, подался на строительные работы в Киев. Там и осел. Василь не одобрял этого, считал, что работа на земле – самая главная на свете. Но как потом оказалось, этим Андрей и оберег себя. А младший сын Захар остался с отцом, матерью в родном Небраткове, на Киевщине. Для него поставил Василь на своей усадьбе маленькую хатку – Захар женился недавно, детей пока не было. А в родительской хате, с Василем и Катериной, жили две дочери: семнадцатилетняя Настенька да еще Фрося с мужем и двумя сыновьями-мальцами. Хата большая, места хватало.
Хозяйство Иванчуков считалось зажиточным. Держали трех лошадей, двух коров, несколько свинок, десятка три кур. Земельный надел – восемь десятин. А еще владели ветряной мельницей. В соседней Алексеевке стояла большая мельница – жернова крутила паровая машина. Но и у деда Василя на его ветряке работа не переводилась. Помогал ему Захар, парень тихий, руки золотые, с любым механизмом разобраться мог.
Потом и Фросин муж в семье объявился, тоже помощник хоть куда. Происходил Микола из Алексеевки, из семьи небогатой, но работящей. Увидел как-то на посиделках миловидную, застенчивую Фросю – сразу влюбился. И ей Микола нравился. Поначалу Василь не давал согласия на их женитьбу. Не смея выходить из отцовской воли, Фрося по ночам тихо всхлипывала в подушку. Тогда вступилась мать. Редко перечила мужу Катерина, но тут был такой случай. И Василь смягчился. Свадьбу сыграли шумную.
«Примак» Микола – так называли мужей, принятых в семью жены, – очень быстро стал правой рукой деда. В отличие от тихого Захара, во всем послушного отцу, Микола, шумливый, скорый в движениях, иногда даже осмеливался перечить. Но по делу. Предложил, например, Микола, завести пчельник. Василь сперва сомневался, будет ли выгода. Все-таки попробовали – и Микола оказался прав. В базарные дни отвозил он пахнущий гречихой мед, собранный на заречных лугах, в Алексеевку или чуть дальше, на станцию Каменку. Хорошо продавался мед. Так и жили Иванчуки, трудились с утра до вечера, богатели своим трудом.
Но НЭП заканчивался, приближался «великий перелом». Ганна, жена Захара, работала в местной кооперативной лавке. Оттуда и приносила иногда московскую газету «Правду». После ужина, близоруко щурясь, Захар читал ее вслух отцу и Миколе. Месяц за месяцем все больше распалялась «Правда» от ненависти к деревенским «мироедам». Мрачнело лицо деда Василя, уныло вздыхал Захар. Только Микола, молодым пареньком, уже под конец гражданской войны, мобилизованный в Красную Армию, улыбался благодушно.
– Не волнуйтесь, батя. Не про нас писано. Не для того мы бились с беляками насмерть, чтобы трудовое крестьянство в обиду дать. Самые трудовые мы и есть. Неужто рвань эта – Ивашка Евтухов с его комитетом «незаможних селян»? Им бы только самогону нажраться да на сходе горло подрать. Работать они не больно-то любят – потому и незаможние. Кабы все деревенские работали, как мы, давно бы в городах перебоев с хлебом не было. Вот этими руками и себя кормим, и державу советскую. – Микола выбрасывал на стол, чисто выскобленный бабкой Катериной, огромные ручищи. Ладони в толстых мозолях, под кожей вздувшиеся вены гонят темно-синюю кровь, перекатываются бугры мышц.
Дед Василь ничего не отвечал Миколе, с сомнением качал головой.
В августе двадцать девятого года приспела в Небраткове пора «колхозного строительства». Приехал из райцентра уполномоченный с портфелем, с ним трое милиционеров. Созвали сход. Из семьи Иванчуков пошли на сход дед Василь, Захар, Микола. Да еще увязался за Миколой его семилетний малец Гришка… Запомнился Гришке тот день: пыльная площадь, вынесенный из сельсовета длинный стол, по торжественному случаю красной тряпицей застеленный, за столом – важный, толстомордый уполномоченный вместе с активистами из комитета «незаможних».
– Братишки-селяне! – закричал Ивашка Евтухов, разевая рот с выбитым недавно по пьянке зубом. – Вот и пришло наше, значит, счастливое времечко – сказала линия генеральная, что жить нам теперь одной колхозной семьей. Землица, живность, а также эти, значит, труда орудия – все будет общее.
– А как линия насчет баб распорядилась? – раздался из толпы чей-то охальный голос.
Расползлись в улыбке слюнявые Ивашкины губы.
– Про баб, значит, пока указания не поступало. А поступит – так обобществим за милую душу. Если партия велит…
Из-за стола сердито цыкнул уполномоченный. На полуслове замолчал Ивашка, потушил улыбку.
– Это шучу я, братишки. А если серьезно, то, не откладывая, пишите заявления, значит, добровольные в колхоз. Название ему привез товарищ уполномоченный очень даже верное – «Шлях к коммунизму». На той неделе сойдемся опять, правление выберем. И начнем счастливую жизнь. А скот чтобы привести весь на колхозный двор. Будут теперь буренки дружно шагать в светлое будущее. Вместе, значит, с хозяевами ихними.
– Ну, а если, например, кто заявления не напишет? – полюбопытствовал дед Василь, стоявший в первом ряду, среди самых уважаемых селян.
– А нам, Василь, твое заявление и нужно-то не очень. Тебе нужнее. Покаешься – может, и сбережешь тогда шкуру свою кулацкую. А и не напишешь заявления, так все равно мельница твоя в неделимый фонд колхоза отходит. Согласно текущему постановлению советской власти.
– Мельницу я с Захаром не один год честным трудом подымал, – возразил Василь. – Отнять ее у меня – это ведь как ограбить.
– Верно сказал, дедок. Партия, значит, наша так и повелела: грабь награбленное.
– Врешь ты все, – ощерился Микола, стоявший рядом с дедом. – Слова эти, когда революция шла, партия про помещиков говорила. Чтобы ихнее имущество отнять и между трудовым крестьянством поделить. Не говорила такого партия, чтобы простого селянина грабить потому, что он трудом своим лучше других живет!
– Раньше не говорила, а теперь, значит, сказала. Текущий момент понимать надо. Кулакам – им на селе капитализм требуется, чтоб самим жиреть, а беднякам на них горбатиться.
– Это ты что ли, Иван, на кого-то горбатился? – взорвался Микола. – Да ты и на семью собственную не горбатился никогда, испитая твоя морда!
В толпе раздались смешки. Глаза Ивашки превратились в щелочки.
– А за слова такие с тебя, Микола, с кулацкого подголоска, спросят. Кто поперек становится, мы того в порошок сотрем по всей строгости обострившейся классовой борьбы.
– Это меня, красного конника, в порошок?! Ах, гад, попался бы ты мне, когда я в Первой конной служил!.. – побелевший Микола шагнул к худосочному Ивашке, схватил его за шею клещами-пальцами. – Придушу гада на месте!
Вскочил уполномоченный, закричал что-то по-петушиному, портфель со стола в пыль хлопнулся. Бросились к Миколе милиционеры, повалили на землю. Рванулся было Гришка на помощь отцу, но не успел. Заломив руки, милиционеры затащили отца в сельсовет, заперли в подвале. А вечером увезли в Белую Церковь.
Наутро заторопилась в город Фрося. Два дня обивала пороги, а на третий день буркнул ей начальник, не подымая глаз от бумаг, чтоб ехала домой. Дескать, муж ее как не разоружившийся подкулачник уже отправлен на поселение в Сибирь. Покатились тихие слезы из немигающих Фросиных глаз. Поднял голову начальник, сказал с усмешкой, чтобы не убивалась так. Сверху указание есть: скоро все кулацкие семьи тоже поедут на поселение. Вот она с мужем и свидится…
Навалилась на Небратково ранняя осень, зачастили дожди. Торопились селяне убрать все с полей поскорее. А дед Василь в эту страдную пору почти не выходил из дому. Сидел в горнице, отрешенно уставившись в затянутое тучами небо за окном. Лежали на подоконнике его не привыкшие к праздности руки. Старалась не беспокоить мужа бабка Катерина – сама с дочками и Захаром управлялась по хозяйству. Ухаживали, как всегда, за скотиной. С огорода, позади хаты, все убрали. В базарные дни ездил Захар в Алексеевку и Каменку, продавал мед с пчельника – деньги, они всегда пригодятся. А что до урожая в поле, остались их восемь десятин нетронутыми. Кой прок заниматься этим – урожай на поселение не возьмешь.
В Небраткове уже все знали – составлен в районе список «первой категории раскулачки». Из трехсот пятидесяти семей, живших в селе, попали в список двенадцать, самых зажиточных, в том числе и семья Василя.
Начались занятия в школе. Десятилетка в трех верстах была, в Алексеевке. В этом учебном году Настенька собиралась заканчивать школу. Но сказали ей, как и другим ученикам из «первой категории раскулачки», – в школу не приходить. Все равно недели через две-три поедут. Чтобы не сидеть без дела, нашла Настенька где-то старый, растрепанный букварь, надумала учить Гришку грамоте. Школьный возраст тому еще не подошел, но малец умненький, старательный.
Вечером, сидя в горнице возле керосиновой лампы, шевелил Гришка губами: «Мы не рабы. Рабы не мы». Проходил через горницу дед Василь – покачав головой, произнес как бы про себя: «Самые что ни на есть рабы. В плену у фараона египетского, усатого». Катерина, услышав слова мужа, подошла к Настеньке, укоризненно сказала: «Нашла, чем мальцу голову забивать. Лучше пусть это читает». Протянула Библию. Буквы в ней – не то, что в букваре, маленькие. А слова попадались непонятные, длинные. Но Гришка не смел ослушаться бабку. Наклонив голову над Библией, медленно складывал слога: «Со-тво-рил Бог не-бо и зем-лю. Зем-ля же бы-ла без-вид-на…»
Главным на селе стал теперь Ивашка Евтухов. Важно ходил по дворам, распоряжался. От важности даже пить, вроде, стал поменьше. Однажды увидел на улице Захара, остановил его.
– Ну, уяснил, Захар, момент текущий? Кому советская власть – мать родная, а кому – мачеха?.. Не так повел себя дед Василь, не разоружился в своем кулацком естестве. А отсюда семейству вашему дальняя, значит, дорога. Но я за тебя в районе замолвил слово, помни мою доброту. Решили оставить вас с Ганной. Теперь от самого зависеть будет: хватит если ума – отряхнешь кулацкий дух, станешь заедино с крестьянством колхозным… Так что на мельнице без тебя колхозу пока не управиться, машина, она науки требует. Сиди тихо, поддерживай, значит, на мельнице порядок. Тогда и я тебя в обиду не дам.
Дома разговором этим Захар с отцом поделился, опустил глаза в пол. Помолчал дед Василь. Повернув голову к образам, перекрестился.
– Так тому и быть, хлопец. Хоть ты спасешься…
Прошел сентябрь, потом октябрь. Что-то затягивалась в Небраткове «раскулачка». Поговаривали: поездов, вроде, не хватает – это же по всей Украине сколько семей вывезти надо. В начале ноября заявилась комиссия во главе с Ивашкой Евтуховым в горницу деда Василя.
– Чтоб, значит, завтра к утру быть готовыми, – строго распорядился Ивашка. – Можете взять с собой харчи на дорогу, одежду теплую, одеяла там всякие, посуду, какая самая необходимая. А больше в хозяйстве не трогать ничего, теперь это – наше, колхозное.
Увидел Ивашка в горнице пришедшего к отцу Захара, поманил на кухню.
– Уговор наш помню – останешься. Только, значит, от греха подальше уходика ты с Ганной сегодня с усадьбы. Притопают чужие – из района. Под горячую руку и тебя загрести могут. При мельнице переночуй. Когда уйдут завтра подводы на станцию, можешь ворочаться в свою хатку… А насчет родительской хаты, значит, не надейся. Колхозное правление уже распорядилось: в хате этой читальня будет. Имени товарища Владимира Ленина.
Ушла комиссия – торопилась, надо было ей за вечер все двенадцать семей кулацких оповестить. А в хате засуетились женщины. Казалось бы, все уже было давно собрано. Но опять под руководством бабки Катерины стали Фрося и Настенька развязывать узлы, что-то докладывать.
Дед Василь не принимал участия, уселся в горнице на топчане, застеленном цветастым ковриком. На колени к нему Гришка сразу забрался. Очень скучал Гришка по отцу и оттого еще сильнее к деду тянулся.
– И чего опять прыгают, глупые, – кивнув на суетящихся баб, сказал ему дед. – Перед смертью не надышишься.
Часа через полтора, закончив возиться с узлами, запыхавшаяся Катерина присела на топчан возле мужа. Сморщилась, приложила ладонь к середине груди.
– Никак давит опять? – участливо спросил он.
– Ага. Давит – не вздохнуть… И что за болезнь такая привязалась. Дня не проходит, чтоб не прихватило.
– Может полежать тебе?
– Ничего, отпустит помаленьку.
Одетый в полушубок, вошел в горницу Захар. Бледный, потерянный. Приблизился к сидевшим на топчане родителям, медленно повалился на колени. За его спиной то же повторила Ганна.
– Вот проститься пришли, благословение родительское получить, – запинаясь, сказал Захар. – Батя, маменька, неужто расставаться нам? Вымолвите сейчас хоть словечко одно – и с вами поедем… Я ведь и сам себе не мил оттого, что вы в одну сторону, а я в другую. Батя, батя, что молчите-то?
– Не молчу я, хлопчик… Порадовал ты меня очень словами этими – это и есть родная кровь. Только слишком большой подарок будет фараону усатому, если вся моя семья в распыл пойдет. Оставайся, хлопчик. Нет на тебе никакой за то вины – это мы с матерью тебе говорим. Живите с Ганной, детишками обзаводитесь. А когда подрастут, расскажите им всю правду, что с нами сделали. Такое ни забыть, ни простить.
Ткнулся Захар лицом в материнские колени, затрясся. Заголосила Ганна. Плакали Катерина, Фрося, Настенька. За компанию захныкал и Гришка. Только у деда Василя глаза оставались сухими, он медленно оглядывал свое плачущее семейство, крестил каждого…
Обманула комиссия. Пришли к Иванчукам не утром – в разгар ночи, часа в три. Решило начальство, что это самое удобное время, пока прочий люд спит. Проснутся – а в селе уже чисто, «мироедов» нет.
Когда забарабанили в дверь, первой Катерина услышала. Она еще до того проснулась – опять боль в груди прихватила. Открыла Катерина дверь, мимо нее ввалились в хату трое вооруженных людей. Да двое во дворе остались, один из них местный, из колхозного правления. Уже стояли во дворе две подводы наготове.
– Быстро! Собираться! – подгонял проснувшихся Иванчуков один из вошедших, видимо, старший, у него на поясе кобура с наганом висела.
На дно подвод, на сено, побросали узлы. В первую подводу усадили деда Василя с Катериной и Настенькой. Во вторую – Фросю с сыновьями: Гришкой и грудничком Митюхой. Тот на Фросиных руках даже глаз не открыл, причмокивал во сне благодушно.
Никогда раньше не приходилось Гришке просыпаться так рано. И спать ему хотелось, и любопытно было – глухая лунная ночь, от сена на дне подводы исходит горьковатый полынный запах, скрипят колеса, шагают по бокам двое пожилых дядек, охотничьи ружья за спиной. На выезде из села их уже ждут другие подводы. Оцепенев, сидят в них кулацкие семьи. Некоторые женщины плачут беззвучно, прощаются с родным селом навсегда. Вокруг охрана… Вытягивается цепочка подвод на дорогу, что идет в Каменку, на станцию. А по пути к ним еще подводы присоединяются, из соседних сел.
Пока добирались до Каменки, небо на востоке посветлело. Стоит на путях эшелон, вагоны товарные, двухосные. Возле эшелона уже другая охрана, посерьезнее – в военной форме, с винтовками. Споро они работают, опыт, видать, накопили немалый. Подъезжает подвода к открытой двери вагона, людей с нее быстро загоняют внутрь, туда же забрасывают узлы. На смену пустой подводе без задержки подъезжает следующая. Охранник у двери счет ведет – даже Митюху на руках у Фроси не забыл учесть.
После того, как их вагон, хвостовой в эшелоне, заполнился, общее число людей охранник записал мелом на наружной стороне двери. И она закрылась. Скрип подвод переместился к соседнему вагону.
Внутри вагона, с обоих его концов, сколочены двухэтажные нары. В середине, между нарами, – свободное место. Там стоит небольшая железная печурка с выведенной наружу трубой, да еще пустое ржавое ведро – его назначение позже прояснилось. От стенки до стенки на нарах умещаются шесть человек, а если постараться, то и семь. Возле потолка, по бокам от скользящей на шарнирах двери, – два небольших затянутых решеткой оконца. И еще два – на противоположной стенке.
На нижних нарах из шести мест три достались деду, бабке и Фросе с Митюхой на руках. А Настенька и Гришка расположились над ними, на верхних нарах. Из развязанных узлов были вынуты тюфяки, подушки, одеяла. И еще Настенька и Гришка получили в пользование старый полушубок Василя, чтобы прикрываться поверх одеяла.
Слышно было, как подъезжали и подъезжали подводы, заполнялся вагон за вагоном кулацкими семьями. Потом все стихло. И вдруг, заскрипев, открылась опять вагонная дверь. Лучи утреннего солнышка осветили копошащихся на нарах людей. Кто-то потянулся, было, к открытой двери. Но тут же раздался снаружи строгий оклик: «Оставаться на местах! К двери не подходить!»
С верхних нар видна была Гришке часть замусоренной вокзальной платформы. На платформе – группа военных. Один небольшого росточка, почти карлик. Ни винтовки, ни нагана на поясе, но сразу ясно, что главный. Шинели на других серо-зеленые, старые, мятые, а на нем – из хорошего светло-коричневого сукна с рыжеватым отливом. Приказал он что-то – и побежали к вагонам охранники. Один остановился напротив их вагона. Ушанка с красной звездой нахлобучена по самые брови. Лицо молоденькое, растерянное. Сглотнул охранник слюну и, как затверженный урок, громко объявил:
– Приказ номер один. Первое, за попытку побега – расстрел на месте. Второе, за неповиновение охране – расстрел на месте. Приказ подписал командир конвойной группы войск ГПУ товарищ Жучинский. Все.
Охранник обвел глазами нары и вдруг, как бы споткнувшись, задержал их на Гришке. Вернее, чуть сбоку от него – на сидевшей рядом Настеньке.
– И куда повезут-то нас? – раздался скрипучий голос. Спрашивала толстая старуха с бельмом на глазу, сидевшая напротив, на нижних нарах. Гришка ее раньше никогда не видел – наверное, не из их села.
Охранник повернул голову.
– Узнаете в пункте назначения.
– А кормиться как мы будем? – снова спросила старуха.
– Объявлено было – в дорогу брать харчи. Горячей пищей будут обеспечивать раз в день… Если на станции ее приготовят к прибытию эшелона… И на печурке этой можете что-нибудь свое согреть. Вон дрова рядом положены, потом еще выдадут.
– А нужду где справлять? – не унималась старуха с бельмом. – Ежели ждать от станции до станции, то и вытерпишь не всегда.
– Выводить на остановках, чтобы оправится, – запрещено. Это приказ товарища Жучинского… Вон ведро – пользуйтесь. А под ведром в полу дырка есть – когда оно полное, чтобы туда вылить.
– Мужики при бабах, бабы при мужиках?.. Рази это по-людски?
Охранник не успел ответить. Сбоку от него, в проеме двери, возникла внезапно низкорослая фигурка в шинели с рыжеватым отливом. Это Жучинский обход эшелона совершал. Лицо перекошено от злобы.
– Да ты что с врагами этими церемонии разводишь?! Вопросы, ответы… Пусть спасибо скажут, что я их еще по стенке пулеметной очередью не размазал! Не покаялись перед советской властью – хлебайте теперь собственное дерьмо большой ложкой! – Жучинский повернулся в сторону головного конца эшелона, закричал тонким голосом: – Двери замкнуть!..
Заскрипела, закрываясь, дверь, сразу потемнело в вагоне. Было слышно, как снаружи щелкнул навешенный на дверные петли замок. Дернулся эшелон и начал медленно набирать скорость. Задвигались в вагоне люди, стали развязывать мешки, доставать харчи – завтракать пора.
Соскользнула с верхних нар Настенька, зашепталась со своими.
– Маменька, Фросенька, охранник-то, который приказ говорил, знаете кто?.. Степка Назаренко это – из тех Назаренок, что за сельсоветом живут. Помните, дед его покойный дьяконом в церкви служил?.. В прошлом году Степка школу нашу кончил, и его в армию забрали. Вон где оказался.
– Изменился-то как, не сразу и признаешь, – удивилась Катерина. – Да ведь он еще ухаживать за тобой хотел? Это Степка что ли провожал тебя тогда вечером из школы до дому? А у ворот его уже Василь поджидал – в руке черенок от лопаты.
– Батя, он такой, – вздохнула Фрося. – Он и Миколу моего поначалу отвадить старался. Тоже по спине его черенком огрел, когда мы целовались у плетня. Микола горячий, ни от кого бы не стерпел, но тут сдержался, уважение старшему показал. Больно любил меня…
– Да погоди ты все про своего Миколу, – перебила Фросю мать. – Настенька, запамятовала я – а потом Степка этот от тебя отстал?
– До дому провожать я ему больше не велела. А в школе на переменках он все возле меня держался. В армию когда брали, просил, чтобы ждала его. Мол, вернется и посватается. Только нравился он мне не очень. Да и знала я: батя никогда согласия не даст. Ведь Степка – даром что дед у него дьяконом был – все в комсомолии крутился.
Сидел рядом дед Василь, не прислушивался к женской болтовне. Держал в руках Библию – нацепив очки, пытался читать в полутемном вагоне.
Соседи уже завтракали. Увидела это Катерина и стала тоже мешки с харчами из-под нар доставать. Заготовила она к дальней дороге свежесоленого сальца – еще в прошлом месяце двух кабанчиков под нож пустили. Да сухарей насушила мешок. Да еще разной снеди припасла…
После завтрака забрались опять Настенька и Гришка наверх. Улегся он на нары и вспомнил Кудлатого, их пса, участника всех дворовых игр. Вчера вечером, перед тем, как уйти с Ганной на мельницу, запер Захар пса в сарайчике – чтоб тот на незваных гостей не бросился. Наверное, вернулись уже Захар с Ганной домой, выпустили Кудлатого во двор. Бегает тот по усадьбе, нюхает запертую дверь дедовой хаты, чует, что там нет никого. А куда подевались, понять не может, скулит растерянно. Пожалел Гришка пса. Потом и себя тоже. Всхлипнул и, чтобы Настенька не заметила, повернулся к ней спиною.
А Настенька была в воспоминаниях. Закрыла глаза и увидела школьные дни, когда Степка обхаживал ее, уговаривал в комсомолию податься. Коммунизм, говорил он, дергаясь от восторга, это светлое будущее для всех людей. Построим его вместе с тобой – и никакого небесного рая не надо. На земле он наступит, станут люди истинными братьями. Глаза блестели – верил, дурачок. Вон чем братство это обернулось.
Тихо было в вагоне. Лежали на нарах люди, думали невеселые думы. Иногда вставали мужики, подходили по нужде к ведру. А бабы, те дотерпеть старались, когда темнота наступит, чтобы не так стыдно. Только давешняя старуха с бельмом на глазу – Гришка уже знал, что зовут ее Пелагея, – встала с нар, тяжело вздохнув, присела над ведром, задрала сзади подол. Застеснялся Гришка, прикрыл глаза ладошкой.
Часто останавливался эшелон. Но дверь оставалась закрытой. Открылась она только под вечер – стоит снаружи Степка Назаренко, в руках ведра с водой. Подал их внутрь вагона.
– У кого чайники и котелки есть, запасайтесь водой.
– А ты еще про пищу горячую говорил? – напомнила Пелагея.
– Не приготовили они ничего на станции этой, – хмуро ответил Степка. – До завтра ждите…
Ночною порой заснул вагон, захрапел на разные голоса. Темно было – только в печурке тлели угольки, через щелку под дверцей бросали красноватый отсвет на пол.
Не спалось Настеньке. Повернулась она к Гришке, крутившемуся во сне, поправила на нем полушубок, что лежал поверх одеяла. И тут почудилось ей, что снаружи, как раз на уровне ее головы, вроде стук какой-то в стенку и даже голос слышится. Распознала она: Степкин это голос.
Позади последнего вагона, по инструкции, смотровая площадка располагалась. Что-то вроде тамбура, только открытого с трех сторон для лучшего обзора. День и ночь надлежало находиться на смотровой площадке вооруженному охраннику. Выдавали ему на этом посту теплый тулуп, да все равно пробирал на ветру холод. Когда вызвался Степка отстоять там вне очереди ночные часы, заменить заболевшего напарника, никто возражать не стал. Даже Жучинский похвалил за товарищество…
Приблизила Настенька ухо к деревянной стенке. Сочились сквозь стенку слова:
– Настасия, это я, Степан… Настасия, ты меня слышишь?
– Слышу…
– Я тебя все вспоминал. Думал, вернусь в село, и свидимся. А вон как встретиться довелось. Ты меня слышишь?
– Слышу…
– А больше никто не слышит?
– Никто…
Настенька на нарах с краю лежала. С одной стороны у нее боковая стенка вагона, с другой – Гришка во сне сладко посапывает. А на нижних нарах под ней батя расположился, он глуховат, даже если сейчас не спит, так все равно не услышит.
– Открыться тебе хочу. Про то, какой дурак я прежде был. Звал тебя в рай, да оказался ад сущий. За год службы такого насмотрелся… И еще, наверное, душа деда-дьякона с того света меня вразумила. Понял: для антихристов этих жизнь человеческая ничего не стоит. Ты меня слышишь?
– Слышу…
– Я все убежать собирался. Рассказывали бывалые люди – затаились в северной тайге раскольничьи деревушки. Там еще от антихристов этих схорониться можно. А теперь, когда мы с тобой встретились, узрел я перст своей судьбы. Не первый эшелон на Север сопровождаю. В Архангельске запрут вас спервоначалу в бывшем монастыре, что за рекой… Или пропаду, или умыкну тебя оттуда. И тогда спасемся вместе.
– А нас не в Сибирь разве везут?
– Нет, в Архангельск. Только никому не говори… Вроде машинист торможение начал? Значит, останавливаемся сейчас – старший по караулу с собакой обход будет делать. Давай так порешим. Если когда днем увидишь меня в двери и уши на шапке моей не как сегодня, не сверху завязаны, а опущены вниз – это знак. Понимай, что ночью мне стоять тут, на смотровой площадке, и мы поговорить сможем. Ты тогда не спи…
И потянулись дни заточения. Стучали колеса по рельсам, раскачивало вагон из стороны в сторону – хвостовой вагон сильнее других раскачивает. Останавливался эшелон чаще всего на полустанках – в поле или в лесу. А если на большой станции, то на задних путях, подальше от пассажирских платформ, чтобы вида не портить. Стоял долгими часами, пропуская составы, более важные для строительства социализма. Горячая баланда перепадала на станциях, дай Бог, раз в два дня. А иногда просто хлеб кидали в открытую дверь, восемь буханок на вагон. Хорошо хоть, что у Иванчуков харчей своих еще в достатке было. Тяжелее с водой приходилось. Худо-бедно, для питья ее хватало. Но помыть не то, что тело, даже лицо и руки было нечем. Вшивели люди. Поносы начались – уже и бабы не стеснялись, усаживались на ведро при всем честном народе. Смрад стоял в вагоне.
От всего этого один мужик в соседнем вагоне умом даже тронулся. А может, и до того еще тронутым был. Ведь если в семье «первой категории раскулачки» кто-то не в уме был, на это не смотрели – семью забирали подчистую… Однажды остановился эшелон на полустанке, отворились двери. И вдруг из соседнего вагона сиганул с визгом мужик, побежал по снегу, петляя из стороны в сторону, как заяц. На что надеялся? Одет легко, ни полушубка, ни шапки, а мороз трескучий. Если бы и добежал до кромки леса – дальше-то что? Но не дали ему добежать, открыл караул прицельный огонь. Повалился мужик лицом в снег. Подскочил к нему Жучинский, пнул сапогом уже мертвого. Потом, схватив за ноги, поволокли охранники тело вдоль эшелона – на спине кровавое пятно сразу ледяной корочкой покрылась. Поспевал сзади Жучинский, заглядывал в открытые двери вагонов, кричал тонким голосом: «Кто следующий? Давай прыгай, окажи мне такую радость!»
К тому времени у Фроси беда с грудным молоком приключилась. Сказала ей Настенька по секрету, что их не в Сибирь везут. Поняла Фрося – не видать ей Миколу. Начала плакать часто. То ли от переживаний этих, то ли от пищи плохой пошло у нее молоко на убыль. Стало его не хватать грудничку Митюхе. Осунулся тот, сперва от голода кричал громко, потом поутих, сонливым сделался. Спасибо Пелагее, старухе с бельмом. Увидела она Фросины мучения с Митюхой и насоветовала, как подкармливать его. Брала Фрося в рот хлебный мякиш, жевала долго, слюной пропитывала, а потом заворачивала мякиш в марлечку. Сосал этот мякиш в промежутках между грудными кормлениями Митюха. И вроде поживее стал.
А у Катерины чуть не каждый день случались приступы. Она валилась на нары, прижимала ладонь к груди. Приоткрыв рот, дышала часто. Испуганно суетился Василь, подушку ей под голову подкладывал, воды давал попить. Проходило несколько минут – слава Богу, отпускал приступ. Но однажды вечером затянулся. На лбу Катерины пот выступил, глаза полузакрыты. Сгрудились вокруг Василь, Фрося, Настенька. А чем помочь, не знают. Только через час полегчало. Открыла Катерина глаза, слабо улыбнулась семейным.
– Спать ложитесь, девоньки, время позднее. Не волнуйтесь… А ты, Василь, что целый час на ногах топчешься? Садись рядышком. Помнишь, в молодые годы на посиделках возле меня всегда пристраивался? Чтобы никакой парень и близко подойти не смел… Хорошо мы с тобой жизнь прожили… Дай-ка мне Библию. В темноте ее не больно почитаешь, да пусть поближе будет. И сам давай укладывайся. Уже полегчало мне.
Когда начало светать, проснулся Василь. Спит рядом Катерина, лицо умиротворенное, рука на Библии. Тронул жену, а она холодная – ночью тихо отошла… Прижался Василь лбом к ее застывшему плечу, беззвучно заплакал. В это время сонный Гришка спускался со своих нар к ведру. Из-под полуприкрытых век кинул взгляд на деда и сразу понял: бабка умерла. Больше, чем смерть бабки, испугал его почему-то вид плачущего деда. Первый раз в жизни видел Гришка, чтобы тот плакал.
Три дня оставалось тело в вагоне. Накрытое белой простыней, лежало на полу возле боковой стенки. Там, между полом и стенкой, щель была – пальцы наружу просунуть можно. Дул в эту щель ледяной ветер, студил тело, не так пахло от него. На четвертый день затормозил эшелон где-то в лесу. Двое охранников вытащили из вагона легкое старушечье тело, завернутое в простыню. Отошли на три шага в сторону. «Вы хоть ямку какую выройте» – упрашивал Василь. Куда там, бросили тело прямо на снегу. Потом вернулись к двери вагона, исправили мелом число людей в вагоне, на одного меньше сделали.
После смерти жены сразу сдал Василь, ссутулился, даже усох вроде. Целыми днями сидел молча в своем углу на нарах. Держал Библию в руках – не читал, просто держал.
Порой выпадал на долю Степки Назаренко ночной пост на смотровой площадке в конце эшелона. Шептался он тогда с Настенькой через вагонную стенку, годы прежние вспоминал, строил планы, как вызволит ее из неволи. Не очень верила тем планам Настенька. Знала она Степкину особенность – намечтать несбыточное, наговорить с три короба и самому в эти мечтания поверить. Да все-таки приятно было, что любит он ее, а при случае помочь постарается – и ей, и родным ее в судьбе их страшной.
Однажды ночью остановился эшелон на маленьком полустанке. Старший по караулу с собакой на поводке обошел эшелон и запрыгнул поскорее обратно – в тепло пассажирского вагона, где конвой размещался. Зашептались снова Степка и Настенька. Рассказала она о голодном Митюхе, которого Фрося прикармливает разжеванным хлебом в марлечке.
– Постой, – сообразил Степка. – Для чая нам вчера сахар выдали, кусочки эти в кармане у меня. Чай можно и несладким пить, лишь бы горячим был. Сейчас я сахар тебе просуну – через ту щель, что сбоку вагона. Будет Фрося сахар в тряпочку добавлять. За такое дело, глядишь, скостит Господь хоть немного вину мою тяжкую, что у антихристов охранником служу.
Еще стоял эшелон. Потрескивали на ночном морозе деревья в лесу. Высунул Степка голову со своей площадки, бросил взгляд вдоль вагонов – никого на путях. Соскочил он на землю, подбежал к щели, стал запихивать в нее кусочки сахара.
– Спасибо, спасибо, – шептала Настенька, лежа на полу возле щели и подбирая сахар.
Следом за сахаром протиснулась сквозь щель Степкина ладонь.
– Любовь моя единственная, – послышался его голос. – Так у меня душа болит и за тебя, и за всех людей этих неповинных… Дай хоть за ручку подержу.
Она протянула, было, руку. Но тут тронулся эшелон! Дернулась, застряла в щели ладонь. Ахнула Настенька, стала судорожно помогать ладони из западни выбраться. А колеса стучат все быстрее. В последнем усилии, обдирая в кровь кожу, высвободилась, наконец, ладонь, исчезла. И сразу снаружи вроде хруст раздался, вроде чуть тряхнуло вагон.
Лежал на насыпи коченеющий Степка. Тулуп распахнут, обе ноги отрезаны. Уж точно – в минуту эту простил ему Господь все грехи… Затих вдали стук колес, поперхнулся прощальный паровозный гудок.
Больше пяти недель добирался эшелон до Архангельска. Кончились харчи, оголодали люди. Как-то под утро услышал Гришка в последний раз – проскрипели тормоза под вагоном. В рассветной морозной дымке остановился эшелон на задних путях, растянулась вокруг цепь вооруженной охраны. Открылись двери, стали выводить людей из вагонов, строить в колонну. А тех, кто идти уже не мог, выносили родственники, укладывали на сани. Впереди еще предстояли раскулаченным месяцы заточения в бывшем монастыре за Северной Двиной, Степка правильно предсказал. А потом – рабские годы на «спецпоселении».
Вспоминался тот страшный эшелон Григорию всю последующую жизнь – и когда в начале войны в армию его забрали, и когда попал к немцам в плен, и когда после войны повезло ему, сумел остаться на Западе. Мучил Григория вопрос – за что? За что разорили деревню, переломили ей хребет, стерли в порошок самых разумных и работящих? Какая во всем этом польза была для отечества?
2000Неоконченное письмо
Привет, Майки. Обращаясь к тебе, использую свое имя. Почему – поймешь дальше. Оставшиеся дни я решил посвятить этому письму. Поверь, оно очень важно для тебя. Чтобы ты не повторил моих ошибок. Никогда не писал таких длинных писем – даже не знаю, как и начать… Извини, если рассказ мой получится сбивчивым. Но все равно ты должен дочитать до конца. Обещаешь, Майки?
Сижу за привинченным к стене столиком. На нем стопка бумаги, которую по моей просьбе принес утром усатый неразговорчивый надзиратель. Карандаш в потных пальцах вяло ползет по листу. Душно в камере. На руке набухли темно-синие вены… Хорошо, что они у меня такие крупные, будет легко попасть иглой. Хотя об этом не стоит и беспокоиться – тут работают профессионалы, опыта не занимать. Сначала из капельницы в вену поступит раствор, вызывающий глубокий наркоз. Потом – вещества, которые остановят работу дыхательных мышц и сердца. На все уйдет минут десять. Быстро, безболезненно, «гуманно». Не правда ли, забавное словосочетание – «гуманное убийство»?
Опять эта муха… Она появилась несколько дней назад, залетела, наверное, через вентиляционную трубу. Поначалу я решил просто прихлопнуть ее старой газетой. Размахнулся… И не ударил. Кажется, тоже стал «гуманистом». Ладно, пусть живет. Теперь мы – друзья, я подкармливаю ее. Вон уткнулась хоботком в стол, на нем я нарочно оставил после еды несколько капель супа. Даже имя ей дал, оно вполне соответствует месту, где нам довелось познакомиться, – Немезида…
Справедливо ли то, что собираются со мною сделать? За долгие месяцы в этой одиночной камере было достаточно времени поразмыслить. Конечно, в душу любой живой твари на Земле изначально впечатан страх смерти. Но если хотя бы на минуту освободиться от него, бросить взгляд со стороны, становится ясно: я это заслужил. За все, Майки, рано или поздно надо платить.
На моих руках кровь. Кровь убитых мною прокурора и его охранника. Кровь полицейского, которого я ранил в банке. И самое страшное – кровь Синтии. Теперь не могу простить себе всю эту кровь. А тогда действовал, как робот… Вспоминаю глаза Синтии. Отрешенные, уставившиеся в какую-то немыслимо далекую точку на горизонте. Она уже знает, что должно произойти. Она уже не здесь. Синтия стоит на коленях на дне заброшенного песчаного карьера. Ее руки связаны за спиной, губы заклеены липкой лентой. Вверху, над карьером, безмятежно покачиваются в предвечернем воздухе верхушки сосен. Глухо в лесу. Стою за спиной Синтии. Каким тяжелым стал автомат. Его дуло почти касается затылка Синтии, покрытого рыжими волосами в крупных завитках. «Стреляй!» – пронзительно звучит команда с края карьера. «Стреляй! Стреляй!» – отдается эхо. Мой палец (вот этот самый, который лежит сейчас на карандаше) нажимает на спусковой крючок. Падает тело Синтии – лицом в песок. Багровая кашица выползает из темной, страшной дыры на ее затылке.
По склону карьера скользит вниз Урсула. С нею мы привезли сюда Синтию – для исполнения приговора. Глаза Урсулы торжествующе блестят. «Ты доказал свою верность революции, – кричит она, – ты заслужил награду!» Она подбегает ко мне, вырывает из рук автомат, все еще направленный в ту точку пространства, где минуту назад был затылок Синтии. Отбрасывает автомат в сторону. «Я хочу тебя! Я хочу тебя прямо сейчас, прямо здесь!» Прыгающие пальцы Урсулы расстегивают мой пояс… Мы валимся на песок.
Я занимаюсь любовью молча – в отличие от Урсулы. «Бери меня, бери меня всю! – стонет она. – А теперь ложись на спину! Скорей!» Она остается командиром даже во время наших любовных игр. Я безоговорочно и сладостно подчиняюсь ей. Рядом остывает тело Синтии…
Синтия была послана на задание – уточнить расположение телекамер в зале банка, намеченного нами к «экспроприации». Тогда и обнаружила Урсула под подушкой Синтии не дописанное ею письмо к матери. Письмо рассказывало об ужасе жизни в подполье, о пролитой крови, о мечте вернуться в родительский дом. И, конечно же, не было никакой гарантии, что, вернувшись, Синтия не выдаст – вольно или невольно – нашу «Революционную армию». Такое письмо нельзя было оставить без внимания, не принять мер. Так, во всяком случае, мне тогда казалось. А теперь думаю, что не только революционный долг двигал Урсулой, когда она вынесла приговор пришедшей с задания «предательнице».
Я любил ее. Урсулу… Слово «любовь» тут, пожалуй, не совсем точно. Как бы тебе получше объяснить, Майки… Это была слепая страсть. Мой прежний любовный опыт ограничивался парой молоденьких студенточек из нашего колледжа. С ними было так приятно порезвиться на танцульках. А потом и в постели. Но когда волей случая в мою жизнь вошла Урсула, я вдруг осознал – вот это и есть бездна любви, все предыдущее было лишь ее жалкой имитацией. Почему? Кто знает… Нет таких весов, на которых можно взвесить произведение искусства. Почему, например, вот эта музыка потрясает тебя, а та – оставляет равнодушным. Так и в любви. А еще в нашем случае имела значение несхожесть характеров, мы как бы дополняли друг друга. В любой группе Урсула, даже не стремясь к этому, оказывалась в центре, обретала роль лидера. Мне же была предначертана, генетически предначертана – запомни это Майки – роль ведомого.
Погода испортилась. За окном, за тюремной решеткой, – косые струи дождя. В камере сразу похолодало. Но это все-таки лучше, чем вчерашняя жара…
Все пять лет существования «Революционной армии» я оставался верным оруженосцем Урсулы. И ее мужчиной. Последнее, впрочем, не совсем точно. Урсула, наш главный идеолог, отвергала лицемерную мораль общества, которое мы собирались разрушить. Любовные отношения между солдатами «Революционной армии» легко начинались и легко обрывались. И все прочее в этом смысле было дозволено. У нас были свои гомики: Тимоти и женоподобный Альберт (которого про себя я беззлобно именовал «Альбертой»). Были лесбиянки Хелен и Хильда – они периодически ссорились по мелочам, расставались на время, даже заводили поклонников среди наших ребят, но потом неодолимая сила любви бросала их опять в объятия друг друга. И все же негласно считалось, что мужчина Урсулы – это я. Бывало, она проводила ночь с кем-нибудь другим. Но потом всегда возвращалась ко мне. Однолюб по натуре, я переживал каждый такой случай, хотя старался не подавать вида.
Однако случилось так, что к нам присоединился Билл. Хакер-самоучка, он сумел проникнуть внутрь компьютерной системы одного из нью-йоркских банков и путем хитроумных комбинаций умыкнул оттуда крупную сумму. Деньги он быстро истратил и, разыскиваемый полицией, нашел прибежище в нашей «Революционной армии». Ее большинство составляли недоучившиеся студенты вроде меня. А Билл происходил из рабочей среды, прежде он был механиком, ремонтировал автомобили. Урсула считала его появление в наших рядах следствием того, что «Революционная армия» получает все большее признание со стороны рабочего класса – наиболее угнетаемой, как она говорила, части общества. Урсула надеялась, что хакерские таланты Билла обеспечат обильный приток средств на нужды революции.
Биллу было двадцать восемь, как и мне тогда. Хотя выглядел он старше. Массивный, хриплоголосый. Не могу понять, чем он приглянулся Урсуле. Однажды ночью она оказалась на его матрасе. Там и осталась. Через неделю, улучив момент, когда мы были одни в комнате, я спросил Урсулу, почему она покинула меня. «Я не покинула тебя, Майкл, – она медленно подняла на меня свои зеленые, кошачьи глаза. – Мы, как и прежде, остаемся близкими товарищами по революционной борьбе. А секс – это не главное. Если тебе одиноко по ночам, попроси кого-нибудь скрасить одиночество». И она опять наклонилась к столу, где лежал, ожидая смазки, ее автомат «Узи».
Потом я сошелся с Синтией. Она была младше меня на шесть лет и, значит, на девять лет младше Урсулы. Наивные, покорные глаза, худенькие плечи… И все же, все же в душе моей продолжала царствовать Урсула. Воспоминания о прежней близости с ней, о ее гибком, сильном теле не давали мне спать по ночам. Понимаешь, Майки, это было как наваждение, как гипноз.
Внешне ничего не изменилось в отношении Урсулы ко мне и Синтии. Но мне ли было не знать Урсулу. Иногда я ловил ее быстрый, холодный взгляд в сторону Синтии. Неужели Урсула ревновала?.. Перебирая сейчас в памяти те дни, склоняюсь к мысли: так оно и было. И все-таки не уверен, действовала ли Урсула по заранее обдуманному плану, когда в отсутствие Синтии устроила тот обыск. Возможно, это случилось импульсивно – Урсула сама не осознавала до конца, что ею движет. Но с другой стороны, почему вынесенный ею приговор был столь беспощадным? И почему именно мне был отдан изуверский приказ – привести приговор в исполнение? Как страшно теперь вспоминать об этом…
После того, что произошло в песчаном карьере, Урсула снова вернулась ко мне. Биллу была дана отставка. А вскоре он подло дезертировал из наших рядов. Посланный с «Альбертой» на задание, Билл попросил того подождать минутку, заскочил в общественный туалет и незаметно улизнул через другую дверь. Видимо, его тяготила беспрекословная дисциплина, которую Урсула насаждала среди солдат революции.
Теперь, Майки, расскажу о Джейкобе. Ведь именно он в прямом смысле приложил руку к твоей судьбе.
Мы дружили с Джейкобом с детских лет. В школьной команде по баскетболу я играл центральным нападающим, а Джейкоб, уже тогда полноватый, выходил на замену в качестве защитника. Потом, когда мы оказались в одном колледже, дружба наша стала еще крепче. В колледже Джейкоба интересовали прежде всего предметы в области биологии и медицины – он собирался стать врачом. А меня привлекали общественные науки. Но свободное время мы проводили вместе. В ту пору он, как и я, как и большинство студенческой молодежи, находился под влиянием левацкой идеологии. Мы вместе участвовали в шумных митингах и демонстрациях, восторженно скандируя лозунги против глобализации экономики, против лживой буржуазной морали, против злодеяний полиции, против голода в странах Африки, в чем, конечно же, был виноват лицемерный Запад. Однако все больше времени Джейкобу приходилось посвящать изучению своей будущей специальности. Постепенно он отдалялся от наших игр в политику. Пожалуй, сходный путь – раньше или позже – проделал бы и я. Если бы не встретил Урсулу…
Годы спустя доктор Джейкоб Лоренс стал преуспевающим специалистом в области медицинской генетики. Но дружба наша сохранилась. В трудную пору, когда ФБР вышло на след «Революционной армии» и угроза ареста нарастала с каждым днем, именно Джейкоб приютил меня. Урсулой тогда было принято решение – всем уйти поодиночке в глубокое подполье. Каждый из нас должен был затаиться в безопасном укрытии, пока не получит от Урсулы приказа о дате и месте новой встречи. (Копы ворвались в наше опустевшее жилье через сутки после того, как я последним покинул его. Они обнаружили там засаленные матрасы, мусор на полу да издевательский рисунок на дверце кухонного шкафчика, плод совместного творчества Хелен и Хилды, – жирная свинья в полицейской фуражке).
Людей, готовых дать нам прибежище, Урсула объединяла термином «сочувствующие». Таких было немало среди либеральной интеллигенции – журналисты, адвокаты, врачи, даже священники. Однако ко времени моего появления в холостяцкой квартире Джейкоба он уже вряд ли мог считаться «сочувствующим». Его все больше ужасали средства, к которым прибегала «Революционная армия» для достижения своих целей. Мы проспорили об этом немало часов. Оставаясь моим верным другом, Джейкоб безуспешно пытался втолковать мне, что на смену несправедливости и злу, существующим в современном мире, наше движение несет лишь еще большее зло. Он уговаривал меня порвать с «Революционной армией», уехать из страны, начать новую жизнь. Но уговоры не действовали. Я ни словом не обмолвился об Урсуле, о том, что у меня никогда не хватит сил оставить ее…
Именно в те дни, когда я скрывался в его квартире, у Джейкоба и возникла идея, которая, Майки, имеет к тебе самое непосредственное отношение.
Научные исследования Джейкоба были посвящены проблеме клонирования. Он с увлечением рассказывал о своей работе. Да и у меня свободного времени в те недели было предостаточно – некоторые книги по медицинской генетике, лежавшие на письменном столе Джейкоба, я прочитал от корки до корки. Надеюсь, суть проблемы ухватил верно. К тому времени были достигнуты серьезные успехи – получены первые жизнеспособные клоны разных видов животных. (Как бы получше объяснить тебе, Майки, этот термин – «клон»… Являясь полной генетической копией исходного организма, клон похож на него, как похожи однояйцовые близнецы, которых и мать родная не всегда в состоянии различить). На очереди стояло клонирование человека. Именно эту задачу пытался решить Джейкоб. Задачу намного более трудную, чем предыдущие. Но он утверждал, что уже виден свет в конце тоннеля.
Однажды вечером, вернувшись из лаборатории, Джейкоб застал меня в обычной позе – глубокомысленно склонившимся над каким-то трактатом по клонированию. Глаза Джейкоба сквозь толстые линзы очков выглядели непривычно грустными. Он мягко положил руку на мое плечо.
– Твои планы не изменились – уходишь послезавтра? – спросил он. Я кивнул утвердительно. Накануне в условленном месте, под сиденьем скамейки в парке, я обнаружил, наконец, клочок бумажки, прикрепленный липкой лентой. Это был приказ Урсулы – о времени и месте сбора нашей группы.
– Так меня и не послушался… Боюсь, на избранном пути ты рано или поздно сложишь голову, – глухо сказал Джейкоб. – Пообещай хотя бы, что выполнишь мою просьбу. Она простая…
Джейкоб хотел заполучить и в замороженном виде хранить в лаборатории кусочек моей кожи. А потом использовать – когда техника клонирования человека будет полностью отработана. Идея создания моего клона в первый момент показалась мне чем-то фантастическим, несерьезным. Засмеявшись, я отказался. Но Джейкоб настаивал:
– Пойми, если суждено погибнуть, этот клон даст тебе как бы вторую жизнь! Он будет до мельчайших подробностей воспроизводить не только внешние черты, твою улыбку, отпечатки пальцев или, например, твою любовь к сладостям. Клон сохранит твой характер, особенности мышления.
– А значит, опять с неизбежностью повторятся и все ошибки моей жизни? – спросил я.
– Не обязательно. Если клон получит другое воспитание, чем получил ты, тогда и его жизненный путь может стать в той или иной мере другим. Да и просто элемент случайности, подстерегающей на этом пути каждого человека, тоже играет свою роль.
Он долго уговаривал меня в тот вечер. В конце концов, я согласился. Понимаешь, не смог отказать своему доброму другу в такой пустяковой просьбе. Я пожертвовал на алтарь науки кусочек кожи. Его вырезал Джейкоб ниже моей правой коленки.
Теперь на этом месте – небольшой белесоватый шрам. Иногда, задрав штанину, я разглядываю его. И мысль о моем повторном появлении на свет в виде клона уже не кажется смешной. С нею мне почему-то легче доживать оставшиеся дни в этой камере. Таким клоном, Майки, являешься ты. Вернее, станешь – через несколько лет.
Первые годы двадцать первого века ознаменовались в мире невиданным размахом терроризма. Его главной источник – исламские страны с их религиозным фанатизмом, нищетой, с их откровенной ненавистью и подспудной завистью к сытому благополучию Запада.
Но и на Западе начало нового века тоже совпало с очередным подъемом революционного движения. В первых рядах шла, как всегда, молодежь. На улицы европейских и североамериканских городов выплескивались – по всякому поводу и без повода – шумные демонстрации. В них дружно участвовали анархисты, антиглобалисты, борцы против экологического загрязнения, прочие «революционеры» всех мастей. Экстремистские лозунги, стычки с полицией, разбитые окна, перевернутые автомобили. Разрушать, Майки, всегда проще, чем созидать… Что объединяло всех этих молодых крикунов, таких разных по своим устремлениям? Тогда, находясь в их рядах, я наблюдал их как бы изнутри. Теперь, «на пороге вечности», вглядываюсь уже со стороны. Думаю, общим для большинства «революционеров» был все тот же подспудный комплекс неполноценности. Не сумев найти своего места в этом непростом мире, всю вину они перекладывали на него… Участникам демонстраций было так приятно ощущать собственную значимость. О них на первых полосах писали газеты, сообщало телевидение. Их воспринимали всерьез даже главы могущественных государств Запада, привлекая для охраны своих ежегодных совещаний усиленные отряды полиции, воинские подразделения…
И опять эта муха под руку лезет… Да не мешай ты, Немезида!
Урсула, однако, считала, что демонстраций и уличных беспорядков уже недостаточно, что назрело время вооруженной борьбы. Она планировала создать по всей стране – раньше или позже – сеть подпольных боевых ячеек наподобие нашей. А потом развязать гражданскую войну и свергнуть существующий прогнивший режим. Что должно было прийти ему на смену? Пожалуй, и Урсула представляла это не совсем ясно. Главным для нее был сам процесс борьбы, «разрушение устоев».
Ее детство было благополучным. Она отлично училась в школе и университете. Быстро защитила диссертацию в области экологии. Экологические проблемы и стали отправной точкой ее борьбы с существующим строем. О начальных этапах этой борьбы я знаю немного – только из отрывочных рассказов Урсулы. В ответ на шумные протесты по поводу все возрастающего загрязнения планеты американские власти были вынуждены принимать какие-то меры. Но серьезного влияния на капиталистическую экономику, единственная цель которой – прибыль, подобные меры оказать, конечно же, не могли. И настал день, когда, поняв это, Урсула с двумя единомышленниками перешла от слов к делу.
Объектом акции протеста она избрала одну из атомных электростанций. Работа таких электростанций сопряжена, как известно, с опасностью радиоактивного загрязнения окружающей среды. Сумка с самодельной бомбой была незаметно оставлена в стенном шкафу – в приемной у директора станции. Что-то не сработало в таймере. Вместо часа ночи взрыв прогремел в полвосьмого вечера. В приемной были выбиты окна, а самое главное – смертельно ранена находившаяся там уборщица. Это была первая кровь, которую пролила Урсула.
На следующий день оба ее сообщника были арестованы. Фотографии Урсулы, разыскиваемой ФБР, появились в газетах. Но ей удалось ускользнуть – через дырявую, как и теперь, мексиканскую границу. В конечном итоге она нашла прибежище в одной из арабских стран – то ли в Судане, то ли в Йемене (даже в разговорах со мной Урсула не особенно распространялась об этой поре своей жизни). Там, в лагерях террористов, она прошла боевую подготовку. Ее учили обращению с оружием, искусству рукопашного боя, изготовлению бомб, методике направленных взрывов.
Как-то наедине с Урсулой я спросил, какие чувства испытывала она к своим учителям, – ведь многое в их идеологии и целях было для нее совершенно неприемлемо. Прежде всего, их изуверское отношение к женщине.
– Я ненавидела это, но старалась не показывать, – ответила она. – А со мною лично они вели себя нормально. Они не воспринимали меня как женщину, я была в их глазах просто союзником в борьбе с «большим сатаной». Кроме того, они понимали, что в их среде я не задержусь – вернусь обратно, в свое буржуазное общество, чтобы разрушать его.
– Но от равноправия женщин и от других демократических свобод не останется и следа, если исламские фундаменталисты в конечном итоге завоюют мир. Стоит ли вступать с ними в союз?
– Да, стоит, – отчеканила Урсула. – Сколько раз объяснять тебе, Майкл, разницу между революционной тактикой и революционной стратегией? Ради победы мы готовы вступить во временный союз хоть с чертом. Однако наши стратегические цели остаются неизменными – полная свобода человеческой личности.
– Но вот предположим: наша революция восторжествует в странах Запада, а над остальной частью Земли взовьется зеленое знамя исламского фундаментализма. Что тогда?
– Тогда наша революция и вступит в завершающую фазу. Победив в странах Запада, мы без колебаний пустим в дело его ракетно-ядерный арсенал. Без малейших слюнтяйских колебаний!.. Помнишь «черный вторник» – сентябрь 2001 года? С той поры минуло уже немало лет, а тягучей войне Запада с этими фанатиками-самоубийцами конца не видно. И все потому, что у нынешних дегенеративных правителей Запада не хватает решимости нанести ядерный удар, стереть с лица земли какие-нибудьтри-четыре исламских государства. Прочие сразу же станут покладистыми. Разве исламисты колебались хотя бы минуту, имея подобное ракетно-ядерное преимущество? Как бы не так!.. Ты прав, Майкл, – использование ядерного оружия унесет миллионы жизней. Десятки, если не сотни. Но другого выхода нет. А ко всему, число людей на Земле давно перевалило за все разумные пределы, угрожая полной экологической катастрофой. Уж лучше сократить численность человечества подобным образом, чем если бы те же сотни миллионов медленно умерли от голода.
Никогда прежде, даже наедине со мной, Урсула не говорила так откровенно о том, какими ей видятся грядущие революционные свершения. Ее зеленые глаза блестели, исполненные мрачной силы. Внешние враги, конечно же, не могли ждать от нее пощады. Тогда я спросил об отношении победившей революции к возможным внутренним врагам.
– Внутренние враги не просто возможны, они неизбежны! И уговоры на них никогда не действуют. Загляни в историю – сколько революций провалилось лишь потому, что была проявлена мягкотелость. Да, насилие противоречит нашему принципу свободной человеческой личности. Но ведь насилие будет необходимо только на первом этапе построения нового общества. А потом непременно наступит торжество истинной общечеловеческой свободы! Мы с тобой, Майкл, еще увидим это собственными глазами. Непременно!..
Через три года после своего бегства из Соединенных Штатов Урсула под чужим именем вернулась обратно. И приступила к созданию «Революционной армии». Молодой крикун-левак, я вступил в ее ряды одним из первых. Хотя не меньшую роль сыграла, не могла не сыграть моя любовь – я пошел за Урсулой, как теленок на веревочке… Вот замечаю у себя эту не очень привлекательную черту – перекладывать ответственность за выбор собственного пути на чужие плечи. Но ведь так оно и было! Если бы его величество случай не свел меня с Урсулой, жизнь моя могла сложиться совсем по-иному. Сидел бы я сейчас не в камере смертников, а, например, в мягком кресле преуспевающего адвоката. Да что толку гадать теперь…
Отношение, которое я испытываю к тебе, Майки, какое-то двойственное. Иногда мне кажется, что это письмо я пишу собственному сыну. Ведь ты появишься на свет после меня, из кусочка моего тела, в качестве моего продолжения на Земле. А потом вспоминаю: с точки зрения генетики я не твой отец, я твой брат-близнец. И значит, мои родители – они и твои тоже.
В раннем детстве мама любила обряжать меня в платьица, как девочку. Не скажу, чтобы это мне нравилось. Но я никогда не возражал, я был послушным ребенком. Мама звала меня «Майки косолапый» – при ходьбе я загребал носками внутрь. Потом, уже подростком, мне пришлось долго делать специальные упражнения, чтобы избавиться от этой походки. У тебя, Майки, будет такая же походка, она передается с генами. Но походку все-таки можно исправить. Как и некоторые другие недостатки, унаследованные генетически. Помни об этом, Майки.
Я был у родителей поздним ребенком, единственным в семье. Папа – на четыре года моложе мамы, мягкий, молчаливый, не хватающий звезд с неба, занудливо старавшийся поддерживать в доме порядок. Мама – по характеру, напротив, шумная, увлекающаяся, легко переходящая от смеха к плачу и наоборот. Свои вещи она разбрасывала по всей квартире, грязная посуда по несколько дней громоздилась в кухонном умывальнике. Ее любимым занятием было чтение детективов. А папа предпочитал в свободное время сыграть с соседом в шахматы.
Папа работал техником на заводе – часто в вечернюю смену. Иногда в его отсутствие к нам наведывался сосед, тот самый, с которым папа играл в шахматы. В такие вечера мама укладывала меня спать раньше обычного. Порой, еще не успев заснуть, я слышал из своей комнаты звонок в коридоре, потом ее и его приглушенные голоса. Было мне в ту пору года три. Помню, однажды меня разобрало любопытство – я вылез из-под одеяла, тихо приблизился к родительской спальне и сквозь приоткрытую дверь увидел в кровати два голых тела. Я ничего не понял, но невыразимо испугался – зажмурив глаза, скользнул к себе, закрылся с головой одеялом и сразу заснул. За прошедшие годы воспоминание это ни разу не потревожило мою память, замурованное где-то в подсознании. Но недавно, в этой камере смертников, вдруг всплыло. И так отчетливо. Рассказываю тебе единственному, Майки…
Ну вот, прилетела опять моя суматошная сокамерница, бегает по столу. Иногда усаживается бесстрашно прямо на мою руку. Мозг у Немезиды размером не больше булавочной головки, а ведь понимает, что я не сделаю ей ничего плохого…
Папа умер, когда ему не было и шестидесяти, от сердечного приступа. Наверное, это я ускорил его смерть. Представляю, как страшно ему было читать в газетах о деяниях «Революционной армии» – к которой принадлежит и его сын. А мама доживает сейчас свой век в доме для престарелых. Там недавно побывал Джейкоб. По его словам, с памятью у мамы стало совсем плохо. Вряд ли она понимает, что ждет меня. Наверное, это и к лучшему.
Джейкоб пообещал: он усыновит тебя, Майки. Так что с приемным отцом тебе повезло – Джейкоб добрый. Думаю, он так и останется холостяком.
Вспоминаю опять ту пору, когда, скрываясь у Джейкоба, я прилежно штудировал его книги по медицинской генетике. Это сравнительно молодая наука, и вопросов в ней больше, чем ответов. Вот один такой вопрос. (Если мои наукообразные рассуждения, Майки, вызывают у тебя скуку, можешь их опустить. А мне они помогают – отвлечься от мыслей о том, что скоро произойдет…) Детальный план строения и функций организма записан в ядре каждой клетки – ген за геном – на длинных, спиралеобразных молекулах ДНК. Общее число таких генов у человека около ста тысяч. Понятно, что половые клетки должны хранить всю эту информацию – для передачи по наследству. Но почему, с какой целью, ее же, от первого до последнего гена, хранят и прочие клетки? Общее число клеток в человеческом теле измеряется сотнями миллиардов. Ты только вдумайся, Майки, в это число! И вот оказывается, что каждая клетка содержит все эти гены, которые никогда ей не понадобятся. Зачем, скажем, клетке кожи помнить, каков цвет глаз у данного индивидуума или каковы особенности его характера? Есть ли объяснение этому невероятному расточительству живой природы – сотням миллиардов копий одной и той же генетической информации? Я спрашивал об этом Джейкоба. Он не знает ответа…
Сегодня вспомнилась одна наша боевая операция. Потом о ней долго писали газеты.
Федеральный прокурор Харрис, расследовавший действия «Революционной армии», был приговорен нами к смерти. Соответствующие письма мы разослали в редакции газет, на телевидение. После этого власти выделили Харрису казенную машину и охранника. Охранник по утрам сопровождал прокурора на работу, присутствовал во время его выступлений в зале суда, вечером отвозил домой. Харрис жил в Манхеттене, возле Центрального парка. В вестибюле его дорогого многоквартирного дома весь день восседал за стойкой швейцар.
Сперва мы досконально изучили расписание Харриса. По вторникам, в утренние часы, он предпочитал работать дома. Каждый вторник, около 11:15 утра, пунктуальный Харрис выходил с охранником из подъезда и садился в машину. К тому времени жильцы дома уже разъезжались по делам, вероятность встретить кого-либо в вестибюле была минимальной. Требовалось лишь ненадолго выманить из вестибюля швейцара. Все было подготовлено и просчитано Урсулой по минутам. Мне она поручила главную роль.
Вижу это октябрьское утро. Через улицу, на полянке Центрального парка, тучная мамаша играет в мячик с малышкой-дочкой. Ветерок перекатывает под деревьями пожухлые листья. Ветерок теплый, но меня почему-то слегка знобит. Я стою на автобусной остановке, больше никого нет. На мне широкая желтая куртка. Мою раннюю лысину прикрывает парик – длинные темно-коричневые волосы спускаются на лоб. На руках перчатки – чтобы не оставить где-нибудь отпечатки своих пальцев.
Вдоль обочины припаркованы автомобили. В одном из них, чуть позади остановки, сидят Урсула и Тимоти. Стараюсь не глядеть в их сторону. Рядом – вход в подъезд дома, где живет Харрис. Через стеклянную дверь виден швейцар за стойкой. Сбоку от стойки – дверь в подвал, там хранятся баки с мусором. По вторникам, около полудня, эти баки забирает мусоровоз. Приехав, его водитель по мобильнику звонит со двора швейцару – тот спускается в подвал и открывает дверь из подвала во двор.
Бросаю взгляд на часы – 11:05. Впереди, у обочины, останавливается машина со знакомым номером. Из нее выходит долговязый охранник. По прежним наблюдениям я уже хорошо знаю его насупленное лицо.
Швейцар открывает ему дверь подъезда. Охранник входит в лифт. Швейцар возвращается к стойке. Видимо, звонит телефон на стойке – швейцар снимает трубку, что-то коротко отвечает и скрывается за дверью в подвал. Ясно: это Тимоти, назвавшись водителем мусоровоза, позвонил швейцару по мобильному телефону. Пора. Нащупываю в кармане два ключа, раздобытые нами заранее. Один – от входной двери. Открыв ее, оказываюсь в вестибюле. Где-то наверху зашумел лифт. Быстро подхожу к двери в подвал, засовываю второй ключ в замочную скважину и поворачиваю его. Теперь швейцару не выйти.
Замираю возле двери лифта. Рука внутри правого кармана куртки сжимает пистолет с глушителем. Неторопливо шумит приближающийся лифт. Останавливается. Створки раздвигаются. Охранник делает шаг вперед, но я на его пути. Наши глаза встречаются. В его взгляде – недовольство, потом недоумение. И вдруг он все понимает. Его рука ныряет под пиджак, к кобуре под мышкой. Поздно. Не вынимая пистолета из кармана, я стреляю ему в живот. Именно в живот – выше может быть надетый под рубашку бронежилет. Выстрел! Второй! Третий! Охранник начинает медленно валиться на меня. Я отталкиваю его, и он сползает на пол кабины, ботинки торчат наружу.
У задней стенки кабины стоит Харрис. Реакция у него быстрая. Еще когда я отталкиваю от себя тело охранника, Харрис, мгновенно оценив ситуацию, нажимает на кнопку вверх. Створки лифта съезжаются навстречу друг другу. На лисьей мордочке прокурора мелькает надежда. Но ботинки охранника не дают створкам сомкнуться. Вытянув руку с пистолетом, разряжаю в Харриса всю оставшуюся обойму. Заталкиваю высовывающиеся ботинки внутрь кабины. Створки, наконец, смыкаются. Вздрогнув, лифт начинает свой путь наверх.
Дергается дверь, ведущая в подвал, – ее пробует открыть запертый там швейцар. Пусть пробует, сколько угодно. Быстрым движением надеваю черные очки. Потом снимаю куртку, выворачивая ее в рукавах. И опять одеваю. Цвет куртки теперь другой – вместо желтой она стала темно-серой. Да и дырки в кармане, образовавшиеся после моих выстрелов в охранника, теперь не видны.
Выхожу из подъезда. На тротуаре – никого. Через улицу, на полянке Центрального парка, мамаша с дочкой играют в мячик. В голове у меня гудит. Неторопливо подхожу к нашей машине. Тимоти уже выворачивает ее на проезжую часть. Все, дело сделано…
Каждый раз после проведенной операции мы затихали на время, перебиралась в другой штат, в другой большой город. В больших городах легче раствориться, исчезнуть из поля зрения копов. И все равно исход был предрешен. Раньше или позже огромная карательная машина самой мощной мировой державы должна была поглотить нас. Кольцо вокруг нас сжималось. Испуганные потоками крови, отказывали в помощи «сочувствующие». Двери в их домах и квартирах, где прежде можно было спокойно пересидеть очередной всплеск розыскной активности ФБР, все чаще оказывались для нас закрытыми.
А тут еще неудачно прошла «экспроприация» банка.
Как обычно, за пару часов до нее со стоянки возле супермаркета мы угнали автомобиль. На нем – к вечеру, перед закрытием банка – подъехали к его входу. Наша боевая группа состояла из пяти человек. Роль каждого была четко обозначена Урсулой. Каждый имел свой номер – чтобы во время операции обращаться друг к другу, не называя имени. «Первой» была Урсула.
В дверях банка мы мгновенно натянули на головы шапочки, закрывающие лица – лишь с прорезями для глаз. Выхватив из-под широких курток автоматы, полоснули автоматными очередями по телекамерам в зале. Раздался резкий голос Урсулы: «Революционная армия! Всем на пол – лицом вниз, ладони на затылок!» Под дулом автомата кассирша трясущимися руками переложила пачки денег из сейфа в наши сумки. Чтобы нагнать больше страха, на прощанье прозвучали еще выстрелы – в потолок. Уже спустя три минуты «первая», «второй» и «третий» с туго набитыми сумками в руках усаживались в автомобиль.
На беду, один из лежавших на полу посетителей банка оказался полицейским. В свободное от службы время он был в штатском – но при оружии, кобуру с пистолетом прикрывал пиджак. «Четвертая» и «пятый», Хелен и я, были уже в дверях, замыкая отход группы, когда полицейский выхватил пистолет и выстрелил. Пуля попала Хелен в спину. Моя ответная очередь прошила плечо полицейского, его пистолет выпал из руки, лицо ткнулось в пол. Тело Хелен безжизненно распласталось возле двери, глаза закрыты, на подбородок вытекла из-под маски струйка алой крови. Я выскочил на улицу и прыгнул в автомобиль. Из-за угла уже доносился захлебывающийся вой полицейских машин. «Четвертая убита» – оглушенно сказал я. Урсула молча дала полный газ. Через несколько кварталов, в тихом, безлюдном переулке, мы быстро пересели в другой автомобиль, поджидавший нас, и мирно продолжили свой путь.
Поздно вечером в телевизионных новостях было показано интервью с представителем полиции. Тот сообщил, что одна из участниц ограбления банка задержана и находится в реанимационном отделении – в бессознательном состоянии. Последнее, Майки, было неправдой – копы не хотели вспугнуть нас. Хелен была в сознании. В тщательно охраняемой палате ее допросили. Уж не знаю, каким способом, копы сумели вызнать у Хелен адрес пригородного дома, где мы скрывались.
Под утро свет автомобильных фар вдруг ударил в наши окна. Назначенный в ночное дежурство «Альберта» сладко спал, положив голову на подоконник. За невысокой изгородью в белесоватом предрассветном воздухе проступали очертания полицейских машин. Мгновенно проснувшаяся Урсула приоткрыла заднюю дверь – во двор. С той стороны дома тоже горели автомобильные фары. Зазвучал голос в мегафон: «Вы окружены, сдавайтесь!»
На самом деле копы совсем не стремились к тому, чтобы мы сдались. Слишком долго «Революционная армия» оставляла их в дураках, наносила болезненные удары и исчезала без следа. Наконец-то, они получали шанс отыграться. Первая же автоматная очередь, выпущенная Урсулой, вызвала шквал ответного огня. Стреляя по окнам, полиция задействовала гранатометы. Глухие взрывы гранат внутри комнат, пятна крови на стенах, запах горелого мяса… Через десять минут наше сопротивление было полностью подавлено.
Осколком гранаты Урсуле разворотило живот. Я схватил ее за плечи и спиной по полу перетащил в маленькую кладовку возле кухни – окон там не было. Снаружи раздавались звуки выстрелов, грохот разрывающихся гранат. В доме к тому моменту оставались в живых только я да умирающая Урсула. Я сидел на полу – ее голова на моих коленях, зеленые глаза полузакрыты, рука придерживает что-то белое, вываливающееся из живота. Урсула приподняла веки, всмотрелась в мое лицо. «Ну, вот и расстаемся, Майки косолапый» – прошептала она. Только однажды, несколько лет назад, я упомянул случайно, что так меня звала мама. И Урсула, оказывается, запомнила. «Спасибо за твою любовь… И прости меня, прости за то…» Она не договорила, за что именно просит у меня прощения.
Когда через полчаса, обыскивая дом, полицейские распахнули дверь кладовки, голова мертвой Урсулы все еще лежала на моих коленях. А я…
Ты, наверное, обратил внимание, Майки, – мое предыдущее предложение оборвалось. Потому что в камеру пожаловал внезапный гость, сам начальник тюрьмы. Такой визит всегда воспринимается как внезапный, даже если его ждешь и стараешься к нему подготовиться. Начальник тюрьмы вежливо поздоровался, помолчал. И объявил, что приговор будет приведен в исполнение сегодня, в 11:30 вечера. Он предложил прислать в камеру священника. Я отказался.
Пусть так, пусть Бог на самом деле существует. Но я не верю, Майки, тем, кто вещает от имени Его. Слишком уж мелки и тщеславны их заботы, слишком смешны многие их предписания и ритуалы. Одни настаивают, чтобы родившийся младенец был подвергнут обрезанию. Другие, напротив, утверждают, что только крещение в купели спасет душу родившегося. Третьи считают, что молиться Богу надо пять раз в день – не больше, не меньше; причем голова должна быть повернута в сторону Мекки. И так далее, и тому подобное. Но ведь если Бог существует, то, конечно же, он един во Вселенной. Понимаешь, един! Он остается Богом и для каких-нибудь «зеленых человечков», обитающих в далекой галактике. А если у тех и обрезать нечего? А как тем определить, куда обращать голову при молитве, где именно расположена эта Мекка? Каждая конфессия самоуверенно возглашает именно себя носительницей высшей истины, а всех других – еретиками. Но эти яростные взаимные обличения доказывают только одно: служители разных религий прежде всего думают не о Боге едином, а о собственных амбициях. Нет уж, Майки, если есть потребность говорить с Богом, говори напрямую. Посредники тут ни к чему.
Минувшей ночью мне приснился сон… Какой-то темный бесконечный коридор. Впереди мелькает тень. Вроде бы Урсула? Убыстряю шаги ей вослед. И падаю. Все быстрее – в пропасть. Помню ужасные мгновения – ожидание встречи беспомощного, хрупкого тела с каменным дном пропасти. Сон-предчувствие?.. И еще один вещий сигнал – уже второй день, как исчезла Немезида. Жужжала в душном воздухе камеры, деловито бегала по столу, иногда садилась дружески на мою руку. И вот исчезла. Почувствовала, что больше не будет мне нужна?..
Перед тем, как покинуть камеру, начальник тюрьмы спросил, чего хотелось бы мне сегодня на ужин. Я ответил, что оставляю это на его усмотрение. Потом, улыбнувшись, добавил, что предпочел бы поменьше жирной пищи – избыточный вес, как известно, вреден для здоровья.
Пошутил и остался опять один в своей камере. Теперь уже ненадолго.
А душе не до шуток… Что ждет ее? Может, все-таки существует что-то за пределами этой жизни? У кого есть надежда, тем уходить легче. Вот поделюсь с тобой, Майки, на прощанье некоторыми размышлениями. Они зародились, когда, скрываясь у Джейкоба, я изучал премудрости генетики.
Одним из наиболее трудных для науки остается вопрос о возникновении жизни. Многообразные химические и физические процессы в жидких средах, протекавшие на Земле миллиарды лет, способствовали образованию все более сложных белковых молекул. И предполагается, что молекулы эти должны были раньше или позже случайно столкнуться друг с другом и, соединившись в определенной последовательности, сформировать самую первую, самую примитивную живую структуру, способную осуществлять обмен веществ. Что ж, такую вероятность, хотя и с трудом, еще можно допустить. Однако мы знаем: кроме обмена веществ, существует и вторая фундаментальная особенность всего живого – воспроизведение себе подобного. А это невозможно без генов. Как слово состоит из букв, так ген состоит из нуклеотидов – в составе каждого гена их обычно около тысячи. И вот если перемножить число нуклеотидов в гене на общее число генов, присутствующих внутри даже самого простого одноклеточного организма, произведение оказывается огромной величиной. Иначе говоря, вероятность случайного столкновения всех этих нуклеотидов да еще их соединения в определенной последовательности практически равна нулю. А значит, самопроизвольное зарождение жизни на Земле выглядит невозможным.
Понимают это теперь и многие серьезные ученые. Некоторые из них делают отсюда вывод, что жизнь в виде спор простейших микроорганизмов была когда-то занесена на Землю из космоса. Хорошо, допустим, что так. А там она как зародилась? Ведь рассуждения, приведенные выше, остаются в силе в любой точке Вселенной – и там самопроизвольное, случайное зарождение живой материи столь же невероятно. Догадываешься, Майки, куда я клоню?.. В таком случае приходится признать существование Творца. Верующие наделяют Его многими высшими качествами – всесильный, всеведающий, всеблагой, вершащий суд над людьми. С другой стороны, атеисты полностью отвергают эти представления. Но кроме верующих и атеистов, есть еще одна группа людей, возможно, самая многочисленная. Это агностики – те, которые не утверждают и не отвергают существования Бога, которые честно говорят: «Мы не знаем». К ним принадлежу и я. Да, мне кажется, что без Творца не объяснить возникновения жизни. Но присутствует ли Он незримо среди нас ныне, обладает ли Он всеми упомянутыми качествами? Предуготовил ли Он для души прибежище по ту сторону земного? Не уверен, что сегодня серьезно мыслящему человеку под силу ответить на эти вопросы. Вот задачка, которой не жаль посвятить жизнь. Подбрасываю тебе, Майки. Это все-таки лучше того, чему посвятил свою короткую жизнь я…
Только помни: даже если ты сумеешь убедительно доказать существование Творца, в чьей-нибудь неугомонной голове сразу возникнет новый вопрос – а Его кто сотворил?
Щелкнул замок в двери. Надзиратель несет ужин. Главное, чтобы нежирный… Надеялся, что у меня впереди еще несколько недель, еще о многом хотел поговорить с тобой. Не успел. Этот усатый надзиратель заберет мое неоконченное письмо после ужина. Его потом отдадут Джейкобу, и он сохранит письмо для тебя. Прощай, Майки! Или до свиданья? Не знаю. И все-таки страшно – ставить последнюю точку. Поставлю многоточие…
На следующее утро газеты сообщили о том, что приговор был приведен в исполнение. Все прошло гладко. Перед казнью приговоренный выглядел спокойным, даже пытался шутить – только губы иногда непроизвольно подрагивали.
Не так гладко прошла ночь за пределами тюрьмы. Возле нее собрались протестующие – в руках у многих зажженные свечи, над головами плакаты с требованием отменить казнь. После полуночи, когда стало известно, что казнь состоялась, в Манхеттене начался многотысячный митинг. Все более распаляясь от ненависти к «произволу властей», толпы молодежи опрокинули полицейские кордоны и потекли вдоль улиц. Начался стихийный погром, поджоги припаркованных автомобилей. Под ударами камней разлетались стекла в витринах магазинов, наиболее сообразительные тащили оттуда, что попалось под руку. На Первой авеню заполыхало многоэтажное здание, где были расположены офисы модных адвокатов и врачей. В нем находилась и лаборатория известного специалиста по медицинской генетике доктора Джейкоба Лоренса. Пожарные запоздали. Как писали наутро газеты, вся коллекция клеток, используемых доктором Лоренсом в его работе по клонированию, погибла в огне.
2002Долгий полет
1
Снаружи, за стеклянной – от пола до потолка – стеной аэропорта, висели в небе низкие, мохнатые тучи. Между ними, заходя на посадку, осторожно протискивался грузный, пузатый самолет. Кое-где на асфальте мокли желтые листья – конец сентября, лето во Франкфурте, видимо, уже кончилось.
А в Тель-Авиве, откуда час назад прилетел Борис, еще стояла душная жара, воздух был пропитан пылью и мелким песком. «Хамсин» – так, вроде бы, называют эту погоду аборигены. На Ромке Гельмане, который поехал в аэропорт Бен-Гуриона, чтобы проводить друга, были одеты легкая рубашка и шорты. Из-под шорт торчали кривые Ромкины ноги. Покрытые седыми волосками и фиолетовыми буграми вен, они при каждом шаге неуверенно, по-стариковски, шаркали подошвами по полу. А когда-то ноги эти мощно подбрасывали Ромку, который играл за сборную их института, над волейбольной сеткой. И его яростный удар левой – он был левша – посылал мяч на площадку противника.
А еще в молодости был Ромка заядлым танцором. В первые послевоенные годы в кинотеатрах часто шли западные, «трофейные», фильмы. В каком-то из таких фильмов он и подсмотрел, как надо по-настоящему танцевать аргентинское танго. Его томные па приводили девиц в восторг. Еще тот был гуляка…
Сидя в кресле, недалеко от стойки для регистрации пассажиров, Борис скользил безразличным взглядом по тусклому, осеннему пейзажу за стеклом. Билеты для поездки в Израиль он приобрел в турагентстве полтора месяца назад. Для обратного перелета из Франкфурта в Вашингтон ему зарезервировали место на рейсе 418. На два с половиной часа раньше вылетает в Вашингтон рейс 416, тоже беспосадочный, но на него все билеты были проданы. Однако болтаться сегодня лишние часы в аэропорту Борису не хотелось. Поэтому, прилетев из Тель-Авива, он подошел на всякий случай к стойке, где уже шла регистрация пассажиров на рейс 416. Белобрысая девица в застегнутой на все пуговицы темно-синей форме «Люфтганзы» предложила ему подождать. Если кто-то из обладателей билетов не придет на регистрацию, освободившееся место можно будет предоставить пассажиру следующего рейса. Так и получилось, место для Бориса нашлось.
Народу у стойки рейса 416 скопилось много. Вот они – ждут начала посадки, негромко переговариваются на разных языках: английском, немецком, французском. Где-то сбоку прозвучала короткая фраза, вроде бы по-русски. Борис повернул голову, но среди сидящих никого из «своих» распознать не сумел.
Неподалеку расположилась молодая парочка. Оба смуглолицые, держатся за руки, сладко улыбаются друг другу. На ней – белый платочек завязан узелком ниже подбородка, широкая юбка до щиколоток. Арабы, вроде? Парень наклонился к сумке на полу – на макушке темнеет кипа. Понятно, никакие не арабы – ортодоксальные евреи. Борису и в Израиле не всегда удавалось отличить на улице еврея от араба. Гены-то общие. И те, и другие ведут родословную от праотца Авраама.
Решение съездить в Израиль, поглядеть на «историческую родину» пришло к Борису как-то исподволь. И Ветхий завет, и Новый он перечитывал не раз. Признавал их великими философскими и художественными произведениями. Гордился, что эти нетленные тексты написаны сынами еврейского народа. Но к религиозным людям себя не относил – не то воспитание по молодости получено было. Да вот и ему пришла пора о высоком подумать. Старый уже, за семьдесят. Хочешь, не хочешь – жизнь кончается. Пенсию в Штатах, куда двадцать с лишним лет назад удалось вырваться из страны «победившего социализма», заработал. Жену Лизочку два года как похоронил. Сын Андрюшка давно вырос, скоро уже тридцать будет – свои дела, заботы, карьеру военную делает. Если сейчас не съездить в Израиль, позже и сил не станет. А ко всему, живет в Тель-Авиве давний дружок Ромка, один из немногих, оставшихся на этом свете, кто помнит Бориса еще мальчишкой.
В школьные годы они учились в одном классе, потом – в одной группе института. После окончания энергоинститута Ромка так и остался в Иванове. Работал на местной электростанции, с годами достиг должности главного инженера. А Борису подфартило – несмотря на «пятую графу», сумел поступить в московскую аспирантуру, через три года защитился. Там же, в Москве, встретил свою Лизочку. У себя в НИИ продолжал заниматься научной работой, стал завлабом, потом и докторскую защитил.
После института его дружеские отношения с Ромкой не прерывались. На праздники звонили друг другу. Раз-другой в году Ромка приезжал из Иванова в командировку, чтобы обсудить в своем главке текущие вопросы. В такие вечера засиживались они на кухне у Бориса. На столе – запотевшая бутылочка из холодильника. У плиты суетится улыбающаяся Лизочка, готовит для них что-нибудь вкусненькое. Она любила принимать гостей. А уж к Ромке относилась лучше всех. Если время было позднее, стелила Лизочка разомлевшему Ромке на диване в гостиной. Хотя для него секретарша из главка всегда бронировала номер в какой-нибудь центральной гостинице.
В годы брежневского «застоя» Борис решил эмигрировать. Отнес в ОВИР свое заявление – и выгнали его тут же с работы. Но, слава Богу, выпустили, не так долго и мурыжили, всего-то девять с половиной месяцев. Ромка тогда приезжал прощаться. Ненавидел он советскую власть ничуть не меньше Бориса. Но эмигрировать не решался, говорил: жена, третья по счету, возражает. А ко времени, когда развалился Советский Союз, Ромка уже был вольным орлом – с женой развелся. И несколько лет назад уехал в Израиль, где доживал свой век бобылем. Получил квартирку в Тель-Авиве, пособие по старости тоже.
2
Белобрысая девица в форме «Люфтганзы» наклонилась к микрофону на стойке и объявила о начале посадки. Длинная очередь пассажиров выстроилась у входа в рукав, что идет к «Аэробусу».
Место 31-А было у стенки. Запихнув на полку под потолком свою дорожную сумку, Борис уселся, попытался вытянуть ноги. Этому мешала спинка кресла впереди. Вот так и сидеть теперь, а полет долгий, девять часов – ноги устанут, затекут. В соседнем салоне бизнескласса расстояние между рядами кресел побольше, сидеть удобнее. Не говоря уже о салоне первого класса, что расположен в головной части самолета. Там спинку кресла можно даже перевести в почти горизонтальное положение и выспаться более или менее по-человечески. Но и цены куда дороже… Ничего, перебьется.
Соседние места, 31-В и 31-С, заняла та самая парочка евреев-ортодоксов, на которых Борис обратил внимание перед посадкой. Когда самолет вздрогнул и медленно двинулся в сторону взлетной полосы, парень в кипе повернул голову к Борису и тихо спросил что-то на незнакомом гортанном языке.
– Простите, но я не говорю на иврите, – ответил по-английски Борис.
Парень, чуть помолчав, повторил вопрос по-английски – с таким скрипучим акцентом, что даже собственное произношение показалось Борису совсем неплохим.
– Вы не знаете, какая сегодня погода в Исламабаде?
– Да откуда ж я знаю, – Борис недоуменно пожал плечами. И тут сообразил, что фразу эту произнес по-русски. Он сразу поправился: – Ай ду нот ноу…
Парень в кипе как-то растерянно посмотрел на Бориса. Скользнул взглядом по редким пучкам седых волос на его голове. Потом наклонился к спутнице, шепнул что-то на ухо. Та, не поворачивая головы, облизнула кончиком языка губы, ничего не ответила. Ее тонкие пальцы сжали ремешок дамской сумочки на коленях.
«Что за дурацкий вопрос, – подумал Борис. – Летим в Вашингтон, а он спрашивает, какая погода в Исламабаде… Ромка, кстати, залезал в Интернет перед тем, как ехать в аэропорт, посмотрел сводку погоды… Сегодня в Вашингтоне – тепло и без осадков».
Вдоль прохода заскользила миловидная стюардесса, проверяя – не забыл ли кто пристегнуть себя ремнем к креслу. Следом за ней шел толстяк с тонкими усиками, тоже в темно-синей форме «Люфтганзы». Он захлопывал дверцы на полках для ручного багажа, чтобы в полете, избави Боже, какая-нибудь сумка не свалилась на голову пассажира. На мгновенье остановился возле Бориса, окинул быстрым взглядом его и парочку, что сидела рядом. Потом продолжил свой путь дальше, в хвостовую часть.
3
Квартирка Ромки, у которого остановился Борис, располагалась в одном из старых домов в районе улицы Дизенгофа. До пляжа рукой подать. По утрам Ромка и Борис ходили на этот роскошный пляж. Покачивались, лежа спиной на теплой средиземноморской волне, вспоминали, как пацанами купались в Уводи, речушке, что протекает через Иваново. Существовала примета: мол, купальный сезон в ней надо начинать «после трех громов». То есть когда к началу июня успеют, как обычно, пройти три грозы. Так учили старшие. Но их, понятно, не очень-то и слушали. Уже в середине мая – на спор – мальчишки, зажмурив глаза и зажав пальцами носы, прыгали с мостков в холодную, мутную Уводь. А через минуту, посинев и дрожа, выскакивали на берег, матерились, как извозчики на рынке. На том самом грязном ивановском рынке, у которого было такое поэтическое название – «Барашек»…
Хорошо все-таки, что они с Ромкой сумели еще раз свидеться в этой жизни. Встреча с другом, через столько лет, вызвала в душе Бориса такое трогательное, щемящее чувство. Он вглядывался в незнакомое, морщинистое лицо Ромки – и вдруг толстые губы у того кривила прежняя шальная улыбка, а в глазах, красноватых, слезящихся, вспыхивал на мгновение давний мальчишеский огонек. Сидя друг против друга за крохотным столиком на кухне, сквозь окно которой в просвете между домами был виден кусочек улицы Дизенгофа, они возвращались памятью в молодые годы.
– Нет, а ты помнишь, дружище, как пошли мы раз на танцульки в парк? – спрашивает Ромка.
– Мы туда частенько наведывались. Какой поход ты имеешь в виду?
– Помнишь, на четвертом курсе – после того, как сдали экзамены в летнюю сессию?.. И вот стоишь ты чуть в сторонке от меня, девочек разглядываешь, решаешь, какую одарить приглашением на танец. Подходит к тебе парень в кепочке. Здоровый такой, но, правда, уже малость поддатый. Тычет в твою грудь пальцем с обкусанным ногтем. Мол, пошел вон с нашей танцплощадки, жидовская морда. Стоит спокойный, расслабленный, в двух шагах его приблатненные кореша хохочут. Тут я мягко поворачиваюсь и бью его крюком в челюсть.
– Вспомнил: левой бьешь!
– Летит кепочка в одну сторону, сам парень валится в другую. Подскакивает вся его шобла. Еще секунда – и начнется… Но вырастают у нас за спиной молчаливые ребята из нашей группы. Один Леха Фомичев, кого хочешь, напугать может. Стоит, набычив голову, косая сажень в плечах. Застеснялась сразу эта шобла, хватает своего дружка под мышки, оттаскивает на скамейку – подальше в аллею. Даже кепочку на полу забыли. Я ее подобрал, так вежливо им вручил… Хорошая у нас группа была. Кроме нас с тобой – русские ребята. Да только «пятой графой» этой и не пахло.
– Верно. Не по «графе» – по совести о человеке судили… А ведь Леха потом с тобой на ТЭЦ работал. Как он, жив еще?
– Шутишь, дружище… По статистике, средний срок жизни нормального русского мужика – пятьдесят восемь лет. Давно погиб наш Леха на боевом посту – в неравной борьбе с проклятым зеленым змием.
– Да будет земля ему пухом. Давай выпьем за Лехину память…
Выпили. Ромка подцепил вилкой кусок селедки, купленной в «русском» магазине неподалеку, положил ее вместе с тонким кружком лука на корочку черного хлеба, отправил все в рот.
– Хорошо сидим, дружище… Детство наше и юность на страшные годы пришлись. Помнишь? Сталинщина кровавая. Война, голод. Послевоенная разруха… А вот сейчас спрашиваю себя: когда чувствовал себя счастливее всего? И отвечаю: в детские и юношеские годы. Наверное, в ту пору восприятие мира совсем другое – несмотря ни на что, он прекрасным кажется… Кстати, о Лехе нашем. Слышал ли ты, что в зрелом уже возрасте он в партию «наступил»?.. После этого сидели мы с ним как-то вдвоем, поддавали по маленькой. Я его ни о чем не спрашивал, а он сам вроде как оправдываться начал. Мол, если порядочные люди будут вступать в партию, она постепенно другой станет, покается перед народом за все потоки крови… Черта с два.
– Знаешь, Ромка, я ведь тоже в партии чуть однажды не оказался… Не рассказывал тебе?
– Ты?.. Не может быть.
– Вот слушай. Защитил я докторскую, заведую спокойно лабораторией в НИИ нашем. И тут вызывает меня директор. «Борис Абрамыч, вы знаете, у нас освободилось место замдиректора по науке. Я в министерстве посоветовался, мы сошлись во мнении, что ваша кандидатура подходит». В башке моей сразу счетчик заработал. Завлаб, доктор наук, получает в институте первой категории пятьсот в месяц, а замдиректора – пятьсот пятьдесят. Разница небольшая. Но должность замдиректора в нашем институте давала одно серьезное преимущество – служебную машину с шофером. Вот и согласился я, дурачок. О последствиях не подумал… Несколько дней прошло, сижу в новом кабинете, замдиректорском. Открывается дверь. Покачивая пышным задом, заходит парторг. За глаза мы ее просто Нелечкой звали. Вроде бы, спала она с директором – но это, как говорится, их дело. Начинает она с места в карьер: «У меня для вас, Борис Абрамыч, радостная новость. Вы же знаете, как непросто теперь интеллигенту в партию вступить. Рабочему или колхознику – много легче. Но я была в райкоме, объяснила ситуацию. Выделили они для замдиректора, для вас то есть, одно место. Вот вам книжечка заветная – устав нашей партии. Почитайте, подготовьтесь. Через три дня – партсобрание, там вас принимать будем. Поздравляю от души!» Представляешь?.. Я от неожиданности прямо замер. Сказать ей правду, как я ненавижу партию эту, отказаться впрямую – нельзя. Ведь отказ будет воспринят как открытый антисоветский поступок. Со всеми вытекающими последствиями. Что делать?
– Влип ты…
– Бормочу я скороговоркой, что быть принятым в партию – огромная честь для меня. Но вот, не хочу с халтуры начинать пребывание в рядах партии нашей. Не успею я за три дня изучить устав понастоящему… Нелечка подняла удивленно бровки. Но потом согласилась: мол, готовьтесь тогда к следующему партсобранию, будет через месяц. А через месяц, преданно заглядывая ей в глаза, снова бормочу то же самое – что еще не готов, устав запомнить ну никак не могу. Бросила она на меня задумчивый взгляд, ничего не сказала. И на следующий день вызывает директор. Глядя куда-то в стенку, говорит: «Знаете, Борис Абрамыч, мы тут посоветовались… Возвращайтесь-ка вы обратно на заведование лабораторией». Я так рад был… Более серьезных оргвыводов, слава Богу, не сделали.
– Дружище, ведь в то мерзкое время даже это был поступок с большой буквы. К сожалению, все мы героями не были. Загоняли нас на их общие собрания, насквозь лживые. Сидели мы, помалкивали. А когда предлагали проголосовать «за», послушно тянули лапки кверху. И все же, все же хоть в чем-то старались сохранить душу живу не загаженной… Помнишь, как Александр Сергеевич тоже в непростые времена (а когда они в России-матушке простыми были?) написал: «Умейте сохранить и в подлости осанку благородства»… Что же, есть повод выпить. Давай за него – за нашего незабвенного Александра Сергеевича.
4
Встретить Бориса в вашингтонском аэропорту Рейгана собирался сын Андрюшка на своей «тойоте». Два дня назад он позвонил Борису в Тель-Авив, записал номер рейса из Франкфурта в Вашингтон и время прибытия. Только сейчас Борис сообразил: о том, что он поменял рейс, сын не знает. Ну, да ничего страшного. Весь багаж Бориса – сумка, что лежит на полке наверху, не такая и тяжелая. Сам доберется, их многоквартирный дом в двух шагах от остановки метро. Только надо не забыть прямо из аэропорта позвонить Андрюшке и предупредить – пусть со своей военной базы едет домой.
Детей у них с Лизочкой долго не было. А потом, когда ей было уже под сорок, родился долгожданный Андрюшка. «Поскребыш», как говорила счастливая Лизочка. Сын рос молчаливым, не по возрасту серьезным. Когда они приехали в Штаты, ему было всего-то четыре с половиной годика. Борис и Лизочка поставили задачу – сын не должен забывать родной язык. Для этого они специально привезли с собой несколько детских книжек. Борис учил Андрюшку русским буквам, показывал, как из них образуются слова. Чтобы заинтересовать сына, Борис начинал читать вслух какую-нибудь простенькую сказку, а в середине останавливался, протягивал тому книжку – дальше, мол, сам. Однажды они с Андрюшкой трудились таким образом над сказкой, написанной Толстым, – о льве и о маленькой собачке, которая прижилась в зоопарке, в клетке у льва. Тот собачку не трогал, даже любил. В конце сказки собачка умирала. Борис помнит, как горько разрыдался сын, дочитав до этого места. Добрым был. Таким и остался…
Когда после окончания школы их мягкий, деликатный мальчик вдруг сообщил о решении записаться в армию, для Бориса и Лизочки это стало неожиданностью. Одним из доводов Андрюшки было то, что военная служба дает возможность получить высшее образование – не надо для этого тянуть деньги из родительского кармана. И поставленной цели сын добился. Продолжая службу, сумел окончить и колледж. Диплом в рамочке Андрюшка гордо повесил на стенке в своей комнате. Имя и фамилия в дипломе выглядели вполне по-американски – Эндрю Леви. Эндрю – это тот же Андрей. А фамилию он подсократил, вместо Левитина стал Леви… В военной авиации сын уже дослужился до капитана, пилотировал самую современную модель истребителя. Его военно-воздушная база располагалась в Вашингтоне – на левом берегу Потомака.
Cвободное от службы время офицерам разрешалось проводить за пределами базы, жить вместе с семьей. Андрюшка, еще холостяк, жил с родителями. Это, конечно же, очень облегчило Борису уход за Лизочкой, когда три года назад нежданно-негаданно у нее случился обширный инфаркт. Ей все-таки удалось выкарабкаться, но состояние оставалось тяжелым. Даже несколько шагов по комнате сопровождались аритмией. Не раз приходилось вызывать «скорую» и мчаться в больницу, чтобы снять развивающийся отек легких. Еще почти пятнадцать месяцев Лизочка так потянула. И эти месяцы Андрюшка отдавал ей все свободное время, бегал в аптеку за лекарствами, в магазин за продуктами. В качестве сиделки оставался вместо Бориса, когда тому нужно было сходить куда-нибудь по делам. На кресле с колесиками вывозил мать в хорошую погоду на балкон, укладывал ее там на диванчик.
На еврейском кладбище, тихом, с аккуратно подстриженной травой, похоронив Лизочку, они долго стояли вдвоем у засыпанной могилы. Обнявшись, плакали…
Борису было двадцать пять, а Лизочке восемнадцать, когда они поженились. Их ранний брак можно смело назвать счастливым. Поэтому их немного тревожило, что Андрюшка никак не женится. Были у сына разные девицы, звонили ему, щебетали по-английски. Домой, чтобы показать родителям, он их не приводил. Видимо, ничего серьезного. Да и что за жена может получиться из современной молодой американки – прежде всего о карьере думает. Семья, дети – потом. Лизочка собиралась поискать для Андрюшки хорошую невесту среди «своих», приехавших из России. Болезнь помешала.
5
Сегодня Андрей приехал на базу рано, к семи утра. С девяти и до тринадцати его истребителю F-22 предстояло нести патрульную службу. Круглосуточная охрана воздушного пространства над американской столицей – главная задача их эскадрильи.
На командном пункте, наклонив лысину к мерцающим экранам, сидел подполковник Эриксон, заместитель командира эскадрильи. Он только что заступил на дежурство.
– Капитан Леви прибыл, – доложил Андрей.
Эриксон обернулся, по губам пробежала легкая улыбка.
– Ну как, приятель, голова после вчерашнего не болит?
– А чего ей болеть-то? От одного бокала джина с тоником?..
Минувшим вечером, после службы, они случайно столкнулись в небольшом баре недалеко от их военной базы. В баре было пусто, публика там собирается позднее. Андрей с Эриксоном присели за столик в углу, поболтали о том, о сем. О политике. О женщинах тоже – Эриксон недавно развелся, так что эта тема была ему небезразлична. Долго они в баре не сидели, на следующее утро им обоим надо было вставать рано…
Погасив улыбку, Эриксон снова повернул голову к экранам. Сказал будничным голосом:
– Приступайте к подготовке полета, капитан.
Подготовка эта занимала много времени. В ангаре, где стоял его красавчик F-22, Андрею надлежало облачиться сначала в комбинезон со специальной теплоизолирующей подкладкой. Без такого комбинезона можно запросто превратиться в сосульку, если, не дай Бог, случится авария и надо будет прыгать с парашютом. В воздухе, на высоте восьми миль, в любое время года стоит жгучий мороз.
Надев комбинезон, Андрей забрался в кабину. И началась долгая, нудная проверка самолета. F-22 – модель новая. Перед каждым вылетом надлежало удостовериться, что все узлы работают нормально, в том числе электронная аппаратура, которой до предела напичкан F-22. Он пришел на смену старой модели F-15 недавно, их эскадрилья одной из первых получила эти реактивные истребители из цехов компании «Локхид». Каждый стоил в несколько раз дороже, чем F-15. А вот, насколько новый истребитель лучше – это время покажет.
Закончив проверку, Андрей включил радиопередатчик, доложил:
– Второй, я – девятый. Проверку закончил. К вылету готов.
– Девятый, я – второй, – отозвался Эриксон. – Вылет разрешаю… Успешного полета, приятель.
После короткого разбега истребитель легко оторвался от взлетной полосы и начал круто забирать вверх. Андрей устроился в кресле поудобнее. Впереди – четыре часа в воздухе. Как правило, у пилота работы немного. Мощные радары с земли всегда засекут в небе подозрительный объект раньше, чем его увидит пилот. И необходимая информация сразу поступит с командного пункта к пилоту. Оттуда придет и приказ, какие действия следует предпринять. Ну, а если полет проходит спокойно, то и делать-то, можно сказать, нечего – сиди за штурвалом и размышляй о чем-нибудь.
Андрею вспомнился вчерашний вечер в баре. Неплохой мужик – этот Эриксон. Вне службы держится просто, никак не подчеркивает, что старше по чину и должности. Не то, что полковник Робертс, командир их эскадрильи. Тот всегда смотрит на тебя как бы сверху вниз, не говорит, а вещает. Хотя, может, так и нужно – для поддержания дисциплины…
Вчера в баре Эриксон пустился в мрачные рассуждения о том, что происходит сейчас в мире. Мол, когда-то сгнил изнутри и пал под ударами варваров Великий Рим. А ныне сходная угроза нависла над западной цивилизацией, которая тоже быстро загнивает. Враги ее – такие же варвары-фанатики. В борьбе с ними Запад лишь обороняется, принимает полумеры. И это только поощряет врагов. В таких условиях каждый террорист с «поясом шахида» под рубахой, которому собственной жизни не жалко, становится сильнее целого батальона. «Конечно, нам, солдатам, остается выполнять свой долг до конца, – говорил Эриксон, помешивая льдинку в бокале джина с тоником. – Да только, боюсь, конец этот не сулит ничего хорошего. Мир все больше сходит с ума…» Схожие пессимистические высказывания Андрею иногда приходилось слышать и от отца – старшему поколению всегда кажется, что во времена их молодости мир был лучше. Андрей, однако, смотрел на мировые события не столь мрачно. Он собирался спросить, что же, по мнению Эриксона, Западу следует делать иначе… Но уже была пора разъезжаться по домам. Они решили, что вернутся к этой животрепещущей теме как-нибудь в другой раз.
6
Поток солнечного света струился сквозь иллюминатор на колени Бориса. Земли внизу не видно, ее плотно закрывают тучи. А над головой такая голубизна…
Борис с женой и сыном эмигрировал в Штаты давно, четверть века назад. Родители его к тому времени уже умерли. Остались в Иванове, на кладбище в Болино. А были бы живы – тоже без колебаний уехали бы. Как часто Борис вспоминает их.
В последние годы жизни отец делился иногда с Борисом своим долгим опытом существования под советским ярмом. «Мне много времени не понадобилось, – говорил он. – Уже через полгода после октябрьского переворота понял: к власти пришли бандиты». Интересная история случилась с отцом в приснопамятном тридцать седьмом. Время было страшное – по ночам советские люди не спали, прислушивались, не заскрипит ли тормозами возле их дома «черный воронок», возле чьей двери затихнут шаги тех, кто пришел арестовать очередного «врага народа».
В том году в их квартирке появился телефон. Если он звонил, шестилетний Борис старался подбежать первым, снять трубку, важно сказать «але», позвать потом маму или отца. Телефонная служба тогда была еще весьма несовершенной, телефонистки на станции вручную соединяли абонентов. В трубке постоянно раздавались какие-то щелчки, шорохи. И вот однажды, когда позвонил приятель, отцу показалось, что их разговор кто-то подслушивает, даже чье-то дыхание, вроде, уловить можно. В последующие дни его подозрение лишь усилилось. Теперь сказать трудно – подслушивали отца на самом деле или это обстановка всеобщей слежки так подействовала на него.
Как поступил бы в такой ситуации обычный советский человек? Повел бы себя тише воды, ниже травы, стал реже разговаривать по телефону, а если и разговаривать, то повторяя к месту и не к месту лозунги о великих свершениях партии и правительства. Да еще, наверное, приготовил бы заранее чемоданчик с теплой одеждой – на случай, если все-таки придут ближайшей ночью и арестуют. Отец поступил иначе. Вечером он поехал в областное управление НКВД и записался на прием к начальнику управления. И тот отца, уже заполночь, принял. «В последние дни я заметил, что мой домашний телефон прослушивается, – сказал отец. – Насколько понимаю, это делают ваши сотрудники. Если у них есть какие-либо вопросы ко мне, я готов ответить. Для этого и пришел. Сам я считаю, что чист перед нашей замечательной советской властью». Начальник удивленно хмыкнул. «Гражданин Левитин, на сегодняшний день – вернее, ночь – у нас к вам вопросов не имеется. А если будут, вот тогда уж и поговорим». Он нажал кнопку возле стола, в кабинет заскочил адъютант. «Время позднее, трамваи не ходят. Отвезите его домой». Рассказав Борису эту историю много лет спустя, отец добавил: «А ведь мог и в камеру препроводить, не моргнув глазом. Но решил почему-то добрым себя показать – быть может, план по аресту `врагов народа' они в том месяце уже перевыполнили… Впрочем, начальника этого где-то через год и самого расстреляли. Кажется, как японского шпиона».
Борис помнит ту ночь. Мама, как обычно, раздела его и уложила в кровать. Но руки у нее почему-то тряслись. Непонятное мамино волнение передалось и Борису, сон никак не приходил. Выключив в комнате свет, мама замерла неподвижно у ночного окна. Спустя десятилетия Борису все еще слышится ее внезапный, хриплый вскрик. Выскочив из-под одеяла, Борис босиком подбежал к окну. Из большой темной легковушки, остановившейся возле их дома, вылез папа. И один, без сопровождающих, пошел к подъезду.
7
Когда в сорок первом году началась та страшная война, Борису было уже почти десять. Нынешние дети развиваются быстрее, в таком возрасте они уже сидят обычно за компьютером. А Борис тем утром, 22 июня, – смешно сказать – игрался в песочнице, во дворе их многоквартирного дома. Он строил из песка замок, о котором накануне прочитал в романе «Ричард Львиное Сердце». Над песочницей нависал балкон второго этажа – это был балкон в квартире, где жил вместе с родителями Петька Хохлов. Солнце уже стояло в зените, чуть припекало. Борис заканчивал обносить свой замок стеной из песка. И тут на балкон вышел Петька, какой-то необычно задумчивый. Был он лет на пять старше. Поставив локти на перила, Петька долго разглядывал копошившегося в песочнице Бориса. А потом мрачно сказал: «Борька, беги домой». Борис не любил, когда кто-то из старших мальчишек во дворе пытался им командовать. «А чего я побегу? Мне и тут хорошо». Губы Петьки скривила улыбка – какая-то растерянная. «Беги домой, я сказал!.. Сейчас по радио войну объявили». Бориса известие о войне не испугало. Он даже не поинтересовался, с кем именно началась война. Он твердо знал, так их учили в школе, что наша могучая Красная армия разобьет любого врага в пух и прах. А вот у Петьки, выходит, какое-то предчувствие было… Действительно, через три года, когда война уже катилась к концу, подошел Петькин возраст, забрали его в армию. И очень быстро, месяца через четыре, пришла его родителям «похоронка».
Прибежав домой, Борис увидел там суетящуюся маму. «Идем со мной в магазин, – сказала она. – Надо продуктами запастись». Внутри маленького магазина, по соседству с их домом, уже стояла толпа. Оказывается, не только мама была такой предусмотрительной. Когда подошла их очередь, на полках оставались только буханки хлеба. Продавщица выдавала по буханке на человека – мама и Борис принесли домой две буханки. А спустя несколько недель на все продукты ввели «карточки». Отменили их лишь спустя полтора года после окончания войны.
И еще один день – в начале июля сорок первого года – запомнился Борису… На западе страны, уже во всю полыхала война. А в Иванове, как бы по инерции, еще сохранялись какие-то приметы прежней, мирной жизни. Солнечным утром, в выходной, они с отцом поехали в Парк культуры и отдыха. Искупаться. Парк стоял тогда на окраине города – Уводь, пришедшая из загородных лесов, была там еще относительно чистой. Они ехали в полупустом трамвае. На задней площадке вагона, кроме них, никого не было. Борис нетерпеливо переступал ногами, даже иногда подпрыгивал, представляя, как через несколько минут ухнет в воду и поплывет «саженками». Отец отрешенно смотрел в окно. Потом, повернув голову, наткнулся взглядом на большой бумажный лист, прикрепленный к стенке вагона. На листе, под портретом Сталина, был напечатан текст его выступления по радио в связи с началом войны – выступления, в котором перепуганный тиран обращался к народу, использовав столь необычные для него слова: «дорогие братья и сестры». И вдруг Борис услышал над собой задумчивый голос отца: «Что, сволочь, теперь и мы стали для тебя братьями и сестрами?» Отец никогда прежде не говорил при сыне о своем отношении к режиму – боялся, что мальчишка где-нибудь проболтается. Сообразив, что сын слышал его слова, отец показал пальцем на сумку в руках Бориса и торопливо спросил, стараясь переключить его внимание: «А полотенце, надеюсь, ты не забыл, как в тот раз?..»
8
Евреев из бывшего Советского Союза понаехало на «историческую родину» больше миллиона. Примерно каждый пятый израильтянин говорил по-русски. Соответственно были и экскурсионные автобусы с русскоговорящими гидами. За две недели Борис сумел поездить на таких автобусах, посмотреть Израиль, хотя бы бегло. Был на Голанах – оттуда, с высоты, открывался широкий вид на сопредельную Сирию. Омочил ноги в озере Кинерет, там когда-то Иисус «ходил по водам». В кабинке, подвешенной к стальному тросу, поднимался на гору, где в древности располагалась знаменитая крепость Масада; в 73 году новой эры все иудеи, оборонявшие ее, покончили с собой, но не сдались в плен римлянам.
На экскурсию в Иерусалим его сопровождал Ромка. Автобус катил вдоль ущелья по широкому Первому шоссе.
– Посмотрите налево, – вещала в микрофон экскурсовод, толстая дама неопределенного возраста. – Вон сбоку от дороги вы видите старый грузовичок, покрытый ржавыми металлическими листами. Он стоит тут как памятник. Такие самодельные броневики с боем пробивались к Иерусалиму в 1948 году, подвозили сражавшимся там израильтянам оружие и продовольствие… Теперь посмотрите направо. Вон видите – деревья на холме? Это так называемые Сады Сахарова. Вы помните, конечно, был такой академик, борец за права человека…
Автобус свернул на асфальтовую площадку возле придорожного ресторанчика.
– Ну вот, а теперь давайте сделаем короткую остановку, разомнем ноги. Желающие могут перекусить. Отправляемся дальше через пятнадцать минут; пожалуйста, не опаздывайте. А вон там – вход в туалет. Он платный, три шекеля…
– Профессионально работает. И про туалет не забыла, – уважительно сказал Борис.
Ромка снял свою пляжную кепочку с большим козырьком, почесал затылок.
– Мне ее монолог – посмотрите налево, посмотрите направо – старый анекдот напомнил. Еще когда-то в курилке нашей Ивановской ТЭЦ слышал… Значит, едет по Парижу автобус с туристами. Экскурсовод говорит: «Вот прямо перед нами – Елисейские поля. Ну, а налево, на тротуаре, – непорядочные женщины… Теперь посмотрите направо – это Эйфелева башня. А рядом, в скверике, – непорядочные женщины… Вон видите остров на Сене – там возвышается знаменитый Собор Парижской Богоматери. Ну, а чуть в стороне от входа – непорядочные женщины». Один из туристов спрашивает: «Простите, а порядочные женщины в Париже есть?» Экскурсовод отвечает: «Конечно, есть! Но они – дороже…»
Брызгая слюной, Ромка захохотал первый.
– Жаль, в Париже не бывал. Поглазеть на парижанок не довелось, – улыбнулся Борис.
– Подумаешь. Наверняка, бабы как бабы. Наши ивановские девчата не хуже…
Через пятнадцать минут автобус продолжил свой путь. Первое шоссе плавно подымалось все выше. Они сидели в заднем ряду, возле двери. Соседние места были пустыми. В пыльных стеклах автобуса струился мимо зеленый склон ущелья. Ромка повернул голову к Борису:
– Вот соскочили с языка слова о наших замечательных ивановских девчатах, и вспомнилась сразу давняя история… Как меня невинности лишили. Я ведь тебе никогда не рассказывал? Видишь… Столько лет знаем друг друга, а не рассказывал. Потому что далеко не героем в тот первый раз был. Вот слушай – откроюсь тебе, как на духу… Нынешние мальчики и девочки в сей области переходят от теории к практике еще в школьную пору. А мне, сказать стыдно, уже двадцать годиков было, на третьем курсе института нашего учился. Может, ты помнишь – тогда я уже ухаживал во всю за прекрасным полом. По вечерам с очередной подружкой в кино ходил, потом провожал до дома, целовался где-нибудь на скамеечке, даже руки распускал, гладил всякие места, которые гладить не положено. Теперь-то понимаю – некоторые из девочек этих готовы были согрешить, опыт, значит, уже имели. А я, дурачок, всякий раз терялся. На нашем курсе, помнишь, и зрелые мужики учились, которые войну прошли. В их изложении великую теорию соития я прекрасно усвоил. А вот на практике всякий раз терялся…
Ромка кинул взгляд по сторонам. Автобус шел на подъем. Заглушая их разговор, хрипел натужно мотор.
– На третьем курсе пришлось мне лечь в больницу. Болел я часто ангинами, и врачиха участковая посоветовала удалить миндалины. Операция несложная. Ты, наверное, не забыл эту больницу – двухэтажная, кирпичная; ее перед революцией построил какой-то купец. Недалеко от Парка культуры и отдыха. Поступил я, значит, вечером – операция на следующий день. Мест в палатах, как обычно, нету, положили меня на раскладушку в коридоре. Время позднее, но спать еще не хотелось. Гляжу, идет по коридору санитарочка. Потом, когда, так сказать, вплотную познакомились, узнал я – Машей ее зовут. Постарше меня, лет на тридцать выглядит, шустренькая такая. Подходит к моей раскладушке, строго говорит: «А вам, больной, перед завтрашней операцией помыться надо бы. Идемте». Я послушно следую за ней в душевую комнату. «Положите свой халат на диванчик – и под душ становитесь. Занавеску задерните. А дверь на задвижку не закрывайте, сейчас полотенце вам принесу». Стою за занавеской, душ пустил, мочалку намыливаю. Слышу, возвращается Маша-санитарочка, потом задвижка на двери почему-то щелкает. И отодвигается занавеска. Я в смущении прикрываю свое мужское достоинство мочалкой и торопливо поворачиваюсь спиной. «Вот и чудненько, – говорит она и переходит на `ты'. – Дай-ка мочалку, я тебе спину потру… А теперь поворачивайся, поворачивайся – так и быть покажу, как мыться надо». И начинает сильными круговыми движениями водить мочалку по моей груди, по животу…
Ромка ухмыльнулся, облизнул толстые губы.
– Эх, дружище, в нашем с тобой возрасте, чтобы вспомнить, что ты мужик, иногда и часа мало, таблетки дурацкие эти глотать приходится. А там, в душевой, уже через полминуты я был готов. Поплыло все в глазах. Распахивается тут у Маши халатик ее беленький – а под ним нет ничего! Наверное, когда за полотенцем ходила, все с себя сбросила. И валится она спиной на диванчик, и меня за собой из-под душа тянет крепкой материнской рукой… Потом встаю я потрясенный с диванчика, в глазах темно, накидываю на мокрые плечи халат свой, открываю задвижку на двери. «Ты куда?» – говорит вдогонку удивленная Маша. А я, не соображая ничего, чуть не плача от пережитого озарения, бреду по коридору к раскладушке… После операции, когда выписали меня из больницы, я, конечно же, реабилитировал себя в глазах Маши. Захаживал в барак, где она жила, в комнатенку ее узенькую. Уже никакой подсказки мне не требовалось, усвоил эту замечательную науку раз и навсегда. Не давал сей гадкой растлительнице по ночам глаз сомкнуть. Впрочем, она в претензии не была… А потом в жизни моей непутевой объявились и другие особы прекрасного пола. Несравненные ивановские девчата пошли косяком; иногда и двум, и трем параллельно уделял внимание… Ты, скромник, не забыл, надеюсь, как у нас на курсе ребята-фронтовики меня величали?
– Помню. «Ромка-многостаночник».
9
Под F-22, далеко внизу, медленно проплывал извилистый океанский берег. Вот и южная точка патрулирования. Андрей плавно развернул самолет. Теперь в обратный путь – вдоль побережья на север. Все идет гладко, без происшествий. Чуть больше двух часов осталось.
Вчера в баре Эриксон поинтересовался, есть ли у Андрея подружка. Расспрашивал, где да как с ней встретился, каковы планы на будущее. Вздохнув, Эриксон признался, что после развода и сам охотно познакомился бы с какой-нибудь приятной дамой – для совместного времяпровождения или даже для более серьезного…
Судьба свела Андрея и Мелиссу совершенно случайно, полтора года назад. Собирая материал для статьи в «Вашингтон Пост», Мелисса надумала провести опрос прохожих на тротуаре напротив Белого дома. Мелиссу интересовало их отношение к требованию гомосексуальных партнеров – разрешить им оформлять официальный брак друг с другом.
Оставив «тойоту» на парковке неподалеку, Андрей в цивильной одежде (в тот день у него был выходной) шел куда-то по Пенсильвания авеню. Молодая женщина – тоненькая, светловолосая, с уверенным и быстрым взглядом из-под пушистых ресниц – подошла к нему с микрофоном в руке и задала свой вопрос. В американской школе Андрей был воспитан в строгих рамках «политической корректности». Услышав вопрос, он позволил себе лишь слегка улыбнуться. «Если уж им очень хочется, то пускай, я не возражаю, – ответил он и сразу добавил. – У меня к вам более важный вопрос есть. Что вы делаете сегодня вечером?.. Понимаете, мне случайно достались два билета на концерт трех знаменитых теноров. Пойдемте?» Андрей соврал, что с ним редко случалось. За минуту до того он ни о каком концерте не думал, и билетов у него не было. Но Андрей знал: если только она согласится, он раздобудет билеты у спекулянтов за любую цену. Женщина опустила руку с микрофоном, как-то растерянно посмотрела на Андрея. «Пойдемте…»
Так они начали встречаться. Молодая журналистка, Мелисса делала успешную карьеру в столичной газете. Характер у нее был сильный, представительницей «слабого пола» не назовешь. Иногда по пустякам они обижались друг на друга, не перезванивались два-три дня. А потом, не выдержав первым, Андрей набирал вечером номер ее домашнего телефона. Ее низкий голос откликался в трубке сразу же – такое ощущение, будто сидела возле телефона и ждала. Обычной женщиной, мягкой, послушной, она становилась только в постели. Шептала ему нежные слова, даже просила прощенья за что-нибудь, сказанное днем сгоряча.
Образцом настоящей жены была для Андрея покойная мама. Такая заботливая, домашняя, посвятившая жизнь мужу и сыну. Главная в доме, она всегда старалась остаться как бы на втором плане. Наверное, это был древний инстинкт, унаследованный мамой от тех первобытных женщин, что сидели в пещере, приглядывали за детишками, следили, чтобы не погас огонь в очаге, и терпеливо поджидали после охоты своих мужей-добытчиков.
Андрей понимал, что второй мамы из Мелиссы не получится. Да, наверное, такой, как мама, не найдешь вообще на всем белом свете. И все же с Мелиссой ему так хорошо. Пора им жить вместе. И брак оформить тоже. Не одним только гомосексуалистам это важно. Сегодня в пятнадцать пятьдесят прилетает отец – рейс 418 из Франкфурта. Андрей встретит его в аэропорту. А вечером, как и договорились, поедет к Мелиссе… И предложит ей руку и сердце. Но при одном условии – если у них потом родится девочка, они назовут ее Лайза. По-нашему Лизочка… Не забыть бы: встретив отца, спросить, когда тому удобнее, чтобы Андрей привел Мелиссу. Чтобы она и отец, наконец, познакомились.
10
Расположенный на холмистом плоскогорье, Иерусалим как-то внезапно вырос из-за поворота. Борис вглядывался в узкие извилистые улицы Старого города, в дома, облицованные белым иерусалимским известняком – с чуть желтоватым или розоватым отливом. Автобус медленно кружил по улицам, часто останавливался. Экскурсанты выходили из автобуса, дама-экскурсовод с микрофоном в руке рассказывала о том месте, где остановились. Каждое – впечатано в историю.
Храмовая гора… Тут Авраам собирался принести в жертву сына своего Исаака, уже ножом замахнулся, да остановил его руку Бог. На этой горе в десятом веке до нашей эры царь Соломон воздвиг Первый храм, разрушенный через четыре столетия войсками Навуходоносора. После возвращения из Вавилонского плена евреи построили тут Второй храм. Сюда за несколько дней до своей казни пришел Иисус, чтобы изгнать торгующих из храма. Во время Иудейской войны, в 70 году, храм был снова разрушен – римлянами. Позднее, в седьмом веке, с Храмовой горы, как веруют мусульмане, пророк Мухаммед на крылатом коне вознесся на седьмое небо.
Вон Гефсиманский сад – ночью, перед тем, как был схвачен стражниками, Иисус молился тут Отцу и плакал, зная о предстоящей муке. А по этой улице, которая получила название Виа Долороза, сгибаясь от тяжести, он нес свой крест на Голгофу. А под этими высокими сводами Храма Гроба Господня сохранилась каменная пещера, куда положили тело Иисуса, снятое с креста…
Борису особенно запомнилась Стена плача. Эта стена, подпирающая сбоку Храмовую гору, – все, что осталось от Второго храма. Верующие евреи почитают ее как святыню. Считается: если помолиться возле стены и засунуть между ее камней записку с заветной просьбой, будет эта просьба услышана Богом.
– Иди, дружище, попроси у Него тоже что-нибудь важное для себя. Но именно важное, не отвлекай Бога по пустякам, – кивнул Ромка в сторону Стены плача. – А вдруг Бог, действительно, существует – зачем же тогда портить с Ним отношения?
– Сам-то, небось, не идешь, – прищурил глаза Борис.
– Я в Иерусалиме уже который раз. Подходил уже к стене этой и записочку оставлял. Просил у Него, чтобы встретилась мне добрая душа, чтобы не одному доживать оставшиеся годы. Да пока никакого результата. Если знакомят меня тут с какой-нибудь бабой, то непременно характер у нее такой стервозный…
– А как насчет твоего характера? С тобой, думаешь, легко ужиться?
– И то верно. Да себя в старости уже не переделаешь… А все-таки везет иногда мужикам – достаются им не бабы, а золото. Вроде Лизочки твоей… Давай, давай, подойди к стене-то, пообщайся. Только не принято возле нее стоять без головного убора – на, нахлобучь мою кепочку.
Желтовато-белые каменные глыбы, грубо обтесанные, квадратные, прямоугольные, кое-где потрескавшиеся от времени, дышали вечностью. В нижней части стены, на уровне человеческого роста, в расщелины между камнями были засунуты записки. Вид этих скомканных бумажек как-то не вязался с величественным обликом древней стены. «Никаких записок оставлять не буду. Если Он захочет, и так меня услышит» – решил Борис.
Вдоль стены стояли молящиеся. Борис заметил небольшой промежуток между двумя бородатыми ортодоксами в кипах; закрыв глаза, те покачивались в молитве. Борис шагнул в промежуток, приложил ладонь к теплому, бугристому камню. И вдруг задумался – о чем просить-то?.. Потом его губы тихо зашептали: «Прости, что сомневаюсь – существуешь ли. Но ведь это Ты, сотворив человека, дал ему свободу выбора. А никакой выбор невозможен без сомнений, без проверки. Думаю, не за сомнения эти Ты судишь людей. И даже не за то – молились ли они Тебе, ходили в синагогу, в церковь или никуда не ходили. Ведь главное – не ритуалы. Главное – жил ли человек по духовным заповедям Твоим, по совести… Не знаю, что и просить у Тебя. Жизнь моя, считай, уже прожита. И, наверное, была совсем неплохой… Если можно, если только это не противоречит планам Твоим, дай мне, когда придет время, быструю смерть. Не так, как Лизочка умирала».
Борис отошел от стены, вернул Ромке его кепочку. Тот вгляделся в лицо Бориса, но ничего не спросил.
11
Через месяц после начала той войны отца Бориса забрали в армию. Отец был школьным учителем, математику преподавал. Поэтому, может быть, его и направили в авиацию. Он освоил специальность штурмана, летал на бомбардировщике, рассчитывал трассы полетов. Однажды бомбардировщик сбили немцы. Отец, единственный из экипажа, успел выброситься с парашютом, потом четыре дня лесами и болотами добирался до линии фронта. Когда пришел к своим, его целые сутки, не давая спать, допрашивали «особисты». А вдруг он, Абрам Левитин, переметнулся к фашистам, заделался их шпионом? Но обошлось…
После начала войны мама, врач-хирург, стала работать в военном госпитале, которому отдали здание, где прежде был «Дом колхозника». Ей присвоили звание капитана, на воротнике гимнастерки она носила «шпалу». Каждый раз увидев маму в военной форме, устало возвращающуюся домой после трудного дня в госпитале, Борис задирал нос и бросал гордые взгляды на мальчишек, с которыми играл во дворе.
После начала войны мама, врач-хирург, стала работать в военном госпитале, которому отдали здание, где прежде был «Дом колхозника». Маме присвоили звание капитана, на воротнике гимнастерки она носила «шпалу». Каждый раз увидев маму в военной форме, устало возвращающуюся домой после трудного дня в госпитале, Борис задирал нос и бросал гордые взгляды на мальчишек, с которыми играл во дворе.
Голодное было время… Борису полагалась «иждивенческая карточка», по ней выдавали четыреста граммов хлеба в день. Мама имела «рабочую карточку» – шестьсот граммов. А люди, у которых работа была связана с тяжелым физическим трудом, получали аж восемьсот граммов. Такие карточки назывались «УДП», то есть «усиленное дополнительное питание». Правда, простой народ, который и во время войны не терял чувства юмора, расшифровывал аббревиатуру «УДП» иначе – «умрешь днем позже». Кроме того, на крупных заводах, особенно оборонных, существовали специальные «ОРСы», то есть «отделы рабочего снабжения», которые дополнительно выдавали рабочим что-нибудь съестное и даже одежду. Но и тут, имея в виду начальство, шутники расшифровывали аббревиатуру «ОРС» по-своему – «обеспечь раньше себя».
Конечно, на рынке, том самом «Барашке», продукты кое-какие всегда можно было купить. Да только цены кусались. Иногда мама, покопавшись в шкафу, вытаскивала из него какую-нибудь довоенную одежку, несла на рынок, меняла у торговок на кусок жилистого мяса с костями или на несколько килограммов проросшего картофеля. Перед тем, как варить или жарить картофель, мама тщательно его мыла, но шкурку не срезала – чтобы не потерять вместе со шкуркой даже малую толику драгоценной картофельной плоти.
Когда маме после обычного рабочего дня предстояло в госпитале еще и ночное дежурство, она перед уходом на работу оставляла на кухонном столе еду, чтобы Борису было что покушать после его возвращения из школы, а также на следующее утро. Случалось, что, придя домой из школы и не сумев сдержаться, голодный Борис съедал все это за один присест. В таком случае на завтрак ему приходилось ограничиваться оставшимся ломтиком черного хлеба и чайной ложкой подсолнечного масла, налитого на дно блюдца. Борис солил масло, макал в него хлеб и медленно, смакуя, жевал хлеб кусочек за кусочком.
А когда после ночного дежурства и за ним еще второго рабочего дня мама возвращалась домой, они устраивали «пир». Согласно правилам, дежурный врач в госпитале должен был «снимать пробу», то есть проверять качество приготовленной пищи перед тем, как ее получат раненые. Тарелку госпитального супа мама съедала. А вот второе – какую-нибудь котлету с пшенной кашей – она перекладывала в кастрюльку, принесенную из дома. Туда же добавляла и часть госпитального ужина. Компот переливала из стакана в баночку. И все это на следующий день приносила Борису. Но голодный Борис отказывался есть один, и они у себя на кухне честно делили это богатство пополам.
12
Кто-то из пассажиров «Аэробуса» спал, кто-то читал книжку, кто-то смотрел телевизор – его экран располагался в передней части салона. Коренастый, широкоплечий мужчина впереди Бориса, в кресле 30-С, потянулся, встал и решил, видимо, размять ноги. С сосредоточенным выражением на лице он прошелся взад-вперед вдоль их прохода, затем – вдоль прохода с противоположной стороны. Вернулся, сел на место – полуседой затылок коротко острижен, шея массивная, красная.
Места рядом с этим пассажиром занимали девочка лет пяти-шести и пожилая женщина, видимо, ее бабушка. Водрузив на нос очки, та с деловым видом листала какую-то газету. «Вашингтон Пост», вроде бы. А девочка-непоседа крутилась на своем сиденье, в щель между спинками кресел – ее и бабушкиного – бросала иногда любопытные взгляды на Бориса. Он улыбался в ответ. Бабушка, не поворачивая головы, изредка ворчала на внучку: «Лайза, Лайза, веди себя хорошо».
Соседи Бориса, парочка ортодоксов, сидели, уставившись глазами на телевизионный экран. По нему скользили строчки: «высота 10,7 км», «наружная температура –52 градуса Цельсия», «скорость 840 км в час», «приземление через 4 часа 20 минут». Потом эта же информация повторялась для пассажиров-американцев – в привычных для них милях, градусах Фаренгейта. Никак не соизволят перейти на единицы измерения, принятые во всем остальном мире. Какие-то дурацкие дюймы, фунты, галлоны – запутаешься, считая.
Итак, осталось 4 часа 20 минут, полпути уже за спиною… Борис бросил взгляд на свои часы, которые все еще показывали время в Израиле. Там без малого уже пять вечера. А встали они с Ромкой, чтобы ехать в аэропорт Бен-Гуриона, около часу ночи. Может, поспать немного?.. Борис опустил шторку в иллюминаторе, приладил под голову маленькую подушечку. Перед закрытыми глазами закружились картинки: Стена плача, Голаны, озеро Кинерет. Потом откуда-то появилась мутная Уводь и мост через нее, тот, что возле драмтеатра. Потом – их московская квартира. Лизочка сидит на диване в гостиной, зашивает порванные Андрюшкой штаны. А сын сидит рядом в трусиках и терпеливо ждет, когда можно будет идти гулять во двор… Картинки стали тускнеть – еще чуть-чуть и придет сон.
Но тут «Аэробус» резко тряхнуло – раз, другой, третий… Видимо, попал в зону завихрения. Даже на высоте десяти километров такое иногда случается при столкновении воздушных потоков. «Пристегнуть ремни» – раздалась команда по радио. Не открывая глаз, Борис послушно ее выполнил.
Тело самолета била крупная дрожь. Неровен час – возьмет вдруг и развалится?.. Нет, вряд ли. Самолеты теперь строят с большим запасом прочности. А если все-таки они разваливаются и падают время от времени, то чаще это – результат терактов. Ведь сумасшедших, фанатиков становится на Земле все больше.
Спать расхотелось. И перед глазами Бориса, под закрытыми веками, опять проступили давние годы. Потянуло его что-то на воспоминания сегодня. А может, душа смутно ощутила – пора подводить итоги? Возраст вон какой, каждый день надо быть готовым…
Борису вспомнилась почему-то давняя история с отцом Ромки. Того, как и отца Бориса, после начала войны забрали в армию. Воевал он в пехоте, оборонял Москву, успел прислать домой несколько писем. Последнее письмо (солдатский «треугольник» – лист бумаги, сложенный по одной, а потом по другой диагонали) пришло от него где-то в середине октября сорок первого. Дора Львовна, красивая худенькая брюнетка, потом не раз бегала в военкомат, пыталась узнать о судьбе мужа. Только через год на свой очередной запрос получила извещение, что муж пропал без вести. Всю войну она не теряла надежды, ждала. А когда война кончилась, поняла – муж погиб. Одной подымать двоих детей, Ромку и его младшую сестрицу Соньку, было нелегко. После войны, года через два, Дора Львовна сошлась с соседом по дому. Должность у того была завидная – во время войны он начальствовал в «ОРСе», а после войны стал директором гастронома. Он ласково звал ее Дорочкой, подарками дорогими задаривал. Они уже побывали в ЗАГСе, оставили заявление, чтобы зарегистрировать брак.
И как раз в это время Ромкин отец нежданно пришел домой. Позвонил в дверь – в рваном ватнике, с тощим «сидором» на плече. Оказалось, во время боев под Москвой он попал в плен. В Германии, в лагере для военнопленных, работал на каком-то руднике. Лицо Ромкиного отца несло на себе отчетливые приметы семитской крови – большой нос с горбинкой, толстые губы (такие же губы и у Ромки). Немец-надзиратель на руднике уже хотел, было, отправить Ромкиного отца в газовую камеру. Но тот, когда их везли в товарных вагонах в лагерь, догадался забрать удостоверение умершего соседа по нарам. Фамилия в удостоверении была лучше не придумаешь – Иванов. Тем не менее подозрительный надзиратель приказал отцу снять штаны и успокоился, только убедившись, что тот не обрезан. А не обрезали его когда-то родители потому, что и в грош не ставили всяких там раввинов, прекраснодушно ожидая скорого пришествия мировой революции.
Когда в конце войны лагерь освободила Красная армия, Ромкиного отца, тоже безоговорочно верившего в «светлые идеалы коммунизма», быстренько посадили снова в товарный вагон и через всю страну отправили на Дальний Восток. Уже в советский лагерь, опять работать на руднике – за то, что в плен попал. Два письма, которые он сумел отправить из нового лагеря, домой не дошли – больше писать не стал.
Ромкиному отцу вроде как повезло, через три года его выпустили из лагеря – по состоянию здоровья. Поставили диагноз – «силикоз», есть такая болезнь легких, она часто развивается у людей, работавших на рудниках. И вот в сорок восьмом году он нежданно появился на пороге квартиры. Дверь ему открыла Дора Львовна. Молча вгляделась в худое, обросшее щетиной лицо. Узнав, с тонким визгом повалилась на колени, обняла мужа за ноги. «Прости меня! Прости, если сможешь!» На крик выскочили в коридор Ромка, Сонька, сожитель матери. Дора Львовна, стоя на коленях, повернула к тому заплаканное лицо, медленно выговорила: «А ты уходи и забудь… Тебе только показалось – между нами ничего не было!» Тот все понял, ни слова не сказал. Наскоро собрал в спальне свои манатки, побросал в два чемодана. И ушел.
Ромкин отец прожил недолго, через полтора года «силикоз» уложил его в могилу. Дора Львовна свято хранила память об умершем, держала себя в строгости. А ее бывший сожитель еще долго надеялся, что они опять будут вместе. Иногда, подкараулив Соньку возле школы, он торопливо совал ей в портфель коробку с какими-нибудь дефицитными конфетами, поступившими в гастроном. Та благосклонно принимала подарок. А вот Ромка от таких подарков всегда вежливо отказывался. Память об отце не позволяла.
13
Соня с мужем уехала в Израиль на несколько лет раньше Ромки. Они тоже жили в Тель-Авиве – в южной его части, в районе старой Яффы. Уже в конце двухнедельного пребывания Бориса в Израиле Ромка повез его к сестре, повидаться.
В их школьные годы Сонька была совсем малолеткой. Если мать задерживалась на работе, Ромка после уроков забирал сестренку из детсада и потом вместе с ней приходил на тренировку. Усаживал ее на мягкий травяной газон – возле волейбольной площадки в их школьном дворе. Она с интересом наблюдала за игрой, восторженно орала после каждого удачного удара брата по мячу. В институтские годы, забегая иногда к Ромке домой, Борис встречал там уже другую Соньку. Худая и длинная, как Ромка, она часами торчала в коридоре у телефона, болтая с одноклассниками. А после того, как Борис перебрался в Москву, они ни разу не виделись. Лишь изредка Борис узнавал от Ромки, что сестра вышла замуж, что потом сын у нее родился. Выходит, сколько же они не виделись – почти полвека?
Соня открыла им дверь – в переднике, с засученными рукавами. Что-то готовила на кухне, чтобы потчевать гостей. Прямо в дверях они вгляделись друг в друга. Перед Борисом стояла седая, морщинистая, раздавшаяся вширь женщина; Борис вспомнил – Дора Львовна тоже к старости очень располнела. На улице Борис ну никак Соню не узнал бы. Да и она, конечно, не узнала бы его тоже… Они поздоровались, Соня церемонно чмокнула Бориса в щеку и побежала обратно на кухню.
В комнате на диване сидел Сонин муж Леня. Глаза безучастно смотрят куда-то вдаль. Нижний конец правой брючины застегнут булавкой – ступни нет. Когда они с Ромкой ехали в гости, тот успел рассказать Борису, что у Лени обнаружили тяжелый диабет. Как осложнение развилась гангрена, ступню пришлось ампутировать. А тут и другая напасть объявилась – прогрессирующая потеря памяти. Словом, у бедной Сони забот полон рот.
Борис, здороваясь с Леней, протянул руку. На мгновение тот безучастно повернул глаза, ответил слабым рукопожатием.
Соня принесла из кухни кастрюльку с горячим пловом, какие-то салаты. Вытащила из шкафа бутылку водки. Да еще Ромка достал из своей сумки бутылку коньяка и торт, которые они с Борисом по дороге купили.
– Садитесь к столу, гости дорогие. Давайте нальем, выпьем и закусим, пока плов не остыл. – Соня лучезарно улыбнулась, морщины в углах рта стали еще глубже. Она повернулась к мужу, погладила его по плечу.
– Ленчик, я тебе плова положу?
– Да, да, – отозвался тот, не поворачивая головы.
Ромка разлил коньяк. В рюмку мужа Соня плеснула заварку из чайничка. Подмигнув Борису, негромко пояснила, что доктора не советуют Лене принимать алкоголь. Они все чокнулись за встречу, даже Леня протянул свою рюмку с чайной заваркой. Выпили, принялись за салаты и плов.
Соня, повернув голову к Борису, спросила:
– Ну, как ты там, в Америке своей, живешь? Знаю, что жену похоронить успел – да будет ей земля пухом. Сын уже вырос?
Борис рассказал, что в Америке попервоначалу было трудно, английский никак не давался. А потом язык более или менее освоил и нашел работу в компании по проектированию трансформаторных подстанций, сначала – простым чертежником, потом в инженеры выбился. Сейчас уже на пенсии. Пенсия по американским понятиям скромная. Потому что стаж небольшой – всего девятнадцать лет отработал. Но на жизнь хватает. Даже вот поездку в Израиль смог себе позволить. Живет вместе сыном, тот пока холостой. Офицер, летает на истребителе. Очень душевный, заботливый парень…
– У нас с Леней тоже сын, – отозвалась Соня. – Привезли его сюда подростком, в школе учился хорошо, иврит быстро освоил. Потом в армии служил. А потом сумел перебраться к вам, в Америку. Вроде бы, бизнесменом стал, в Чикаго живет, дом свой купил. Только нам, к сожалению, мало внимания уделяет. Я не деньги в виду имею. Слава Богу, эта страна, в которой мы почти и не работали, обеспечила нас и квартирой, и пособием. Я имею в виду обычное внимание. Поначалу я сыну каждый месяц длинные письма писала. А он в ответ – хорошо, если за год пару открыток коротеньких пришлет. И не звонит совсем. Нам отсюда звонить в Чикаго все-таки накладно. И приехать, повидать нас хоть раз за эти годы он тоже мог бы. Ведь знает, в каком состоянии отец…
Соня вздохнула, погладила мужа по плечу. Тот сосредоточенно доедал плов, наклонившись над тарелкой.
В углу, на тумбочке, Борис заметил фотографию молодого парня в военной форме, с автоматом в руках.
– Сын?
– Он, Вадик. Когда в армии служил.
– Знаешь, дай мне его телефон в Чикаго, – решил вдруг Борис. – Прилечу домой и позвоню. Скажу, чтобы спешил делать добро. Пока мать с отцом живы. Сколько внимания мы родителям ни уделяем, все равно это лишь малая толика той заботы и любви, что получили от них. Когда они уходят, начинаешь понимать – не додал, не додал… Вон у Моисея в десяти заповедях не сказано о том, что надо любить братьев и сестер своих. Не сказано даже, что надо любить детей своих. Понятно, что любить надо, да все-таки не сказано. А вот о родителях сказано: «Почитай отца твоего и матерь твою». Ведь это – самое святое.
Борис потянулся к бутылке с коньяком, молча налил в рюмки себе, Ромке, Соне. Потом негромко спросил у нее:
– Можно я и Лене капну в рюмку – одну каплю только? У меня тост есть.
Соня согласно кивнула.
– Ребята дорогие, Леня, Рома, Соня, давайте выпьем за светлую память наших родителей. Я – человек неверующий. Да вот откроюсь вам – каждое утро начинаю с молитвы. Она коротенькая: «Папочка, мамочка, да снизойдет на меня ваша благодать». Если они где-то есть, как же дорого им, что не забыты. Да и мне прямая польза – если они где-то есть, уж точно замолвят там словечко за меня… Давайте же выпьем за ушедших отцов, матерей наших. За их светлую память. Не чокаясь.
14
Крупная дрожь, сотрясавшая тело «Аэробуса», кончилась так же внезапно, как и началась. Видимо, зона завихрения осталась позади. Борис облегченно повернулся в кресле набок, поправил поудобнее маленькую подушку под головой. И сразу заснул.
Спал он крепко, но, вроде бы, недолго. Сперва сквозь сон раздался какой-то одиночный взвизг, потом несколько разноголосых криков. Приснилось – дремотно, не открывая глаз, подумал Борис. Это, наверное, мальчишки визжат, прыгая с мостков в холодную Уводь… Но затем послышались еще крики, топот ног вдоль прохода. Борис недовольно разлепил глаза.
Еще не совсем проснувшись, он увидел перед собой бабушку с внучкой на руках. Вскочив с кресла, бабушка поверх очков смотрела с ужасом в сторону пассажира в кресле 30-С. Борис повернул глаза – полуседой, коротко стриженный затылок вяло откинулся на спинку кресла, массивная шея… И поперек нее, с левой стороны, что видна Борису, – кровавая рана с широко разошедшимися краями! Борис бросил взгляд на девочку. Пятна крови покрывали ее лицо и воротник платьица. Видимо, рана на шее пассажира была глубокой, из сонной артерии кровь фонтаном ударила наружу… Зажмурившись от страха, девочка молча прижималась к бабушке. А та, раскрыв рот, почти неслышно кричала. Ей вторили некоторые пассажиры из соседних рядов.
Места рядом с Борисом, где раньше сидела парочка ортодоксов, пусты. Девицы в белом платочке не видно. А парень в кипе – вот он, бегает вдоль прохода, орет что-то угрожающее. В одной руке – покрытый кровью нож, в другой – тяжелый пистолет. Какой-то мрачный тип, тоже с ножом в руке, возвышается в проходе с другой стороны. «Может, это мне снится? – подумал Борис. – Прямо чертовщина какая-то».
Из салона бизнес-класса выскочили, часто переступая туфельками на высоких каблуках, две испуганные стюардессы. За ними – толстяк с тонкими усиками, тоже в форме «Люфтганзы», которого Борис уже видел раньше. Толстяк грубо подталкивал стюардесс – в направлении хвостовой части «Аэробуса». Там, в буфетной комнате, сбились в кучу остальные члены экипажа. «Аллах акбар!» – заорал толстяк, размахивая ножом. «Аллах акбар!» – отозвались парень в кипе и мрачный тип из прохода с другой стороны.
В салоне раздался громкий щелчок – включились динамики. Женский голос внятно, хотя и с акцентом, объявил по-английски: «Внимание… Самолет захвачен воинами `Исламского освобождения'. Всем оставаться на местах. Каждый, кто покинет свое кресло, будет убит без промедления – наша рука не дрогнет! А если потребуется, то мы взорвем самолет!» Бабушка торопливо посадила внучку на ее место и села сама.
Толстяк с тонкими усиками подошел к парню в кипе, сказал что-то. Парень отдал ему пистолет. Потом с ножом в руке приблизился к Борису и потянул за воротник куртки.
– Вставай, собака неверная!
Подымаясь с кресла, Борис вдруг сообразил – парень произнес это по-русски!
– Я-то думал, что ты – израильский ортодокс, – сказал Борис, стараясь улыбнуться как можно дружелюбнее. – А ты, выходит, «свой», из России.
– Я не «свой» – я чеченский воин Аллаха! – заорал парень.
– А кипу тогда зачем носишь?
– Какую кипу?
Вспомнив, парень протянул руку к макушке, с отвращением сорвал кипу, бросил ее вместе с защепкой на пол.
– Маскировка такая была… Вперед, собака неверная! – парень подтолкнул Бориса вдоль прохода.
Пассажиры бизнес-класса и первого класса сидели, испуганно вжавшись в кресла. Недалеко от входа в кабину пилотов стоял с ножом в руке еще один «воин Аллаха», чернокожий. «Интересный у них состав, – подумал Борис. – Чеченец – из России. Толстяк с усиками – араб вроде бы. Теперь вот этот чернокожий. Настоящий Террористический интернационал. Отморозки всех стран, соединяйтесь…»
Сбоку от двери в кабину пилотов, скрючившись, лежали на полу, два мужских трупа в форме «Люфтганзы». Пилоты, наверное. Парень-чеченец перешагнул через них, приоткрыл дверь. Подталкивая Бориса, вошел внутрь. Та самая девица в белом платочке, завязанном узелком ниже подбородка, сидела за штурвалом. Возле ее ног валялась открытая дамская сумочка. Оттуда, видимо, достала девица небольшую брошюрку, что лежала у нее на коленях. Иногда, перед тем, как нажать на пульте управления ту или иную кнопку, девица заглядывала в эту брошюрку.
– Ты кто? – спросила она по-русски, не поворачивая головы. Борис понял – спрашивает его.
– Борис Левитин.
– А как ты попал на место это, 31-А?
– Пассажир не явился на регистрацию. Мне это место потом отдали.
Девица на секунду оторвала глаза от пульта, повернула голову к парню.
– Так я и думала – он не пришел, он за жизнь испугался, предатель! А теперь мне одной во всех этих кнопках разбираться, задание выполнять… Отведи старика.
15
Маршрутный коридор F-22 располагался на высоте восьми миль, а трассы пассажирских самолетов – примерно на высоте шести с половиной миль. В полуденном воздухе их неуклюжие туши внизу были хорошо видны Андрею. Ветер дул со стороны материка. Навстречу ветру самолеты заходили на посадку в аэропорт Рейгана.
Каждые полчаса Андрей связывался с центром управления. Все было спокойно. Мягко работал двигатель – хороший, вроде бы, самолет получился, F-22. Хотя и на прежнюю модель, F-15, летчики его эскадрильи не жаловались. Андрей вспомнил вдруг, что во время Второй мировой войны его дед по отцу тоже был военным летчиком. К сожалению, даже лица деда в памяти не осталось. Тот умер, когда Андрей находился еще в «грудничковом» возрасте. А другой его дед и обе бабки ушли из жизни, когда Андрея и на свете-то не было. Жаль, конечно, что не довелось их увидеть, – родная кровь, родные корни. Рано умерли. Да и мама тоже мало пожила…
Будь мама жива сегодня, как отнеслась бы она к Мелиссе, к тому, что Андрей надумал жениться? Говорят, что свекровь и невестка плохо уживаются под одной крышей. Впрочем, будь мама жива и здорова, никакой необходимости для их сосуществования под одной крышей и не было бы. А вот как теперь поступить с отцом? Оставить одного? Нет, конечно же. На это Андрей не пойдет. Обычный средний американец считает нормальным, если его одинокая мать или одинокий отец живет отдельно. И без особых угрызений отправляет родителей в случае необходимости в дом для престарелых. Уход там неплохой. Но ведь такому одинокому старику или старухе как раз и не хватает прежде всего общения с близкими… Сегодня вечером надо будет обязательно обговорить все с Мелиссой. Она умная, она поймет – Андрей не может оставить отца одного. Тем более, что пока и ухода за ним никакого не требуется. Еще активный, бодрый…
Андрей бросил взгляд на часы – двенадцать сорок четыре. В тринадцать ноль ноль он еще раз выйдет на связь с центром управления, доложит обстановку. И получит разрешение на посадку…
Неожиданно голос Эриксона раздался в наушниках:
– Девятый, девятый, я второй. Передаю срочную информацию. Диспетчерская служба аэропорта Рейгана сообщила нам о том, что потеряна связь с рейсом 416, который летит из Франкфурта в Вашингтон. Это «Аэробус» компании «Люфтганза». Самолет виден на экранах радаров, следует обычным курсом. По расписанию, должен приземлиться в аэропорту Рейгана в тринадцать сорок… Выдвигайтесь навстречу – диктую координаты… Повторите… Когда увидите «Аэробус», попробуйте связаться с экипажем. Возможно, по каким-то причинам сигнал их радиопередатчика просто ослабел, но на коротком расстоянии еще может быть услышан. Запишите частоту, на которой работает передатчик… Повторите…
16
Подталкивая Бориса в спину, парень-чеченец отвел его на место. Усевшись, Борис задумался. Вот уж, действительно, не повезло – зачем рейс поменял. Летел бы сейчас спокойно на рейсе 418… А впрочем, разве угадаешь – эти нелюди могли оказаться и там.
О каком «задании» говорила девица в белом платочке? Наверное, о втором акте все той же трагедии под названием «11 сентября». Самолет летит в Вашингтон. Что там за цель может быть у них – Белый дом, Капитолий? Врезаться самолетом в Капитолий, конечно, легче, он на холме стоит. Но теперь задание вряд ли будет выполнено. Тот, кому надлежало пилотировать «Аэробус», в последний момент испугался, не пришел на регистрацию. А девица эта, наверное, лишь подстраховывала первого пилота, на всякий случай. Она и по прямой ведет самолет с трудом, все в брошюрку заглядывает. Хотя для пассажиров данного рейса это уже значения не имеет. Для них конец один – попадет ли самолет в цель или рухнет в другом конце Вашингтона… А ведь остальные бандиты пилота этого, который испугался, пожалуй, и в глаза не видели. Его подготовка отдельно проходила. Парень-чеченец, когда во Франкфурте самолет еще только начал двигаться в сторону взлетной полосы, задал Борису дурацкий вопрос о погоде в Исламабаде. Это – пароль, в ответ должен был прозвучать отзыв.
Левое крыло «Аэробуса» резко дернулось кверху. Труп мужчины в кресле 30-С качнулся, голова высунулась в проход. Затем «Аэробус» снова принял горизонтальное положение… Видимо, та девица проверяла на практике свои скромные познания в управлении самолетом.
А почему зарезали этого мужчину – в кресле 30-С? Нож ему в горло воткнул, конечно же, парень-чеченец, он сзади сидел… Воткнул-то почему? Да, наверное, убитый «маршалом» был. Теперь, после терактов 11 сентября 2001 года, такие одетые в штатское охранники сопровождают все пассажирские рейсы. Борис вспомнил, как мужчина этот долго прогуливался вдоль проходов – то ли просто ноги хотел размять, то ли высматривал, нет ли чего подозрительного. Но, с другой стороны, в какой-то газете Борис читал, что «маршалу» обычно отводят место в салоне первого класса, чтобы под контролем был вход в кабину пилотов. Хотя в той статье речь шла об американских авиакомпаниях. А это – немецкая «Люфтганза». Может, у них свои правила игры… Но откуда же бандитам стало известно, на каком месте сидит «маршал»?.. Да потому, что у них свой человек был в экипаже – толстяк с тонкими усиками. С его помощью они и ножи на борт пронесли. Или, может, запрятали лезвия в подошвы ботинок и спокойно прошли через рентгеноустановку. Месяца три назад в телевизионных новостях рассказывали о журналисте, который сумел проделать то же самое, посрамив службу охраны какого-то американского аэропорта… А пистолет у бандитов, вроде бы, в единственном экземпляре – наверное, позаимствовали у зарезанного «маршала».
Ну, вот и все… Выходит, не случайно потянуло его на воспоминания сегодня. Еще полчаса, еще час – и конец. Длилась жизнь, длилась, да вся вышла. На восьмом десятке лет. Кажется, это про Авраама сказано в Библии: «И умер в старости доброй, насыщенный жизнию». Согласно Библии, было Аврааму сто семьдесят пять лет… И до половины Авраамова века Борис не дотянул. А все-таки грех жаловаться. Того хорошего, что было в жизни, у него уже не отнимешь.
Борис провел ладонью по лбу. Лоб покрыт потом – вроде как температура поднялась в салоне. Девица за штурвалом, наверное, опять не ту кнопку нажала. А, может, температура в салоне не при чем, и пот выступил от страха?.. Нет. Даже странно, но страха нет. Видимо, перед смертью человек испытывает страх, если есть еще хоть самый малый шанс этой смерти избежать. Тогда как у Бориса и всех остальных людей на этом самолете шансов нет. Окончательно и бесповоротно. Даже если представить, что сами террористы в последний момент испугаются смерти, будут готовы сдаться властям, это уже неосуществимо. Для этого надо сперва посадить «Аэробус». А посадить некому… Какое емкое словосочетание придумал когда-то Толстой – «живой труп». Сидят в салоне самолета три сотни трупов, хотя еще несколько десятков минут они и будут выглядеть, как живые… Воистину, мир все больше сходит с ума.
Борис достал носовой платок, вытер вспотевший лоб. Засовывая платок обратно в карман, нащупал там какую-то бумажку. Вытащил ее. На бумажке чьим-то незнакомым почерком написаны в ряд десять цифр. Что за цифры?.. Потом вспомнил: это же телефонный номер, который позавчера дала ему Соня, номер ее сына в Чикаго. Борис еще обещал позвонить, напомнить тому об отце и матери. Теперь уже не позвонит… Теперь собственным отцу и матери надо бы напоследок хоть несколько слов сказать. И Лизочке тоже… «Папочка, мамочка, Лизочка, если вы где-то есть, значит, скоро вас увижу. А если вас нет нигде, то прощайте. Навсегда»… И всетаки неужели их нет нигде? Мелькнули в быстротечном времени души дорогих ему людей и канули, превратились в ничто. Как обидно и несправедливо. Ведь каждая живая душа – это целый мир!.. А как же Андрюшка-то один останется? Уж он отца с матерью никогда не забудет. Добрый мальчик…
Бабушка, что сидела впереди, вдруг встала и протянула руку к дверце багажной полки над головой. К ней по проходу подскочил усатый толстяк с пистолетом в руке.
– Нельзя! Сидеть!
– Мне с сердцем плохо… Лекарство из сумки достать надо, – забормотала она.
– Сидеть, старуха! Застрелю!
Прижав ладонь к груди, бабушка вдруг побелела, глаза под очками замерли, уставившись в потолок… Ее тело медленно завалилось на кресло, где сидела внучка. Стараясь выбраться из-под тела бабушки, внучка в ужасе стала карабкаться на спинку кресла. Борис приподнялся на мгновение, подхватил ее на руки, погладил по голове.
– Не плачь, не плачь… Я знаю: тебя Лайза зовут. Хорошее у тебя имя… А меня зовут Борис.
– Моя бабушка умерла? Этот дядя меня убьет тоже?
– Нет, нет, не бойся. Ты – маленькая, тебе еще жить надо долго, долго… Давай лучше я тебе сейчас сказку расскажу, – Борис усадил девочку к себе на колени и продолжил, медленно подбирая английские слова. – Сказку про льва и собачку… Вот слушай. Жил-был лев – в клетке, в зоопарке. И однажды в зоопарк забежала маленькая собачка. Лев как раз в это время обедал. А собачка была голодная. Она прыгнула между прутьев в клетку ко льву и, как ни в чем не бывало, тоже принялась за обед. Люди, которые стояли возле клетки, испугались, что лев сейчас разорвет собачку на части. Но тот ее не тронул. И они стали жить вместе. И стали друзьями.
– Эту сказку мне бабушка читала… И потом собачка умерла?
– Нет, Лайза. Я не хочу тебе грустную сказку рассказывать. Моя сказка веселая. Подружившись с собачкой, лев стал таким добрым. Люди подходили к клетке, через прутья гладили его по голове, а он в ответ только жмурил глаза от удовольствия и махал хвостом. Хозяин зоопарка понял, что льва незачем держать взаперти – теперь он ничего плохого не сделает. Клетку открыли, и лев с собачкой убежали в лес и стали там жить самостоятельно. Только на обед они приходили в зоопарк и терпеливо ждали, когда их покормят. И люди в этом городе, увидев, каким добрым стал лев, тоже стали добрее. Никогда больше они не кидались друг на друга и не рычали, как звери…
17
«Аэробус» шел вдоль побережья на высоте шести с половиной миль. На хвостовом оперении виден большой желтый круг, внутри распростерла крылья синяя цапля – знак «Люфтганзы». Андрей приблизился, облетел «Аэробус», покачал крыльями. Никакого ответа. На радиочастоте, которую продиктовал ему Эриксон, тоже было тихо. Сбросив скорость, F-22 пристроился к «Аэробусу» – справа и выше.
Андрей собирался доложить обстановку на командный пункт, но Эриксон его опередил.
– Девятый, я второй… Несколько минут назад один из пассажиров рейса 416 по мобильному телефону сумел позвонить жене в Вашингтон. А та об этом звонке немедленно поставила в известность ФБР… Самолет захвачен исламскими террористами! Оба пилота убиты. Девятый, вы меня поняли?
– Второй, вас понял.
– Следуйте параллельным курсом. Сейчас принимают решение. На самом верху. Ждите…
На миг у Андрея перехватило дыхание. Неужели ему прикажут сбить этот «Аэробус»? Ведь там, внутри… Нет, не думать об этом!..
После трагедии 11 сентября командир их эскадрильи полковник Робертс собрал пилотов и ознакомил с новой инструкцией. Самолет, захваченный террористами-самоубийцами, надлежало теперь сбивать прежде, чем тот достигнет намеченной на земле цели. Если бы те два «Боинга», что врезались 11 сентября в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, были перехвачены и сбиты, это сохранило бы жизни без малого трех тысяч человек, находившихся внутри башен. Конечно, в таком случае погибли бы ни в чем не повинные пассажиры «Боингов». Но ведь их гибель была предрешена в любом случае… Жизнь так устроена – на каждой ее развилке человек должен принимать решение, выбирая свой путь. И не всегда это выбор между хорошим и плохим. Иногда, к несчастью, приходится выбирать из двух зол – то, которое меньше… Теоретически новая инструкция звучит, конечно же, разумно. Но неужели именно ему, Андрею, придется сегодня реализовать ее на практике?! Он вспомнил вдруг, что сегодня оттуда же, из Франкфурта, рейсом 418 летит отец. Какое счастье, что отец взял билет на более поздний рейс…
На том собрании, после трагедии 11 сентября, полковник Робертс привел пример. Когда американский пилот сбросил атомную бомбу на Хиросиму, испепелив десятки тысяч мирных людей, это тоже было наименьшим злом. Таким образом удалось сохранить жизни сотен тысяч и американских солдат, и японских, которые были бы обречены на гибель, продлись война еще полгода… Господи, скорее бы увидеть отца. Он поймет Андрея – другого выхода не было… И Мелисса тоже поймет…
– Девятый, я второй, – раздался голос в наушниках. – Получен приказ – сбить захваченный террористами самолет… Вы меня поняли?
– Второй, я девятый. Вас понял.
– Выполняйте.
Андрей положил F-22 на крыло, ушел в сторону, развернулся. Перекрестье прицела уперлось в правый бок «Аэробуса». Теперь надо нажать на спусковую кнопку… На эту вот кнопку… Ракета пронзит обшивку самолета. Взорвавшись, расколет его корпус надвое. И для сидящих внутри все будет кончено… Надо только нажать на эту кнопку…
В наушниках зазвучал торопливый голос Эриксона:
– Девятый, я второй. В чем дело?.. Почему вы не выполняете приказ?
– Эриксон, ведь там же ни в чем не повинные люди… И дети, наверное, тоже…
Андрей услышал невнятные слова Эриксона, обращенные к кому-то. Потом другой голос ворвался в наушники. Андрей узнал полковника Робертса.
– Девятый, я первый. Вы что, не понимаете?! Это приказ верховного командования!.. Вы обязаны выполнить его немедленно – повторите!
– Первый, я девятый. Вас понял. Приказ будет выполнен немедленно… Приказ будет выполнен… Приказ будет выполнен…
Андрей продолжал бормотать последнюю фразу, разворачивая еще раз свой F-22. Перекрестье прицела опять уперлось в «Аэробус». В его левый бок. Где-то на уровне 31 ряда. Потом онемелый палец Андрея нажал на спусковую кнопку…
Просьба, с которой Борис неделю назад, стоя у Стены плача, обратился к Богу, была услышана. Смерть Бориса и спящей на его руках девочки была мгновенной.
2006

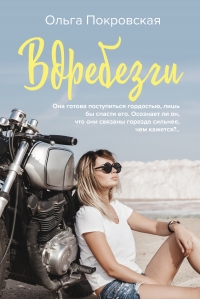
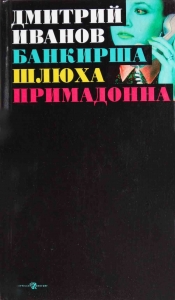



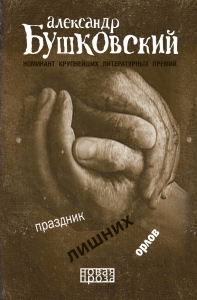
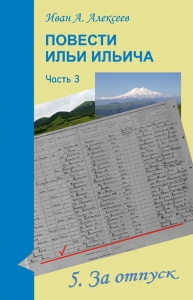

Комментарии к книге «Долгий полет (сборник)», Виталий Александрович Бернштейн
Всего 0 комментариев