Мишель Шнайдер Последний сеанс Мэрилин Записки личного психоаналитика
В каждой истории есть две стороны.
Мэрилин МонроПосвящается Мэрилин
Нью-Йорк, апрель 1955 года. Писатель Трумен Капоте беседует с Мэрилин Монро на похоронах.
— Мне надо подкрасить волосы, — говорит она. — Я не успела.
Показывает ему свой потемневший пробор.
— Ну и наивен же я! Всегда считал, что ты настоящая стопроцентная блондинка.
— А я и есть настоящая блондинка. Но ведь блондинкой не становишься просто так, от природы. И вообще, плевать я хотела на твое мнение…
Так же как и цвет волос Мэрилин, этот роман (или переплетающиеся между собой романы) на самом деле не настоящий, В отличие от устаревших предубеждений, имеющих место в старых фильмах, он вдохновлен подлинными фактами и персонажи носят в нем свои настоящие имена, за несколькими исключениями, сделанными с целью защиты неприкосновенности частной жизни ныне живущих лиц. Места действия сохранены, даты проверены. Цитаты, взятые из рассказов, записей, писем, статей, бесед, книг, фильмов и некоторых высказываний персонажей, подлинные.
Моя бесцеремонность как автора книги все же не позволяет приписывать одним то, что сказали, увидели или пережили другие, открывать несуществующий «личный дневник», приводить цитаты из выдуманных статей и записей или пересказывать сны и размышления персонажей, не подтвержденные какими-либо источниками.
В этой истории любви без любви, поразившей двух реальных людей — Мэрилин Монро и Ральфа Гринсона, ее последнего психоаналитика, — привязанных друг к другу нитями судьбы, не стоит искать стремления к правдоподобию. Я вижу их такими, какими они были, и воспринимаю их странности так, как если бы они указывали мне на мою собственную странность.
Вымысел иной раз дает нам доступ к реальности. Но в конце истории, как и в конце жизни, истина каждого из нас не раскрывается полностью. Тот, кто выводит слова на бумаге, не является автором написанного, точно так же, как ими не являются мои персонажи — Мэрилин и Ральф; писатель смотрит на свою руку, которая, слово за словом, поднимается вверх по течению времени, как на руку, которая ему не принадлежит. Строки ложатся слева направо, но их можно читать, как отражение в зеркале, пока в темноте экрана не задрожит надпись: «СИГНАЛА НЕТ».
Я хочу, чтобы эта игра в тайные слова и явные действия, эта череда отрывочных кадров, перемежающихся внезапными вспышками, закончилась лишь вопросительным знаком, когда персонажи медленно тают в пространстве, а ладонь автора раскрывается — пустая, как у покинутого ребенка.
Пригород Лос-Анджелеса, Первая Западная улица август 2005 года
REWIND. Перемотать кассету назад. Начать всю историю сначала. Снова прослушать последний сеанс Мэрилин. Конец — это всегда начало. Мне нравятся фильмы, которые начинаются с голоса за кадром. В кадре нет почти ничего: бассейн с плавающим телом, покачивающиеся верхушки пальм, обнаженная женщина под голубой простыней, осколки стекла в сумерках. И кто-то говорит. Сам с собой. Чтобы не чувствовать одиночества. Беглец, частный детектив, врач или психоаналитик — почему бы и нет? — рассказывает как бы с другого берега историю своей жизни. Говоря о том, от чего он умирает, он упоминает и то, чем он жил. Кажется, его голос произносит: «Послушай меня, ведь я — это ты». Историю создает голос, а не то, о чем в ней говорится.
Я попытаюсь рассказать эту историю. Нашу историю. Мою. Она была бы некрасивой, даже если бы нам удалось избежать ее конца.
Женщина, уже несущая в себе смерть, тянет за руку печальную девочку. Она ведет ее к доктору, который лечит болезни головы, лечит словами.
Он взял ее — и он ее бросил. С любовью и отвращением он слушал ее два с половиной года. Он ничего не услышал — и потерял ее.
Это будет грустная и даже мрачная история; ничто не сможет искупить ее безысходность, даже та улыбка, которой Мэрилин, казалось, просила прощения за свою красоту.
Под трижды подчеркнутым заглавием REWIND был написан этот краткий фрагмент незаконченного рассказа. Эти строки, написанные от руки и не датированные, нашли в бумагах доктора Ральфа Гринсона, последнего психоаналитика Мэрилин Монро, уже после его смерти. Именно его голос услышал офицер полиции Джек Клеммонс накануне, в ночь с 4 на 5 августа 1962 г., в комиссариате Западного Лос-Анджелеса, когда в четыре двадцать пять утра раздался телефонный звонок из района Брентвуд.
«Мэрилин Монро умерла от передозировки», — пробормотал тусклый мужской голос. И когда ошеломленный полицейский переспросил: «Что?» — тот же голос с усилием повторил: «Мэрилин Монро умерла. Покончила с собой».
REWIND. В августе город потеет еще сильнее, чем весной. Загрязненный воздух розовой вуалью висит над улицами, которые даже в полдень обретают расплывчатость, напоминающую старые фильмы, подернутые дымкой цвета сепии. В 2005 году Лос-Анджелес еще менее реален, чем сорок лет назад. В нем больше металла. Он обнаженнее. Он серее. От тяжелого, давящего воздуха ломит глаза. В офисе «Лос-Анджелес Таймс», находящемся по адресу Первая Западная улица, 2002, Джон Майнер входит в кабинет журналиста Форджера У. Бэкрайта. Он высокого роста, сутулый и все время озирается, как будто сбился с пути. Старик (ему восемьдесят шесть лет) пришел рассказать старую историю.
Будучи заместителем начальника отдела судебной медицины окружной прокураторы, он присутствовал на проведенном Томасом Ногучи вскрытии тела Мэрилин Монро. В тот день он был свидетелем взятия проб слизистой оболочки рта, влагалища и ануса. Тому же следователю предстояло, шесть лет спустя, выполнить вскрытие трупа также погибшего в Лос-Анджелесе Роберта Кеннеди, которого подозревали в соучастии в организации убийства Мэрилин. Подозрение вызвало загадочное присутствие в крови актрисы 4,5 % снотворного (нембутал), причем не было обнаружено каких-либо следов его инъекции или орального приема. Отчет заканчивался фразой, которую Майнер непрестанно пережевывал все эти годы: «Самоубийство вероятно». Так было записано в протоколе расследования. В первых протоколах говорилось просто о самоубийстве или о возможном самоубийстве. «Действительно вероятно, если ограничиться физиологической стороной дела», — думал Майнер с того дня. Это не исключало того, что звезда потратила тридцать шесть лет на его осуществление и воспользовалась для этого рукой преступника. Он пытался подыскать другие выражения, чтобы описать произошедшее: «а foul play», грязная игра, или, как сказал доктор Литмен из Группы по предотвращению самоубийств, «а gamble with death», игра со смертью.
REWIND. Джону Майнеру, который уже давно ушел на пенсию, хотелось бы снова нажать на кнопку магнитофона с одной из кассет, записанных Мэрилин для ее психоаналитика в конце июля или в первые дни августа 1962 года. На эти кассеты Ральф Гринсон приклеил этикетку: «Мэрилин — последние сеансы». Майнер прослушал и расшифровал их сорок три года назад, но не сохранил записи у себя и ни разу с тех пор их не слушал. Они исчезли при жизни психоаналитика. Или после его смерти — кто знает? От них осталось только то, что Майнер записал своим скрупулезным почерком законоведа.
Поздоровавшись с журналистом, старик трясущейся рукой протянул ему пачку пожелтевших измятых бумаг. Бэкрайт пригласил посетителя сесть, протянул ему стакан холодной воды.
— Что заставило вас довериться прессе по прошествии стольких лет?
— Ральф Гринсон был порядочным человеком. Я был с ним знаком задолго до смерти его пациентки. До того как посвятить себя уголовному праву, я изучал медицину и слушал его лекции по психиатрии в УКЛА (Университет Калифорнии, Лос-Анджелес). Я уважал его и до сих пор уважаю. Его личность вызывала у меня огромный интерес. Через два дня после смерти Мэрилин Монро он попросил меня допросить его, потому что пожелал пересмотреть свои первые заявления для полиции. Он очень беспокоился о том, как бы его не представили в газетах как «странного психиатра» или «последнего человека, который видел Мэрилин живой, и первого, который видел ее мертвой». Он настоял на том, чтобы я прослушал две последние магнитофонные записи, которые он получил от нее в последний день, в субботу 4 августа 1962 года. Он оставил их мне, чтобы я их расшифровал, на том условии, что не разглашу их содержание даже окружному прокурору или следователю, занимавшемуся этим делом. После вскрытия у меня было слишком много оставшихся без ответа вопросов, чтобы отказаться от его свидетельских показаний, как бы трудно мне ни было сохранить их в секрете.
— Как и когда вы встретились с этим психиатром?
— Я провел с ним несколько часов в среду, 8 августа, в день похорон актрисы, на которых он присутствовал.
— Вы никогда не говорили об этой беседе?
— Я помню его заявление, когда он оказался мишенью слухов, — ответил Майнер дрожащим голосом. — «Я не могу объясниться или защититься, не упоминая о том, чего не хочу раскрывать. Крайне неудобно отвечать, что я не могу об этом рассказать, но для меня действительно невозможно рассказать всю историю полностью». Я не разгласил содержание записей из уважения к этой тайне. Только когда биографы вновь начали обвинять Гринсона в насилии и даже в убийстве, я решился заговорить. Вначале была беседа с британским журналистом Мэтью Смитом. Он сделал из нее книгу. Но я подавил свое желание сказать всю правду. Мне хотелось получить согласие вдовы, Хильди Гринсон, прежде чем предать гласности мои давние заметки и довести их до вашего сведения.
Форджер Бэкрайт напомнил ему, что Хильдегард Гринсон в интервью «Лос-Анджелес Таймс» уверяла, что никогда не слышала, чтобы ее муж говорил о магнитофонных записях, и вообще не знала об их существовании. Майнер ответил, что Гринсон строго придерживался деонтологии, сохраняя сказанное его пациентами в строжайшей тайне.
— Я хранил тайну в силу обязательств перед Гринсоном. Если сегодня я открою ее, то только потому, что он умер более двадцати пяти лет назад, и я обещал его вдове не оставлять без ответа заявления таких субъектов, как Джеймс Холл, Роберт Слацер, Дон Уолф, Марвин Бергман — всех, кто ставил под вопрос добросовестность последнего психоаналитика Мэрилин Монро. Другие, например Дональд Спото, говорили о «преступной халатности». Именно для того, чтобы ответить на эти обвинения, порочащие имя человека, к которому я испытываю почтение, я решил поделиться содержанием этих записей.
REWIND. В густой влажной атмосфере калифорнийского лета, в другом августе, перед другим магнитофоном, Майнер прерывающимся, но исполненным силы голосом рассказывал журналисту о том, как пришел к доктору Гринсону в августе 1962 года. В кабинете для консультаций, находящемся на первом этаже виллы с видом на Тихий океан, он увидел небритого, глубоко потрясенного человека, который стал говорить с ним откровенно, как с человеком, которому он доверяет. Психоаналитик попросил его сесть и без предисловий дал ему прослушать сорокаминутную кассету. Говорила Мэрилин. На пленке был ее голос. Больше ничего. Ни следа какого-либо диалога или присутствия собеседника. Она, и только она одна. Звучал ее голос, не срывающийся, а просто тихий, как будто она предоставляла самим словам добиваться внимания слушателей или остаться неуслышанными. Этот потусторонний голос проникал вам в душу с вкрадчивостью тех голосов, которые мы иногда слышим во сне.
Это был не сеанс психотерапии — ведь, как уточнил Майнер, психиатр не записывал на пленку своих пациенток. Мэрилин сама купила магнитофон несколько недель назад, чтобы передавать своему аналитику свои слова, записанные вне сеансов.
В тот день Майнер делал очень подробные дословные записи. Он вышел из кабинета Гринсона убежденным в том, что самоубийство Мэрилин было крайне маловероятно.
— Среди прочего, — подчеркнул он, — было ясно, что она строила планы на будущее и надеялась на осуществление некоторых ожиданий в краткосрочной перспективе.
— А доктор Гринсон? — спросил Бэкрайт. — Он склонялся к версии самоубийства или убийства?
— На этот счет я не могу составить определенного мнения. Все, что я могу сказать, — в отчете, который мне позднее велели представить начальству: я утверждал, что психиатр не верил, что его пациентка покончила с собой. Я написал примерно следующее (цитирую по памяти): «По вашему требованию я побеседовал с доктором Гринсоном о смерти его бывшей пациентки Мэрилин Монро. Мы обсуждали этот вопрос несколько часов, и на основе той информации, которую мне доверил доктор Гринсон, и содержания записей, которые он дал мне прослушать, я могу утверждать, что речь шла не о самоубийстве». Я послал этот отчет. Он не вызвал никакой реакции. Через десять дней, 17 августа, дело было закрыто. В настоящее время моей служебной записки в архивах нет.
REWIND. После второго стакана ледяной воды Майнер продолжил рассказ:
— У меня остался один вопрос, на который доктор Гринсон в тот день не ответил с определенностью: почему он упомянул о самоубийстве вначале, если был убежден, что это не было самоубийством? Ответ прост, но мне понадобились многие годы, чтобы догадаться: потому что он сообщил о самоубийстве по телефону, из квартиры умершей, и знал, что все комнаты начинены микрофонами.
— Гринсон, скорее всего, не был ни убийцей, ни сообщником, — вставил Бэкрайт, — но, возможно, он помог прикрыть убийство версией самоубийства по неизвестным причинам?
Майнер ничего не ответил.
— Кто же убил Мэрилин, если не она сама? — настаивал журналист.
— Я задаюсь не этим вопросом. Я не спрашиваю — кто? Я задумываюсь о том, что убило Мэрилин. Кино, душевная болезнь, психоанализ, деньги, политика?
Майнер попрощался. Уходя от Бэкрайта, он положил на его стол два помятых, пожелтевших конверта из плотной бумаги.
— Я не могу вам оставить никаких доказательств. Ее слова я слышал. Как описать ее голос? Я потерял его. Любой след стирает или покрывает ложью след предыдущий. Но я могу вам оставить кое-что. То, что тоже ничего не доказывает. Снимки.
Чтобы открыть конверты, журналист дождался момента, когда он окажется наедине со своим компьютером. В эту же ночь он должен был написать статью, уточняя, в каких условиях к нему в руки попал текст аудиозаписей, который предстояло опубликовать в завтрашнем издании. В первом конверте была только одна фотография — снимок на столе морга. Белое на белом: женщина — обнаженная, немолодая, белокурая. Лицо невозможно узнать. Во второй было шесть снимков, сделанных за несколько дней до этого в «Кал-Нева Лодж», роскошном отеле на границе между Калифорнией и Невадой. Мэрилин на четвереньках; с ней совокупляется мужчина, который смеется, глядя в камеру, и поднимает густые пряди ее волос, скрывающие левую сторону лица.
REWIND. Майнер, сутулясь, спустился по лестницам «Лос-Анджелес Таймс» и, не находя выхода, несколько минут блуждал наугад в подвале, где стоял застарелый запах типографской краски. Сегодня, через сорок три года после смерти Мэрилин и через двадцать три года после того, как окружной прокурор графства Лос-Анджелес, несмотря на повторное рассмотрение фактов и архивов, подтвердил версию первоначального расследования, Майнер не желал больше оставлять память актрисы на милость фанатов со всего света, каждый год собиравшихся у памятной доски и склепа на кладбище мемориального парка Вествуд Виллидж. Он никогда не верил, что Мэрилин убили, но никогда и не оспаривал этого. Чувствуя горечь и обиду теперь, по прошествии многих лет, он не хотел умереть, не исправив кое-чего. Не поделившись образом, который открыли ему записи. Это был образ женщины, полной жизни, юмора, желаний — какой угодно, но не страдающей депрессией и не склонной к самоубийству. Тем не менее Майнер по опыту знал, что часто люди, которые минуту назад были полны воли к жизни и надежды, убивали себя решительно и безжалостно. А также и то, что человек может захотеть перестать жить, не желая умереть. И то, что желание смерти часто означает желание прекратить жизненные страдания, а не саму жизнь. Но он не хотел верить в это противоречие в случае с Мэрилин. Что-то в записях говорило ему, что она могла быть только убита.
Однако не эта мысль преследовала его больше всего. Различные гипотезы убийства убедили его в том, что виновники и мотивы этой казни, в самом факте которой уже давно никто не сомневался, уже никогда не будут раскрыты. Его заставила заговорить та роль, которую Гринсон сыграл в ночь убийства. Майнера преследовали вопросы, которые он не смел сформулировать, ему не давали покоя молчание психоаналитика, его убитое лицо, взгляд, который он, отвернувшись, бросил на застекленную дверь и бассейн своей виллы в Санта-Монике в тот мерцающе-пурпурный вечер, когда он задал ему вопрос:
— Извините, но кем она была для вас — простой пациенткой? Кем вы были для нее?
— Она стала моим ребенком, моей болью, моей сестрой, моим безумием, — ответил Гринсон тихо, словно припоминая цитату.
REWIND. Майнер пришел к Форджеру Бэкрайту не за тем, чтобы раскрыть ему тайну заговора и дать ответ на вопрос, который мучает агента ФБР Дейла Купера в сериале «Твин Пикс» Дэвида Линча: «Кто убил Мэрилин Монро?» Он пришел задать другой вопрос: «Что произошло за те тридцать месяцев, в которые Гринсона и Мэрилин охватило страстное безумие психоанализа, преступившего свои границы?»
Лос-Анджелес, Уэст Сансет-бульвар январь 1960 года
Даже в самом конце жизни доктор Гринсон так и не забыл тот день, когда Мэрилин Монро срочно вызвала его к себе на дом.
«Вначале мы смотрели друг на друга как совершенно чужие люди, готовые разойтись в разные стороны, потому что им нечего делать вместе. Она — такая красивая; я — скорее непривлекательный. Легкомысленная блондинка и целитель мрачных глубин человеческой души — что это за пара?.. Сейчас я понимаю, что эти различия были чисто внешними: я в душе был актером и пользовался психоанализом, чтобы удовлетворять свою потребность нравиться, а она — интеллектуалкой, которая защищалась от страданий, связанных с размышлениями, своим детским голоском и напускной глупостью».
Мэрилин обратилась к тому, кто должен был стать ее последним психоаналитиком, когда начала сниматься в фильме «Давай займемся любовью» режиссера Джорджа Кьюкора. Ее партнером по фильму и любовником был Ив Монтан. Трудности, с которыми столкнулась Мэрилин, были всего лишь новым эпизодом в сложной работе актрисы в Голливуде. Диван психоаналитика представлялся ей обязательным средством от кризисов во время каждых съемок. Чтобы преодолеть приступы волнения, стеснительности и тревоги, которые парализовали ее на съемочной площадке, она за пять лет до того начала свой первый курс психоанализа в Нью-Йорке. Она обращалась последовательно к двум психоаналитикам, Маргарет Хохенберг и Марианне Крис. Осенью 1956 года, во время съемок фильма «Принц и хористка» режиссера Лоренса Оливье, у нее даже было в Лондоне несколько сеансов с дочерью самого Фрейда, Анной.
Теперь, в начале шестидесятых годов, вернулись ее страхи перед камерами кинокомпании «XX Сенчури Фокс» («XX Century Fox»), которая недоплачивала ей и плохо с ней обращалась. По контракту Мэрилин должна была сняться в последнем фильме. Съемки «Давай займемся любовью» все никак не могли начаться. Мэрилин трудно было играть роль Аманды Делл, танцовщицы и певички, которая влюбилась в миллиардера, не зная, кто он такой, и не заботясь о деньгах и репутации. Пока съемочная группа ждала, когда она пробудится от тяжелого сна, навеянного барбитуратами, и наконец прибудет на съемки, опоздав на несколько часов, на первый план выходила ее дублерша, Эвелин Мориарти. Она занимала место Мэрилин на площадке во время пробных съемок и даже первых репетиций с другими актерами. В начале съемок Ив Монтан признался Мэрилин в собственном страхе неудачи, и общая тревога очень быстро их сблизила. Работа над фильмом стояла на месте из-за внесения поправок в сценарий и неуверенности режиссера. Атмосфера катастрофы сгущалась над студией, парализованной его элегантным и рассеянным безразличием. Хотя Мэрилин была не единственной виновницей отставания от графика, продюсеры велели ей сделать что-то, чтобы не ставить под угрозу завершение работы над фильмом.
В Лос-Анджелесе у нее не было постоянного психоаналитика. Она обратилась за помощью к доктору Марианне Крис, у которой уже три года лечилась в Нью-Йорке. Крис порекомендовала Ральфа Р. Гринсона, одного из самых видных психотерапевтов в Голливуде, предварительно спросив его, готов ли он заняться сложным случаем. «Женщина в полном раздрае, она уничтожает себя лошадиными дозами наркотиков и медикаментов. Приступы тревоги свидетельствуют о хрупкости ее личности», — уточнила Крис. Доктор Гринсон согласился стать четвертым психоаналитиком Мэрилин Монро.
Первый сеанс состоялся в отеле «Беверли Хиллз». Из соображений секретности и из-за физического состояния актрисы беседа прошла в бунгало со светло-зеленым ковровым покрытием, где она проживала. Психоаналитику не удалось убедить Мэрилин прийти к нему в кабинет. Первый контакт был недолгим. После нескольких вопросов, относящихся скорее к ее медицинскому состоянию, чем к психической истории, Гринсон предложил принять ее позднее в своем кабинете, неподалеку от отеля. В течение почти шести месяцев съемок Мэрилин каждый день в послеобеденное время покидала съемочную площадку, чтобы явиться в кабинет своего психоаналитика в «Беверли Хиллз», Норт Роксбери-драйв, на полдороге между студией «Фокс» на Пико-бульвар и ее отелем на Сансет-авеню.
Архитектура отеля «Беверли Хиллз» напоминает его постояльцев. Фальшиво-импозантный розовый фасад. Беспорядочная, эклектичная, нелогичная планировка. Кричащие цвета тонированных цветных фильмов. Мэрилин вместе со своим мужем, Артуром Миллером, проживала в бунгало № 21. Ив Монтан с женой, Симоной Синьоре, занимал двадцатый номер. По счетам актеров, проживающих в этой гостинице в стиле «средиземноморского возрождения», напоминающей довоенные фильмы, платила студия «Фокс». Мэрилин смеялась над этим словом: «Возрождение». Как будто что-то и впрямь может возродиться. Как будто можно восстановить то, что никогда не существовало. Тем не менее она регулярно приглашала к себе из Сан-Диего прилетавшую на самолете пожилую даму, которая тридцать лет назад на площадках Эм-джи-эм обесцвечивала волосы звезды безумных двадцатых годов Джин Харлоу. Она посылала за Перл Портерфилд лимузин и угощала ее шампанским и черной икрой. Перл пользовалась старым методом — перекисью водорода, и Мэрилин не надо было ничего другого. Ей особенно нравилось слушать рассказы о звезде, ее блистательной жизни и холодной смерти. Возможно, эти истории были такими же фальшивыми, как платиновый оттенок ее волос и сама парикмахерша. Это был мир кино, и Мэрилин видела саму себя на экране воспоминаний.
Голливуд, Сансет-бульвар 1960 год
Лос-Анджелес, город ангелов, стал фабрикой грез. Встреча Ромео Гриншпуна, ставшего Ральфом Гринсоном, и Нормы Джин Бейкер, также известной как Мэрилин Монро, могла состояться только в Голливуде. Два человека со столь разной личной историей могли встретиться только в «Тинсельтауне», городе прожекторов, блесток, гирлянд, вблизи от студии с ярко освещенными площадками, на которых актеры выставляли напоказ темные уголки своих душ.
Именно там психоанализ и кино роковым образом переплелись. Их встреча была встречей двух незнакомцев, открывающих друг в друге не сходства, а скорее общие стремления — и не расстающихся лишь по недоразумению. Психоаналитики пытались истолковывать фильмы — иногда успешно, — кинематографисты ставили фильмы о психотерапевтах, интерпретирующих бессознательное. И те и другие — богатые, ранимые, невротичные, неуверенные в себе — были больны и лечились лошадиными дозами «словесной терапии». Бен Хехт — сценарист фильма «Завороженный» Альфреда Хичкока, десять лет спустя послуживший Мэрилин «негром» для написания автобиографии, — в 1944 году выпустил роман «Я ненавижу актеров». Он показал людей золотого века кино под всеми ракурсами психопатологии: психоз, невроз, перверсии. «Над каждым в Голливуде как дамоклов меч нависает угроза стать, рано или поздно, жертвой депрессии. Я знал кинорежиссеров, которым не пришло в голову ни одной идеи за десять лет и которые, тем не менее, в одно прекрасное утро или в один прекрасный вечер вдруг рухнули, как переутомившиеся гении. Пожалуй, с самой ошеломляющей частотой депрессия поражает актеров».
Однако в начале 1960 года, когда Мэрилин и Ральф встретились, упадок Голливуда уже начался. Фабрика фильмов достигла расцвета уже тридцать три года назад, когда Мэрилин родилась в заштатном городишке. Сегодня просторные помещения киностудий пустуют, в них витают лишь призраки актеров, чьи имена незнакомы туристам, заполонившим картонные улицы. Сегодня по Сансет-бульвар гуляют только латиноамериканские проститутки, останавливающиеся перед корейскими закусочными с разбитыми витринами. Сегодня психоанализ уже не «перспективная возможность» для человека, желающего настроить свое восприятие бытия на волну «нового века» и тем более найти смысл жизни. Сегодня трудно себе представить, что являл собой союз психоанализа и кино в прошедшие великие годы. Союз мысли и искусственности, всегда денег, часто славы, иногда крови — люди образа и люди слова объединились, чтобы быть вместе в горе и радости. Психоанализ не только исцелял души голливудского общества — он из бутафории создал город мечты.
Встреча Ромео и Мэрилин стала репетицией встречи психоанализа и кино: оба разделяли безумие друг друга. Как все совершенные сочетания и длительные союзы, эта встреча была основана на ошибке: психоаналитики стремились услышать невидимое; кинематографисты пытались выразить на экране слова, которые не могли высказать. Эта история продлилась около двадцати лет. Она закончилась с концом Голливуда, но призраки все же остались, и кино, как пациенты в процессе анализа, еще долго страдало навязчивыми воспоминаниями.
Лос-Анджелес, Мэдисон-авеню сентябрь 1988 года
На фронтоне празднично украшенного зала знаменитого рекламного агентства «Чиат-Дэй» в Лос-Анджелесе красуется неоновая надпись: «Многие специалисты — психи». Напоминающий пещеру свод из экзотического дерева и матированной стали украшен воздушными шарами, надутыми гелием, стены — яркими зонтиками, столы завалены кричащими безделушками в стиле Мейн-стрит Диснейленда. В оргкомитете праздника — один бомонд: Кэндис Берген, Джек Леммон, Софи Лорен, Уолтер Маттау, Мильтон Рудин, который был адвокатом Мэрилин. Фрэнк Гери, знаменитый архитектор, которому принадлежит проект перестройки этой бывшей ткацкой фабрики, разговаривает с калифорнийской элитой пластических хирургов перед тележкой с хот-догами. Пэтти Дэвис, дочь нынешнего президента и бывшего актера Рональда Рейгана, смертельно скучает. Рокер Джексон Браун разговаривает с актером Питером Фальком, а музыканты Генри Манчини и Квинси Джонс обмениваются светскими банальностями с режиссерами Сидни Поллаком и Марком Райделлом. Режиссер Блейк Эдвардс в кожаной куртке — рядом со своей женой, актрисой Джулией Эндрюс, — скучает, как все остальные, и молчит. Эта вечеринка напоминает ему фильм, в котором он показал очень похожий прием. С тех пор он снял два фильма по сценариям Мильтона Уэкслера, много лет бывшего его психоаналитиком; «Мужчина, который любил женщин» и «Такова жизнь».
Все следят за Дженнифер Джонс, звездой без возраста, которая ищет местечко, не слишком освещенное вспышками, чтобы продолжить разговор с сыном, Робертом Уолкером-младшим. В 1962 году она сыграла шизофреничку, пациентку психоаналитика Дика Дайвера в фильме по роману Скотта Фицджеральда «Ночь нежна». Раздав несколько поцелуев и вспомнив о том, как Николь была очарована Диком, Дженнифер подходит к герою вечера — высокому человеку с серебристыми волосами, в белом кардигане, белых же брюках и бордовом галстуке. Мильтон Уэкслер — не звезда экрана и не знаменитый режиссер. Сегодняшнее празднество посвящено не фильму и не звезде: самый известный из голливудских психоаналитиков отмечает свое восьмидесятилетие. «Психоаналитик звезд и звезда психоаналитиков», как его называют.
Хотя не все из собравшихся психи (несколько наиболее известных психов Голливуда не явились на торжество), большинство приглашенных побывали, хотя бы в течение нескольких сеансов, пациентами Уэкслера. Рекорд принадлежит Дженнифер Джонс: посвятив процессу психоанализа около пятидесяти лет, она сама стала предлагать пациентам сеансы лечения словом. Последние годы жизни она проработала психотерапевтом в Консультативном центре Южной Калифорнии в Беверли Хиллз. Тринадцать лет назад Дженнифер вышла замуж, причем не за одного из своих психоаналитиков, а за своего продюсера Дэвида О. Селзника, с которым она, впрочем, разделила диван психотерапевта Мэй Ромм.
В 1951 году первый муж Дженнифер Джонс, актер Роберт Уолкер, умер, будучи тридцати двух лет от роду. Обстоятельства гибели странным образом предвосхищали смерть Мэрилин. Тот же район — Брентвуд, тот же август месяц, та же смерть из-за передозировки медикаментов и алкоголя. На самом деле Уолкер умер от укола амитала натрия, который сделал ему его психоаналитик Фредерик Хакер, приехавший к нему по вызову среди ночи.
Затем, после попытки самоубийства, Дженнифер лечилась у Мильтона Уэкслера. Она бросилась в прибойную волну на севере пляжа Малибу. Сняв комнату в мотеле под именем Филлис Уолкер, она проглотила горсть таблеток секонала, позвонила своему врачу и сказала ему, что хочет умереть. Повесила трубку, доехала до пустынного мыса над Пойнт Дьюм, взобралась на него и бросилась с парапета на пляж. Врач, поднявший на ноги полицию Малибу, нашел ее без сознания лежащей на сером песке. Это была ее третья попытка самоубийства. Она стала одной из самых известных в Голливуде и самых активных в киноиндустрии женщин. Психоаналитик продолжал лечение, когда она переживала новые кризисы, в частности самоубийство ее двадцатиоднолетней дочери Мэри Дженнифер Селзник, которая бросилась с крыши небоскреба в Лос-Анджелесе в 1976 году.
Как и со своими страдающими шизофренией пациентками в Клинике имени Меннингера в Топеке, в лечении голливудских пациентов Уэкслер брал на себя очень активную роль и не довольствовался тем, чтобы просто находиться на заднем плане и молчаливо прислушиваться, как того требовал традиционный фрейдовский стиль. Он без колебаний указывал пациентам, что они должны делать — как в любви, так и в бизнесе. По-видимому, именно в этом подходе и нуждались такие хрупкие личности, как Дженнифер.
Хозяин показал выставку фотографий, отражающих вехи его карьеры: Уэкслер, везде Уэкслер, рядом с актерами и писателями, всеми известными личностями Лос-Анджелеса шестидесятых. Он поморщился при виде одной фотографии: сценаристка Лилиан Хеллманн, свернувшаяся на диване. Ни одной фотографии Ральфа Гринсона. Молодой коллега спрашивает его — почему?
«Я снял комедию о любви психоаналитика и пациентки, — отвечает Уэкслер. — Фильм «Мужчина, который любил женщин». А Роми, сам того не ведая, сыграл роль мужчины, который убивал женщин. Поймите меня правильно: он делал это из любви и для их же блага. Не знаю, стоит ли приводить подробности, но известно ли вам, что еще одна пациентка Роми умерла при невыясненных обстоятельствах через несколько лет после Мэрилин? Женское стремление к подражанию? Или актер репетировал роль фатального терапевта? Об этом я расскажу вам как-нибудь в другой раз. Ведь сегодня мой праздник». И он зашагал прочь.
Наконец появился гигантский именинный торт, а впереди шествовала Элейн Мей, бывшая комическая актриса, которая в свое время шокировала нью-йоркскую общественность тем, что вышла замуж за своего терапевта Дэвида Рубинфайна.
«Некоторые из вас знают, что Мильтон — не только именитый сценарист, но и психоаналитик», — начала Мэй. «Именитый» — это несколько преувеличено. Оба фильма, к которым Уэкслер написал сценарии, с треском провалились. «Может быть, некоторые из вас и не являются пациентами Мильтона, но всем, кто с ним встречался, становилось лучше».
Услышав последнюю фразу, Уэкслер напрягся. Он снова вспомнил о мае 1962 года, когда за несколько недель до смерти Мэрилин коллега Гринсон доверил ее ему, как домашнего зверька на время передают соседям, чтобы спокойно уехать на каникулы. «Иногда я задумываюсь, смогу ли продолжать с ней работать, — в отчаянии сказал Ральф. — Я стал узником этой пациентки. Я думал, мой метод ей подходит. Но дело в том, что она не подходит мне».
«Проклятый Ромео. Он-таки потерял свою Джульетту», — думал Уэкслер. Затем, после секундного колебания, под гром аплодисментов и афро-кубинские ритмы, бодрый восьмидесятилетний юбиляр решился разрезать гигантский торт-профитроль, специально для этого случая созданный дизайнером Клаасом Ольденбургом.
Голливуд, Беверли Хиллз, Норт Роксбери-драйв январь 1960 года
Норма Джин и Ральф. Между бедной необразованной девушкой из Лос-Анджелеса и обеспеченным интеллектуалом с восточного побережья не было ничего общего. Он — буржуа, воспитанный среди книг; она — девочка из рабочей семьи, повзрослевшая на съемочной площадке. Но они узнали друг друга с первой секунды. Он смотрел на нее, а она на него, как на потерянного, а затем вновь обретенного друга, призывно улыбавшегося. Но что-то бросало тень — что-то такое, что они отказывались видеть друг в друге. Послание судьбы: это твоя смерть вступила на сцену.
На первый сеанс Мэрилин приехала к своему последнему психоаналитику после трудного дня съемок, с получасовым опозданием. Доктор Гринсон заметил, что на ней были широкие брюки. Она сидела в кресле очень прямо, как будто ожидая кого-то в гостиничном холле.
— Вы опоздали, — произнес он.
Ему, любителю игры в шахматы, нравились дебюты, выбивающие из равновесия другого игрока.
— Я опоздала, потому что опаздываю ко всем, на все встречи. Я не только вас заставляю ждать, — ответила Мэрилин, задетая за живое.
Позднее, вспоминая об этих словах, Гринсон думал; первый сеанс всегда надо записывать. Все, что будет важно впоследствии, уже сказано на нем, пусть и между строк. Она продолжала, и в ее голосе грусть смешалась с гневом.
— С самого начала съемок Джордж Кьюкор насчитал тридцать девять потерянных съемочных часов. Я все время опаздываю. Люди думают, что это из наглости. А на самом деле — совсем наоборот. Я знаю кучу людей, которые вполне могут прийти вовремя, но только для того, чтобы, ничего не делая, сидеть и пересказывать свою жизнь или еще какие-нибудь глупости. Вы что, этого ждете?
Аналитик, которому уже доводилось лечить безумных актрис, был поражен нечеткой, тусклой манерой речи и отсутствием аффектов. Она говорила о болезненных переживаниях без боли. Она почти не реагировала — вероятно, приняла лошадиную дозу успокаивающих. Она казалась отстраненной, не понимала самых простых шуток и разговаривала бессвязно. Ей захотелось сразу же лечь на диван для проведения сеанса фрейдовского психоанализа, к которым она привыкла в Нью-Йорке. Встревоженный ее состоянием аналитик планировал обойтись без помощи дивана и предложил поддерживающую психотерапию лицом к лицу.
— Как хотите, — ответила она. — Скажу вам, что могу. Как говорить о том, что вас поглощает?
На этом сеансе он расспросил ее о событиях повседневной жизни. Она пожаловалась на роль, которую ее заставляли играть в ненавистном для нее фильме. На Паулу Страсберг, жену ее преподавателя актерского мастерства в Нью-Норке, которую она устроила репетитором на съемки и которая предпочитала ей свою дочь Сьюзен. На Кьюкора, который явно не любил ее и грубо обрывал.
— Он сказал мне эдак слащаво: «Каждый воображает себе, что он непохож на других, что в нем все уникально и неповторимо. Но невероятно, насколько каждый представляет собой эхо других, своей семьи, своего детства, которое придает ему форму и контуры». «Форму и контуры» — подумать только! Старый гомик! Что он понимает в этом теле, которым я зарабатываю себе на жизнь?
После долгой паузы Мэрилин рассказала о хронической бессоннице, чтобы оправдать прием наркотических препаратов. Она призналась, что часто меняет врачей, посещает одних врачей втайне от других. Она проявила поразительные познания в области психофармакологии. Гринсон узнал, что она регулярно принимает демерол (наркотическое обезболивающее, аналог морфина), пентотал натрия (средство для подавления нервной системы, использующееся и в анестезии), фенобарбитал, снотворное из группы барбитуратов, и амитал, а также барбитурат. Часто она вводила их себе внутривенно. Он возмутился поведением врачей и настоятельно посоветовал ей отныне лечиться только у одного врача, Гаймена Энгельберга, которому он обещал рассказать о телесных аспектах ее болезни.
— И он, и вы — нарциссические личности, и я думаю, вы найдете общий язык.
Наконец, Гринсон порекомендовал ей больше не вводить лекарства внутривенно и отказаться от демерола из-за катастрофических последствий в случае злоупотребления.
— Предоставьте мне самому решать, что вам понадобится.
Этот врач определенно сбивал ее с толку: он слушал ее, но не удовлетворял ее требования покоя, любви, приятия. Они расстались.
Вернувшись к себе вечером, Мэрилин снова вспомнила о спокойном и тихом человеке, который смотрел на нее с некоторой холодностью. Под вызовом в его глазах скрывалась нежность. Когда она спросила, займется ли она с ним настоящим анализом, лежа на диване, как у доктора Крис, он ответил, что этого делать не стоит: «Надо быть скромнее.
Мы не планируем глубоких изменений, ведь вы скоро снова уедете в Нью-Йорк, к мужу, и продолжите свое лечение там». Слово «скромнее» ранило ее. Она заплакала. Аналитик ответил, что это не упрек, а цель, которую он сам ставит перед собой.
«Все-таки странно, — снова думала Мэрилин, — странно, что он не предложил мне лечь. Меня всегда удивляет, когда мужчина не хочет видеть меня в горизонтальном положении. Увидеть мою задницу, когда я повернусь к нему спиной».
Держа стакан в руке, смотря на белую стену и черный гобелен в своем бунгало, она вспоминала о сеансе. «Думаю, у доктора Гринсона нет задних мыслей. Хорошо, что он не предложил мне лечь. Может быть, он боялся. Меня? Себя? Так лучше. Я вот боялась. Не его. Это был не сексуальный страх. Давай займемся любовью» — это не только название фильма. С Ивом я поняла это название буквально. С доктором это не была бы любовь».
На самом деле она не любила, когда ее просили лечь, она боялась ночи, боялась начинать, боялась, что не кончит. Она часто занималась любовью стоя и днем.
Бруклин, Браунсвиль, Миллер-авеню сентябрь 1911 года
Когда Ральф Гринсон приступил к терапии Мэрилин Монро, ему не было еще и пятидесяти лет. Ромео Гриншпун, родившийся в 1911 году в Бруклине, в районе Браунсвилль, был близнецом сестры Джульетты, впоследствии ставшей блестящей концертирующей пианисткой. Сам он в свободное время играл на скрипке. Его родители, русские евреи, были эмигрантами и добились некоторого благосостояния благодаря энергии умной и честолюбивой матери. Она нашла себе мужа, словно наняла работника. Однажды Катерина, владелица аптеки, поместила в газете такое объявление: «Ищу фармацевта, который согласится на скромное жалованье и длинный рабочий день». Джоэль Гриншпун ответил и получил место. Пораженная его способностью к диагностике болезней у покупателей, будущая супруга сразу же убедила своего служащего-аптекаря учиться на врача. Так отец Ромео стал доктором, хотя и поздновато, когда двум его первенцам исполнилось три года.
Катерина, сама превосходная пианистка, поощряла своих четверых детей в их занятиях музыкой. У нее были определенные амбиции. Она забросила пилюли и посвятила себя искусству. Став художественным агентом, партнершей знаменитого нью-йоркского импресарио Сола Хурока, она привлекала на свои вечера актерскую элиту. Ромео (со скрипкой) и Джульетта (за фортепиано) сами по себе могли служить хорошей вывеской, но они еще играли квартет с младшей сестрой Элизабет и маленьким братом Ирвингом. Дивы и солисты валом валили в салон мадам Гриншпун. Позднее они будут также толпиться в Лос-Анджелесе в гостиной ее сына. Ромео уже звала сцена: он видел себя у рампы и переживал в воображении страстный роман с Павловой, балериной на вершине славы. Иногда он мечтал о темном экране и окруженных дымкой силуэтах в большом, оформленном в стиле барокко зале главного кинотеатра Бруклина. Он проводил там часы, которые ему удавалось урвать у классических квартетов и греческих трагиков, глядя на то, как бледные актрисы оплакивают гибель любви.
Еще со школы он научился выпаливать одним духом: «Мы — Ромео и Джульетта, мы близнецы». «Куда он запропастился, этот сопляк Ромео?» — этот издевательский крик часто раздавался на Миллер-авеню, и юный Гриншпун не высовывал носа из дому, послушно играя гаммы. Когда ему исполнилось двенадцать лет, он решил изменить имя и потребовал, чтобы в школьный журнал внесли соответствующее исправление. В 1937 году, во время медицинской интернатуры в лос-анджелесской больнице «Ливанские кедры», он изменил также фамилию. Как-то раз он сказал, что его имя и фамилия долго были как раны на лице и эта травма стала причиной раннего интереса к психоанализу. Друзья продолжали называть его Ромео или же, чаще, Роми. На табличке он сохранил букву Р после своего нового имени — Ральф. Мэрилин обращалась к нему «дорогой доктор», но в его отсутствие ласково и жалобно произносила его уменьшительное имя.
Ральф Гринсон рассказывал, что вырос на красивой вилле в богатом квартале Уильямсбург. Он описывал дом как «колониальный особняк, величественно возвышавшийся за оградой, и отражающий растущее благосостояние семейства». В действительности они проживали в скромном доме в Браунсвилле до самого отъезда семьи в Лос-Анджелес в 1933 году.
Когда Ральф заканчивал медицинское образование, которое начал в 1931 года в Берне, в Швейцарии, он встретил Хильдегард Трош, на которой женился незадолго до возвращения в Америку. Ее очаровали его ум и дар приспособления к новым условиям. Он выучил немецкий язык за два месяца, чтобы читать Фрейда в подлиннике. В начале 1933 года с медицинским дипломом в кармане Ральф приехал в Вену и прошел психоанализ у Вильгельма Штекеля, одного из первых учеников Фрейда и основателей Венского психоаналитического общества, — того самого Штекеля, которого Фрейд назовет позднее свиньей и лживым предателем. Гринсон познакомился и с самим Фрейдом. Разговаривая с ним о трагедии и патологических персонажах на сцене, он понял, что у Шекспира Ромео и Джульетта были проклятыми любовниками, которых навсегда связала смерть. На всю жизнь он сохранил к Фрейду не столько чувство преданности, сколько верность боевого товарища. В узком кругу единомышленников он называл его «мужчиной, который слушал женщин».
В двадцать шесть лет Гринсон поселился в Лос-Анджелесе в качестве психиатра и психоаналитика; между этими двумя профессиями в представлении американских психоаналитиков не было различий. Ему сразу захотелось стать ведущей фигурой в местном обществе психоанализа. Лидер этого общества, Эрнст Симмель, враждебно отнесся к кандидатуре ученика ренегата Штекеля. Гринсону хватило ума скрыть свое происхождение вторым психоанализом: четыре года он провел на диване Отто Фенихеля, более чем законного властителя дум, эмигрировавшего из Берлина в Лос-Анджелес в 1938 году.
После войны Гринсон почувствовал потребность в новом психоанализе. Его третий психотерапевт — уже не врач и не мужчина. Он выбрал Фрэнсис Дери, женщину с короткой стрижкой и импозантной драгунской статью, всегда сжимающую в зубах длинный мундштук а-ля Марлен Дитрих. Она эмигрировала в Лос-Анджелес в 1936 году, а до этого сделала в Германию карьеру в качестве акушерки и стала аналитиком в группе, собранной Эрнстом Симмелем на основе фрейдомарксизма в клинике Шлосс-Тегель, в окрестностях Берлина. Она прошла два психоанализа, с Ханной Сакс и Карлом Абрахамом, учениками Фрейда и членами комитета, собиравшегося у мэтра по средам. Оба вступили в ожесточенный конфликт с Фрейдом в 1925 году, когда пожелали показать психоанализ на экране и приняли участие в создании первого фильма, в котором было представлено лечение психоанализом, — «Тайны одной души» Г. В. Пабста. Дери, как и ее учителя, питала всепоглощающую страсть к кино. Кстати, мадам Дери, как ее называли коллеги из Лос-Анджелесской психоаналитической ассоциации (ЛАПСИ), специализировалась на психоанализе актеров; она осталась для Гринсона путеводной звездой, когда он предпринял первые попытки создать себе клиентуру. Прежде всего он обрел в ней воображаемую связь с Фрейдом, проблематичную связь, оживляющую в ходе его собственного психоанализа конфликт между образами и словами. Он хотел бы остаться в памяти потомков как «человек, который слушал образы».
В Вавилоне калифорнийских киностудий, среди подмостков, декораций и прожекторов, Гринсона преследовал искусственный блеск гигантских застывших кадров и блестящих актеров, и в волшебном слове «мотор!», запускавшем каждый дубль, он искал лекарство от бездействия, на которое обрекало его кресло психоаналитика. Театр и игра на сцене навсегда остались важным измерением его жизни. Очарованный артистами, он попытается понять актерскую психологию. «Артист или артистка кино лишь тогда становится звездой, когда они признаны не только своими собратьями, но и толпой… Начинающие актеры, жаждущие славы, и звезды на закате были самыми трудными пациентами, которых мне когда-либо приходилось лечить», — пишет он в августе 1978 года, за год до смерти. В своих трудах по технике психоанализа — Гринсон написал учебник, который уже пятьдесят лет используется во всех психоаналитических школах мира, «Техника и практика психоанализа», к созданию которого он приступил, когда Мэрилин еще была его пациенткой, — он сравнивает аналитический сеанс с театральной сценой или киноэпизодом. «Странным образом аналитик становится молчаливым актером в пьесе, которую создает пациент. В действительности аналитик не играет в ней роли, он старается оставаться призрачной фигурой, необходимой для фантазий пациента. Но вместе с тем он участвует в создании этого персонажа, уточняя его контуры с помощью интроспекции, эмпатии и интуиции. Он становится некоторым образом режиссером ситуации — важным участником пьесы, не будучи в ней актером».
Ему также удавалось удовлетворять свои актерские амбиции в бесчисленных психоаналитических конференциях по всей Калифорнии. До самой Европы дошла его слава лучшего актера среди ораторов, самого речистого из речистых. Перед кафедрой, к которой он всегда шел быстрым шагом, он не обнаруживал никакого страха сцены. «С чего бы мне нервничать? Всем этим людям повезло, что они пришли меня послушать!» Его жесты были широки и свободны, он говорил взволнованно, умел посмеяться над собственными шутками. Любовью к публичным выступлениям и склонностью к созданию образа он стремился выделиться среди основной массы психоаналитиков, которые, по его мнению, страдали неким страхом сцены и, страшась быть увиденными, прятались за диваном. На светских вечеринках в Бель-Эр или Беверли Хиллз он давал настоящие бенефисы, рассказывая о сеансах лечения некоторых счастливых избранных, причем утаивал их имена достаточно формально, не заботясь о том, что о них легко догадается каждый.
Гринсон делил со своим коллегой Мильтоном Уэкслером просторный и импозантный кабинет для консультаций в доме 436 на Норт Роксбери-драйв, в квартале Беверли Хиллз, неподалеку от Бедфорд-драйв, которую называли «Couch Canyon» (улица диванов). Жил он в Санта-Монике, на Франклин-стрит, рядом с Брентвуд Кантри Клубом и площадкой для гольфа. Из задних, восточных окон его виллы открывался вид на океан и Пасифик Палисейдс. Тогда, в начале 1960 года, психоаналитик был стройным, элегантным мужчиной, говорившим всегда серьезно и умно. Когда он принял Мэрилин Монро в качестве пациентки, он стал звездой фрейдистского бессознательного made in Hollywood, «хребтом психоанализа на всем Западе США», по выражению одного из его коллег. Он давно уже преподавал клиническую психиатрию в Калифорнийском университете Лос-Анджелеса и заведовал Институтом подготовки психоаналитиков — членов ЛАПСИ. Он страстно увлекался психотерапевтической практикой и проявлял к своим больным неподдельный интерес. Многие из них, в том числе Питер Лорр, Вивьен Ли, Ингер Стивенс, Тони Кертис и Фрэнк Синатра (в ту пору любовник Мэрилин), были актерами, другие также имели отношение к миру кино; режиссер Винсенте Миннелли или продюсер Дор Шари.
Обаятельный, хотя и не стремящийся обольстить, Гринсон — как в лечении, так и в лекциях, и частных отношениях — вел одну и ту же непредсказуемую игру на грани усталости и иронии, нетерпения и разочарования. Он был вполне доволен своей сумрачной внешностью и любил проводить сеансы лицом к лицу. Большие черные глаза с темными кругами придавали что-то одновременно нежное и грубое его чертам, казавшимся более резкими из-за пышных усов. Он гордился тем, что очень легко вступает в контакт и чувствует себя исключительно непринужденно уже на первых сеансах. Он также любил открытые столкновения с пациентами и хотел, чтобы они реагировали на его провокации и обращались к нему не как к богу, а как к человеку, который тоже не застрахован от ошибок. Иногда он сознавал свою склонность к преувеличению и самовлюбленности. Когда Мэрилин упомянула своего прошлого психоаналитика-женщину, он не удержался от восклицания: «Не будем больше о ней! А я? Что вы думаете обо мне?» — и сразу же рассмеялся.
В действительности, сам того не зная, но горячо желая этого, Ральф Гринсон испытал к актрисе то роковое притяжение, которому интеллектуалы предаются с тем большей страстью, чем более они уверены в том, что остаются хозяевами положения. Единственным врагом Гринсона была скука, и когда белокурая звезда показалась на его ровном небосклоне, ее сияние нарушило однообразие психоаналитической практики. Удивление — одна из самых тонких форм удовольствия, а проклятие — самое утонченное стремление к несчастью.
Голливуд, отель «Беверли Хиллз», Уэст Сансет-бульвар январь 1960 года
На некоторое время, сеансы возобновились в отеле у Мэрилин. Усталая, выбивающаяся из сил, она не могла ездить в кабинет психоаналитика. В бунгало отеля «Беверли Хиллз» Гринсон начал следующую беседу с обычных вопросов о первых годах жизни и детстве. Мэрилин долго молчала, затем обронила только одно имя: Грейс.
— Кем она была для вас?
— Никто, подруга моей настоящей матери, то есть, я хотела сказать, ненастоящей. Настоящая — это Грейс; она хотела сделать из меня кинозвезду. Что хотела сделать из меня мама, я не знаю. Убить меня? Странно, я только вам могу об этом сказать. Я всегда говорю журналистам, что моя мать умерла. Она жива, но я не вру, говоря, что она мертвая. Когда меня отдали в детский дом на Эль Сентро-авеню, я кричала: «Нет, я не сирота! У меня есть мама! У нее рыжие волосы и нежные руки». Я говорила правду, только вот она ни разу до меня не дотронулась.
Гринсон счел, что эта история об умершей матери не была ложью. Мертвая была на самом деле жива, но когда Мэрилин сказала, что ее живая мать словно мертвая, она говорила правду. Он не стал интерпретировать.
— Чему вы учились, прежде чем стать актрисой?
— Я не закончила среднюю школу. Я позировала, была натурщицей. Всматривалась в зеркала или в людей, чтобы узнать, кто я такая.
— Вам для этого нужен был взгляд других людей? Мужчин?
— Почему же только мужчин? Мэрилин не существует. Когда я выхожу из своей гримерной на съемочную площадку, я Норма Джин. И даже когда камера снимает, Мэрилин Монро есть только на экране.
— Вы поэтому испытываете такую сильную тревогу, когда должны сниматься? Вы боитесь, что кино украдет у вас ваш образ? Женщина на экране — не вы? Образ дает вам жизнь и в то же время он вас убивает? А живой взгляд настоящих людей в реальной жизни?
— Слишком много вопросов, доктор! Я не знаю. Мужчины на меня не смотрят. Они бросают на меня взгляд, но это не то. С вами все по-другому. В первый раз, когда вы меня приняли, вы посмотрели на меня словно из глубины самого себя. Как будто во мне был кто-то, с кем вы собирались меня познакомить. Мне от этого стало легче.
Психоаналитику понадобилось некоторое время, чтобы заметить одну странную, беспокоящую деталь. В промежутке между двумя взглядами, когда никто на нее не смотрел, лицо Мэрилин, расслабляясь, словно увядало, умирало.
Хотя Мэрилин сразу показалась Гринсону умной, его, тем не менее, удивила ее любовь к поэзии, театру и классической музыке. Артур Миллер, третий муж Мэрилин Монро, за которого она вышла четыре года назад, решил расширить ее кругозор, и за это она до сих пор была ему благодарна. В то же время она не упускала случая высказать ядовитую обиду на него: он холодный, бесчувственный, его привлекают другие женщины, им помыкает его собственная мать. В ту пору ее брак уже пошатнулся. Ив Монтан стал лишь предлогом. В действительности она отдалилась от мужа по другим причинам.
Психоаналитик специально встретился с Миллером и обнаружил, что он действительно дорожит своей женой и искренне обеспокоен ее состоянием, хотя время от времени сердится и отталкивает ее. «Мэрилин нуждается в безусловной любви и преданности. Иначе все для нее невыносимо».
Впоследствии Гринсон думал, что Монро, вероятно, в итоге прогнала Артура Миллера по сексуальным причинам. Она считала себя фригидной, и ей было трудно получить больше нескольких оргазмов с одним и тем же мужчиной.
После смерти Мэрилин один разговор подтвердил чувство, которое появилось у Гринсона, когда он увидел ее впервые: у нее есть тело, но она — не это тело.
«В конечном итоге, — сказал ему Миллер, устремив взгляд в пустоту, — что-то божественное рождалось из этой бесплотности. Она была совершенно неспособна порицать, осуждать — даже тех людей, которые причинили ей боль. Находясь рядом с ней, любой встречал безусловное приятие, входил в зону какой-то лучезарной святости, покинув ту жизнь, в которой безраздельно царствует подозрение. Она была наполовину королевой, наполовину потерянной девочкой, то поклоняясь своему телу, то отчаиваясь из-за него».
Вскоре после этого психоаналитик рассказал своему коллеге Уэкслеру о впечатлениях от начала терапии. «Когда ее тревога растет, она начинает действовать, как сирота, брошенный ребенок, проявляя мазохизм, который провоцирует окружающих на то, чтобы плохо обращаться с ней, оскорблять ее. История ее прошлого все более и более фиксируется на травмах, которые переживают сироты. Эта тридцатичетырехлетняя женщина до сих пор живет в убеждении, что она всего лишь брошенная беззащитная девочка. Она чувствует себя маленькой и незначительной. В то же время весьма гордится своей внешностью, хотя и не удовлетворена сексуально. Она считает себя очень красивой, даже самой красивой на свете. Когда она должна появиться на людях, то делает все, чтобы выглядеть обольстительно и произвести хорошее впечатление; а у себя дома, когда никто ее не видит, совершенно не обращает внимания на то, во что одета. Украшать свое тело — это для нее основной способ обрести некоторую стабильность, придать жизни смысл. Я сказал ей, что, насколько я знаю, действительно красивые женщины не все время красивы. В некоторые моменты, в некоторых ракурсах они банальны и даже уродливы. Это и есть красота — не состояние, а преходящий момент. Как мне показалось, она не поняла моих слов», — заключил Гринсон, покидая своего компаньона и не оставив ему возможности ответить. Уэкслер хорошо знал его, он понимал что Ральфу Гринсону не хватает не столько ответов, сколько вопросов.
Пригород Лос-Анджелеса 1948 год
Первый фотограф в жизни той, которую пока еще звали Норма Джин Бейкер, в тридцать три года приехавший из Европы по приглашению продюсера Дэвида О. Селзника, был привлекательным мужчиной.
В конце пятидесятых годов журнал «Лайф» заказал у Андре де Динса серию фотографий Мэрилин с Наташей Лайтесс, ее преподавательницей актерского мастерства. Лайтесс была неудавшейся театральной актрисой русского происхождения, она приехала в Голливуд из Берлина. Монро и Лайтесс должны были изобразить урок театрального искусства в их доме в самом центре Беверли Хиллз. Все начало портиться с первых же фотографий. Они поссорились. Де Динсу не понравился костюм Мэрилин. На ней была очень закрытая блузка и ужасная юбка, доходящая до щиколоток. Ее претенциозная прическа показалась ему просто отвратительной, а ведь он хотел показать ее обворожительной, шокирующей, желанной женщиной. Де Дине предложил Мэрилин позировать лицом к Наташе, в одной короткой черной комбинации, с растрепанными волосами, и делать театральные жесты. Он хотел, чтобы кадры кипели жизнью. Наташа была с ним не согласна. Она возразила, сказав, что Мэрилин должна стать настоящей актрисой, а не сексуальной куклой. Де Дине напомнил ей, что Мэрилин прославилась именно благодаря своей сексуальности, затем собрал оборудование и хлопнул дверью, крикнув на прощание, что не желает работать с ханжами.
В последние годы жизни Мэрилин фотография оставалась для нее последним прибежищем каждый раз, когда она впадала в отчаяние. Когда ей предстояло сниматься в фильме, двадцать раз повторять одну и ту же сцену перед сотней человек, это настолько наполняло ее ужасом, насколько успокаивал танец порхающего вокруг нее мужчины с фотоаппаратом.
«Look bad, not only sexy, dirty» («Покажи себя порочной — не просто сексуальной, а грязной») — наверное, именно это сказал Мэрилин неизвестный оператор, прежде чем включить камеру в неприглядной квартирке в Уиллоубрук, в предместье Лос-Анджелеса. Фильм длится три минуты сорок одну секунду. Он был снят на черно-белую пленку. Фильм немой, но впоследствии был озвучен отрывком песни Мэрилин «My heart belongs to daddy».
Если этот короткий фильм — не фальшивка, то это первая видеозапись Мэрилин. В двадцать два года, чтобы выжить в Голливуде, она продавала, что могла, всем желающим: свое тело — продюсерам, а свой образ — неизвестным зрителям, просматривавшим эти короткие порнографические фильмы, снятые при студиях. Они назывались «Сиськи, яйца и члены». Этот фильм, «Порно», особенно непристоен. Актриса приходит в черном платье и снимает его, чтобы остаться в черном же корсете, с подвязками и без трусов. У нее выпуклый живот, толстые бедра, большая голова и левая сторона лица закрыта спадающими каштаново-розовыми волосами. Что-то невыразимо вульгарное и усталое видно в ее тяжелой походке и неуверенных движениях, когда она засаживает в себя инструмент, который только что, в подарочной упаковке, передал ей мужчина. Если бы не ее лицо на последнем кадре, когда она курит сигарету, глядя на мужчину, которому она только что делала минет и с которым занималась сексом, вспрыгнув к нему на колени, можно было бы усомниться, что это Мэрилин Монро. Однако только ей одной принадлежит эта улыбка.
В этих кадрах с раздеванием и печальным совокуплением — устаревшая порнография, жестокость секса, завораживающее уродство. Из-за отсутствия звука еще громче слышится стон или крик, выраженный в кадрах. Этот фильм с выявляет не столько истины секса, сколько кино. Оставшиеся копии, истертые до дыр и не подлежащие реставрации, показывают, как образ пожирает образ; как проказа забвения разъедает самую откровенную позу; как тени поднимаются на поверхность пленки и говорят вуайеристу: не на что здесь смотреть.
Январским днем 1951 года в Голливуде кинематографист Илья Казан и драматург Артур Миллер ехали на «линкольне» с откидывающейся крышей по территории «Фокс», разыскивая площадку, на которой снимался фильм «Не старше, чем тебе кажется». Как только они доехали до места, они услышали, как охрипший ассистент выкрикнул имя Мэрилин. Режиссер разразился проклятиями в адрес молодой двадцатичетырехлетней актрисы, которая все время убегает с площадки и возвращается расстроенная, вся в слезах. Роль была короткой, но на съемки каждой сцены уходило несколько часов. Наконец она появилась, обтянутая черным платьем. Казан лишился дара речи. Он приехал, чтобы предложить ей роль.
Он стал ее любовником, потом другом, потом, при маккартизме, врагом, позднее вновь другом. «Когда я встретил ее, — скажет Казан, — это была простая и страстная молодая женщина, которая училась кататься на велосипеде, девочка с честным сердцем. Голливуд уложил ее на съемочную площадку с раздвинутыми ногами. Она была необыкновенно ранима; она всей душой жаждала, чтобы ее приняли люди, которых она сможет уважать. Как многие другие девочки, которые познали тот же опыт, что и она, Мэрилин измеряла свое самоуважение количеством мужчин, которых ей удавалось завлечь».
Санта-Моника, Франклин-стрит февраль 1960 года
Мэрилин продолжала опаздывать к психоаналитику.
— Почему у вас столько враждебности к людям, которые хотят вам помочь, работать с вами в добром согласии? Мы ведь союзники, а не противники!
— Просто так сложилось. С самого начала. На моем первом фильме, «Билет в Томагавк», помощник режиссера попытался мне угрожать; «Знаешь, тебе легко найти замену!» Я ответила: «Тебе тоже!» Дурак! Он не понимал, что опаздывать — значит убеждаться в том, что ты незаменим, что все остальные ждут тебя — тебя, и никого другого. А потом, вы знаете, когда я опаздываю, я не просто задерживаюсь, но готовлюсь. Я снова и снова переодеваюсь, поправляю макияж. Творю свой образ. И свои слова тоже. Я записываю то, что собираюсь сказать, и планирую темы для разговора.
Врач прервал ее:
— Здесь вы не на съемочной площадке и не на светской вечеринке. Вы знаете, что значит ваше опоздание? Оно значит: я не люблю вас, доктор Гринсон. Я не хочу вас видеть.
— Неправда, я люблю с вами встречаться, честное слово! — ответила Мэрилин детским голоском. — Я люблю с вами разговаривать, хоть мне и приходится отворачиваться, чтобы не чувствовать на себе ваш взгляд.
— Не ваши слова, а ваши поступки говорят: «Я вас не люблю».
Мэрилин замолчала. Она думала, что ее опоздания означают только одно: вы ждете меня. Вы меня любите. Вы ждете только меня. Вы любите меня, доктор, вы же знаете, что тот, кто любит, всегда ожидает другого.
После этого она больше никогда не опаздывала. Часто обедала прямо в машине, чтобы приехать вовремя. Она даже стала приходить раньше времени, на полчаса, затем на час. В итоге она так и не научилась приходить вовремя.
— Вот видите, вы сами не знаете, чего хотите, вы не знаете, который час, — сказал ей аналитик.
Он думал, что теперь слишком ранний ее приход означает: он здесь. Это вопрос времени. Но он здесь. Он мой. Он здесь.
Следующим летом, на одном напряженном сеансе, она рассказала аналитику, что на съемках «Неприкаянных» под руководством режиссера Джона Хьюстона ей пришлось сыграть сцену, в которой она отвергала предложения мужа помириться.
— Я все время застревала на короткой фразе: «Тебя здесь нет». Хьюстон разозлился, но Кларк Гейбл стал меня защищать: «Когда она здесь, она здесь. Она здесь вся. Она здесь и полностью готова работать». С тех пор, — сказала она аналитику, — это мое любимое выражение, когда я говорю о своих опытах с мужчинами: они-то редко бывают здесь.
В первый раз, когда Мэрилин уселась в кожаное кресло, похожее на кресло психоаналитика, она заметила большой письменный стол из темного дерева, на котором не было ни одной бумажки. Она предположила, что Гринсон пишет свои статьи в другом месте. Ее удивило, что нигде не было видно портрета Фрейда, украшавшего каждый кабинет в Беверли Хиллз и кабинеты ее предыдущих аналитиков. Но еще больше ее поразила большая картина с женщиной, сидящей спиной к зрителю и разглядывающей сад. Ее лица было не видно, но по нежным тонам освещения и одежды угадывалось спокойствие, которым она была проникнута. Ее сразу же восхитила спокойная и тихая красота этой просторной комнаты, защищенной от закатного света занавесками с геометрическим орнаментом в зеленых и коричневых тонах.
После нескольких сеансов в кабинете на Беверли Хиллз Гринсон предложил Мэрилин регулярно встречаться у него дома, чтобы не привлекать внимание общественности. Несколько странное предложение. Вход в его дом в Санта-Монике был с улицы, его семья жила вместе с ним. Дети, Джоан и Дэниэл, знали, что их отец принимает знаменитых клиентов, но были удивлены, когда узнали, что он изменил своим привычкам и отменил назначенные в кабинете встречи, чтобы принимать дома Мэрилин Монро. Заметив новую знаменитую пациентку, Джоан сразу же захотела с ней подружиться; вскоре отец попросил ее встречать Мэрилин, когда он опаздывает, и посоветовал иногда гулять вместе с ней. Аналитик так и не признал, что пригласить Мэрилин в дом, а затем сделать ее членом семьи было ошибкой в лечении. Позднее он скажет, что цель психоанализа — дать пациенту независимость мышления; но здесь он сделал прямо противоположное. «Сейчас я становлюсь ее единственным и неповторимым психотерапевтом», — гордо написал он Марианне Крис, к которой Мэрилин продолжала обращаться еще на протяжении года, когда бывала в Нью-Йорке. Когда он писал о Мэрилин, его почерк терял связность, словно он утрачивал контроль над собой.
Психоаналитик принимал Мэрилин пять-шесть раз в неделю и сверх того поощрял ее звонить ему каждый день. «Ведь она была так одинока, ей было не с кем встретиться и нечего больше делать во время съемок, если я ее не принимал», — оправдывался Гринсон перед Марианной Крис. Однажды вечером, после сеанса, Мэрилин вернулась из Санта-Моники в такси и пригласила к себе шофера, а потом провела с ним ночь. Гринсона рассердило это «патологическое» поведение, а его жена пригласила актрису ночевать у них в те вечера, когда сеанс затягивался допоздна. Время от времени Мэрилин пользовалась этим приглашением.
Гринсон оправдывался перед Уэкслером, объясняя, что речь шла о специальной стратегии, которая бы позволила Мэрилин выжить и занять свое место на съемочной площадке «Миллиардера». «Хотя она и похожа на наркоманку, она не относится к этой категории», — уточнял он. Действительно, его пациентке случалось прекращать принимать наркотические препараты, не проявляя при этом обычных симптомов ломки, и психоаналитик предпринимал попытки отучить ее, рекомендуя ей распорядок более здорового образа жизни. Но нередко Мэрилин вызывала его в отель «Беверли-Хиллз», чтобы сделать ей внутривенное вливание пентотала или амитала. Он соглашался и затем в отчаянии рассказывал Уэкслеру: «Я сказал, что уже принятых ей лекарств хватило бы, чтобы вырубить полдюжины человек, и она не спит только потому, что боится сна. Я обещал усыпить ее меньшим количеством снотворных, если только она честно признает, что борется со сном и ищет другой формы забвения, кроме сна».
Форт Логан, Колорадо, госпиталь военной авиации 1944 год
Ральф Гринсон, психиатр, призванный в армию в 1942 году, специализировался на травматических неврозах. Кроме лечения раненых на войне, он начал читать лекции медицинскому персоналу, армейским священникам и общественным работникам, которые помогали бойцам вновь включиться в гражданскую жизнь. Этот опыт военного психиатра лег в основу очень популярной книги Лео Ростена. Гринсон стал героем романа «Доктор медицины капитан Ньюман», изданного в 1961 году. В следующем году роман был экранизирован.
Сам Гринсон часто возвращался к одному воспоминанию тех лет. Однажды ему пришлось сделать внутривенную инъекцию пентотала автоматчику на бомбардировщике В-17, вернувшемуся с задания. Пациент страдал бессонницей, кошмарами, приступами дрожи, обильно потел и проявлял симптомы тяжелой шоковой реакции. Он недавно выполнил пятьдесят боевых вылетов, но не испытывал в этой связи какой-либо особой тревоги, просто не любил говорить о своих заданиях. Он согласился на прием пентотала, потому что слышал о том, что этот препарат вызывает ощущение опьянения, но прежде всего потому, что это позволяло ему не отчитываться перед своим начальством. Как только Гринсон ввел ему пять кубических сантиметров, больной вскочил на кровати, вырвал иглу из вены и завопил: «В четыре часа, в четыре часа, они близко, цельтесь в них, цельтесь в них — или они нас подстрелят, сукины дети! О боже, цельтесь в них, цельтесь в них! Вот они, еще час, еще час, цельтесь в них, ублюдков, цельтесь… О боже, больно, не могу двигаться, цельтесь в них, кто-нибудь, помогите, в меня попали, помогите! Ах подонки, помогите мне, цельтесь в них, цельтесь в них!..»
Больной вопил так более двадцати минут, с паническим ужасом в глазах; пот катился по его лицу. Левой рукой он держался за правую, которая безвольно свисала. Он дрожал. Наконец Гринсон сказал ему: «Все в порядке, Джо, их сбили». Услышав это, больной свалился на постель и погрузился в глубокий сон. На следующее утро доктор спросил его, помнит ли он об эпизоде с пентоталом. Пациент с застенчивой улыбкой ответил, что помнит, как кричал, но воспоминания очень нечеткие. Когда Гринсон напомнил, что он говорил о задании, во время которого был ранен в правую руку, и все время кричал: «Цельтесь в них!», больной перебил его: «Ах да! Я вспомнил — мы возвращались из Швайнфурта, они напали на нас; они появились в четыре часа, а потом в час, и мы попали под обстрел…» Под действием пентотала пациенту удалось легко вспомнить пережитое им в прошлом событие.
Затем Гринсон продолжил искать секрет забвения, прибегая к наркотическим препаратам, «сыворотке истины», как называли пентотал в фильмах того времени. Ему потребовалось самому пройти анализ с Фрэнсис Дери, чтобы избавиться от увлечения инъекциями воспоминаний и пуститься по следам истины, скрывающейся в глубине памяти больных, с помощью других средств, помимо фармакохимии. Перенос, психоаналитическое лечение, в котором любовь — единственное лекарство, а выражение своих чувств при помощи слов позволяет вспомнить вытесненные из памяти события. Но Гринсон сохранил после своих экспериментов с наркотиками понятие о лечении, при котором терапевт должен присутствовать в реальности и передавать пациенту элементы собственной психической и физической реальности.
Беверли Хиллз, Роксбери-драйв ноябрь 1979 года
— Господин Уэкслер, вы можете меня принять? Я журналист, пишу книгу о Мэрилин. Но прежде всего о Гринсоне и о роли, которую он, по обвинениям, сыграл, ускорив ее гибель. Он недавно умер. Вы хорошо знали обоих, я хотел бы поговорить с вами о них и о ваших отношениях с ними.
Уэкслер отклонил эту просьбу, не отличающуюся от тех, которыми его осаждали уже многие годы. Он отправил прочь этого репортера, как и всех любителей расследований, вечно рыщущих в поисках заговора или скандала. И попытался больше не думать об этом. Но воспоминания осаждали Уэкслера, и на следующий день он все же позвонил репортеру, чтобы сделать другое предложение. Уэкслер попросил журналиста помочь ему написать свои мемуары. Психоаналитик в золотой век киностудий. Название он уже придумал: «Взгляд в зеркало заднего вида».
— С чего начать?.. Все это было давно, так давно. Прошел год после смерти Мэрилин. С Гринсоном я познакомился сразу после войны. Не могу удержаться, уж очень хочется вспомнить этот эпизод. В «Докторе медицины капитане Ньюмене» рассказывалась история героического врача во время Второй мировой войны. Убожество. Я говорю не о Роми. И не о Грегори Пеке, он играл не хуже, чем обычно.
Ничтожный фильм. Он вышел в 1963 году, как я припоминаю, и имел большой успех. В отличие от фильма «Фрейд» Джона Хьюстона, который шел в то же время, на афишах еще был нелепый подзаголовок: «Тайная страсть». Вы знаете, это фильм, в котором должна была играть Мэрилин; Ральф Гринсон сделал все, чтобы воспрепятствовать его съемкам.
— Что произошло?
— Вы не знаете эту историю? Я как-нибудь вам расскажу. Что поделаешь, у меня уже нет времени деликатничать с умершими. Вы только подумайте! Пытаясь запретить фильм о жизни Фрейда в кинематографе, Гринсон сам проецировал на себя роль психиатра-спасателя и был вполне готов к представлению себя в виде великодушного аналитика, впрочем не позволяя пациентке играть фрейдовских истеричек. Эта история о Ньюмене, героическом психиатре, действительно отражала жизнь самого Роми в армии, ведь он занимался лечением травмированных солдат, вернувшихся с Тихоокеанского фронта. Всегда на переднем крае, всегда харизматичен. Везде, где он оказывался, начинали происходить события, достойные кино, все становилось ярче, чем в жизни. Ральф показывал себя и драматичным, и легким, полным юмора. В фильме храбрый целитель душевных болезней не жалел сил, чтобы вернуть психическое здоровье трем инвалидам войны. Рядом с ним фельдшер Джейк Лейбовиц, которого играл Тони Кертис, пациент Гринсона, слегка оттенял эту трагедию медицинской совести: зачем работать над тем, чтобы люди, травмированные войной, вновь оказывались в состоянии ходить и сражаться? Лечить — значит посылать на смерть или на жизнь, которая не похожа на жизнь? Этим вопросом иногда задаемся и мы в нашей будничной психотерапевтической практике.
Будучи автором сценария «Капитана Ньюмена», Гринсон с трудом смирился, что его имя не фигурировало в титрах, хотя принял такое решение по совету жены, которая боялась, что пациенты подадут на него в суд. Когда он познакомился с романистом Лео Ростеном, он только начал работать в Лос-Анджелесе в качестве психоаналитика, а Ростен начинал работать для Голливуда. Между ними наладилось оживленное интеллектуальное общение: Роми приглашал писателя на вечера психоаналитиков, а в благодарность Лео ввел его в светское общество Голливуда. Будучи замечательным рассказчиком, Роми пускался в яркие повествования о своих сеансах. Как-то Ростен сказал о нем; «За день ему надоедает молчать, и вечером он дает себе волю и потчует Голливуд историями своих пациентов. Мне кажется, он всю жизнь сожалел о том, что не стал актером. Он не читал лекций, а играл их, представлял их в лицах». Так считает и Чарльз Кауфман, сценарист, который сменил Жана-Поля Сартра в проекте Хьюстона «Фрейд» и в связи с этим часто виделся с Гринсоном. Он понял, что владеть словом — еще не значит быть человеком слова и что настоящая власть заключается в искусстве молчания.
Наш коллега и враг Лео Рэнджелл, председатель Лос-Анджелесского психоаналитического общества, который встречался с Гринсоном в Колорадо, считал, что он неспособен общаться с другими психотерапевтами на равных: «С ним надо быть или рабом, или врагом». Когда я сообщил Роми об этом мнении, он рассмеялся, как всегда обаятельно: «Почему он не сказал об этом мне? Я бы сразу провел с ним небольшой анализ». Рэнджелл остался его врагом. Роми любил власть, но еще больше любил играть с властью. Не столько пользоваться властью, сколько говорить себе: «Если бы я захотел, я бы главенствовал здесь, я превратил бы всех этих людей в своих вассалов». Он любил быть на виду. Но я закончу, а то вы подумаете, что я не любил моего коллегу. И вообще, все это меня утомляет. Оставьте меня!
Минутой позже Мильтон Уэкслер остановил своего собеседника на пороге.
— Самое смешное, понимаете ли, что, как раз когда Роми делал фильм из своей жизни, его пациентка, не говоря ему об этом, играла свою жизнь, как роль в фильме. Каждому — свое кино.
Санта-Моника, Франклин-стрит март 1960 года
Съемки «Давай займемся любовью» были хаотичными от начала до конца. Двадцать шестого января Мэрилин прервала запись песни «My heart belongs to daddy». Она явилась на съемочную площадку к семи утра, затем ушла из студии, как только ее загримировали, и исчезла на целых три дня.
— Вот увидишь, что такое сниматься с самой худшей актрисой на свете, — бросила она Иву Монтану, с которым должна была сыграть первую сцену дуэтом. — Мне хочется исчезнуть. В кадре или за кадром — все равно, но исчезнуть.
— Ты просто испугалась. Подумай обо мне! Я чувствую себя таким же потерянным, как ты.
Сыграв на сочувствии, он добился желаемого результата. Через несколько дней Мэрилин простудилась. Она заперлась в своем бунгало. Однажды вечером Монтан толкнул ее дверь, сел рядом с ней на кровать, взял ее за руку. Она притянула его к себе и стала целовать с каким-то веселым отчаянием. Очень скоро Мэрилин поняла, что француз тоже всего лишь один из статистов в истории любви, которую она рассказывает самой себе с детства. «История всегда одна и та же, — говорит она психоаналитику. — Вечером мужчина засыпает с Мэрилин Монро, а утром просыпается со мной. Но Монтан… мне хотелось бы, чтобы он меня полюбил. «Сыграй это снова, Ив». Поставь пластинку сначала». Гринсон сразу же посоветовал ей закончить связь с Монтаном.
Мэрилин снималась целую неделю, постоянно опаздывая, каждый день дольше оставаясь в своей гримерной, каждый день попивая джин из кофейной чашки, с каждым днем забывая свою роль, так что в конце концов ей удавалось вспомнить только по одной реплике. Но она все же снималась, и Кьюкор получил свой фильм, один из самых плохих фильмов с одной из самых плохих ролей Мэрилин.
Санта-Моника, Франклин-стрит весна 1960 года
В просторном, красивом доме Гринсона в Санта-Монике, построенном в мексиканском стиле, собирались на блестящих приемах знаменитости и психоаналитики. Чтобы принадлежать к элите Лос-Анджелеса, просто необходимо было удостоиться приглашения. Гости слушали камерную музыку, закусывая пирожными на пластиковых тарелках. Гринсон любил деньги, но как игрок, только для того, чтобы тратить их, показывая, что они дороги ему лишь как средство достижения власти и признания. Один из его пациентов, художник Тони Берлант, в то время сидевший без гроша, рассказывает, что Гринсон не брал с него платы. Гринсон даже рассказал ему, что его следующий пациент, богатый бизнесмен, платил по сто долларов в час и он систематически укорачивал его сеанс, удлиняя сеанс художника. Берлант вспоминает о какой-то раздвоенности своего бывшего аналитика: за самоуверенным, привлекательным и ярким рассказчиком, царившим на светских приемах в Санта-Монике, проглядывал великодушный и открытый человек.
У Роми все было просто и впечатляло высоким классом. Прежде всего, на его вечерах привлекала беседа. Это был единственный психоаналитический салон, где можно было развлечься. Публика всегда блистала разнообразием. Можно было встретить Анну Фрейд, антрополога Маргарет Мед, сексологов Мастерса и Джонсона, а также массу голливудских завсегдатаев. Продюсер Генри Вайнштейн, приехавший с восточного побережья, стал завсегдатаем с тех пор, как актриса Селеста Холм представила его Гринсону. «Он меня прямо-таки очаровал», — вспоминает Вайнштейн много времени спустя, несмотря на резкий разрыв между ними во время съемок последнего фильма Мэрилин, который Вайнштейн продюсировал, «Неприкаянные». Для гостей Гринсона, проживающих в Лос-Анджелесе, его дом в Санта-Монике был подобен оазису интеллекта и искусства посреди денежной пустыни.
Мэрилин, которую регулярно приглашали на музыкальные вечеринки, проводившиеся в роскошной гасиенде, встречала там людей из мира кино. Сценаристы Лилиан Хеллман и Лео Ростен, несколько пациентов Роми или бывших пациентов: продюсер Дор Шари или Селеста Холм. Работники кушетки приходили во множестве; Ханна, вдова Отто Фенихеля, Льюис Филдинг, Мильтон Уэкслер. Мать хозяина, Кэтрин Гриншпун, царила среди этого избранного общества. Все с удивлением замечали в стороне от слушателей Мэрилин, которая, примостившись в кресле голубого бархата, грациозно помахивала рукой в такт музыке. «Чтобы быть ближе к музыке, — говорила она Хильди, — надо держаться подальше от музыкантов». Ее привлекала музыка в чистом виде, не зависящая ни от чего.
Мэрилин и впрямь стала членом семьи Гринсона. Иногда она слушала, как играет сестра-близнец психоаналитика, Джульетта. Младшая сестра, Элизабет, которая вышла замуж за Мильтона — Микки — Рудина, адвоката актрисы и Фрэнка Синатры, также была классической пианисткой, но не брезговала и джаз-бандами. Воскресными вечерами она аккомпанировала своему брату, который запинаясь играл на скрипке в концертах камерной музыки. Роми, влюбленный в искусство, которое не отвечало ему взаимностью, никогда не упражнялся в игре, что не мешало ему с великим самодовольством и множеством фальшивых нот пускаться в исполнение сольных партий «Брандебургского концерта».
В эти вечера Роми замечал в глазах пациентки грусть обиженной девочки, бездонную печаль, которую ребенок чувствует иногда при музицирующих взрослых, ощущая себя более отчужденным от них, чем когда слышит, как они беседуют между собой или занимаются любовью. Каждый в ансамбле с таким самозабвением пытается передать другим свою пустоту, свой страх, что музыканты уже не видят друг друга, но прикасаются звуками так, как никогда не прикасались словами или руками.
Впервые войдя в просторную гостиную, Мэрилин была поражена роялем, большим концертным «Бехштейном». Она вспомнила о белом рояле своей матери, «Baby Grand» марки «Франклин». В то короткое время, когда они жили вместе в Лос-Анджелесе в доме на Эрбол-стрит, рядом с Монт-Вашингтон, Глэдис Бейкер купила этот рояль, который, по семейной легенде, когда-то принадлежал актеру Фредерику Марчу. Затем у Иды Боллендер, одной из приемных матерей Мэрилин, некая Мэрион Миллер в течение года давала ей уроки. Ее мать оплатила их заранее. Мэрилин научилась играть короткие классические этюды и всегда тайно гордилась своим умением играть «К Элоизе». Вскоре хаотичная жизнь Мэрилин, скитавшейся из дома в дом, помешала ей продолжать занятия. «Baby Grand». Она всегда смеялась над этим названием. Совсем как она сама — вроде бы большая — и такая маленькая. Когда ее мать попала в больницу, рояль продали. Мэрилин все равно так и не научилась извлекать из него настоящую музыку и сокрушалась о том, что в репертуаре у нее была только простенькая, забавная полька, которую она играла в четыре руки с Томом Юэллом в фильме Билли Уайлдера «Зуд седьмого года» («Семь лет желания»). Она выкупила инструмент и впоследствии во всех своих разъездах из Нью-Йорка в Лос-Анджелес не расставалась со старым белым роялем. Она возвращалась к нему, как к другу после разлуки. Когда люди становились глухи, а жизнь невыносима, она ласкала его клавиши кончиками пальцев.
Возможно, в Гринсоне Мэрилин больше всего любила жалкого, нелепого музыканта. Говорил он или играл на своем инструменте — его голос был таким завораживающим. Она чувствовала, что музыка больше трогает его сердце, чем слова и идеи. Психоаналитик находил в ней отдых от потребности понимать и быть понятым. Однажды вечером, сыграв при Мэрилин трио Моцарта, он взял ее за плечо и отвел к большому окну, выходящему на море. «Бывают моменты, когда такое небо, такая музыка вызывает желание умереть и наполняет отчаянным удовольствием, которое остается после любого свершения». Она задумалась, откуда он взял эту фразу, которая очаровала ее, хоть и осталась не вполне понятной.
Голливуд, бульвар Санта-Моника 1946 год
Мэрилин было двадцать лет; она успокаивала сосущую пустоту в сердце, разделяя общество мужчин или женщин, чтобы собраться с силами и бродить по улицам до утра. Она шагала по Лос-Анджелесу, блуждала вокруг студий, с головой, полной расплывчатых кадров; под взглядами случайных прохожих светлые волосы выделялись на белом небе, как в старых фильмах ореол света, которым сияли волосы актрис на пересвеченной пленке. Она повторяла про себя свою идефикс: стать сильной, великой, загадочной, чтобы каждый принимал ее безоглядно, как свою судьбу.
Однажды в 1946 году Андре де Динс привез Мэрилин в Голливуд. Ей предстояло встретиться с продюсером в студии на Гоуэр-стрит. Когда он познакомился с Мэрилин год назад, она была одета в розовый обтягивающий свитер, ее завитые волосы были перехвачены лентой, она держала в руке шляпную коробку. В тот день, обнявшись, Андре и Мэрилин прошли мимо голливудского мемориала на бульваре Санта-Моника. Он предложил ей пройти через кладбище, где покоятся знаменитые киноактеры — Рудольф Валентино, Норма Тэлмрздж, Мэрион Дэвис, Дуглас Фэрбенкс-старший и многие другие. Мэрилин была не в восторге от этой идеи, но ее любопытство пробудилось, когда фотограф объяснил, что кладбище находится прямо позади студии «Парамаунт» на Мелроз-авеню и могила Рудольфа Валентино всего лишь в нескольких сотнях метров от площадки, на которой она, возможно, когда-нибудь будет сниматься в фильме.
Пока Андре вел ее по коридорам просторного мавзолея, где Рудольф Валентино покоится в нише за белой мраморной плитой, Мэрилин молчала. Потом они разговорились о невероятной известности актера и фантастически широкой огласке его внезапной смерти в 1926 году. «Год моего рождения», — отметила она. Может быть, предположил Андре, она явилась на свет, чтобы заменить его и продолжить его легендарную карьеру? Может быть, когда-нибудь она тоже станет знаменитой!
— Если я прославлюсь, только чтобы умереть молодой, это не стоит труда.
— Чего тебе еще желать? — ответил он. — Он стал бессмертным!
Она возразила, что предпочитает долгую и счастливую жизнь, и выхватила розу из вазы, стоящей рядом с бронзовой памятной доской.
— Нельзя красть цветы у мертвых, — воскликнул шокированный Андре.
— Не сомневаюсь, он был бы в восторге, если бы узнал, что девушка взяла у него цветок, чтобы поставить на ночной столик. А Джин Харлоу? Ты знаешь, где ее могила?
— Нет, и знать не хочу.
— А я знаю — я часто хожу в мемориальный парк Форест Лоун, ее могила там, в частной часовне. Она умерла в двадцать шесть лет, потому что ее мать-сектантка не захотела ее лечить…
Выйдя из мавзолея, он попросил Мэрилин не ходить на встречу, назначенную в студии, а остаться с ним; он почитает вслух толстую книгу цитат, которую всегда носил с собой в кофре. Устроившись на газоне, они читали о жизни, любви, счастье, славе, тщеславии, женщинах, смерти и многом другом. Внимание Мэрилин привлекло слово «слава». Вдруг она решила, что поэзии и философии с нее хватит и лучше все же явиться на назначенную встречу.
— Ты переспишь с этим продюсером?
— Да! Ну и что? — ответила она со злостью.
Он подвез ее до утла Мелроз-авеню и Гоуэр-стрит.
Несколько дней спустя Андре прочел ей стихотворение под названием «Стихи на смерть Мэри». Она сказала, что стихи написаны для нее, только поэтесса забыла добавить «ЛИН» после «Мэри». Он напомнил, что на кладбище она утверждала, что мечтает о долгой счастливой жизни, а теперь клянется, что не доживет до старости…
— Стихотворение на смерть Мэри — предсказание; я умру молодой!
— Замолчи и позируй! — перебил ее Андре. — Пусть лучше твое лицо говорит за тебя.
Они закончили чтение, и он принялся фотографировать ее, запечатлевая смену ее настроений, которые она демонстрировала по его просьбе, проходя весь спектр человеческих эмоций; счастье, меланхолию, задумчивость, спокойствие, грусть, страдание, растерянность… Он даже попросил ее показать, как ей представляется смерть. Она набросила на голову покрывало и велела Андре приготовить аппарат — сейчас она покажет, какой будет ее смерть. Мэрилин подняла на него мрачный взгляд и сказала, что смысл фотографии — «конец всему». Он быстро сделал снимок и спросил ее, почему она представляет смерть такой мрачной и темной, а не показала вместо этого мирную улыбку, как будто переход в мир иной — всего лишь прекрасное преображение. Мэрилин ответила, что свою смерть она представляет именно так. И добавила;
— Андре, не публикуй эти фотографии сейчас, дождись моей смерти.
— Откуда ты знаешь, что умрешь раньше меня? В конце концов, я на двенадцать лет старше.
— Знаю, — ответила она тихо и серьезно.
Но это настроение продлилось недолго. Через несколько минут, снова развеселившись, она уже спешила на назначенную встречу, торопя его упаковать фотографические принадлежности в автомобиль и вернуться.
В течение двадцати трех лет, которые Дине прожил после смерти Мэрилин, он часто приходил на ее могилу и никогда не пропускал 1 июня, дату ее рождения, и 4 августа, день ее смерти. Каждый раз он крал несколько цветов с ее могилы и ставил у своего изголовья. Он вспоминал о ней и когда ходил в кино в Вествуд Виллидж. За экраном, всего в каких-то пятнадцати метрах, лежала Мэрилин. Как-то, раз она сказала ему; «Хочешь, чтобы я стала облаком? Тогда сфотографируй вот это. Так я не умру совсем».
Каждый раз, когда он видел, как она болтает по телефону, он вспоминал: чтобы сохранить в неприкосновенности свою частную жизнь и ввести в заблуждение докучливых поклонников, Мэрилин написала на телефонной доске своего дома неправильный номер. Это был номер лос-анджелесского морга.
Лос-Анджелес — Нью-Йорк март 1960 года
Мэрилин, родившаяся в Лос-Анджелесе, глубоко привязалась к Нью-Йорку с первого же приезда туда в конце 1954 года. Когда — еще начинающей актрисой — она училась в актерской лаборатории Лос-Анджелеса, она уже считала восточную метрополию волшебным далеким местом, где актеры и режиссеры занимаются чем-то еще, кроме постоянных споров о ближних планах и углах съемки. Она мечтала погрузиться в жизнь, в которой было бы больше размышлений, меньше кадров и больше разговоров между людьми.
Лос-Анджелес, со своим неизменным ясным небом и жарой, казалось, заснул, разомлев. Мэрилин покинула свой город, как в постели отдаляются от слишком близкого, слишком теплого тела, когда появляется желание побыть одному, самому по себе. Города — это тела. Есть города кожи и города костей. Мэрилин хотела поселиться в самом городе сердца. Впоследствии, в оставшиеся годы жизни, ей нравилось возвращаться в Нью-Йорк, город, словно выпрямившийся во весь рост. Эта вертикальность, эта структура, тянущаяся к небу, были новы для нее после родного города — распростертого, почти плоского, за исключением Голливудских холмов на севере, а на юге — небоскреба портового квартала. Лос-Анджелес останется городом, в котором звезды кино блистают и пламенеют, в котором солнце заливает все своим прямым и ужасающим светом, превращая улицы и дома в плоский мерцающий мираж. Как мысли о вечности лишают сна того, кого они преследуют, калифорнийское небо дает слишком много света городским пейзажам и слишком мало тени душам, которым хотелось бы по ним бродить.
С первой минуты, когда Мэрилин оказалась в Манхэттене, шесть лет назад, она поняла, что это ее город. Настоящий город. Город, в котором думают. В Нью-Йорке Мэрилин никогда не чувствовала себя потерянной. Скорее, она находила себя, находила то, что давно искала. Именно среди этих теней, среди всех оттенков серого, ей было лучше всего. Она испытывала головокружительное, но осознанное ощущение, что погружается внутрь себя. Она хорошела. Смена времен года, буйство стихий — все пробуждало ее. Она думала о городе, она жила городом. Она считала, что самые красивые ее фотографии — черно-белые, похожие на Нью-Йорк, на шахматную доску.
Во время своего психоанализа у Гринсона Мэрилин снова приехала на Манхэттен в марте, сразу после того, как получила Золотой глобус лучшей актрисы за фильм «Некоторые любят погорячее». Когда семестр терапии закончился, вместе со съемками «Давай займемся любовью», она вернулась в Нью-Йорк, чтобы пожить там некоторое время. На последнем сеансе перед отъездом она рассказала психоаналитику о сне, который часто ей снился;
— Я зарыта в песок, я лежу и жду, чтобы пришел кто-нибудь и откопал меня. Сама я не могу выбраться.
Этот сон ассоциировался у нее с одним воспоминанием.
— Ана, моя тетя Ана, как я ее называла, хотя она не была моей тетей, а просто самой лучшей из тех мам, к которым меня пристраивали — я жила у нее четыре или пять лет, — она умерла, когда мне было двадцать два года. На следующий день я вошла в ее комнату и легла на кровать… не двигаясь, вот так. Я пролежала на ее кровати несколько часов. Потом пошла на кладбище и увидела рабочих, которые рыли могилу. Я спросила у них, можно ли мне спуститься туда. «Нет проблем», — ответили она. Я спустилась по лестнице. Легла на дно ямы и посмотрела в небо над головой. Земля под спиной холодная, но вид просто неповторимый.
— Ты любила ее? — спросил Гринсон, смущенный некоторыми подробностями этого рассказа, которые казались ему слишком ужасными, чтобы быть правдой.
— Еще бы. Если у этого слова и есть смысл, то это не любовь между мужчиной и женщиной. У меня никогда не было — ни до, ни после Аны — любви, такой, которой, как я видела, окружены другие дети в семьях. Или такой, которая в фильме, — похожей на таинственный свет, заливающий лицо звезд. Я шла на компромиссы. Я старалась привлечь к себе внимание. Кто-то смотрит на меня и произносит мое имя, теперь для меня это и есть любовь.
В тот знойный нью-йоркский июль по рекомендации Гринсона Мэрилин вернулась к своему мужу Артуру Миллеру и своему аналитику Марианне Крис. Но вскоре, почти одновременно, она рассталась с обоими. Она лечилась три года у Крис, а до того два года у Маргарет Хохенберг. Но теперь был Роми, которому она звонила каждый день. Мэрилин возбужденно говорила своей горничной, Лене Пепитоне: «Наконец-то я его нашла! Это мой спаситель! Его зовут Ромео. Можешь в это поверить? Я называю его «мой Иисус». Мой спаситель. Он так много для меня делает. Он слушает меня. Он придает мне храбрости. Он делает меня умнее. Он заставляет меня думать. С ним я могу что угодно встретить лицом к лицу — я больше не боюсь».
Потом она позвонила Гринсону: «Я влюбилась в Бруклин, хочу жить здесь и ездить на побережье только на съемки фильма».
На следующий день в поезде метро линии С, по пути к Бродвею, она увидела, как сидящая на скамье напротив женщина без возраста, в кукольном платье с розовыми оборками, детских туфельках, тоже розовых, кружевных носочках и диадеме из фальшивых бриллиантов, сосет соску. Мэрилин в ужасе позвонила своему спасителю среди ночи.
Вена, Бергштрассе, 19 1933 год
Ральф Гринсон был в Вене, он заканчивал свой анализ с Вильгельмом Штекелем и был недавно принят вместе с несколькими другими молодыми начинающими психоаналитиками на вечерах, на которых Фрейд один раз в месяц говорил о технике психоанализа. Он размышлял об окончании лечения. Что это значит — закончить анализ? Этим вопросом Гринсон лично задавался со Штекелем и ожидал от учителя объяснений, прежде чем самому заняться лечебной практикой.
На втором этаже вход в рабочие комнаты Фрейда был через правую дверь. Вход был прост, а дверь снабжена решеткой от воров, как во всех буржуазных домах Вены. Справа находилась приемная с портретами и дипломами на стене, которые Гринсону не удалось распознать. Позднее он узнал, что там есть портрет только одного из последователей Фрейда — Шандора Ференци. Одна дверь вела в кабинет психоаналитика, а другая, оклеенная теми же темными обоями, что и стена, позволяла пациентам, которые не хотели никому попадаться на глаза, выйти, не появляясь вновь в приемной. В этом кабинете, где из мебели были только диван, стулья и овальный столик, темном и всегда полном сигарного дыма, поздно вечером принимал великий учитель. Он встречал своих верных учеников холодно, без улыбки. Он допустил к себе всего дюжину практиков, среди которых было ядро из шести постоянных членов, к которым присоединялось несколько дебютантов, разных на каждом собрании. Он называл их «ученики издалека». Они обсуждали с ним работу, связанную с «переносом». «Любовь в переносе», — говорил Фрейд, так же как в словарях подыскивают наименее пугающее название для болезни.
«Я не люблю этого выражения — «манипуляции в переносе», — подчеркнул он в тот вечер в предварительной речи. — Перенос — не инструмент, который мы берем в руку, это скорее рука, которая берет нас, ласкает, поворачивает». Затем он заговорил о силе этой связи, о ее родстве с любовной связью, о ее продолжительности, о том, как трудно от нее избавиться. Об опасностях, грозящих при попытке объявить ее несостоятельной или неблаготворной, говоря пациенту: «Это не я, это не вы».
Фрейд процитировал Монтеня: ««Я полюбил его, потому что это был я, потому что это был он». Понимаете, совершенно бесполезно говорить пациенту: «Вы меня любите, потому что это не вы, потому что это не я». Это бессмысленно».
Отель «Беверли Хиллз» последние дни апреля 1960 года
На бунгало опускается розовая вечерняя дымка. Французский журналист Жорж Бельмон приехал побеседовать с Мэрилин, на несколько дней вернувшейся в Лос-Анджелес. Поговорить обо всем и ни о чем и, наконец, о смерти. Своим голосом усталой маленькой девочки она произносит длинную речь, одновременно напряженную и самозабвенную, время от времени надолго замолкая.
— Конечно, я о ней думаю. И даже часто. Иногда я замечаю про себя, что мне больше нравится думать о смерти, чем о жизни. Это настолько проще, в каком-то смысле, не правда ли? Когда переступаешь порог, известно, что почти наверняка по ту сторону двери никого не будет. А в жизни всегда есть другие люди или другой человек. И когда вы попадаете на тот свет, это никогда не по вашей вине. А что до выхода… Вы знаете, как отделиться от других людей?
— Расскажите о вашем детстве.
— Я никогда не жила с матерью. Говорили, что жила, но это неправда. Насколько я помню, всегда жила у чужих людей. Когда она приходила навестить меня в семью, куда она меня пристроила — мне и двух недель не исполнилось, — она никогда не улыбалась мне, не говорила со мной, не дотрагивалась до меня. У моей матери было… психическое расстройство. Ее больше нет на свете.
В этих двух фразах Мэрилин солгала дважды, но интервьюер не знал об этом. Во-первых, Норма Джин прожила с матерью несколько месяцев. Когда они жили в тесной квартирке на Эфтон-плейс, рядом с голливудскими студиями, мать надолго положили в больницу. И второй раз, когда Мэрилин было двадцать лет и она начинала свою карьеру в кино, она приютила свою мать на несколько недель в маленькой квартирке на Небраска-авеню. К тому же, на момент этой беседы Глэдис Бейкер была еще жива. Несмотря на свое безумие, она переживет дочь на двадцать два года.
В 1951 году, когда студии в рекламных целях распространяли легенду о Мэрилин-сироте, актриса получила от Глэдис письмо: «Пожалуйста, милая девочка, напиши мне. Я ужасно скучаю здесь и хочу выйти как можно скорее. Я хочу, чтобы моя дочь любила меня, а не ненавидела». Письмо было подписано: «С любовью, твоя мать». «Мать». Не «Мама». Мать. Та, кем Глэдис никогда не могла стать. Та, кем Мэрилин никогда не станет.
После беседы Мэрилин поблагодарила Бельмона и сказала, что рада была с ним поговорить и что со временем все больше боится отвечать на вопросы журналистов. Она была благодарна за то, что с ней общались не как со звездой, а как с человеком. Этим вечером она поехала в Беверли Хиллз на прием в дом влиятельного в Голливуде литературного агента, Ирвинга Лазара. Она встретила там Гринсона и его жену, которые тепло с ней поздоровались. Затем заметила знакомые лица Джона Хьюстона и Дэвида О. Селзника и долго разговаривала с незнакомцем лет шестидесяти, который только что поселился в Голливуде в Брентвуд Хайтс. Он рассказал ей о том, как ему нравится в Калифорнии. Поехать на северо-запад, за Сан-Фернандо, и ходить по зеленым и голубым холмам, поросшим джакарандой, которые окаймляют пустыню Моджейв, разыскивая редкие виды бабочек, чтобы дополнить свою книгу о калифорнийских чешуекрылых. Бороздить шоссе Лос-Анджелеса в своем «форд импала» и бродить по гипермаркетам: «Особенно ночью, в неоновом свете», — добавил он. Еще он сказал, что написал роман «Лолита», который Стэнли Кубрик собирался экранизировать в студии «Юниверсал». Владимир Набоков старался приспособиться к требованиям сценария.
— А вы чем занимаетесь? — спросил он у блондинки, которая пила бокал за бокалом, чтобы набраться храбрости для беседы или молчать до конца вечеринки.
— I am in pictures, — ответила она, что значит «Я играю в фильмах», но также «Я живу в картинках».
— Я тоже, — с хитрецой ответил мужчина, — но я всего лишь дублер.
Несколько недель спустя в фильме «Давай займемся любовью» Мэрилин навязала Кьюкору в качестве прелюдии к песенке «My heart belongs to daddy» эти слова: «Меня зовут Лолита, и мне не разрешают играть с мальчиками».
Нью-Йорк, Манхэттен конец 1954 года
После развода со вторым мужем, Джо ДиМаджио, приехав в Нью-Йорк, чтобы учиться на курсах Ли Страсберг в актерской студии, Мэрилин вначале жила в Глэдстоне, на Пятьдесят второй Восточной улице, а затем в апреле 1955 года поселилась в «Валдорф-Астории». У Мэрилин было мало своих вещей в ее манхэттенских квартирах. Библиотека из четырехсот книг, и главное — белый рояль, знакомый ей с семи лет, стоявший в холле, который служил гостиной, среди нескольких предметов мебели в фальшивом французском стиле. Она долго искала его следы, затем в 1951 году нашла его на распродаже в западной части Лос-Анджелеса. Она купила рояль, не глядя на цену, и поставила в своем крошечном однокомнатном номере отеля «Беверли Карлтон». Через два года рояль последовал за ней в трехкомнатную квартиру на Дохени-драйв. Мэрилин брала его с собой каждый раз, когда переезжала. В 1956–1957 годах она переехала в Нью-Йорк, в квартиру на тридцатом этаже на Пятьдесят седьмой Восточной улице, в которой жила с Артуром Миллером.
Когда Мэрилин впервые вышла из самолета в аэропорту Айдлвайлд, под вспышками шестидесяти фотоаппаратов, и сорок минут позировала на трапе под свистки и радостные крики работников аэропорта, она думала только об одном: вновь встретиться в Нью-Йорке с самым интеллектуальным из кинематографистов, Джозефом Л. Манкевичем, который часто говорил: «Я писатель, перешедший к постановке фильмов, а не кинематографист. Я снимал фильмы, чтобы не позволить исказить то, что я писал». В Голливуде он дал Мэрилин роль в одном из своих первых фильмов, «Все о Еве», и она, надеясь показать ему, насколько изменилась за четыре года, хотела получить роль в его музыкальной комедии «Парни и куколки». Но, когда она приехала, Манкевич разминулся с ней, уехав в Лос-Анджелес. Она позвонила ему: «Видите, я стала звездой. Я буду сниматься с Билли Уайлдером в фильме «Зуд седьмого года»». Манкевич сухо осадил ее. То ли из-за того, что она назвала имя режиссера, которого он не любил — среди прочего потому, что не упускал случая посмеяться в своих фильмах над психоанализом, — то ли оттого, что Уайлдер создал признанный шедевр «Сансет-бульвар», картину нравов Голливуда и горький портрет звезды, скатившейся с высот славы, точно в то же время, когда он снимал свой фильм о падении актрисы — «Все о Еве». Конечно, в том году Оскар за лучший фильм достался Манкевичу, но он сохранил к Уайлдеру необъяснимую враждебность. На этот раз он боялся, что комедия его соперника окажется лучше, чем его фильм.
Он разговаривал с Мэрилин очень резко: «Слишком много Голливуда, в вас слишком много Голливуда». Он говорил с ней как с ничтожеством. «Уменьшите декольте, перестаньте вертеть задом — тогда и посмотрим». Она услышала в этих словах жестокое напоминание именно о том, что она ненавидела вспоминать: о ее дебютах в Голливуде, как будто она так и не выбилась из порнографических фильмов.
Назавтра она попросила своего бывшего любовника, Мильтона Грина, сфотографировать ее. В темной студии на Лексингтон-авеню он фотографировал ее, облитую «Дом Периньоном» и одетую в костюм балерины. Под вспышкой, в сломанном кресле, на фоне черной занавеси, она явилась танцовщицей без танца, печальной, раздвоенной, невинной и одновременно непристойной: она прижимала к груди подол разлетающейся белоснежной пачки, на губах ее была кроваво-красная помада, сочетающаяся с лаком на ногтях пальцев ног.
Нью-Йорк, актерская студия, Сорок четвертая Западная улица май 1955 года
Лос-Анджелес оставался городом кино, с его психоаналитиками, охваченными лихорадкой студиями, зараженными страстью к кадрам. Когда Мэрилин приехала в Нью-Йорк, чтобы поселиться в нем, она совместно с Мильтоном Грином создала независимую продюсерскую компанию. Нью-Йорк стал для нее городом, где она искала смысл людей и явлений. Городом психоанализа. Она встретила там Ли Страсберга, который призвал ее «освободить свое подсознание». Она попросила Грина порекомендовать ей психотерапевта. Он посоветовал Маргарет Херц Хохенберг, психоаналитика венгерского происхождения, грузную, суровую женщину с седыми волосами, туго заплетенными в косы. Она училась медицине в Вене, Будапеште и Праге, затем незадолго до войны поселилась в Нью-Йорке. Маргарет уже лечила Грина и продолжала одновременно психоанализы его и Мэрилин, пока та не порвала с Грином и с ней самой в феврале 1957 года.
Кроме совета Страсберга, который считал, что каждый актер должен войти в контакт с истинами своего подсознания на кушетке психоаналитика, Мэрилин заставили попросить Хохенберг о психоанализе ее многочисленные проблемы: детские психические травмы, недостаток самоуважения, навязчивая потребность в одобрении окружающих, неспособность поддерживать дружеские или любовные связи, страх быть покинутой.
Мэрилин пунктуально являлась на пять сеансов в неделю в кабинет психоаналитика, два по утрам и три — во второй половине дня. Когда она выходила из кабинета, находящегося на Дёвяносто третьей Восточной улице, то предавалась своего рода ритуалу экзорцизма — останавливалась, подносила руку ко рту и кашляла до боли. Затем снова поднимала глаза, глядя на улицу, словно отбросив далеко внутрь себя — или, наоборот, прочь от себя — эмоции, которые психоанализ заставил проявиться. Мэрилин стала страстной сторонницей психоанализа. Однажды на пресс-конференции ее спросили, чего она стремится достичь с его помощью. Она ответила: «Не буду говорить об этом, скажу только, что верю во фрейдовскую интерпретацию. Надеюсь, что смогу когда-нибудь подробно отчитаться о чудесах, которые психиатры могут сотворить для вас».
По сценарию, которому предстояло повториться, к концу года Хохенберг стала больше чем терапевтом: она улаживала споры между своей пациенткой и ее парикмахером, накладывала вето на некоторые знакомства, консультировала насчет ролей. В те дни, когда Мэрилин не ходила к психоаналитику, она являлась в мастерскую Страсберга в «Студии Мэлин», а вечером приходила к своему преподавателю на частные уроки у него дома, на Восемьдесят шестой Западной улице. Страсберг, автор системы, которую он скромно называл «методом», хотел выявить то, что она оставила в своем прошлом. «Освободить все энергии, погребенные в течение прожитых лет» — такова была его манера выражаться. Мэрилин очаровали его рассказы о загадочной человеческой природе. Ли Страсберг и Маргарет Хохенберг решили объединиться, чтобы вместо темного, депрессивного фона развить в актрисе способность сохранять прочные дружеские и профессиональные связи. По их мнению, навязчивое желание всем нравиться на самом деле изолировало Мэрилин и мешало ей отрабатывать технику, которая позволила бы внести что-то новое в ее искусство. «У меня были преподаватели, — скажет она после этого двойного опыта, — люди, которыми я могла восхищаться, но не было никого, на кого бы я хотела быть похожей. Я всегда чувствовала, что меня не существует; единственная возможность быть для меня — это, наверное, быть кем-то другим. Поэтому я и захотела стать актрисой».
«Я пытаюсь стать актрисой, — сказала она во время одного из первых сеансов с Хохенберг. — Я стараюсь быть настоящей, но часто, несмотря на мои усилия, во мне словно открывается окно, в которое видна моя пустота. Я боюсь сойти с ума. Я стараюсь показать свои настоящие качества, но это слишком трудно. Иногда я думаю: все, что мне надо делать, — это быть искренней. Но это не приходит просто так, и мне кажется, что я фальшивка, и все, что я ни говорю, представляется ложью. Я хочу работать как можно лучше с той секунды, когда камера приходит в движение, до той секунды, когда она останавливается. В этот момент я хочу быть совершенством. Ли всегда говорит, что я должна исходить из самой себя. А я отвечаю: самой себя? Что это такое — я сама? Кто это? Я — это не так важно. Кем меня считают — Мэрилин Монро?»
Однажды в начале февраля 1956 года Мэрилин принесла психоаналитику большой конверт фотографий, сделанных Мильтоном Грином. Впоследствии их опубликовали под названием «Черный сеанс». Она позировала в черном белье и чулках, пьяная, с полузакрытыми глазами и грустной улыбкой на губах. Фотографии были пробами к готовящемуся фильму Джошуа Логана «Автобусная остановка».
Снимки были жестокими и безысходными. Мэрилин казалась побежденной, уставшей от секса, изнуренной той жаждой, которую не может утолить ни одно тело. И конечно же никакие слова. «Хотите посмотреть мои обзорные листы?» — спросила она Хохенберг. Бросив на фотографии испуганный взгляд, седеющая толстуха молча протянула их обратно.
Нью-Йорк, Девяносто третья Западная улица февраль 1955 года
Мэрилин не довольствовалась тем, что просто оплачивала сеансы, а тесно связала деньги с психоанализом. Вначале Хохенберг стала консультировать ее относительно финансовых дел. Затем, в феврале 1956 года, актриса составила завещание, оставив 20 000 долларов, что составляло, по ее оценкам, одну десятую часть ее имущества, доктору Маргарет Херц Хохенберг. Среди других наследников были Ли и Пола Страсберг (25 000 долларов), актерская студия (10 000 долларов); также выделялось достаточное количество средств на покрытие расходов по госпитализации Глэдис Бейкер до конца ее жизни (в пределах 25 000 долларов). Когда завещание было подписано, адвокат Мэрилин шутливо спросил ее, не добавит ли она пожелание относительно текста эпитафии. «Мэрилин Монро, блондинка», — ответила она, рассеянно чертя арабески затянутой в перчатку рукой.
Эта связь между словом, любовью и деньгами продолжится и в дальнейшем. В июле 1956 года именно Хохенберг вела переговоры с продюсерами фильма «Принц и танцовщица». В октябре Хохенберг отправится в Лондон за счет Мэрилин, чтобы поддержать ее во время съемок этого фильма, как в первый раз во время съемок фильма «Автобусная остановка».
Маргарет Хохенберг советовала Мэрилин вести дневник, чтобы записывать в него любые мысли. Мэрилин не последовала ее совету. Дважды она покупала красивые дневники с мраморными разводами на обложке, но страницы оставались пустыми. Ей никогда не хватало дисциплины и регулярности, чтобы что-либо записывать. Она стыдилась своего почерка, орфографии и пунктуации — говорила, что они жуткие. Кроме того, дневник слишком принуждал к постоянству. Зато она составляла списки трудных слов, которые выписывала из словарей, таких как абазия, абсурд, абсолют, аддикция, адюльтер, акроним, аллюзия, или же простых, но загадочных — холодный, родитель или Я. Также среди ее документов и предметов, которые следователи не унесли при первом обыске комнаты, в которой она умерла, были найдены листки бумаги. Их было немного. Большинство исчезло еще до прихода полиции, что, по мнению некоторых, подтверждало предположение об убийстве.
Самые давние заметки относятся к 1955 году, когда она училась в актерской студии.
«Моя проблема — отчаяние в работе и в жизни. Мне надо начать бороться с ней все время, работать более упорно, чтобы работа стала важнее, чем отчаяние…»
«Сыграть сцену — все равно что раскупорить бутылку. Если нельзя ее открыть одним способом, надо попробовать другой или, может быть, отказаться от этого и взять другую бутылку. Ли не понравилось бы, что я так говорю…»
«Как и почему я могу играть (а я не уверена, что могу), вот это мне надо понять. Пытка — не говоря о ежедневных неприятностях — боль, невозможно их объяснить кому-то другому…»
«Как мне заснуть? Как этой женщине заснуть? О чем она думает? Почему о часах перед рассветом говорят «короткие часы», ведь они самые длинные?..»
«Чего я так боюсь? Я прячусь, чтобы избежать наказания? Либидо? Спросите у доктора X».
«Как мне научиться говорить на сцене естественно? Надо, чтобы волновалась не актриса, а персонаж. Мне надо научиться доверять своим противоречивым импульсам».
Голливуд, Сенчури Сити, бульвар Пико июнь 1960 года
Мэрилин отпраздновала свой тридцать четвертый день рождения в Голливуде, у Руперта Алена, своего агента по связям с общественностью и друга, в его квартире на Сибридж-плейс. Весь вечер она беседовала с драматургом Теннеси Уильямсом и его грозной матерью Эдвиной.
Очень встревоженная приближением этой даты, она вновь начала сеансы со своим спасителем. «Это повторяется, — говорила она Гринсону, — я все время возвращаюсь назад». Иногда у нее было впечатление, как будто она поет свою жизнь под музыку, постоянно повторяющуюся, с трудом попадая в такт. В студии «Фокс», ожидая съемок одной из последних сцен «Давай займемся любовью», Мэрилин написала на клочке бумаги: «Чего я боюсь? Что не смогу играть? Боюсь своего страха сцены? Я знаю, что могу играть, но я боюсь. Я знаю, что не должна бояться. Но не бояться значило бы вообще не быть».
На съемках ее предыдущего фильма «Некоторые любят погорячее» под руководством Билли Уайлдера Мэрилин с панической тревогой почувствовала, что ее уже не так ценят. Ей пришлось защищать себя. Однажды Монро не захотела выйти из своей гримерной на съемки сцены, в которой пела Running wild. Уайлдер попросил Сандру Уорнер, певицу, игравшую Эмили, одну из музыкантш в оркестре, взять микрофон и спеть под музыку: «Мэрилин точно придет, когда услышит, что ты поешь вместо нее». Действительно, слыша эту песню из-за кулис, Мэрилин вышла, бросила уничтожающий взгляд на Уайлдера, спокойно объявившего со своим венским акцентом: «Начнем с начала». Мэрилин с яростью и блеском запела. В конце съемок для афиш вместо беременной Мэрилин были вынуждены сфотографировать дублершу. На рекламных фотографиях — Сандра в платьях главной героини фильма, с приклеенной головой Мэрилин Монро, а рядом с ней Джек Леммон и Тони Кертис. Мэрилин не могла не согласиться, но затаила обиду. Она еще долго не простит Сандре Уорнер этой «кражи тела».
На тех же съемках костюмер Орри-Келли снимал мерки, чтобы сшить платья, с двух актеров-мужчин, которым предстояло переодеться в женщин, а потом с Мэрилин. Он имел несчастье сказать ей: «У Тони задница красивей, чем у тебя». Разгневанная, она обернулась и распахнула блузку: «Возможно, но у него нет такой груди!»
Но была и другая Мэрилин. Уайлдер долго вспоминал об этой сцене: она не выходила из своего фургона, и когда помощник режиссера пришел за ней, то увидел, что Мэрилин читает «Права человека» Томаса Пейна. «Пошел ты!» — бросила она. Впоследствии, когда Билли Уайлдера спрашивали об опозданиях звезды во время съемок, он отвечал: «У меня не было проблем с Монро. Это у Мэрилин были проблемы с Монро. В ней было что-то, что ее кусало, грызло, ело поедом. В ней был какой-то разлад, она словно искала потерянную часть себя. Как в этой сцене из «Некоторые любят погорячей», когда она, пьяная и спросонья, открывая ящики комода, должна была приговаривать: «Куда подевалась эта бутылка бурбона?» Мы положили по записке в каждый ящик, чтобы напомнить ей реплику. Но это не помогло, и, на шестьдесят третьем дубле за два дня, я отвел ее в сторонку и сказал: «Что происходит? Не беспокойся. У нас получится». Она удивилась: «О чем не беспокоиться?» Мы сделали восемьдесят дублей. Но в конечном итоге дело того стоило. Это была великая актриса. Вечно опаздывающая Мэрилин была лучше всех других актрис того времени. Если бы мне был нужен кто-то, кто всегда является вовремя и знает наизусть все реплики, я бы пригласил свою старую тетушку из Вены. Она всегда вставала в пять утра и никогда ничего не забывала. Но кто захотел бы увидеть ее на экране?»
Вечером Уайлдер возвращается домой, целует жену, высокую красавицу Одри Янг, и говорит ей:
— Мэрилин была великолепна. Если бы мне было суждено изменить тебе с женщиной, это была бы она.
— Если бы мне было суждено изменить тебе, я бы тоже выбрала ее, — ответила она.
В последний раз Билли Уайлдер видел Мэрилин Монро весной 1960 года, во время съемок «Давай займемся любовью», на приеме после показа фильма «Зуд седьмого года», устроенном в ресторане «Романофф» в Беверли Хиллз. Уайлдер предложил ей женскую роль в его следующем фильме «Нежная Ирма». Недавно была церемония вручения Оскаров: Уайлдер был признан лучшим режиссером за фильм «Некоторые любят погорячее», И. А. Л. Дайамонд — лучшим сценаристом, а Джек Леммон — лучшим актером. Платья Орри-Келли объявили лучшими костюмами. Мэрилин, незабываемая Душечка, не получила номинации. Когда она узнала о награждении Симоны Синьоре за ее роль в малоизвестном британском фильме «Комната наверху», она, казалось, совсем не расстроилась, а даже была довольна.
Уайлдер встретился с ней на следующий день.
— Как ты? Не слишком переживала?
— Нет, я вычитала у Фрейда, что мы часто подсознательно стремимся к неудаче. А потом, все-таки многие не любят слишком горячих женщин.
— Знаешь, Мэрилин, видел я твоего Фрейда. Он был довольно несимпатичный тип. Я сохранил о нем неприятные воспоминания. До войны я жил в Берлине. Я был молодым журналистом, и мне пришла в голову экстравагантная идея поехать в Вену, чтобы взять у Фрейда интервью. Это был самый большой провал в моей карьере. Я брал интервью у Рихарда Штрауса, Артура Шницлера и многих других — тебе это, конечно, ничего не говорит, но то были деятели искусств того времени, когда Вена была культурной столицей Европы. Фрейд жил на Бергштрассе, в мещанском квартале. Я приехал со своим единственным оружием: карточкой репортера «Штунде». Я хотел написать статью на тему политических событий в Италии, о Муссолини… Это было в 1925 или 1926 году. Я думал, что Фрейд может рассказать мне много нового. Я навел о нем справки. Он ненавидел газеты так же, как и журналистов, потому что все они над ним насмехались. Я в этой войне сохранял нейтралитет: никогда не встречал ни одного австрийца, который прошел бы психоанализ, да впрочем, вообще ни одного пациента психоаналитика. Журналисты ненавидели психоанализ, а психоаналитики ненавидели журналистов. Я долго задумывался, почему это так. Наконец, похоже, я понял: возможно, в конечном итоге девиз журналистики совпадает с девизом психоанализа: «Когда миф интереснее правды, расскажите миф». Кстати, профессия журналиста не так отличается от моей нынешней профессии режиссера. И журналист, и режиссер стремятся не к правде, а к правдоподобию. Мы творим образы, которые что-то говорят людям, неважно, правдивы эти картины или нет. «Когда я вошел к профессору, я словно погрузился в какой-то колодец. Служанка открыла мне и сказала: «Герр профессор сейчас обедает». Я ответил: «Я подожду». В Европе, в той ныне исчезнувшей Mitteleuropa, врачи принимали пациентов в своей квартире. У Фрейда гостиная служила приемной, а через дверь, ведущую в его кабинет, я разглядел диван. Диван был совсем небольшой, весь покрытый турецкими коврами во много слоев. У Фрейда также была коллекция античного и доколумбовского искусства. Но больше всего меня поразил мизерный размер знаменитого дивана. Все грандиозные теории о бессознательном основаны на анализе психики крайне низкорослых людей. Кресло Фрейда было в изголовье дивана, несколько позади. В какой-то момент я поднял глаза и увидел в дверях Фрейда. Это был человек маленького роста, с салфеткой на шее, ведь он только что вышел из-за стола. Фрейд спросил: «Репортер?» Я ответил: «Да, у меня есть несколько вопросов». Он перебил меня: «Дверь там». И выставил меня вон. Вот и все. Интервью не состоялось.
Это был мой первый и последний сеанс с психоаналитиком, и я отомстил, когда снял сцену, в которой Фрейд занимается психоанализом собаки в «Императорском вальсе», и в фильме «Зуд седьмого года» — помните сцену, в которой заносчивый психоаналитик доктор Брубейкер умоляет редактора напечатать его статью?..
— Он пожал тебе руку? — спросила Мэрилин.
— Нет.
— Просто выставил тебя?
— Выставил — и все. Я показал ему визитную карточку. «Вы господин Вильдер? Из «Штунде»? Вон, господин Вильдер из «Штунде». Да, дверь там».
Нью-Йорк, отель «Гладстон», Пятьдесят вторая Восточная улица март 1955 года
На вершине своей голливудской славы Мэрилин покинула город мечты ради Нью-Йорка. Она намеренно избавлялась от всего, что знала о себе самой, как будто желая вновь начать с нуля. Она слишком хорошо знала Лос-Анджелес, и город слишком хорошо знал ее. Быть Мэрилин Монро в городе ангелов — эта работа стала круглосуточной, заставляя трудиться не только на площадках, но и в общественных местах, ресторанах, на многочисленных рекламных мероприятиях. На Манхэттене она могла раствориться в безвестности. Там она была никем. Могла спрятаться от себя самой. Она надевала бесформенный свитер, потертое пальто и без макияжа, в черных очках и завязанной под подбородком косынке инкогнито бродила по оживленным улицам.
На Манхэттене Мэрилин проводила жизнь между актерской студией, где посещала курс театрального мастерства, всегда занимая одно и то же место в последнем ряду, и диваном Маргарет Хохенберг — в этот период оживленной интеллектуальной жизни ее ум был полностью обращен к тайнам подсознания, как она, смеясь, говорила своему другу, писателю Трумену Капоте.
Они познакомились в 1950 году, когда Мэрилин снималась в «Асфальтовых джунглях» с Джоном Хьюстоном. Несмотря на все различия, писатель-гомосексуалист и актриса — символ женственности и объект сексуальных фантазий были страшно похожи. Она разделяла с ним невысказанное, тайное страдание в глубине своего существа. Та же покинутость в раннем детстве, то же насильственное вторжение взрослой сексуальности, то же самоубийственное злоупотребление наркотиками и сексом, те же страхи перед лицом сложностей искусства, та же паника во время успеха и в итоге физический упадок и смерть от передозировки медикаментов. В барах Лексингтон-авеню они пили коктейли из водки и джина, которые называли «Белые ангелы». Иногда Капоте видел на ней дурацкий черный парик, который она срывала в баре при встрече, крича: «Пока, чернушка! Здравствуй, Мэрилин!»
В первый же день он открылся ей:
— Ты хоть понимаешь, что это такое — моя жизнь? Уродливый недомерок, влюбленный в красоту, злой и несчастный парень ниоткуда, который все время переносит слова людей на бумагу, из одной книги в другую, педик, который может найти общий язык только с женщинами.
— Могу себе представить. А ты понимаешь, что такое моя жизнь? — отозвалась она, одним духом опрокинув стопку водки. — То же самое, только добавь к этому все слова о том, кем я не стала.
После смерти Мэрилин Капоте скажет несколько принужденным тоном: «Она была невероятна: сегодня воплощение ангельской красоты, завтра — официантка закусочной». Он вспоминает их нью-йоркские годы, наполненные работой и весельем: «В первый раз, когда я ее встретил, без косметики она выглядела на двенадцать лет — созревающая девочка, только что принятая в сиротский дом и подавленная горем. Она занималась проституцией от случая к случаю. Но для нее деньги всегда оставались связанными с любовью, а не с сексуальностью. Она давала свое тело всем, кого, как ей казалось, любила, и так же раздавала деньги. Она любила любить; она любила верить, что любит. Однажды я представил ее Биллу Пейли, богатому и образованному человеку, который безумно ее хотел. Я попытался объяснить Мэрилин, что он ее любит.
«Ты надо мной издеваешься? Полюбить можно, только когда переспишь, да и то не часто. Без этого никак. Во всяком случае, так бывает у всех мужчин, которые мне встречались. Для меня секс и любовь неразлучны, как две мои груди. Хотела бы я уметь превращать сексуальность в любовь, в нематериальное явление. Как говорится, заниматься любовью. Мне нравится это выражение».
«А мне нет, — ответил я. — То, чем мы занимаемся, не любовь. Любовью никогда не занимаются, ею никогда не владеют. Мы оказываемся в ней или нет. Когда мы в любви, то мы творим и возрождаемся. Вот и все».
Она взглянула на меня с горькой улыбкой. Я не стал настаивать — каждому свои иллюзии. В тот раз я отвернулся, но потом вложил в уста героини «Завтрак у Тиффани», Холли Голайтли, эти слова: «Нельзя спать с мужчиной и брать у него деньги, не пытаясь хоть чуть-чуть поверить в то, что любишь его».
В 1955 году Трумен и Мэрилин встретились снова. Она жила в номере на шестом этаже отеля «Гладстон»; в феврале начались ее занятия в актерской студии. Встреча с Ли Страсбергом изменила ее жизнь. Преподаватель драматического искусства хотел «раскрыть ее бессознательное».
«Впервые в жизни меня не просят открыть рот и раздвинуть ноги. Вот повезло-то!» — рассказывала Мэрилин Трумену.
Как-то раз Трумен отвел ее к Констанс Коллиер в ее темную квартиру на Пятьдесят седьмой Западной улице. Престарелая английская актриса, почти ослепшая, едва двигающаяся от старости, давала ей уроки дикции и научила пользоваться голосом. Потом Констанс говорила о Мэрилин: «Да, тут что-то есть. Она прекрасное дитя. Не в прямом смысле — это слишком очевидно. По-моему, она вообще не актриса в традиционном смысле. То, что у нее есть — эта эманация, свечение, мерцающий ум, — никогда не проявится на сцене. Это так хрупко, нежно, что уловить может только камера. Как колибри в полете: только камера может ее запечатлеть».
Впоследствии Трумен и Мэрилин потеряли друг друга из виду. Она уехала в Лос-Анджелес, и он увидел ее снова только на похоронах Констанс Коллиер. Монро поселилась в «Валдорф-Астории». Она любила свой номер в этом отеле — на тридцать седьмом этаже, с окнами на Парк-авеню, которую она разглядывала ночью, как разглядывают спящее лицо; но особенно ей нравились входные вертящиеся двери. Revolving doors — вращающиеся двери — ее завораживали. Однажды Трумен сказал ей:
— Это символ нашей жизни: мы думаем, что идем вперед, а на самом деле возвращаемся, возвращаемся назад, мы не знаем, входим мы или выходим.
— Может быть, и так, но для меня это, прежде всего, символ любви — каждый из нас один между двух стеклянных дверей. Мы спешим друг за другом, но никогда не встретимся. Мы заключены сами в себе и думаем, что находимся рядом с тем, кого любим. Мы не знаем, кто был перед нами, кто будет за нами. Как дети, мы спорим: кто начал первым? Кто полюбил? Кто разлюбил?
Мэрилин опоздала в часовню ритуального здания. Она заговорила с Труменом издалека:
— Ох, малыш, извини. Понимаешь, я накрасилась, а потом решила, что не нужно никаких накладных ресниц, помады и прочего, — пришлось все смывать, и я никак не могла придумать, во что одеться…
Он понимал ее глубокую тревогу. Он думал: если человек всегда опаздывает на встречи не меньше чем на час, то ему мешают выйти из дому неуверенность и тревога, а не тщеславие. И опять же тревога, напряжение, вызванное постоянной потребностью нравиться, часто вызывали у нее боль в горле и мешали говорить; тревожность проявлялась в обгрызенных ногтях, влажных ладонях, приступах нервного хихиканья. Тревожность, пробуждающая в нас теплое и мягкое сочувствие, тревожность, от которой не тускнел ее яркий образ. Мэрилин всегда опаздывала, как все, кто появился не вовремя в жизни своих родителей, как все, кого не ждали.
Через двадцать лет Капоте закончит свой портрет Мэрилин: «Прекрасное дитя», один из лучших когда-либо написанных им коротких текстов.
Время. 28 апреля 1955 года.
Место. Часовня ритуального здания на углу Лексингтон-авеню и Пятьдесят второй улицы в Нью-Йорке. Скамьи плотно заняты интересной публикой — по большей части знаменитостями из мира театра, кино и литературы. Они пришли отдать последний долг Констанс Коллиер, актрисе английского происхождения, умершей накануне в возрасте семидесяти пяти лет.
Монро. Не хочу видеть трупы.
Капоте. Откуда здесь трупы?
Монро. Это ритуальный зал. Где-то же их держат. Только этого мне сегодня не хватало — ходить по комнатам, полным трупов.
Капоте. Потерпи. Потом пойдем куда-нибудь, и я угощу тебя шампанским.
Монро. Ненавижу похороны. Слава богу, что не придется идти на свои. Только я не хочу никаких похорон. Хочу, чтобы мои дети развеяли прах над морем (если они у меня будут). И сегодня бы не пришла, но мисс Коллиер так заботилась обо мне, о моем благополучии, она была мне как бабушка, старая строгая бабушка, и столькому меня научила. Научила меня дышать. Это мне очень помогло, и не только в актерстве. Бывает такое время, когда и дышать становится трудно[1].
Они потеряли друг друга из вида. Белые ангелы разлетелись, а потом растворились в белизне забвения. Она дала ему персонаж Холи Голайтли, или, скорее, он почерпнул Холи в самой Мэрилин, ее словах, руках, надежде и сумятице ее души. Больше она была ему не нужна. Воспоминания о ней навевали на него печаль, похожую на ту, которую испытываешь, видя на асфальте парковки изношенную шину, потерянный ключ.
После их последней встречи в Голливуде, за несколько недель до ее смерти, Трумен скажет: «Она никогда еще не выглядела так хорошо. Она здорово похудела для фильма, в котором должна была сниматься у Джорджа Кьюкора, и в ее взгляде светилась новая зрелость. Она больше не хихикала. Если бы она не умерла и сохранила свою фигуру, я думаю, она и сегодня была бы неотразима. Это не Кеннеди ее убили, как думают некоторые. Она покончила с собой. Но они заплатили одной из последних ее подруг, ее пресс-атташе Пэт Ньюкомб, чтобы она ни словом не проговорилась об их отношениях с ней. Эта подруга знала, в каком шкафу лежат скелеты. После смерти Мэрилин они отправили Пэт на целый год в кругосветный круиз».
Четыре года спустя Трумен Капоте устроил в большом бальном зале отеля «Плаза» в Нью-Йорке свой знаменитый черно-белый бал-маскарад. Много месяцев он составлял списки, то отмечая на страницах фамилии крестиком, то зачеркивая их. Все думали, что он пишет новый роман. Это был его последний праздник, его собственные похороны в славе без творчества. Он пригласил пятьсот человек. Мало писателей, много деятелей кино, в том числе Фрэнка Синатру. Несколько привидений, например старую актрису Талуллу Блэкхед. Но не было Джона Хьюстона, для которого он написал сценарий «Посрами дьявола» и позже представил его Мэрилин, и не было Блейка Эдвардса, разгромившего «Завтрак у Тиффани». Он пожелал, чтобы лица были закрыты масками и чтобы все были в белом или черном, чтобы бал напоминал шахматную партию. После смерти в бумагах Капоте нашли эту записку, датированную 1970 годом, без уточнений: «Белый слон. Вот как она меня видела. Мы с Мэрилин были созданы, чтобы встретиться. Но не соприкоснуться. Можно встретиться, не прикасаясь друг к другу. Как Холли и рассказчик в моем «Завтраке у Тиффани»».
Также Трумен запишет в своих дневниках: «Странно: после развода моих родителей я рос в Монровилле, Алабама».
Феникс, Аризона март 1956 года
Проведя четырнадцать месяцев в Нью-Йорке, Мэрилин вернулась в Лос-Анджелес на съемки фильма «Автобусная остановка». Двенадцатого марта 1956 года та, которая подписывалась «Норма Джин Мортенсен», стала Мэрилин Монро. «Мое имя — помеха для актрисы». В конце жизни она скажет; «Уже много лет я пользуюсь этим именем, Мэрилин Монро, и это действительно мое имя, под которым я известна в кино».
На съемочной площадке режиссер Джошуа Логан обнаружил, насколько актриса подсела на фрейдизм. Снимали сцену, в которой Мэрилин, исполняющую роль Шерри, певицы-дебютантки, будил ковбой Дон Муррей, говоря: «Здесь слишком много солнца. Удивительно, что ты такая бледная и беленькая». Вместо этого он сказал: «Такая бледная, как змея».
— Стоп! — крикнул Логан.
Мэрилин взволнованно повернулась к актеру:
— Дон, слышишь, что ты сказал? Это оговорка по Фрейду. Все правильно; в сексуальной сцене ты назвал сексуальный символ — ты думал о змее, то есть фаллическом символе. Знаешь, что такое фаллический символ?
— А то не знаю! Он у меня между ног, — ответил Муррей. — Ты меня что, за педика принимаешь?
— Кто знает. Сейчас я расскажу тебе кое-что. Знаешь Эррола Флинна? Когда мне было 10–11 лет, моя опекунша, Грейс, три раза водила меня на фильм «Принц и нищий». Так вот, когда я десять лет спустя познакомилась в Голливуде с настоящим живым Флинном, я увидела, как мой принц вытащил из штанов свой член и стал играть им на рояле. Не поверишь — Эррол Флинн! Киногерой моего детства! Конечно, уже сто лет прошло, тогда я начинала работать манекенщицей и оказалась на этой жалкой вечеринке, а он уже был там, ужасно довольный собой, и он вытащил свой член и стал стучать им по клавишам. Он играл «Ты мое солнышко». Вот так цирк! Все говорят, что самый большой конец в Голливуде — у Мильтона Берла. Не знаю. Но Эррола я видела! Я всегда знала, что Эррол, как говорится, спит на обеих сторонах постели. У меня есть массажист, он мне практически как сестричка, ха-ха, он работает массажистом и у Тайрона Пауэра, и он мне все рассказал про роман между Эрролом и Таем Пауэром. Нет уж. Тебе надо найти кого-нибудь получше!
Во время съемок «Автобусной остановки» в Сан Вэлли Мэрилин применяла психоаналитические заветы Страсберга, который был родственником Логана. Вместо роскошных нарядов, специально созданных для нее, она надевала выцветшее облегающее черное платье или корсет из сетки на вульгарном голубом атласе, который, возможно, напоминал ей порнографические съемки начала ее карьеры. Она хотела, чтобы одежда была чиненой, штопаной, похожей на нее саму, как она себя воспринимала. Она добавила к роли хористки свое непобедимое заикание в моменты волнения. Она даже импровизировала ошибки в репликах, не предусмотренные сценарием.
Рено, Невада лето 1960 года
Трудности, начавшиеся при съемках фильма «Давай займемся любовью», продолжились. Натурные съемки следующего фильма, «Неприкаянные», с Кларком Гейблом и Монтгомери Гифтом, поставленного по пьесе Артура Миллера, Хьюстон проводил в Рено (Невада). Эти съемки были задержаны и начались без Мэрилин. Съемочная группа поселилась в отеле «Мейпс», а показ рабочих позитивов состоялся в кинотеатре «Крест». Через два дня самый верный поклонник Мэрилин, Джим Хэспил, приехал проводить ее в нью-йоркский аэропорт Ла Гвардия, откуда она должна была улететь в Неваду. Он заметил ее измученный, нездоровый вид. Под глазами у нее были мешки, на юбке сзади — пятна крови. Он не хотел видеть ее в таком состоянии и ушел. Через несколько часов самолет сел в Рено. Мэрилин переодевалась в туалете, как обычно заставляя всех ждать. У трапа нервничала встречающая ее с цветами жена губернатора штата. Фотографы вытащили вспышки. И наконец звезда вышла из самолета, словно белое видение в ночи.
На следующий день, в пустыне, при сорока градусах в тени, Мэрилин начала съемки. Никогда никто даже во сне не видел подобной женщины. Она явилась, словно призрак, сияя своей бледностью, как луна среди туч. Затянутая в платье из белого шелка с красными вишенками, в котором она казалась символом одновременно доступности и недосягаемой чистоты. Богиня испуга, которая может убить улыбкой, обращенной к вам одному, разбить вам сердце.
Когда Хьюстон несколько месяцев назад предложил Монро роль Розлин, женщины, потерявшейся между тремя мужчинами и отправляемыми на бойню лошадьми, роль Мэрилин не понравилась. Она была слишком похожа на нее саму.
«Двойник меня самой, — говорила она Гринсону. — Те же тревоги, то же чувство всегдашней покинутости, такая же тяжелая жизнь. Мне не хочется играть женщину с трудным детством, болезненными отношениями с матерью; женщину, которая находит прибежище только в восхищенном взгляде чистых душой детей и зверей. Розлин — в этом имени склеены Роза из «Ниагары», эта порочная шлюха, избавляющаяся от своего мужа, и я, Мэрилин. В общем, можно сказать, что это я. Артур написал эту роль для меня, чтобы высказать мне свою любовь и свое отвращение».
В конце концов она согласилась на эту роль только потому, что ей надоело играть в комедиях, и еще потому, что окончательный вариант сценария написал Хьюстон, а не Миллер, который сначала скроил сценарий для нее, словно смертоносное платье.
«Даже боль ее выражала жизнь и борьбу с ангелом смерти», — скажет он впоследствии.
— Но почему ты хочешь снять именно черно-белый фильм? — спросила Мэрилин у режиссера.
— Потому что глаза у тебя красные, капилляры полопались от наркотиков, и на цветную пленку это снимать нельзя, даже если бы у меня был такой план и бюджет. Не расстраивайся и не беги глотать очередные пилюли. За безвременную смерть я тебя не стану больше любить! Невротички, покушающиеся на собственную жизнь, всегда действовали мне на нервы. Убивайте себя, если уж так приспичило, только не доставайте других!.. А потом, знаешь ли, если коснуться психологии — а именно она будет темой фильма о Фрейде, который я планирую снять, — я хочу ухватить не цвет твоих глаз, а то, что происходит у тебя в голове. И наконец, потому что черно-белых кадров не существует в жизни, а я хочу снять то, что есть только в кино.
— А почему меня?
— Потому что ты шлюха, а не актриса. И как настоящая хорошая шлюха, ты не притворяешься. Ты платишь натурой — своим телом, своей душой. Но ты же понимаешь, что эта женщина — не ты. Ты знаешь, что мне не нравится метод актерской студии, которым Страсберг, к счастью, не успел тебя испортить, — эта проклятая театральная техника, что велит уйти глубоко в себя, найти там эмоцию и выплеснуть ее на экран. Я очень уважаю психоанализ и глубоко почитаю актерскую работу, но, когда они сходятся вместе, случается катастрофа. Твоя сила, Мэрилин, в том, что ты порвала с методом Страсберга, даже если сама этого не понимаешь. Ты не станешь играть Розлин. Ты просто дашь зрителю то, что он хочет чувствовать, видеть, любить. Дашь, как шлюха, которой хочется, чтобы клиент получил удовольствие за свои деньги. Вот что я тебе скажу: помни, чему тебя учил Страсберг, и поступай наоборот. Тогда все будет хорошо. Оставь эти свои бредни насчет «обращения к внутреннему миру». Выражай себя во внешнем мире, ведь ты здесь. И зритель твой здесь. А тревогу сохрани — это драгоценный ресурс — и не думай, что психоаналитик избавит тебя от нее. Это невозможно, во всяком случае не нужно. Без тревоги твое ремесло лучше сразу бросить.
— А почему ты снимаешь фильм о Фрейде? Вместо психоанализа?
Хьюстон ответил не сразу. Для него настал поворотный момент в жизни. Ему только что исполнилось 54 года, и он столкнулся с теми же тревогами, конфликтами и глубокими проблемами, что в детстве и в подростковом возрасте. Подсознание всегда завораживало его и пугало, с первого же своего фильма он заинтересовался глубинной психологией. В то время слово «психоанализ» еще не было знакомо в Голливуде.
— Знаешь, психоанализ меня интересует, — проговорил Хьюстон. — Я затронул вопрос психологической травмы и вытесненных воспоминаний в документальном фильме о солдатах, вернувшихся с фронта, — «Да будет свет». Ведь для тебя проходить психоанализ — значит проливать свет на прошлое, разгонять тьму? Что касается меня, я знаю, что в этом терапия не поможет. Я выберусь сам. Парализующую меня тревогу я приведу в движение. Вытесненные сцены заставлю ожить на экране. Я буду бомбардировать моего демона кадрами — двадцать четыре кадра в секунду! Фильм, а не психоанализ. И именно про Фрейда. «Сыграй это снова, Зигмунд».
— А почему ты так жесток с Монти?
— Я снимаю настоящих мужчин, я терпеть не могу пассивность. Я люблю активность, действие. Люблю, чтобы от съемок всем было больно. Больно актерам, техническому персоналу, продюсерам. Открою тебе один секрет: кино создано для того, чтобы делать зрителю больно. У нас с Монтгомери такие отношения, которые ему нравятся — он получает от них удовольствие. Я с ним обращаюсь как с мазохистом, алкоголиком, наркоманом и педерастом, что он, собственно, из себя и представляет. Он опустошен, потерян. Вот поэтому я и собираюсь дать ему роль Фрейда. Мне бы хотелось, чтобы мой Фрейд был не слишком далек от персонажа Пирса. Человек, сбившийся с пути, раненный, во всяком случае сломленный.
Однажды вечером в Рено, за игровым столом, Хьюстон попросил Мэрилин бросить кости.
— Джон, какие цифры? Мне загадать?
— Не думай, милая, бросай! В этом вся твоя жизнь. Ты слишком много думаешь. Не думай, а делай!
Но Мэрилин все же хотела продумать свою роль. Оказавшись на съемочной площадке, Мэрилин переставала разговаривать с мужем и с режиссером. Чтобы поговорить с ней, надо было обращаться к Паоле Страсберг. Она присутствовала постоянно, в вечном черном платье и лиловой вуалетке. Мэрилин за глаза называла ее «моя ведьма» или «стервятник», но добилась от съемочной группы более высокой платы для нее, чем для себя самой. Они говорили на своем языке, непонятном для съемочной группы. Мэрилин нужно было, чтобы эта старая женщина взяла ее за руку и соткала вокруг нее завесу из лжи. Ее прозвали «черной баронессой».
«Сколько в этом фильме режиссеров?» — восклицал Хьюстон. Но фильм не продвигался вперед, и, смирившись со своей горестной судьбой, он проигрывал в казино Рено съемочные средства. Мэрилин не выходила из своего фургона. Она только и делала, что пыталась погрузиться в глубины собственной души. Она верила только в «метод». Студия «Фокс» решила обратиться к Гринсону.
Лос-Анджелес, Бель-Эр август 1960 года
Мэрилин воспользовалась предпоследними августовскими выходными и перерывом в съемках «Неприкаянных», чтобы съездить в Лос-Анджелес. Она несколько часов беседовала со своим психоаналитиком, а также навестила Джо Шенка. Старый продюсер, один из основателей «Фокс», был серьезно болен; он умер вскоре после их встречи. Они познакомились в 1948 году на вечеринке в его роскошном доме на Саус Кэролвуд-драйв. Кричащий архитектурный стиль невероятного испано-итальяно-мавританского Возрождения как нельзя лучше подходил к крупномасштабным покерным баталиям, на которые друзья Джозефа Шенка являлись в сопровождении молодых и красивых женщин, игравших не только декоративную роль. Хорошенькие малышки — фотомодели и начинающие киноактрисы — наполняли стаканы и выносили пепельницы. Они надеялись начать карьеру в кино или продвинуться в ней. И если для этого надо было после пепельниц оказать некоторые интимные услуги игрокам, к чему отказываться?
У Шенка за плечами была долгая карьера продюсера. Мэрилин признала, что попала в его жертвы с полного своего согласия. Но она поддалась не в тот вечер.
На следующий день за ней заехал белый лимузин, чтобы отвезти ее на ужин в узком кругу. Отказать было бы безумием с ее стороны, но она не хотела отдаваться сразу же, и Люсиль Кэролл, одна из подруг, посоветовала ей сказать, что она хранит свою девственность, чтобы отдать ее идеальному мужчине. Поздно вечером Мэрилин в страшном волнении позвонила ей из дома Шенка: «Он знает, что я замужем. Что теперь ему говорить про девственность?»
Вечеринка закончилась. Мэрилин подчинилась и отдалась, но теперь не вспоминала об этом, глядя на несчастное восьмидесятилетнее создание, опутанное трубками, готовящееся испустить дух на больничной койке. Тогда ей отчаянно хотелось работать. Она хотела достичь успеха. Приходилось смириться с тем, что переговоры о получении ролей часто велись с глазу на глаз, а не через агентов. Впоследствии Мэрилин открыто говорила о своем романе с Шенком, сразу же давшим ей то, чего она ждала, познакомив ее со своим партнером по покеру Гэрри Коном, предметом страха и ненависти всего Голливуда. Он сделал карьеру Кармен Кансино, ставшей позднее Ритой Хейворт; он был директором киностудии «Колумбия».
Через несколько дней и ночей после своей вечеринки у Шенка, Мэрилин вошла в кабинет Кона на углу бульваров Сансет и Гауэр. Он сразу же предложил ей полугодовой контракт на 120 долларов в неделю со следующего месяца. Он выдвинул одно условие, хотя и не то, которого она ожидала: она должна была сделать перманент, чтобы увеличить объем прически электролизом, после нескольких нанесений перекиси водорода и аммиака. Естественный каштановый цвет ее волос, жалко перекрашенных в грязновато-блондинистый, исчез под платиновым облаком. В зеркале Мэрилин увидела женщину, все более напоминающую кумира ее детства — Джин Харлоу.
Кон, одобрив новый имидж Мэрилин, послал ее на занятия под руководством Наташи Лайтесс, которая скажет впоследствии: «Я сделала Мэрилин. Всю. Ее круг чтения, ее голос, ее игру, ее манеру особенно четко произносить «т» и, д», ее походку — ставить каблук прямо перед носком другой ноги, качая бедрами, — походку, до тех пор не виданную ни у одной актрисы».
Под свинцовым августовским небом Лос-Анджелеса Мэрилин задумалась об этих совпадениях: больничная палата, в которой Шенк боролся за последние глотки воздуха, находилась в том же районе, что его прежняя экстравагантная вилла, а волосы больного были теперь белыми, словно обесцвеченными. Она посмотрела на собственное отражение в зеркале и удивилась чрезмерному, невыносимо светлому цвету волос, специально предназначенному, чтобы притягивать вспышки и превращаться под камерой в нематериальный нимб в фильме «Неприкаянные». Оставаясь блондинкой, она для каждого фильма придумывала особый цвет волос. Пепельный, золотистый, серебристый, янтарный, платиновый. Цвет меда, цвет дыма, цвет топаза, цвет металла. Самое главное — никогда не выглядеть естественной блондинкой. Мэрилин вспоминала. Семь лет назад она снималась вместе с брюнеткой Джейн Рассел в фильме Говарда Хоукса. Она не могла добиться, чтобы ей дали собственную гримерную: «Послушайте же! Это нелогично. Я блондинка, а фильм называются, «Джентльмены предпочитают блондинок»». Ей ответили: «Вспомни, что ты не звезда!» А она: «Уж не знаю, кто я, но, во всяком случае, я блондинка!»
Мэрилин отвернулась от зеркала в больничном зале ожидания и впервые отметила, что «dying hair» означает одновременно «крашеные волосы» и «умирающие волосы».
«Ведь я видела столько залов ожидания — и дебютанткой, и позже. Может быть, я все время опаздываю, чтобы заставить мужчин себя ждать. Чтобы заставить смерть себя ждать. Я согласна на последний танец, но только не сейчас!»
Она подавила смешок: «Поговорю об этом с моим словесным доктором».
Подойдя к кровати Шенка, она заплакала, потому что вспомнила, что через два года их связи он подарил ей щенка чихуахуа. Она назвала ее Жозефа — в честь этого мужчины, к которому еще долго испытывала слабость. Джозеф Шенк действительно любил ее тогда, когда она делала свои трудные первые шаги в кинематографе. Она часто звонила ему, когда чувствовала голод и хотела вкусно поесть или когда ей было грустно и хотелось выплакаться на чьем-то плече.
Шенк услышал, как она вошла в палату, но не узнал ее.
Санта-Моника, Франклин-стрит август 1960 года
На дневном сеансе Гринсон указал пациентке на то, что она мало говорит о своей сексуальной жизни.
— Знаете, доктор, моя сексуальная жизнь, да и вся моя жизнь вообще, представляется сплошной чередой фальшивок. Мужчина входит в мою жизнь, возбуждается, берет меня, теряет меня. На следующем плане тот же мужчина — или иногда другой — снова входит, но улыбка у него уже не та, изменились движения, освещение. Стакан у него в руке только что был пустым, а теперь он полон. Наши взгляды снова встречаются, но они уже другие. Время изменило образ друг друга, который возник у нас, но мы опять оказались в этой ловушке. Мы всегда встречаемся во второй раз, и оба уверены, что этот раз первый. Вы не понимаете, о чем я? Я тоже не понимаю. Может, это и есть реальность отношений между мужчинами и женщинами. Мы касаемся друг друга, мы трогаем друг друга расстоянием во времени, которое сохраняется между нами.
Чем дальше Гринсон слушал Мэрилин, тем больше ему казалось, что ее проблема не является сексуальной, что речь идет скорее о расстройстве самовосприятия. Он выделял отдельный тип больных, которых называл «пациент-экран» — тех, которые своими защитами, как экраном, заслоняются от желания. Они проецируют экранирующий голод или, например, экранирующую сентиментальность. Они показывают личность-экран. Для них показываться и быть увиденным — переживание возбуждающее или пугающее, а чаще всего — то и другое одновременно. На обычном языке «экран» означает «фильтр, ширма, маска, сокрытие». Соответствующий психоаналитический термин означает только деятельность по сокрытию экзистенциального страдания жизнеспособным образом себя. «Образ, который проецируют эти люди, не ложный, он подлинный, — уточнял он, — но он защищает их от другой, невыносимой истины самих себя». В случае Мэрилин, думал он, слово «экран» означает, более буквально, киноэкран. Психоаналитику также вспомнился этот кадр, мелькающий на всех телеканалах пять лет назад: плакат с фотографией Мэрилин в фильме «Зуд седьмого года», натянутый сверху донизу стены здания Государственного театра Лоу в Нью-Йорке. Огромный белый цветок из плоти и раскрывшегося, как лепестки, платья высился над Бродвеем две недели перед премьерой фильма.
Гринсон, знакомый с ней только по ее ролям, видел, как она воплощала самую недоступную желанность, но задумывался, испытывают ли желание сами воплощения желания. Гораздо позднее он прочтет фразу, написанную об этой звезде Владимиром Набоковым: «Для этой комедиантки секса секс, возможно, был всего лишь актерской игрой».
Через несколько месяцев лечения психоаналитик счел, что старательная ученица актерской студии, вдумчивая пациентка Марианны Крис и внимательная читательница писателей-современников — это «экранные» образы себя, которые проецирует Мэрилин. Интеллигентная нью-йоркская студенточка избавляла от страха показаться глупой девушку с Небраска-авеню, мечтавшую засиять в высотах голливудского небосклона.
На втором сеансе, вечером того же дня, Мэрилин села напротив психоаналитика.
— Когда ты знаменитый, каждая твоя слабость невероятно раздувается. Кино должно вести себя с нами, как мать, чей ребенок только что спасся в автокатастрофе. Но вместо того чтобы прижать нас к себе и утешить, кино нас наказывает. Кино — это всегда одно и то же: тебя снимают, с тебя снимают шкуру. Это так и называется — съемки, — сцены, которые надо сто раз начинать заново. Но кто дает, кто принимает, кто любит? Вы заметили, доктор, что в Голливуде, где зарабатывают миллионы и миллиарды долларов, нет ни памятников, ни музеев? Никто ничего не оставил после себя. Все, кто приехал сюда, делали только одно — хватали, хватали! Я никогда не стану участвовать в этих больших американских гонках, в которых люди всю жизнь бросаются с места на места — второпях и без причины.
— Пора заканчивать сеанс.
— Ага, вы тоже говорите: «Стоп! Снято! Мэрилин, последний дубль!»
В апреле 1952 года Мэрилин перенесла операцию аппендицита в больнице «Ливанские кедры». Когда доктор Маркус Рабуин поднял покрывавшую пациентку простыню, чтобы приступить к операции, он нашел записку, приклеенную скотчем к ее животу:
«Дорогой доктор Рабуин.
Вырезайте как можно меньше. Эта записка может показаться вам легкомысленной, но вот в чем дело. Я женщина, и для меня это очень важно, это для меня много значит. Доктор, ради бога, не трогайте моих яичников, — и еще, прошу вас, сделайте шрам как можно незаметнее. Благодарю Вас от всего сердца.
Мэрилин Монро»Предместья Лондона, Энджелфилд Грин июль 1956 года
Преподаватель актерского мастерства Монро, Михаил Чехов, сообщил ей кое-что о ее игре и о том, как мужчины смотрят на нее, когда она играет. Однажды он следил за тем, как она репетировала роль в «Вишневом саде». Вдруг он прервал ее. Поднеся руку к глазам, Чехов с мягкой улыбкой спросил Мэрилин:
— Можно задать тебе личный вопрос?
— Спрашивай, о чем хочешь.
— Скажи честно: когда ты играешь эту сцену, ты думаешь о сексе?
— Вовсе нет. Ни в этой сцене, ни у меня в мыслях нет ничего сексуального.
— Ты не представляешь себе объятий и поцелуев?
— Нет. Я сосредоточилась на сцене.
— Я тебе верю. Ты всегда говоришь правду.
— Тебе — да.
Он подошел и сказал:
— Очень странно. Когда ты играла, я чувствовал, что от тебя исходят сексуальные вибрации, как от женщины, страстно влюбленной. Я остановил тебя, потому что почувствовал, что ты слишком взволнованна, чтобы продолжать.
На этих словах она заплакала.
— Не беспокойся. Ты такая женщина, которая испускает сексуальные вибрации, что бы ни говорила и ни делала. Вот что хотят видеть на экране твои зрители. Ты заработаешь целое состояние, если будешь просто стоять перед камерой, почти не играя.
— Я не хочу так.
— Почему же? — ласково спросил он.
— Потому что я хочу быть актрисой, а не сексуальной дойной коровой. Не хочу, чтобы меня продавали, как целлулоидную порнографию: «Смотрите и дрочите». Много лет меня это устраивало, но теперь все кончено.
С этого момента и началась ссора со студией «Фокс».
«Look sexy!» («Выгляди сексуально!») «Все, что от тебя требуется, дорогая Мэрилин, — это быть сексуальной», — вот что говорил Мэрилин Монро Лоренс Оливье в роскошном наряде великого герцога Карпатского в начале съемок «Принц и хористка» в Пайнвуд-студии летом 1956 года. Волшебная сказка без фей, где хористка встретила только испуганного принца. Когда к концу съемок, в октябре, на премьере в Императорском театре в Лондоне ее представили королеве Англии, вместе с Джоан Кроуфорд, Брижитт Бардо и Анитой Экберг, Мэрилин вновь вспомнила эту глупую сцену из фильма. Все так и ждали, что она, как в фильме, сделает глубокий реверанс великому князю с моноклем. Бретелька ее обтягивающего платья порвалась и почти оголила плечо и грудь.
Для этой костюмной комедии, первого фильма, который был снят «Мэрилин Монро Продакшнз» — и единственного, потому что фильм «Что-то должно рухнуть», поставленный ей в 1962 году совместно с «Фокс», так и не вышел на экраны, — Мэрилин выбрала Оливье, актера, прославившегося игрой в пьесах Шекспира, и знаменитого режиссера. Он считал ее дурочкой, необразованной и самовлюбленной. Она сразу же вернулась к обычным хитростям, чтобы увиливать от исполнения роли: опоздания, наркотики, прогулы.
«Думаю, — рассказывала она впоследствии, — что Оливье меня ненавидел. Даже когда он мне улыбался, его взгляд был враждебным. Я тогда часто болела, но он мне не верил или ему было наплевать. Он на меня смотрел с таким лицом, как будто чуял запах тухлой рыбы. Как будто у меня была проказа или что-нибудь такое же ужасное. Я все время чувствовала себя нелепой. Он подошел ко мне, как входят в бордель, и снисходительным тоном посоветовал мне быть сексуальной. Это меня просто убило. Мне с ним было плохо. Я все время опаздывала, и он смертельно на меня обижался».
Уже три недели звезда, недавно вышедшая замуж за Артура Миллера и беременная ребенком, которого ей предстоит потерять в августе, снимается в Англии. Она приехала в Лондон дождливым днем в середине июля. Она была на грани депрессии. Все шло не так. Фильм, брак, тело, которое подводило и утомляло ее. Однажды она нашла на столе номера в Парксайд Хаус, Энджелфилд Грин, где остановилась со своим мужем, раскрытый блокнот. Она прочла: «Мне не следовало жениться. Не надо было жениться на ней. Она всего лишь женщина-ребенок, непредсказуемая и отстраненная. Покинутая и эгоистичная. Моя жизнь и мои произведения окажутся в опасности, если я поддамся этому постоянному шантажу страданием».
Мэрилин часами говорит по телефону с Нью-Йорком, ища помощи у Маргарет Хохенберг. Психоаналитик прилетает в Англию, и они проводят несколько сеансов прямо на съемочной площадке фильма. Мэрилин говорит о Миллере: «Он думал, что я ангел, а теперь задается вопросом, не зря ли он женился на мне. Его первая жена от него ушла, но меня он обвиняет в том, что я еще хуже. Оливье начал обращаться со мной как со стервой, от которой одни неприятности, а Артур меня не защищает». Хохенберг, будучи не в силах справиться с депрессивной тревожностью пациентки и устав от тиранических требований любви, которые Мэрилин повторяла уже целый год, вскоре решила вернуться к своей аналитической практике в Нью-Йорке. Она попыталась подыскать на месте специалиста, способного помочь Мэрилин справляться с ее обязанностями на съемочной площадке.
Лондон, Мэрсфилд Гарденс август 1956 года
Под почти белым небом жаркого августовского дня черный «роллс-ройс» остановился перед домом № 20, Мэрсфилд Гарденс. Шофер открыл дверцу и посторонился, выпуская молодую блондинку, которая быстрым шагом направилась к входу. Паула Фихтель была домоправительницей семейства Фрейд на протяжении двадцати семи лет. Она открыла дверь и впустила незнакомку в прихожую. На женщине был простой синий габардиновый плащ с поднятым воротником. Никакого макияжа; платиновые волосы спрятаны под мягкой фетровой шляпой; большие темные очки. Мэрилин Монро явилась на первый психоаналитический сеанс к дочери Зигмунда Фрейда.
О курсе лечения договорились незаметно и быстро. Анна избегала гласности, но после некоторого колебания все же согласилась принять пациентку. В течение недели Мэрилин Монро не являлась на съемки, никто не знал, чем она занимается. Каждый день автомобиль останавливался в Мэрсфилд Гарденс, каждый день она входила в кабинет Анны Фрейд.
«В ней не было ничего особенного, — рассказывает Паула. — Симпатичная, конечно, но не очень-то ухоженная. Госпожа Монро была очень простая, совсем не важничала; пожалуй, была слишком застенчива, но когда улыбалась, могла понравиться».
Однажды Анна привела свою пациентку в детский сад при клинике. Мэрилин оживилась, перестала стесняться и начала играть и шутить с малышами. Работа Анны очень впечатлила Мэрилин. Актриса рассказала, что прочла «Толкование сновидений» в двадцать один год. Описание «снов о наготе» захватило ее. Навязчивая нагота, потребность раздеваться на людях — об этом симптоме она долго рассказывала своему первому психотерапевту. Анна поставила диагноз и записала его на карточку, которая до сих пор хранится в картотеке Центра Анны Фрейд. «Случай Мэрилин» описан в зашифрованной форме: «Взрослая пациентка. Эмоциональная нестабильность, повышенная импульсивность, постоянная потребность в одобрении, не выносит одиночества, склонность к депрессии в случае отвержения, паранойя с шизофреническими обострениями».
Пользуясь техникой детской психотерапии, Анна Фрейд играла с Мэрилин Монро. Они сидели друг напротив друга, на столе между ними лежали несколько стеклянных шариков. Психоаналитик следила за тем, что Мэрилин станет делать с шариками. Мэрилин стала бросать их один за другим в ее направлении. Психоаналитическая интерпретация; «Желание сексуального контакта». Ускоренное лечение, предпринятое Анной Фрейд, по ее мнению, прошло успешно. Через неделю актриса возобновила съемки и закончила их. Она вернулась на самолете в Нью-Йорк 20 ноября.
«Мадемуазель Анна и миссис Монро расстались по-дружески, — вспоминает Паула Фихтель. — Пациентка была так довольна, что через несколько месяцев в Мэрсфилд Гарденс пришел чек на значительную сумму, за подписью Мэрилин Монро».
Коломбо, Цейлон февраль 1953 года
Вивьен Ли, жена Лоренса Оливье, в 1953 году некоторое время лечилась у доктора Гринсона в Голливуде. Из-за приступов тревоги и распада личности ей пришлось прервать съемки фильма «Прогулка на слоне», натурные планы которого были сняты в Цейлоне режиссером Уильямом Дитерле. Питер Финч, актер, игравший в фильме ее мужа, действительно был ее любовником. Маниакально-депрессивный психоз, которым страдала актриса, проявился вновь. Ей казалось, что голубоватый туман, стоящий в знойном цейлонском лесу, проникает через ее легкое платье и насквозь пропитывает ее саму. Каждый раз, когда смуглые цейлонцы появлялись в поле зрения, ее охватывал страх преследования. Их взгляды вызывали у актрисы несказанный ужас. Наконец ее поведение стало обходиться студии «Парамаунт» слишком дорого. Во время съемок Вивьен начинала принимать эротические позы, заигрывать с Дитерле и, что было на нее совсем не похоже, запинаться в тексте. Оливье решил вернуть ее в Голливуд. Когда самолет взлетал, все увидели, как Вивьен колотит кулаками в иллюминатор, умоляя выпустить ее. Все семнадцать часов полета она раздирала свою одежду на лоскуты столовыми приборами.
Съемки павильонных сцен продолжились в Голливуде, в студии «Парамаунт». Иногда Вивьен ненадолго вновь обретала ясный ум, но потом возвращалась к алкоголю, крикам и галлюцинациям. В следующем месяце актеры Дэвид Найвен и Стюарт Грейндер после беседы с Оливье поднялись на вершины Бель-Эр, чтобы навестить Вивьен в доме, который она сняла, как только ее уволили из «Парамаунт». Они увидели, что она сидит в белом купальном халате перед выключенным телевизором. Грейнджер покормил ее омлетом, в который подмешал успокоительное. Актриса разделась, нагнулась над бассейном, и ее вырвало. Когда приехала «скорая помощь», медсестра сказала: «Я вас знаю, вы играли Скарлетт О’Хара, правда?» Вивьен Ли завопила: «Я не Скарлетт О’Хара, я Бланш Дюбуа». Срочно вызванный Гринсон попытался ее лечить. Хотя психиатр работал шесть дней без перерыва — в целом пятьдесят часов, за которые он выставил счет 1500 долларов, — он не смог спасти актрису от безумия, в которое она погружалась у него на глазах.
«Не так уж она и безумна, — объяснял он позднее Лоренсу Оливье. — Она знает, что переступила грань между неврозом героини «Унесенных ветром», фильма Виктора Флеминга и Селзника, и галлюцинаторным психозом «Трамвая «Желание»» Теннеси Уильямса и Ильи Казана. В сердце бреда всегда сохраняется зерно истины».
Тем не менее, ежедневно отчитываясь перед мужем о психическом состоянии его жены, Гринсон обнадежил его: через неделю она выздоровеет достаточно, чтобы работать, и сможет вновь поехать на Цейлон, чтобы закончить натурные съемки. По мнению конкурента Гринсона в области психоанализа звезд, Мартина Гротьяна, Гринсон даже прописал электрошок. Вивиан не смогла продолжить съемки; ей пришлось отправиться в Англию, где ее поместили в буйное отделение одной больницы в Суррее.
«Я никогда этого не забуду, — утверждала она впоследствии. — Больные блуждали повсюду. Я подумала, что нахожусь в приюте для умалишенных». С тех пор она настолько боялась попасть в сумасшедший дом, что твердо решила — ноги ее не будет ни в больнице, ни в клинике.
Вернувшись в Лос-Анджелес несколько месяцев спустя, Вивьен Ли вновь поселилась в своем доме на Бель-Эр. Как-то вечером она пригласила своего психоаналитика на званый ужин. Гринсон явился вовремя, в смокинге, но хозяйка дома не спешила представить его своим высокопоставленным гостям. «Немедленно наденьте сари… в семь тридцать придут еще семьдесят человек. Я устроила праздник в вашу честь». В просторной гостиной актрисы были только они двое.
Однажды летним вечером, вернувшись домой усталым и разочарованным, он признался жене, насколько его поразило сходство ситуаций, в которых оказались Вивиан и Мэрилин. Когда он принял их впервые, обе актрисы переживали нервный срыв во время съемок фильма, партнер в котором также был их любовником. Насчет Мэрилин он повторил студии «Фокс» то же самое, что говорил студии «Парамаунт» о Вивьен: она вновь приступит к работе через неделю. Однако ни ту, ни другую он не вылечил.
— Но ведь Мэрилин не сумасшедшая, — спросил он Хильди. — Правда?
— Не сумасшедшая. И ты тоже. Но сойти с ума для вас вполне возможно.
— Друг по другу?
— Нет, друг из-за друга.
Лос-Анджелес, Беверли Хиллз конец августа 1960 года
Во время съемок «Неприкаянных» Кларк Гейбл увидел Мэрилин плачущей в фургоне-ранчо, который служил им гримеркой. Сцена из фильма, в которой Розлин не давала троим мужчинам убить мустанга, чтобы продать его на живодерню, совершенно ее сломала. Эта сцена заканчивалась очень жестоким кадром. Мэрилин на фоне неба, с телом, перерезанным надвое линией горизонта, оборачивается к Кларку Гейблу и кричит: «Я тебя ненавижу!» Страдала не лошадь, а она сама. Она страдала физически, она больше не могла притворяться, что это только кино, всего лишь кадры. Снимали один дубль за другим; раньше это ей нравилось, но теперь каждый кадр превращался в пытку; с нее словно снимали кожу по кускам. К тому же каждый раз, когда операторы кричали ей, чтобы она подняла глаза на объективы или повернула голову, так чтобы лицо было в тени, она чувствовала себя лошадью, которую укрощают голосом, прикручивают лассо, чтобы она не вырвалась, так что наконец она превращается просто в кусок плоти, парализованный страхом и ненавистью.
— Птичка моя, — говорил ей Гейбл. — Мы все уйдем когда-нибудь, есть тому причина или нет. Умирать — так же естественно, как жить. Люди, которые боятся умереть — это люди, которым слишком страшно жить, я всегда это видел. Значит, единственное, что остается, — просто не думать об этом.
Один и тот же вопрос мучил всех: придет ли Мэрилин сегодня на работу? Последний фильм измотал ее; любовных разочарований становилось все больше. Ее роман с Ивом Монтаном был окончен. Миллер, который написал новеллу, легшую в основу сценария, в Неваде, когда ожидал вынесения решения о своем первом разводе, теперь жил там же, и его брак с Мэрилин потерпел крах. Ему было больно видеть, как Мэрилин в первых сценах фильма приходит в суд, чтобы подать на развод, — для него это были словно картины тяжелого сна, от которого удалось пробудиться. Но несмотря на напряженность отношений, Мэрилин часто искала помощи именно у Миллера.
Чтобы подбодрить ее, на съемки вызвали Ли Страсберга, который появился в пустыне, одетый как ковбой: в клетчатой рубашке, кожаных штанах, остроносых сапогах с брелоками. Видя в этом костюме Страсберга, который всегда одевался, как марксистский проповедник, Мэрилин смеялась до слез. Страсбергу не удалось отговорить ее от ежедневного приема двадцати доз нембутала, действие которого она ускоряла, протыкая каждую капсулу булавкой.
В субботу, 20 августа, накануне премьеры «Давай займемся любовью» в кинотеатре «Крест», в Рено, на которую были приглашены Ив Монтан и Симона Синьоре, Мэрилин пропала. Днем загорелась сьерра, по небу поплыли клубы черного дыма. Напрасно с самолетов пытались распылять специальные составы, чтобы остановить распространение пожара. Линии электрической сети сгорели, Рено погрузился во тьму. Премьеру отменили. На террасе пустынного отеля «Мейпс», освещенной лишь белой неоновой вывеской, работающей от генератора, Мэрилин пила шампанское с кинотехниками, глядя на далекие огни пожара в ночи.
Через три дня съемки возобновились, но уже без Мэрилин. Расс Мети, главный оператор, объяснил продюсеру Фрэнку Тейлору; «Я не могу ее снимать. Глаза у нее совсем заплыли. Ее невозможно снимать крупным планом. Если так будет продолжаться, с фильмом покончено».
Двадцать шестого августа Мэрилин пришлось вновь покинуть съемочную площадку «Неприкаянных»; вернулась она только 6 сентября. Ходили слухи, что она пыталась покончить с собой, но ее спасло промывание желудка. Когда ее перевозили в Лос-Анджелес, стоял страшный зной. Мэрилин внесли в самолет завернутой в мокрую простыню. Хьюстон, который рассчитывал или надеялся на то, что она уже не оправится и ее можно будет заменить, вернувшись из аэропорта, вздохнул с облегчением и сел за привычный игральный столик в казино, напевая мотив «Венесуэлы». Съемки были прерваны на неопределенное время решением постановочной группы.
Но Мэрилин сдалась не сразу. По прибытии в Лос-Анджелес она сразу же поехала в Беверли Хиллз, где посетила светский ужин, устроенный вдовой кинематографиста Чарлза Уидора. В воскресенье вечером Гринсон и Хайман Энгельберг, врач-терапевт Монро, приняли решение о госпитализации. Они вместе объявили ей о временном прекращении съемок и предписали недельный отдых, но не в отеле и не в собственной квартире Мэрилин. Так как Хильди Гринсон отказалась приютить актрису у себя дома, а студия «Юнайтед Артистс» обязалась возместить расходы на госпитализацию, Мэрилин приняли в удобную палату больницы «Уэстсайд Уэстбрук» на бульваре Ла Сьенега. Под именем миссис Миллер она провела там десять дней. Ее навещали Марлон Брандо и Фрэнк Синатра. Гринсон проводил у ее постели дни и ночи.
В этот период психоаналитик казался своим пациентам совершенно отсутствующим и потерянным. Его коллеги слышали, как он говорил о фатальности прошлого и невозможности изменить судьбу. Но он оправился. В больнице он нашел для Монро постоянную сиделку и позвонил Хьюстону, уверяя его, что Мэрилин вернется к съемкам не позднее чем через неделю. Рассерженный Хьюстон отвечал: «Если я не смогу закончить «Неприкаянных», мне конец как режиссеру. Ни один продюсер не захочет финансировать мои фильмы». Репортеры сообщали, что Мэрилин очень больна, ее состояние хуже, чем предполагалось, и она проходит курс психиатрического лечения. Энгельберг не мог не обратиться к прессе: «Мисс Монро страдает острым переутомлением. Ей очень нужен отдых». Фрэнк Тейлор говорил о проблемах с сердцем и подчеркивал, что съемки фильма, почти полностью натурные, оказались физически крайне утомительными, тем более что последовали сразу за съемками «Давай займемся любовью». О чем не мог сказать ни тот, ни другой, так это о том, что Гринсон нашел ее наглотавшейся снотворных таблеток: либриум, плацидил и хлоралгидрат.
Из больницы она не могла не позвонить Иву Монтану. Телефонистка отеля «Беверли Хиллз» передала ей, что «господин Монтан не может подойти к телефону». Когда психоаналитик увидел ее после этого зова в пустоту, она выглядела потерянной и повторяла: «Только посмотрите, что он, поганец, сказал в интервью с этой заразой, Хеддой Хоппер! Он сказал, что я очаровательная бесхитростная девочка, что я влюбилась в него как школьница. Сексуально озабоченная девчонка. Он жалеет, что поддался, сжалившись над моим детским горем. Он даже сказал, что трахался со мной, только чтобы придать любовным сценам в фильме больше страсти и реализма».
Гринсон пытается убедить ее продолжать съемки любой ценой: «Вы в тупике. Я называю это тупиком любви. Когда туда попадаешь, можно сделать больно другому, только делая больно себе».
Позже у себя дома, в Санта-Монике, он принял Хьюстона, пришедшего узнать о состоянии больной: «Нам остается только ждать и тянуть время. Звезда — это уже не мужчина или женщина. Это ребенок. Звезда все время ждет — между двумя фильмами, между двумя сценами, двумя съемками. Будучи звездой, ты ничего не контролируешь. Время тебе не принадлежит. Звезда крайне пассивна. Актеры часто становятся режиссерами или продюсерами, чтобы избежать этого ожидания… Ожидание всегда было уделом женщин. Надо ее понять. Но я гарантирую, что через несколько дней она сможет продолжить съемки».
Хьюстон уже готов был перебить Гринсона с его клиническим отчетом, но тут посреди беседы появилась Мэрилин, подтверждая всем своим видом слова врача. Оживленная, блестящая, изящная, она кокетливо приветствовала режиссера. Затем обратилась к психоаналитику со смущенной улыбкой ребенка, пойманного врасплох: «Я понимаю, насколько мне повредили барбитураты. Но с ними покончено». Она повернулась к Хьюстону: «Мне очень неловко… Спасибо, что дал мне отпуск на эту неделю. Я хочу вернуться. Ты позволишь?» Постановщик не ответил. Молчание прервал Гринсон, заявив, что Мэрилин будет готова без барбитуратов.
Мэрилин вернулась в Рено 5 сентября. Самолет совершил посадку жаркой ночью. Слышались приветственные возгласы, аплодисменты и пение, играл оркестр. Плакаты кричали: «Добро пожаловать, Мэрилин!» Хьюстон взорвался: «Умеют же эти суки-продюсеры устраивать рекламные компании! Они скрыли передозировку всенародным ликованием…»
На следующий день с утра Мэрилин уже была на съемочной площадке. Но когда она вступила под свет софитов, то почувствовала что-то нереальное. В себе, вокруг себя.
Съемки в Неваде закончились 18 октября. В последние дни Артур Миллер все время переписывал сценарий, и когда Мэрилин сообщали об этих изменениях, она всю ночь готовила новые реплики. Кларк Гейбл сказал ей: «Я больше не могу мириться с этими изменениями сценария. Помоги мне. Нам надо от них отказаться». В начале ноября в голливудских студиях «Парамаунт» были сняты интерьерные сцены фильма. Фотограф из агентства «Магнум», пришедший снять репортаж об окончании съемок, Эрнст Хаас, описывал обстановку так: «Все, кто участвовал в фильме, выглядели неприкаянными — Мэрилин, Монти, Джон Хьюстон, — все они в какой-то мере предчувствовали катастрофу». За восемь лет до этого, в попытке биографии «Моя история», Мэрилин назвала себя «голливудской неприкаянной».
Гейбл, верный себе, говорил мало. В последний день съемок Мэрилин, услышав, как ассистент Хьюстона, Том Шоу, крикнул: «Пленка уже в коробке!», рассмеялась: «Прекрасно сказано! Только в коробке чувствуешь себя хорошо! Тесновато, но спокойно!» Все понимали, что некоторые кинозвезды напоминают звезды, которые видны на небосклоне, но на самом деле уже давно погасли. Их свет еще доходит до нас, но они мертвы. Эти актеры играли не что иное, как отражение их собственной жизни. Они словно явились на свои же похороны.
В начале декабря Мэрилин снова встретилась с Фрэнком Синатрой, который выступал в отеле «Сэндз» в Лас-Вегасе. Также там были две сестры президента Кеннеди, Пэт Лоуфорд и Джин Смит. По возвращении Монро Гринсон заметил, что она чувствует себя страшно одинокой, и сказал Марианне Крис, что «ее мучает параноидно окрашенный страх преследования». По его мнению, это реакция на людей, с которыми она встречается и которые могут только повредить ей. Он не назвал — даже по инициалам — тех, на кого намекает.
Вскоре после этого актрису встретил в Голливуде Генри Хэтэвей, который был режиссером фильма «Ниагара», где она снималась. Монро сидела одна в пустой студии звукозаписи. Подойдя, он заметил, что она плачет. «Я играла Мэрилин Монро, Мэрилин Монро, Мэрилин Монро. Я пыталась играть по-другому. И все равно оказывалось, что я опять подражаю самой себе. Я хочу чего-то другого. Я полюбила Артура, потому что он сказал, что я ему нужна, настоящая я. Когда я вышла за него замуж, я мечтала, что теперь смогу, благодаря ему, отдалиться от Мэрилин Монро, а сейчас вижу, что опять делаю то же, что и раньше. Я не могу этого вынести. Хочу выйти из этого круга. Не стану больше играть ни одной сцены с Мэрилин Монро».
Во время съемок «Неприкаянных» Мэрилин съездила в Сан-Франциско. Возможно, она должна была там с кем-то встретиться. Известно, что в ночном клубе «Финнокио» она смотрела шоу пародиста-травести, который подражал ее внешности и голосу. Известно, что она ушла до окончания шоу.
Санта-Моника, Франклин-стрит начало сентября 1960 года
Когда Джон Хьюстон полетел на самолете в Лос-Анджелес, чтобы встретиться там с Гринсоном, он хотел не только узнать о состоянии находящейся в депрессии актрисы, но также обсудить план своего фильма о Фрейде, вызвавший определенные проблемы. Он знал о враждебном отношении психоаналитика к этому плану и о его влиянии на Мэрилин и решил воспользоваться последним шансом, чтобы обеспечить его поддержку.
«Я прилетел из Рено в Лос-Анджелес, только чтобы увидеть Гринсона, — говорил режиссер Артуру Миллеру. — Не для того, чтобы увидеть ее. Пусть сама разбирается со своими таблетками. Но он, паршивец, уже два года не дает мне осуществить мой проект насчет «Фрейда». Она появилась во время нашей беседы, и я не смог заставить ее сказать своему психоаналитику, что она будет сниматься в моем «Фрейде»». Именно тогда Хьюстон понял, что на участие Мэрилин рассчитывать больше нечего. Он готовил этот фильм уже многие годы и предложил ей роль за несколько месяцев до того, но в итоге она отказалась играть Сесили. В сценарии, написанном Сартром и самим постановщиком, этот персонаж сочетал в себе разных пациенток Фрейда — истеричек, — благодаря которым и родился психоанализ.
В фильме Хьюстон собирался показать, как Фрейд лечил сексуальную патологию словом, и таким образом воскресить историю изобретения психоанализа. Режиссер любил напоминать, что кино зародилось именно в том году, в котором сделал свое открытие Фрейд, — в 1895-м.
Когда Мэрилин узнала, что Хьюстон готовит этот проект, она сразу же им заинтересовалась. «Я хочу, чтобы в моем «Фрейде» ты играла Сесили, а Монти играл бы доктора, который лечит истеричек!» Мэрилин была в восторге. «Роль пациентки я знаю; разбираюсь и в истерии», — пошутила она. Она знала, что Хьюстон ее терпеть не может, но ее манила эта роль. К тому же она не жалела, что снималась под его руководством в своем первом важном фильме — «Асфальтовые джунгли» и, совсем недавно, в фильме «Неприкаянные». Она была несколько суеверна и считала, что лучше никогда не сниматься больше чем в двух фильмах с одним и тем же режиссером. Но через несколько дней она сказала режиссеру: «Я не могу играть в этом фильме. Анна Фрейд запретила показывать в кино жизнь своего отца. Мне это сказал мой психоаналитик. Тем хуже для Фрейда, пускай дожидается меня, перебирая свои антикварные древности!»
В данном случае Гринсон пытался соблюсти интересы как своего интеллектуального наследия, так и своей пациентки, для которой он теперь выполнял роль агента, управляя ее карьерой и финансовыми контрактами.
Когда режиссер заговорил с ним на эту тему, он ответил категорично;
— Фрейдовские кадры на экране — пожалуйста. Но чтобы в кадре появился сам Фрейд — об этом не может быть и речи.
— Не понимаю, — недоумевал Хьюстон. — Психоанализ говорит о сексе, любви, забытых воспоминаниях, которые Фрейд хотел услышать от пациентов.
— У Фрейда действительно преобладала зрительная модальность восприятия, но он не терпел, чтобы его фотографировали. Фильм о нем стал бы нонсенсом.
— Не соглашусь! Он воспользовался таким странным расположением дивана и кресла для того, чтобы пациент и аналитик не смотрели друг на друга, а видели образы, возникающие из слов. Вот это я и хочу показать в моем «Фрейде». В этом — самое сердце кино: взгляд, обращенный к тайне за экраном, к тому, чего мы не видим. Мы прислушиваемся, задаваясь вопросами о кадрах. В конце концов, ваш психоанализ произошел от гипноза, когда врач и пациент смотрят друг другу в глаза, чтобы оживить прошлое. Скажите: этот отказ от показа психоанализа в кино объясняется, как вы говорите, их глубинным противоречием или, как вы понимаете, их слишком тесной близостью?
— Ни тем, ни другим, — ответил Гринсон. — Исключительно тем фактом, что хранительницей памяти о Фрейде является его дочь Анна, которая еще жива.
Лондон, Мэрсфилд Гарденс весна 1956 года
Отношения между Ральфом Гринсоном и Анной Фрейд долгое время оставались поверхностными и эпистолярными. Затем мало-помалу установились более тесные связи. В 1953 году Гринсон послал Анне ее фотографии, которые она сделала во время своего пребывания в Лондоне. Ее ответ был несколько странным: «Обычно на фотографиях я выгляжу как больной зверек, но на ваших — вполне похожа на человека». В 1959 году, когда Анна в первый и последний раз приезжала в Лос-Анджелес, она проживала у Гринсона. Он гулял с ней по аллеям своего просторного сада, Анна плавала в его бассейне, он сам отвез ее в Палм-Спрингс, который она хотела посетить после своих лекций в Лос-Анджелесском психоаналитическом обществе. Гринсон устроил прием в честь дочери Фрейда, и никто из приглашенных не осмелился сесть на диван рядом с ней. Анна поблагодарила его: «Теперь я с трудом представляю Лос-Анджелес без меня».
Через год Ральф и Хильдегард Гринсон нанесли ответный визит в Лондон и провели в Мэрсфилд Гарденс несколько недель.
«Супруги Гринсоны поселились в моей комнате, — расскажет Паула Фихтель, домоправительница семейства Фрейд, — и господин доктор даже спал в моей постели. Госпожа Фрейд провела много часов с господином доктором и доктором Крис. Они обсуждали миссис Монро, как специалисты».
В тот раз Гринсоны привезли Анне маленькую индейскую куколку из замши. «Иногда я играю с куклой, — писала им Анна в благодарственном письме, — а иногда только смотрю на нее, воображая, что это моя языческая богиня».
В 1956 году, когда Анна Фрейд провела краткий курс лечения самой знаменитой актрисы на свете, Гринсон еще не лечил Мэрилин, но уже старался защищать интересы Института фрейдизма. Психоаналитическое сообщество готовилось к празднованию столетия со дня рождения Фрейда. Некоторые надеялись на показ фильмов, снятых при жизни Фрейда, в частности Марком Брунсвиком, бывшим пациентом, который пытался оплачивать свой анализ, продавая сделанные им фотографии Фрейда в официальные архивы. Анна и Эрнст, дети мэтра, хотя и были озабочены положением Брунсвика, твердо возразили против этого плана и попросили всех венских психоаналитиков, проживающих в Америке, поддержать их позицию.
У работников кино были свои идеи, воплощению которых требовалось срочно воспрепятствовать. Джон Хьюстон, при поддержке различных продюсеров, вернулся к старой идее фильма о Фрейде. Он привлек двух сотрудников по работе над фильмом «Да будет свет» — продюсера Джулиана Блауштейна и сценариста Чарльза Кауфмана. «Снять этот фильм, — скажет кинематографист, — все равно что пережить некий религиозный опыт. Моя увлеченность этой темой основана на глубоком убеждении, что самые великие начинания человечества, самые великие путешествия никогда не сравнятся с открытиями, которые совершил Фрейд в потаенных глубинах человеческой души». Но решительное противостояние Анны Фрейд в течение пяти лет не давало воплотить проект. Хьюстон не перестал восхищаться Фрейдом и его открытием, но со временем искренне возненавидел недостойных служителей его культа — психоаналитиков.
Когда дочь отца психоанализа услышала о его плане, она очень рассердилась. Ее особенно сильно опечалило то, что в состав исполнителей была включена Мэрилин. Отец на киноэкране, слушающий растянувшуюся на диване Мэрилин Монро, в фильме, поставленном по сценарию Сартра, — это уже слишком для весталки храма, которая впоследствии завещает похоронить себя в пальто своего отца и будет подписывать свои письма именем Аннафрейд, в одно слово.
Но в то время Марианна Крис, которая только эпизодически оказывала помощь актрисе, когда она заезжала в Нью-Йорк, не могла воспрепятствовать этому мрачному сценарию. Будучи не в состоянии запретить фильм, Анна прибегла к помощи Гринсона, чтобы отстранить от фильма свою бывшую пациентку. Роль Сесили дали Сьюзен Йорк. Съемки продолжались пять месяцев. Фильм «Фрейд, тайная страсть» вышел в 1962 году и потерпел коммерческий провал, который Хьюстон объяснял тем, что роль мученицы секса исполняла не Мэрилин. После премьеры он заявил: «Мы попытались совершить нечто беспрецедентное в истории экрана: проникнуть в подсознание публики, шокировать и растрогать зрителя, который узнавал собственные тайные психические мотивы».
Гринсон не явился на показ фильма в Голливуде, хотя Хьюстон и пригласил его. Но через несколько недель он позвонил режиссеру и завел разговор о Мэрилин.
«Мне вам нечего сказать, — прорычал постановщик. — Вы трус. Это к лучшему, что нам не удалось заставить ее сыграть фрейдовскую истеричку; никто бы не понял, почему старый мудрец не завалил ее на диван в первые же секунды «лечения словом»».
Нью-Йорк, Сентрал Парк Уэст 1957 год
Мэрилин порвала с Маргарет Хохенберг в начале 1957 года, и Анна Фрейд, которую она попросила направить ее к новому психотерапевту, порекомендовала ей Марианну Крис. Марианна, дочь педиатра, лечившего детей Фрейда, была для Анны больше чем коллегой, эмигрировавшей в Америку. Подруга детства и спутница в венские годы, Крис выбрала изгнание в Америку в 1938 году. Как и Анна, Марианна прошла психоанализ у самого отца-основа-теля, и Мэрилин надеялась через нее соприкоснуться с самыми истоками учения Фрейда.
В 57 лет Марианна Крис все еще была красивой черноволосой женщиной. Она недавно похоронила мужа, который также был психоаналитиком и экспертом-искусствоведом. Третий анализ Мэрилин (если считать анализ, проведенный самой Анной) продолжался четыре года и в последний год прерывался поездками в Лос-Анджелес, где ее наблюдал Ральф Гринсон.
Марианна Крис жила в том же доме, что и семья Страсберг, по адресу 135, Сентрал Парк Уэст, и весной 1957 года Мэрилин продолжила свой анализ, проходя по пять сеансов в неделю. Выходя от Марианны, она поднималась на лифте на этаж, где жили Страсберги, и работа над воспоминаниями продолжалась в более театральном ключе. Ей давали «упражнения на память» — требовалось вспомнить детство и юность. Однажды Мэрилин надо было сыграть голодного младенца. Даже не сыграть, а высказать — или, скорее, предоставить ему слово, уточнял Страсберг. В другие дни — одинокую сироту, потерянную школьницу, невесту, которую предали… Эти сеансы были так дороги, что Артур Миллер решил снять вместе с Мэрилин квартиру подальше от центра. Вопрос психоанализа стал предметом споров между Мэрилин и ее мужем. Он считал, что большинству людей психиатры помочь не в состоянии, и его раздражало, что для нее уже не бывает невинных обмолвок и незначительных оговорок, в каждом движении или фразе таится скрытый умысел, а самое банальное замечание может нести смертельную угрозу.
Признавая за Марианной Крис, как позднее и за Ральфом Гринсоном, глубокую честность и настоящую преданность интересам пациентки, Миллер сделал вывод, что анализ оказался неудачным. «Большинство из моих знакомых, которые начали психоанализ, так и не закончили его. Они с самого начала пребывали в состоянии распада; такими они и остались. До того как у нас появились психиатры, люди жили в стаях или сообществах, и их поддерживали или губили те нравственные и религиозные ценности, которые были им внушены. Нельзя требовать от психиатрии, чтобы она дала человеку нравственные ценности».
Разумеется, Ли Страсберг был не согласен с Миллером. Он считал, что психоанализ начинает освобождать Мэрилин. По его мнению, занятия в актерской студии служили анализом психоанализа. Когда в сценах возникали трудности из-за неспособности актера вступить в контакт с некими переживаниями в своем прошлом, воспоминания об этом опыте в рамках психоанализа делали возможным этот контакт и представляли собой своего рода сублимацию. Однажды Мэрилин, несколько запуганная психоаналитиком, сказала Сьюзен Страсберг, что во время сеансов ей не удается воскресить воспоминания детства. Она призналась, что, когда ее психоаналитик задает ей вопрос, на который она не может ответить, она старается придумать что-то интересное. А Руперту Алену, своему агенту, она призналась, что с Крис, как и с Хохенберг, ей казалось, что она ходит по кругу, описывает круги вокруг своего недоступного прошлого. «Все время одно и то же: почему я так пережила то или иное, почему, по моему мнению, моя мать поступила так, а не эдак? Никогда они не пытались понять, куда я хочу прийти, а только где я побывала. Но я и сама знала, через что прошла, какое мерзкое у меня было детство. Я хотела узнать, что делать, чтобы вырваться из этого порочного круга».
Чтобы убить страдание, порожденное этими переживаниями двойного психоанализа, она глотала снотворные, которые действовали сильнее, чем сеансы. Она попыталась покончить с собой. Миллер спас ее и говорил впоследствии, что бессмысленно связывать этот поступок с чем-то сделанным ранее или сказанным: «Смерть, желание смерти, всегда возникает из пустоты». Пустота — это пространство внутри, внутренняя темнота, приговоренная к забвению, страдание в ожидании объекта. Было ли это отчаянием, оставшимся после выкидыша? Или попытка самоубийства была вызвана тем, что Мэрилин заметила, как Миллер, который поклялся ей, что никогда не воспользуется ею как персонажем, описывает в пьесе «После падения» женщину, сбившуюся с пути, рассказывая всему миру то, что он знал о Мэрилин? Возможно, она думала, что, превращаясь в Мэгги, женщину, которую презирает герой пьесы Квентин, она сможет воплотить этот литературный образ себя в действительности и придать ему правдоподобие собственной смертью?
Пирамид Лейк, окрестности Рено, Невада 19 сентября 1960 года
После того, как Джон Хьюстон получил от «Юниверсал» аванс в 25 000 долларов на фильм «Фрейд», съемки «Неприкаянных» продолжились, и Мэрилин вновь оказалась лицом к лицу с Монтгомери Клифтом в пятиминутном эпизоде с диалогом.
Задний двор жалкого дансинга, Дэйтон-бар. Под черным просмоленным брезентом и прожекторами в десять тысяч ватт, среди остовов автомобилей, пивных банок и мусора, Розлин и Пирс ссорились под жужжание мух. Актеры не могли произносить реплики так, как того требовал Хьюстон: отрывисто, зло. Словами они прикасались друг к другу ласково, как два раненых зверя.
Через три дня снимали постельную сцену. Уже седьмой дубль обнаженную Мэрилин, спящую под простыней, будил одетый Кларк Гейбл. Она никак не могла вспомнить сценарий, в памяти всплывал только наказ Лоренса Оливье: «Будь сексуальной», что значило: «Будь внешней стороной себя — это все, что ты умеешь». Она приподнялась и показала камере правую грудь. Это был грустный момент, как вспоминала потом фотограф «Магнум» Ева Арнольд. Как будто Мэрилин нечего было предложить, кроме этого. Как будто она отказалась от текста, от речи, от актерской игры. Как будто она признала правоту за Оливье и надеялась удовлетворить Хьюстона. Она ошибалась. На ее взгляд после команды «Стоп!» он ответил: «Я их уже видел. Я уже давно знаю, что у женщин есть груди». Он потребовал других дублей, с грудью, закрытой простыней.
Через несколько дней они вернулись к диалогу между Розлин и Пирсом. На этот раз Мэрилин дала режиссеру ту игру, которой он от нее ждал. «Это лучшая сцена фильма», — сказал он. Но когда Хьюстон пришел к ней в Холидей-Инн, где она поселилась с Паулой Страсберг, он увидел Мэрилин под кайфом, немытую, растрепанную, в ночной рубашке сомнительной чистоты. Переходящую из эйфории в транс. «Видишь, Мэрилин, что такое наркотики! От них ты принимаешь свой ужас за экстаз!» Какой-то врач искал вену на тыльной стороне ее кисти, чтобы сделать инъекцию амитала.
«Когда мне пришлось прервать съемки, — скажет позднее Хьюстон, — я уже знал, что с ней все кончено. У меня было предчувствие. Она была обречена. Она не могла спастись сама, и другие были не в состоянии ее спасти. Я видел, в какую пустоту она удаляется своей сомнамбулической походкой, и подумал: через три года она умрет или попадет в психушку. Что я помню о ней из того времени, так это невинность. Мне нравится развращенность Голливуда. Мне также нравится, что есть люди, не то чтобы сохранившие чистоту или неприкосновенность, это ничего не значит, но знающие о своем распаде. Да, о своем разложении. Все дело в плоти. Люди портятся, как мясо. Она была неиспорченной. Она была как будто не подвержена тлению. Как-то я говорил о ней с ее массажистом, Ральфом Робертсом, массажистом звезд. Он также был актером. Ральф говорил, что на ощупь Мэрилин отличается от всех людей, которых ему когда-либо приходилось трогать. Дело было в плоти, не только в коже. Какая-то неожиданная чистота. Это видно на экране. Только это и видно. Не мы снимаем тело, а это тело ослепляет нас своим светом. Даже в «Неприкаянных», где оно несколько отяжелело. Сартр говорил мне: «От нее исходит не свет, а тепло: она прожигает экран»».
Нью-Йорк, Манхэттен 1959 год
В конце 1959 года в Нью-Йорке Мэрилин знакомится с писателями, которыми она восхищалась. Карсон МакКаллерс приглашает ее в свой дом в Найяке, где они долго беседуют с романисткой Айзек Денисен о поэзии и литературе. Поэт Карл Сандбург, с которым она познакомилась во время съемок «Некоторые любят погорячее», часто навещает ее в ее манхэттенской квартире; во время бесконечных разговоров наедине она читает стихи и пародирует актеров.
Мэрилин и Трумен Капоте встречаются вновь.
— У меня есть один план. В прошлом году я написал короткий роман, «Завтрак у Тиффани». Девушка в моей книге — ее зовут Холли Голайтли — это я. Это урок моего учителя и тайного друга — Флобера. Но Холли — это еще и ты. Знаешь, мои романы — это воспоминания о воспоминаниях, и мне хотелось бы, чтобы читатели вспоминали о моих персонажах так, как вспоминают о чем-то увиденном во сне или о человеке, случайно встреченном на улице, — неопределенно и в то же время очень четко. Хочешь, я тебе скажу первую фразу: «Меня всегда тянет к тем местам, где я когда-то жил, к домам, к улицам». Рассказчик вспоминает о девушке — немного шлюхе, немного алкоголичке, немного сумасшедшей. Когда-то она часто бывала в баре на Лексингтон-авеню. Эта девушка была родом из ниоткуда, не принадлежала ничему, никому — и еще меньше себе самой. Неприкаянная личность. Всегда в поиске, в путешествии, в бегах. Она никогда не найдет себе дом. Ее спрашивают, что она делает в жизни. Она отвечает: «Я уезжаю». В романе я называю ее «путешественница». Мы снимем по нему фильм. Как тебе эта идея?
— Мой девиз, — ответила Мэрилин, — скорее звучит так: «Я возвращаюсь». Мои путешествия всегда одни и те же. Неважно, куда я еду и почему, в конце концов оказывается, что я так ничего и не увидела. Быть киноактрисой все равно что жить на цирковом манеже. Ты путешествуешь, но бежишь по кругу. Где бы ты ни оказалась, ты не встречаешь местных жителей, не знакомишься с ними. Ты не видишь дальше декораций. Только одни и те же агенты, одни и те же интервьюеры, одни и те же кадры, на которых ты сама. Дни, слова, лица, сменяют друг друга, чтобы повториться снова. Как иногда бывает во сне, когда понимаешь: это мне уже снилось. Наверное, для того я и захотела стать актрисой, чтобы, снимаясь, не сниматься с места, а все время двигаться по кругу. Кино — это детский манеж.
Мэрилин очень хотелось сыграть Холли Голайтли. Она сама подготовила целых две сцены и исполнила их для Трумана — тот счел, что она играет фантастически. Они репетировали целыми ночами, с перерывами на «белых ангелов» и споры насчет «Diamonds are а girl’s best friend» («Бриллианты — лучшие друзья девушки»), ее песенки из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок». Но у Голливуда было другое представление о героине романа — была выбрана брюнетка, здравомыслящая Одри Хепберн, которую никак нельзя было назвать чувственной. «Мэрилин была бы совершенно чудесна в этой роли, но студия «Парамаунт» меня облапошила», — заключил Капоте, крайне разочарованный кинопостановкой. В конце фильма не было воспоминаний рассказчика о потерянной девушке. Он убедил ее остаться в Нью-Йорке, «потому что она навсегда принадлежит этому городу и город принадлежит ей». Однако Холли говорила в романе: «Нью-Йорк мне нравится, потому что он вечно от меня ускользает». Эту фразу Капоте услышал от своего двойника, своего «белого ангела».
Лос-Анджелес, Сансет Стрип конец сентября 1960 года
Когда Мэрилин проходила психоанализ у Гринсона, уже прошло восемь месяцев, как с ней порвал Ив Монтан. Она хотела любить, но не знала кого. Она в расстроенных чувствах позвонила Андре де Динсу. Поддразнивая ее, он предложил приехать к нему, ведь у него есть «лекарство от всех болезней». «Приезжай — как только ты узнаешь о моем чудесном средстве, ты забудешь все свои горести». В тот день она не приехала. Но через несколько недель странно одетая дама вышла из такси на аллею, ведущую к дому на холмах. Мэрилин вырядилась так, что Андре узнал ее, только когда она подошла к гаражу, рядом с которым он садовничал. На ней были платок, черные очки, джинсы, сандалии и пальто. В трех метрах от него она сняла очки, и он наконец понял, кто стоит перед ним. Что случилось с прелестной Нормой Джин, которая все время смеялась? Как она могла выглядеть такой угасшей, такой несчастной? Она торжественно сказала, что хочет посмотреть на его «средство от всех горестей».
— Что случилось?
— Я всю ночь не сомкнула глаз.
— Ты вчера выпила слишком много кофе?
— Нет.
— У тебя проблемы с деньгами?
— Нет.
— У тебя неприятности?
— Целая куча. Меня все обманывают!
— Это первая причина бессонницы. Ты сердишься, потому что чувствуешь, что тебя эксплуатируют. Тебе одиноко? Говори правду, Мэрилин, и только правду!
Она ничего не ответила.
— Когда ты в последний раз занималась любовью? Сколько времени у тебя не было оргазма?
— Много недель. Но мне наплевать!
Когда Андре пересадил куст, он предложил Мэрилин выпить коктейль. Как только она согласилась, их прервала другая гостья. Модельное агентство, для которого работал фотограф, прислало хорошенькую молодую фотомодель. В отличие от неузнаваемой Мэрилин, она носила высокие каблуки и облегающее платье из розового шелка. Длинные волосы элегантными локонами рассыпались по плечам. Девушка приветствовала фотографа самой обворожительной улыбкой и вошла в длинный коридор дома, подражая знаменитой походке Мэрилин Монро. «Модель, готовая позировать обнаженной за пятьдесят долларов, сексуальнее Мэрилин. А Монро, усталая, нервная и подавленная, выглядит просто уродиной», — подумал Андре. Мэрилин отвернулась, чтобы девушка ее не узнала. Пока натурщица болтала с фотографом, Монро отошла, чтобы вызвать по телефону такси. Потом она заперлась в туалете до приезда такси и попросила Андре сделать так, чтобы девушка не видела, как она уходит. Садясь в такси, она вспомнила о «лекарстве от всех болезней». Слишком смущенный, чтобы отвечать при шофере, Андре попросил ее подождать, побежал в свой кабинет и нацарапал несколько слов на бумажке. Он передал ей листок, когда такси отъезжало. Мэрилин прочла; «Секс со мной».
«Вот придурок! — воскликнула она. — Настоящее лекарство — это смерть». Она выбросила из окна смятую бумажку, которая пролетела еще несколько метров по вечерней пыли пологой дороги к Сансет Стрип.
Лос-Анджелес, Вествуд Виллидж ноябрь 1960 года
Последний вечер в Рено был полон патетики. Напившись бурбона, Мэрилин разглагольствовала: «Я стараюсь найти себя как личность. Миллионы людей живут своей жизнью, но не находят себя. Единственный способ для этого, который наконец я нашла, — это испытать себя в качестве актрисы».
4 ноября Хьюстон переделал в голливудских студиях последние сцены счастливого конца «Неприкаянных», в котором Мэрилин и Гейбл вместе уходят в жизнь. С опозданием на сорок дней этот фильм наконец был окончен. На следующие выходные Мэрилин и Артур Миллер улетели в Нью-Йорк двумя отдельными рейсами. Ей досталась квартира на Пятьдесят седьмой Восточной улице, он поселился в отеле «Адамс», на Восемьдесят шестой Восточной улице.
Она возобновила ежедневные сеансы с Марианной Крис, а в остальное время рассматривала обзорные листы черно-белых кадров, снятых Анри Картье-Брессоном, Инге Морант и Евой Арнольд во время съемок «Неприкаянных», и крест-накрест вычеркивала красным фотографии, на которых появлялся Артур. Через двенадцать дней, узнав о смерти Кларка Гейбла, Мэрилин не упомянула о ней в разговоре с Крис. Только несколько недель спустя, вернувшись в Лос-Анджелес, она поспешила к Гринсону, в его кабинет на Беверли Хиллз.
— Вы не представляете, как меня потрясло известие о смерти Кларка. В любовных сценах в «Неприкаянных» я целовала его страстно. Мне нравились его губы; его усы медленно ласкали меня, когда он поворачивался к камере спиной. Я не хотела с ним переспать; я просто хотела, чтобы он знал, как я его люблю. Хотела чувствовать голой кожей его одежду. Как-то я пропустила день съемок. Он положил мне руку ниже спины, как гладят кошку, и сказал; «Если не совладаешь с собой, я тебя отшлепаю». Потом посмотрел мне прямо в глаза; «Только не искушай меня» — и рассмеялся, он смеялся до слез. Эти стервятники из Академии киноискусства и кинотехники, — она иронично подчеркнула эти слова, — даже не наградили его «Оскаром» за «Унесенных ветром». В первый раз я смотрела этот фильм, когда мне было лет тринадцать. Это был самый романтичный фильм, который я видела в своей жизни. Но когда я познакомилась с Гейблом, все было иначе; мне хотелось, чтобы он был моим отцом, — пусть шлепает меня, сколько захочет, только бы он обнимал меня и говорил, что я дорогая папина девочка и что он меня любит. Конечно, вы скажете; «Классическая эдипова фантазия».
Гринсон молча поглаживал усы.
— Самое странное, — продолжала Мэрилин, — что на днях я видела его во сне. Я сидела у него на коленях, он прижимал меня к себе и говорил «Меня приглашают играть в продолжении «Унесенных ветром». Может быть, станешь моей новой Скарлет?» Я проснулась в слезах. На съемках «Неприкаянных» его прозвали Королем, и все — актеры, технический персонал и даже сам Хьюстон — смотрели на него с уважением. Мне бы хотелось, чтобы когда-нибудь так относились ко мне. Для всех он был мистером Гейблом, но меня он попросил называть его Кларк. Однажды он сказал мне, что между нами есть что-то общее, что-то очень важное. Общая тайна. Его мать умерла, когда ему было шесть месяцев.
Вскоре после этого, на одном очень напряженном сеансе, Мэрилин, с расширенными зрачками, словно взгляд ее был устремлен на что-то невидимое или в темноту, сказала легким, почти радостным голосом, как будто рассказывая ребенку сказку:
— Когда я была маленькая, я играла в Алису в Стране Чудес: заглядывала в зеркала и задумывалась, кто я такая. Это действительно я? Кто смотрит на меня из зеркала? Может быть, там кто-то мной притворяется? Я танцевала, строила гримасы, чтобы увидеть, сделает ли девочка за стеклом то же самое. Наверное, все дети увлекаются играми воображения. В зеркале есть волшебство, так же, как в кино. Особенно, когда играешь кого-то, кто сильно отличается от тебя самой. Я, бывало, наряжалась в мамины платья и красилась так же, как мама: подводила глаза, красила губы и щеки. Конечно, я больше похожа была на клоуна, чем на сексуальную женщину. Надо мной смеялась. Я плакала. Когда меня брали в кино, я никак не хотела уходить, меня приходилось буквально стаскивать с места. Я спрашивала: все это правда или один обман? Эти громадные картины там, наверху, на широком экране темного зала — это было счастье, транс. Но экран оставался зеркалом. Зеркалом, которое смотрело на меня? Это правда я — девочка в темноте? Я — гигантская женщина, нарисованная серебряным лучом? Я — отражение?
Голливуд, Догени-драйв осень 1960 года
Внешность — это кожа. Твердая. Холодная. Под внешними образами, которые проецировала Мэрилин, личность ее разрушалась все больше. Когда она уже не знала, кем быть, она искала ответ во взглядах мужчин. Для нее это был обмен: твоими глазами, руками, членом скажи мне, что я существую. Скажи мне, что у меня есть душа, и ты сможешь взять часть моего тела, проникнуть в него через одно из отверстий или поймать его издалека, запечатлев на фотографии.
Однажды, осенним днем, Мэрилин в черном, простом и элегантном костюме снова без предупреждения приехала к Андре де Динсу, потерянному и вновь обретенному любовнику. Она казалась спокойной, даже грустной. И сразу же поцеловала его:
— Андре, сделай мои новые фотографии сегодня вечером. И завтра. Еще и еще. Я переночую у тебя.
Он не согласился на такую сделку и проводил ее домой — она жила по соседству. Квартира выглядела заброшенной — повсюду открытые чемоданы, пустые ящики, оставшиеся от переезда. В углу — два огромных чемодана для морских путешествий. Столами служили ящики — один для приготовления коктейлей с водкой, на другом стояли лампа, портативный проигрыватель, телефон и ваза с желтыми розами. Одна стена была заставлена ящиками из неструганых досок, а сверху на полку были как попало навалены книги. Андре нравилась эта комната, этот разгром, словно перед тайным бегством. Квартира Холли Голайтли, героини Капоте, подумал он.
Мэрилин колебалась. Ей казалось, что она зависла в «нигде». Фотограф смотрел на самую известную и самую обожаемую женщину в мире, забившуюся в грязное кресло в старой обветшалой квартире с затхлым воздухом. Одна. Без всякого понятия, куда ей идти. Он напомнил о ферме в Коннектикуте, которую она купила и где жила с Артуром Миллером.
— Там был твой дом, — сказал он.
Она ответила, что оставила ферму Артуру.
— Ты с ума сошла — подарить единственный дом, который у тебя был в жизни! В жизни нет ничего важнее собственной крыши над головой. Ты как будто нарочно делаешь все, чтобы оказаться на улице. Дурочка! Твое сердце тебя погубит! Что ты сделала со своей жизнью. Норма Джин?
Она посмотрела на него, рассеянно улыбаясь, затем плеснула из полупустой бутылки шампанского в пластмассовый стаканчик. Он задумался, для чего на самом деле она пришла к нему в тот день. Чего она хотела от него такого, чего не могла бы получить в другом месте и от другого человека? Почему она просила сфотографировать ее, когда только что закончила фильм, а журналы и газеты всего мира пестрели ее фотографиями? Может быть, она пришла, чтобы сказать ему: «Возьми меня с собой. Увези меня. Я буду только твоей».
Вдруг зазвонил телефон. Она долго слушала звонок. Потом сняла трубку, ответила тихим, монотонным голосом. Лицо ее погрустнело. Через минуту она вытерла слезы, слушая своего собеседника. Де Дине, не привыкший подслушивать телефонные разговоры, пошел в ванную комнату и, когда вышел оттуда, услышал только, как Мэрилин сказала: «Хорошо. Я выезжаю. Приеду завтра». Она повесила трубку и повернулась к нему:
— Андре, иди к себе, пожалуйста. Я должна вернуться в Нью-Йорк.
Тушь стекала у нее по щекам.
Он вышел, но, не дойдя до дому, обернулся, побежал обратно и ворвался в ее гостиную. Она еще сидела у телефона, на том же месте, и плакала. Его появление, казалось, не удивило ее; она повесила трубку. Он бросился перед ней на колени:
— Возвращайся! Идем ко мне. Сейчас же! Я сниму такие фотографии, которых у тебя еще не было. Норма Джин, умоляю тебя, не уезжай в Нью-Йорк.
— Нет, меня ждут на восточном побережье.
Когда он позвонил ей на следующее утро, Мэрилин уже уехала.
Нью-Йорк, общежитие Ассоциации молодых христиан, Тридцать четвертая Восточная улица зима 1960 года
Мэрилин улетела в Нью-Йорк. Там она дважды встретилась с У. Дж. Уэзерби, английским журналистом, с которым она познакомилась в Рено во время съемок в «Неприкаянных». Этим морозным зимним днем они договорились встретиться в баре на Восьмой авеню. Уэзерби думал, что она не придет. Она сама захотела его видеть, но зачем держать слово, данное пустому месту: он не был ни ее родственником, ни другом, ни психоаналитиком. Он ждал час. Она не пришла. Как только он вернулся в свою комнату в общежитии Ассоциации молодых христиан на Тридцать четвертой Восточной лице, зазвонил телефон.
— Извините меня, извините, пожалуйста! Я спала. Я приняла какое-то лекарство. Слишком сильное. Вы меня простите?
Журналист забыл, что посоветовал ей поселиться в доме Уильяма Слоуна.
— Мы еще можем встретиться? — спросила она встревоженно. — Или вы слишком устали?
— Нет, я совсем не устал.
За время знакомства журналиста с Монро — год с лишним — он понял, что Мэрилин, которая так любила показывать себя, на самом деле желала лишь одного — спрятаться. Она обладала уникальной, на его взгляд, способностью появляться, чтобы затем исчезнуть, становиться такой, какой ее хотят видеть, всегда оставляя свою подлинную личность в глубокой тени.
Они встретились через четверть часа. Она выглядела полной жизни и сверкала безукоризненным макияжем. Ему показалось, что она снова играет какую-то роль, скрывая свои истинные чувства. Ему хотелось, чтобы она и правда была в беззаботном настроении, но, возможно, она просто боялась не совладать с собой на людях. В беседе они упомянули Ива Монтана и Симону Синьоре.
— Вот это брак. Он бегает налево, но всегда возвращается. Когда я интересовалась моим мужем, я не любила никого, кроме него.
Журналист помнил, как Миллер рассказывал ему, что Мэрилин предала его с Монтаном, но подумал, что она говорит искренне: вероятно, в то время она уже не чувствовала себя его женой.
— А кино?
— Знаете, кино — это как любовь: если тебе оно не нужно, ты получишь все, что пожелаешь. Если ты начнешь гоняться за ролями, тебе не дадут ничего. Это история моей жизни. Быть кинозвездой оказалось совсем не так приятно, как мечтать об этом. Стоило мне перестать мечтать, как предложения звездных ролей так и посыпались. У тебя есть выбор: попасть в рабство к студиям или замкнуться в роли недостижимой знаменитости. Я не могу перестать быть кумиром. Даже с критиками, фотографами, журналистами я произвожу впечатление, что привязываюсь к ним, и это всегда действует. На всех.
— Вы и со мной так поступаете?
— Вы читали неоконченный роман Скотта Фицджеральда, «Последний магнат»? Красиво, но представление о Голливуде чересчур романтичное. Не хватает насилия, преступной стихии, мафии… Того, что грызет студии изнутри. Это не показано. Вся эта мразь представлена очень цивилизованной.
Затем разговор зашел о братьях Кеннеди, которых она яростно защищала от критических замечаний журналиста. Беседа грозила перейти в ссору. Он предпочел вернуться к более спокойной теме — книгам.
— А величайший роман Скотта Фицджеральда «Ночь нежна» вы читали?
— Нет. Я знаю, что «Фокс» готовит постановку.
— В этой книге есть что-то от вас. Актриса сходит… — Уэзерби запнулся, вспомнив о том, что рассказывали о матери Мэрилин и о страхе актрисы сойти с ума.
— С ума?
— Да. Николь Уоррен, главная героиня, — немного неуравновешенная актриса. Она выходит замуж за своего психоаналитика и становится все безумнее и безумнее. Она полностью теряет рассудок, но снова обретает его, когда уходит от мужа. Он понимает, что это доказательство ее исцеления: ей хватило сил избавиться от их общего безумия. В итоге с ума сходит он.
Уэзерби сразу заметил, что смешивает две истории — Николь, пациентки Дика, и актрисы. Но это было неважно. В его памяти актриса из «Ночь нежна» испускала такое же золотистое сияние, что и Монро. Он прочел роман несколько лет назад, и ему казалось, что Фицджеральд описал личность Мэрилин или, по крайней мере, некоторые ее черты. Смешав двух героинь, он увидел точный портрет женщины, сидящей перед ним. Она тоже развелась, но это ее не исцелило. Она каждый день посещала психоаналитика, но какой конец будет у ее романа?
— Красивое название, — ответила она, чтобы прервать молчание. — Ночь нежна. Иногда. Во всяком случае, нам этого хотелось бы.
— Доктор исчез в ночной тьме. Женщина на время спаслась от ночи своего разума.
Она не поняла, цитирует журналист фразу из романа или предсказывает ее жизнь.
— Мне это напоминает кое-что, — улыбнулась она. — Бывают дни, когда мне наконец удается заснуть и не хочется просыпаться и опять начинать все сначала. Мрачно, правда?
Книга стала опасной темой, и Уэзерби перевел разговор на фильм:
— Я представляю вас в роли Николь. Знаете, я подсказал Лоренсу Оливье идею сыграть врача.
— Здорово! Он хорошо разбирается в сумасшедших женщинах. Но только не со мной. Ни за что на свете не стала бы у него лечиться, даже на экране.
— А почему бы вам не сняться с Монтгомери Клифтом?
— Два психа вместе! Замечательно! Да «Фокс» мне и не предлагала эту роль.
Когда они прощались, журналист заметил ее бледность. Она, наверное, не выспалась. Они договорились увидеться снова. Он провожал ее взглядом, пока она не исчезла из вида. У нее были не очень-то красивые ноги.
Мэрилин сразу же поспешила купить роман Фицджеральда. Ее заворожила история богатого и знаменитого психоаналитика Дика Дайвера, который женился на бывшей пациентке. Она прочла, как Николь в детстве подвергалась сексуальным домогательствам своего отца и стала шизофреничкой. Мэрилин прочла и другие романы Фицджеральда, кроме того, в котором рассказывалась ее собственная история. Из биографии романиста она узнала, что при описании Николь он вдохновился историей жизни своей жены. Она знала об их истории любви. Когда в декабре 1954 года она улетела в Нью-Йорк, чтобы изменить свою карьеру актрисы и начать карьеру пациентки психоаналитика, она купила билет в одну сторону под именем Зельды Зонк. Ей больше не хотелось быть дурочкой-блондинкой. Она надела черный парик. Зельда отправилась на поиски Николь, но сама не знала об этом. Теперь Мэрилин поразила фраза из романа: «Голливуд был городом еле заметных различий, миром тонких перегородок и раскрашенных холстов». Именно от этого она спасалась, когда бежала от Гринсона. От этой неразличимости. От бессмысленности всего и всех. Ей хотелось, чтобы время обрело смысл, чтобы все перестало казаться обратимым. Чтобы различие между безумием и тем, для чего она не могла придумать другого названия, кроме «желание», стало заметным. Противоположность безумия — не разум.
В сентябре Джон Хьюстон встретил в «Ла Скала» Роберта Голдштейна, который сменил Дэвида О. Селзника на посту директора киностудии «Фокс».
— Как ваша постановка «Ночь нежна»? — спросил кинематографист.
— Дэвид уже два месяца как отказался от этого проекта, — ответил продюсер. — Теперь им занимается Генри Вайнштейн. Он оставил Дженнифер Джонс, жену О. Селзника, и пользуется технической поддержкой доктора Гринсона…
— Что? — перебил его Хьюстон. — Гринсона! Он пытался помешать мне снять моего «Фрейда», а теперь заделался техническим консультантом в кинопостановке о психоанализе! Да еще и с Дженнифер, пациенткой Уэкслера, с которым он арендует кабинет на двоих. Ну и ублюдок!
Фильм «Ночь нежна», поставленный «Фокс», был снят Генри Кингом весной 1961 года в Швейцарии и на Лазурном Берегу. Он стал его последним фильмом. Гринсон не упомянут в титрах, но именно он подсказал своему другу Вайнштейну выбор сценариста и вплоть до мелких деталей направлял работу последнего. Он хотел сделать персонаж Дайвера светлее, а его любовь к Николь — не такой роковой. Он хотел, чтобы их игра на грани жизни и смерти была не такой отчаянной. Как будто проигранная обоими героями партия означала, что его собственная жизнь лишена смысла, который он пытался ей придать. Он никогда не говорил с Мэрилин ни об этом романе, ни о фильме.
Нью-Йорк, психиатрическая клиника Пейна Уитни февраль 1961 года
Мэрилин снова вернулась в Нью-Йорк. Когда она летела туда на самолете, она уже не понимала, путешествует она в прошлом или в будущем. Когда в январе было вынесено решение о ее разводе с Артуром Миллером, Билли Уайлдер сказал: «Брак Мэрилин с Джо ДиМаджио распался, потому что женщина, на которой он женился, была Мэрилин Монро, а брак с Артуром Миллером — потому что она перестала быть Мэрилин Монро». После прохладной встречи последнего фильма зрителями Мэрилин считала, что ее актерская карьера оказалась в тупике. В квартире на 57-й Восточной улице она проводила целые дни в полумраке своей спальни, слушая сентиментальные песни, похудевшая и одурманенная успокоительными таблетками. Она не ела и не разговаривала. Она не виделась ни с кем, кроме У. Дж. Уэзерби.
После сорока семи сеансов за два месяца Марианна Крис, испуганная ухудшением ее состояния, с которым она не в силах была справиться, решила ее госпитализировать. Под именем Фэй Миллер Монро помещают в психиатрическую клинику Пейна Уитни. У нее не спрашивают согласия: ей просто подсовывают бумажку для подписи. Мэрилин, накачанная наркотиками, не понимает, что подписывает. Ей 34 года — именно в таком возрасте ее мать, Глэдис, была помещена в больницу на всю жизнь.
Мэрилин сразу же пишет Пауле и Ли Страсбергам, самым близким своим друзьям в Нью-Йорке:
«Дорогие Ли и Паула.
Доктор Крис поместила меня в нью-йоркскую больницу, в психиатрическое отделение, под опеку двух врачей-идиотов. Ни тот, ни другой не подходят мне как врачи. Я не писала вам, потому что меня заперли со всеми этими бедными психами. Если я останусь в этом кошмаре, то точно стану, как они. Прошу тебя, Ли, помоги мне, мне здесь действительно не место. Может быть, если ты позвонишь доктору Крис и убедишь ее, что я в здравом рассудке и могу вернуться на твои занятия… Ли, я помню, что ты мне сказал однажды на уроке: «Искусство идет гораздо дальше, чем наука». А о здешней науке мне хотелось бы забыть, как и о женских воплях и т. п. Умоляю, помоги мне. Если доктор Крис тебе скажет, что мне здесь очень хорошо, можешь ответить, что мне совсем не хорошо. Это место не по мне.
Люблю вас обоих.
Мэрилин».Ей позволили сделать только один телефонный звонок. Она позвонила Джо ДиМаджио, жившему во Флориде. Она не разговаривала с ним шесть лет. В ту же ночь он вылетел в Нью-Йорк и потребовал, чтобы ее выпустили из клиники. Через несколько дней Мэрилин вышла и отправилась по ту сторону Манхэттена, в больницу на реке Гудзон. Она прожила там с 10 февраля по 5 марта 1961 года. Оттуда она написала Гринсону, которого решила сделать своим единственным психоаналитиком, письмо, которое долго считали потерянным и которое в 1992 году нашлось в архивах студии «XX Century Fox».
«Дорогой доктор Гринсон.
Из окна больницы я вижу, как снег падает на зеленые листья. Я вижу траву и вечнозеленый кустарник, но деревья меня печалят… их грустные голые ветви, может быть, предвещают весну и сулят надежду. Вы видели «Неприкаянных»? В одной из сцен можно заметить, как бывает обнажено и таинственно дерево. Не знаю, покажут ли это на экране… мне не нравится, как смонтирован этот фильм. Вы будете смеяться, хотя мне сейчас совсем не весело, сцена, в которой Розлин обнимает это дерево и танцует вокруг него, вызвала скандал, и религиозные власти увидели в ней что-то вроде мастурбации. Всегда найдется кто-то, кто еще в большей степени фрейдист, чем ты, правда? Но Хьюстон не захотел вырезать ее при монтаже.
Пока я пишу эти строки, четыре большие тихие слезы скатились у меня по щекам. Не знаю почему.
Я не спала всю ночь. Иногда я задумываюсь, для чего нужна ночь. Для меня есть только ужасный и длинный бесконечный день. Наконец я решила воспользоваться моей бессонницей и начала читать переписку Зигмунда Фрейда. Открыв книгу, я увидела фотографию Фрейда и разрыдалась; он выглядит таким подавленным (думаю, эта фотография была сделана незадолго до его смерти), как будто конец его жизни был полон грусти и разочарований. Но доктор Крис сказала мне, что он очень страдал физически — это я уже знала из книги Джонса. Несмотря на это, в его добром лице я угадываю разочарованную усталость. Его переписка доказывает (не уверена, что следовало публиковать чьи-либо любовные письма), что сам он вовсе не страдал комплексами! Мне нравится его нежный и чуть грустноватый юмор, его боевой дух.
В Пейн Уитни не было никакого человеческого тепла; эта клиника сильно мне навредила. Меня посадили в камеру (настоящая камера с бетонными стенами и т. п.) для буйных и больных тяжелой депрессией, но мне казалось, что меня посадили в тюрьму за преступление, которого я не совершала. Эта бесчеловечность показалась мне варварской. Меня спросили, почему мне было плохо там (все запиралось на ключ; везде были решетки — вокруг электрических лампочек, на шкафах, в туалетах, на окнах… и в дверях камер были проделаны окошки, чтобы пациенты всегда оставались на виду у надзирателей. На стенах были пятна крови, рисунки и надписи, оставшиеся от прошлых пациентов). Я ответила: «Если бы мне здесь нравилось, я бы и правда была бы сумасшедшей». Другие обитатели больницы вопили у себя в камерах… Я подумала тогда, что психиатр, достойный так называться, должен был бы поговорить с ними, помочь, по крайней мере на время, облегчить их горе и боль. Мне кажется, врачи должны учиться чему-то, но их интересует только то, что они изучали по книгам. Может быть, они могли бы научиться большему, прислушиваясь к людям, вся жизнь которых — страдание. У меня такое впечатление, что они больше беспокоятся о дисциплине, не поддерживают своих пациентов и не оставляют их в покое, пока не заставят «покориться». Меня попросили присоединиться к другим пациентам, пойти на эрготерапию. «Зачем?» — спросила я. «Вы можете шить, играть в шашки, в карты или даже вязать». Я объяснила им, что, когда я смогу это делать, это буду больше не я. Они так ничего не добьются. Все эти занятия несказанно далеки от меня. Они спросили меня, считаю ли я себя не такой, как остальные пациенты, а я подумала, что если они настолько глупы, чтобы задавать подобные вопросы, то и ответить им придется глупо: «Да, я не такая». Я — это всего лишь я. Когда я сейчас пишу это вам, я улыбаюсь, потому что вы-то хорошо знаете, что я совсем не знаю, кто я есть, и что игра в шахматы увлекает меня, потому что только на последнем ходу узнаешь, какая партия разыгрывалась.
В первый день я действительно общалась с другой пациенткой.
Она спросила меня, почему я такая грустная, и посоветовала позвонить кому-нибудь из друзей, чтобы мне не было так одиноко. Я ответила, что мне сказали, что на этаже нет телефона. Кстати, каждый этаж заперт: нельзя ни войти, ни выйти. Пациентка удивилась и проводила меня к телефонной кабине. Дожидаясь своей очереди, я заметила охранника (это действительно был охранник, потому что он был в форме), и когда я попыталась снять трубку, он вырвал ее у меня из рук, рявкнув: «Вам звонить не разрешается». У девушки, которая показала мне телефон, был жалкий вид. Услышав грубость охранника, она сказала, что никогда бы не подумала, что со мной могут так обращаться, и рассказала, что ее госпитализировали в связи с психическим расстройством. «У меня было несколько попыток самоубийства», — повторила она по меньшей мере четыре раза.
Люди хотят долететь до Луны, но никто не интересуется человеческим сердцем. А здесь еще многое можно сделать. (Кстати, это была первоначальная тема «Неприкаянных», но ее никто не заметил. Наверное, потому что в сценарий внесли столько изменений — и еще из-за постановки.)
Я знаю, что никогда не буду счастлива, но я могу быть веселой! Я уже говорила вам, что Казан утверждал, что я самая счастливая из женщин, которых он когда-либо знал, а знал он их немало, уж поверьте! В тот год, когда он любил меня, однажды ночью меня охватила ужасная тревога, и он стал укачивать меня, пока я не заснула. Он также посоветовал мне пройти психоанализ, и именно он хотел, чтобы я работала с Ли Страсбергом.
Не Мильтон ли написал: «Счастливые люди еще не родились»? Я знаю по меньшей мере двух психиатров, которые более оптимистично настроены.
Сегодня утро, 2 марта. Я не сомкнула глаз всю ночь. Вчера забыла вам кое-что сказать. Когда меня поместили в первую комнату, на шестом этаже, мне не сказали, что я нахожусь в психиатрическом отделении. Доктор Крис заверила меня, что зайдет ко мне завтра же. Меня осмотрели врачи и даже ощупали мне грудь, чтобы убедиться, что у меня нет опухоли. Я протестовала, но спокойно, объясняя, что врач, который меня направил, идиот по имени Липкин, провел полный осмотр всего месяц назад. Потом вошла медсестра, и я заметила, что в палате нет звонка для ее вызова. Я попросила объяснений и узнала от нее, что нахожусь в психиатрическом отделении. После ее ухода я оделась, и именно тогда встретила девушку, которая сказала мне о телефоне. Я как раз ждала перед дверью лифта, которая была, как и все остальные двери, без ручки и без номера. Вы понимаете, все ручки отвинчены, как в кошмарах или романах Кафки. Когда девушка рассказала мне, что сделала с собой, я вернулась к себе в комнату, уже зная, что про телефон мне соврали. Я снова стала думать о слове «резать» и села на кровать, стараясь думать о том, что бы я стала делать в такой же ситуации, если бы импровизировала на занятиях по актерскому мастерству. Что бы я сделала? Я сказала себе, что «пока колесо не заскрипит, его не смажут». Признаюсь, что мое колесо заскрипело слишком громко, но эту мысль я почерпнула в фильме «Схватка в ночи», в котором я снималась. Я взяла стул и нарочно бросила его в окно; это было нелегко, ведь я в жизни никогда ничего не ломала. Кроме себя самой… «Смех» — как пишут в сценариях. Шум был страшный, а стекло всего-навсего треснуло. Мне пришлось бросить стул еще несколько раз, чтобы отвалился осколок стекла, который я зажала в руке. Потом я спокойно села, как послушная девочка. Когда они пришли, я сказала им, что, раз со мной обращаются как с психованной, я и вести себя буду как психованная. Признаюсь, продолжение гротескно, но я и правда сделала то же самое в фильме, только там это было лезвие бритвы. Я угрожала разрезать себе вены, если они меня не выпустят… я никогда бы этого не сделала, вы же знаете, что я актриса и никогда не нанесу себе ни ран, ни шрамов — я слишком горжусь своим телом. Я не стала с ними сотрудничать, потому что была совершенно не согласна с их действиями. Так как я отказывалась двигаться, они вчетвером перенесли меня на верхний этаж, четыре здоровяка, двое мужчин и две женщины. Я плакала всю дорогу, и меня заперли в камере, о которой я уже говорила, и какая-то толстая корова приказала мне принять ванну. Я объяснила ей, что приняла ванну только что, а она ответила, что у них принято принимать ванну каждый раз при переводе на другой этаж. Директор, похожий на директора колледжа (хотя доктор Крис называет его «администратор»), допрашивал меня так, как будто считал себя психоаналитиком. Он сказал мне, что я уже много лет очень-очень больна. Этот тип презирает своих пациентов. Он удивлялся, что я могла работать в своем депрессивном состоянии, и утверждал, что это наверняка портило мою игру. Все это с полной уверенностью, безапелляционным тоном. Я указала ему на то, что Грета Гарбо, Чарли Чаплин и Ингрид Бергман, возможно, тоже иногда страдали от депрессии во время съемок. Я считаю, так же глупо было бы утверждать, что такой чемпион, как ДиМаджио, не смог бы ударить по мячу, если бы страдал от депрессии.
Кстати, у меня есть хорошие новости. Я кое на что пригодилась. Джо утверждает, что я спасла ему жизнь, посоветовав обратиться к психотерапевту. Он сказал, что исправился после нашего развода, но признал, что, если бы тогда был на моем месте, тоже потребовал бы развода. На Новый год он прислал мне целое поле пуансеттии. Это был такой сюрприз. Когда мне принесли букет, со мной была моя подруга Пэт Ньюкомб. Я спросила ее, кто прислал цветы, и она ответила: «Здесь карточка. Подожди-ка… «С наилучшими пожеланиями, Джо»». Я сказала ей: «Есть только один Джо». Был рождественский вечер, поэтому я позвонила ему и спросила, почему он послал мне цветы. Он сказал: «Во-первых, чтобы ты мне позвонила… а потом, кто еще пошлет тебе цветы? У тебя во всем мире нет никого, кроме меня». Он предложил мне на днях выпить по стаканчику. Я напомнила ему, что он никогда не пил. Он сказал, что теперь иногда выпивает, и я ответила, что согласна, но он должен выбрать место с очень, очень неярким освещением! Он спросил, что я делаю на Рождество; я объяснила, что я с подругой, и он сказал, что приедет. Я действительно была рада его видеть, хоть и чувствовала себя подавленной и все время плакала. Лучше мне закончить, не хочу отрывать от дел. Спасибо, что выслушали.
Мэрилин М.»К письму, напечатанному на машинке секретаршей Монро, Мэй Рейс, Мэрилин добавила следующие слова от руки: «Есть один человек, очень дорогой друг, когда я говорила его имя, вы всегда поднимали глаза к небу и приглаживали усы. Он был для меня нежным другом. Очень нежным. Я знаю, что вы не верите мне, но я доверяю моим инстинктам. Это было похоже на любовную связь без продолжения, но я раньше никогда не знала такого. Теперь я ни о чем не жалею. Он очень внимателен в постели. От Ива ничего не слышно, никаких новостей, но мне наплевать. У меня есть воспоминание — сильное, нежное, чудесное. Я почти плачу».
Гринсон начал писать ответ, который он так и не отправил, так как счел, что лучше связаться с Крис, чтобы она забрала Мэрилин из больницы, а интерпретации могут подождать. Эту записку позже нашли в его архивах.
«Дорогая Мэрилин.
Не ждите от меня, чтобы я критиковал или осуждал тех, кто вас лечит или пытается лечить, и тем более мою коллегу и друга Марианну Крис. На самом деле вы не сумасшедшая, но действительно сошли бы с ума из-за жизни в больнице, если бы там остались. Больница — это место, где вы теряете детей от выкидышей и абортов и где вновь оказываетесь ребенком, когда вас лечат там от депрессии или тяги к самоубийству».
После этого Мэрилин никогда не встречалась с Марианной Крис — таково было ее решение. Но, то ли по небрежности, то ли умышленно, она оставила Крис в числе наследников по своему последнему завещанию, составленному за три недели до поступления в Пейн Уитни. Впоследствии Крис признала: «Я совершила нечто ужасное. Нечто совершенно ужасное. Я не этого хотела, но сделала именно это». Она продолжала переписываться с Гринсоном и Анной Фрейд по поводу своей бывшей пациентки.
В начале весны Мэрилин решила вернуться в Калифорнию и умоляла Гринсона принять ее в «постоянные» пациентки, хотя он относился к этой идее настороженно. Они вновь начали свои сеансы. В мае, когда Мэрилин опять уехала в Нью-Йорк, откуда она звонила Гринсону каждый день, он описывал Марианне Крис свой терапевтический план действий: «Прежде всего, я стараюсь помочь ей не чувствовать себя одинокой, ведь именно это заставляет ее искать спасения в наркотиках или вступать в связи с очень деструктивными людьми, которые устанавливают с ней садомазохистские отношения… Именно такой подход в нормальном случае действует у девочки-подростка, которая нуждается в советах, дружеском отношении и твердости, и она, похоже, очень хорошо это воспринимает… Она сказала, что в первый раз ей не терпелось приехать в Лос-Анджелес, потому что она могла со мной поговорить. Конечно, это не помешало ей отменить несколько сеансов, чтобы поехать в Пальм-Спрингс с мистером Ф. С. Она «изменяла» мне, ведя себя так же, как подросток с родителями».
Через несколько дней Мэрилин позвонила из Нью-Йорка своему калифорнийскому психоаналитику и сообщила, что решила окончательно вернуться в Лос-Анджелес. В тот город, где она родилась. В город, где она ни за что на свете не хотела бы умереть. В город, где она умрет.
Лос-Анджелес, отель «Беверли Хиллз» 1 июня 1961 года
В послеполуденные часы Андре де Динс работал в своем саду и вдруг вспомнил, что сегодня день рождения Мэрилин. Не имея представления о том, где она находится, он зашел в дом, снял трубку и спросил в справочном бюро номер отеля «Беверли Хиллз». Когда он попросил на коммутаторе дать номер Мэрилин Монро, его сразу же соединили. Он запел в трубку «С днем рождения тебя». Мэрилин узнала его голос и, придя в восторг, сразу же пригласила его к себе. Она жила одна в бунгало № 10. Он обрадовался, как ребенок долгожданному подарку. «Скоро выходные — может, мне удастся убедить ее провести несколько дней со мной!» — подумал де Динс. Когда он пришел, Мэрилин казалась очень веселой и вынула из маленького холодильника черную икру и две бутылки шампанского. Они долго разговаривали о том о сем. Вдруг беседа окрасилась в мрачные тона. Мэрилин чувствовала себя несчастной — ей казалось, что ее эксплуатирует «Фокс» — и хотела вернуться в Нью-Йорк.
Де Дине стал расспрашивать:
— Почему ты так часто заставляла съемочные группы, в которых были сотни людей, ждать, когда ты наконец удостоишь их своим появлением? Разве ты не понимаешь, что каждый час опоздания обходится студии в тысячи долларов? Когда мы вместе путешествовали в 1945 году, ты всегда поднималась на рассвете и рано утром уже была накрашена и причесана… Как ты могла заставлять ждать целую съемочную группу день за днем? Что это за капризы? Со мной ты не была такой.
— Андре, — ответила Мэрилин грустным голоском, — часто я ничего не могу с этим поделать. Я слишком обессилена, чтобы вставать. Помнишь, как мне было плохо у тебя в машине в те долгие часы дороги, когда мы путешествовали вдоль западного побережья? Ты вел машину без остановки, днем и ночью, а мне ужасно хотелось спать. Во время съемок я чувствовала себя так же, я страшно уставала и нуждалась в отдыхе. Иногда, если я встречалась с кем-нибудь из друзей и мы выпивали лишнего, мои ночи становились слишком короткими и приятными, чтобы отправляться на работу так рано. Это естественно, разве нет? Я просто падала от утомления, вся эта работа стала слишком тяжелой для меня. Теперь студия насмехается надо мной, открыто заявляя, что я схожу с ума!
Чем дольше они разговаривали, тем более печальной и убитой она казалась. Мэрилин сидела очень прямо, среди обычных груд коробок и чемоданов, очаровательная и грустная. В эти короткие часы беседы она мало улыбалась, едва сдерживая слезы. Андре заметил разобранную постель в соседней комнате и стал обнимать ее.
— Может быть, если мы займемся любовью, тебе станет лучше.
— У меня недавно была операция. Держи себя в руках! Ты что, моей смерти хочешь? Прости меня, Андре, но мне нужно отдохнуть.
Она протянула ему пиджак, проводила до двери бунгало и пожелала спокойной ночи. Андре прошел метров десять, затем снял туфли и вернулся, проскользнув на цыпочках на веранду. Он притаился в душистой вечерней свежести, в нескольких метрах от окна ее спальни. Он хотел узнать, что она собирается делать: не готовится ли выйти, не ждет ли кого-нибудь? Она действительно погасила свет и легла спать. Ветерок развевал нейлоновые занавески в открытых окнах. В сумерках они были похожи на призраков. Спасаясь от этого видения, де Динс ушел с террасы, на этот раз окончательно.
На следующий день он отправился в Беверли Хиллз, купил для Мэрилин цветы и красивую итальянскую вазу из керамики, наполнил ее апельсинами и приложил к подарку записку с извинениями за то, что он хотел заняться с ней любовью. Он дал щедрые чаевые груму в отеле, чтобы он передал подарок Мэрилин в собственные руки. Де Дине узнал, что она получила его, потому что на следующий день нашел один из цветков на коврике перед дверью. Мэрилин также положила под дверь конверт со своими фотографиями, снятыми в студии. Она, вероятно, зашла к нему по дороге в аэропорт.
Год спустя де Динс просматривал серию неизданных фотографий Мэрилин без макияжа, которые он сделал в 1946 году. Он собирался поместить их в журнале «Лайф» под названием «Кто это?», уверенный, что никто ее не узнает. Вдруг, сам не понимая почему, он решил взять лопату и порыться в саду, надеясь найти другие негативы Мэрилин. Когда он перебирал комья земли, его стали преследовать мрачные мысли: ему казалось, что он роет могилу. Все бумаги полностью истлели, но негативы защитили друг друга от влажности, и, к своему великому удивлению, он обнаружил несколько почти неповрежденных снимков Мэрилин. На одном она смотрела прямо на солнце со скорбным выражением лица. Когда он делал эту фотографию, она сказала: «Андре, я смотрю на свою могилу». На другом снимке она лежала на спине с закрытыми глазами, изображая мертвую. Когда Андре готовил эту серию фотографий и нашел те, что были связаны со смертью, он не знал, что Мэрилин в то время переживает самый черный период своей жизни. Он был так увлечен своей работой, что у него не было времени читать газеты и следить за перипетиями съемок фильма «Что-то должно рухнуть».
Несколько недель спустя, когда он продолжал работать над фотографиями, ему стали сниться кошмары. Он видел гроб своей матери под кроватью. В этих снах регулярно появлялась Мэрилин. Всплывали давние воспоминания. Когда-то его звали не Андре де Динс. Во всяком случае, Мэрилин его так не звала. Она прозвала его WW — Worry Wart («беспокойная бородавка»). Она так окрестила его, потому что он обо всем беспокоился. Каждый раз, когда Мэрилин называла его WW вместо Андре, она смеялась: буквы WW представляли собой ее перевернутые инициалы — ММ. Он называл ее «индюшачья ножка», потому что во время фотосессий в горах ее руки часто синели от холода.
Однажды июльским утром, проснувшись от страха после очередного тревожного сна, Андре решил сейчас же пойти на ближайшую почту, на Сансет-бульвар. Он не знал, где живет Мэрилин, и послал ей телеграмму на адрес студии, в которой она снималась. «Индюшачья ножка, ночью мне приснился плохой сон про тебя. Позвони мне. Целую. WW». В ответ он не получил ни письма, ни звонка.
Вечером 4 августа 1962 года де Динс пошел в кино. Когда он вернулся и достал ключи у входной двери, он услышал, что в доме звонит телефон. Он бросился к аппарату, но опоздал. Много времени спустя он все еще думал, что это Мэрилин пыталась связаться с ним, возможно сама не сознавая этого: когда ты пьян или под кайфом, никогда не знаешь, кому захочется позвонить. Никому не известно, сколько раз она звонила в такие ночи и кому. На следующий день, когда Андре брился, он услышал по радио, что Мэрилин умерла ночью. В первые минуты он стоял, как оглушенный, в шоке. Позже, разглядывая ее фотографии, разложенные на рабочем столе, он немного успокоился. Он рассматривал первый снимок улыбающейся Нормы Джин, затем следующие, на которых она казалась более серьезной, и, наконец, последнюю серию, где она изображала мертвую. Он несколько недель готовил эти фотографии. Как будто заранее знал, что произойдет.
Двадцать лет спустя, ведя затворническую жизнь в домике в Бока, на Кэнон Лайн, Андре де Динс перебирал свои воспоминания. Как-то раз он устроил Мэрилин сцену; она испортила ему жизнь — если бы он не имел глупость в нее влюбиться, то до сих пор был бы успешным фотографом. Она в свою очередь рассердилась: «Кто тебя просил в меня влюбляться? Я хотела стать актрисой! Не твоей служанкой и не твоей шлюхой!» Сцена переросла в ожесточенную ссору. Мэрилин оделась и убежала. Он не успел сесть в автомобиль, нагнать ее и подвезти — Мэрилин исчезла.
Тридцать шесть лет прошли с начала этой любви — столько же, сколько продлилась ее короткая жизнь. Сейчас Мэрилин исполнилось бы пятьдесят шесть лет. «Настал бы конец нашей истории, — думал Андре. — Конец? Не знаю. На самом деле она так и не кончилась или была целым рядом окончаний. В моей памяти сохранилась наша последняя встреча, но за эти семнадцать лет, когда нам не удалось полностью потерять друг друга из вида, у каждой встречи был привкус прощания».
Андре де Динс умер в 1985 году в своем доме на холмах, на Сансет-бульвар. За десять лет до смерти он почти перестал фотографировать. Он жил в своей темной комнате, печатая и перепечатывая негативы. Большинство негативов Мэрилин, упомянутых в инвентарном списке, после его смерти найти не удалось. Он был похоронен в нескольких шагах от склепа Мэрилин, на кладбище Вествуд Виллидж, Уилшир-бульвар.
Санта-Моника, Франклин-стрит 1 июня 1961 года
В мае Мэрилин переехала в другой квартал Лос-Анджелеса, 882, Норт Догени-драйв, рядом с Ранчо-парком, неподалеку от студии «Фокс». Она не стала обставлять эту квартиру. Только стопка книг, кофр с косметикой, несколько вешалок с одеждой. Ни одной фотографии, ни одного сувенира. Ничего, что напоминало бы о кино. Голливуд, город образов, отнял ее у Нью-Йорка, города слов. Она не хотела больше говорить. Она хотела спрятаться от слов и картинок. Ей нужно было место, чтобы спать, наглотавшись нембутала, между двумя посещениями Гринсона, к которому она являлась каждый день к четырем часам за словами и молчанием, или Хаймена Энгельберга, от которого ей нужны были пилюли и инъекции. Она попросила Ральфа Робертса, своего массажиста и шофера, завесить окна квартиры шторами, преграждавшими доступ дневному свету.
Именно он несколько месяцев назад привез Мэрилин в машине после ее выхода из клиника Пейн Уитни. Она добилась от продюсеров, чтобы в фильме «Неприкаянные» Робертса взяли на роль водителя машины «скорой помощи». Как-то вечером она села в побитую «понтиак файрберд» Робертса и поехала в Уилшир, в придорожную закусочную. Она заказала ужин и, когда через несколько минут получила сверток, увидела, что ей по ошибке дали детский «Хэппи Мил». Она открыта яркую коробку-сюрприз и обнаружила фигурку для сборки — куколку-блондинку, неутомимо кружащуюся на карусели, пленницу бесконечного повторения. Она услышала, как голос официантки протрещал в громкоговорителе: «Следующий клиент. Что будете заказывать?»
В два часа ночи, ворочаясь в постели, в погоне за сном, она повторяла фразы, как будто вновь и вновь проплывающие у нее перед глазами: «Карусель кружится, карусель кружится. Слова найти нелегко. Карусель кружится, я снова и снова пропускаю свой шанс».
Первого июня она послала психоаналитику телеграмму, в которой сообщала ему о своем дне рождения, как люди иногда делают подарок сами себе, боясь, что другие забудут их в этот день. «Дорогой доктор Гринсон, я довольна, что вы существуете в этом мире людей, я чувствую надежду, хотя сегодня мне исполнилось тридцать пять».
Мэрилин возобновила отношения с Фрэнком Синатрой, которого встретила на вечеринке по случаю дня рождения Дина Мартина неделю спустя в Лас-Вегасе. Он останется ее любовником до начала 1962 года.
В конце месяца Мэрилин вернулась в Нью-Йорк, на операцию по удалению желчных камней — вторая госпитализация за пять месяцев. Она писала Гринсону: «На балконе моей комнаты, находясь с доктором, который меня оперировал, я посмотрела на звезды и сказала: «Они такие яркие и такие одинокие. Наш мир — это мир видимости»».
Когда самая знаменитая женщина в мире вышла через двенадцать дней из клиники на Пятидесятой Западной улице, ее окружила толпа фотографов. Они осаждали Мэрилин вопросами, выпрашивали автографы, пытались дотронуться до ее кожи, ее одежды. Она испугалась. В эти несколько минут ей показалось, что ее разрывают на части.
Она знала, она чувствовала эти крики — фотографы называют их «волчий вой». Ей нравилось, когда ее ценят, любят или хотя бы притворяются, но сейчас это было нечто другое — ее пожирали. От этого кошмара ей было трудно спастись. Мэрилин захотелось даже, чтобы ее отвезли к доктору Крис, но с ней она не смогла бы общаться после истории с сумасшедшим домом.
Лето шло, но Гринсон никак не решался уехать в отпуск. Теперь он встречался с Мэрилин семь дней в неделю и брал с нее плату по льготному тарифу — 50 долларов за сеанс. Он написал Крис: «Меня пугает пустота ее жизни в том, что касается объектных связей. Личность ее в своей основе нарциссическая. Мы с горем пополам продвигаемся вперед, но я не могу с уверенностью утверждать ни о глубине расстройства психики, ни о его продолжительности. В клиническом плане я выделил две проблемы: ее граничащий с одержимостью страх гомосексуальности и ее неспособность переносить психические травмы. Она не переносит ни малейшего намека на факты гомосексуальности. Пэт Ньюкомб осветлила себе пряди волос, покрасив их в цвет волос Мэрилин. Монро сразу же сделала вывод, что эта женщина хочет ею овладеть, и ее охватил настоящий гнев…»
Что касается отношения Мэрилин с мужчинами, Гринсона начала пугать ее растущая склонность к случайным встречам. Однажды она сказала ему, что переспала с одним из рабочих, которые делали ремонт в ее квартире. Инспектор окружного прокурора Лос-Анджелеса сообщил ему, что застиг Мэрилин, когда она занималась любовью с каким-то мужчиной в темном коридоре кинотеатра. В отчете, который психоаналитик сделал Анне Фрейд, говорится о «страхе перед мужчинами, замаскированном потребностью в обольщении, который заставляет ее отдаваться буквально первому встречному и любому желающему».
Отныне Гринсон считает Мэрилин потерянной для психоанализа. На самом деле она потерялась в своем психоанализе. Как утопающий, который тянет своего спасателя на дно, она затягивала терапевта все дальше и дальше вниз, в темноту и пустоту. Она обижалась на любой признак раздражения с его стороны и не могла принять никакого несовершенства в людях, которых идеализировала. «Она не могла успокоиться, пока мир не был восстановлен, — писал Гринсон Анне Фрейд. — Теперь я с ней импровизирую. Она действительно очень-очень больна. Я не вижу никакого решения, способного принести Мэрилин покой, к которому она так стремится». Ее неспособность переносить то, что она воспринимала как оскорбления, и ее ненормальный страх гомосексуальности стали, как он сказал позднее, «решающими факторами, повлекшими за собой ее смерть».
Друзья Мэрилин, Аллен Снайдер, Ральф Робертс, Паула Страсберг и Пэт Ньюкомб, стали замечать, что психоанализ приобрел слишком большую власть над ее жизнью. «Гринсон не твой ангел-спаситель, он стал твоей тенью — или, скорее, ты стала его тенью», — сказала ей Пэт. Робертс расскажет впоследствии, что в то время психиатр не только не помогал Мэрилин отвыкнуть от лекарств, но и позволял ей принимать три миллиграмма нембутала в день и сам давал его ей. Много лет спустя Снайдер рассказывал: «Мне никогда не нравились ни Гринсон, ни та роль, которую он играл в жизни Мэрилин. Он не приносил ей пользы. Он давал ей все, что она просила, накачивал ее неизвестно какими наркотиками. В его отношениях с пациенткой было что-то нездоровое, что-то, связанное с деньгами. С деньгами», — подчеркивал он. Снайдер нашел подтверждение этому, когда обнаружил, что Гринсон постоянно фигурировал в ведомостях выплаты заработной платы «Фокс».
Каждому из четырех психоаналитиков Монро приходилось являться на съемки, чтобы поддерживать ее с помощью психотерапии и приводить в рабочее состояние: Маргарет Хохенберг — на съемках фильма «Автобусная остановка»; Анна Фрейд — «Принц и хористка»; Марианна Крис — «Некоторые любят погорячее»; Гринсон — «Давай займемся любовью», «Неприкаянные» и «Что-то должно рухнуть». Мэрилин говорила своим друзьям, что любит подчиняться. Главное — чтобы кто-то руководил ей, говорил, что надо делать. Она добавляла, что согласилась бы даже на то, чтобы психоаналитик говорил ей, кем ей быть.
Лос-Анджелес, Уилшир-бульвар осень 1961 года
Мэрилин разлюбила автомобили, ей больше не хотелось иметь свою машину. Она продала черный «кадиллак» с откидным верхом и сиденьями из красной кожи, подарила черную «тандерберд» Страсбергу, отказалась от белого «кадиллака», который был взят напрокат для съемок «Неприкаянных». Мэрилин попросила Ральфа Робертса отвезти ее к океану. В Уилшире она увидела маленькие домики, беспорядочно рассеянные вокруг. Что-то фальшивое исходило от этого странного места, от этих безликих зданий. Она вспомнила о том, как в первый раз пришла в студию «Фокс» на пробы цветной съемки. Мэрилин осмотрела декорации — улицы и площади, представлявшие все широты и все эпохи, — с виду они казались такими прочными. С трудом убедила себя в нереальности фасадов, с оборотной стороны которых выступал каркас из досок и штукатурки. Все вместе создавало путаницу времени, пространство яркого и правдоподобного сна. Здесь иллюзия была противоположной. Мэрилин подумала, что нужно иметь много фантазии, чтобы поверить в то, что эти декорации из папье-маше — настоящие дома, в которых настоящие люди борются с любовью, жестокостью, властью. На тротуарах не было никого. «В этом городе никто не ходит пешком, кроме меня», — подумала она.
Мэрилин остановила автомобиль и пошла дальше пешком наугад. Свернув налево, к Пико, она некоторое время смотрела с моста, как на скоростной автостраде Санта-Моника машины двигаются в розовом вечернем свете, как вереницы усталых зверей. Словно образы во сне, она угадывала полосы белых фар: пустые, ни на что не смотрящие глаза. Когда сумерки сгустились, она заметила мужчину, стоящего рядом с автозаправочной станцией. Мэрилин прошла мимо него. Хотя она была в черном парике, мужчина, совсем молодой, узнал ее. Ему было бы трудно представить себе Мэрилин Монро, читавшую Достоевского, Мэрилин, которая уже много лет любила беседовать с поэтом и писателем Карлом Сэндбергом и посещала курс литературоведения в Калифорнийском университете, — она была безумно красива и, общаясь с ней, мужчины попадали в узкий промежуток между желанием и безумием. Она была всего лишь телом. Телом, в которое хотелось проникнуть, с надеждой ускользнуть от души, обитавшей в нем.
Мужчина посадил ее в своей коричневый «олдсмобиль» и привез в зеленый одноэтажный домик с облупившейся краской в двух кварталах от пляжа, на улице Венис Бич. Суперба-авеню? Санта-Клара? Милквуд? Сан-Хуан? Какая разница. Хотя нет, надо будет запомнить, ведь завтра она расскажет об этом доктору. «Самое главное — это детали, имена, названия…» А потом, в Венеции ведь была похоронена мать ее матери, Дэлла, которая пыталась задушить ее подушкой, когда она была совсем маленькой. Мэрилин рассказала эту историю своему спасителю. Он даже придумал игру слов: «mother» (мать) — «smother» (душить).
Затем Мэрилин попросила мужчину взять ее сзади, действительно сзади, уточнила она. Он удивился, но увидел в этом дар, ее подарок ему. Она отдавала ему самую интимную часть своего существа, самую тайную часть себя самой. Она легла на живот. Он смазал себя гелем, который она протянула ему, и проник в нее, неподвижную и обжигающую, ненадолго, но сильно и даже с какой-то враждебностью. Откинув рукой волосы, закрывшие ее лицо с левой стороны, он увидел, как она сжимает в правом кулаке утолок смятой простыни, словно мягкую игрушку, как что-то нежное, теплое и душистое. Она мягко потирала ею свой подбородок. Он спросил ее: «Тебе приятно, ты меня чувствуешь?» А потом: «Скажи, я не делаю тебе больно? Хочешь, чтобы я перестал?» Она не ответила ни на один из вопросов и просто молча продолжала тереть простыней губы. Ему пришлось выйти, опечаленному ее печалью. Они расстались, бормоча неловкие благодарности.
На следующий день она рассказала об этом Гринсону.
— Я вижу в вашем рассказе сновидение; это как будто бы не было пережито в действительности. Вы были там, но в то же время это были не вы. На самом деле вы пытались освободиться от власти этого мужчины. Простыня — это то, что мы называем «переходным объектом». У всех нас есть переходные объекты. Больше всего поражает то, как вы все время возвращаетесь к самой себе, словно по кругу. Вы как будто говорили этому мужчине: «Тебе не достанутся мои губы, ты не услышишь мой голос. Ты можешь врываться в мой анус сколько хочешь — это как будто уже не часть меня». Вы знаете, в отличие от рта, который для нас связан с голосом и личностью, анус связан со стыдом, потерей власти над собой, разрушением, ранимостью.
Мэрилин ничего не ответила. Она почувствовала, как по щеке ее скатилось несколько слезинок, и не стала их вытирать.
Санта-Моника, Франклин-стрит июнь 1961 года
По мере того как психоанализ двигался вперед и «перенос» становился интенсивным и хаотичным, Мэрилин все больше сближалась с семьей Гринсона. Она всегда держала у своего психоаналитика охлажденную бутылку шампанского «Дом Периньон», чтобы выпить бокал в конце сеанса. Мэрилин регулярно оставалась ужинать с семьей и не отказывалась мыть посуду. Она обожала кухню в мексиканском стиле, в которой собиралась семья, гостиную с облицованными панелями стенами, полками с книгами и произведениями искусства. С балкона ей были видны сад, бассейн и странное дерево, под которым стояла двухметровая полинезийская статуя божества с широкой улыбкой, словно смеющегося над посетителями.
После двадцати пяти лет брака Ральф и Хильди остались верны друг другу и замечательно ладили со своими детьми. Гринсон говорил, что он — бруклинский еврей, женившийся на порядочной швейцарской девушке. Он называл ее «женщина, которая сделала возможным все», а она видела в нем то, чего не хватало ей самой; организованность, в отличие от ее склонности к беспорядку, открытость и гостеприимство, уравновешивающие ее робкую сдержанность.
Джоан исполнился двадцать один год, и она училась в Университете искусств Отис. Она с детства привыкла держаться подальше от пациентов, и ее участие в лечении Мэрилин стало нововведением, которому она обрадовалась, хоть и не понимала его причин. Когда звезда являлась в дом, Джоан ждала ее перед дверью, и Гринсон, часто задерживавшийся после своей лекции в университете, иногда просил дочь погулять с ней. Бывало, Джоан и Мэрилин до или после сеанса прогуливались к водохранилищу, находящемуся неподалеку от виллы. Мэрилин научила Джоан танцевать и краситься, выглядеть более сексуальной. Сын Дэнни, которому было 24 года, изучал медицину в Калифорнийском университете; он все еще жил вместе с родителями и также подружился с Мэрилин. Дэнни был крайне левым активистом, боролся против войны во Вьетнаме и рассуждал с вечерней гостьей о политике. Дети Гринсона понимали, что их отец ведет себя странно для ортодоксального фрейдиста, но он убедил их, что традиционная терапия не была бы эффективна и Мэрилин очень нужен пример крепкой семьи, чтобы суметь в свою очередь создать такую же. Еще он говорил с ними о том, какой очаровательной и ранимой она ему кажется, о том, что только он один может ее спасти. Аналитик надеялся таким образом подарить своей пациентке теплоту и любовь счастливой семьи. Он хотел возместить то, чего ей так недоставало в детстве, устранить ее одиночество. Но, принимая ее в своем доме, он сам старался сделаться реальным в ее глазах, представляясь таким же простым человеком, как и все остальные. Он считал, что пациентки должны видеть, что у аналитика есть эмоции и слабости, но он предоставляет им надежную и постоянную модель, несмотря на собственную уязвимость. Гринсон старался заставить их признать, что человек несовершенен и должен научиться жить в состоянии неопределенности.
Хотя Гринсон часто задавался вопросом, до чего это дойдет — лечение любовью в переносе, — это неортодоксальное и очень спорное решение включить Мэрилин в жизнь исцеляющей семьи было обдуманным. За год до того он сделал открытие. Разочарованный лечением молодой больной шизофренией, чувствуя сильную вину в связи с полным врачебным провалом, он попросил Анну Фрейд приехать из Англии в качестве консультантки. Она отказалась. Случай представлялся безнадежным, но вот, практически случайно, психоаналитик попросил Джоан отвезти эту пациентку домой. Реакция больной была неожиданной. Болтая с Джоан в ее машине, она вдруг стала вести себя совсем как здоровая девушка. После этого Гринсон стал регулярно просить дочь подвозить ее. Улучшения исчезали, как только пациентка расставалась с Джоан, но состояние больной впервые значительно улучшилось именно тогда, когда Гринсон отнесся к ней, как к члену семьи.
Как-то раз, июльским вечером, Гринсоны устроили прием по случаю дня рождения их дочери. Мэрилин помогла им подготовиться к празднику и пришла на вечеринку. Когда она появилась, после первых минут изумления несколько юношей станцевали с ней, и вскоре все выстроились в очередь. Другим девушкам совсем не досталось кавалеров; никто не танцевал теперь даже с чернокожей красавицей, которая была королевой вечеринки до прихода Мэрилин. Монро заметила это и обратилась к ней: «Ты знаешь танцевальное па, которому я мечтаю научиться. Научишь меня?» Она повернулась к другим и воскликнула; «Остановитесь на минутку, она научит меня новому танцу». На самом деле Мэрилин знала этот танец, но она позволила девушке показать его, стараясь переключить внимание окружающих. «Она сразу замечала, когда кому-то рядом становилось одиноко», — скажет Гринсон, растроганный этой сценой.
Санта-Моника, Франклин-стрит конец июля 1961 года
После восемнадцати месяцев лечения психоаналитик счел, что Мэрилин достигла решающего этапа. Он спросил ее, почему ей трудно произносить свои реплики по сценарию. Она рассказала, что ее очень обидело высказывание одного критика о ее игре в кино: «На самом деле Мэрилин — актриса немого кино, заблудившаяся на экранах кино звукового». Она считала, что это правда, что ее лицо выражает то, что словами не выскажешь.
— Почему вы заикаетесь на съемочной площадке, но не в жизни, не здесь, например? — спросил Гринсон.
— От страха.
— Чего вы боитесь? Что вас не услышат или что вас услышат?
— Вы все усложняете. Я боюсь слов. Как будто мои губы не хотят их выпускать.
— Да, язык разделяет людей. Слово высказанное — слово потерянное. Так, значит, вы заикаетесь, закрываете рот на первых же слогах. Вы тоже не можете расстаться с речью.
— Это мне кое-что напоминает. В детстве, когда я заикалась, мне особенно трудно давались М. Я была необыкновенно робкой. Но меня не смущало, когда на меня смотрели, и даже я часто видела во сне, что меня видят совсем голой.
При этом я всегда считала, что лучше молчать. По крайней мере, меня не смогут упрекнуть в том, что я сказала что-то нехорошее. Я помню. В средней школе имени Эмерсона, в Ван Нуйс, лет в тринадцать-четырнадцать я была старостой класса, и мне приходилось открывать классные собрания словами: «M-m-minutes of the last m-m-meeting». Я заикалась как сумасшедшая. Потом меня прозвали в школе «мисс МММ» И знаете что? Когда Бен Лайон выбрал как псевдоним Мэрилин Монро, моими инициалами стали именно те буквы, которые мне было труднее всего выговаривать. И в первый раз, когда я оказалась перед камерой в фильме «Девушка в каноэ», моим первым словом на пленке стало М-м-м. Им пришлось вырезать эту часть, и в фильме я получилась немой… Мне всегда было трудно со словами, — продолжала она, помолчав. — Мне было трудно заучивать реплики и говорить их. Это продлилось некоторое время после моих актерских дебютов. Теперь я научилась избавляться от заикания. Я мурлычу. Я сделала из своего страха оружие, ловушку для мужчин.
— М — это также буква матери. Вы знаете, в большинстве европейских языков, которые я знаю, слово «мать» начинается с буквы М. Детские психоаналитики Анна Фрейд и Дороти Берлингем обнаружили, что дети, которые воспитывались вдали от матери, испытывали трудности с развитием речи.
— Я знаю Анну Фрейд, она анализировала меня до вас, вы не знали?
— Этот звук мм… в нем есть аутоэротизм, — продолжал Гринсон, раздраженный тем, что его перебили. — Вероятно, этим объясняется то, что слово «мне» также начинается с М.
Мэрилин не знала, что сказать. Она спрятала лицо, до того повернутое к психоаналитику, и сложила руки на груди.
Декабрь 1953 года. Ральф Гринсон приехал в Нью-Йорк на собрание Американской психоаналитической ассоциации, которое проводится два раза в год. За семь лет до встречи с Мэрилин он прочел доклад под названием: «О звуке М». Он написал такие строки: «Звук М-м…, когда его мурлычут или напевают, позволяет вновь пережить опыт, воспоминание или фантазию удовольствия, испытанного возле материнской груди. Это эхо мурлыканья без слов, которое издает мать, когда кормит или укачивает своего ребенка. То, что звук М-м произносится с сомкнутыми губами, указывает на то, что это единственный звук, который можно издавать и повторять, держа во рту что-то драгоценное. Это звук, который издают, когда сосут грудь или когда ждут этого».
Редактируя за год до своей смерти статью 1949 года о «Родном языке и матери», Гринсон возвращается к необходимости некоторых методов лечения, а именно разговора с пациентом на его собственном языке, и в сноске внизу страницы добавляет: «Когда во время анализа возникает ситуация тупика, надо рассмотреть возможность того, что пациенту и аналитику не удается общаться на одном языке. Например, я не пошлю девушку, которая родилась в Бруклине и стала актрисой Голливуда, к претенциозному и интеллектуальному психоаналитику, приехавшему из Центральной Европы. Они будут говорить на разных языках». Возможно, тупик, в который он зашел при анализе Мэрилин, объяснялся не отсутствием общего языка, а тем, что тот и другая в каком-то смысле обменялись родными языками. В то время как он заманивал ее в психоаналитическую речь, она заставляла его погрузиться в образы кино.
Параллельно с сеансами Мэрилин продолжала запасаться различными успокаивающими средствами, которые получала у Энгельберта. Хотя Гринсон часто сталкивался с заболеваниями такого типа у своих клиентов — людей кино, — он не смог правильно оценить глубину и давность зависимости Мэрилин. Она начала принимать наркотические препараты еще во время первых проб в фильмах, в восемнадцать лет, после этого увеличила дозы и разнообразила диапазон — барбитураты, снотворные, амфетамины. Ни Гринсону, ни Энгельберту, ни впоследствии Уэкслеру не удалось отучить ее от лекарств. Джон Хьюстон скажет, когда она умрет: «Ее убил не Голливуд. Ее убили эти сволочи-врачи. Она сошла с ума от таблеток. Ее подсадили на пилюли».
Гринсон ни разу не рискнул поставить настоящий диагноз по поводу случая Мэрилин, которую лечил в течение тридцати месяцев. Он начал с того, что записал симптомы паранойи и депрессивной реакции. Коллеги из Психоаналитического общества Лос-Анджелеса пожимали плечами: «Он не понимает, что если пытаться лечить ее, принимая в семью, у нее всего лишь вновь оказывается перед глазами все то, чего у нее никогда не было, — семейный очаг; и то, чем она никогда не станет, — любимой дочерью своих родителей», — сказал один из них. Но все же, обмениваясь с ними своими наблюдениями за Мэрилин, Гринсон немного беспокоился.
— Разве я сейчас не нарушаю правила, не перехожу границы? — спросил он Уэкслера. — Этот случай для тебя. Я обнаружил признаки шизофрении. У нее было ужасное детство; не знаю, фантазии это или реальность, но она рассказывает о сексуальных злоупотреблениях, которые над ней совершались. (Единственное, в чем он был действительно уверен, так это в том, что имел дело с хрупкой психикой Мэрилин, которая может разрушиться в любой момент.) Я поступил так же, как с нашими шизофрениками: попытался выдвинуть на первый план потребности и психическую работу моей пациентки, а на второй — мои личные цели как терапевта. Я хотел дать ее словам и чувствам войти в меня. Мне следовало бы стать более прозрачным, ты так не думаешь?
— Нет, — ответил Уэкслер. — Наоборот, иди дальше по этому неортодоксальному пути. Нелепо считать, что психотерапевт, который молча сидит за спиной пациента, — это не личность, а экран, на который все проецируется. Не думаю, что пациенту понадобится много времени, чтобы понять, умный я или глупый. Если он обзовет меня сукиным сыном, не думаю, что в ответ на это можно просто сказать себе: это обращено к его отцу, а не ко мне. Может, я и вправду сукин сын. И еще, когда лично я ужинаю с пациентами, они все понимают, какой я человек. Идея, что нельзя иметь настоящих отношений с пациентами вне кабинета, мне представляется неразумной, несправедливой и просто глупой.
— А тело пациента? Как ты думаешь, дотронуться до него — значит перейти границу? — спросил Гринсон, поглаживая пальцем усы.
— Не будем снова начинать эти бесконечные споры, как в институте, где наши коллеги дискутируют о том, не нарушаем ли мы правила, когда протягиваем разрыдавшемуся больному бумажный платок. Многие аналитики отвечают, что нарушаем, потому что это якобы препятствует переносу… Если бы люди знали, насколько их аналитики сами невротичны, если бы они могли хоть одним глазком увидеть, что творится в институтах психоанализа, они бы отказались от психоаналитического лечения. Это парадоксально, но те психоаналитики, которые, как я, не имеют медицинского образования, гораздо меньше боятся тела — как своего, так и пациента.
Через некоторое время после смерти их общей пациентки Мильтон Уэкслер и Ральф Гринсон рассматривали проект разработки для Фонда исследований в области психоанализа Беверли Хиллз и книгу, в которой говорилось бы о неудачах психоанализа. Эта книга так и не была написана.
Санта-Моника, Франклин-стрит сентябрь 1961 года
В первые дни сентября 1961 года, придя на сеанс, Мэрилин увидела своего психоаналитика в бассейне — он сидел в маленькой лодочке. Гринсон любил сидеть так целыми часами. Он называл свой бассейн «озеро Гринсона». Мягкое, усыпляющее покачивание успокаивало его. Воздух был насыщен ароматом роз и камелий. Он читал, размышлял. Иногда курил сигару. Двадцатого сентября ему исполнилось пятьдесят лет. Поворотный момент жизни, признался он Анне Фрейд. Он чувствует себя «не более старым, а более мудрым». Шесть лет назад сердечный приступ заставил его остро осознать свою смертность. Он понимал ценность времени и надеялся сосредоточиться на собственной творческой работе.
Гринсон вплотную занялся своей книгой о технике и практике психоанализа и только что написал сто страниц, посвященных сопротивлению. Он собирался начать главу о переносе, череде оговорок и непониманий, позволяющих достичь сознания пациента. Он предвидел, что эта глава может стать еще длиннее, чем предыдущая. Гринсон хотел закончить эту книгу до конца года, если этому не помешают пациенты и слишком насыщенные рабочие дни; вскоре ему предстояло побеседовать о ней с издателем с восточного побережья. Он решил уйти со своего поста декана института и ограничить профессиональную деятельность. Гринсон даже отказался от поездки на конгресс Американской психоаналитической ассоциации, хотя так любил блистать на этих мероприятиях.
От Мэрилин ему также хотелось бы отдалиться, но он видел, что она одна в целом мире, и признавал свою слабость к женщинам в бедственном положении. Он все еще надеялся, что сможет обуздать силы смерти, действующие в ней, и понять процесс, ее разрушающий. Но в то же время он испытывал к ней все более двойственные чувства, считая, что она проявляет исключительную требовательность, претендуя на все его время и эмоции, и что она слишком больна для проведения классического психоанализа.
В первые дни октября Мэрилин познакомилась на званом ужине с младшим братом президента, Робертом Кеннеди, министром юстиции, который приехал в Лос-Анджелес на официальное собрание. Когда она готовилась к этому вечеру, Гринсон дал ей точные указания насчет одежды. Она хотела надеть длинное черное платье, которое подчеркнуло бы бледность ее кожи. Это платье имело стратегическое значение: Мэрилин хотелось, чтобы как можно лучше была видна ее грудь. Это было именно то саморазрушительное поведение, от которого он хотел ее оградить. Ужин состоялся у Питера Лоуфорда, который женился на одной из сестер Кеннеди. Во время банкета Мэрилин много пила, и становилось все яснее, что она не сможет вернуться домой одна. Боб Кеннеди и его пресс-атташе предложили подвезти ее в ее маленькую квартирку на Догени-драйв.
Десять дней спустя компания «Фокс» объявила Монро, что она должна сняться в фильме «Что-то должно рухнуть». Она была уверена, что Кьюкор презирает ее и что вскоре проявится та часть ее самой, которая ненавидит кино и хочет прекратить съемки; она стала угрожать самоубийством. Гринсон, считая, что она способна выполнить свои угрозы, принял решение о новой попытке излечения от наркомании, на этот раз на дому, так как он помнил об эпизоде в клинике Пейн Уитни. Больницей Мэрилин стала ее собственная гостиная с тяжелыми синими занавесками тройной толщины. Психоаналитик добился от «Фокс» солидной ставки и должности специального консультанта Мэрилин Монро и технического консультанта готовящегося фильма.
— Вы знаете, — сказала она Гринсону, который пришел вечером к ней, — я нашла мое определение смерти. Тело, от которого надо избавиться. Когда человек умирает, оставшиеся в живых только об этом и думают. Как мужчины, когда они идут за вами по улице. Секс — часто тоже тело, от которого надо избавиться. Лишнее тело, от которого они надеются избавиться, совершив небольшую прогулку внутрь. В Нью-Йорке во время моего первого психоанализа с венгеркой я составила завещание. Я заранее составила эпитафию: «Мэрилин Монро, блондинка: 94–53–89». — С приглушенным смешком она добавила: — Думаю, что оставлю ее, разве что внесу новые мерки.
Вернувшись в Санта-Монику, психоаналитик попытался понять, что вызывают в нем самом сексуальные рассказы и позы Мэрилин. Отвращение и даже грусть. Когда он сидел напротив нее, до него доходил тошнотворный запах перекиси водорода от ее обесцвеченных волос, и ему совершенно не хотелось коснуться их рукой или губами. Этот запах он чуял всегда. Гринсону не нравился этот тип женщины. Он предпочитал стройных брюнеток и находил Мэрилин слишком ребячливой и слишком американкой. Когда он принимал Монро, ее тело всегда вызывало в нем восхищение, но не желание. Он находил его красивым, секси, но не сексуальным.
Он пытался понять, почему он ее не желает и даже не смотрит больше на нее. Слову придают форму согласные, подумал он, а не гласные. Фразе придают форму и линию союзы, синтаксис, а не слова, собранные в ней. Тело чем-то похоже на фразу. Плоть, формы еще не вызывают желания взять — надо, чтобы в теле угадывались структура, кости, суставы. Форма. Мэрилин словно состояла из одной плоти. Когда он видел, как она несет свое тело, как предмет, и усаживает его в кресло, словно говоря: «Хочешь?», — он чувствовал не страх, превращающийся в желание, а отвращение.
Беркли, Калифорния 5–27 октября 1961 года
По просьбе радиостанции KPFA-FM Ральф Гринсон прочел в октябре две лекции о «различных формах любви». Он говорил, что Америка и американцы пренебрегают любовью, предпочитая стремиться к успеху, славе и власти: «Все хотят быть любимыми, но мало кто может и хочет любить. Любовь обычно путают с сексуальным удовлетворением или с успокоением напряжений и войн внутри пар». Телевизор он воспринимал как экран, который мешает нам встречаться с другими людьми, любить их или ненавидеть. «Для многих, — говорит он, — любовь — понятие странное, а для некоторых — извращенное. Любовь не является врожденной. Ребенок не рождается со способностью любить. Он все силы тратит на то, чтобы выжить, дышать и питаться. Многие взрослые остаются в этом состоянии — алкоголики, наркоманы, больные булимией или люди, пристрастившиеся к ощущениям риска. У них нет человека рядом — особого человека. Другой человек для них — всего лишь поставщик, который удовлетворяет их потребности, приглушая страдание и жажду».
Когда Гринсон вернулся домой после второй лекции, он вновь вспомнил о Мэрилин и о тех словах, которые приходили ему в голову каждый раз, когда он думал о ней: любовь без любви.
В последний год жизни Мэрилин ее отношения с психоаналитиком стали крайне эмоциональными. Гринсон понимал, что является для нее воплощением отца, который подвел ее, и предоставил Хильди выполнять роль матери. Он пытался осуществить фантазию Мэрилин о вновь обретенном домашнем очаге и убрать из ее жизни все, что может сделать больно. Она стала звонить ему по телефону в любое время дня и ночи, чтобы обсудить свои сны, тревоги и комплексы. Ее колебания насчет сценария и даже ее любовные свидания рассматривались как важные элементы лечения. Психоаналитик начал регулярно отменять встречи с другими пациентами в кабинете на Роксбери-драйв и спешил домой, чтобы встретиться с Мэрилин у себя. Он даже решил проводить некоторые сеансы, уложив пациентку на диван.
Мэрилин такие отношения представлялись и лестными, и приятными, а персонал студии задумался о том, что о паре Ральфа и Мэрилин можно написать хороший сценарий. Джон Хьюстон, относившийся к психоанализу и психоаналитикам весьма неоднозначно, хохотал над этой трагикомедией. «Это уже не «Принц и хористка», — говорил он, имея в виду английский костюмированный фильм Мэрилин, — это психоаналитик и его тень». Если бы Хьюстон не был бы так ленив, то мог бы сделать из этого фильм. «Хороший сценарий, — думал он. — Оба, сами того не ведая, служат друг для друга режиссерами. Каждый играет ту роль, которая ему не дается: он — артист, она — интеллектуалка. Каждый в итоге стал мечтой другого. До встречи и вне их отношений ни тот, ни другая не были безумны; вместе они теряют рассудок».
Гораздо позднее, в 1983 году, Хьюстон с большим удовольствием отомстил за нападки семьи Фрейда во время подготовки фильма «Фрейд, тайная страсть», сыграв в фильме «Любовь как болезнь» Маршалла Брикмана, именитого психоаналитика, который контролирует работу коллеги, и когда тот безумно влюбляется в пациентку, наставляет его на путь истинный.
Однажды в субботу, в конце ноября, Гринсон попросил Мэрилин прийти к нему на второй сеанс в тот же день. Он сухо велел ей отправить Ральфа Робертса, который ожидал ее в автомобиле перед дверью, обратно в Нью-Йорк, объяснив, что нашел человека, который займет его место рядом с Мэрилин. «Два Ральфа в одной жизни — это уже слишком». Робертс без возражений вернулся в квартиру Мэрилин, взял свой массажный стол и ушел. Гринсон похвалил пациентку за то, что она умеет отделаться от множества людей, которые пытаются ее использовать. Избавление от всех, кто эксплуатирует Мэрилин, говорит о прогрессе лечения. Он сразу же сообщил об этом Марианне Крис.
Через несколько дней женщина зрелого возраста, в профиль похожая на облезлую серую птицу, вошла во дворик перед квартирой Догени, неподалеку от Сансет Стрип. За отделанной черной эмалью дверью квартиры ее ждала Мэрилин Монро — кинозвезда, которую она ранее знала только по имени. Она нажала на кнопку звонка и долго ждала; наконец дверь открыла блондинка с голубыми глазами и почти белыми волосами, босиком, в красном кимоно, растрепанная спросонья. «Здравствуйте, — сказала женщина мягким голосом. — Меня зовут Юнис Муррей. Доктор Гринсон сказал мне, что вы меня ждете». После смерти Мэрилин она рассказала, что ее наняли прежде всего для того, чтобы отвозить Монро из квартиры в кабинет психиатра и привозить обратно, открывать дверь, подходить к телефону и выполнять работу по дому. На самом деле Муррей была по профессии медсестрой, и Гринсон поселил ее у Мэрилин, чтобы она следила за ее поведением. Уитни Снайдер, гример Мэрилин, вспоминал о ней как об очень странной даме, которая все время что-то шептала себе под нос. Шептала и подслушивала. Муррей все время была рядом и доносила доктору обо всем. У нее самой была дочь, которую звали Мэрилин, и она обращалась к своей хозяйке по имени. Мэрилин же со своей стороны всегда называла ее миссис Муррей.
Но Гринсон не мог преодолеть потребность Мэрилин в работе, в игре. Без компенсации, которую давала ненавистная и желанная творческая работа, она вновь впадала в депрессию. Именно в ту грустную зиму она послала Норману Ростену это короткое стихотворение:
Спасите. Спасите. Спасите. Я чувствую, что приближается жизнь. Но ведь я хочу умереть.Когда Мэрилин исполнилось тридцать пять, она постоянно рассказывала своему психоаналитику о физических страданиях из-за расставания с любовником. Во время сеанса, громко, истерически зарыдав, она затем начала успокаиваться, утешаясь мыслью, что психоанализ поможет ей собраться и вновь обрести целостность. Когда она произносила эти слова, Гринсон заметил, что Мэрилин мягко и ритмично ласкает гобелен над диваном, полузакрыв глаза. Помолчав, она сказала:
— Вы добры ко мне. Вы действительно стараетесь мне помочь.
Она продолжала молча поглаживать гобелен. Он тоже молчал. После нескольких минут, когда слезы на ее глазах высохли, она перестала гладить стену, поправила слегка измявшуюся одежду и сказала:
— Теперь я чувствую себя лучше; не знаю почему, но я чувствую себя лучше. Возможно, это ваше молчание. Я почувствовала его как что-то теплое и утешительное, а не холодное, как бывает иногда. Я больше не чувствовала себя одинокой.
Вначале Гринсон не понял, что его кабинет стал для нее в тот момент своего рода переходным объектом. Представлялось, что поглаживание стены имеет много других значений. Мэрилин гладила стену, как гладила бы живого человека, так, как она хотела бы, чтобы ее любовник или Гринсон гладили ее саму. Поглаживание стены было — Гринсон понял это лишь позднее — повторением более инфантильного действия. Ритмичное движение с полузакрытыми глазами, успокаивающее воздействие невмешательства — все это должно было указать ему на то, что она переживала переходный перенос.
Как только он заговорил, она прервала его, чтобы сказать, что его слова представляются ей вторжением. Он подождал и затем тихо сказал, что у него было впечатление, что когда она плакала, то соскальзывала в прошлое. Поглаживание стены, возможно, вернуло ей чувство благополучия. Мэрилин ответила:
— Но я почти не замечала, что гладила стену. Мне больше всего понравилась эта ткань на ощупь. Ее текстура. Совсем как мех. Странно — гобелен как будто отвечал мне на своем языке.
— Когда, лежа на диване, испытывая тревогу, — сказал аналитик, — вы почувствовали, поглаживая стену, что мое молчаливое присутствие успокаивает, как присутствие фигуры матери.
— Знаете, я с вами не согласна, — ответила Мэрилин после паузы. — Это может показаться странным, но мне помогло то, что я гладила гобелен, и, вероятно, то, что вы мне не мешали. Это напоминает мне, как в детстве я плакала, засыпая, и прижимала к себе моего любимого игрушечного медвежонка-панду. Я хранила его много лет. У меня даже есть детские фотографии с ним. Конечно, его мех был очень-очень мягким, и хотя со временем он истерся, мне он всегда казался нежным.
Впоследствии ей снились сны, в которых аналитик был среди черных и белых пятен — эти образы они связали с воспоминанием о панде и бороде Гринсона, которую Мэрилин называла его мехом. Гринсон, сам не зная почему, отрастил бороду. Уэкслер смеялся: «Никогда не понимал мужчин, которые отращивают бороду. Если они думают, что с бородой выглядят более мужественно, то ошибаются: они сами не понимают, насколько их подбородок становится похож на половой орган их матери». Гринсон ничего не ответил и посмотрел на него как на сумасшедшего.
Санта-Моника, Франклин-стрит осень 1961 года
Гринсон принимал участие в работе над сценарием «Доктор медицины капитан Ньюман». Он писал Лео Ростену, автору книги; «Мильтон Рудин добился для меня от Юниверсал 12,5 % прав с этого фильма. На меньшее я бы не согласился: как ты знаешь, я на 100 % психиатр этого фильма, и 90 % персонажей — мои бывшие пациенты». В то же время он взял в свои руки подготовку фильма «Что-то должно рухнуть». В ноябре продюсер Дэвид Браун узнал, что его заменил Генри Вайнштейн, первой работой которого была «Ночь нежна». Когда он возмутился, ему объяснили, что это было одним из условий согласия Мэрилин. Гринсон уверял, что, если Брауна сменят на Вайнштейна, он гарантирует пунктуальность звезды и фильм будет закончен в срок. «Не беспокойтесь, она будет делать все, что я захочу», — сказал он. Съемки должны были начаться 9 апреля, и Кьюкор ожидал самого худшего, он был рассержен на то, что Брауна отстранили от должности. То, что новый продюсер знаком с психиатром Мэрилин, ничего не изменит. «Вы считаете, что способны заставить Мэрилин являться на съемки вовремя? Вот что я вам скажу. Даже если вы приклеите кровать Мэрилин вместе с ней самой посреди съемочной площадки и включите софиты, она все равно опоздает к началу съемок!»
По мере того как год близился к концу, процесс психоанализа становился все более интенсивным. Пациентка и аналитик, ставшие друг другу слишком близкими, уже не понимали, кто такие они сами. Мало-помалу психоаналитик и пациентка обменялись комплексами. Мэрилин меньше полагалась на свой внешний облик, чтобы успокаиваться самой и привлекать других. Теперь она стала признавать, что слова тоже могут согревать, превращаться в укрытие, как бы в одежду. Гринсон пришел из мира культуры и языка. Он стал все больше выступать с лекциями и речами, лично предоставляя себя всепоглощающему вниманию публики, которая приходила не для того, чтобы понимать и слышать, но чтобы прикоснуться глазами к выступающему, воспринять его голос. Он все дальше погружался в хитросплетения кино и все больше вкладывал себя в голливудскую фабрику грез. Он уже много лет поддерживал связь с некоторыми студиями, режиссеры или продюсеры которых часто бывали его пациентами, но теперь особенно сблизился с «Фокс». В его архивах была обнаружена следующая запись: «Психоаналитик не хочет, чтобы его принимали за кукловода, но в следующий момент он говорит, что может заставить пациентку делать все, что он скажет. Он определяет сцены, в которых она должна или не должна сниматься, выбирает из отснятых сцен те, которые считает лучшими, и все художественные решения оказываются в его ведении, потому что он наконец получает доступ в монтажную мастерскую».
Беверли Хиллз, Роксбери-драйв осень 1976 года
Примерно в 1976 году Ральф Гринсон начал свою статью, оставшуюся неизданной: «Экран переноса, роли и подлинная идентичность». Во фрейдовских архивах он нашел интересную серию статей о границах психоанализа и любви. Пораженный этим открытием, он делится с Мильтоном Уэкслером:
— Только теперь я понимаю, почему Анна Фрейд не захотела, чтобы снимали фильм о ее отце. Вопрос Мэрилин был не основным. Главным была любовь, та материя, из которой состоит кино.
Уэкслер пожал плечами:
— Подумать только! И тебе потребовалось столько лет, чтобы понять, что страсть — это, прежде всего, представление, актерская игра?
— Я люблю кино, актеры меня трогают, экран завораживает. Ты думаешь, что я хотел стать актером? Нет. На самом деле все куда серьезнее: я хотел бы стать режиссером, делать именно то, что не нужно, что нельзя делать во время лечения. Писать реплики, строить сюжеты, развивать сцены.
— Ты для этого слишком склонен к нарциссизму. Режиссер не появляется на сцене сам…
— Обо всем этом, — перебил его Гринсон, — я собираюсь написать статью, одновременно историческую и теоретическую, — «Почему Фрейд, страстно увлекающийся образами, не любил кино».
— Да брось! Ты говоришь сейчас только о кино. А страсть? А любовь? С Мэрилин ты разве не любовь инсценировал? Ты мне так и не ответил.
— С ней я никогда не занимался ничем сексуальным. Действительно, она поимела меня, и я ее, в определенном смысле. Но кретины, подозревающие, что у меня была с ней любовная и сексуальная связь, не могут этого понять. Ее тело не волновало меня сексуально. Я восхищался им, конечно, но я почти перестал его видеть. Я слышал заключенного глубоко внутри ребенка — я даже не могу сказать «девочку», — ребенка, который всегда боялся заговорить, потому что, пока он молчит, на него никто не рассердится. Я не сплю с детьми.
— Недостаток желания или недостаток любви — что позволило тебе не поддаться соблазну? Процесс психоанализа и отстранение от мира, которое она в нем искала — и нашла, — возможно, были бы менее разрушительны для нее, если бы ты с ней переспал. Может быть, в этом случае вы бы не навредили друг другу до такой степени. И может быть, она еще была бы жива. Я не понимаю. Что тебе позволило пережить, в конечном итоге без больших потерь, вашу страсть — ведь это не назовешь иначе? Ваше кино?
— Извини, продолжим в другой раз. У меня дела.
Гринсон вышел, хлопнув дверью.
Санта-Моника, Франклин-стрит декабрь 1961 года — январь 1962 года
Каждый день время последнего сеанса было зарезервировано за Мэрилин. Во второй половине дня ее привозили на холм, где стояла гасиенда. Изящно выйдя из «додж-коронет» модели 1957 года, за рулем которой была Юнис Муррей, Мэрилин шагала по тротуару, обсаженному высокими пальмами, глядя издалека на просторный дом из белого искусственного мрамора, окруженный красивым газоном, с окнами, выходящими с одной стороны на океан, а с другой — на город, расстилающийся вдали, как море, покрытое мелкой зыбью. С улицы она могла разглядеть доктора в его кабинете с деревянными потолочными балками — он сидел в рубашке и галстуке в кожаном кресле, за письменным столом темного дерева, спиной к огромному камину, украшенному мексиканской керамикой.
В тот день Мэрилин, робко оглядевшись, заняла свое место. Гринсон весело заговорил с ней;
— Это третий фильм, который мы снимем вместе. Не жалейте о роли Сесили. Я предпочитаю, чтобы вы были моей пациенткой, а не играли пациентку учителя. Но почему вам так трудно приступать к этим съемкам?
— В этом нет ничего нового. На всех моих фильмах я буквально тащила себя на съемочную площадку, а три последних фильма были кошмарами. Но этот — просто венец всему, не знаешь, смеяться или плакать. «Что-то должно рухнуть» — какова перспектива!
Она надолго замолчала, опустив глаза, заламывая пальцы.
— Я не сказала вам, что еще сделала в той нью-йоркской клинике, — произнесла она. — До того, как бросила стул в стекло. Меня не хотели выпускать. И тогда я разделась догола и прижалась к этому стеклу, как кадр на экране.
— Что вы говорили в тот момент?
— Ничего. Я просто стояла молча. Доктор, вы же знаете, мне трудно со словами. Это ведь слова выдают нас на милость безжалостных людей, находящихся рядом, они обнажают нас сильнее, чем все руки, которым мы позволяем шарить по нашей коже. Вчера на вечеринке у Сесила Битона я танцевала голой перед пятьюдесятью приглашенными, но я бы никому не сказала эту простую фразу, которую мне так трудно было сказать даже вам: «Моя мать? Кто такая моя мать? Женщина с красными волосами, вот и все».
Когда она выходила с этого сеанса, стояла удивительная жара. Гринсон решил посидеть у бассейна. Он развернул желтую бумажку, которую его пациентка оставила на ручке кресла. Это было стихотворение или несколько коротких стихов, которые складывались в цикл.
Ночь ночи успокаивает. Сумрак освежает воздух, Как будто другой — у ночи. Ни взгляда, ничего. Тишина Для всех, кроме самой ночи. Жизнь в странные минуты. Я иду в двух направлениях. я больше существую, когда холодно. Я крепкая, как паутина на ветру. Я держусь, как могу, меня притягивает пустота. Но меня тянет и в твоих двух направлениях. Плакучей иве. Я стояла под твоими ветками И ты расцвела и наконец обняла меня. Когда ветер швырнул в нас… землей И песком, ты приникла ко мне.Четвертого декабря 1961 года Гринсон пишет Анне Фрейд, не напоминая о проведенной ею пять лет назад короткой психотерапии Мэрилин: «Я возобновил лечение моей пациентки, которая несколько лет наблюдалась у Марианны Крис и теперь страдает пограничным расстройством, наркоманией, паранойей и очень больна. Можете себе представить, насколько трудно лечить актрису в Голливуде, женщину с таким множеством серьезных проблем, которая совершенно одна на свете, но в то же время очень знаменита. О психоанализе пока не может быть и речи, и я постоянно импровизирую, часто сам удивляясь тому, куда это меня заводит. Не вижу, в каком еще направлении можно пойти. Если я достигну успеха, то чему-то научусь, но я трачу безумно много времени и столько же эмоций».
Как ни странно, в ответе Анны тоже не упоминается ее лечение актрисы: «Я узнала о развитии этой пациентки от Марианны, которая рассказала о своей борьбе с ней. Вопрос в том, сможет ли кто-нибудь дать ей импульс к выздоровлению, который должен бы исходить от нее самой». И тот и другая словно по взаимному согласию замалчивают то участие, которое приняла Анна в Мэрилин, возможно предчувствуя, что в том случае, если дело обернется плохо, ее ответственность не будет поставлена под вопрос.
В том же месяце Гринсон пишет другому адресату: «Она пережила период глубокой параноидальной депрессии.
Она думает о том, чтобы бросить сниматься в кино, о самоубийстве и т. д. Мне пришлось поместить к ней медсестер, чтобы днем и ночью следить за тем, какие она принимает лекарства, потому что я считаю ее способной на самоубийство. Мэрилин устроила этим медсестрам такую жизнь, что через несколько недель все они уволились».
Одиннадцатого декабря Дж. Эдгар Гувер, глава ФБР, сообщил Роберту Кеннеди, что чикагский мафиози Сэм Джанкана собирается заручиться поддержкой Фрэнка Синатры, чтобы тот вступился за него перед семьей Кеннеди.
Через три недели, сидя за столом у своего психоаналитика, Мэрилин воскликнула: «Боже мой! Я должна ужинать у Лоуфордов, и Бобби будет там. Ким Новак расскажет о своем новом доме рядом с Биг Сур. Мне надо сказать Бобби что-нибудь серьезное!» Это был второй ужин с братьями Кеннеди, и она не хотела, чтобы он закончился, как предыдущий, с расстегнувшимся на груди платьем, в рвоте и слезах. Она полистала свою тетрадь со словарем, затем обсудила с Дэнни Гринсоном политические проблемы, которые могли послужить темой для разговора. Она сделала записи. Это была критика с позиции левых — в то время молодой студент боролся против поддержки южновьетнамского режима. Она также хотела поговорить о Комиссии по антиамериканской деятельности, о гражданских правах и т. п. Ей хотелось произвести впечатление. Бобби действительно вначале был впечатлен. Потом он заметил, что Мэрилин подглядывает в свой список, который был спрятан в сумочке, и посмеялся над ней. У нее уже много лет была привычка подготавливать таким способом темы разговора, чтобы всегда выглядеть в наилучшем свете. Когда человек считает, что сам по себе является ошибкой, то не хочет, чтобы говорили о промахах, которые он совершает.
В день своего последнего Рождества Мэрилин провела весь вечер у Гринсона со своим бывшим мужем Джо ДиМаджио. Ближе к ночи, разговаривая с Джоан и Джо, она успокоилась. Они выпили шампанского. Но когда в комнату вошел Гринсон, Мэрилин явно разволновалась и встревожилась. ДиМаджио стал ее расспрашивать. Став рабой любви, которую дарил ей психоаналитик, она практически не замечала своей роли в возникновении этой привязанности. Она рассказала своему бывшему мужу, что аналитик консультирует ее во всех важных областях жизни: с какими друзьями ей стоит поддерживать отношения, с кем она должна выходить в свет, в каких фильмах ей сниматься, где жить, сколько платить Юнис Муррей — он только что распорядился удвоить ее заработок.
Месяц спустя, считая вредным для Мэрилин ее тесное общение с братьями Кеннеди и желая немного от нее отдалиться, психоаналитик посоветовал ей съездить отдохнуть в Мексику, прежде чем начать съемки «Что-то должно рухнуть». Она чувствовала в нем перемены, которые не могла определить точно, и начинала воспринимать его скорее как человека страстей, нежели как любящего спасателя. Характер их связи постепенно менялся. У них было в некотором роде одно «я» на двоих, одна бессознательная мысль, одна-единственная любовь, но любовь к себе.
У Мэрилин, как и у любой женщины, была собственная история любви. У каждого она своя. У некоторых таких историй несколько. У кого-то — бесчисленное множество. Или всегда одна и та же история? Не все можно описать. Как описать любовь, в которой каждый открывает в себе то, чего не знал раньше? Иногда от этого умирают. Да и могла ли эта любовь быть высказана? Есть слова, которые произносят, только когда они уже превратились в ложь: «Я люблю тебя». И другие слова: «Я тебя больше не люблю», — которые говорят, чтобы они стали правдой. «Я тебя люблю» — эту фразу никогда не произносят без того, чтобы она приняла другой — иногда единственный — смысл: «Люби меня!» Привязанность Гринсона обретала угрожающие размеры. Некое любовное безумие на двоих родилось из их отношений, становящихся все более близкими. Но эта любовь была страстью, с падениями, возобновлениями, тупиками, горькими слезами и мрачными радостями. Страстью в переносе. Если любовь всегда взаимна — каждый любит, чтобы его любили, — то страсть асимметрична. Как и влюбленный, человек, увлеченный страстью, любит любить. Но в тайных глубинах своей души он упивается ненавистью и наслаждается тем, что не любит, и, возможно, тем, что не любим.
Брентвуд, Фифт Хелена-драйв февраль 1962 года
Когда Мэрилин решила вернуться в Лос-Анджелес, сохранив за собой свою нью-йоркскую квартиру, это был уже не тот город, который она знала в детстве и юности. Шестимиллионный город стал похож на плоское, бесформенное существо, простирающее во всех направлениях свои бесконечные автострады, похожие на вены, наполненные тромбами автомобильных пробок, в медной дымке выхлопных газов. В каждом квартале мигали вывески закусочных в форме космических кораблей; сверкала неоном в ночи реклама круглосуточного супермаркета. На голливудских холмах предлагались квартиры в бетонном восьмиграннике «с видом на кино»; кварталы с виллами в средиземноморском стиле, принадлежащими звездам немого кино, уже тридцать лет прятались среди гигантских пальм и эвкалиптов.
После своего возвращения в Лос-Анджелес Мэрилин восемь месяцев прожила в квартире в доме № 882 на Догени-драйв, рядом с парком Грейстоун, к северу от Беверли Хиллз. Безликая квартира-студия с фамилией ее секретарши — Штенгель — на двери. Многочисленные переезды Мэрилин затрудняла необходимость каждый раз перевозить ее рояль, белый «Baby Grand». Она даже вспомнить не могла, в скольких домах, гостиничных номерах и квартирах ей довелось жить; общежитие Ассоциации молодых христиан в Голливуде и «Шато Мармон»; облюбованный проститутками ночной отель «Билтмор» и отель «Беверли Хиллз»; квартира рядом с железной дорогой в Ван Нуйсе и королевский номер на Манхэттене. Она ночевала в перестроенных гаражах и президентских апартаментах «Карлайла», но только не в своем собственном доме. «Суперздание без фундамента» — так она описала себя журналисту некоторое время назад.
В начале года Мэрилин купила себе дом в квартале Брентвуд, в западной части Лос-Анджелеса, преимущество которой заключалось в том, что ее продували океанские ветра и она сохранила облик пригорода. Квартал был особенно удобен, так как располагался посередине между студиями «Фокс» на бульваре Пико и домом ее психоаналитика в Санта-Монике. Она решила приобрести жилье после сеанса у Гринсона, когда он сказал, провожая ее до калитки: «Всего доброго. Хотите, чтобы вас проводили домой?» «Забавно прозвучало слово, домой»», — подумала Мэрилин. Она понимала, что у нее нет «дома» и никогда не было. Мэрилин ответила: «Вы знаете, недавно на приеме меня попросили подписаться в книге почетных гостей. Рядом с моим именем, которое я всегда пишу с некоторым колебанием, в колонке «адрес» я написала: «Нигде»».
Дважды побывав в психиатрических больницах и перенеся две хирургические операции, она мечтала теперь о собственном доме, причем именно таком, как у «него». Ведь единственным преимуществом дома, который Мэрилин приобрела по договору, подготовленному Микки Гудином, было то, что он представлял собой копию дома ее психоаналитика, хотя и был не таким красивым и не таким большим. Стилизованная гасиенда в простом и мирном районе, в глубине тупика. Она прожила там чуть менее шести месяцев.
Позади дома — маленький бассейн, газончик и несколько деревьев на наклонном участке, который заканчивался обрывом. Обстановка скудная. Фаянсовая плитка, маски на стенах, часы с маятником, подаренные Карлом Сэндбергом, разноцветная керамика и ацтекский календарь украшали холодные, словно незавершенные комнаты. Мебели было мало, как будто Мэрилин не была уверена ни в доме, ни в его обитательнице. В феврале она вместе с Юнис Муррей съездила в Мексику, чтобы купить там мебель в испанском стиле и обставить дом как уменьшенную копию дома своего доктора. «Уж его-то дом я хорошо знаю, — заверяла ее домоправительница, которая пристроила на работу по отделке дома Мэрилин своих зятя, брата и двоих друзей, — это я его ему продала».
Мэрилин понравился этот дом на Фифт Хелена-драйв, с темными балками на потолке, грубыми и без украшений. На террасе она чувствовала силу, исходящую от деревьев, которая напоминала ей надежность мужских рук, когда они обнимают, но не держат в плену. Ей нравились белые оштукатуренные стены, шероховатые, как руки матери, которая сама работает по дому. При входе в спальню ноги тонули в белом ковре. Гринсон сказал ей: «Юнис будет для вас ребенком, которого вы потеряли, мужем, с которым вы развелись. Присутствие Юнис будет материнским, а я живу рядом и буду защищать вас, как отец. Дом принесет вам спокойствие».
Мэрилин не считала свои дома, но за тридцать пять лет сменила пятьдесят семь пристанищ. На этот раз она нашла подходящий дом. Последний. Тот, из которого она никуда не уедет. Где ей больше не будет страшно.
Последний фильм по контракту со студией «Фокс», последний дом, чтобы угодить Гринсону, — она как бы переворачивала страницу, но это было хорошо. Наконец-то она может представить себе, что даже к Гринсону явится когда-нибудь на последний сеанс.
— Говорят, ты купила дом, — сказал ей Андре де Динс, когда встретил ее через некоторое время.
— Да, и мой психоаналитик одобрил выбор. Это большой шаг вперед в решении проблемы привязанности в переносе, не правда ли? Еще бы! Я переехала из Беверли Хиллз, где жила в трех улицах от его кабинета, и теперь живу в двух шагах от его дома на Санта-Монике. У меня было такое странное чувство, когда я увидела, что он живет на Франклин-стрит. Когда мне было лет двадцать, я некоторое время жила на Франклин-авеню в Голливуде. Я ушла от своих «приемных родителей», которые меня приютили, когда у меня не было ангажементов, и я голодала. Но мне осточертели их вечеринки с групповым сексом, мне хотелось чувствовать себя дома.
— Главное, чтобы тебе было хорошо в твоем новом доме в Брентвуде.
— Ну да. Домик небольшой, даже совсем маленький. Но он с бассейном, и он мне нравится. Понимаешь, на самом деле в этом городе мне нравится как раз его отсутствие, ощущение «нигде». Несколько хижин, потерянных в мертвых джунглях запутанных чувств. Но Лос-Анджелес не притворяется городом, он не притворяется красивым. Он такой, какой себя чувствую я, когда больше не играю; раскованный, без памяти — просто раскинувшееся тело. Он все время здесь. Он все время исчезает. Ну да! По совету доктора я купила дом. Начало положено: дом дает возможность безопасности. В нем я чувствую себя дома. Но какое это имеет значение? Ведь призраки ждут тебя именно дома.
Незадолго до смерти Мэрилин потребовалось заполнить официальный бланк с графой: «Фамилия отца». Она яростно нацарапала: «Неизвестна».
Санта-Моника, Франклин-стрит март 1962 года
Гринсон быстро понял, что Мэрилин намерена вернуться в Нью-Йорк, как только закончатся съемки ее последнего фильма на студии «Фокс». Она всегда считала своим настоящим адресом Манхэттен. Прежде чем улететь во Флориду и Мексику, она провела в Нью-Йорке двенадцать дней, с 5 по 17 февраля. Каждый день Монро посещала курсы Страсберга. Каждый вечер Гринсон ей звонил. После этого, перед тем как улететь в Мексику, она навестила в Майами своего бывшего свекра, Исидора Миллера. Это путешествие стало коротким отдыхом для Гринсона. Мэрилин делала покупки под надежным присмотром Муррей. Любовник-сценарист, придерживающийся левых взглядов, Хосе Боланьос, несколько встреч с кружком изгнанников-коммунистов «Зона Роса» у Фреда Вандербилта Фрайда — ничего, что могло бы обеспокоить психоаналитика, уговорившего Монро уехать на отдых. Вандербилт был его давним другом, о чем не знала его пациентка, но что очень заинтересовало ФБР.
Документ, датированный 7 марта, с грифом; «Мэрилин Монро — Национальная безопасность — К (коммунистка)», был отправлен мексиканским отделом Эдгару Г. Гуверу, которого беспокоило, что любовница президента Соединенных Штатах обсуждает с красными вопросы национальной безопасности.
Слежка за Мэрилин началась с конца 1961 года. Конкурируя или находясь в сговоре, за актрисой следили несколько человек и организаций. ДиМаджио шпионил за ней из ревности, но часто встречал гангстера — управляющего казино «Кэл-Нева Лодж» на реке Тахо, Д’Амато, который следил за Мэрилин по распоряжению Сэма Джанканы. ФБР также подключилось к ее телефону, и Эдгар Гувер предостерег президента Кеннеди о том, что мафия пытается вывести его из равновесия, пользуясь его связью с актрисой. Мэрилин очень часто звонила из телефонов-автоматов — как в Нью-Йорке, так и в Калифорнии.
Вернувшись из Мексики в начале марта в ужасном состоянии, Мэрилин оказалась в международном аэропорту Лос-Анджелеса. Она шла шатаясь, прижимая к груди бутылку. Через три дня на церемонию вручения приза «Золотой глобус» она явилась пьяная, под руку со своим мексиканским любовником, в зеленом платье с глубоким декольте сзади. Когда ее вызвали, чтобы вручить ей золотую статуэтку — приз лучшей актрисы, — она едва смогла подняться на эстраду. Ее благодарственная речь прозвучала отрывисто и нечленораздельно. Большинство свидетелей считали, что с Мэрилин все кончено, но в тот же вечер она приехала на студию «Фокс» и заверила Питера Дж. Леватеса, вице-президента, занимающегося постановкой, в своем желании приступить к съемкам.
— Вы уверены? Похоже, вы в очень плохом состоянии. Что происходит?
Она ничего не ответила. Он сообщил ей, что поручил Наннели Джонсону, сценаристу двух из ее предыдущих фильмов, переработать сценарий фильма «Что-то должно рухнуть».
На следующий день она встретилась со сценаристом в отеле «Беверли Хиллз».
— Господин Наннели, — сказала она портье. — У меня с ним назначена встреча.
— О ком мне доложить?
— Скажите, что пришла шлюха.
Они выпили несколько бутылок шампанского. «Уже два года ее слава катилась под уклон, — объяснял Джонсон позднее, — и она была убеждена, что этот фильм вернет ее на первый план».
— Говори тише, — предупредила его актриса. — Нас подслушивают.
— У тебя случайно не паранойя?
— Даже у параноиков есть враги, как шутят психоаналитики. Но поговорим о роли.
— Ты подала мне идею. Помнишь о моем фильме «Три лица Евы», который сняли четыре года назад. Теперь я хорошо представляю тебя в двух лицах Эллен в фильме «Что-то должно рухнуть». Любящая женщина-ребенок и мрачная стерва, которая возвращается, чтобы отомстить мужчине, считавшему, что она умерла.
— Нет. Не хочу трагической роли. Все, с меня хватит! Не забывай, что у вас есть Мэрилин Монро. Надо ей воспользоваться. Я хочу, чтобы в фильме была сцена в бикини. А что до раздвоения — этого с меня тоже достаточно. Знаешь что? Сид Черис хочет быть в фильме блондинкой. Чтобы меня успокоить, сказали, что она будет всего лишь светлой шатенкой. Она хочет быть блондинкой в своем подсознании, — заключила она с многозначительным видом.
Джонсон задумался, но впоследствии узнал, что студия «Фокс», стараясь избежать малейшего риска, распорядилась выкрасить волосы соперницы в более темный цвет. Разочарованный постоянными изменениями, которые навязывала «Фокс», он понимал, что фильм играет принципиально важную роль для карьеры Мэрилин и, независимо от того, завершит ли она съемки, она проиграет в обоих случаях, как бывает в некоторых шахматных партиях. Или фильм будет завершен, но неудачен, или же от него откажутся, а виноватой сочтут ее.
Мэрилин поселилась с Боланьосом в номере в «Беверли Хиллз» на несколько дней, дожидаясь окончания ремонта дома. В первое воскресенье марта она явилась на сеанс психоанализа в сильной тревоге:
— Наннели Джонсон пошлет к черту «Фокс» — они сами не знают, какой им нужен сценарий. Никто не знает, какой конец фильма сделать, как должна закончиться эта история — как комедия или трагедия.
— Вы слишком плохо себя чувствуете, чтобы уходить сегодня. Оставайтесь у нас, пока вам не станет лучше.
Мэрилин не в первый раз предлагалось провести несколько ночей у Гринсонов, и она приняла предложение пожить в доме столько, сколько потребуется, до самого переезда.
Психоаналитик поселил свою пациентку в комнате на первом этаже. Он отдаляет от нее любовника-мексиканца, а также всех прочих любовников и бывших мужей. Несколько дней спустя, вечером, приехал Джо ДиМаджио, чтобы отвезти ее домой. Гринсон в присутствии двух врачей отказался отпустить Мэрилин:
— Она приняла снотворное. Я хочу, чтобы она успокоилась. Когда можно будет приехать, я дам вам знать.
Она узнала, что Джо ее ждет, и захотела его увидеть, но психоаналитик это запретил. Она начала кричать, протестуя. Джо настаивал. Повернувшись к одному из психиатров, которые изучали психоанализ под его руководством, Гринсон сказал:
— Вот хороший пример нарциссического характера. Видите, как она требовательна. Ей надо, чтобы все было так, как хочет она. Мэрилин всего лишь ребенок. Бедняжка!
Будущему психоаналитику не потребовался долгий клинический опыт, чтобы догадаться, что сам Гринсон находится в сетях проекции и именно он, бедняжка, боролся с не поддающейся анализу независимостью пациентки, став пленником своей пленницы.
ДиМаджио сделал то же, что и в клинике Пейн Уитни: спас Мэрилин из заточения у Гринсона, не без мелодраматических поз с обеих сторон. Именно тогда коллеги-психоаналитики начали тревожиться, видя настолько безапелляционно и авторитарно поведение Гринсона. Психоаналитический Голливуд во главе с Мильтоном Уэкслером считал эту историю странной. То, что могло быть оправдано техническими мотивами, в их глазах выглядело скорее слабостью. Вместо того чтобы позволить Мэрилин черпать в себе самой новые ресурсы независимости и самостоятельности суждения и действий, ее аналитик все время усугублял ее зависимость, утверждая над ней свое господство. Некоторые знакомые высказывались довольно сурово, называя это «безумием на двоих». Самые снисходительные закрывали глаза на неортодоксальную практику, в ходе которой, однако, не был нарушен ни один юридический, нравственный или деонтологический закон. Личная власть и интеллектуальный авторитет, которыми Гринсон пользовался в Психоаналитическом институте Лос-Анджелеса, и его влияние на проводящуюся там психоаналитическую подготовку заставили замолчать критиков; все решили воздержаться от того, чтобы открыто критиковать лечение, которое вызывало насмешки и порождало слухи.
Когда Наннели Джонсон закончил сценарий, он покинул Калифорнию. Чтобы его проводить, Мэрилин поднялась необычно рано. Она обняла его и проводила в аэропорт. После его отъезда ее состояние стало быстро портиться. Как-то ночью она позвонила из своего нового дома Генри Вайнштейну:
— Знаешь, что я пережила только что? Я нашла адрес моего отца, переоделась, пришла к нему, и я ему отдалась.
Вайнштейн разбудил Гринсона и рассказал ему эту историю.
— Это фантазия, которую она мне часто рассказывает. Воображение у нее бьет через край. Одна из них обычна для молодой женщины: она хочет лечь в постель с любым мужчиной, который похож на отца. Это ее главная фантазия на данный момент. Не беспокой меня по таким пустякам! Спокойной ночи.
Вайнштейн, достаточно сведущий в психоанализе, подумал, что эта фантазия может быть проекцией фантазии Гринсона. Много лет спустя он скажет: «Мне больно думать об этих двоих. Мне кажется, Ральф был более зависим, чем Мэрилин». Мильтон Рудин говорил о муже своей сестры: «Он все время боится, как бы с ней чего не случилось. Сочувствие его погубит».
Санта-Моника, Франклин-стрит конец марта 1962 года
Через несколько дней Гринсон сообщил Мэрилин о своем предстоящем отъезде в Европу. Он не сообщил ей, что одна из причин поездки — встреча с Анной Фрейд в Лондоне. На следующих сеансах Мэрилин не сказала ни слова. Психоаналитика не удивило ее отчаяние, он воспринял этот кризис как возобновление давних тяжелых страхов быть покинутой. Зависимость Мэрилин усилилась, и этот отъезд буквально разрушал ее. Хильди была не против того, чтобы ее муж несколько отдалился от пациентки, которая одна теперь составляла почти всю его клиентуру. «Жена боится оставлять меня дома одного, — сказал Гринсон одному из друзей. — Мне надо бы поместить Мэрилин в психиатрическую больницу. Это было бы безопаснее. Для меня. Для нее это означало бы смерть».
Психоаналитик колебался между желанием уехать и остаться с ней. Он сказал ей об этом. В конце месяца, ранним субботним утром, Мэрилин постучалась к нему задолго до обычного времени своего пробуждения:
— У меня поставили водонагреватель, и слесарь сказал, что полчаса не будет воды. Я пришла помыть волосы.
— Пожалуйста, если хотите. Но почему так рано?
— Питер Лоуфорд должен заехать за мной и отвезти меня в Палм-Спрингс, там я встречаюсь с президентом Кеннеди, чтобы провести с ним выходные.
Она помыла волосы, вернулась к себе, ей сделали укладку, и в течение нескольких часов она одевалась и красилась, чтобы вновь превратиться в Мэрилин. Лоуфорд шагал взад-вперед по коридору. Мэрилин вышла из спальни в черном парике поверх прически. Она уходила от Гринсона с мокрыми волосами, веселая, как ребенок, счастливая тем, что оставила своего спасателя в тревоге.
Если она хотела помешать Гринсону ее покинуть, то вряд ли могла придумать лучший сценарий. Эти выходные представляли именно ту ситуацию, которая повергала психоаналитика в тревогу. Ему представлялось, что Мэрилин вновь позволяет себя эксплуатировать; его тревожило, что она придает своей связи с Кеннеди несоразмерно большое значение. Гринсон сразу же написал Анне Фрейд, что уже не уверен в своем отъезде в Европу. Он предпочитал видеть в своем расставании с пациенткой только техническую проблему, но вынужден был признать, что это испытание обещает стать болезненным и для него. Мэрилин могла достичь подлинной независимости, но могла и погрязнуть в регрессе, что испортило бы его отдых. Гринсон не знал, как пережить все эти треволнения. Он надеялся, что она не умрет от его отъезда; его мучили обида и чувство вины. Вайнштейн уговаривал Гринсона не уезжать, ведь психоаналитик стал центром жизни актрисы, от которой зависела постановка фильма. В таких обстоятельствах его отъезд удивлял и тревожил.
Несколько лет спустя Гринсон напишет в своем «Трактате»: «Для многих пациентов выходные или перерывы между сеансами приравниваются к утрате предмета любви. Перерыв на выходные приобретает значения разлуки, отделения, разрыва, разъединения или расторжения связи.
Пациент ведет себя так, как будто потерял предмет любви. Тогда выходные равноценны отвержению со стороны психоаналитика. Но для пациента простое знание расписание аналитика на этот период может послужить заменой его присутствия. Здесь мы касаемся проблемы контрпереноса, которая будет рассмотрена подробнее в томе II».
Ральф Гринсон так и не написал второй том своего «Трактата».
Санта-Моника, Франклин-стрит начало апреля 1962 года
Нью-йоркский друг Мэрилин, поэт и писатель Норман Ростен, с женой приехали в Голливуд, где должны были работать над фильмом. Мэрилин сразу же позвонила им.
— Сегодня воскресенье, пойдем к моему психоаналитику. Я хочу вас ему представить. Я сказала его жене, что мы придем.
Ростен колебался:
— А можно?
— Он замечательный человек, и вся его семья тоже. Они вам понравятся, и вы им тоже.
— Что мы будем делать? Говорить о тебе?
— Сколько угодно, только не при мне. Я сейчас перезвоню.
Через несколько минут она сообщила им, что они не только приглашены, но и могут остаться послушать камерную музыку:
— Камерную музыку, только подумайте! И не в какой-нибудь камере, а в прекрасной гостиной!
Знакомство прошло несколько натянуто.
— Мой друг, поэт, и его жена, чудесная женщина. Они прекрасная пара.
Гринсон и Хильди были гостеприимны, интеллигентны, непринужденны. Мэрилин устроилась в уголке, также держась весьма естественно. Она и впрямь была как будто у себя дома. Пришли другие музыканты, собрался квартет. Гринсон играл Моцарта как увлеченный и страстный любитель, скрывая немало фальшивых нот вдохновенной выразительностью.
После концерта Норман напомнил Мэрилин о вечеринке в Нью-Йорке, на которой они слушали игру русского пианиста Эмиля Гилельса, три или четыре года назад. Она тогда была в вызывающе открытом платье. Повернувшись к своему спутнику, Мэрилин шепнула; «Не волнуйся, Норман, никто не знает, кто ты такой». Вспоминая этот эпизод, она проговорила одновременно печально и весело:
— Да, это всегда так. Когда ты слушаешь музыку, никто не знает, кто ты такой. Они не придут за тобой.
Ростен не понял этой последней фразы. Он отвел психоаналитика в сторонку:
— Она выздоровеет? Лечение продвигается успешно?
— Метод, которым я пользуюсь для ее лечения, может показаться вам странным, но я твердо верю, что именно лечение должно приспосабливаться к больному, а не наоборот. Мэрилин не подходит чистый психоанализ. Ей требуется психотерапия одновременно аналитическая и поддерживающая. Я позволил ей приходить к нам в гости и войти в число друзей семьи, потому что чувствовал, что в своей жизни она нуждается в переживании, которое восполнит недостаток привязанности, мучивший ее с детства. Возможно, вы думаете, что я нарушил некоторые правила, но если все пойдет хорошо в ближайшие несколько лет, возможно, Мэрилин сможет перейти к настоящему анализу. Сейчас она еще не готова. Я чувствую себя вправе сказать это вам, потому что она считает Гедду и вас своими лучшими друзьями, и кто-то должен в некоторой степени разделить со мной ответственность. Я поговорил с ней об этом, и она разрешила вам это рассказать.
Через некоторое время Гедда Ростен попрощалась с Мэрилин, покидая Лос-Анджелес:
— Я буду скучать по тебе. Береги себя. Обещай мне, что хорошенько отдохнешь, прежде чем приступать к трудным эпизодам фильма.
Мэрилин согласилась:
— Я в хорошей форме. Если не психической, то, во всяком случае, физической. — Она засмеялась и постучала себя по лбу: — Все здесь. Во всяком случае, они так говорят.
Беверли Хиллз, Родео-драйв 25 марта 1962 года
Мэрилин не любила вечера. По мере того как день склонялся к ночи, она становилась неуравновешенной, мрачной, злой к себе и другим. Она предавалась своей сумеречной мании. Наступление ночи было для нее болезненным, как ожог, и она только и могла, что говорить по телефону. Часами. Не для того, чтобы беседовать, а для того, чтобы слышать голоса. Вот почему Гринсон назначал сеансы ближе к вечеру.
Как-то весенним вечером Мэрилин позвонила Норману Ростену:
— Ты можешь приехать? Я собираюсь поужинать в ресторане с человеком, с которым хотела бы тебя познакомить.
Когда он пришел, она шепнула ему в приоткрытую дверь:
— Я буду готова через несколько минут. Зайди в последнюю комнату, ты его узнаешь. Я говорила ему о тебе.
Это был Фрэнк Синатра. Двое мужчин сели, выпили, разговорились. Прошло четверть часа, полчаса, сорок пять минут… Наконец Мэрилин вышла в свело-зеленом индийском платье. Синатра вырвал ее из объятий друга. Она промурлыкала:
— Это поэт. Если тебе понадобится хороший сценарист для фильма, то он потрясающий.
На следующий день, рано утром, она позвонила Ростену:
— Что ты о нем думаешь?
В ее голосе звучало нетерпение, но он не понимал, от радости это или от паники. Через несколько дней Ростен улетел на Восток. Они с Мэрилин выпили несколько бокалов шампанского перед ее домом, у бассейна.
— В следующий раз ты здесь искупаешься, — сказала она. — Я устрою вечеринку у бассейна.
— Обещаю, что буду плавать с тобой, пока меня не выловят.
— Мы как раз сняли несколько проб для «Что-то должно рухнуть». Я буду голая в бассейне. Надеюсь, что мне дадут несколько таких же «обнаженных» реплик.
Пара бокалов шампанского, последний поцелуй — короткий и неловкий, как в те минуты, когда оба в глубине души думают, что могут больше не встретиться.
— Поцелуй за меня всех. Пока, я бегу к моему доктору.
Они еще увиделись. Один раз. В последнее воскресенье марта. Накануне Мэрилин присутствовала на вечере, посвященном сбору средств для Кеннеди. Она танцевала с Бобби и все время была рядом с обоими братьями. Президент вернулся в Вашингтон, а Мэрилин проснулась в полдень. Охваченная тревогой, она сразу же позвонила Норману и вызвала его на Фифт Хелена-драйв.
— Дом в тупике. Как я.
Она вышла из гостиной навстречу Ростену, пошатываясь и кутаясь в халат. У нее был нездоровый вид: заплывшие глаза, отекшее лицо. Отупев от сна, она подошла к окну, прикрывая глаза рукой.
— О господи, похоже, воскресенье будет ужасно мрачным.
Чтобы поднять ей настроение, Ростен предложил поехать в Беверли Хиллз, посмотреть художественные галереи.
На Родео-драйв открылась выставка современной живописи. Мэрилин начала успокаиваться и получать удовольствие от происходящего. Она купила маленькую картину, написанную маслом, — абстрактный этюд в красных тонах. Потом ее взгляд упал на статую Родена — бронзовую скульптуру, представляющую лица мужчины и женщины, слившихся в поцелуе. Лиричный и сильный образ. На первый взгляд страстный, но это слово не подходит. Выражение лица мужчины — дикое, хищное, почти грубое, а женщины — невинное, послушное, человечное. Мэрилин рассматривала статую несколько минут и решила ее купить. Она стоила свыше тысячи долларов. Ростен посоветовал ей поразмыслить.
— Нет, — сказала она, — если о чем-то слишком долго размышляешь, это значит, что тебе этого на самом деле не хочется.
Она выписала чек. На обратном пути Мэрилин держала скульптуру на коленях и внимательно ее разглядывала. Она радостно воскликнула:
— Посмотри на них! Как красиво — он делает ей больно, но в то же время хочет ее любить.
В ее глазах светились возбуждение и страх. Ростен вспомнил об их посещении роденовского флигеля в музее «Метрополитен» в Нью-Йорке много лет назад. Они целый час простояли перед «Руками» Родена.
На обратном пути, по мере того как они приближались к Брентвуду, Мэрилин все мрачнела.
— Заедем к моему психоаналитику. Я хочу показать ему скульптуру.
— Прямо сейчас? — спросил ее друг, обеспокоенный таким поворотом событий.
— Конечно! Почему нет?
— Нельзя приходить к людям без предупреждения.
Мэрилин остановилась перед своим домом и зашла позвонить, пока Ростен ждал в машине. Она вышла и сказала, что им разрешили зайти. Она вскочила в машину и воскликнула со смехом:
— В дорогу, к моему доктору!
Гринсон принял их вежливо. Мэрилин сразу же поставила скульптуру на буфет, рядом с баром.
— Что вы об этом думаете?
Психоаналитик ответил, что это великолепное произведение искусства. Мэрилин очень нервничала и, не переставая, трогала бронзовые лица. В ее голосе зазвучали сварливые нотки:
— Так что же она значит? Он с ней трахается или притворяется? Мне хотелось бы знать…
Она повторила яростно зазвеневшим голосом:
— Что вы об этом думаете, доктор? Что это значит? Что это? Похоже на пенис.
Она показала на выступ, казалось протыкающий отлитое из бронзы тело женщины. Осмотрев его, Гринсон сделал вывод, что это не пенис. Но Мэрилин все повторяла:
— Что вы думаете об этом, доктор? Что это значит?
— Что? Сам подарок или то, что вы мне его подарили? Этот подарок значит, что человек часто пользуется своими связями с тем, от кого он зависит, чтобы привязать его к себе в свою очередь.
— Это не подарок. Я оставляю скульптуру себе!
Ростен проводил домой рассерженную Мэрилин. Они выпили несколько бокалов шампанского. Казалось, она немного развеселилась. Она осторожно поставила скульптуру на столик в гостиной и сделала несколько шагов назад, чтобы полюбоваться. Мэрилин больше ничего не сказала. Вечером она никак не могла заснуть. Ромео не захотел ее «поцелуя». Она огляделась. Мебель и безделушки, которые она купила в Мексике, еще не были доставлены. В гостиной стояли только стул и низкий столик, а из кухни бывший жилец вывез всю обстановку, включая стенные шкафы.
Согласно ночному ритуалу два телефона, один белый, а другой розовый, оба с длинными проводами, были вынесены в гостевую комнату и накрыты подушками. На полу спальни лежали куча разных журналов, проигрыватель и пластинки.
Мэрилин написала Гринсону один раз — и сказала раз сто, — что не знает, для чего нужна ночь. Ответ был прост: чтобы ждать. Чтобы говорить другому, который все не приходит: «Вернись». На этот раз другой не был человеком. Его звали Нембутал, Либриум, Мидтаун, Демерол, Хлоргидрат. Когда наутро за Мэрилин приехал из студии лимузин, дом казался пустым и никто не открыл дверь. Через два часа Гринсон нашел Мэрилин — она лежала под тонким белым шелковым одеялом, погруженная в медикаментозную кому.
Санта-Моника, Франклин-стрит апрель 1962 года
За фильм «Что-то должно рухнуть» Мэрилин должна была получить 100 000 долларов, то есть треть суммы, причитавшейся Дину Мартину, который играл роль ее вероломного мужа. Дин всегда очень хорошо относился к Мэрилин, но она казалась ему потерянной, как никогда. Синатра собирался с ней порвать: в январе он обручился с Джульет Праус. Когда Питер Лоуфорд представил Мэрилин Роберту Кеннеди, Синатра обрадовался, что министр юстиции, борец против мафии и защитник репутации своего брата, в свою очередь подпадет под очарование одной из его бывших любовниц. А Мэрилин со своей стороны не могла противиться обаянию братьев Кеннеди. Теперь настало время младшего брата, Бобби. Они переспали тайно, неловко — генеральный прокурор и платиноволосая богиня. Дин Мартин, хоть и был другом и партнером Синатры, слишком любил Мэрилин, чтобы предоставить ей возможность самостоятельно разбираться с братьями и их политическим или мафиозным окружением. Он переживал за нее; кроме того, своей ролью он был обязан Мэрилин: Дина выбрали по ее настоянию.
— Какой завтра день? — спросила Мэрилин, еще стоя в дверях у Гринсона.
— Девятое апреля, — ответил психоаналитик.
День начала съемок. Как первый день учебного года. Страшное событие, от которого можно спастись, только притворяясь мертвой или дурочкой. Мэрилин снова должна была явиться в студию и к тому же работать под руководством Кьюкора, который ненавидел ее с тех пор, как ее недомогания и прогулы чуть не превратили в фиаско фильм «Давай займемся любовью».
— Не в том дело, что он не любит женщин, — рассерженно объясняла Мэрилин Гринсону, — каждый может спать, с кем хочет. Он их ненавидит. Настолько, что даже камеру не может на них направить. Он и не пытается понять, о чем они думают, чего им хочется. Нет, он так и ждет, чтобы они упали, чтобы тушь и пудра превратились от слез в уродливые потеки. Знаете, он настоял на том, чтобы устроить съемочную площадку «Что-то должно рухнуть» у себя дома; это о многом говорит. Он все внимание посвящает своей прекрасной мебели, своему бассейну, своему роскошному дому. Знаете, чем он занимается по вечерам у бассейна со своими миньонами? Я знаю, потому что один мой друг, голубой, входит в его кружок. Он устраивает конкурс поддельных Мэрилин. Они наряжаются, подражают моей походке, моему голосу глупой и порочной девочки. Не беспокойтесь, дорогой доктор, вас он тоже не любит. Когда его спрашивают, в состоянии ли я сниматься, он отвечает: «Понятия не имею, спросите у ее психиатра».
Гринсон слушал, размышляя, действительно ли она отвергает этот фильм и этого режиссера или же играет роль дурочки-блондинки, которую ей предстоит воплотить снова, после трагической роли в ее последнем фильме «Неприкаянные».
— Я встречался с Кьюкором. У меня не сложилось впечатления, что он меня не любит. Он даже попросил меня помочь вам нормально сыграть роль. Он не питает к вам ненависти.
— Да неужели? Один журналист спросил его, что он обо мне думает. Он ответил, что я такая нервная, что со мной невозможно снять два дубля подряд, а о причинах надо спросить у моего психиатра. Так вот, господин Кьюкор, я и правда не знаю, с чем, а главное, с кем мне согласовываться в разные моменты съемок. Нет, я не одна и та же в разных дублях, потому что я чувствую с собой не единство, а разобщенность, причем всегда. И еще от меня требуют самой решать, какой мне быть в следующую минуту.
Через некоторое время она глубоко вздохнула, переводя дыхание:
— Но сценарий мне нравится. После кораблекрушения женщина оказывается на тропическом острове с красивым мужчиной. На ее родине сообщают, что она погибла; ее муж женится на другой. Женщина, чудесным образом спасшаяся, возвращается, требуя обратно своего мужа. Ее дети ее не узнают. Она выдает себя за няню. Ее муж страдает, но вторая жена держит его под каблуком…
Гринсон перебил ее:
— Я знаю. Я читал сценарий и знаю фильм, по которому будет снят этот римейк — «Моя любимая жена». Почему вы не можете играть Эллен? Вам не нравится, что вас не признают как личность, что сцены с вашим участием вырезают, что вашим образом пользуются?
— Вы ничего не понимаете. Вы сами как-то раз подчеркивали, что мужчины, которые оказали на меня самое большое влияние, были фотографами: Андре де Динс, Мильтон Грин, а теперь Джордж Баррис, с которым я недавно возобновила отношения. Мужчины взгляда. Но увидеть — еще не значит узнать. Я хочу, чтобы меня видели, видели все время, под всеми углами, всеми глазами, всеми взглядами, глазами мужчин и глазами женщин, — но это для того, чтобы меня не знали.
— Но почему вы так боитесь сниматься в фильме и так хотите фотографироваться?
Мэрилин замолчала. Когда она чувствовала, что погружается в глубину, когда она видела приближение смерти и знала, что никто не возьмет ее за руку, чтобы перевести через дорогу и проводить ее в школу в первый день занятий, она знала только одно спасение: сфотографироваться, найти себя в образе. Образ — это волшебство, а слово — страдание. «Мне трудно даются съемки в фильмах, но не фотосессии», — говорила она Мильтону Грину, когда они еще жили вместе в Уэстоне, Коннектикут.
— Я задал вам вопрос, — напомнил психоаналитик.
Мэрилин продолжила вслух:
— Я пугаюсь, когда мне надо говорить, играть сцены, произносить написанные слова перед мертвым глазом камеры. На фотосессиях меня снимают, в меня стреляют, щелкая затвором, — это ведь то самое слово: «стрелять». Говорят «снять сцену», «снять план» — это все равно что выстрелить из ружья. Но без единого слова — не так, как в говорящем кино. Мне больше нравятся такие мужчины, которые берут свое и дают мне мое без красивых фраз и без лишних вопросов. Кстати, знаете что? Что удерживает меня на съемочной площадке и позволяет мне играть? Это тоже называется «shot» (укол). Начиная со съемок фильма «Семь лет на размышление». Ли Зейгель, врач «Фокс», делает мне уколы своим волшебным шприцем. «Давай еще. Ли! Сделай мне прививку молодости».
И Мэрилин ушла.
Начало съемок «Что-то должно рухнуть» стало кошмаром. Первый день съемок был перенесен на 23 апреля, и Мэрилин воспользовалась этим, чтобы слетать в Нью-Йорк, где она присутствовала на ужине в честь Дж. Ф. Кеннеди в пентхаузе на Парк-авеню. Она явилась на этот прием после десяти часов вечера, сияя бледностью, — принцесса-Золушка, потухающие уголья, подернувшиеся золой. Непринужденно подойдя к президенту, она приветствовала его: «Привет, през!» Он обернулся, улыбнулся ей и ответил: «Привет! Подойди, я хочу представить тебе кое-кого». Потом они исчезли.
Прежде чем вернуться в Голливуд, Мэрилин зашла навестить Ли Страсберга. Они разговаривали о готовящемся фильме, обсуждая одну сцену за другой, несколько дней подряд. Когда она вернулась в Лос-Анджелес, ее ждал сюрприз. Сценарий Наннели Джонсона, который она выучила и отрепетировала, был полностью переписан Джорджем Кьюкором и сценаристом Уолтером Бернштейном.
Вечером 22 апреля, в воскресенье, выходя с сеанса Гринсона, Мэрилин в состоянии сильной паники поехала на Хермоза Бич, что на юге Лос-Анджелеса. Там она вытащила из постели свою старую парикмахершу Перл Портерфилд, чтобы та покрасила и причесала ей волосы для завтрашних утренних съемок. Когда-то Перл делала прически звездам немого кино; именно она укладывала шелковистые светлые волны волос Мэй Уэст. Как всегда, Мэрилин также обесцветила волосы на лобке. Съемки начались без нее. Она не могла встать с постели целую неделю и не общалась ни с кем, если не считать ежедневных посещений психоаналитика. Сид Черисс, игравшая в фильме вторую жену Дина Мартина, советовалась со своим психоаналитиком, чтобы понять, что творится с мужем. Тридцатого апреля, вопреки рекомендации своего врача, Мэрилин пришла в студию и снималась примерно восемьдесят минут, после чего впала в истерику в своей гримерной, и ее пришлось отвезти домой. Она была вынуждена вновь просидеть дома с 5 по 11 мая.
Пока она старалась оправиться, Кьюкор был вынужден снимать те сцены, в которых она не появлялась. Дирекцию «Фокс» охватил страх. В то же время студия снимала в Европе «Клеопатру» под руководством Манкевича — фильм с чудовищным бюджетом, поглощавший миллионы долларов.
С такими проблемами сразу на двух съемочных площадках студии угрожало банкротство. Гринсон гарантировал, что Мэрилин будет приходить на съемочную площадку каждый вечер и фильм будет закончен к назначенной дате. Он не предусмотрел, что она может физически заболеть. Служащие «Фокс» регулярно звонили психиатру, чтобы напомнить ему об обязательствах и попытаться объяснить, почему звезда желает банкротства студии. Действительно ли она больна? Возможно, она занимается саботажем, потому что ей недостаточно платят? У нее депрессия? Она принимает наркотики? Гринсон пытался их успокоить.
Беверли Хиллз, Роксбери-драйв май 1962 года
В тот день Мэрилин пришла на сеанс в страшной тревоге.
— Значит, вы и правда собираетесь уехать, оставить меня? Джоан сказала мне позавчера.
— Действительно, как я вам уже говорил…
— Да, но я не верила. Значит, правда?
— Я хочу взять отпуск и съездить с Хильди на Средиземное море. Сначала она собирается навестить в Швейцарии свою мать, у которой недавно был сердечный приступ. А я должен встретиться на обратном пути с моим издателем в Нью-Йорке, чтобы обсудить мою книгу о технике психоанализа. Я имею право на отпуск, не так ли? Кроме того, я вас не покину: я собираюсь прочесть в Иерусалиме лекцию о переносе.
— Да… Нет… Черт! Вчера я сделала усилие, пришла в студию за двадцать минут до начала съемок, в шесть часов утра, просто на пробы грима. Я проработала до четырех часов дня, потом пришла на сеанс. Но сегодня, когда я узнала, что Хильди уедет — и вы тоже уедете, — я упала в обморок через полчаса после того, как явилась на съемочную площадку, и меня привезли домой. Вы не понимаете! Чтобы встать с постели, я себя по частям собирала. Я дотащила свое тело до ванной комнаты как чужое. «Что-то должно рухнуть?» Да. Это про меня!
— Я вот о чем подумал, — ответил психоаналитик. — Если я дам вам принадлежащий мне предмет, вот так, в залог, а вы вернете его мне по возвращении, это будет некая материальная связь, своего рода талисман, соединяющий нас. Например, одна из этих стеклянных шахматных фигур. Что вы об этом думаете?
Вечером, проводив Мэрилин до порога ее виллы, Гринсон сел за письменный стол и записал фразы, которыми они обменялись этим вечером. Он сразу же начал писать статью, чтобы показать, каким образом, работая с пациенткой этого типа, ему пришлось действовать, а не только говорить. Давать, а не ждать и принимать. Статья, повествующая о месте и роли переходного объекта, которым стала шахматная фигура, в качестве замены психоаналитика, осталась черновиком, и только через двенадцать лет после смерти пациентки Гринсону удалось ее продолжить и закончить. Дописать, чтобы забыть. Дописать, чтобы стереть из памяти эту проигранную последнюю шахматную партию. Он раздумывал: как рассказать о ней, не называя ее? В случае публикации каждый узнает о ком идет речь в статье с нейтральным названием: «Переходные объекты и перенос». Это единственный текст, опубликованный Гринсоном, в котором он упоминает свою самую знаменитую пациентку, не называя ее по имени.
«Я сообщил одной молодой и эмоционально незрелой пациентке, что через три месяца должен поехать в Европу на международный конгресс. У нее развился по отношению ко мне перенос, характеризующийся крайней зависимостью. Мы интенсивно работали над многочисленными факторами, определяющими ее «цепляние» и ее зависимость, но успехи были незначительными. Но настал день, когда ситуация резко изменилась — она сказала, что поняла, что может помочь ей пережить разлуку. Это было не новое знание о себе, не новые завязанные ею отношения, а фигура из шахматного набора. Недавно эта женщина получила в подарок резные шахматы из слоновой кости. Накануне своего сеанса она смотрела на фигурки через искрящийся в ярком свете бокал шампанского. Вдруг ее поразило сходство белого всадника на шахматном коне со мной. Это сразу принесло ей чувство утешения и даже триумфа. Белый всадник был ее защитником. Он принадлежит ей, она может носить его повсюду, куда ни пойдет. Он будет защищать ее, а я смогу наслаждаться своей поездкой по Европе, ни о чем не волнуясь. Должен признаться, что, несмотря на беспокойство, я испытал некое облегчение. Основной трудностью, с которой моей пациентке предстояло столкнуться в мое отсутствие, было важное публичное мероприятие, на котором она должна была выступить на сцене. Теперь она была уверена в предстоящем успехе, потому что собиралась спрятать своего белого всадника в носовом платке или шарфе, чтобы он защищал ее от нервозности, тревоги и невезения. Впоследствии, когда я был в Европе, я с облегчением и радостью узнал, что выступление имело огромный успех. Но вскоре последовало несколько телефонных звонков — моя пациентка была в панике. Она потеряла белого всадника и была растеряна, испугана и переживала такое же горе, как ребенок при потере успокаивающего одеяльца. Один из моих коллег, который наблюдал ее в это время, сказал мне впоследствии, что все его вмешательство никак не повлияло на ее тоску. Он даже советовал мне сократить поездку и вернуться раньше. Мне не хотелось прерывать отпуск раньше времени, и я не был уверен, что мое возвращение принесет пользу. Как ни странно, польза оказалась вполне явной.
Как только я вновь встретился с пациенткой, ее тревожность и депрессия уменьшились прямо на глазах. Тогда стало возможно в течение нескольких месяцев поработать над тем, чтобы она использовала меня скорее в качестве некоего талисмана, который приносит удачу, чем в качестве психоаналитика. Талисман — шахматная фигурка — послужил ей волшебным средством, отпугивающим зло и горе. Он защитил ее от потери чего-то драгоценного».
Беверли Хиллз, Роксбери-драйв 8 мая 1962 года
Мэрилин вновь стала опаздывать на все сеансы. Психоаналитик спросил ее, не связано ли это с его предстоящим отъездом.
— Когда я одеваюсь, чтобы выйти из дому, я делаю это как можно медленнее. Мне приятно думать, что я опаздываю. Меня ждут, во мне нуждаются. Людям не терпится меня увидеть. Я вспоминаю те годы, когда я никому не была нужна, никто меня не видел, никто меня не ждал. Я была девочкой на побегушках, даже для собственной матери.
— Особенно для нее. На самом деле вы всегда ждали возвращения отца!
— Теперь я чувствую странное удовлетворение от того, что наказываю тех, кто меня ждет. Но я сержусь не на них. Я сержусь на людей из моего прошлого. Это не Мэрилин Монро заставляет себя ждать, а Норма Джин. Вы знаете, я часто думала, что быть любимой — значит быть желанной. Теперь я думаю, что быть любимой — значит повергнуть другого в прах, иметь над ним полную власть. Кстати, теперь на моей шахматной доске два всадника. Два брата. Я думаю, что люблю одного из них. Другой хочет меня, как ребенок хочет съесть пирожное, нарушив запрет. Ну, вот и все на сегодня, как говорит доктор Гринсон.
Вернувшись со своего последнего сеанса перед отъездом психоаналитика в Европу, Мэрилин сжимала в руке шахматную фигурку. Она налила себе шампанского и стала разглядывать всадника сквозь золотистую дымку. Она плакала: «Почему всегда есть это стекло между мной и моей матерью, между мной и моим образом?» Она вспомнила о съемках «Неприкаянных». Миллер и Хьюстон хотели заставить ее сыграть Розлин, почти невидимую за окном как раз в тот момент, когда мужчина ищет ее взглядом. А в следующей сцене она должна была с беспокойством разглядывать свое отражение в зеркале, нанося макияж. «К черту окна, зеркала! Покажите меня. Просто меня. Не прячьте меня под стеклом!» — крикнула она режиссеру.
Она нацарапала в своем блокноте несколько строк:
«Вторник, 8-е. Он сделал мне подарок. Шахматы. Игра королей и шутов. Все фигуры могут брать, съедать. Сильнее всех королева. Король мертв с самого начала. Я не знаю, за кого играю я. Я двигаю мои фигуры в темноте.
Мне не нравится писать. Мне надо будет найти что-нибудь другое. Может быть, я слишком люблю читать. Когда я в первый раз читаю те книги, которые мне действительно нравятся, у меня такое впечатление, как будто я их перечитываю, как будто я их уже читала раньше. Как некоторые люди, с которыми встречаешься словно со старыми знакомыми. Сегодня я нашла у Кафки эту фразу: «Капитализм — не только состояние общества, но и состояние души». Я не дочитываю книги. Не люблю последние страницы. Последние слова. Последние съемки. Последние сеансы».
Поздним вечером того же дня Гринсон постучал в дверь Уэкслера.
— Можно с тобой поговорить?
— О ней?
— Конечно, о ком еще! Я доверяю тебе мою безумицу. Будь осторожен. Она умеет расположить к себе, как никто. Ты знаешь, ребенком она пережила много ужасных, действительно ужасных испытании — изнасилования, совращение приемными отцами. Сначала я думал, что сексуальные злоупотребления — только ее фантазии. Теперь я верю в то, что все это было на самом деле. Мне кажется, я не могу со всем этим справиться. У меня не получится. С первого же сеанса я понимал две вещи. Во-первых, мы не будем заниматься классическим психоанализом, в четко определенных рамках, с креслом, поставленным спиной к дивану. Во-вторых, нас может разлучить только смерть, ее или моя.
— Богатая программа! Чего же ты ожидаешь от меня — чтобы я поработал няней?
— Я уезжаю в Европу на шесть недель. Я не могу оставить ее одну и не уверен, что даже с тобой, когда ты будешь проводить сеансы вместо меня, она сможет выжить.
— Раз уж все так серьезно, возьми ее с собой.
— Кстати, Фрейд так и поступал со своими любимыми пациентами.
— А еще он проводил бесплатные курсы психоанализа и приглашал пациентов на обед в столовую или свой кабинет. На сеансах он много говорил, и он провел психоанализ собственной дочери… Что это доказывает? Что Фрейд иногда переставал быть фрейдистом и нарушал правила, которые сам же установил. Вот и все!
— Ты меня не понимаешь. Уже два года я стараюсь освободить Мэрилин от снотворных. Но на самом деле я продолжаю ей их выписывать. Даже прошлой осенью, когда она заканчивала съемки своего фильма и приходила ко мне семь раз в неделю. И Хаймен делал ей чудесные инъекции Ли Зейгеля у меня за спиной. Но даже сам психоанализ стал для нее наркотиком. Удивительно быстро между ней и мной установилась взаимная зависимость. Я завишу от ее зависимости от меня. Учти, я разрешил ей в мое отсутствие звонить моим детям, если ей что-либо понадобится.
— Ты не перегибаешь палку? — спросил Уэкслер. — Минуту, сейчас я тебе кое-что прочту.
Он поднялся, взял из стопки на этажерке несколько скрепленных листов бумаги и прочел:
— «Психоанализ — не самое подходящее средство для срочных случаев или первой психиатрической помощи. Когда во время психоанализа возникает подобная ситуация, обычно следует перейти к неаналитической психотерапии. Желание облегчить страдания пациента в принципе противоречит целям анализа и понимания его проблем». Подпись: Ральф Р. Гринсон, доктор медицины.
— Прекрати! Как можно лечить, не вмешиваясь, даже силой при необходимости? Сила любви — это все, что у нас есть. Я ее психоаналитик, я хочу воплощать положительный образ отца, такого отца, который ее не разочарует, который пробудит ее сознание или, во всяком случае, всегда будет к ней добр.
— Но где заканчивается это лечение любовью? Ты же знаешь, наши пациенты, больные шизофренией или пограничным расстройством личности, не всегда страдают именно от недостатка любви. Бывает, что любовь вызывает в другом человеке безумие так же верно, как недостаток любви.
— Не думаю. Не в моем случае. Все дело в степени. Я не могу сказать, что в моих отношениях с Мэрилин я нахожусь под властью любви.
— Ромео, кто твоя Джульетта? Перечитай пьесу: она плохо закончилась! — заключил коллега. Гринсон покинул его кабинет молча, устремив взгляд в пустоту.
Университет Энн Арбор, Мичиган 1969 год
Через семь лет после смерти актрисы Ральфа Гринсона пригласили прочесть лекцию о психоаналитической технике. Он уже не любил так, как раньше, эти упражнения в словесной эквилибристике, когда становился центром всеобщего внимания, но принял предложение по дружбе со старым коллегой, переехавшим из Калифорнии, чтобы преподавать в университете. «А также из верности памяти Мэрилин», — говорил он себе. Неуверенным голосом он начал лекцию:
— Ошибки в начале психоаналитического и психотерапевтического лечения — вот тема, которую я хочу осветить для вашей клинической подготовки в этом замечательном университете Энн Арбор. Мичиган далеко от Калифорнии, а образ Мэрилин Монро постепенно исчезает как из моей памяти, так и из вашей, дорогие студенты, — возможно, поэтому мне хотелось бы рассказать о ней, чего я раньше не делал в своих публичных выступлениях.
В 1960 году меня уже нельзя было назвать начинающим, но все же, когда ко мне направили актрису, у меня сразу появилось ощущение, что мне понадобится забыть все, что я знаю, и начать с чистого листа. Ее смерть стала ужасным потрясением. У меня было чувство, что надо жить дальше. Я продолжал работать. Я был ошеломлен, и мои пациенты также были потрясены. Некоторые сочли меня бесчувственным. Они сердились на меня за то, что я вел себя так холодно и безразлично. Они спрашивали у меня, как я мог возобновить работу на следующий день и как я мог взять такую пациентку. Одни были в гневе на меня, вспоминая, как я решил сократить или отменить их сеансы, чтобы видеться с ней каждый день. Другие пациенты говорили, что скорбят вместе со мной. Как будто повторяли мне ритуальную формулу соболезнования; «Я сожалею о вашей потере». И я слышал двойной смысл: «…потере, которая вас постигла», но также: «Я вас потерял, вы больше не похожи на себя». Их охватывало сопереживание, и они плакали. С несколькими из них я плакал вместе и не мог скрыть этого; они видели, как я плакал. С другими у меня на глазах выступали слезы, но они этого не замечали.
Прошло семь лет, и я до сих пор испытываю горечь потери. Не знаю, смогу ли когда-нибудь справиться с ней. Конечно, у Мэрилин было несколько терапевтов и до меня, но я снова и снова задаю себе вопрос: что я мог бы сделать, чтобы спасти ее? Возможно, это была своего рода мания величия — поверить, что мне удастся преуспеть там, где другие потерпели поражение. В давнем исследовании, посвященном патологическим игрокам, я выделил связь между потребностью игрока отдаваться на милость судьбе и его стремлением к всемогуществу. Возможно, мое решение заняться случаем Мэрилин Монро было всего лишь слишком амбициозной игрой, слишком смелой ставкой. Может быть, я хотел прославиться в веках как психоаналитик Мэрилин Монро. Возможно, в итоге игрок проиграл. Я думаю, что играл в покер, когда надо было играть в шахматы. Или не играть вовсе. Это было бедное создание, которому я пытался помочь и которое я в итоге ранил. Возможно, мой здравый рассудок затемнила моя потребность во всемогуществе. Конечно, я знал, что это был трудный случай, но что мне было делать? Направить ее к начинающему? Я знаю, что ее любовь была нарциссической и она, несомненно, питала ко мне ненависть, соразмерную с ее зависимостью. Но я забыл свой старый завет: «Каждый день осознанно и с полной ответственностью желай кому-нибудь смерти — и психоанализ тебе не потребуется».
Голливуд Хайтс, Вудро Вильсон-драйв апрель 1970 года
Имя психоаналитика не появляется ни в одном отчете о смерти актрисы Ингер Стивенс. Накануне своей смерти она была одета в серый брючный костюм, черную рубашку, а ее высокая прическа, как всегда напоминающая виртуозно взбитый мусс из белокурых кудрей, делала ее силуэт еще стройнее. Лицо ее было не грустнее, чем обычно, а во взгляде светло-голубых глаз сквозило холодное отчаяние. Ночью 30 апреля 1970 года ее нашла одна из подруг, Лола МакНелли. Ингер лежала без сознания в своем доме на Вудро Вильсон-драйв, почти на углу Малхолланд-драйв. Она открыла глаза и пробормотала что-то непонятное. Ее отвезли в больницу на машине «скорой помощи», но там обнаружили «мертвой по прибытии».
Следствие вел тот же коронер, который расследовал смерть Мэрилин, доктор Ногучи; он сделал заключение о передозировке барбитуратов. Были рассмотрены три гипотезы: убийство, замаскированное под самоубийство, сердечный приступ, случившийся вследствие принятия большого количества алкоголя и лекарств, удавшееся самоубийство. Условия смерти остались подозрительными: она только что подписала контракт на телевизионный сериал, название которого — «Самая смертельная игра» — приобретало странное звучание на фоне этого сведенного судорогой тела, валяющегося лицом вниз на полу кухни. В спальне ковер с пола был убран. Предвкушая съемки, она обзавелась новым гардеробом и, казалось, была обрадована этим возобновлением деятельности. Телефон стоял не в гостиной, как обычно, а в спальне, где не было телефонной розетки. На руке актрисы был синяк, на подбородке царапина, а в крови было обнаружено лекарство от астмы, которой она не страдала. Она пригласила к себе на ужин актера Берта Рейнольдса, которого не вызвали давать показания. Двенадцать лет спустя ему суждено было стать, по сценарию Мильтона Уэкслера и под режиссурой Берта Рейнольдса, «Мужчиной, который любил женщин». Уэкслер — не единственное связующее звено между умершей актрисой и голливудским психоанализом. Ее психоаналитиком долгое время был Ральф Гринсон.
Ингер Стивенс сделала короткую карьеру в кино в шестидесятые годы. Она родилась на два года раньше Мэрилин; как и Монро, Стивенс начала как модель и хористка, затем прошла в Нью-Йорке ту же театральную школу актерской студии. Ей хотелось стать «настоящей актрисой», говорила она. Неизвестно, познакомились ли они с Мэрилин тогда или раньше, в Голливуде. Покинув свой родной Канзас, она вышла из автобуса «Грейхаунд» на Станции Юнион, одна и без багажа. Ее никто не встречал. Как и Мэрилин, но куда менее блестяще, она могла играть комические, драматические или романтические роли, а когда ей предлагали сексуальные амплуа, отвечала просто: «Надеюсь, что меня не будут ими ограничивать». Самой известной ее ролью стал эпизод в фильме «Зона сумерек» 1960 года, когда охваченной галлюцинациями женщине, пересекающей страну с запада на восток, кажется, что она пытается остановить свою смерть.
Когда Гринсон, читая «Лос-Анджелес Таймс», узнал о ее смерти, он работал над книгой, в которой рассказывалось о неудачах психоанализа, своего рода продолжением «Техники и практики психоанализа», изданной три года назад. Он вспомнил о последних часах другой блондинки. Потом ему пришло в голову, что единственное средство не думать больше ни о той, ни о другой — написать об этих звездочках шестидесятых — актрисах без ролей, затерявшихся в своих мечтах о блестящих образах самих себя, — статью, в которой он расскажет об их неудачах, а не о своей неудачной попытке исцелить их любовью. Он нашел письмо Ингер, которая написала его несколько лет назад: «Я живу в постоянном ощущении опасности, все время страдая от парализующей робости, которую прячу под внешней холодностью. Люди считают меня замкнутой, а я просто боюсь. Я так часто страдаю от депрессии. Я росла в недружной семье, мой брак был катастрофой, и я все время чувствую себя одинокой».
Гринсон закрыл досье, в котором хранил заметки об анализе Ингер. Он откинулся на спинку кресла, закрыл глаза и вновь увидел ее прекрасное и грустное лицо, ее детские глаза. Он снова услышал ее глуховатый голос, полный напускной уверенности:
— Карьера? Ведь карьера не может тебя обнять, правда, доктор? Больше всего мне не хватает кого-то, с кем я могла бы все разделить. Я всегда очертя голову бросалась в истории дружбы и любви, в которых отдавала только я. Так жить нельзя. А то закончишь жизнь на станции Юнион, где семь тысяч человек ходят мимо взад-вперед, не замечая тебя.
— Есть ваша работа актрисы. Людям нравится видеть вас на экране.
— Они видят не меня. Я очень горжусь тем, что хорошо делаю мою работу. Мне хотелось бы хорошо прожить жизнь. Я не хочу умереть с мыслью, что спустилась по дороге, идущей под уклон, доползла до ямы, и все. Мне хотелось бы оставить что-то после себя, участвовать в свершениях моего поколения. И именно работая актрисой.
Психоаналитик не мог не вспомнить о том, что на самом деле она была плохой актрисой, и, сам не зная почему, решил не приходить на кремацию тела своей пациентки, назначенной на послезавтра. Он так и не написал книгу о неудачах психоанализа, как, впрочем, и задуманную им статью о самоубийстве пациентов, а также о голливудских старлетках шестидесятых годов. Слишком много слез было за всем этим. Пепел Ингер был развеян над Тихим океаном с пирса Санта-Моника.
Беверли Хиллз, Роксбери-драйв 10 мая 1962 года
В первый раз, приняв Мэрилин на консультации в полдень, Уэкслер был удивлен ее отечной бледностью. Она напомнила ему постаревшую куклу, воздушный шарик, забытый в углу детской далекого прошлого. Теперь ему выпала обязанность лечить пациентку, брошенную Гринсоном на произвол судьбы. Он знал, чем она страдает, но не хотел бы называть это «расстройством личности». Все говорили: Мэрилин сама не знает, кто она такая. Некоторое время назад она встретила на пороге своего дома в Брентвуде горничную, которая пришла предложить свои услуги. Мэрилин тепло пожала ей руку.
— Поверить не могу, что вы Мэрилин Монро, — сказала женщина.
— Ну, я в этом и сама не уверена. Но думаю, что я — это она, раз уж все так говорят.
Но было ли это признаком безумия? Уэкслер, со своим опытом общения с актерами и знаменитыми людьми, скорее склонен был думать, что безумны те, кто принимает себя за персонаж, чье имя они носят, чью социальную роль играют; и то, что Мэрилин говорила о себе в третьем лице и часто спрашивала вслух: «Хочешь, я буду ей?», — показалось ему, напротив, признаком глубокой мудрости.
Уэкслер оставался коллегой и другом Гринсона с послевоенных лет до смерти Гринсона в 1979 году. Он поддерживал его, как мог, в период, который нельзя назвать иначе, чем депрессивный или меланхолический. Но он считал, что его коллега идет по неправильному пути. Чтобы лечить шизофреников, необходимо не принимать распад их личности, но вначале увидеть их деструктивность и сдержать ее — при необходимости силой или ненавистью. В шестидесятые годы работа Уэкслера была поставлена под сомнение деонтологическими инстанциями Психоаналитической ассоциации Лос-Анджелеса из-за применения им своеобразных методов в лечении больной шизофренией. Пациентка обвинила его в нападении. Гринсон, работавший в соседнем кабинете, ворвался к Уэкслеру, услышав крики. Чтобы разнять своего коллегу с вопящей пациенткой, он схватил его и повалил на пол. Президент общества, Лео Рейнджел, решил открыть против Уэкслера обвинительный процесс. Разбирательству подверглось странное поведение Уэкслера, который утверждал, что для лечения пациентов с шизофренией необходима не только значительная физическая и психическая близость, но также и осознанное насилие. Его клиническая практика уже раньше подвергалась нападкам. Уэкслер, который, до того как стать психоаналитиком, служил окружным прокурором Нью-Йорка, сам защищался от этих обвинений. Он рассказал о спорном эпизоде, который произошел, когда он лечил своих первых шизофреников. «Это была очень высокая и мускулистая пациентка. Однажды она подошла ко мне и врезала мне коленом по яйцам. Я рефлекторно ударил ее кулаком по лицу. Она сказала: «Почему вы это сделали?» Это была ее первая разумная фраза за многие годы. Я выбрал весьма активную роль, запрещая пациентке любую сексуальную и агрессивную провокацию, так как это угрожало терапевтическим отношениям. Когда она хотела прибегнуть против меня к силе, я ясно давал ей понять, что применю такую же силу к ней. Когда с ее стороны последовали, впрочем с уменьшающейся частотой, новые нападения, я делал все, что нужно, чтобы обездвижить ее, а когда физическая провокация переходила все границы, вызывая у меня сильную обиду и желание быстро положить конец ее агрессивному поведению, я не просто мешал ее движениям, а отвечал силой на силу, о чем предупреждал ее заранее. За одним-единственным исключением не было ни одной словесной или физической стычки, которая бы не закончилась взаимным примирением и дружелюбным общением. Моя пациентка редко забывала поблагодарить меня за то, что я прерывал ее угрозы и обуздывал силы, с которыми она не могла справиться самостоятельно. Каждая схватка приносила клиническое улучшение, и мне удалось сдержать ее требования и проявления насилия с помощью возрастающих доз ответного насилия, дружелюбия, интерпретации и воспитания. Действенное средство лечения больных шизофренией — растущие дозы любви и физического противостояния».
В итоге коллеги не вынесли обвинительного заключения против Уэкслера, и, вспоминая об этих дебатах двадцать лет спустя, он улыбался: «Бедный Роми! В случае Мэрилин он не сумел увидеть под депрессией агрессию и отвечать ударом на удар, вступить в схватку с деструктивностью своей не такой уж нежной пациентки. Это было его дело. Что до моих дорогих коллег из ЛАПСИ, я не люблю оппортунистов и ханжей. Я предпочитаю циников, которые берут власть и рискуют ей, чем трусов, страшащихся ее потерять».
Уэкслер мечтал стать писателем. В конце жизни он собирался написать роман, который должен был называться «Ромео и Мэрилин», но не сделал этого. Не из верности памяти умершего друга, а из творческой неспособности приступить так поздно к такому масштабному проекту.
Лос-Анджелес, бульвар Пико май 1962 года
Десятого мая Гринсон с женой наконец улетели в Европу на четыре недели. Это бегство в период, особенно критичный для Мэрилин, остается тайной. Нескольким коллегам он рассказал, что уезжает, чтобы выступать с лекциями; студии «Фокс» объявил, что его жена заболела и должна лечиться в швейцарской клинике, а Мэрилин — что речь идет о здоровье тещи.
Через четыре дня, после трех недель съемок, в течение которых Мэрилин почти не работала, она встала за три часа до выхода из дому; лимузин повез ее по пустынным улицам Лос-Анджелеса к бульвару Пико. Черный «линкольн-континентал» спустился по низким холмам Брентвуда, поднимая огромное облако пыли, которое было видно от самого Сенчури Сити. По пути к новому бунгало, который служил ей гримерной, она должна была проехать мимо административных зданий студии. Помещения, занимаемые дирекцией, находились на верхнем этаже отделанного металлом особняка — стратегическое положение, позволяющее легко наблюдать за всеми перемещениями звезд.
Среди кратких и отрывочных заметок двух последних лет жизни Мэрилин записала в красной тетради:
«Это не дневник, которому я повторяла бы день за днем: «Дорогой дневник». Это записная книжка, и мои состояния души в ней такие же растрепанные и грязные, как моя одежда, которая валяется здесь повсюду…
Я узнала, что работники службы безопасности студии «Фокс» — некоторые из них мои старые товарищи — отмечали время моего приезда и отъезда в конфиденциальных доносах. Я в бешенстве. С тех пор иногда по утрам я выхожу из машины у служебного входа и посылаю лимузин, чтобы он въехал в главные ворота. Без меня! Даже в те дни, когда я действительно не выхожу из дому, мой автомобиль с тонированными стеклами приезжает и останавливается на виду перед моим бунгало. Присутствовать или отсутствовать — какая разница? Ради кого? Зачем? Когда я думаю о том, как коротка моя жизнь, о вечности, которая была до нее и будет после нее, о том малом пространстве, что я занимаю, я пугаюсь и удивляюсь, видя, что я здесь, а не там. Нет причин, чтобы я была здесь, а не там, сейчас, а не в другой день. С этими лисами из «Фокс» я буду играть в шахматы. Уж в проигрышах-то я разбираюсь…»
Мэрилин, снова исчезнувшая после съемки первых кадров «Что-то должно рухнуть», опять появилась на три с половиной дня съемок в начале мая. Затем, 17 мая, она ушла из студии посреди съемок. Через два дня ей предстояло петь в Мэдисон Сквер Гарден в честь Президента США, который праздновал свой последний день рождения. Исполнительный комитет «Фокс» попросил актрису не покидать съемочную площадку и не лететь в Нью-Йорк. Отказываясь от необыкновенной рекламы, которую дало бы фильму это выступление одной из крупнейших его звезд, студия послала адвокату Мэрилин, Микки Рудину, письмо из двух страниц с угрозами увольнения: «В случае если мисс Монро не явится на съемки, этот поступок станет заведомым нарушением ее обязательств. В случае если мисс Монро вернется и съемки фильма возобновятся, это возобновление не будет рассматриваться как основание для отказа студией «Фокс» от права уволить мисс Монро согласно условиям ее контракта».
Генри Вайнштейн со своей стороны понял, что Мэрилин твердо намерена прилететь в Нью-Йорк, что бы ни случилось. «Послушайте, она девочка с улицы, мать бросила ее, отец исчез. Девочка, жившая в самой ужасной нищете. И вот ей предлагают петь «С днем рождения» Президенту Соединенных Штатов. Она просто не может отказаться». Его не послушали.
Тогда же Норман Ростен послал Мэрилин получасовую магнитофонную запись, на которой он читал стихи для местного радио. Он знал, что ей понравятся эти стихотворения, но прежде всего старался дать ей понять, что думает о ней. Она была очень одинока и переживала кризис. Она сравнивала свое состояние с шахматным цейтнотом: тревога от мысли, что больше нет времени подумать. Больше нет времени на то, чтобы думать о своей тревоге. Он считал, что эти стихотворения помогут ей, что они станут для нее его посланниками. Когда он вскоре приехал в Голливуд, секретарша Мэрилин сказала ему, что она везде носила его кассету с собой в сумочке как талисман. Она недавно купила новый магнитофон.
Как-то вечером ей захотелось, чтобы Норман послушал свои стихотворения вместе с ней. Она все приготовит. Он приедет не поздно, Юнис сварит кофе, и они будут слушать вместе. Лежа на кровати, она сможет нажимать на клавишу перемотки вперед или назад, сколько захочет, и заснет, когда аппарат остановится автоматически. «Конечно, — добавила она, — если ему понадобится уйти до конца». Когда он пришел, она была в пижаме. Кофе был готов. Они пили, разговаривая о работе, о его и ее планах. О его жене и дочери. О работе в Голливуде, о том, что он будет делать, когда уедет из Голливуда. Мэрилин надеялась, что съемки фильма будут продвигаться вперед успешно. Она была встревожена, но полна решимости. Затем она легла в постель, Норман сел на пол, рядом с магнитофоном. Она сказала: «Я приняла снотворное как раз перед твоим приходом. Может быть, я засну, слушая твой голос. Ладно? И возможно, что я незаметно уйду, не дождавшись конца».
Нью-Йорк, Мэдисон Сквер Гарден май 1962 года
Оглушительный рокот мотора возвестил о прибытии огромного вертолета, который приземлился на территории киностудии «Фокс», рядом с площадкой № 14. Питер Лоуфорд выскочил из летательного аппарата, одолженного у Говарда Хьюза, и направился в гримерную Мэрилин, чтобы проводить ее к ярко-синему вертолету, который доставил ее в аэропорт Ингельвуд. Через два часа Мэрилин вылетела из Лос-Анджелеса в нью-йоркский аэропорт, который тогда еще не носил имени Дж. Ф. Кеннеди. На торжественном представлении в честь президента ей предстоит выступить на сцене перед многочисленной публикой впервые после ее легендарного выступления перед тысячами американских солдат в Корее. В самолете она пела «Happy Birthday». Как и 17 000 зрителей гала-концерта, она заплатила за вход 1000 долларов и сказала Джоан Гринсон: «Это нормально. Я столько лет плачу твоему отцу за возможность с ним поговорить. Теперь мне приходится платить за то, чтобы петь». С помощью Джоан она несколько дней репетировала свое поздравительное выступление.
Ей предстояло вновь встретиться с Джоном Кеннеди, который был одним из ее любовников. Шесть дней назад ее бывший муж, Артур Миллер, сидел по правую руку от Джеки Кеннеди на банкете в честь Андре Мальро. За почетным столом — писатели Сол Беллоу, Эдмунд Уилсон и Роберт Пенн Уоррен, художники Эндрю Уайет и Марк Ротко, музыкант Леонард Бернштейн и представители театра и кино Джордж Баланчин, Теннеси Уильямс, Илья Казан и Ли Страсберг. Мэрилин не была приглашена. Супруги Кеннеди, казалось, подчеркнули сложившееся положение в судьбе актрисы, которое она пыталась преодолеть, поселившись в Нью-Йорке и выйдя замуж за Миллера: с одной стороны, слова и культура, с другой — тело и образы.
Вернувшись в Нью-Йорк, Мэрилин Монро была счастлива, как ребенок, допущенный в общество взрослых. Она колесила по городу в такси. Она просила отвезти ее не в «Даунтаун» или «Аптаун», а «в этом направлении, сюда, туда». Город был праздником, а она — его королевой; город был шахматной доской, над которой она властвовала красотой и силой своих ходов. Она разыгрывала воображаемые партии на клетках кварталов, не зная, с кем играет. Белого короля не видно, но вокруг него организована вся игра. Другие фигуры: мать — черная королева; Мэрилин — белая королева; Гринсон — белый всадник. Или черный? Братья Кеннеди — два черных офицера. Манхэттен отомстит за нее Голливуду. Манхэттен — это больше чем воспоминание, это рассказ, история, в которой говорится о ней.
Города похожи на языки. Некоторые могут казаться красивыми, но на них никогда не заговоришь. В Лос-Анджелесе названия потеряли свой смысл. Она читала «Сансет Стрип», «Анахейм» или «Эль Пуэбло» — и видела только неопределенный цвет, указание на национальность, незаконченный маршрут. Эти названия были как в снах: они виделись ей странными и знакомыми, красивыми или пугающими, но она их не понимала. Зато непоследовательность Манхэттена заставляла Мэрилин самостоятельно становиться связью пережитого и увиденного во времени и пространстве. Даже ни с кем не говоря, она ощущала там свою причастность к жизни. Нью-Йорк был городом связей, он заставлял ее забыть о городе расставаний, бесконечных расстояний между людьми и стирающихся границ между действительностью и выдумкой.
Поздно вечером она вернулась в свою квартиру на Пятьдесят седьмой Восточной улице, а на следующее утро получила письмо от «Фокс», извещающее о расторжении контракта. На секунду она подумала, что, если бы Гринсон был здесь, все бы было не так. Но ее охватило сомнение. Разве психоаналитик, который был так дружен с Вайнштейном и Рудином, что в студии их прозвали «командой Мэрилин», наоборот, не уехал именно для того, чтобы показать «Фокс», что ему стала безразлична и ее судьба, и судьба фильма? Она была расстроена и с трудом справилась с репетициями выступления, предусмотренного на завтра. Вечером, на репетиции у нее дома, музыкант Ричард Адлер с трудом заставил ее в тридцатый раз спеть «Happy Birthday to you». Он испугался этого горя, которое слышалось в ее голосе, затрудненного дыхания, нечеткой артикуляции. Срываясь с ее губ, слова превращались в воздушную, чувственную ласку. С каждым часом ее исполнение становилось все более насыщенным сексуальностью, и когда, после Эллы Фицджеральд, Пегги Ли и Марии Каллас, Мэрилин Монро запела наконец перед толпой, она показала и спела пародию на саму себя.
На праздник, организованный Демократической партией, Бобби Кеннеди пришел со своей супругой, но Дж. Ф. Кеннеди явился один. Джеки с ним не было. Питер Лоуфорд, муж сестры президента, представляет звезду так: «Она не только пунктуальна, но и щепетильна». После долгого ожидания, во время которого ему пришлось сымпровизировать несколько шуток, она появилась из темноты, покачиваясь, сверкая, как синевато-белый огонек, платьем и пышной плотью. Она вошла на сцену походкой гейши, словно отягощенная формами, которые предлагала тысячам зрителей. Лоуфорд объявил: «The late Marilyn Monroe». Чтобы понять эту игру слов или оговорку, надо иметь в виду, что «late» значит «опоздавшая», но также «покойная». Зрители засмеялись в темноте. Мэрилин осуществила желание, которое загадала с Труменом Капоте: опоздать на собственные похороны.
Затянутая в белоснежное платье, Мэрилин чуть спотыкается на каблуках-шпильках, касается микрофона кончиками пальцев, указывает на президента, который сидит где-то там, в темноте, закрывает глаза, облизывает губы и начинает петь. Надтреснутый, неуверенный, хрипловатый, ее голос как бы говорит: меня все бросили — Джо, Фрэнк, Артур, Ромео, — потому что я была плохой девочкой. Пусть видят теперь и они, и сорок миллионов американцев, до чего я плохая.
После спектакля, на званом вечере у Артура Крима, нью-йоркского театрального магната, Роберт Кеннеди порхает, как ночная бабочка вокруг свечи. Позднее вечером президент и Бобби увлекли Мэрилин в тихий уголок, где оживленно беседовали в течение четверти часа. Потом видели, как Мэрилин пять раз за вечер танцевала с Бобби под испуганным взглядом его жены, Этель. На рассвете воскресного дня президент и Мэрилин Монро ушли с праздника и спустились в частном лифте в подвальный этаж особняка Крима. Оттуда они попали по туннелю в отель «Карлайл», прямо в апартаменты Кеннеди.
Она больше никогда не видела Джона Кеннеди. После этой ночи президент решил порвать с ней, чтобы опровергнуть начавшие расползаться слухи об их связи. Хотя было сделано несколько фотографий Мэрилин с двумя братьями, до нас дошла только одна. Ранним утром агенты тайных служб конфисковали негативы снимков в фотолаборатории журнала «Тайм».
Когда Джоан Гринсон встретилась с Мэрилин накануне ее отъезда, та напомнила ей куклу — накачанная наркотиками, безвольная, поникшая. Она дала Мэрилин на дорогу, на счастье, детскую книжку «История паровозика, который все мог», чтобы Мэрилин взяла ее с собой в Нью-Йорк. Но когда белокурая звезда взошла на сцену Мэдисон Сквер Гарден, ее платье было таким обтягивающим, что она никак не могла спрятать под ним книжку или шахматного коня. Накачанная успокоительными и шампанским, с холодом в сердце, она вступила в огромную черную пасть, ослепленная прожекторами, таща за собой тень своего страха. Вернувшись в Лос-Анджелес, она рассказывала Джоан об этом ужасном моменте: «Все говорили о моем платье за шесть тысяч долларов из прозрачной ткани. Оно так обтягивало фигуру, что Жану-Луи пришлось зашить его прямо на мне. Они ничего не поняли. Это не платье было моей кожей, а моя кожа была и остается одеждой из плоти, моя кожа скрывает мою наготу».
Беверли-Хилл 3, Роксбери-драйв 21 мая 1962 года
В записях Ральфа Гринсона, посмертный архив которого хранится в Университете Калифорнии, в Лос-Анджелесе, находится черновик книги, которую он планировал написать, — «Медикаменты и наркотики в психоаналитической ситуации». В главе 12 мы читаем: «Когда я уехал в отпуск на пять недель, то счел уместным не оставлять эту пациентку без лекарств, которые она должна была принимать, чувствуя депрессию или тревожность. Иначе она могла бы почувствовать себя покинутой и осуществить свои планы самоубийства. Я прописал антидепрессант быстрого действия в комбинации с успокаивающим — дексамилом. Я надеялся, что она почувствует себя лучше, если у нее будет что-то полученное от меня, на что она сможет полагаться. Короче говоря, ситуация была такова: во время моего отсутствия она самостоятельно не справится с депрессивной тревожностью и одиночеством. Дать ей лекарства — значило бы дать ей «проглотить» часть меня, что-то, что она сможет принять внутрь, чтобы преодолеть чувство ужасной пустоты, которое подавляло ее и сводило с ума».
Психоаналитик уехал. Мэрилин также уехала. Он не возвращался. Она вернулась. Взбодренная амфетаминами, Мэрилин явилась на службу в шесть пятнадцать утра в понедельник 21 мая, через тридцать три часа после гала-концерта в Нью-Йорке. Она сообщила Кьюкору, что готова сняться в сценах, предусмотренных на тот день, но о крупных планах не могло быть и речи. Было видно, что она больна, и Уитни Снайдер понял, что никакой грим не сможет скрыть следы утомления, оставленные прошедшими выходными. Он покрыл все ее тело специальным составом — литр тонального крема цвета загара от Макс Фактора, полчашки белил цвета слоновой кости и немного клоунских белил.
В среду она наконец снялась в сцене с бассейном. Мэрилин вытаскивала Дина Мартина из постели Сид Черисс. Как правило, в сценах такого рода актриса или ее дублерша надевала трико телесного цвета. Никто не ожидал, что она появится на площадке голой. Когда все увидели, что она выходит из воды, сняв купальник, реакция была невероятной. Все бросились на съемочную площадку. Вайнштейн позвал охранников, чтобы закрыть доступ ко входу в студию. Снизив температуру амфетаминами и избавившись от головной боли с помощью демерола, Мэрилин провела четыре часа в воде под щелканье затворов и жужжание камер, о бесперебойной работе которых позаботился Кьюкор. Как и Пэт Ньюкомб, пресс-атташе, он понял, что для рекламы фильма это шанс, который нельзя упускать.
Большая часть следующего съемочного дня пропала. Но вместо нее последовала фотосессия обнаженной Мэрилин. Кьюкор пригласил трех фотографов: Уильяма Вудфилда, Лоренса Шиллера и Джимми Митчелла. Пятьдесят две фотографии, проданные по общей цене 150 000 долларов, были сразу же опубликованы в семидесяти журналах тридцати двух стран. Мэрилин снималась в фильмах обнаженной, когда только начинала свою карьеру кинозвезды. После этого она продолжила сниматься почти без одежды в пределах, продиктованных цензурой в фильмах «Ниагара», «Автобусная остановка» и «Неприкаянные». На этот раз подобная сцена ее не испугала. Напротив, в бассейне она почувствовала себя возрожденной. Не только потому, что похудела на шесть килограммов за несколько недель и вернулась к своим прежним размерам. Снова повторялась та же странная ситуация. Она стыдилась не своего тела, а слов.
В 1956 году Наташа Лайтесс, после разрыва отношений с Мэрилин, опубликовала ядовитую статью, в которой истолковывала ее тягу к обнажению как признак психической неуравновешенности. «Голая она шла из постели в ванную, голая выходила из кухни в сад, ничего не замечая, на глазах у костюмерш, гримерш, парикмахеров», — писала бывшая подруга, одно время делившая ее квартиру и постель, повлиявшая на ее актерскую игру в двадцати двух фильмах с 1948 по 1955 год, пока ее не сменила Паола Страсберг в фильме «Зуд седьмого года». «Можно было подумать, — продолжала Наташа, — что нагота ее успокаивает, вводит в какой-то гипноз. Она бесконечно вглядывалась в свое отражение в большом зеркале, сидя или стоя, с приоткрытым ртом, тяжелым взглядом полузакрытых глаз, полностью погруженная в собственный образ».
Навязчивое влечение, которое Мэрилин испытывала к зеркалам, началось в раннем детстве. Ее часто находили застывшей перед своим отражением. Когда она выросла, ее друзья и коллеги постоянно видели, как она разглядывает себя в трюмо, поправляя платье или приглаживая изгиб брови. Она просто не могла пройти мимо зеркала, не остановившись перед ним. Трумен Капоте рассказывает, что однажды видел, как она несколько часов просидела перед своим отражением. Он спросил, что она делает и она ответила: «Смотрю на нее».
В начале пятидесятых годов Билли Холлидей пела как-то вечером в одном ночном клубе Лос-Анджелеса. Мэрилин сопровождал ее костюмер, Билл Травилла. Он сказал ей, что в комнате, служившей уборной чернокожей танцовщице, висит на стене календарь со снимками обнаженной Мэрилин. Монро бросилась туда и, не сказав Билли ни слова, не взглянув на нее, встала перед собственными фотографиями, не отрывая от них взгляда, словно в экстазе. Билли бросила календарь ей в лицо и выгнала ее, обозвав идиоткой.
Прежде чем переехать в 1957 году в квартиру, где она жила с Артуром Миллером и которую сохранила до самой смерти в качестве своего пристанища в Нью-Йорке, Мэрилин покрыла зеркалами несколько стен от пола до потолка.
Но фотографии имели, по сравнению с зеркалами, одно драгоценное преимущество: за ними был еще кто-то, другой человек. А перед ними — зритель — кто-то, кроме Мэрилин. Они представляют человека, не меняя правой стороны на левую, а ведь именно такой образ видят окружающие. Они представляют тебя такой, какой тебя видят окружающие — ведь слово «объектив» плохо передает эту уникальность взгляда, эту субъективность, скрывающуюся за аппаратом. Фотографии связывают то, что зеркала разбивают. За несколько недель до встречи с Ральфом Гринсоном Мэрилин говорила У. Дж. Уэзерби: «Я часто думаю, что лучше не быть знаменитой. Мы же, актеры, мучаем себя нашим образом, мы — как бы это сказать? — нарциссичны. Я часами могу сидеть перед зеркалом, подстерегая признаки старения. Я хочу стареть, не делая косметических операций. Подтянуть обвисающую кожу лица — слишком простое решение. Это лишает лицо жизни, выразительности. Я хочу быть верной моим чертам, этому лицу, которое я сделала себе, я хочу быть для этого достаточно смелой. Но иногда я думаю, что было бы легче избежать старости, умереть молодой, но тогда кто же доживет твою жизнь? Кто узнает, кто ты такой?»
Мэрилин не хватило времени на то, чтобы время ее сразило. Рука времени лишь слегка коснулась, чуть измяла ее черты. В последние месяцы она пользовалась гормональными кремами и омолаживающими инъекциями. Она прятала руки, не снимая перчаток, чтобы не были видны следы уколов. В последний год что-то смутно трагическое и отчаянное сквозило в том, как она показывала свое тело камере. По мнению Евы Арнольд, которая фотографировала ее обнаженной в 1960 и 1961 годах, «она утратила линии тела молодой женщины и отказывалась от того, чтобы ее тело изменило материнство. Ее слепота к физическим изменениям начинала смущать…». Через некоторое время Арнольд обнаружила, что негативы снимков обнаженной Мэрилин исчезли из ее архива.
Голливуд, бульвар Пико, киностудия «Фокс» 31 мая 1962 года
Мэрилин исчезла на три дня. «Возможно, это были самые таинственные выходные в ее жизни, — рассказывал впоследствии Генри Вайнштейн. — Еще более загадочные, чем ее смерть. Что-то ужасное поразило ее психику. Я понял это и сожалею о том, что сразу же не позвонил доктору Гринсону и не попросил его вернуться».
Но на этот раз она вернулась. Она пришла в себя, как говорят после обморока. На понедельник, 28 мая, Кьюкор назначил съемки сцены продолжительностью восемь минут с участием Мэрилин, Дина Мартина, Сид Черисс и Тома Трайона. Когда Мэрилин ступила на площадку, она двигалась, как будто была стеклянной и боялась разбиться. Все ее движения были неуверенными, колеблющимися. В первом эпизоде она должна была сказать всего два слова: «Ник, любимый». Сколько ни повторяли съемку, ей не удавалось сказать эти слова правильно. Когда начали снимать следующую сцену, она стала заикаться. Кьюкор разговаривал с ней все более нетерпеливо. Она выбежала с площадки, бросилась в свою уборную, схватила пунцовую губную помаду и написала на зеркале: «Фрэнк, помоги мне! Фрэнк, умоляю, помоги!» — и разразилась рыданиями. Весь день между съемками она пыталась дозвониться до Фрэнка Синатры.
Но уже назавтра она удивила всех, с увлечением сыграв в предусмотренных сценах. За исключением рокового понедельника, она проработала девять полных дней, с 21 мая по 1 июня.
Последние кадры Мэрилин Монро, запечатленные на пленку 31 мая 1962 года, — немые. Из фильма «Что-то должно рухнуть» отснято только тридцать пять минут. На этих кадрах — лицо несказанно жестокой красоты, с удивленным и смутно обеспокоенным взглядом глаз, с расширенными, словно от бессонницы, зрачками, — женщина полностью обнаженная, чье платье сверкает белизной и цветами, как призыв. Женщина, которая возвращается к себе после того, как ее сочли мертвой. Она излучает печальную враждебность, как отверженная в этом мире, жестоком и глубоком, как зеркало. Прямо перед камерами 14-й съемочной площадки «Фокс» она играет свою жизнь. Но она играет, как призрак. Ее волосы похожи на ломкий, белоснежный лакированный парик. Она дублерша самой себя. Мэрилин, пародирующая Мэрилин, как будто она хочет быть отныне лишь собственным образом или еще уменьшиться, превратиться в его отражение в открытых глазах, раствориться в ярко-голубой воде бассейна на цветной пленке, в столбе света, который излучают прожектора. Эпизод заканчивается командой режиссера, прозвучавшей из-за кадра: «Стоп!» Актриса, молчавшая до этого, повторяет одними губами: «Стоп!» (Cut!). Вид у нее одновременно печальный и разгневанный, как у ребенка, которого оторвали от игры. Она ненавидела это слово, которым режиссеры останавливают камеры, этот антоним команды «Мотор!». Это слово все время появлялось в словаре студий и любовных отношений: «to be cut off» — так говорится, когда разъединяется телефонная связь или прерывается связь любовная.
На следующий день ей должно было исполниться тридцать шесть лет. Это были последние съемки, последний день, когда камера превращала Мэрилин в ее образ. Два месяца спустя режиссер ее судьбы снова скажет «Стоп! Снято!» Нить фильма ее жизни будет перерезана навсегда. И ни один ассистент режиссера не крикнет: «Еще раз! Последний дубль!»
Мэрилин умерла в нескольких сотнях метров от дома № 5454 на Уилшир-бульвар, где в далеком прошлом жила ее мать. В то время Глэдис работала в голливудских студиях: она была монтажницей в «Консолидейтед Фильм Индастриз». «Консолидейтед» была одной из многочисленных лабораторий, в которых проявляли и печатали контрольные снимки, текущие съемочные материалы, пробные кадры. Это были черновики сцен, предназначенные для показа продюсерам, режиссерам и работникам компании на следующее утро после дня съемок. Глэдис работала шесть дней в неделю, в белых перчатках, которые защищали негативы от отпечатков пальцев. «Монтажница» по-английски «film cutter». Глэдис вырезала из фильмов фрагменты, указанные режиссерами студии, и затем передавала их тем, кто склеивал вместе разные части в порядке, предусмотренном для окончательного негатива.
Двадцать шесть лет спустя, погожим августовским днем, пять оригиналов видеозаписей с кадрами последнего фильма Мэрилин Монро, которые считались пропавшими, были подпольно вывезены из архивов «Фокс» в Сенчури Сити. Спрятанные в машине работника киностудии бобины пленки были немедленно отправлены в дом в Бербанке. Там их показали на широком экране ста семидесяти специально отобранным зрителям. Перед этими сценами без музыки и монтажа шла заставка крупным планом со следующим титром: «Бобина 17 «Что-то должно рухнуть», 14 мая 1962 года». Кроме нескольких очень кратких эпизодов в документальном фильме «Фокс» все кадры этого последнего незаконченного фильма хранились с тех пор вдали от любопытных взглядов. Когда Мэрилин появилась на экране, в зале воцарилась глубокая тишина, она стояла все сорок пять минут показа.
Фильм был нечетким, в некоторых местах пленка выцвела, но его содержание было необыкновенно волнующим: Мэрилин выглядела лучезарно. Монтажник соединил эпизоды мастерски, чередуя немые эпизоды, отрывки диалогов и комические сцены. В конце показа был одиннадцатиминутный эпизод, в котором Мэрилин плавала в бассейне ночью. С широко открытыми глазами и почти обнаженной под водой грудью она увлеченно и неловко плыла к бортику бассейна. Потом, глядя прямо в камеру, она вышла из воды и накинула серо-голубой купальный халатик. Нереально голубая вода. Нежно-синяя ночь. Акварельная голубизна ее халатика. Потерянная голубизна глаз.
В ту минуту, когда закончилась последняя бобина пленки и экран наполнился мерцающими точками, раздались аплодисменты. Работник студии собрал пленку, не перематывая ее, и ночью вернул в архивы «Фокс». Записи исчезли. Несмотря на настоятельные вопросы поклонников Мэрилин, студия продолжала отрицать существование этого фильма и отвечала, что были отсняты только десять минут, уже показанные в документальном фильме под названием «Мэрилин», снятом «XX Сенчури Фокс» в 1963 году.
Весной 1990 года эти записи появились вновь при странных обстоятельствах. Генри Шиппер, молодой редактор новостей «Фокс» в Лос-Анджелесе, рылся в архивах, разыскивая материал для памятной передачи о Мэрилин, и обнаружил некоторые указания, которые навели его на след фильма «Что-то должно рухнуть». Он был более удачлив или более последователен, чем предыдущие искатели кадров. В «Fox Entertainment News», перед своим компьютером, он не торопясь обыскал одно из самых крупных кладбищ фильмов в мире и обнаружил, что камеры «Фокс» всюду следовали за их любимой звездой, с первой пробной съемки до ее похорон на кладбище Вествуд. Но от последних съемок не осталось и следа. Он еще не знал, что найдет свое счастье в глубине соляного прииска в центре Канзаса, в галерее, в сотне метров под землей. Там он обнаружил все бобины фильма «Что-то должно рухнуть». Целлулоидная принцесса пробудилась от сна, лишенного любви. Шиппер, понимая, что нашел разгадку головоломки, которой была жизнь Мэрилин Монро, унес пленки в проекционный зал, в котором заперся на два дня, поглощенный этим фильмом, оставшимся на стадии съемочных материалов, и ошеломленный тем, что почти все кадры остались невредимы, в том числе некоторые планы, показывающие режиссера за работой. Больше всего было съемок Мэрилин, репетирующей одну и ту же сцену по двадцать раз подряд, редко допускающей ошибки и никогда не пропускающей реплики.
Руководство «Фокс» солгало, заявив, что фильм потерян, и даже вычеркнуло его из списка фильмов компании. Студия также утверждала, что Мэрилин играла сцены в полубессознательном состоянии, накачанная лекарствами, и все считали, что ее работа над этим последним фильмом была всего лишь печальным завершением блестящей карьеры. Этот фильм доказывал обратное. Мэрилин появилась в нем в наилучшей форме. Ее игра была на уровне других ее фильмов: забавная и трогательная, она освещает экран.
Беверли-Хиллз, Роксбери-драйв 31 мая 1962 года
Когда продюсеры смотрели рабочие съемочные материалы фильма «Что-то должно рухнуть», они нашли, что игра Мэрилин «какая-то замедленная и сонная». Ее предлагали заменить другой актрисой. Мэрилин, очень встревоженная, беспорядочно металась, уже не понимая, откуда ждать опасности. Вечером Мэрилин пришла к Уэкслеру. В тот день Джордж Кьюкор вел себя особенно невыносимо. Тридцать дублей одной и той же сцены — и ни один не признан удовлетворительным. Мэрилин кричала. Она была в бешенстве.
— Стоп! Эти слова я слышу уже пятнадцать лет. Стоп! Мотор! Снято! Еще один последний дубль! Разве они понимают, эти киношники, что они снимают, запускают, режут, монтируют нас, актеров… Кино — это как половой акт: другой человек берет твое тело, чтобы проиллюстрировать фантазии, в которых тебя нет. Только без нежности, которая иногда дает чувство, что хоть немного существуешь и сам как человек. Упорядоченная жестокость начинается с других.
— Делайте уступки, — сказал психоаналитик Уэкслер. — Кьюкор — гомосексуалист, он ненавидит женщин, это точно. Но он великий режиссер. Позвольте ему вами управлять.
— Нет, я не хочу этого терпеть. Не хочу больше, чтобы со мной обращались так деспотично. Я подписала первый контракт с «Фокс» в 1946 году. Мне было двадцать лет. В начале прошлой зимы они послали мне телеграмму: если вы не сниметесь в последнем фильме, предусмотренном контрактом, мы будем десять лет таскать вас по судам. В декабре я уступила. К этой студии, ко всему, что она представляет, я испытываю только презрение. Сама табличка с названием «Фокс» вызывает у меня тошноту.
— Попытайтесь закончить работу. Я понимаю Кьюкора. Он действительно в отчаянии. Я бы тоже так чувствовал себя на его месте. Вам надо взять себя в руки.
— Это невозможно. Ваш коллега уехал почти месяц назад. С тех пор у меня ничего не ладится. Сегодня мне исполнилось тридцать шесть лет. И Кьюкор пришел в ярость, когда узнал, что в конце дня планируется отметить мой день рождения. «Только не на съемочной площадке. Только не сейчас!» — сказал он. Но после работы мне подарили именинный торт с горящими бенгальскими огнями, а наверху — две фигурки: я в неглиже и я в бикини, — торт с большой помпой ввезли на тележке. И это студия «Фокс», которая потратила более 5000 долларов на день рождения Элизабет Тейлор во время съемок «Клеопатры» в Риме! На торт скинулась съемочная группа. Шампанское купил Дин Мартин. Все пели: «Happy Birthday». Еще одна маленькая серенада любви, которая пытается прогнать смерть сладостями и поцелуями. Но тут настала моя очередь. Мне показалось, что торт — это я, а тележка — носилки. Я убежала.
Помолчав, она продолжила:
— Вы верите в смысл цифр? Сейчас 1962 год, а я родилась в 1926-м. Шестьдесят два — это двадцать шесть наоборот. Двадцать шесть лет прожила Джин Харлоу. Тридцать шесть лет мне, и в стольких же фильмах она снялась. Значит, это либо мой последний год, либо я наконец найду Норму Джин, которая родилась 01. 06. 1926, в 9 часов 30 минут утра в Общей больнице Лос-Анджелеса. В тот год, когда умерла Харлоу. Бывают дни, когда мне хотелось бы прожить мою жизнь наоборот, как перематывают пленку. Скажите, доктор Уэкслер, что заставляет возвращаться назад в фильме — смерть или жизнь? Я боюсь, что это будут мои последние съемки. И мои последние сеансы психоанализа… Вы ничего не отвечаете. Вам наплевать. Вы ждете конца этого часа и ваших долларов!
Она долго молчала, потом продолжила;
— Я полгода танцевала для фильма «Давай займемся любовью». Мне так и не удалось отдохнуть. Я ужасно устала. Куда мне идти?
Она внезапно вскочила и вышла, не говоря ни слова. Уэкслер не поднял головы; он подумал: «К черту!»
Рим, 1 июня 1962 года
Ральф Гринсон отлучился с собрания, на котором сидел с утра с коллегами — римскими психоаналитиками. Он заскучал и предпочел бесцельно погулять по Трастевере. Он остановился перед магазином подарков на площади Святой Марии и стал искать на полке с игрушками подарок для Мэрилин. Он решил послать ей что-нибудь символическое, что поможет дождаться его. Подарок, купленный в день рождения. Похоже, шахматной фигурки было недостаточно, чтобы успокоить ее страх покинутости, судя по отчету Уэкслера.
Когда продавщица спросила, что он хочет купить, он ответил, что сам не знает.
— Сколько лет ребенку?
— Тридцать шесть. Простите, три — шесть, для ребенка от трех до шести лет.
— Лучше всего будет плюшевая игрушка.
Гринсон поискал в куче игрушек лошадку, что-нибудь, что напоминало бы шахматного всадника. Он выбрал зверушку, больше всего напоминающую его внешне — тигренка, — и заказал подарочную упаковку.
— Вы не могли бы отослать его в США? У меня нет времени, а вы больше разбираетесь в таможенных и прочих формальностях. Конечно, доставку я оплачу.
— С удовольствием. Какой адрес?
Гринсон написал на протянутом ему листке бумаги:
«ММ. Проживает по адресу: 122305, Фифт Элена-драйв, Брентвуд 90049 3930 GA., США, Земля».
Он не указал отправителя, не приложил записки. Она поймет. «На самом деле, — подумал Гринсон, — мы с ней принадлежим к разным видам. Мы были созданы, чтобы не встретиться, как тигр и кит. Не могу сказать, кто из нас двоих был тигром, а кто китом».
В свой последний день рождения Мэрилин ранним утром позвонила детям своего психоаналитика и пригласила их кое-что отпраздновать. Джоан и Дэнни провели с ней весь вечер. Они пили шампанское из пластиковых стаканчиков, сидя на нераспакованных ящиках с вещами. Они подарили Мэрилин бокал, на котором было выгравировано ее имя. «Теперь, — сказала она, — когда я пью, я всегда смогу помнить, кто я такая». Шахматная доска лежала на полу, фигурки были разбросаны. Не хватало белого коня.
Через два дня Мэрилин снова позвонила им. Рыдая, она попросила их прийти к ней. Она лежала в постели, некрасивая, голая, прикрытая только простыней; вокруг валялись лекарства. Рядом с кроватью — статуя Родена. На глазах Монро — маска из черного бархата. Менее эротичную сцену трудно себе представить. Она была в полном отчаянии. Она никак не могла заснуть — а время уже перевалило за полдень — и постоянно винила себя. Она говорила, что она всего лишь жалкая развалина, что она уродлива, люди выказывают ей приязнь только из корыстных побуждений. Она повторяла, что у нее никого нет, что она сама — никто. Она также сокрушалась, что у нее нет детей. Ее монолог был сплошь пронизан мрачными мыслями, она повторяла, что больше не хочет жить. Джоан и Дэниэл вызвали доктора Энгельберга, который забрал флаконы с медикаментами и спрятал их в свою черную кожаную сумку. Уэкслер, которому также позвонили, высказал подозрение о передозировке дексамила и не приехал.
Вечером следующего дня Мэрилин вышла из дому в черном парике.
Брентвуд, Фифт Хелена-драйв 1 июня 1962 года
Прожив двадцать лет в Париже, фотограф Джордж Баррис решил в 1982 году переехать обратно в Лос-Анджелес. Вместе с женой и дочерьми он посетил склеп Мэрилин в Аллее памяти кладбища Вествуд. Вскоре после этого он начал писать книгу воспоминаний и фотографий, посвященную той, о которой он сказал: «Она была полна жизни, и я никогда не поверю, что она покончила с собой».
Они познакомились в Нью-Йорке в сентябре 1954 года. Он делал фотографии к фильму «Зуд седьмого года». Когда Баррис приехал на съемочную площадку, первое, что он увидел, была ее спина. Низ спины. Для одного из планов фильма она высунулась из окна дома из коричневого камня на 61-й Восточной улице, шикарной улице Манхэттена. Подкравшись сзади, он щелкнул затвором фотоаппарата — она вздрогнула и обернулась, улыбаясь. Он сделал дюжину фотографий. Щелканье и смех, игривый прищур и открытые взгляды — лед был сломан. Фотограф был заворожен не столько актрисой, сколько простой и смешливой девочкой-подростком, которой до сих пор осталась эта двадцативосьмилетняя красавица.
— Какой у вас знак зодиака? — спросил он.
— Близнецы. А у вас?
— У меня тоже. Нам должны нравятся одни и те же вещи. Хотите, сделаем книгу вместе?
— Когда-нибудь, почему бы и нет? А пока снимите меня…
Баррис сделал в студии, со вспышкой, тот знаменитый снимок, на котором Мэрилин смеется, стоя на вентиляционной решетке метро и прижимая к бедрам светлое развевающееся платье. Кадр, похожий на эту фотографию, был также снят не на улице, а в студии несколько недель спустя в Голливуде. Впрочем, на этом снимке, пробуждающем наше воображение, показаны только бедра актрисы, и только воображение и желание заставляют нас видеть ее лобок, голый или скрытый белыми трусиками. Образ — это не то, на что мы смотрим, а то, что смотрит на нас.
Мэрилин, радуясь, что они с фотографом вновь нашли друг друга, попыталась восстановить связь с этой магией фотографии — экраном мечты. Ей нравилось играть словами «Магия» (magic) и «образ» (image). Книга не была составлена при жизни Мэрилин. В течение восьми лет она снималась в фильме за фильмом и стала всемирно известной звездой. Она забыла об этом плане, но в 1962 году случайно вновь встретила Барриса на съемочной площадке фильма «Что-то должно рухнуть». Фотограф только что приехал из Рима, где заканчивались съемки «Клеопатры» — фильма, грозящего студии катастрофой, и предложил журналу «Космополитен» сделать репортаж о другом фильме «XX Сенчури Фокс». Идеей репортажа (обложка и восемь — десять страниц бесед и фотографий) было следующее: может ли Мэрилин в тридцать шесть лет все еще играть сексуальных девушек?
Фотограф положил руку ей на плечо:
— Привет! Я специально подошел к тебе со спины. Как в первый раз. Боялся, что ты меня не узнаешь.
— Ты шутишь? Мы слишком давно знакомы. Ты приехал? — замурлыкала она, обнимая его. — Чтобы снимать фотографии мисс Золотые Мечты? А книга? Если мы сделаем книгу, мне хотелось бы, чтобы там были не только картинки.
— Конечно, там будут слова, твои слова.
— Хорошая мысль. В последнее время отношения со словами у меня наладились. Они стали моими друзьями. Раньше мне в Лос-Анджелесе нравилось то, что это город без названий, город безымянных. Здесь в адресе цифры важнее фамилии, и, чтобы не ошибиться на десять километров по Уилширу, лучше не делать ошибок в номерах. Все было как в моей жизни: число любовников, приемных семей, мест жительства, число пилюль, которые надо проглотить, чтобы забыть о числах. Только это и имело значение. Сегодня я чувствую, что слова обозначают мои границы, и это хорошо. Я привыкла к мысли, что говорить все равно придется. Конечно, многое зависит от того, с кем.
— Кстати, о цифрах и датах, сегодня 1 июня. Насколько я помню, это твой день рождения. Вот я и сел в самолет «Нью-Йорк — Лос-Анджелес», чтобы посмотреть, как время обошлось с моей старой подругой. Прости за «старую».
Она рассмеялась, а он снова обнял ее:
— С днем рождения! Пусть этот день будет счастливым! И надеюсь, что все будущие дни рождения будут не хуже.
Этот стал последним. Баррис рассказал ей о проекте «Космополитен». В этот момент режиссер вызвал ее на освещенную площадку. Она попросила фотографа оставаться неподалеку.
Они поговорят о книге и обо все остальном позднее. В пятницу в пять часов вечера, как только она закончила сцену, кто-то на площадке запел: «С днем рождения, Мэрилин». Засветились огоньки бенгальских огней, все подняли бокалы с шампанским «Дом Периньон». Она прослезилась. Баррис подумал, что мерцание света, пузырьки в шампанском и слезы создают вокруг ее лица какую-то волшебную ауру, но так и не сделал снимка.
Немного позже, утерев слезы, она повезла фотографа на свою гасиенду в Брентвуде.
— Меня защищает стена высотой два-три метра. На моем почтовом ящике нет моего имени. Почтальон знает, что я живу здесь. Не знаю, заметил ли ты, что дорожка из четырнадцати квадратных плиток, которая ведет к моей двери, заканчивается надписью на керамике: Cursum Perficio, это значит: «Конец скитаний». Надеюсь, что это так… Домик маленький, но так даже уютнее. Спокойствие и безмятежность — вот что мне нужно сегодня…
Она весело спросила его:
— Ты умеешь играть в шахматы? Я недавно научилась, теперь это моя страсть. В этой игре так много названий и образов, которые говорят обо мне, понимаешь?
— Нет, я, к сожалению, никогда не играл в шахматы.
— Ничего, я тебя научу.
Голливуд, Бель-Эр, дом Джоанны Карсон август 1976 года
Примерно через пятнадцать лет после смерти Мэрилин, однажды зимой, Гринсон узнал, что Капоте приехал в Голливуд сыграть в фильме «Убийство смертью» роль эксцентричного миллионера, в чьем доме было совершено убийство. Психоаналитик спросил Джоанну Карсон, общую знакомую, не может ли он познакомиться с писателем. Он не сказал, что хочет поговорить с ним о смерти Мэрилин.
— Вы знали ее, когда она была еще не тем мифом, которым стала потом, а просто актрисой, — начал Гринсон. — Вы знаете, я любил Мэрилин. И вы достаточно умны, чтобы понимать, что значит любить, как в психоанализе, так и в том, что вы называете настоящей жизнью.
— Я не уверен, что мы говорим об одном и том же. Для вас, психоаналитиков, любовь — это лекарство. Для меня — это сама болезнь. Любовь? Это глупая штука, эдакая, если хотите, детская игра, в которой каждый играет роль матери другого…
— Любовь — это связь, в которой оба считают себя объектом любви, — перебил его Гринсон. — Оба дают и оба принимают.
— Не два человека. Два отчаяния. Два недоделанных существа, которые ищут в другом то, что, как им точно известно, никогда не найдут. Знаете, что указывает на превращение сексуальной связи в любовную? Два признака. И тот, и другой касаются чего-то детского. Первый признак — это непосредственная психическая близость, возвращение к детству (в смысле латинского слова infans, которое обозначает не умеющее говорить существо, лишенное языка). Впрочем, не мне это объяснять психоаналитику… Он выражается в детском языке, использовании уменьшительных имен, тонком голоске. Особый язык между двумя любовниками. А другой признак любви — доступ к анальности, господин аналитик, — рассказывать другому о своем пищеварении, своих выделениях, своем дерьме.
— Как отличить любовь, которую мы называем в психоанализе «любовью переноса», от другой любви? — спросил Гринсон, как будто не слышал сказанного.
— Вы, психоаналитики, неисправимы, — ответил Капоте своим бесполым детским голосом. — Вы, стало быть, не хотите видеть, что любовь ничего не оправдывает, ничего не объясняет, никого не обвиняет. Что это просто вопрос языка. Вы сидите здесь и оправдываетесь: я ее любил. Ну и что? Ваша любовь была любовью убивающей. Вот и все!
Когда Гринсон выходил из дома на Бель-Эр, Капоте шепнул ему на ухо:
— Ее смерть — вот виновница. Как название фильма, в котором я сейчас играю: «Убийство смертью». Это смерть ее убила. Никто другой — ни она сама, ни кто бы то ни был.
За некоторое время до смерти Мэрилин Трумен навестил ее в Брентвуде.
— Ты похудела?
— На несколько килограммов. Шесть или восемь. Не знаю.
— Если будешь так продолжать, твоя прозрачная душа станет просвечивать сквозь столь хрупкую плоть.
— Не издевайся. Чья это фраза?
— Моя. Никто так хорошо не процитирует тебя, как ты сам. А твоя душа?
— В отъезде. Роми, мой спаситель, вернулся на небо и восседает по правую руку от Фрейда. Он читает лекции на конгрессе в Европе.
— Твой психоанализ тебя убьет. Брось его!
Действительно, Капоте недолюбливал психоанализ и ненавидел Голливуд. Что же до голливудского психоанализа, то для него он был хуже, чем просто модой — болезнью. «Жители Калифорнии либо проходят психоанализ, либо работают психоаналитиками, либо и то и другое», — отвечал он тем, кто хотел уговорить его лечь на один из диванов «каньона кушеток». В итоге он пошел на это, но поскольку был раздвоен во всем, то проходил одновременно два анализа — с женщиной и мужчиной.
«Капоте ошибается, — думал Гринсон, возвращаясь в Санта-Монику. — Не в том дело, что в Голливуде везде психоанализ, даже в кино, а в том, что там все кино, даже психоанализ. Люди живут, разговаривают, двигаются, сближаются и расходятся, как на съемочной площадке. Они играют роли. Вся история психоанализа Мэрилин была, возможно, лишь сценарием, который накропал литературный негр одной из киностудий».
Психоаналитик только что прочел книгу, представленную как автобиография его пациентки: «Моя история», — изданную пять лет назад под ее именем, но написанную двадцать лет назад Беном Хехтом на основе бесед с ней. «Вся история психоанализа Мэрилин, возможно, была лишь ее исполнением роли Сесили, которую мы помешали ей сыграть, — думал Гринсон. — Роль типичной истерички, охваченной женским эдиповым комплексом». Ее лечение было именно тем психоанализом, который представляли в Голливуде в шестидесятых годах, с выявлением давней психической травмы, воскрешением вытесненных воспоминаний и любовью к доброму бородатому психотерапевту. А по какому сценарию была разыграна сама ее смерть? Когда Гринсон прочел в «Моей истории»: «Я была девушкой из тех, которых находят мертвыми в жалкой спальне, с флаконом снотворного в руках», — у него появилось впечатление, что вечером 4 августа 1962 года Мэрилин хорошо сыграла свою роль. Впрочем, она назвала свою исповедь не «Моя жизнь» или «Мемуары актрисы», а «Моя история», как будто знала на вершине своей славы, что всего лишь заполняет своим телом пробелы в сценарии, написанном не ей. Как в тот день, когда на съемочной площадке фильма «Что-то должно рухнуть» она видела, как Кьюкор, оставаясь вне поля зрения, подсказывал ей фразы, когда она через каждые четыре слова снова и снова забывала текст.
Но разве Гринсон делал не то же самое? Он подавал ей реплику. Он играл, убежденно и мастерски, роль чересчур благосклонного и совсем не нейтрального психоаналитика. В коллективном бессознательном Голливуда смерть Мэрилин Монро превратилась в черный фильм «Смерть мисс Золотые Мечты, кинофильм, в главных ролях Мэрилин Монро и Роми Гринсон». Резюме фильма: Голливуд, январь 1960 года — август 1962 года. Смерть звезды. Монро играет роль Мэрилин. Мрачный, обольстительный и жестокий персонаж подает ей реплику и диктует ее последние строки: «Ромео, мужчина, которого она любит до смерти». На экране его роль исполняет Ральф Гринсон, ее психоаналитик. Любовь в переносе? Смертельный перенос? Она любит, но не знает кого. Она умирает, но никто не знает отчего. Когда Гринсона обвиняют в ее убийстве, он даже не задумывается — виноват ли он в том, что слишком ее любил?
Вествуд, Фифт Хелена-драйв 6 июня 1962 года
Гринсон посетил Грецию, Израиль и Италию. Он готовился к поездке в Швейцарию. Мэрилин, будучи не в состоянии говорить, составила список вопросов и попросила Юнис Муррей передать их Гринсону по телефону. Он понял, что вопросы менее важны, чем их невысказанный смысл: «Когда вы вернетесь?», но не захотел с ней разговаривать. Мэрилин висела на телефоне, звоня по несколько раз в день Ли Страсбергу, Норману Ростену и его жене, Ральфу Робертсу, Уитни Снайдеру и Пэт Ньюкомб. Все замечали ее потерянность.
В понедельник после своего тридцать шестого дня рождения Мэрилин не явилась на съемки. Питер Дж. Леватес, который был директором «Фокс» в течение двух лет, уехал в Европу, чтобы справиться с катастрофой «Клеопатры». Он заявил, что также уладит дело Монро. Понимая, чем грозит его возвращение, Мэрилин заявила, что «готова сниматься и с нетерпением ждет, когда сможет вернуться к работе». Она участвовала всего в двенадцати днях съемок из тридцати четырех. На следующий день актриса на съемки не явилась. Отослав всех, Кьюкор решил, что если она не явится и на следующий день, то он прекратит съемки фильма. «Фокс» грозила объявить ее контракт недействительным. Кьюкор уже обдумывал ее замену: рассматривались кандидатуры Ким Новак, Ширли МакЛейн, Дорис Дей или Ли Ремик. Гринсон, с которым по просьбе Мэрилин связался Рудин, обещал, что вернется как можно скорее и оставит жену у ее родственников.
Через два дня, высадившись в международном аэропорту Лос-Анджелеса после семнадцатичасового перелета, Гринсон поспешил прямо к Мэрилин и нашел ее в коматозном состоянии. По крайней мере, она была жива. Неизвестно, что произошло между ними, но на следующий день пластический хирург Беверли Хиллз, Майкл Гурдин, принял Мэрилин, явившуюся в сопровождении своего психоаналитика. Гурдин уже оперировал ее тринадцать лет назад — он изменил ей форму носа и скул. Сейчас она говорила гнусавым, надтреснутым голосом; грязные волосы были спутаны, под глазами темнели синяки, которые не удалось замаскировать косметикой. Психоаналитик сказал, что она «поскользнулась в душе». Врач понял, что она находится под действием наркотиков, но Мэрилин беспокоилась прежде всего о назначенной фотосессии и спрашивала, не сломан ли ее нос: «Если мой нос сломан, сколько времени понадобится, чтобы его восстановить?» Рентген показал, что кости и хрящи не повреждены. Она бросилась к доктору Гринсону в объятья. Психоаналитик ответил на вопросы хирурга. Гурдин исключил перелом. Возможно, она упала, но возможно также, что ее ударили, так как гематома от травмы носа легко распространяется на веки.
Гринсон сразу же позвонил Микки Рудину и велел ему передать студии, что теперь все в его руках.
— Она в состоянии сниматься — как с физической, так и с психической точки зрения. Я убежден, что она сможет закончить фильм в срок.
Он попросил Юнис Муррей ничего не говорить об инциденте ни Энгельбергу, лечащему врачу Монро, ни прессе, ни представителям «Фокс», которым сообщили, что отныне именно с Гринсоном предстоит обсуждать художественные вопросы съемок: планы, изменения сценария, костюмы…
На следующий день, во время обеда в «Фокс», Фил Фельдман, вице-президент по оперативным вопросам, сказал психоаналитику, что студия теряет 9000 долларов в день, когда Мэрилин не снимается, и попросил его самому доставлять ее в Сенчури Сити.
— Если она настолько зависит от вас, то что же станет с фильмом, если она вас бросит? — добавил Фельдман.
На этот вопрос Гринсон не ответил, но подчеркнул, что ему удалось вернуть ее на съемочную площадку «Неприкаянных» после недели, проведенной в больнице, и она смогла закончить фильм Хьюстона. Он считал, что сможет повторить это достижение.
Однако в конце дня, за несколько минут до закрытия заседания суда малой инстанции, студия «Фокс» потребовала 500 000 долларов в качестве возмещения убытков за нарушение контракта и объявила прессе, что Мэрилин больше не входит в актерский состав. Гринсон, вернувшись с обеда, узнал эту новость по радио в своем автомобиле. Он поспешил к Монро и сделал ей внутривенную инъекцию успокоительного.
Немного позднее, вечером, сообщили, что Мэрилин будет заменена Ли Ремик. На следующее утро Дин Мартин заявил, что уходит из фильма: «Я очень уважаю мисс Ли Ремик и ее талант, а также всех других замечательных актрис, которые предназначались на эту роль, но я подписал контракт на съемки этого фильма с Мэрилин Монро и не буду сниматься ни с кем другим». Ему с самого начала не хотелось сниматься в этом фильме, признавался он, но он согласился на это только потому, что именно его участия хотела Мэрилин. Попытки Леватеса заставить его изменить решение не имели успеха. Генри Вайнштейн скажет об этом эпизоде: «Все актеры переживают периоды тревоги, горя, сердечных мук, но у нее это было другое: настоящий ужас».
Вечером, вернувшись в Санта-Монику, несмотря на усталость, накопившуюся после перелета, Гринсон не мог заснуть. Он поднялся с кровати. Через два часа Хильди увидела, что ее муж сидит в кресле и рассматривает рентгеновские снимки черепа Мэрилин, поднимая их к оранжевому абажуру настольной лампы. Он удивленно вскинул взгляд, как ребенок, застигнутый врасплох, но, сохраняя невозмутимость, словно был погружен в молитву, продолжил рассматривать снимки. Он не искал повреждений, а бродил взглядом по размытым белым и черным пятнам, читая сквозь неравномерные сгущения и градации прозрачности тайные линии красоты. Тень рта на снимке словно пыталась что-то ему сказать.
Санта-Моника, Франклин-стрит 11 июня 1962 года
По возвращении Гринсон нашел в почтовом ящике множество записок, принесенных Мэрилин, просто сложенных, без конвертов, покрытых пятнами. Одна из них его растрогала: «Снова шахматная доска. Я смотрю на нее и, не знаю почему, думаю, что предстоят последние ходы. Все ходы той партии, которой была моя жизнь, повторяются в последних движениях фигур. Состояние моего тела и моей души, качество моей актерской игры, авторитет режиссера, которым я до сих пор в некоторой мере восхищаюсь, сексуальные отношения, в которых меня брали, как шахматную фигуру в нашей игре, — я вижу все ходы как перемещения фигур на шестидесяти четырех клетках. Вплоть до того, как наступит мат».
На этих словах записка прерывалась, и психоаналитик вновь погрузился в задумчивость. Пораженный тем, как зачаровывали Мэрилин стекло, зеркала, черно-белые клетки смертельной игры, Гринсон вспомнил, что они никогда не играли друг с другом в шахматы.
— Я вас обожаю! Я хотел бы облегчить ваши страдания! Но необходимо, чтобы вы закончили фильм. Я взял на себя это обязательство! — почти выкрикнул Гринсон, как только Мэрилин пришла на сеанс психоанализа и заняла свое место.
Он настоял на том, чтобы провести его в своем кабинете, а не дома.
— Студия согласилась пересмотреть ваш контракт на миллион долларов: половина за съемки фильма плюс бонус, если он будет закончен к следующей предусмотренной дате, и еще 500 000 долларов или более за новую музыкальную комедию. Невероятно, «Фокс» согласна на сценарий Наннели Джонсона, который вам больше понравился, и, кроме того, готова заменить Джорджа Кьюкора на того режиссера, чья кандидатура будет одобрена вами. Мы победили.
— Я не смогу. И ваш психоанализ мне не поможет. Моя актерская работа — не та проблема, которую мне предстоит решить. Это единственное решение, которое я нашла для другой задачи. Роль актрисы — не причина моей паники. Это единственное лекарство. Все психоаналитики мира здесь бессильны. Я в тупике, как этот дом, который вы меня заставили купить.
— Основной проблемой всей вашей жизни была проблема отвержения. Но теперь студия перестала подтверждать вашу фантазию, а я хотел бы избавить вас от тревоги покинутости или, по крайней мере, сдержать ее.
— Есть одна вещь, которую мало кто понимает. Это вечная борьба, которую каждый актер должен вести против собственной робости. В нас есть голос, который говорит нам, насколько далеко мы можем зайти, — как у играющего ребенка, который останавливается сам, когда заходит слишком далеко. Все думают, что достаточно прийти на съемочную площадку и сделать то, что надо. Но это настоящая борьба с собой. Я всегда была болезненно робкой. Мне действительно приходится бороться. Человек чувствует, дышит, он весел — или же болен. Как и всем творческим людям, мне хотелось бы иметь больше самоконтроля. Мне хотелось бы, чтобы мне было легче слушать режиссера. Когда он говорит: «Мне нужна слеза, сейчас же!», я хочу, чтобы эта слеза скатилась у меня из глаза, чтобы покончить с этим. Тревожность необходима. Но сейчас она слишком велика, она превращается в черный покров и окутывает меня целиком. Я не могу ее преодолеть.
Ее голос прерывался, но она продолжала:
— Это напоминает мне два фильма, в которых я снялась десять лет назад. Никогда, ни раньше, ни потом, мне не было так плохо в роли. Михаил Чехов (в то время он был моим преподавателем) сказал: «Если ты продумаешь персонаж и проанализируешь его мысленно, то это не позволит тебе играть, не позволит превратиться в другого человека. Твой рациональный ум сделает тебя пассивной и отстраненной. Но если ты разовьешь воображение, если опустошишь себя, избавившись от собственного «я», и позволишь другой сущности овладеть тобой, то твое желание и твои чувства заставят тебя сыграть этого другого человека». Этого-то я и боялась: стать кем-то другим. — Мэрилин внезапно оживилась: — Это не вчера началось. Моим первым настоящим фильмом была «Схватка в ночи». Я умирала от страха, потому что мне предстояло работать вместе с Барбарой Стэнвик, звездой, и главное — с Фрицем Лангом, режиссером. Он прогнал Наташу Лайтесс с площадки, а я не могла играть, когда ее не было радом. А потом другой фильм — «Можно входить без стука». Как и сейчас с Кьюкором, меня рвало перед каждой сценой. Как и сейчас, в «Что-то должно рухнуть», я играла няню. Но меня тревожила не необходимость играть саму себя. На самом деле это была роль моей матери, моей невозможной матери. В то время я скрывала ее существование, я говорила, что она умерла, чтобы не признаваться в том, что она безумна. Только после этого фильма я смогла поместить ее в специальный пансион. Мои фильмы, во всяком случае некоторые из них, помогали мне выжить. Эта роль женщины, неспособной ухаживать за маленькой девочкой, позволила мне немного заняться моей матерью. На съемках я была больна оттого, что приходилось вновь переживать эти истории. Страх сцены — вот как это называют. Для меня это был не страх, а ужас. Кроме того, режиссера звали Бейкер. Как мою мать. Только не говорите доктору Фрейду, — бросила Мэрилин с приглушенным смешком. — Он презирал меня еще сильнее, чем Фриц Ланг. Мне было двадцать пять лет, и это была моя первая важная роль в драматическом фильме. Когда я прочла сценарий, то побежала к Наташе среди ночи, умирая от страха. Мы работали вместе, ощущая то надежду, то панику, целых два дня и две ночи. До сих пор помню, что говорила Нелл — моя героиня — мужчине, Ричарду Уайлдмарку: «Я буду всем, чем ты хочешь. Я буду твоей. Ты никогда не чувствовал, что если отпустишь человека, то пропадешь сам? Не будешь знать, куда пойти, у тебя не будет никого, кого бы ты мог поставить на это место».
Мэрилин замолчала.
— Кому вы принадлежите? — спросил Гринсон.
— Я принадлежу всем, кто захочет меня взять. Мужчинам, продюсерам, публике. Знаете, все взяли от меня по кусочку, чтобы его изменить: Грейс МакКи — мои волосы, Фред Каргер — зубы, Джонни Хайд — нос и щеки, Бен Лайон — мое имя… И мне это ужасно нравилось. Вы не можете себе представить! Самая большая радость в моей жизни была зимой 1954 года. Мое выступление в Корее.
— Я знаю эти кадры, я видел их несколько месяцев назад по Эн-би-си. Так чья же вы?
Мэрилин не отвечала. Мэрилин вспоминала о Мэрилин. Она вновь видела, как Мэрилин поет перед 17 000 мужчин, которые свистят до разрыва легких. Ей тогда не было страшно. Она начала выступление перед ранеными, затем продолжила в 45-й дивизии. Десять представлений под снегом, при температуре ниже нуля, в алом платье с блестками, без белья. Обезумевшие солдаты, тосковавшие по женщинам много месяцев, пожирали ее глазами. Чтобы толпа военных не сорвалась с цепи, ей пришлось изменить слова Гершвина. Вместо «Сделай это снова!» — «Поцелуй меня снова!» Она спела им «Брильянты — лучшие друзья девушек» — солдатам, которые бесплатно подставляли себя под пули в Корее! Чтобы исправить ситуацию, она исполнила после этого сексуальный танец. Она знала, что это им понравится. Концерты продолжались. После одного из них за ней пришлось присылать вертолет. Двое солдат прижимали ее к полу вертолета, но она долго высовывалась из люка, посылая воздушные поцелуи мужчинам, вопящим ее имя.
— Кому вы принадлежите? — повторил аналитик.
— Страху.
— Чего вы боитесь? Одиночества?
— Это ужасно — все эти дни, когда меня окружают сорок человек, когда я втиснута в пространство сто раз повторяющихся слов: «Мотор!», «Стоп, снято!», «Дубль один, дубль тринадцать, дубль двадцать пять». Эти слова и пугают меня, и успокаивают, вот что удивительно. Они вызывают у меня иллюзию, что во мне существует кто-то, кого имеют снова и снова, что я что-то собой представляю. Я — та, которую снимают. Съемка прерывается, но какой-то момент я была там, в глазке камеры. Я существовала. Я знаю, что принадлежу публике и всему миру не из-за моего таланта и даже моей красоты, но оттого, что никогда не принадлежала ничему и никому. Когда вы не принадлежите ничему и никому, как не прийти к мысли: «Я принадлежу всем, кто меня захочет!»
— Есть ли место, которому вы принадлежите?
— Во время съемок фильма «Можно входить без стука» я чувствовала себя немного потерянной. За эти месяцы я сменила три адреса — два в Западном Голливуде, на Хиллдейл-авеню и Догени-драйв, затем номер в отеле «Бель-Эр», в Стоун Каньон. Не было ни одного места, которое бы вызвало у меня чувство принадлежности. Я старалась стать хорошей актрисой и хорошей женщиной. Но у меня не было вас… Иногда я чувствовала себя сильной, но приходилось искать эту силу во тьме, и получить ее было трудно. Никогда ничего не давалось легко. Конечно, ничего не бывает легко, но тогда все было еще труднее, чем теперь. Я не могла говорить о своем прошлом. Переживания были слишком болезненны, я хотела о них забыть.
— Чтобы забыть, надо рассказать.
— Нет, надо пережить снова!
— Что вы хотели пережить снова на этом празднике Кеннеди?
— Вы ничего не понимаете! Когда меня пригласили выступить в Мэдисон Сквер Гарден на концерте по случаю дня рождения президента, я почувствовала себя действительно гордой. Когда я вышла на сцену, чтобы спеть «Happy Birthday», наступила глубокая тишина, как будто я вышла в одной ночной сорочке. В этот момент я подумала: «О господи, что будет, если я не смогу петь?» Такая тишина, идущая от такой публики, меня согрела. Это было как поцелуй. В такую минуту говоришь себе: «Черт побери! Я спою эту песню, даже если она будет последней в моей жизни. И я спою ее для всех». Когда я повернулась к микрофонам, то помню, что оглядела зал, думая: «Вот где я могла бы быть, где-то там, наверху, за балками, под самым потолком. Но я здесь, в центре».
— Теперь надо забыть обо всем, начать сначала. Приступайте к съемкам снова!
— Обо мне сказали, что я ликвидирована, что Мэрилин пришел конец: на самом деле, когда тебе конец, в этом есть какое-то облегчение. Наверное, чувствуешь себя, как бегун на сто метров, который пересек финишную черту и думает со вздохом облегчения: «Уф, все кончено». На самом деле ничего никогда не кончается. Надо всегда начинать сначала, всегда. Стоп, снято! Еще один дубль! Да пошел он в задницу, этот Кьюкор!
Голливуд, студии «Уорнер Бразерс» декабрь 1965 года
Киностудия «Фокс» вложила в фильм два миллиона долларов. Кьюкор сообщил одной журналистке: «Бедняжка совсем свихнулась. Грустно, что даже то немногое, что удалось с ней отснять, никуда не годится… По-моему, с ней все кончено». Но ему пришла мысль, как выйти из этого тупика: сделать фильм о крахе съемок. Фильм за кулисами фильма. Мэрилин, со своими безмерными требованиями и бесстыдными манипуляциями сыграет роль сумасшедшей актрисы. Трагикомедия, голливудская история, в которой будут продюсеры, не справляющиеся с ситуацией, психоаналитики, всюду сующие свой нос, и вездесущая, как вампир, женщина, которая руководит игрой сломавшейся звезды. Развязка будет трагичной: смерть и безумие, которых страшилась (или которые изображала) Мэрилин, настигнут ее на последних метрах пленки.
Кьюкор так и не снял этот фильм, но через два года после смерти Мэрилин он снова обратился к женским образам — танцовщица Айседора Дункан, актриса немого кино Таллула Блэкхед. Вспоминая о болезненных неделях съемок «Что-то должно рухнуть», он хотел создать портрет актрисы — женщины, сломленной жизнью, после «Сансет бульвар» Билли Уайлдера и «Все о Еве» Манкевича. Как и он, эти два режиссера снимали Мэрилин; прекрасная идея — взять реванш у этих ненавистных соперников, поставив мрачный фильм о последних днях звезды. Этот фильм мог бы стать последним и самым прекрасным фильмом Джорджа Кьюкора. Теперь, когда Мэрилин стала легендой, эта идея могла бы привлечь другие студии, помимо «Фокс». У Кьюкора даже было название: «Потерянная в городе ангелов». Он также думал о названии «Смерть звезды», которое было бы симметрично «Рождению звезды», его фильму 1954 года, в котором Джуди Гарленд уже сыграла неуравновешенную актрису, придающую больше значения своим бессонным ночам, чем дням под палящим светом прожекторов. Это будет фильм о невозможном фильме. Фильм за экраном. За кулисами Голливуда раскроется примитивный и жестокий механизм киностудий, а за кулисами образа проступит безумие актрисы, находящейся в поисках самой себя.
Кьюкор собирался отомстить Мэрилин — он тоже тяжело переживал болезненное столкновение с ней. В течение семи недель съемок она постоянно изменяла свои сцены и реплики. Сценаристам, под надзором и управлением Гринсона, пришлось переносить съемки эпизодов и изменять предусмотренные вначале порядок и содержание кадров. Но больше всего Кьюкора выводило из себя присутствие Паулы Страсберг на съемках каждой сцены. По его мнению, метод актерской студии был претенциозным бредом: он дорожил прерогативами режиссера. После каждого плана, когда он говорил: «Снято!», Мэрилин поворачивалась не к нему, а к Пауле, чтобы спросить ее, хорошо ли получилось на этот раз. Они отходили в сторонку и с невероятно серьезным видом переговаривались, вынося в конце концов вердикт «Да!» или, что бывало чаще, «Нет, это не годится! Снимем еще один дубль!». Дин Мартин, партнер Мэрилин, вымещал раздражение на клюшках для гольфа; он отходил погонять шары в углу студии. Паула, Гринсон, Генри Вайнштейн, продюсер и друг психоаналитика, — слишком многие оспаривали у него право окончательного принятия решений.
Кьюкор сохранял вежливость как мог. Просто, когда Мэрилин слишком часто повторяла: «Еще один дубль», он отвечал: «Конечно, дорогая» — и каждый раз выкрикивал: «Мэрилин, последний дубль!», снимая при этом еще четыре-пять эпизодов без пленки в камере. После каждого просмотра рабочих материалов Кьюкор уединялся с ассистентом, Джином Алленом, и когда они выходили из проекционного зала, Мэрилин в тревоге встречала их у дверей: «Ну, как?» Кьюкор поворачивался к Аллену и шептал ему на ухо: «Она хочет спросить: как я вам понравилась?» С чарующей улыбкой он успокаивал ее: «Великолепно, Мэрилин, великолепно». После последнего сеанса съемок постановщик публично заявил: «Студия согласилась удовлетворить все ее требования. Она вела себя жестко. Очень жестко. Во всем. Со мной она была притворно приветливой. Мне очень жаль видеть ее такой, мне жаль, что она вступила в драку с тенями. Даже ее адвокат, Микки Рудин, от нее устал, а она устала вообще от всего. Я думаю, это конец ее карьеры».
Теперь Кьюкор понимал, что предчувствовал конец самой Мэрилин. И в этом фильме об умершей актрисе он хотел передать ту невероятную живость, которая, независимо от ее собственной воли, отличала все ее выступления. Это почти невыносимо веское присутствие на экране в сценах, сохраненных при монтаже «Что-то должно рухнуть», хотя она выглядела совершенно отсутствующей во время самих съемок. Отсутствующей, даже когда являлась на съемочную площадку. На экране Мэрилин, казалось, двигалась в замедленном темпе, и это оказывало прямо-таки гипнотическое действие. Теперь взгляд ее был почти все время обращен в никуда, именно это и было прекрасно. Сам Кьюкор собирался сыграть роль терпеливого, гениального режиссера, которым ему так трудно было быть в действительности. Он снова изменил название фильма, выбрав «Важно то, что на экране». Он постоянно вносил изменения в свой проект, но в итоге отказался от него, когда появились статьи, в которых Гринсон обвинялся в том, что принял участие в заговоре с целью убийства актрисы.
«Все это еще слишком живо! Слишком много власти поставлено на кон. Слишком много любви», — сказал он Хедде Хоппер, журналистке, пишущей о закулисных делах Голливуда.
В последний день своей жизни, 24 января 1983 года, Джордж Кьюкор сказал другу: «Это было грязное дело. Самое оскорбительное отвержение, которое ей пришлось испытать. Все, что можно о ней сказать, — она была слишком невинна».
Нью-Йорк, Восьмая авеню середина июня 1962 года
Когда Мэрилин выгнали со съемок, она вызвала фотографов, чтобы провести долгие фотосессии для журналов «Лайф», «Вог» и «Космополитен». Она пыталась контратаковать, и ее орудием стало единственное, чем она всегда умела пользоваться, — ее образ. Среди прочих 22 июня на обложке «Лайф» появилась ее фотография обнаженной в бассейне. Воспоминания тех, кто фотографировал или снимал ее на кинопленку в последние дни, противоречивы: одни запомнили ее как сверкающую звезду, другие — как поблекшую куклу. Баррис видит ее сильной и свободной. Она облечена властью; она словно ветер, вокруг нее сияет аура кометы, которую Уильям Блейк изображал вокруг святых. Она свет, богиня, луна. Пространство и мечта, тайна и опасность. Но также и все остальное, включая Голливуд. Все, в том числе соседская девчонка. Журналист «Лайф» Ричард Меримэн, напротив, был поражен землистым цветом ее неподвижного лица. Кожа ее была ни белой, ни серой; казалось, что она очень давно не смывала макияж. Издалека она выглядела изумительно, но стоило рассмотреть ее лицо вблизи, становилось видно, что кожа напоминает картон. Ее волосы были тусклыми, уложенными и высушенными тысячи раз. Даже не фальшивые, а просто мертвые. Это называется «перманент». Единственная часть ее, которая не умрет, потому что уже мертва.
Полностью обескураженный поворотом событий после его возвращения, Гринсон пишет своей приятельнице, Люсиль Остроу, что воспринимает свой провал как личное оскорбление. Он печально говорил, что, спеша ей на помощь, отказался не только от отпуска, но и от посещения Нью-Йорка, где он должен был встретиться с Лео Ростеном. «Я пожертвовал всеми своими личными целями и интересами, а она в восторге, что отделалась от фильма, который ее раздражал. Она чувствует себя прекрасно. Теперь депрессия у меня, это я чувствую себя одиноким и покинутым».
Гринсон посвящал все свое время той, которую называл своей «любимой шизофреничкой». Люди, которые крутились вокруг фильма, его раздражали: сценарист Уолтер Бернштейн всем рассказывал, что Гринсон поместил Мэрилин в кокон. «Она стала для него капиталовложением, и не только с финансовой точки зрения. Дело не в том, что он занимается ей: он фабрикует ее болезнь. Для него и других стало жизненно важно, чтобы ее считали больной, зависимой и неспособной к самостоятельной жизни. Есть что-то ужасное в этом психоаналитике, который оказывает на нее безумное влияние.
Со временем пространство, отделяющее Гринсона от Мэрилин, не сократилось, они в некотором роде поменялись ролями — обменялись идеалами, — и каждый перенял симптомы другого. Увлечение аналитика фильмами и собственным имиджем все усиливалось. Он избегал пациентов и профессиональных коллоквиумов и проводил все время в кулуарах «XX Сенчури Фокс». Мэрилин стала больше общаться и когда доверяла собеседнику, то находила искренние слова. Но образы стали ее пугать.
В начале недели, последовавшей за ее увольнением, Мэрилин улетела в Нью-Йорк. Она ни с кем не виделась там, кроме У. Дж. Уэзерби, с которым время от времени беседовала. Они очень сдружились. Как обычно, она пришла переодетая, с косынкой на голове, в широкой блузе, бесформенных брюках и без всякого макияжа. Журналист был не очень чувствителен к нарциссической красоте Монро и искал ту, которая пряталась в ней за маской. Его особенно интересовало нечто, не подлежащее определению, что он пытался поймать, пользуясь словом «экран» — ее образ на экране, экстатическое преломление, скрывающее глубинный страх.
Они встретились в баре на Восьмой авеню, завсегдатаями которого были когда-то. Этот бар был наполнен молчаливыми пьяницами, пришедшими, чтобы пить как можно больше из стаканов как можно большего размера. Это было не то место, где можно встретить голливудскую звезду. Они занимали места в дальнем зале, в самой тени. Столик не обслуживался. Прождав полчаса, Уэзерби подумал, что она не придет, когда услышал за спиной женский голос:
— Доллар за твои мысли!
— Ты проиграешь.
Она держала по бокалу в каждой руке. Новая бледность добавилась к старой, делая ее лицо еще более непроницаемым.
— Джин-тоник.
— Очень хорошо! Но ты уверена, что тебе здесь нравится?
— Просто обожаю этот бар! Я не привыкла к настоящим барам. Этот напоминает мне заведение в Рено, где мы так надрались. Знаешь, когда меняешь место, то и сам меняешься. В каждом из нас целый набор персонажей, у нас разная манера быть собой в разных местах. Я не одна и та же в Нью-Йорке и в Голливуде. Я разная в этом баре и на съемочной площадке. Разная со Страсбергом и с тобой. Я это вижу, когда меня интервьюируют. Вопросы диктуют тебе ответы, а от них зависит, каким ты кажешься окружающим. Вопросы часто гораздо больше говорят мне о том, кто их задает, чем мои ответы говорят ему обо мне. Большинство людей ошибается, считая, что их «я» всю жизнь остается одним и тем же, что оно полное, постоянное, завершенное. Насколько они были бы терпимее к другим, если бы признали, что тоже расщеплены на кусочки, продырявлены и переменчивы.
— Ты очаровываешь интервьюеров, — сказал Уэзерби с обаятельной улыбкой, — потому что не хочешь, чтобы они подобрались к тебе настоящей. Ты хочешь, чтобы они тебя любили и рассказывали тебе истории любви.
— Ты думаешь?
— Конечно! Ты очаровываешь всех мужчин вокруг, — пошутил он. — Признайся, что тебе нравится чувствовать свою власть над ними!
— Не так уж и нравится. Иногда меня страшно раздражает то, как я действую на мужчин. Поглупевшие взгляды. Сжимающиеся кулаки. Они становятся не похожи на людей. Но с тобой этого не проходит, и тем лучше. Я не уважаю людей, которые тебя любят за то, что ты знаменитость. Только не заноси наш разговор в свою записную книжку!
Она напоминала ему ребенка, насвистывающего или смеющегося в темноте. Чем больше она старалась быть веселой, тем больше он чувствовал, как сгущается тьма.
— Хочешь выпить еще что-нибудь, Мэрилин?
— Ага. Что ты сейчас читаешь?
— «Олений парк» Нормана Мейлера. Это роман о Голливуде. Я тебе его подарю.
— Тебе иногда случается чувствовать, что книги далеко от тебя, вне досягаемости? Я хочу сказать, что ты не знаешь, как к ним подступиться. Как будто они на иностранном языке, хотя все слова английские. Читая книгу, я иногда чувствую себя такой глупой.
— Не огорчайся, ты более прозорлива, чем многие интеллектуалы. Не порти свою чувствительность знаниями из вторых рук. Я, например, больше хотел бы быть красивым, чем умным.
Она повернула голову, и он сразу понял, что он совершил ошибку.
Они шли по улице, проталкиваясь через вечернюю толпу, спешившую к станции метро «Порт Оторити Терминал». Он посадил ее в такси, затем вернулся в их бар на Восьмой авеню, но на этот раз занял место под неоновой лампой, открыл записную книжку и записал их разговор. Он думал — не пользуется ли она им? Просто так ведет себя по-дружески или за этим стоит какой-то план? Он понимал, что ничего не может сделать для нее и для ее карьеры, что он не напишет о ней. Все же подозрение оставалось.
Через день они увиделись вновь, как договорились. Он заметил, что Мэрилин изменилась. Ее тело утратило очертания молодости. Лицо осунулось, под кожей угадывались кости, черты утратили свою мягкость. Она накрасилась довольно неумело. Грим не скрывал усталости и морщин, и она это знала. Мэрилин пришла первой и привстала, чтобы поцеловать его, легко и весело. Уэзерби пожалел, что ощутил ее запах. От нее пахло немытым телом, ознобом, слезами.
— Я уже думала, что не приду… — начала она.
— Я рад, что ты пришла. Чем ты здесь занимаешься, как проводишь дни?
— Не знаю. Я как будто на дне бассейна. Надо оттолкнуться, чтобы подняться на поверхность. Не знаю. Мне хотелось бы сидеть дома, далеко от всех.
— Тебе грустно?
— Можно и так сказать. А можно и по-другому…
Она продолжала говорить отрывисто, невыразительно. Они заказали выпивку. Мэрилин попросила «белого ангела». но официант не знал, что это такое. Они чокнулись джин-тоником, желая друг другу удачи.
— Меня не проведешь, — начала она снова. — Я знаю, что это такое — паника, чувство, когда проигрываешь. Я видела ее в глазах Бетти Грейбл, которая была звездой в свое время. Как-то раз меня представили ей в ее костюмерной. Я поняла, что студия воспользовалась мной, чтобы дать ей понять, что ее царствование закончилось и теперь я ее сменю. Они надеялись, что я ее унижу. Я убежала. Долго эти люди из студий меня использовали. Я шла у них на поводу, я была так наивна. Стоило человеку проявить ко мне интерес — и я ложилась ним в постель. Я, конечно, и дальше буду так поступать, но не с такими явными подонками. Кончились те времена, когда я была замужем и шла к одному из этих типов после вечеринки. Они хватали меня своими лапами, как тигр эту… анти… как ее… антилопу. Как будто говорили: ты моя вещь. Я тебя имел, я тебя буду иметь. Классический случай для бывшей шлюхи, хоть я никогда и не была проституткой в прямом смысле слова. Я никогда не продавала себя. Я позволяла себя покупать. Но был такой период, когда стоило меня попросить — и я спала с кем угодно. Я думала, что это поможет в моей карьере, и обычно они мне нравились, эти мужчины. Они были так уверены в себе, а я так неуверена.
— У тебя есть планы после фильма?
— Мне давно хотелось сыграть Бланш в «Трамвае «Желание»». Сейчас не время — я слишком закрыта. Сыграю ее на Бродвее через несколько лет. Мне так нравится последняя реплика Бланш — помнишь, Вивьен Ли в фильме Казана?
Он помнил. Женщина — белая, безумная, смертельно безумная, обезумевшая от любви, не обращенной ни на кого.
— Сейчас я себя не вижу говорящей на сцене: «Кто бы вы ни были, я всегда зависела от милости незнакомцев».
Любовники, друзья, родители, близкие — все они бросают вас рано или поздно. Так что незнакомые люди — это не так опасно. Но не стоит слишком от них зависеть. Когда я была маленькой, некоторые незнакомые люди нанесли мне вред.
— Я когда-то читал, что в детстве тебя изнасиловали?
— Не будем об этом говорить. Мне надоело говорить об этом. Я сожалею, что об этом рассказала.
Она вытерла стол бумажной салфеткой. Затем улыбнулась себе:
— Домохозяйка. Вести свое хозяйство? Я обожаю уборку. Когда убираешь дом, то не думаешь ни о чем.
После долгих пауз, перемежавшихся короткими, довольно невнятными фразами, Уэзерби отлучился в туалет. Когда он вернулся, то увидел, что перед их столиком стоит какой-то тип и настойчиво предлагает этой неухоженной блондинке с ним переспать — он никак не хотел поверить, что Монро не шлюха с Восьмой улицы. Они отделались от пристыженного ловеласа.
Мэрилин сказала:
— Маски раскрывают нас, а роли нас убивают. — А потом добавила: — Я везде таскаю за собой Мэрилин Монро, как альбатроса.
Еще она сказала:
— Думаю, я составлю завещание. Не знаю почему. У меня такая мысль. Ужасно мрачная, правда?
Он сказал:
— Мне бы хотелось, чтобы ты станцевала на барной стойке.
— Нас выгонят! В таком баре женщины должны знать свое место — у ног мужчин, а не наоборот.
Потом Мэрилин много пила, а говорила мало и иносказательно.
— Ты ведь не будешь записывать ничего из того, что я говорю, правда? Может быть, я еще раз выйду замуж.
Проблема в том, что он сейчас женат. И он знаменитый; мы можем видеться только тайно.
Она добавила, что ее любовник занимается политикой. В Вашингтоне.
На следующий день она послала Бобби Кеннеди странную телеграмму, чтобы отклонить приглашение на ужин в Лос-Анджелесе: «Дорогие Генеральный Прокурор и Мадам Роберт Кеннеди, я была бы счастлива явиться по вашему приглашению в честь Пэт и Питера Лоуфорда. К сожалению, я занята на мероприятии по защите прав меньшинств и я принадлежу к последним звездам, которые сохраняют связь с землей. Ведь единственное право, которое мы защищаем, — это наше право блистать. Мэрилин Монро».
По воспоминаниям Питера Лоуфорда, в субботу, 4 августа, в последний день своей жизни, отказываясь прийти на вечер, который он организовал на своей вилле на пляже Санта-Моники, Мэрилин воспользовалась ужасным сравнением:
— Нет уж, спасибо, не хочу, чтобы меня передавали из рук в руки, как кусок мяса! С меня хватит. Больше не хочу, чтобы мной пользовались. Фрэнк, Бобби, твой шурин-президент — с ним я даже не могу больше связаться. Все меня используют.
— Все равно приезжай. Развеешься.
— Нет, я ужасно устала. Нет ни одного приглашения, на которое мне хотелось бы ответить. Больше никого. Окажи мне только одну услугу: скажи президенту, что я пыталась до него дозвониться. Попрощайся с ним от меня. Скажи ему, что я выполнила свою задачу.
Вначале звонка Мэрилин почти шептала, и Лоуфорду пришлось несколько раз окликнуть ее по имени, чтобы убедиться, что она его слышит. Она глубоко, утомленно вздохнула и выговорила:
— До свидания Пэт, до свидания президенту и до свидания тебе, потому что ты хороший человек.
Лоуфорд услышал, что этот голос не играет, не кричит: «На помощь! Здесь волк!» Он почувствовал, как этот голос углубляется в смерть. Он догадался, что «До свидания» не обязательно означает прощание — это просто зов, обращенный к другому, желание его увидеть.
Лос-Анджелес, Калифорнийский университет июнь 1966 года
Вскоре Мэрилин и Ральфу — несовместимым и неразлучным — предстояло погубить друг друга. Не расстаться, а именно погибнуть друг в друге. Как на изображениях, подобных картам или маркам, на которых дамы и валеты склеены посредине и обращены головами в разные стороны. Их тела соприкасаются, но они смотрят в разных направлениях. На пересечении света и воспоминаний, заимствованных слов и всплывающих сновидений, молчания и слез стареющий мужчина и женщина-ребенок однажды встретились. Любовь — всегда воспоминание о любви. Желание — забвение желания. Встреча двух параллельных историй — всегда катастрофа. Двойной мат.
Изображение всегда было для Монро чем-то вроде успокоения и защиты. Фотография означала для Мэрилин ласку без риска; фотографироваться — вызывать желание как защиту от разрушительной любви. Она хотела быть желанной, чтобы не задумываться, любима ли она. Теперь страсть разрушила в ней любовь и даже желание. Страсть заставляла язык бесконечно кружить в пустоте. Любить человека — значит любить его слова. Представлять себе его присутствие, пусть даже это и галлюцинация. Мэрилин любила Гринсона. Страстно. То есть она не любила его, не желала его. Она его ждала. Заполоненная им, его словами, его образами, она перестала быть самой собой. Мэрилин то и дело охватывало ощущение небытия, когда она была сосредоточена на другом человеке, любя до бреда, до безумия, до той крайней точки, когда вершина любви — уже не любовь. И тот, кто был предметом этой любви, также не был уже человеком. Этот мужчина стал совокупностью знаков, безмерно разросшейся абстракцией. Но это нереальное существо было единственным, которое существовало в ее глазах. Любовь-страсть разыгрывалась на фоне безумия. Это носило двоякий характер. Близость: Мэрилин с ним в тесном контакте, недаром ведь говорят «безумная влюбленность». Но также она его избегает: психоз — это гибель любви, мертвая любовь. Их расставание также могло быть только страстным, сочетающим в себе конец любви и мысль о смерти.
После гибели Мэрилин Гринсон написал для коллоквиума в Калифорнийском университете статью «Секс без страсти». В ней он ставил и противоположный вопрос: что такое страсть без секса? Он начал с размышления о женщинах и желании, а также о потере желания. Сексуальная жизнь Мэрилин убедила его в том, что желание и любовь для нее были отделены друг от друга.
«Женщина в возрасте под сорок, — пишет он, — нуждается в сексе и сексуальных связях, чтобы убедиться в том, что она все еще желанна. Но прежде всего для того, чтобы доказать себе, что она все еще может быть любимой. Вспомним, что женщина имеет громадное преимущество в сексуальном акте: она может осуществить его или позволить осуществить этот акт с ней, ничего не делая; для того, чтобы удовлетворить своего партнера, ей ничего не нужно делать. Женщины имеют возможность пользоваться своими половыми органами в несексуальных целях — придавать им несексуальное назначение. Поэтому многие из них вступают в сексуальные отношения без любви и без страсти. Они пользуются сексом для своих целей: чтобы завоевать, обрести уверенность в себе, отомстить. Некоторые могут позволить себе непосредственно испытывать эмоции и фантазии, только когда вступают с мужчиной в самые близкие отношения: сексуальную близость. Если женщина вступает с мужчиной в интимную связь — это значит, что он может ее ранить, причинить ей вред, покинуть ее. Поэтому женщины отдаляются от мужчин и блокируют свои фантазии».
Эта статья также явилась попыткой самоанализа, попыткой осмыслить мужское желание. «Мужчины в пятидесятилетием возрасте (Гринсону в то время было пятьдесят пять лет) все меньше испытывают сексуальное желание. Они могут пользоваться многочисленными объяснениями, чтобы избежать секса, или вспомогательными средствами, чтобы повысить свою сексуальную потенцию. Я не просматривал статистику по применению повышающих потенцию препаратов для выполнения полового акта, но не думаю, что эта практика ограничивается несколькими жителями Беверли Хиллз или Голливуда. Мужчины боятся сексуальной связи частично из-за страха импотенции, частично из-за того, чтобы не задаваться вопросом власти. Они соблюдают верность женам не из соображений нравственности — они подчиняются морали из страха потерпеть провал в качестве любовников. Они верны женам или находят пристанище в асексуальности из страха не справиться с тем, чтобы отвоевать женщину у других мужчин».
Поездка Гринсона в Европу и его долгое отсутствие вывели Мэрилин из равновесия в той же мере, в какой его излишняя близость на протяжении двух лет сделала ее беззащитной. Отлет, похищение, изгнание, отъезд, путешествие — все эти слова, вертящиеся в голове, говорили ей, что, безумно полюбив Гринсона, она стала «перемещенным лицом», как та женщина на картине в салоне гасиенды в Санта-Монике. Как девочка, которую Грейс МакКи однажды провезла по городу в своем черном автомобиле «американ бентам» 1940 года, модели «Голливуд». За все время пути она не сказала, куда ее везет. Вдруг на бульваре Эль Сентро перед глазами Мэрилин возникло трехэтажное здание. На красном кирпичном фасаде она прочла «Детский дом Лос-Анджелеса».
«Бросить» — так говорят в повседневной речи о разрыве. Быть выброшенным из любви — значит быть брошенным, как вещь, ставшая ненужной, вещь, которой больше не пользуются. Выпасть из любви — значит выпасть из самого себя. В любовном головокружении что-то очень глубокое притягивает нас к другому человеку, но точно так же иное головокружение увлекает покинутого в безвременье: к детству самости, к ребенку в себе. Мэрилин вновь вернулась к той одинокой девочке, к тому ребенку, которому хотелось умереть.
Лос-Анджелес, Голливуд Сайн июнь 1962 года
Когда это было? Поздно ночью Мэрилин позвонила Андре де Динсу, своему бывшему любовнику и верному другу, и сказала, что никак не может заснуть. Она предложила ему поехать фотографироваться на какой-нибудь темной улочке в Беверли Хиллз. Ей хотелось позировать грустной и одинокой. Он вскочил с постели, собрал свое оборудование, и они уехали на фотосессию, которая продлилась всю ночь. Фотограф забыл вспышку, и для освещения служили фары машины. Получившиеся кадры были весьма мелодраматичны. Играла ли она? Сознавала ли, что что-то в ее жизни идет не так, чувствовала ли, что за поворотом ожидает трагедия? Она ничего не могла сделать. Она брала жизнь обеими руками, вступала с ней в схватку, заключала ее в объятия, но так болезненно и беспорядочно, что принимала в себя не жизнь, а смерть. Страсть — это смертельная любовь. Гринсон и Мэрилин были привязаны друг к другу любовью и смертью, но они не занимались любовью. Им оставалось только заняться смертью. Вместе или по отдельности.
Вечером следующего дня, когда розовый туман начал темнеть и принимать фиолетовые очертания, Мэрилин позвонила Джоан.
— Привет, Джоанни. Мне хочется прогуляться, поедешь со мной?
Джоан согласилась и посадила в свой автомобиль с откидывающимся верхом Мэрилин, одетую в коричневый свитер с высоким воротом и бежевые полотняные брюки. Джоан была за рулем, а Монро, с развевающимися по ветру волосами, показывала, куда ехать. С ними поравнялся грузовик, шофер пригласил ее выпить. Когда она не ответила, он бросил:
— Ты кого из себя строишь — Мэрилин Монро, что ли?
После бульвара Санта-Моника они свернули на север по авеню Ла Бреа. Над огромным городом самолеты опускались к аэропорту Лос-Анджелеса с зажженными огнями, как отяжелевшие, усталые серые птицы. Хриплый рык их двигателей смешивался с непрерывным шумом вечерних машин. Мэрилин и Джоан пересекли Сансет-бульвар в одном квартале от Китайского театра, затем вернулись по Кахуэнге, вдоль плотины Голливудского водохранилища — продолговатого искусственного озера, которое тянулось вдоль Голливуд Хиллз. Когда они выехали из путаницы улочек, уходящих в Гриффит-парк, Джоан поняла, что Мэрилин хочет подъехать к Голливуд Сайн.
В нескольких сотнях метров, как гигантский субтитр на изображении крутого лесистого склона, высилось название: ГОЛЛИВУД. Девять букв пятнадцатиметровой высоты и десятиметровой ширины. На фоне высоких холмов Маунт Ли надпись выделялась матово-голубым цветом, а внизу, до самого моря, миллионы огоньков мерцали, словно перевернутое звездное небо.
— Прямо как в фильмах, — сказала Мэрилин, глядя на раскинувшийся город. — Будто сердце бьется в ночи. Неприкаянные души бродят по городу ангелов, между адом и чистилищем.
Перед ними открывался овраг глубиной несколько десятков метров. Дорожные знаки извещали об опасности; время от времени автомобиль, осторожно маневрируя, проезжал по сухой красной песчаной дороге. Джоан почувствовала опасность.
— Не беспокойся. Здесь встречаются странные типы и даже койоты, но я сюда часто хожу, и со мной ничего не случилось, разве что приходила мысль броситься в эту черную бездну. Романтично, правда? «Мэрилин Монро нашли с раздробленным черепом у подножья названия города». В газетах уточнят: «Надпись «Голливуд» — это реклама, построенная наспех пятьдесят лет назад агентством недвижимости Голливудленд. Когда четыре последние буквы, «ленд», упали, надпись в холмах стала иконой киноиндустрии и символом родного города для трех миллионов жителей Лос-Анджелеса». Но, видишь ли, туда не подойдешь. Это было любимое место самоубийц, но теперь, чтобы броситься в пустоту с высоты этого названия, придется перелезть через высокую решетку.
Лос-Анджелес, Каньон Пиньон осень 1970 года
В 1950 году Джозеф Манкевич дал Мэрилин одну из первых настоящих ролей в фильме «Все о Еве». Он считался в Голливуде режиссером психоаналитиков и психоаналитиком деятелей кино. Как и Гринсон, он был родом с востока: первый был сыном русских эмигрантов, второй — немецких. Оба выросли в среде нью-йоркских интеллектуалов, оба были евреями, обе чувствовали себя изгнанниками в Калифорнии, «культурной пустыне», как говорил режиссер, и общались в основном с еврейско-немецкими деятелями культуры и интеллектуалами, которые эмигрировали, спасаясь от нацизма, и поселились в итоге в Лос-Анджелесе. Но Голливуд остался в глазах режиссера городом слоновой кости и богатства, песка и глупости. Он так и не привык к ночи, мгновенно сменяющей день, к отсутствию медленного перехода, вечера, сумерек, агрессивному киномонтажу времени, в котором поступки и вещи занимали место мыслей и фантазий. Все теснее их сближал Фрейд. Почти в каждом из двадцати фильмов, отснятых Манкевичем, мы видим портрет или статую, которые смотрят из тени с немым укором, ставя под сомнение судьбу и достижения героя. В его жизни и творчестве этим свидетелем неисправимого поступка был образ Фрейда. Ведь в молодости, студентом, он бросил изучение психиатрии и позже стал сценаристом, а затем режиссером.
Манкевич понимал кино скорее как искусство слов, а не образов. «Pictures will talk» («Фильмы заговорят») — таков был его девиз. Он не любил натурных съемок, актерских фильмов, режиссеров, ставящих актеров на первое место. Он различал два рода режиссеров: показывающих картинки и показывающих смысл — и себя относил ко вторым, тем, кто пользуется изображением, но, прежде всего, продумывает фильм с точки зрения диалогов, поиска истины в словах, а не под кожей актеров. Из фильма в фильм он искал слово в своем интимном общении с образом. Ему не нравилась зрелищность. «В фильме, как и в человеке, главное незаметно для глаз», — говорил он.
Его режиссерская техника непосредственно вдохновлялась уроками психоанализа. Чтобы подготовить актеров, он вызывал их на доверительные беседы в течение нескольких месяцев перед съемками, побуждая рассказывать о детстве и вновь переживать воспоминания, чтобы избавиться от скованности. В то же время, что и Ральф Гринсон, сразу после войны, он проходил психоанализ у того же аналитика — Отто Фенихеля, фрейдиста первой волны, безвременно умершего в сорок восемь лет в 1946 году.
Через несколько лет после лета 1962 года Манкевич попросил Гринсона о встрече. Два-три раза они сталкивались на званых вечерах, но не были близко знакомы и не сблизились впоследствии. По телефону режиссер сказал, что после смерти той, кого он называл «грустная блондинка», он ощущает потребность встретиться с лечившим ее психиатром, узнать «все о Мэрилин». Раньше Манкевич не осмеливался позвонить ее психоаналитику, но теперь, когда прошло некоторое время, хотел бы с ним поговорить. Они договорились встретиться в ничем не примечательной закусочной на Сансет-бульвар.
— Эта Ева Хэррингтон просто стала второй Марго Ченнинг, — начал Гринсон разговор о женщинах в фильме «Все о Еве».
— Вы ошибаетесь, — ответил режиссер. — Она была не карьеристкой, готовой сожрать соперниц, чтобы преуспеть, и не была эгоистичной звездой, не желающей покинуть огни рампы. Она осталась мисс Кэсуэлл, наивной дебютанткой, которая понимает правила игры, но не пытается победить, ставя сопернику мат. Когда я взял Мэрилин на роль старлетки, она была самым одиноким человеком, которого я когда-либо встречал. Во время натурных съемок в Сан-Франциско мы в течение двух-трех недель наблюдали, что она ужинает или пьет одна в каком-нибудь ресторане. Мы всегда приглашали ее присоединиться к нам, она соглашалась с удовольствием, но так и не приняла — или не поняла — того, что мы считаем ее своей. Она не искала уединения. Она просто была совершенно одна.
— Актеры всегда одни. Я хорошо их знаю, многие проходили у меня анализ. Их сознание переполнено ролями, фигурами, призраками, но они ощущают себя пустыми. Им нужны сценарии, постановки, чтобы придать смысл и форму их внутреннему миру, находящемуся в разладе.
— Да, но в этом отношении Монро сильно отличалась от других актеров, которые желали продумывать свои реплики, выражать в них себя, тогда как должны были просто озвучить слова, которые мы поместили в их уста. Я никогда не понимал странной механики, в силу которой тело и голос вдруг начинают мнить себя душой! Пора бы уже роялю понять, что концерт написал не он. Почему актриса решает, что говорит свои слова, выражает свои мысли? Но Монро была не такая. Она знала правду инстинктивно, и все годы почти религиозного обращения в «метод» Страсберга не смогли ее испортить.
Тон Манкевича стал горьким, почти злым. На самом деле это ему было нужно говорить об умершей, а не Гринсону, молчащему с отстраненным, почти раздраженным видом.
— Вот что я вам скажу, — продолжал режиссер. — Когда Мэрилин показывала свой образ, она стремилась затеряться в нем, замолчать в нем, как в плохих фильмах ужасов герой оставлял свою куртку в руках вцепившегося в нее преследователя. Всю жизнь она выставляла себя напоказ: публике, вам, мне. Она выставляла напоказ свою личность, а не только тело, она показывала себя в ужасной, смертельной игре. Когда я вижу Мэрилин на экране, меня всегда поражает, что она не только выставляла себя напоказ, а буквально «засвечивалась», как говорят в фотографии, как будто слишком яркий свет исходил от ее лица, мешая разглядеть черты. Мы так и не поняли, что лицо Медузы Горгоны, которое она показывала нам, было экраном, на который наши желания лишь проецировались, не проникая внутрь.
— Знаете, в последнее время она была не только секс-символом, что когда-то сделало ее звездой. Могу сказать, что благодаря мне она стала, если так можно выразиться, говорящей.
— И вам потребовалось невероятное количество сеансов, чтобы открыть эту Мэрилин? Вот что я вам расскажу. Когда мы снимали «Все о Еве», я встретился с ней однажды в книжном магазине «Пиквик» на Беверли Хиллз. Она часто заходила туда, листала книги, но покупала мало и ни одной не прочла полностью. Она читала с беспорядочной жадностью людей, выросших в доме без книг, и со стыдом перед тем, что им так никогда и не удастся познать. На следующий день на съемочной площадке я видел, что Мэрилин читает Рильке. Я сказал, что она сделала хороший выбор, но я не понимаю, чем он ее привлек. «Ужасом, — ответила она. — Рильке говорит, что красота — только начало ужаса. Не уверена, что правильно поняла, но мне нравится эта мысль». Через несколько дней она подарила мне книгу Рильке. Она обожала делать подарки, как все люди, которым редко что-то дарили в жизни. С тех пор я вспоминаю о ее странном, ледяном блеске, об отражении, убивающем желание. Отражении ужаса.
Гринсон думал: «Что за болтун! И сколько пояснений! Прямо как в его фильмах — одна реминисценция внутри другой».
— Как вы можете догадаться, я пришел не за тем, чтобы говорить о Мэрилин, — продолжал режиссер. — Что меня интересует в вашей истории, так это власть, деньги, общественное признание. Что такое человеческие отношения, как не манипуляция? Мы манипулируем другими, а затем, в конечном итоге, самими собой. Как закоренелый игрок играет, чтобы проигрывать: он хочет только разрушения. Именно это зачаровывает меня в женщинах. Жаль, что пишут так мало сценариев для актрис. Вы игрок в женщин, доктор Гринсон, как бывают игроки в трик-трак или в покер, но сами принимаете себя за шахматиста.
Психоаналитик ничего не ответил.
Манкевич вышел из закусочной, не прощаясь, как расстаются с собеседником, убедившись, что он ничего не понимает. Он решил немного прогуляться перед возвращением домой. Только в тот вечер он увидел Лос-Анджелес таким, каков он есть: декорацией кино. Не городом — чередой строений: мексиканские фермы, полинезийские хижины, виллы в стиле Лазурного Берега, египетские или японские храмы и все возможные комбинации этих различных стилей — архитектурные дешевые безделушки, рассыпанные вдоль того, что нельзя назвать улицей или авеню. Что угодно и почти ничего — все можно найти в этой сувенирной лавке: вывески города, подобия улиц, макеты домов, похожие на декорации, которые вытаскивают на свет божий из стопки в углу студии, где слышится усталый голос режиссера: «Мотор!» Люди, встречающиеся в общественных местах, — всего лишь статисты, ожидающие следующей съемки. Это даже не фальшиво, потому что не стремится к сходству с реальностью, — это просто правдоподобный фон для одного из планов фильма, действие которого происходит в Голливуде. «Место преступления». Мигающие фары автомобилей с надписью «Полиция Лос-Анджелеса». Крупным планом — низкое здание на середине склона холма. В вывеске «Мотель», светящейся алым неоном на фоне синей ночи, не хватает одной буквы.
Манкевич вспомнил фразу из своего диалога в фильме «Внезапно, прошлым летом»: «В тот момент, когда умирает фильм». Он увидел это в августе 1962 года: умер фильм, в котором играла Мэрилин. Когда он стал подниматься по склону Каньона Пиньон, в конце Вайн-стрит, в бледном свете выделялись темные силуэты пальм, и их редкие, высокие ветви медленно меняли цвет с лилового на черный. Тот же бордюр окаймлял низкие холмы, придавая им почти вульгарную красоту. Даже природа подражала крикливым фасадом закусочных. «Этот город — всего лишь маска на лице пустыни, — подумал Манкевич. — Не люблю натурные съемки. Я не сниму больше ни одного фильма».
Бель-Эр последние дни июня 1962 года
Когда Берт Стерн работал для «Вог», Мэрилин вызвала его в «Бель-Эр», прося о фотосессии. Фотограф вошел в розовое бунгало, стоящее в стороне от других, — № 96. Весь пол был заставлен пустыми бутылками и коробками. Разбросанная обувь. Голая женщина на кровати, содрогающаяся от вспышек стробоскопического освещения и звукоряда Иверли Бразерс. Было за полночь. Мэрилин позировала часами в постели, напиваясь «Дом Периньоном», а затем крепчайшей водкой. Открывая грудь, она спросила Стерна: «Ну как для тридцати шести лет?»
Он снимал ее такой — наклонившейся с постели за стоящим на полу шампанским. Это было нереально, это был сон, воплотившийся в реальности, то, что думают тринадцатилетние подростки, когда слышат слово «женщина». Мэрилин представлялась воплощением женщины. Когда она снова застыла под простыней, он увидел ее странно пассивной и ранимой. Он склонился над постелью. Мэрилин лежала с закрытыми глазами. Звук ее дыхания успокоил его: она жива. Он поцеловал ее в губы и уловил едва слышное «Нет!», раздавшееся из глубин ее неподвижного транса. Скользнув ладонью под простыню, он коснулся ее тела. Она не сопротивлялась, даже придвинулась к нему. Стерн подумал, что она хочет заняться любовью, что она готова. Но в последнюю минуту он отдернул руку и решил не заходить так далеко. Ее глаза чуть приоткрылись: «Где ты был так долго?» — спросила она как сквозь сон и заснула снова. Стерн был уверен, что она говорила не с ним.
Все фотографии Берта Стерна были опубликованы под названием «Последний сеанс». Фотограф приготовил множество аксессуаров: ленты, колье, вуали, шарфы, фужеры для шампанского — вещи, выбранные из-за блеска или отражения света, а не из-за цвета. Мэрилин была гораздо активнее, чем он ожидал, — скорее партнер, чем модель для фотографирования. В первые два часа он еще имел представление, чего хочет достичь. У него были в голове все образы, и он их ей представлял. Мэрилин выбирала и играла сцены без единого слова. Они не разговаривали между собой, они вместе снимали кадры. Стерн сфотографировал множество женщин, но она была исключительной. Самой лучшей. Она целиком входила в его идею, ему оставалось только запечатлеть ее, щелкнув затвором.
В течение нескольких дней он сделал две тысячи пятьсот семьдесят одну фотографию. В основном ню. Красивее всех были черно-белые фотографии. Они хранят некий секрет, что-то замаскированное, что так и не будет раскрыто. Правда никогда не бывает голой. Она прячется в глубоких колодцах. Мы видим Мэрилин, задрапированную в яркие шарфы, которые она иногда придерживает зубами, скрытую черным трико, в дешевых колье со стразами, в вечернем платье, с высокой прической, закутанную в мех шиншиллы, почти неузнаваемую в черном парике, с опущенными руками, в неловкой позе ждущей чего-то беззащитной девочки… На каждой фотографии — тот же пристальный взгляд искоса, словно смотрящий снизу или издалека. Я здесь. Это я, в самом деле. Как вам это? На самой трогательной фотографии она прижимает к левой груди полотенце, о которое трется щекой, как ребенок о любимую игрушку. На голом животе — широкий горизонтальный шрам чуть выше бедра. Это черно-белая фотография. Монро словно напевает про себя песенку из «Автобусной остановки»: «Эта древняя черная магия любви».
Она списала в блокнот фразу Фрейда, из «Болезни цивилизации»: «Мы никогда не бываем так беззащитны для страдания, как когда любим; никогда нас не постигает большее горе, чем при утрате предмета любви или его любви». Она добавила на полях: «Любить — значит дать человеку власть вас убить».
«Иногда, — признался Стерн много лет спустя, — когда что-то становится совершенным во всех деталях, оно перестает быть красивым. Это подавляет, это пугает. И чтобы преодолеть этот страх, мы говорим себе, что никто не можем владеть таким совершенством. Но Мэрилин вызывала желание завладеть своими несовершенствами — хрупкостью, резкими изменениями ее тела и лица при перемене освещения. Ее губы несовершенны? Именно поэтому их так хочется поцеловать».
Санта-Моника-бич 29 июня — 1 июля 1962 года
На фотографиях, сделанных Баррисом для «Космополитен», как и на тех, что неделей раньше снял Берт Стерн для «Вог», не видно синяков на коже Монро. Баррису она призналась: «Мне наплевать на старение, мне нравится, какой открывается вид. Я вижу, как открывается будущее, и оно принадлежит мне, как любой другой женщине». Но когда, сидя в красной «тандерберд» Стерна, остановившейся перед аптекой «Шваб», Мэрилин смотрела фотографии, сделанные в отеле «Бель-Эр», она вынула из сумочки шпильку для волос и один за другим проколола негативы тех, которые показались ей «слишком Мэрилин».
«Я была пьяная и голая, — рассказывала она потом Бринсону. — Но меня смущает не это, а приторная музыка, которая до сих пор звучит у меня в ушах, когда я вижу эти фотографии».
Мэрилин осталось прожить один месяц. Гринсон вновь делился с Анной Фрейд своим недоумением. Анна ответила 2 июля:
«Дорогой коллега и друг, я узнала, что ваша пациентка плохо вела себя, опаздывала и прогуливала съемочные дни. Меня удивляет то, что с ней творится, и то, что творится с вами из-за нее. В ней должно быть что-то очень хорошее, как я понимаю по рассказам Марианны Крис. И все же она, очевидно, далеко не является идеальной пациенткой с аналитической точки зрения».
В следующие дни, когда Мэрилин разговаривала по телефону с Джоан, ее голос казался отсутствующим. Джоан был двадцать один год, но Мэрилин всегда общалась с ней как с младшей сестрой. Она не хотела, чтобы девушка видела ее «обнаженные» фотографии и никогда не рассказывала ей о мужчинах, с которыми спала. «Она всегда представлялась мне девственным созданием» — так говорила Мэрилин. Хотя они часто беседовали о любви, излюбленной их темой была любовная жизнь Джоан. Но с начала 1962 года Мэрилин казалась ей очень возбужденной и упоминала о том, что в ее жизни появился новый мужчина. Она избегала называть его по имени и звала его «генерал». Это их очень смешило. Джоан предположила, что за этим именем скрывался Джон Кеннеди. Но, когда журнал «Лайф» опубликовал репортаж о Генеральном прокуроре Роберте Кеннеди, которые его сотрудники из Министерства юстиции прозвали «генералом», она все поняла.
Вечером 19 июля Мэрилин пригласила к себе Дэниэла и Джоан, чтобы отпраздновать день рождения девушки и поблагодарить обоих за то, что они всегда были рядом в отсутствии их отца. Она была очень весела и призналась Джоан: «Знаешь, я могла бы описать свою жизнь одними названиями песен в моих фильмах. «Каждому ребенку нужен папа»; «Поцелуй»; «Когда любовь приносит несчастье»; «Брильянты — лучшие друзья девушек»; «До свидания, малыш»; «Когда получишь, что хотел, ты больше этого не хочешь»; «Зной»; «Ленивая»; «Река без возврата»; «Я подам жалобу»; «Один серебряный доллар»; «Эта старая черная магия любви»; «С любовью покончено»; «Хочу, чтобы ты меня любил»; «Сорваться с цепи»; «Мое сердце принадлежит папе»; «Безнадежно романтична»… Ну, хватит! Но теперь я больше не пою. Ни в фильмах, ни в жизни».
Джоан подумала, что она могла бы прибавить к своему каталогу «С днем рождения, Мэрилин», но ничего не сказала.
На следующий день Мэрилин легла в больницу «Ливанские кедры», на гинекологическую операцию. Некоторые говорили об аборте, другие о выкидыше. Она записалась под именем Зельды Зонк.
Санта-Моника, Франклин-стрит 25 июля 1962 года
В тот день, когда Дэррил Зэнак стал президентом киностудии «Фокс», Гринсон провел с Мэрилин два сеанса — один в своем кабинете, другой у нее дома. Энгельберг сделал ей инъекцию снотворных. Кроме того, Гринсон прописал нембутал. По возвращении из Европы психоаналитик принимал Мэрилин каждый день. Она звонила ему беспрерывно, иногда в два, три или четыре часа утра. Она также звонила Бобби Кеннеди, с которым вновь встретилась месяц назад на званом вечере у Лоуфордов.
Когда анализ Мэрилин возобновился, Гринсону казалось, что ей стало лучше, хотя она все время говорила о разрыве, разлуке и одиночестве. Возможно, его впечатление было связано с чувством вины, так как он считал себя ответственным за ее увольнение «Фокс» в его отсутствие. Может быть, Гринсон также пытался успокоить себя, думая, что этому придет конец, что она выздоровеет, освободится, что она больше не будет нуждаться в нем по семь дней в неделю, двадцать четыре часа в сутки. Узник, отпущенный под честное слово, как он говорил, вечный узник метода лечения, который он счел необходимым для нее и который, как постепенно выяснилось, оказался невозможным для него. Он понимал, что эта тревога, эта ожидание другого всем своим существом, это безмерное ожидание не есть ожидание настоящего человека, его, Ральфа. Мэрилин ждала даже не другого, безымянного, неизвестного. Она ожидала, что никто не ответит ее ожиданиям.
Может быть, Мэрилин притворялась, что ей лучше; угадывая его желание. Ведь она была актрисой, она умела играть счастливых девушек даже со своим доктором. Самое главное — не потеряться. На одном из сеансов она сказала: «Мне наплевать, что я умру, я знаю, что после этого вы мне позвоните».
Гринсон собирался в следующем месяце уехать в Нью-Йорк. Работа над книгой продвигалась слишком медленно с тех пор, как большая часть его времени и его эмоций были посвящены Мэрилин. Отчаяние было для нее единственным средством обеспечить себе присутствие другого человека рядом, и она стала кошмарной личностью, которая, невзирая на всю любовь, всю хрупкость и все великолепие, неумолимо его уничтожала. А что, если он не хотел быть уничтоженным?
Озеро Тахо, Кал-Нева Лодж 28 и 29 июля 1962 года
В тридцать пять своих последних дней Мэрилин двадцать семь раз встречалась с Гринсоном и двадцать четыре с Энгельбергом. От того и другого она получила некоторое число успокоительных уколов или «инъекций молодости», о чем они не пожелали говорить во время расследования. Журналист из «Лайф», который брал у нее последнее интервью в начале июля, видел, как она прервала беседу, чтобы выйти на кухню, где Энгельберг сделал ей инъекцию, которая поддерживала ее в состоянии нездорового возбуждения до поздней ночи.
Мэрилин не приехала в Нью-Йорк, но несколько раз уезжала из Лос-Анджелеса, в частности провела два уик-энда в «Кал-Нева Лодж» — казино, которое находилось в совместном владении Фрэнка Синатры и Сэма Джанканы, под управлением Пола Д’Амато. В первый ее приезд праздником распоряжался Синатра. По официальной версии, он пригласил Мэрилин, чтобы отпраздновать ее новый контракт с «Фокс». Она надеялась, что сможет вновь приступить к съемкам «Что-то должно рухнуть» в последнюю неделю августа. Синатра также предложил ей обсудить проект фильма, главные роли в котором должны были сыграть они оба. По мнению Ральфа Робертса, Мэрилин не очень хотелось принимать приглашение, но она все же решилась, узнав, что Дин Мартин устроит шоу в Зале знаменитостей в эти выходные. Синатра посадил Мэрилин в свой частный самолет «Кристина» с роскошной обстановкой: мягкий ковер, резная мебель, салон-бар, фортепиано и просторная ванная комната с подогревом сиденья унитаза.
Ей было отведено бунгало № 52, которое входило в ансамбль для высокопоставленных гостей. Скрытая черной косынкой и темными очками, она провела большую часть времени в спальне, с телефоном под ухом.
Во второй раз Мэрилин улетела к границе между Калифорнией и Невадой в последние выходные перед своей смертью. Гости, присутствующие на вечеринке, видели, что она блуждает в полубессознательном состоянии, словно призрак. Она рассказывала Д’Амато вещи, о которых не следовало говорить. Ее окружали не друзья, приехавшие отпраздновать вместе с ней ее победу над «Фокс», а странные люди, которые хотели, чтобы она больше не общалась с братьями Кеннеди, и собирались заставить ее молчать.
Как-то вечером, когда туман сгущался над берегами озера Тахо, все увидели, как Мэрилин стоит на краю бассейна, босиком, но полностью одетая, и раскачивается вперед-назад, устремив взгляд на вершину холма. Когда несколько часов спустя гости нашли Мэрилин в коме, вызванной сочетанием медикаментов и алкоголя, с остановившимся взглядом, безвольно болтающимися, как у тряпичного паяца, руками, ее отвезли в аэропорт Рено, где посадили в частный самолет. Мэрилин проживала фильм «Неприкаянные» в действительности. Она требовала, чтобы двухмоторный самолет любой ценой сел в Санта-Монике, но аэропорт был закрыт на ночь, и они приземлились в аэропорту Лос-Анджелеса. Она вопила, чтобы ее отвезли домой. Когда ее передали с рук на руки врачам и Муррей, она дрожала от страха, начиная понимать причину, по которой ее пригласили. «Произошло кое-что, о чем никто не рассказывал», — лаконично подытожит Д’Амато.
Через несколько дней Синатра якобы передал фотографу Билли Вудфилду пленку для проявки. Фотограф обнаружил фотографии накачанной наркотиками Мэрилин без сознания, которую насиловали в присутствии Сэма Джанканы и Фрэнка Синатры. Только Дин Мартин понял, что за проблема была у Мэрилин, помимо медикаментов, алкоголя и бесконечного исполнения роли маленькой потерянной девочки. Гораздо позднее он сказал одному журналисту, что на самом деле она не могла пережить ужас обнаруженного ею, вопреки ее воле, темного леса, в котором рыскали Сэм Джанкана, Джонни Росселли и «ее любимые Кеннеди, оказавшиеся подонками», — этот темный мир, простирающийся за фасадом страны мечты, которую она делила со всеми, кто платил за то, чтобы увидеть ее на экране. Она хотела вернуться в волшебную сказку, но это было невозможно. Мэрилин знала такое, во что люди не поверили бы. Дин видел: ей недолго оставалось жить на этом свете. «Если она не заткнется, то ей не понадобятся даже лекарства, чтобы дойти до точки», — думал он. То, что Мэрилин увидела краем глаза, через призму своей совращенной невинности, ужаснуло ее. Дин молчал об этом. То, что знал он, знали и другие: о Монро, о братьях Кеннеди, о Сэме Джанкане, об этой тонкой ниточке правды, затерянной среди лжи и сверкающих призраков города ангелов.
Много времени спустя однажды вечером Дин Мартин, напившись как сапожник, обронил: «Мэрилин умерла в тридцать шесть лет. Тем лучше — ведь она не кончила, как Джун Эллисон, актриса нашей молодости, от которой теперь остался только голос в радиорекламе памперсов «Кимберли-Кларк» для стариков. Эта-то еще жива. Если можно так выразиться».
Санта-Моника, Франклин-стрит конец июля 1962 года
Мэрилин начала сеанс такими словами:
— Доктор, я должна вам сказать… Я нашла у Джозефа Конрада фразу, которая мне подходит и выражает то, что я вижу в себе лучше, чем множество долгих сеансов: «Мне было предначертано судьбой сохранить верность выбранному мной кошмару». Это грустно, но не слишком. Красота никогда не бывает печальной, но она причиняет боль. Не знаю почему, но я связываю красоту с жестокостью.
Потом, без перехода, она заговорила о своих отношениях с женщинами:
— Сексуальные отношения, доктор, у меня были. Это было то самое: что-то черное, жестокое. Холод, дистанция.
Она замолчала — предпочла рассматривать воспоминания внутренним взором, а не рассказывать о них.
Все женщины, с которыми она сближалась, были похожи на ее первую женщину, Наташу Лайтесс, преподавательницу драматического искусства, которая контролировала ее карьеру в 1950 году. Умные, образованные, склонные манипулировать. Она спрашивала у них, что ей делать, кем ей быть. Они не отвечали, но действовали, как невидимая рука, управляющая марионеткой.
Ей вспомнилась одна сцена. Это было в конце 1950 года у Андре де Динса, в его доме на холмах. Он поставил запись «Богемы» и стал поливать ноги Мэрилин, лежащей на пушистом шерстяном ковре, французским вином, а затем бесконечно вылизывал пальцы ее ног. Зазвонил телефон. «С тобой хочет поговорить разъяренный женский голос, — сказал ей Андре. — Думаю, это Наташа. Я ответил, что не знаю, где ты. Она обозвала меня вруном, орала, будто знает, что ты у меня». Мэрилин никогда не забудет эту сцену. Андре и она лежали бок о бок на ковре гостиной, оба преображенные, зачарованные прекрасным голосом, поющим арию «Mi chiamano Mimi». Она была растрогана музыкой до слез, но звонок телефона и враждебный голос Наташи нарушили идиллию. Когда Андре повесил трубку, он закричал, что она сделала глупость, когда сказала этой женщине, что проведет вечер у него. Мэрилин быстро оделась и ушла, полная тревоги.
— Кого она вам напоминает, эта Наташа? — спросил Гринсон.
— Не знаю. Хотя нет, знаю; вас. Только не кричите! Вас, потому что ее предки — выходцы из России, как и ваши. Она еврейка, как вы. Интеллектуалка, как вы. Примерно на пятнадцать лет старше меня, как и вы. И неудавшаяся актриса, как вы… Когда я с ней познакомилась, ее только что выгнали из студии «Колумбия», в которой она работала по контракту. Забавно, она учила меня профессии, в которой потерпела неудачу. Совсем как вы, психоаналитики, пытаетесь вылечить других от болезни, которой страдаете сами.
— С какими еще женщинами вы спали?
— Трахалась, доктор, трахалась. И спала тоже частенько, ничего не делая. Кстати, когда мне было двадцать лет и я жила у моей тети Аны, а моя мать приехала к нам, только что выписавшись из психиатрической больницы Сан-Франциско, мы с ней спали в одной постели. Но с Наташей мы трахались, да. С Наташей было именно это; что-то ранящее в наших ласках, я чувствовала в ней больше ненависти, чем желания. И в себе тоже, как я понимаю теперь, когда вспоминаю. Говорили, что я лесбиянка. Люди обожают ярлыки. Мне это смешно. Никакая форма сексуальности не преступна, если в ней есть любовь. Но слишком часто люди считают, что это гимнастика, механические движения. Если бы это было так, то люди могли бы поставить в аптеках специальные автоматы и заниматься любовью, обходясь без людей. Иногда я думаю, что из меня хотят сделать машину для секса.
— Другие женщины? Актрисы? А Джоан Кроуфорд?
— Ах да, Кроуфорд! Один раз. Только один. Это было у нее дома, на коктейле, нам было хорошо. В ее спальне мы набросились друг на друга. У Кроуфорд был невероятный оргазм. Она кричала как сумасшедшая. Когда мы встретились в следующий раз, она захотела сыграть ответный матч. Я сказала, что мне не очень понравилось заниматься этим с женщиной. После этого, чувствуя себя отвергнутой, она затаила на меня смертельную обиду. Год спустя меня выбрали для передачи «Оскара» на церемонии вручения наград Академии. Я ужасно боялась споткнуться и упасть или убежать, когда мне придется сказать мои две фразы. Я выкрутилась без потерь, но на следующее утро газеты повторяли те гадости, которые наговорила обо мне Кроуфорд: «Вульгарное выступление Мэрилин Монро стало позором для всего Голливуда. Нарядившись в слишком обтягивающее платье, она пошло вертела бедрами, направляясь к «Оскару», чтобы взять его в руки». Стерва-лесбиянка! Для твоей постели моя задница была не слишком вульгарна!
— Вернемся к Наташе. Вы как-то сказали, что она влюбилась в вас с самого начала. Раз уж вы ассоциируете ее со мной, считаете ли вы, что я тоже влюбился в мою пациентку, как она в своего ученика?
— Знаете, что она сказала мне вскоре после нашего знакомства: «Я хочу тебя полюбить». Я ответила ей: «Тебе не обязательно меня любить, Наташа. Просто работай со мной». Она меня извела своей безнадежной страстью — настоящая чеховская героиня, немое страдание, сдерживаемые слезы. Любовь — это ведь не обязанность, правда, доктор?
— В каких обстоятельствах вы привязались друг к другу?
— Мне нужен был пример для подражания, а не любовница. А она пыталась навязать мне свою любовь в то время, когда умерла моя тетя Ана, вскоре после того, как мы начали работать вместе. Но всегда есть что-то, что избавит тебя от привязанности другого человека, особенно если ты ее не разделяешь. Мы жили вместе в отеле «Шерри Недерландс». Жарким летом 1949 года Наташа познакомила меня с Прустом, Вульфом, Достоевским… и Фрейдом, с «Толкованием сновидений». Конечно, не целиком, а в отрывках. После этого связь с Фрейдом продолжил Михаил Чехов, никто иной. Это преподаватель, которому я обязана всем. Он представлялся племянником русского писателя. Все в Голливуде помнили, что он сыграл у Хичкока роль старого психоаналитика, который помогает Ингрид Бергман в лечении Кэри Гранта. Когда я начала у него заниматься, кажется осенью 1951 года, он сказал одну фразу, которую я никогда не забуду: «Ты должна научиться ощущать свое тело музыкальным инструментом, выражающим твои мысли и чувства; ты должна стремиться к полному согласию между твоим телом и твоей психикой». Что вы об этом думаете, Роми? Разве не этого мы с вами пытаемся достичь? После этого Чехов написал книгу: «Актерам: техника и актерская игра». Эта книга стала моей Библией. Наряду с Фрейдом. Вам надо бы написать книгу «Психоаналитикам: техника лечения».
— Вернемся к вашим отношениям с женщинами. Почему всегда брюнетки?
— Не знаю! Потому что, когда я с ними, я смотрю на ту, которой не являюсь, ту, которой я была или могла бы стать.
Вы знаете, я крашу волосы на голове и в других местах каждые два дня не только для того, чтобы быть такой же, как мои блондинки на экране, но и чтобы не быть женщиной с рыжевато-каштановыми волосами.
— Я думаю, что на самом деле вы страшно боитесь гомосексуальности и в то же время ставите себя в такие ситуации, когда предоставляется ее возможность.
— Не знаю! Когда я начала читать книги о психоанализе и сексуальности, мне стали попадаться такие слова, как «фригидная», «отвергнутая», «лесбиянка», и я сразу подумала, что все три слова — про меня. Есть дни, когда я не чувствую себя никем, и другие дни, когда мне хотелось бы быть мертвой. Есть и эта мрачная штука: хорошо сложенная женщина.
Наташа Лайтесс умерла вскоре после Мэрилин. Незадолго до смерти она сказала: «Мэрилин не была ребенком. В самом деле, она была кем угодно, только не ребенком. Дети — открытые, наивные, доверчивые. Мэрилин была запутанной. Хотелось бы мне, чтобы у меня была одна десятая ее ума и деловой сметки. Что касается зависимости, моя жизнь и мои чувства были у нее в руках. Я была старше, я была преподавательницей, но она знала глубину моей привязанности и эксплуатировала ее, как может только молодая, красивая женщина Она сказала, что больше нуждается во мне, чем я в ней. На самом же деле все было наоборот».
Санта-Моника, Франклин-стрит первые дни августа 1962 года
Однажды вечером, часов в восемь, когда Гринсон готовился после ежедневного сеанса попрощаться со своей блондинкой, страдающей нарушением идентичности, она протянула ему большой конверт со словами: «Это для вас. Скажите: что вы об этом думаете?» Она положила конверт на стол рядом с диваном легким и грациозным движением, словно сбрасывая одежду перед тем, как доверить свое обнаженное тело постели. В конверте были две магнитофонные ленты, записанные ей у себя дома. Давая их ему, она уточнила: «В вашем присутствии, дорогой доктор, я не могу полностью расслабиться. Мне нужно другое, более скрытое пространство, чтобы с вами говорить. Между мной и мной. Но обращаюсь я к вам, хоть вас и нет рядом. Тем более что вас нет рядом. Это самые частные, самые тайные мысли Мэрилин Монро».
Нам известна лишь расшифровка, сделанная Джоном Майнером, по его словам, неделю спустя. Ее он опубликует в «Лос-Анджелес Таймс» в августе 2005 года.
REWIND. Ральф Гринсон вновь ставит запись, оставленную ему Мэрилин на ее последнем сеансе. «Я вложила в вас свою душу. Вас это пугает? — говорит сладкий голосок. — Что я могу вам дать? Не деньги, я знаю, что для вас они значат мало. Не мое тело — ваша профессиональная этика и верность вашей чудесной жене делает это невозможным. Знаете, что сказал Наннелли Джонсон? Он сказал: «Для Мэрилин коитус — самый простой способ сказать «спасибо»». Как я могу отблагодарить вас, раз моя валюта не имеет у вас хождения? Вы дали мне все. Благодаря вам, я стала другой с самой собой и с окружающими. Я чувствую то, чего никогда не знала, — женщина, и настоящая (даже в шутку, как у Шекспира). Теперь у меня есть власть над собой, я могу управлять моей жизнью. Что я могу вам дать? Свою идею, которая произведет революцию в психоанализе. Послушайте! Мэрилин Монро рассказывает свободные ассоциации. Я? В полном распаде… Вы, мой доктор, своим пониманием и истолкованием того, что происходит в моей голове, получаете доступ в мое подсознание и можете лечить мои неврозы. А я, возможно, смогу их перерасти. Но когда вы мне говорите, чтобы я расслабилась и сказала вам, о чем сейчас думаю, в голове у меня становится пусто. Мне нечего сказать. Это то, что вы и доктор Фрейд называете сопротивлением. Тогда мы заговариваем о другом, и я отвечаю на ваши вопросы, стараясь, как только могу. Вы — единственный в мире, кому я никогда не лгала и никогда не солгу. Ах да, сны. Я знаю, что они важны. Но когда вы велите мне рассказывать свободные ассоциации на тему моих снов, у меня все та же пустота. Еще больше сопротивления, чем можете надеяться вы и доктор Фрейд.
Его «Лекции по введению в психоанализ». Какой гений! Он делает все легкодоступным. И он совершенно прав. Он сам сказал, что Шекспир или Достоевский лучше разбирались в психологии, чем все ученые, вместе взятые. Конечно. Это так. Уайлдер, Билли Уайлдер. В фильме «Некоторые любят погорячее» он велел мне сказать реплику: «Я не профессор Фрейд!» Помните, сцена, в которой Тони Кертис притворяется асексуальным или импотентом, притворяется, что ничего не чувствует, когда я его целую? Он говорил; «Я попробовал все. Я провел полгода в Вене с доктором Фрейдом за спиной. Ничего не помогает». Я поцеловала его — один раз, два раза. На третий раз, сказав ему: «Я не профессор Фрейд, но попробую еще раз». Психоанализ — это прекрасно, но любовь, настоящая, та, которой мы занимаемся ртом, руками, половыми органами, — это тоже неплохо, чтобы спастись от холода, от смерти. Билли это понял.
Вы посоветовали мне прочесть поток сознания Молли Блум. Пока я его читала, что-то меня раздражало. Джойс пишет, что женщина думает про себя. Разве он мог знать самые глубокие ее мысли? Но когда я прочла книгу целиком, мне стало понятнее. Джойс был писателем, который умел проникать в души людей, мужчин и женщин. Совсем не важно, были ли у Джойса груди или другие женские атрибуты и испытывал ли он менструальные боли. Подождите! Как вы, наверное, догадались, сейчас я свободно ассоциирую. Вы услышите массу грубых слов. Из-за моего уважения к вам я никогда не смогу выговорить те слова, которые действительно думаю, на сеансе. Но теперь, когда вы далеко, я скажу все, что думаю. Все равно, какими словами. Я могу это сделать, и, если вы будете терпеливо слушать, я скажу вам все! Забавно, что я прошу вас о терпении, но ведь это я ваша пациентка. Быть терпеливым (англ. patient) или быть пациентом — снова игра слов, не правда ли?
Вернемся к Джойсу. Леопольд Блум был ирландским евреем. Как узнать евреев физически? По вашему виду я не сказала бы, что вы еврей. Так вот, видите ли, дорогой доктор, с женщинами то же самое: никто не может распознать их, глядя со стороны. И даже в женском теле есть ли женщина?
Вы готовы выслушать мою великую идею? Есть врач и его пациент. Мне не нравится слово «анализируемый». Оно как будто намекает на то, что больной дух отличается от больного тела. Но вы с доктором Фрейдом говорите, что дух — это часть тела… Анализ мне больше не подходит. Вы в кабинете доктора, и он вам говорит: «Говорите все, что вы думаете, говорите то, что приходит в голову». И вы не можете выговорить ничего. Сколько раз после сеанса я возвращалась домой и плакала, думая, что это я виновата.
И вот, когда я читала Молли, мне пришла мысль: возьми магнитофон, поставь кассету, включи запись и говори все, что ты думаешь, — это я и делаю сейчас. Это и правда легко. Я лежу на кровати в одном бюстгальтере. Если захочу, могу пойти к холодильнику или в ванную комнату. Я нажимаю кнопку «стоп» и снова начинаю говорить, когда возвращаюсь. Здесь свободные ассоциации даются мне легко. Никаких проблем. Ваша пациентка не может делать это в кабинете врача. Она делает записи у себя дома. Потом посылает ему кассету. Врач ее слушает. Когда пациентка приходит на сеанс, он задает ей вопросы, интерпретирует ее ответы. Иногда я думаю, что аналитик лечит пациентку не своими знаниями и опытом победы над собственными болезнями, а своими незажившими ранами. На кассету можно записывать и сны. Сразу после пробуждения. Вы знаете, что я забываю свои сны, я даже забываю, что их видела. Доктор Фрейд называет сны королевской дорогой к подсознанию. Он не запрещает их записывать и прослушивать задним числом. Теперь я буду рассказывать вам мои сны, записывая их. Хорошо? Доктор Гринсон, вы самый великий психиатр в мире. Скажите, изобрела ли Мэрилин Монро новое, важное средство, которое продвинет вперед психоанализ? Когда вы прослушаете записи, которые будут использованы для моего лечения, то сможете опубликовать в научном журнале статью об этом методе. Разве не сенсация? Не хочу, чтобы вы меня благодарили. Я не хочу, чтобы мое имя указывалось в статье. Это мой подарок вам. Я ни с кем никогда об этом не буду говорить, и вы первый преодолеете сопротивление. Эта идея принесет вам выгоду; можете спросить у Микки Рудина, как ее запатентовать…
Ну так вот. Все, что я вам скажу, правда. С тех пор, как я стала вашей пациенткой, у меня ни разу не было оргазма. Я вспоминаю, что вы сказали однажды, что оргазм происходит в голове, а не в половых органах. Я предпочитаю говорить «половые органы», а не «генитальный аппарат». Проблема не в словах, а в том, как люди ими пользуются.
Это не страшно, но знаете, эти проклятые свободные ассоциации кого угодно с ума сведут. О! О! Когда я говорю о сумасшествии, я вспоминаю свою мать, а я сейчас не хочу таких ассоциаций. Дайте мне закончить свою мысль насчет оргазма. Вы сказали, что человек в коме или параличе не может испытать оргазм, так как генитальная стимуляция не достигает мозга, и что, наоборот, оргазм может случиться в мозгу, без всякой стимуляции генитального аппарата. Вы говорили также, что в моем уме есть какое-то препятствие, которое не дает мне испытывать оргазм, что это появилось очень рано в моей жизни, потому что я чувствовала себя такой виноватой, что не заслуживала никакого удовольствия. Это было связано с каким-то неблагоприятным сексуальным опытом в прошлом. Что-то, что покрыло удовольствие налетом вины. Травма, говорили вы. Рана. Но вы сказали, что, если я буду следовать вашим советам, у меня будут оргазмы, сначала в одиночестве, потом с любовниками. Как различны значения слов. Вы сказали не что я смогу иметь оргазмы, а что они у меня будут. Будьте благословенны, доктор, слова ваши — золото. Столько лет потеряно. Добавлю в скобках: если бы мужчины не были такими идиотами и если бы существовал «Оскар» за лучшую симуляцию, мне бы он доставался каждый год!
Но, может быть, я смогу описать вам, мужчине, то, что женщина испытывает при оргазме. Я попытаюсь. Представьте себе лампу с регулятором яркости. Вы медленно двигаете рычажок, лампочка загорается, начинает светиться, потом еще ярче и, наконец, ослепительной молнией зажигается вся целиком. Потом, когда вы крутите колесико в другую сторону, свет тускнеет и наконец исчезает.
Кстати. Это не связано с тем, о чем я говорила, но вы мне еще будете нужны по меньшей мере год, чтобы собрать куски воедино. Я заплачу за то, чтобы быть вашей единственной пациенткой. И потом, сегодня я вам сделала еще один подарок; высыпала в унитаз мой последний флакон нембутала. Все мои пилюли. Спокойной ночи, доктор».
Пять лет спустя Гринсон выпустил книгу «Техника и практика психоанализа». В главе под названием «Что психоанализ требует от психоаналитика» мы читаем: «Часто бывает необходимо исследовать вместе с пациентом интимные подробности его сексуальной жизни или гигиены, и многих пациентов это смущает. Тогда я специально упоминаю сексуальные или враждебные чувства пациента по отношению ко мне; если представляется, что он необычно взволнован моим вмешательством, я пытаюсь показать ему тоном своего голоса — или позднее выразить это словами, — что я понимаю его трудности и сочувствую ему. Я не пытаюсь стать пациенту родной матерью, но стараюсь измерить сумму боли, которую он в состоянии вытерпеть, продолжая работать продуктивно».
Голливуд, Сансет-бульвар 3 августа 1962 года
Модельер Билли Травилла часто одевал Мэрилин. Ему она была обязана костюмами для своих лучших ролей. Между ними был короткий роман; у него остался календарь ее «обнаженных» фотографий с ее автографом: «Дорогой Билли, прошу тебя, одевай меня всегда. С любовью, Мэрилин».
В тот вечер он с удивлением увидел Мэрилин в ресторане «Ла Скала» на Сансет-бульваре, за столом в обществе Пэт Ньюкомб, Питера Лоуфорда и Роберта Кеннеди. Он поздоровался с ней, но она отвернулась, не ответив. Она была пьяна, ее помутневшие глаза смотрели в пустоту. Билли подошел ближе:
— Эй, Мэрилин! Все в порядке?
— Кто вы? — ответила она.
Огорченный, он удалился, думая, что дело не в том, что она стесняется здороваться с ним в такой компании, а на самом деле вопрос, заданный пьяным, запинающимся голосом, сквозь закрывающие глаза пряди, был обращен к ней самой. Он решил написать ей записку. Она не ответила. Мэрилин умерла следующей ночью.
В начале того августа разыгрывалась последняя партия Мэрилин с ее психоаналитиком. Остальные вышли из игры; все спасатели Монро отказались от этого неблагодарного дела: Страсберга утомили ее требования, Миллер женился на другой и готовился стать отцом, ДиМаджио грызла ревность, он хотел любой ценой снова вступить с Мэрилин в брак. Оставался один Гринсон, которого она теперь звала Роми. По утрам Мэрилин приходила к нему и ложилась на диван для полуторачасового сеанса. Ее тревожили совпадения дат, она тихо плакала. Припоминала, что ровно пять лет назад в «Докторе Хоспитал» на Ист-Энд-авеню, в Нью-Йорке, она потеряла ребенка, сделав аборт на позднем сроке после внематочной беременности. Она все время вспоминала Нью-Йорк. Влажная жара этой знойной пятницы наполняла ее тревогой. Ей хотелось разорвать завесу, кожу, историю, которая отделяла ее от нее самой.
Последнее время она говорила Уитни Снайдеру или У. Уэзерби, что ей хочется уйти от Роми. Это было необходимо. Иначе она никогда не станет самой собой, останется без мужчины, друзей, в полной зависимости от человека, которого больше не может считать своим спасителем. После обеда она заехала к Энгельберту сделать инъекцию и получить у него рецепт нембутала. Этот рецепт дублировал другой, выписанный Ли Зейлегем в тот же день. Она послала Муррей за лекарствами в ближайшую аптеку на Сан Висенте-бульвар. Мэрилин делала покупки в нескольких аптеках, так как получала рецепты на снотворные от нескольких врачей, которые не знали друг о друге. Вечером, несмотря на второй сеанс с Гринсоном у нее дома и вторую инъекцию, которую он сделал ей перед уходом, тревога росла с каждым часом. Мэрилин позвонила своему старому другу Норману Ростену. Полчаса они разговаривали через часовые пояса и расстояние, как будто она хотела принять в себя голоса прошлого, утихомирить пустоту или хотя бы замаскировать ее. Услышав ее голос, огрубевший и измененный наркотиками, Ростен вспомнил о том, что она сказала ему на одном приеме, устроенном в ее маленькой манхэттенской квартире. Ее платье было словно приклеено к коже, как и на будущем вечере дня рождения Кеннеди. Тонкая ткань — как испарина, выступающая на коже после ночи любви. В тот вечер Ростен наблюдал за ней: сидя на подоконнике, она пила из бокала маленькими глотками и смотрела с мрачным видом вниз, на улицу. Такой взгляд бывал у нее часто. Точнее, он охватывал, завладевал ею. Мэрилин сидела, погруженная в раздумья, недосягаемая, во власти жестоких и темных мыслей. Ростен поднялся и подошел к ней:
— Эй, Мэрилин! Возвращайся к нам!
Она обернулась:
— Мне опять будет трудно заснуть сегодня. Со мной такое иногда бывает. — Она заговорила с ним впервые.
— Ты думаешь, что быстрее всего с этим можно покончить, если выброситься отсюда?
— А кто-нибудь заметил бы, если бы я исчезла?
Ростен, не зная почему, вспомнил стихи Рильке: «Кто, если я бы я закричал, услышал бы меня в иерархии ангелов?» После короткого молчания он ответил:
— Я и все, кто есть в этой комнате. Они услышали бы, если бы ты разбилась внизу.
Она рассмеялась.
Именно в этот момент они заключили свой договор. В этот момент, на этом месте, словно играющие дети. Если один из них соберется выпрыгнуть из окна, или открыть газ, или повеситься, или проглотить снотворные, он — или она — позвонит другому, чтобы уговорить его или ее отказаться от этой мысли. Они говорили в шутку — только так обычно и говорят о том, во что действительно верят. Ростен предчувствовал, что когда-нибудь Мэрилин позвонит ему и скажет: «Это я. На подоконнике».
Санта-Моника, Франклин-стрит 3 августа 1962 года
Вечером, отпустив Мэрилин в «Ла Скала», Ральф Гринсон прослушал ее вторую запись. Отказавшись от ужина, он заперся в кабинете и вновь включил магнитофон, поставленный на паузу.
«Мне все-таки надо рассказать еще кое-что о Грейс, — слышался, под шипение ленты, голос Мэрилин. — Грейс МакКи, так ее звали в те времена, когда она познакомилась с моей матерью. Это было, должно быть, за два или три года до моего рождения. Они работали в киностудии и вместе жили в Западном Голливуде в маленькой двухкомнатной квартире на Гиперион-авеню, в бедном районе, который теперь известен как район Сильвер Лейк, недалеко от студий. Грейс заставила… мою мать… Ужасно, как сжимается горло, оно не хочет выговаривать слово «мать». — Ну вот… мою мать… покрасить в рыжий цвет ее черные волосы. Грейс работала в архиве, а моя мать занималась монтажом негативов. Они были, как говорилось во времена между двумя войнами, девушки, которые любят развлекаться». Вечеринки и выпивка — вот что было для них самым главным. Когда я родилась, они уже некоторое время не жили вместе, но продолжали вместе выходить, чтобы цеплять мужиков. Может быть, они и спали вместе, не знаю. Я не жила у матери, она очень рано поместила меня к Боллендерам. Я уже рассказывала вам эту историю: как бедная сиротка смотрит в окно на светящуюся вывеску студии РКО, где, как она представляет, что ее мать портит глаза, рассматривая лица звезд… По воскресеньям, держась за руки, как девочки, они вели меня на прогулку по дворцам Голливуда. Я хочу сказать, дворцы кино — огромный, великолепный Пэнтедж-театр, на углу Вайн-стрит и Голливуд-бульвара, и Египетский театр Граумана, тоже на Голливуд-бульваре. Именно здесь состоялась премьера, «Асфальтовых джунглей», моего первого настоящего фильма. Я не смогла на ней присутствовать. Ужасно жалко! Ужасно! На неделе, не зная, что со мной делать, они посылали меня, сунув деньги на билет, смотреть в этих темных залах на те же лица из света, с которыми они работали целыми днями за монтажным столом. Мне так нравилось быть девочкой с первого ряда — я была одна лицом к лицу с широким экраном.
Когда мне было девять лет — мать взяла меня к себе примерно на год, — они с Грейс поссорились и подрались. Моя мать набросилась на Грейс с ножом. Вызвали полицию, и Грейс добилась, чтобы мою мать поместили в психушку. Грейс стала моей официальной опекуншей. Она не сразу взяла меня к себе, я пожила еще в двух приемных семьях. Но она приходила со мной погулять и водила меня в студии и кино. Грейс повторяла, что когда я вырасту, то стану звездой.
Как-то раз она отвела меня в детский дом. Мне было лет десять. Она вышла замуж и не могла взять меня к себе, в Ван Нуйс. Грейс платила за мой пансион и по субботам водила меня обедать и в кино. Иногда она играла со мной в куклы и водила меня в салон красоты на Одесса-авеню. Я очень много знаю о косметике. Для Грейс образцом звезды была Джин Харлоу. Она хотела меня убедить, что дала мне второе имя из восхищения этой актрисой. Я-то знала, что мое имя пишется «Jeane», а не «Jean». Но все же Харлоу стала и моим кумиром. Грейс одевала меня, как одевалась Джин, — в белое, накладывала мне макияж, припудривала белой пудрой, красила губы помадой. Что до волос, то она едва не покрасила меня в платиновую блондинку перекисью водорода. Мне было всего десять лет, это выглядело бы странно — ребенок, как роковая женщина. Я дождалась своего двадцатилетия, чтобы сменить цвет волос и фамилию. Через неделю после того, как мне исполнилось одиннадцать лет, Грейс взяла меня из детского дома. Но через несколько месяцев, когда она поняла, что ее муж — извините, но у него было прозвище Док — злоупотреблял мной сексуально, она отдала меня другой «матери», Ане Лоуэр. У нее было больное сердце, и она обращала на меня не слишком много внимания, но она мне нравилась. В течение пяти лет я переходила от одной «мамы» к другой, все было запутано, в школе я не могла ответить без запинки, когда меня спрашивали, кто моя мать и где я живу. На Рождество — мне было тогда лет тринадцать — Грейс подарила мне мой первый портативный граммофон «Виктрола». Пружина ручного завода была такой тугой, что в конце пластинки на 78 оборотов в минуту начинали жалобно хныкать, но мне нравилось слушать в темноте мои любимые голоса.
Настал день, когда Грейс с мужем уехали из Калифорнии, и она выдала меня замуж на сына соседей, Джеймса Догерти. Мне было шестнадцать лет, и я не хотела возвращаться в сиротский приют. Когда-то давно вы спросили меня, чем был для меня этот брак. Вот что я могу вам ответить: «Какая-то болезненная и безумная дружба, в которой были и сексуальные отношения».
Ну вот, я и рассказала вам свою жизнь. Ну, если это можно так называть. На сегодня все, как говорил когда-то доктор Гринсон. Доброй ночи. Док!»
Гринсон нажал на клавишу «пауза». Он никогда не узнает, как закончилась ее история с Грейс. Когда он, поплавав в бассейне, вернулся прослушать конец записи, Мэрилин уже перешла к другой теме:
«я говорила вам о моем кризисе десять лет назад, когда я снималась в «Можно входить без стука». В сценарии было что-то, что я никак не могла сыграть. Только с вами я поняла, что происходило тогда. Не знаю, нарочно ли Бейкер и его сценарист это подстроили, но когда Нелл говорила: «В лицее у меня никогда не было красивых платьев», когда говорила, что жила в приюте в Орегоне, это заставляло меня вновь погружаться в события, происходившие, когда я в последний раз посетила свою мать. Надо рассказать вам, хоть это и больно. Если бы вы были рядом, вы бы сказали, как обычно: «Особенно если это больно. То, о чем говорить не тяжело, и рассказывать не стоит».
Мать жила в Портленде, штат Орегон, в самой лучшей гостинице в нижней части города. Хотела бы я забыть эту сцену. Я не виделась с мамой уже шесть лет. Она несколько месяцев назад вышла из психиатрической больницы Сан-Франциско. Она ничего не ела. Ни на кого не смотрела. Был январь. В тот день шел дождь. Я приехала к ней с Андре де Динсом, я вам о нем рассказывала, это мой первый любовник. У него была «бьюик роудмастер» с эдакой клеткой сзади. Вместо заднего сиденья он положил на пол пенопластовый матрас с одеялами и подушками, чтобы я могла спать в долгие часы дороги. Я была его пленницей. Я была счастлива. У меня было, что есть и что пить.
Моя мать сидела в темноте, в маленькой комнатке на последнем этаже, темной и грустной. Я привезла ей подарки — духи, шарф, конфеты и мои фотографии, которые сделал Андре. Она не пошевелилась в своем плетеном кресле. Ни слов благодарности, ни радости. Ни улыбки на губах. Только размазавшаяся губная помада. Она даже не прикоснулась ко мне. В какой-то момент она наклонилась вперед и опустила лицо в ладони. Я бросилась к ней в ноги… — На записи послышалось какое-то нервное всхлипывание или смешок. Потом голос Мэрилин зазвучал вновь, только грустнее: — Я вспоминаю о другом посещении, раньше, в Сан-Франциско. Грейс привела меня ее повидать. Мне было лет тринадцать. Мать не пошевелилась. В конце она сказала: «Помню. У тебя были такие милые маленькие ножки».
Если бы вы были здесь, вы бы точно задумались, почему я сейчас помолчала. Потому что есть что-то, что я не смогла сказать сразу. Когда моя мать подняла голову — мне так хотелось бы забыть ее слова, — она сказала одну фразу, только одну: «Мне хотелось бы жить с тобой. Норма Джин». Что-то во мне разорвалось. Я вскочила, я сказала ей: «Мама, мы должны идти, я скоро навещу тебя опять». Я оставила ей мой адрес и телефон на столе с неоткрытыми подарками, и мы уехали на юг. Я так и не смогла ее увидеть.
Позднее, вечером, мы уехали из Портленда… — продолжил голос, и снова последовала длинная пауза, когда Гринсон слышал только посвистывание ленты, как будто Мэрилин отошла от магнитофона. — Мы поехали в отель «Тимберлайн Лодж», у подножья горы Маунт Худ. Свободных номеров не было. По узкой, извилистой дороге мы доехали до другой гостиницы. Она называлась «Говернмент Лодж». Там везде стояло множество игральных автоматов, — везде, даже в грязных туалетах. Как в кошмарах, в которых никак не можешь добраться до пункта назначения. Дождь превращался в снег. Вечером я вела себя с Андре очень вызывающе. Я имею в виду в сексуальном смысле. Он был печальным, невероятно печальным. Он просто сказал мне: «Ни секунды я не собирался фотографировать тебя с твоей матерью. Я никогда никому не говорил об этом, но ты знаешь, мне было одиннадцать лет, когда моя мама погибла. Она бросилась в колодец. Но все это было уже давно, я даже не знаю, какой стране принадлежит теперь Трансильвания».
В ту ночь в горах Орегона не прекращался снегопад. Снег шел и на следующий день и еще целую ночь. Мы не выходили из спальни. Я делала маникюр и педикюр. Протянув Андре ладони, я показала ему, что в линиях моей руки прочитывается большая буква М. Как дети, мы сравнивали линии наших рук. Он рассказал мне, что в детстве, в Трансильвании, старый звонарь предсказал ему, что позднее буквы ММ будут очень важны в его жизни. «Ты знаешь. Норма Джин, в то время я читал странную старинную книгу, и старика обеспокоило то, что одна из страниц начиналась словами memento mori. Вся эта история меня заворожила, и мы долго разговаривали об этих двух М на наших ладонях. Андре сказал мне, смеясь, что они не имеют никакого отношения к смерти. «Наоборот, они значат Marry Ме» («Выходи за меня замуж!») Андре рассказал мне и о своих прогулках по лесу в детстве; он часто вырезал двойное М на коре деревьев. Странно, доктор, правда? Только несколько месяцев спустя буквы ММ стали моими инициалами… Мы сложили наши ладони вместе. Андре сфотографировал мою ладонь.
В ту ночь Андре занимался со мной любовью. Он отчаянно исследовал мое тело, ища что-то, что ему никогда не найти. Я была в слезах. Он спросил меня, почему я прижимаю его к себе так сильно, как будто он мой ребенок. Я не знала, что ответить. Наша поездка, в которой он фотографировал меня, длилась две недели, но любовью мы занялись в первый раз. Секс служит для того, чтобы быть любимой. Во всяком случае, верить в то, что тебя любят. Просто верить в то, что существуешь. Чтобы затеряться, не принадлежа никому и ничему. Исчезнуть, не будучи убитой. Сейчас я часто говорю себе, что занимаюсь любовью с камерой. Наверно, это не так приятно, как с мужчиной; но это и не так больно. Мы думаем: это всего лишь тело, всего лишь взгляд, берущий тебя внезапно».
Брентвуд, Фифт Хелена-драйв 4 августа 1962 года
Когда Артур Миллер открыл экземпляр «Лайф», который только что купил в киоске на Пятьдесят седьмой улице, и обнаружил фотографии обнаженной Мэрилин, выходящей из бассейна, он не мог не подумать, что ее вызывающий, непринужденный взгляд наигран, что он скрывает рану, унижение. Он вспомнил ее три года назад в их комнате в Бруклине, без одежды, растерянную, не понимающую, где она. Ему она напоминала птицу, которая, влетев случайно через открытое окно, мечется по комнатам испуганно и отчаянно. Мэрилин откинула назад волосы и села на биде с закрытыми глазами, опущенной головой, расставленными ногами. В проем приоткрытой двери он видел, как она приходит в себя, возвращается к нему. Она нежно улыбнулась. «Ее не вынуждают этим заниматься, — подумал он. — Ведь есть и другие способы общения с людьми».
Интервью, которое Мэрилин дала после своего увольнения из фильма «Что-то должно рухнуть», появилось в «Лайф» накануне ее смерти. Она представляется счастливой, спокойной, уверенной. «В детстве я часто ходила на аллею, где знаменитые кинозвезды оставляют отпечатки босых ног на свежем цементе. Я ставила свою ногу в какой-нибудь отпечаток и говорила себе: «Ох! Они слишком велики. Бедняжка, твоя очередь никогда не настанет». У меня было странное впечатление в тот день, когда я поставила ногу на свежий цемент. Именно в тот день я поняла, что нет ничего невозможного».
На Аллее Славы Голливуда мы словно идем по небесному кино. Земля и время перевернулись. Звезда по имени Мэрилин и камера, выгравированные в бронзе на красно-коричневом бетоне, находятся прямо перед Макдоналдсом, дом 6774, Голливуд-бульвар, недалеко от Китайского театра Граумана, где она проводила послеобеденные часы, одна или с Грейс МакКи, теряясь и находя себя среди звезд темного зала.
Напротив, под номером 7000, «Голливуд Рузвельт Отель», открытый в 1927 году, который стал местом, где впервые проводился банкет наград Академии. Мэрилин позировала там раздетой перед бассейном, когда ей было двадцать пять лет, а позднее, в середине пятидесятых годов, она часто останавливалась в номере 1200. В то время она еще удивлялась собственной известности: «Люди смотрят на меня так, как будто я какое-то зеркало, а не человек. Они меня не видят. Они видят во мне свою собственную непристойность. Потом надевают свою маску и обзывают меня непристойной женщиной».
В декабре 1985 года, после ремонта, который привел гостиницу тридцатых годов в полное соответствие с дурным вкусом современности, одна из служащих «Голливуд Рузвельт Отеля» по имени Сьюзен Леонард чистила зеркало в кабинете дирекции. Она ясно увидела, как из глубины зеркала к ней приближается белокурая женщина. Она быстро оглянулась, но за спиной никого не было. Отражение пропало не сразу. Позднее выяснили, что раньше это зеркало висело на стене номера 1200. Среди других реликвий золотых годов Голливуда, которым посвящены тематические номера отеля, вы можете увидеть «зеркало с привидением». Теперь оно висит в коридоре с лифтами.
В субботу, 4 августа 1962 года, поздним утром, к Мэрилин пришла Агнес Флэнаган, одна из ее парикмахерш и давняя подруга. «Вскоре, — рассказывает она, — курьер принес пакет. Упаковка была надорвана и склеена вновь. Казалось, этот пакет много путешествовал. На полустершейся почтовой марке была дата на итальянском языке. Можно было разобрать только буквы ROM. «ROMA — Рим? Роми?» — прочла Мэрилин». Знак из прошлого или предвестье чего-то в будущем. Любовь — это анахронизм. Сигнал доходит до вас, когда уже угас. Был ли этот пакет сообщением сам по себе? Мэрилин открыла его, затем пошла к бассейну с вынутой из него игрушкой — плюшевым тигренком. Она села у воды, молча прижимая его к себе. Агнес подумала, что она, вероятно, страдает ужасной депрессией, хотя ничего не говорила об этом. Не зная, что делать, Агнес поднялась и ушла.
На фотографиях сада Монро, сделанных на следующий день, можно разглядеть двух плюшевых зверушек, валяющихся на бортике бассейна. Одна из них напоминает тигренка.
Мэрилин не упомянула о странной посылке, хотя после этого провела почти всю вторую половину дня на консультации с психоаналитиком. Попросив Пэт Ньюкомб уйти, Гринсон два часа разговаривал с пациенткой, затем посоветовал ей прогуляться с Юнис по берегу моря. Они немного прошлись, но у Мэрилин на песке подкашивались ноги. Затем вернулись, и беседа продолжилась до семи часов вечера. Телефон часто звонил, но психоаналитик не позволял Мэрилин снимать трубку. Ошеломленному Ральфу Робертсу он сухо ответил: «Ее нет» — и дал отбой.
Вечером семья Гринсонов устраивала званый ужин, и ему пришлось вернуться домой, чтобы переодеться. Как только он пришел домой, Мэрилин позвонила ему и радостным тоном сообщила хорошие новости о сыне Джо ДиМаджио. Кстати, она спросила Гринсона, не взял ли он ее флакон нембутала. Он ответил отрицательно, удивившись ее вопросу, так как думал, что в последнее время она снизила потребление барбитуратов. Но, так как у нее в распоряжении не было снотворных, Гринсон не видел причин для беспокойства. На самом деле накануне Мэрилин, тайком от психоаналитика, получила от Энгельберта рецепт на двадцать пять капсул. Доза, достаточная для самоубийства.
Оставшись одна, она бросилась к телефону и набрала несколько номеров. В семь тридцать Питер Лоуфорд слышал по телефону голос сломленной Мэрилин. «Наркотики или алкоголь или то и другое», — подумал он и, чтобы предупредить ее психоаналитика, позвонил его зятю, Рудину. До Гринсона дозвониться ему не удалось.
После этого показания расходятся. По одной версии, психоаналитик в сопровождении Рудина вернулся к Монро вечером, после своего ужина, к полуночи, встревоженный состоянием, в котором оставил пациентку, и довольно нервный, потому что недавно бросил курить. Он нашел ее спальню в большом беспорядке. На деревянном ночном столике — груда пластиковых флаконов, но ни в одном из них нет нембутала, и роман, который Лео Ростен посвятил ему, «Доктор медицины капитан Ньюман». Мэрилин отвечала ему бессвязно, и он решил дать ей выспаться. Он не подумал о том, что, упомянув нембутал в своем последнем звонке, она хотела сказать: я достала смертельную дозу и смогу ею воспользоваться.
Рудин говорил, что Гринсон позвонил ему около полуночи. Психоаналитик встретил его на Фифт Хелена-драйв и сразу сообщил, что Мэрилин умерла. По другой версии, он больше не видел и не слышал Мэрилин после ее последнего телефонного звонка.
В книге, раскрытой и валяющейся корешком вверх, можно прочесть: «Психиатр, полный сочувствия, узнал, что молодой человек, которого он вылечил от травмы, погиб в бою». «Наша работа, — говорит врач, — чинить их, чтобы они были в хорошем состоянии и достаточно здоровы, чтобы покинуть нас и пойти на смерть».
На столе — начало письма к ДиМаджио: «Дорогой Джо, если бы я только могла сделать тебя счастливым, мне удалось бы совершить самое великое и самое трудное дело: сделать кого-то совсем счастливым. Твое счастье означает мое счастье и…»
Ночь сгущается над Тихоокеанским побережьем. Санта Анна, знойный сухой ветер, гуляет по Лос-Анджелесу до самого океана, неся в воздухе отзвуки песенок Синатры, которые слушает Мэрилин, запершись в своем доме в Брентвуде. Dancing in the Dark. Стены из цементных блоков толщиной шестьдесят три сантиметра; окна защищены коваными чугунными решетками. Двери и ворота, широкие, украшенные ручной лепниной, создают впечатления безопасности и уверенности в завтрашнем дне. Огораживающие сад высокие стены из искусственного мрамора защищают ее одиночество, а гигантские эвкалипты служат защитной завесой. Когда звезда переехала в этот дом, она описала его как крепость, где сможет чувствовать себя защищенной от всего мира. В этот вечер дом кажется ей тюрьмой. Она вспоминает фразу Фицджеральда о Голливуде: «Мир тонких перегородок и раскрашенных холстов».
Мэрилин снова слушает, как Синатра поет Dancing in the dark. Перед ее внутренним взором возникает сцена, произошедшая несколько месяцев назад. Она занималась с ним любовью, как занимаются любовью в последний раз — они были отделены и одновременно слиты. Они делали друг другу больно, потому что им только это и оставалось, чтобы снова прикоснуться друг к другу. Два отчаявшихся человека, которые бросились друг к другу, друг в друга, чтобы умереть и чтобы выжить. До конца песни. Неподвижные жертвы кораблекрушения, бьющиеся с волнами и смертью, они остались в полной темноте. Впервые они делали это, не видя друг друга, кружась один вокруг другого, удивленные своей близостью. Обычно он любил видеть ее лицо, когда овладевал ею, а она любила чувствовать его взгляд, полный страсти и нежности. Он мог достичь оргазма, только если видел в глубине ее широко открытых глаз тень желания, и всегда отстранялся от нее в последний момент, чтобы похитить взглядом ее неуловимую красоту. Но этот танец в темноте, этот печальный вальс разделял их, и оставалась только ночь. «Время не ждет, мы здесь, но пора уходить». У них больше не было времени. Больше не оставалось ничего, кроме времени, ночи и прикосновений. Пот, плоть под цепляющимися руками. И никакого образа друг друга. Ни слова. Музыка тел.
Она вновь вспоминала о Ромео. Об этих словах: искать свет другой любви, чтобы осветить ночь. И с ним тоже она танцевала в темноте, их тела разделяло бесконечное расстояние, но каждый входил в сердце другого, как возвращаются домой, «и можно смотреть на музыку вдвоем, танцуя в темноте».
На другом конце Америки Норман Ростен вскочил, разбуженный ранним утром в своей нью-йоркской квартире телефонным звонком. Он забыл о холодном крае каменного балкона на 57-й улице. Но когда он услышал звонок, то понял, что это зов, к которому он был готов. На первый взгляд разговор был веселым и оживленным.
— Ты видел мое новое интервью в «Лайф»?
— Конечно. Очень хорошо. Очень свободно. Ты говоришь как человек, которому нечего терять.
— Всегда есть, что терять. Но надо же нам как-то начинать жить, не так ли?
Мэрилин заговорила о своем доме, ремонт в котором был почти закончен. Плиточный пол был готов, мебель наконец доставили. Она прыснула от смеха;
— Конечно, мексиканская. Конечно, фальшивая. А мой сад — вот увидишь, какой он стал красивый с новыми кустами. (Она перескакивала с одной темы на другую.) Кстати, возможно, съемки фильма возобновят. С другой стороны, я получила предложения от всех. Чудесные предложения, но у меня пока не было времени о них подумать.
Она говорила без умолку. За этими фразами скрывалось закодированное послание, которое он старался расшифровать.
— Будем жить, пока не начали стареть, — продолжала она. — Как ты живешь на самом деле? А Гедда? Уверен, что все хорошо? Слушай, я прощаюсь, у меня звонок из-за границы. Перезвоню тебе в понедельник. До свидания.
Задним числом он подумал, что она обманула его. Она так и не сказала, что готовится покончить с собой, или она сама еще этого не знала?
Норман и его жена были в числе присутствовавших на похоронах Мэрилин — всего собралось тридцать один человек. Актриса завещала 5000 долларов их дочери Патриции, чтобы оплатить ее обучение. Впоследствии Ростен нашел стихотворение, которое Мэрилин написала для него:
Не плачь, куколка, Нет, не плачь. Обнимаю тебя, укачиваю — засыпай. Тише, тише, я притворюсь сейчас. Что я — не моя мертвая мама… Дорога идет под уклон, Цок-цок-цок-цок, Как та куколка в коляске — По ухабам, по ухабам. Мы уедем далеко.Брентвуд, Фифт Хелена-драйв ночь с 4 на 5 августа 1962 года
Если бы это был черно-белый фильм, то начальные кадры показали бы ветер. Ветер, и больше ничего. Ветер, склоняющий верхушки эвкалиптов. Этот ветер из пустыни Мохав летел над высохшими щелочными озерами, где в незапамятные времена молния сплавила песок в стеклянные палочки. Нежный и жаркий, теперь он дул с бульвара Вентура. Он ласкал Беверли Хиллз, Сансет-бульвар, Санта-Монику и теперь коснулся Брентвуда, прежде чем затеряться вдали над морем. Ночь с субботы на воскресенье была так же тиха, как и другие ночи.
Около трех часов утра Джоан Гринсон услышала, как в комнате ее родителей зазвонил телефон. Почувствовав легкий голод, она пошла в кухню, поискать что-нибудь в холодильнике.
«Я спросила у мамы, что произошло, — рассказывает она. — Мама ответила, что у Мэрилин что-то случилось. Я только сказала: «А!» — и вернулась в постель».
Скоро рассвет. Сержант Джек Клеммонс дежурил на посту полиции на Пердью-стрит. Зазвонил телефон. В трубке послышался мужской голос:
— Доктор Хаймен Энгельберт. Умерла Мэрилин Монро. Она покончила с собой.
Клеммонс подумал, что это шутка, и переспросил:
— Повторите — кто вы?
— Я доктор Хаймен Энгельберг, врач Мэрилин Монро. Я сейчас у нее. Она только что покончила с собой.
— Выезжаю.
Если бы это был фильм, центральным персонажем сценария в итоге оказался бы Ральф Гринсон.
Короткое затемнение, звонок телефона.
— Полиция Лос-Анджелеса, западное отделение, сержант Клеммонс, слушаю вас.
— Мэрилин Монро умерла от передозировки.
— Что?
— Мэрилин Монро умерла. Покончила с собой.
— Кто вы?
— Ее психиатр, доктор Гринсон. Это не шутка.
Шагая по бульвару Сан-Виченте к окраине, Клеммонс по рации попросил патрульный автомобиль подъехать к дому 12305 на Фифт Хелена-драйв. Он прошел по пустынным улицам до Кармелина-авеню и свернул в короткий тупик. Номер соответствовал концу улицы. Он вошел в дом, затем в спальню, увидел тело, лежащее поперек кровати; голова накрыта простыней, так что виднелась только прядь платиново-белокурых волос. Мэрилин лежала на животе, «как солдат по стойке «смирно», лицом в подушку, ноги вытянуты и прижаты друг к другу», — рассказывал Клеммонс. Ему сразу же пришло в голову, что ее, вероятно, положили в такую позу — телефон под рукой, под животом протянутый поперек матраса провод аппарата.
За несколько недель до этого, в Нью-Йорке, Мэрилин сидела перед магнитофоном. Напротив нее — журналист У. Дж. Уэзерби.
«Ты знаешь, от кого я всегда больше всего зависела? Не от незнакомых и не от своих друзей. От телефона! Это мой лучший союзник. Я обожаю звонить друзьям, особенно поздно вечером, когда не могу заснуть. Я часто мечтала назначить встречу вот так, в аптеке, среди ночи».
Теперь рядом с кроватью актрисы сидел с убитым видом, опустив голову и опершись подбородком на руки, изысканно одетый мужчина. Говорил, что звонил именно он. Другой мужчина, стоящий перед ночным столиком, представился доктором Ральфом Гринсоном, психиатром Мэрилин Монро. Он добавил: «Она покончила с собой». Потом, указав на ночной столик, заваленный упаковками из-под лекарств, обратил внимание полицейского на пустой флакон из-под нембутала и добавил: «Она приняла все, что в нем было. Когда я приехал, то уже издали понял: Мэрилин мертва. Она лежала лицом вниз на постели, с открытыми плечами. Когда я подошел, то заметил в ее правой руке телефонную трубку. Думаю, в тот момент, когда наступила смерть, она пыталась кому-то позвонить. Просто невероятно, насколько это банально. Все кончено».
Сержант Клеммонс счел любопытной эту гипотезу доктора Гринсона, учитывая, что миссис Муррей была дома. Приехавший на место происшествия позднее офицер полиции Роберт Э. Байрон напишет в рапорте, что именно Гринсон вынул из руки Мэрилин, застывшей в трупном окоченении, телефонную трубку. Наблюдая за обоими врачами, сержант заметил, что доктор Энгельберт молчал, а психиатр, который говорил за двоих, занимал, как ни странно, оборонительную позицию. Он словно бросал вызов: только попробуйте меня в чем-нибудь обвинить! Клеммонс подумал: что же не так с этим человеком, ведущим себя странно для подобной ситуации? В его глазах он видел что-то подозрительное.
— Вы пробовали ее реанимировать? — спросил он.
— Нет, было слишком поздно. Мы приехали слишком поздно, — отвечает Гринсон.
— Вы знаете, в какое время она приняла таблетки?
— Нет.
Затем Клеммонс допросил Юнис Муррей.
— Я стучала, но Мэрилин не открыла дверь, тогда я вызвала ее психиатра, доктора Гринсона, который живет неподалеку. Когда он приехал, она и ему не открыла. Тогда он вышел из дома и заглянул в окно ее спальни. Ему пришлось разбить стекло кочергой, чтобы пробраться в комнату. Он увидел, что Мэрилин лежит на кровати неподвижно, и заметил, что она странно выглядит. Он сказал мне: «Мы ее потеряли» — и сразу позвонил доктору Энгельбергу.
Вернувшись в спальню, сержант Клеммонс спросил врачей, почему они выждали почти четыре часа, прежде чем вызвать полицию. Гринсон ответил:
— Нам пришлось получить разрешение пресс-службы студии, прежде чем кому-либо звонить.
— Рекламной службы?
— Да, рекламной службы «XX Сенчури Фокс». Мисс Монро снималась в фильме.
Клеммонс позже говорил разным журналистам: «Это самое очевидное убийство, которое мне когда-либо приходилось видеть».
Если бы это был фильм, за планом машины «скорой помощи», увозящей завернутое в белый пластик тело Мэрилин, последовало бы затемнение. Затем возник бы черный экран, на котором появились бы белые буквы: ЗА ТРИ МЕСЯЦА ДО ЭТОГО. Монтаж не закончен, на экране появляется хлопушка ассистента режиссера: ЧТО-ТО ДОЛЖНО РУХНУТЬ — и внизу, субтитром: «Мэрилин, последний дубль». Последовали бы эпизоды фильма, отличающегося навязчивым правдоподобием образов из сна, слишком насыщенного реальностью. В освещении и контурах просвечивало бы странное сияние, которое камера запечатлеть не в силах… Раньше Мэрилин напоминала лунатика, не замечающего бездну у себя под ногами; здесь она знает, что может упасть. Она появляется, словно призрак. Призрак героини «Сансет-бульвар», белокурая Норма Десмонд.
Лос-Анджелес, Отдел расследования убийств графства Коронер 5 августа 1962 года
Последний сеанс, проведенный с Мэрилин, Гринсон описывал несколько раз по-разному. В беседе по телефону с журналистом Билли Вудфилдом в тот вечер, когда состоялись похороны, он заявил: «Послушайте, я не могу говорить об этом, не раскрывая того, чего я не хочу раскрывать. Невозможно провести прямую линию и сказать: я расскажу вот это, но не вот это… Я не могу об этом говорить, потому что не могу рассказать эту историю полностью… Расспросите лучше Бобби Кеннеди…» Он подчеркивает одно: она лежала в комнате, предназначенной для друзей, а не в собственной спальне, как будто у себя она была не дома. Но психоаналитик поспешил добавить, что такое с ней случалось часто. Когда Вудфилд стал спрашивать Гринсона о неоднократных назначениях хлоргидрата и «инъекциях молодости», он ответил: «Все совершают ошибки. В том числе и я».
Норману Ростену он заявил: «Мэрилин позвонила мне около четырех тридцати. Судя по голосу, она была в подавленном настроении и находилась под действием наркотиков. Я приехал к ней. Она сердилась на одну подругу, которая проспала в ту ночь пятнадцать часов, и была в ярости, потому что сама не выспалась. После того как я провел с ней два с половиной часа, она, казалось, успокоилась. Мильтон Рудин вспомнил, что слышал, как психоаналитик воскликнул в тот вечер, когда умерла Мэрилин: «О боже! Хай выписал ей рецепт, не сказав об этом мне!» Он говорит, что Гринсон выглядел крайне утомленным: «Он больше не мог, он провел с ней весь день. Он хотел отдохнуть хотя бы в субботу вечером и ночью». Гринсон также объяснит следователю, что, когда Мэрилин звонила ему, она, казалось, была крайне раздосадована тем, что в тот вечер у нее ни с кем не было любовного свидания, у нее, самой красивой женщины на свете! По его мнению, Мэрилин умерла, чувствуя себя отвергнутой некоторыми их тех, кто были с ней близки.
О причинах смерти пациентки Гринсона никто ничего не узнал непосредственно из его уст — он унес эту тайну с собой в могилу. Только слова, повторенные в письмах другим аналитикам Мэрилин, или заявления, сделанные много лет спустя, дают представление о его реакции. Через две недели, в письме Марианне Крис, он описывает их расставание:
«В пятницу вечером она сказала своему врачу, что я разрешил ей принять нембутал, и он выписал его ей, не проконсультировавшись со мной, эту небрежность я объясняю тем, что Энгельберт в то время тяжело переживал развод с женой. Но в субботу, в первое мое посещение, я заметил, что пациентка несколько отупела, и догадался, какое лекарство она приняла, раз впала в это состояние».
Гринсон вспомнил о решении Мэрилин положить конец своей психотерапии. «Она хотела заменить ее магнитофонными записями, которые будет делать для меня. Я понимал, что начинаю ее раздражать. Она часто раздражалась, когда я бывал не целиком и полностью с ней согласен… Она злилась на меня. Я сказал ей, что мы еще это обсудим и чтобы она позвонила мне в воскресенье вечером, и ушел. В воскресенье она была мертва».
Полиция долго допрашивала психоаналитика, вызвав его через два дня для дачи показаний в здании суда. Затем допрос проводил окружной прокурор, распорядившийся о «психологическом вскрытии», и наконец коллегия из двенадцати экспертов, которую назвали «группой по расследованию самоубийства». Роберт Литмен, один из двух психиатров этой группы, раньше был учеником Гринсона. Допрашивая его, он нашел психиатра страшно убитым; ему казалось, что он выполняет роль консультанта в стрессовой ситуации, а не следователя.
Согласно показаниям, которые Гринсон дал Джону Майнеру, прежде чем уйти, он распорядился, чтобы пациентке поставили успокоительную клизму, так как она проявляла симптомы физиологической нечувствительности к действию лекарств, вводимых оральным путем. Хлоргидрат позволял ей заснуть, и, в отсутствии обычного укола Энгельберга, до которого он тщетно пытался дозвониться, клизма представилась ему самым эффективным методом — этим средством Мэрилин часто пользовалась для других целей. Гринсон знал, что она регулярно делает себе клизмы уже много лет. Она рассказывала ему об этом. Он часто отмечал, как напишет в своем «Техническом трактате», что вмешательства аналитика тоже могут восприниматься как клизмы, как болезненные проникновения или прикосновения, доставляющие удовольствие.
Кто делал эту клизму? Гринсон, всегда поручавший введение лекарств другим, вероятно, поручил это Юнис Муррей. Но возможно, он так и не ушел из дома Мэрилин в этот вечер и присутствовал при этих последних процедурах. Многие годы он говорил, что ужинал в ресторане с друзьями, но никогда не называл их, и ни один не явился для дачи свидетельских показаний. После смерти психоаналитика в 1979 году, его семья так и не смогла выяснить, кто присутствовал на том ужине.
По собственному рассказу Гринсона, в последние дни и часы Мэрилин он вел себя скорее как врач, чем как психоаналитик. Он лучше, чем кто бы то ни было, знал, что тех, к кому прикасаются, не слушают. Он дал полную свободу фантазии о глубоком анализе, в котором он предчувствовал «смертельный анализ». Несколько месяцев спустя Гринсон напишет в «Технике и практике психоанализа»:
«Кто такой психоаналитик? Ответ: еврейский доктор, который не выносит вида крови! Эта шутка освещает несколько важных моментов. Фрейд задумывался, каковы мотивации специалиста, выбирающего профессию психоаналитика, и, не принимая их на свой счет, выводил терапевтическую позицию из преодоленного садизма и навязчивой потребности спасать своих больных.
Тенденция проникать в тело или разум человека может следовать из ностальгии по симбиозу и близкому телесному контакту, так же как из деструктивных побуждений. Врач будет или садистичным отцом, сексуально мучающим жертву-мать (пациента), или спасателем, или самой жертвой. Он может выразить в действии фантазию о том, чтобы поступить с пациентом так, как он сам мечтал, чтобы его отец (или мать) поступили с ним; иногда это вариант гомосексуальности и инцеста. Лечение больного также может следовать из материнского ухода — мать, облегчающая боль и дающая грудь. Психоаналитик отличается от всех прочих терапевтов тем, что у него нет телесного контакта с пациентом, хотя он поддерживает с ним как нельзя более интимную словесную близость. В этом смысле он воплощает более мать разлучающую, чем мать сближающую».
В те годы, которые последовали за смертью Мэрилин, Ральф Гринсон много раз общался со следователями, надеясь обезоружить критиков и снять с себя обвинения, которым он подвергался. По несметным рассказам неуверенных свидетелей, иногда представлялось, что он убил Мэрилин невольно, неподходящим предписанием, которое вызвало смертельное взаимодействие между двумя препаратами, либо сделал это намеренно, став участником заговора с целью ее устранения. Психиатр, еврей, политически левый, Гринсон был обвинен как «психоаналитик-убийца», «сионистский заговорщик», шантажирующий свою пациентку, «агент Коминтерна», которому было поручено шпионить за любовницей Президента Соединенных Штатов. В этом человеке, обладающем властью и обаянием, видели продажного врача, работающего на мафию со шприцем в руке, или, напротив, влюбленного, охваченного безумной ревностью. Последовал психоанализ психоаналитика. Рассказывали о якобы существующей между ним и его сестрой-близнецом, Джульеттой, музыкантшей, пользующейся любовью, уважением, восхищением и популярностью, страстную любовную связь, сочетающуюся с неистовой ненавистью, которая, в массивном контрпереносе, была полностью обращена на Мэрилин.
Один свидетель утверждал, что Гринсон часто просил своих пациентов вести дневник, помимо сеансов, и что он до прихода полиции уничтожил красную тетрадь, в которой делала записи Мэрилин. Норман Джеффриз, которого Юнис Муррей нанимала для выполнения мелких работ по хозяйству, утверждал, что собственными глазами видел, как Гринсон пытался реанимировать актрису, делая ей внутрисердечную инъекцию адреналина. В другом рассказе Мэрилин умирает от укола в сердце пятнадцатисантиметровой иглой — от рук убийцы в тонких резиновых хирургических перчатках. Игла якобы сломалась о кость грудины. Через двадцать лет после событий некий Джеймс Холл утверждал, что, когда его вызвали в составе бригады «скорой помощи», он видел, как Гринсон делает в грудь пациентки инъекцию яда. По другой версии, у одного из убийц, посланных Сэмом Джанканой, работавших на мафию и ФБР, которые умертвили Мэрилин, чтобы скомпрометировать Роберта Кеннеди, было прозвище Игла.
Версии, представляющие Гринсона безумным психиатром, любителем смертельных уколов, слишком кинематографические, чтобы быть правдоподобными. Они поразительным образом повторяют подробности Роберта Уолкера, описанные в «Лос-Анджелес Таймс» одиннадцать лет назад. Потеки крови на руках актера появились в борьбе с психоаналитиком, который делал ему смертельный укол, а после того, как «скорая помощь» констатировала невозможность реанимации Уолкера, прохожие видели доктора Хэкера без пиджака, потерянно блуждающего по улицам Брентвуда под проливным дождем.
Голливуд, Сансет-бульвар, аптека Шваба 5 августа 1962 года
В воскресенье, 5 августа, у Мэрилин была назначена встреча с Сидни Скольски, влиятельным в Голливуде журналистом. У него был кабинет в мезонине аптеки Шваба. Он называл Мэрилин «Мисс Кэсуэл», в честь ее первой роли в фильме «Все о Еве». Для встречи с ним она нарядилась роковой женщиной: черный парик, длинные перчатки, карминовые губы. Зная, что он был знаком с Джин Харлоу, Мэрилин хотела поговорить с ним о своих планах сыграть ее роль в фильме об актрисе, для которой изобрели название «платиновая блондинка». Мэрилин купила права на ее биографию уже в 1954 году, и недавно они вместе посетили мать Джин Харлоу, чтобы получить ее согласие и побеседовать с ней.
Мэрилин, как никогда сильно, проецировала себя на умершую актрису. Харлоу была ее зеркалом, ее судьбой, ее любовью. Когда в 1949 году Мэрилин позировала обнаженной для фотографа Тома Келли, она знала, что Харлоу делала то же самое двадцать лет назад, когда Эдвин Хессер сделал серию ее фотографий в Гриффит-парке. Вечером в Мэдисон Сквер Гарден она знала, что в 1937 году, за несколько месяцев до смерти, Харлоу была приглашена президентом Рузвельтом на празднование его дня рождения — это стоило ей изгнания из Голливуда, ведь она прервала съемки своего последнего незаконченного фильма «Личная собственность». Как и Джин, Мэрилин начала свою карьеру под фамилией матери, с которой у нее были ужасные отношения, а потом сменила ее. Как и Джин, в отношениях с мужчинами Мэрилин преследовали неудачи. Мэрилин нравилась позиция Джин Харлоу, которая заставляла ее говорить даже на вершине славы: «Я хотела бы стать актрисой». Мэрилин даже подражала ее манере бормотать в любых обстоятельствах «М-м-м…», которое могло означать что угодно. В фильме 1932 года «Рыжеволосая женщина» Харлоу говорила знаменитую реплику: «Мужчины предпочитают блондинок». Она смотрелась в зеркало, затем ее показывали крупным планом, и она повторяла ту же фразу, глядя в камеру. В этом же фильме она показывала свое почти обнаженное тело: «Это платье слишком прозрачное?» Другая женщина отвечала: «Даже страшно, дорогая». Джин торжествующе перебивала ее: «Тогда я его надену!» Снимаясь в «Неприкаянных», в объятиях Кларка Гейбла, Мэрилин думала только об одном: он снялся в пяти фильмах с Харлоу. Он рассказал ей, что во время съемок последнего фильма ему казалось, что он целует привидение. Когда Мэрилин Монро вдавила ладони в прохладный цемент Голливуд-буль-вара 26 июня 1953 года, у нее было такое впечатление, будто она погружает руки в прошлое. Отпечатки Джин Харлоу, оставленные 29 сентября 1935 года, были рядом со следами ее рук. Мэрилин было тогда девять лет, и ее мать, когда они гуляли вместе с Грейс, показала ей это место перед Китайским театром. Мэрилин часто говорила со странным блеском в глазах: «Я знаю, что умру молодой, как Джин Харлоу».
Постоянно страдающий депрессией и пристрастившийся к лекарствам — злые языки говорили, что он целые дни проводил над аптекой для того, чтобы далеко за ними не ходить, — Скольски понял, что встреча и фильм никогда не состоятся, узнав в воскресение утром вместе со всеми, что звезда умерла. «История Джин Харлоу» так и не будет снята. Но Мэрилин, которая сначала мечтала прожить ее жизнь, а затем воплотила ее мечты, все же по-своему переписала ее историю.
Париж, отель «Ланкастер» 5 августа 1962 года
Пятого августа 1962 года, когда весь мир облетела весть о смерти Мэрилин Монро, Билли Уайлдер летел в самолете Нью-Йорк — Париж. Когда он вышел из самолета, его окружили репортеры.
— Что вы о ней думаете?
— Как вы это все объясните?
— Вы сказали, что она отличалась почти пугающей телесной привлекательностью, любила камеру и одновременно боялась ее?
— Она хорошая актриса?
— Вы не считаете, что она сломалась, потому что не могла сыграть свою роль в новом фильме?
Режиссер спросил, что она еще натворила.
— Ничего, — ответили репортеры, но не сказали ему, что она умерла.
«Что они все делают в аэропорту? Почему такая суета?» — думал Уайлдер. Он проронил о Мэрилин несколько жестоких слов:
— Она самая злая женщина в Голливуде. Это резиновая баба, прекрасное творение порноиндустрии, с грудью из гранита и мозгами из крупнодырчатого сыра грюйер.
Когда, приехав в гостиницу, Уайлдер увидел вечерние газеты: «Специальный выпуск! Умерла Мэрилин Монро!», — он подумал: этим паршивцам даже не хватило такта сказать мне об этом, пока я не выложил все, что накопилось, и не высказал некоторые вещи, которые бы я не стал говорить, если бы знал, что ее уже нет в живых. Мэрилин этого не заслужила. Есть в мире потрясающие сумасшедшие, такие как Монро. А потом они ложатся на диван психоаналитика и встают с него мрачными и закомплексованными. Ей лучше было оставаться изломанной и не пытаться идти прямо. У нее были две левые ноги — в этом и заключалось ее очарование.
Много лет спустя, влажным летним днем 1998 года, тайфун Эль-Ниньо поливал Калифорнию потоками дождя. Билли Уайлдеру девяносто один год. Он дает интервью в своем аскетично обставленном офисе, прячущемся на улочке Беверли Хиллз. Интервьюер спрашивает, что он думал об этой смерти.
«Странно, что она умерла как раз тогда, когда разразился самый большой скандал в ее жизни. То есть эта история с Кеннеди. Ясное дело, она спала с Кеннеди — с кем она только не спала! И он тоже. Долгое время я представлял себе сцену для фильма о нем: он останавливается в отеле «Сенчури Сити» — у него там был президентский «люкс» и вертолет Вооруженных Сил. Один прилетает и садится на крышу. Когда девушки видят, что он идет на посадку, все как одна садятся на биде и включают воду. Понимаете, что я хочу сказать: каждая готовилась, в надежде что он выберет именно ее. За несколько недель до смерти Мэрилин летала в Нью-Йорк, чтобы спеть президенту свою версию «Happy Birthday» (версия Страсберга, фрейдистская, если вы понимаете, о чем я), а потом покончила с собой. Я всегда видел, насколько она неуверена в себе, видел ее страх бытия, даже в походке. Я ловил себя на том, что хочу стать не ее любовником, а ее психоаналитиком. Весьма вероятно, что я тоже не смог бы ей помочь, но она так красиво смотрелась бы на диване».
Билли Уайлдер, которому нравилось ненавидеть Мэрилин, долгое время после ее кончины считал ее современным воплощением актрисы, не желающей стареть. Он даже собирался снять об этом цветной фильм, в котором продолжил бы тему своего черно-белого шедевра «Сансет-бульвар»: актриса, цепляющаяся за свой образ, чтобы не сойти с ума и не умереть. Он не снимет этот фильм. Из-за увиденных кадров из фильма «Что-то должно рухнуть». Так он сам объяснил свое решение. Но в конце своей карьеры в кинематографе, в 1978 году, Уайлдер все же снял нечто подобное; берущий за душу фильм о стареющей актрисе, ведущей затворническую жизнь на маленьком греческом островке. Он назвал фильм «Федора».
Гейнсвиль, Флорида, дом престарелых «Коллинс Корт» 5 августа 1962 года
В маленьком городке Флориды старушка семенит по забрызганным солнцем узким тротуарам. Глэдис Бейкер ничего не помнит. Ни того времени, когда она работала в кино, ни дочь, которая у нее была. Когда психиатр санатория «Рокхевен», в который она была госпитализирована, сообщил ей, что ее дочь умерла, она никак не отреагировала. Она не помнила больше о той, которая носила имя Норма Джин, она не знала, кто такая Мэрилин Монро. Но год спустя, темной ночью, она бежала из санатория, спустившись по связанным простыням. С Библией и книгой «Христианская наука» под мышкой, она добралась до пригородов Лос-Аджелеса. Баптистский священник нашел ее в своей церкви и проговорил с ней до того момента, пока ее не возвратили в учреждение. «Мэрилин (священник вспоминал, что она не говорила «Норма Джин») ушла. Мне сказали об этом после того, как это произошло. Надо, чтобы люди знали: я никогда не хотела, чтобы она стала актрисой. Ее карьера принесла ей только вред».
В акте гражданского состояния Норма Джин была записана под фамилией бывшего мужа ее матери. В свидетельстве о рождении мы читаем «Мортенсен» или «Мортенсон». В двадцать лет она взяла псевдоним, под которым умерла и осталась бессмертной; но официально сменила фамилию только за семь лет до смерти. Имена отзываются эхом в залах судьбы. От Мортенсона до Гринсона — где была смерть, где жизнь? От Кэтрин, матери Гринсона, до Мэрилин — история любви перебирает звуки и слоги повторяющейся звукозаписи.
Отцом Нормы Джин мог быть любой из любовников ее матери в 1925 году, после того как она разошлась со своим вторым мужем. Самый вероятный претендент на эту роль — Реймонд Гатри, который был влюблен в нее несколько месяцев. Он проявлял пленку в RKO. Глэдис дала своей дочери первое имя в честь великолепной актрисы того времени. Нормы Тэлмидж. Норма Джин Бейкер перестала носить данное матерью имя и превратилась в Мэрилин Монро в двадцать лет.
Летом 1946 года Норма Джин позвонила Андре де Динсу и пригласила его к себе в квартиру. Она хотела сообщить ему важную новость. Как только он вошел, она сразу же заявила: «Знаешь что? У меня теперь новое имя!» Она написала карандашом на листке бумаги, медленно и старательно: «Мэрилин Монро». Первые буквы она вывела почти каллиграфически. Даже много лет спустя Де Дине не забыл, как ошеломленно следил, стоя за ее спиной, за движениями карандаша, выводящего ее имя. Была почти сверхъестественная красота в том, как она рисовала эти две большие буквы М. Это имя стало официальным, только когда ей исполнилось двадцать девять лет.
Брентвуд, 5 августа 1962 года
В своем последнем законченном фильме, «Неприкаянные», Мэрилин сыграла персонаж Мэрилин Монро. Это была, в полном смысле слова, роль ее жизни. На экране она исполняла свою биографию — биографию Неприкаянной. Последние дни своей жизни она проживет, словно играя роль в фильме «Все о Еве»: некой мисс Кэсуэлл с дипломом школы драматического искусства Копакабаны, помрачневшей с возрастом, или незнакомки, которая в сценарии черно-белого фильма значилась бы как «Блондинка, умершая в пути».
Беверли Хиллз, воскресенье, 5 августа 1962 года, О часов 5 минут утра. Сержант Франклин едет в служебном автомобиле по Роксбери-драйв. Когда он готовится свернуть на Олимпик-бульвар, «мерседес» проезжает на полной скорости в направлении шоссе Сан-Бернардино. По оценке Франклина, автомобиль едет со скоростью сто двадцать километров в час; сержант замечает погашенные фары. Он включает мигалку и начинает преследовать автомобиль. Машина увеличивает скорость, беспрестанно перестраиваясь из ряда в ряд. Такое впечатление, что водитель спасается от чего-то, как будто бежит с места преступления. Франклин включает сирену, и машина наконец останавливается недалеко от Пико Кантри Клуба. Подойдя к опущенному переднему стеклу, он видит знакомое лицо Питера Лоуфорда. Он кажется пьяным, испуганным, ошеломленным.
— Прошу прощения, — бормочет Лоуфорд. — Мне надо кое-кого отвезти в аэропорт.
— Тогда вы не туда едете — вам надо на запад, а не на восток.
Франклин направляет фонарик на его спутников. На переднем сиденье — мужчина среднего возраста, в твидовой куртке и белой рубашке.
— Это доктор, — говорит Лоуфорд, — он едет с нами в аэропорт.
Позднее Франклин узнает в этом человеке доктора Ральфа Гринсона. «Когда я увидел репортаж о похоронах, я узнал Гринсона, он был пассажиром того автомобиля». Но в тот момент он не проронил ни слова. Франклин направляет луч фонарика на третьего человека, сидящего сзади. Это был Генеральный прокурор США, Роберт Кеннеди, с полузакрытыми глазами и в разорванной рубашке.
Воскресное утро. Полиция допрашивает соседей. Свидетели сообщают о том, что ночью были слышны шумы; вертолет, звук разбиваемого окна, крики, женский крик: «Убийцы!» Год назад, в «Неприкаянных», голос Мэрилин кричал это в пустыне Аризоны: «Убийцы, лгуны! Я вас ненавижу!» Эти слова она бросала тем, кто привязывал диких лошадей, чтобы убить их и заработать денег на продаже их мяса.
С террасы, через разбитое стекло, мы видим банально обставленный интерьер в мексиканском стиле, комнату с голыми стенами. Голая белая женщина. Простыни вокруг нее отбрасывают угловатую тень, как остатки пены опавшей волны. Перед ней неподвижно стоит мужчина. Он не плачет и делает решительный шаг вперед. Он разжимает пальцы, замершие на телефонной трубке, и кладет трубку на аппарат рядом с кроватью. Рот женщины приоткрыт. Ее рот всегда был приоткрыт. Ни на одной фотографии он не видел его закрытым. Глаза. Глаз он не видит. Он знает, что они закрыты. Он хочет, чтобы они были закрыты. Чтобы синева этого плавающего взгляда, которую ему никогда не удавалось разгадать, особенно когда он отчаянно нуждался в том, чтобы расшифровать ее, чтобы эта синева молчала. Женщину зовут Мэрилин Монро, мужчину Ральф Гринсон. Это ее психоаналитик. Он даже не может смотреть на нее. Все в ней съедено светом, белым светом. Ее тело — ослепительная вспышка, звезда из плоти, переставшая существовать из-за своего блеска. Гринсон думает, что первым увидеть женщину мертвой — победа столь же горькая, как мысль о том, что ты первым видел ее обнаженной.
Выходя из дома, когда тело уже положили на носилки и увезли в морг на «скорой помощи», Гринсон заметил на каменной плитке перед входом в дом Мэрилин надпись, на которую раньше не обращал внимания. По-латыни: Сипит perficio. Много лет спустя он найдет ее источник. В Новом Завете святой Павел говорит Тимофею: «Мой путь закончен». В то утро он улыбнулся, подумав, что она не закончила свой путь, когда ее увезли на вскрытие, но он точно закончил свой.
Вскрытие произошло в коронерском морге графства Лос-Анджелеса в 10 часов 30 минут 5 августа. Затем труп привезли из морга, служащие которого отвергли все просьбы сфотографировать самое знаменитое тело в мире. Некоторые предложения доходили до 10 000 долларов. Труп пришлось вынуть из холодильника и спрятать в подсобном помещении. Служащие коронера оказались не столь непримиримыми. В воскресенье вечером, после вскрытия. Ли Винеру, фотографу «Лайф», открыли ячейку № 33; он сделал для нужд следствия фотографии Мэрилин со вскрытым животом. Умереть — значит стать вещью, товаром, куском не плоти, а мяса, как дикие лошади в «Неприкаянных». В последний раз Мэрилин сведена до того, чем она отчаянно хотела перестать быть: до образа.
Позднее Артур Миллер напишет: «Встреча индивидуальной патологии и ненасытного аппетита капиталистической культуры потребления. Как понять эту тайну? Эту непристойность?»
Беверли Хиллз, Роксбери-драйв 7 августа 1962 года
Гринсон не стал садиться в кресло напротив кушетки, на которой неподвижно сидел Уэкслер. Он сразу задал вопрос:
— Ее пленки, записи, ее последнее соло, ее последний сеанс — ты хочешь их услышать?
Уэкслер утвердительно хмыкнул. Гринсон доверил ему голос Мэрилин, как открывают тайну незнакомцу в баре, чтобы больше о ней не думать.
— Оставив мне эти записи, чтобы я послушал их в ее отсутствие, она сказала мне: «Я абсолютно доверяю вам — знаю, что вы никогда не откроете ни одной живой душе то, что я вам сказала». Потом, выйдя из моего кабинета, она попросила стереть их после того, как я их прослушаю. Я не смог их стереть. Эти записи меня потрясли, — продолжал Гринсон, — не знаю, что буду с ними делать, но я записал их на бумаге.
Гринсон не стер эти записи. Во всяком случае, не сразу. Скорее из-за голоса, чем из-за слов. Хотя он и считал себя придающим смысл сказанному, но этот голос против воли превратил его в воспринимающего. Он дал их своему коллеге, чтобы тот прослушал их. Один. Позднее они смогут обсудить услышанное, если захотят.
Слушая первую запись, Уэкслер даже привскочил. «Я пошла к Джоан Кроуфорд. Она попросила меня подождать, пока она сделает клизму своей дочке. Малышка кричала, что не хочет клизму. Не хочет, чтобы клизму ставила мама. Кроуфорд так разозлилась, что чуть не ударила ее. Я предложила сделать клизму сама. Я поставила клизму этому ангелочку так нежно, что она даже засмеялась. Джоан кисло взглянула на меня и сказала: «По-моему, детей не надо баловать». У меня было впечатление, что она склонна жестоко обращаться со своей дочерью… Доктор, я хочу, чтобы вы помогли мне избавиться от Муррей. Вчера вечером, когда она ставила мне клизму, я подумала: «Вы превосходно это умеете, милочка, но вам придется уйти». Доктор, на самом деле мы с ней не любим друг друга. Я не выношу наглости и неуважения, которые она проявляет каждый раз, когда я прошу ее что-то сделать… Пока я диктовала эту историю, я вспомнила о клизмах, которые мне ставили в детстве. Они принадлежат к категории вытесненных воспоминаний, как их называете вы и доктор Фрейд. Я поработаю над этим и передам вам другую кассету».
На второй кассете Мэрилин уже не говорила об этом.
«Вчера я долго рассматривала свое отражение в большом зеркале в ванной. Я была причесана и накрашена, но обнажена. Что я увидела? Мои груди немного обвисли. Моя талия неплоха. Моя задница такая, какой и должна быть. Прекраснейшая из прекрасных. Икры, колени, бедра — ничего не скажешь. И ноги не слишком велики. О’к, Мэрилин, у тебя есть все, что надо».
Вена, Бергштрассе, 19 1933 год
Ночью к Гринсону вернулось тревожное воспоминание. Это было давно. Как-то вечером, собрав нескольких последователей, учитель затронул вопрос окончания переноса. Он воспользовался странным словом «растворение» и объяснил, что от пациента, как от любого человека в жизни, можно отдалиться, только привязавшись к другому — другому существу или другой части того же существа.
«Пока мы живем и пока желаем, — говорил Фрейд, — мы только меняем одну привязанность на другую, меняем зависимость». Он добавил, чтобы лишить задумавшихся учеников последних иллюзий: «Если мы говорим себе, что это всего лишь ошибки, это ведет лишь к совершению новых ошибок».
Затем, чтобы пояснить свои слова, Фрейд, по своему обыкновению, воспользовался образом из литературы. Сказка «Удачливый Жанно». Он поднялся, вышел на минуту из комнаты и зашел в консультационный кабинет, чтобы взять книгу с этажерки. Он недолго искал страницу и прочел сказку своим хриплым голосом. «Тусклое освещение в зале ожидания, усталый голос и болезненный выговор Фрейда придали этой истории трагическое измерение, которого в ней, возможно, и не было», — подумал Гринсон, с тех пор так и не перечитавший сказку.
История была проста, как горе: недолгий спуск, ожидаемое падение. В награду за свою работу Жанно получил золотую монету. Монету было тяжело нести, и он обменял ее на лошадь. Лошадь на корову, корову на свинью, свинью на гусыню, гусыню на ручную мельницу, и наконец осталось у него два камня. Ему тяжело было их нести, он положил их на край колодца и столкнул вниз. Камни упали в колодец. Жанно возблагодарил Бога и, освободившись от всякой ноши, вернулся к своей матери.
«Вот это я и хотел объяснить вам, — сказал Фрейд, закрывая том. — Мне кажется, в том, что касается влияния сексуальных импульсов, мы можем прийти только к трансформациям, к смещениям, но никогда к отказу, отучению, преодолению комплекса (самая непроницаемая тайна!). Вот что такое сексуальность, обмен, в котором импульсы и жесты призваны вызвать в ответ другие импульсы и добиться других жестов».
Вероятно, здесь не дословно переданы слова, которые Фрейд говорил на закате жизни, но именно их Гринсон запомнил из его апологии: в переносе, как и в любви, ничто не дается даром и ничто не случайно.
В тот вечер в Вене Гринсон осмелился взять слово и спросил у Фрейда, что является объектом обмена при переносе. «Сексуальность, опять же сексуальность. Для меня после сорока лет практики так же, как и в начале, сцены, в которых наши пациенты взывают к нам, всегда являются сексуальными. Травмы, которые они вновь разыгрывают с нами или на наших глазах, тоже. Если человек открывает нам свои детские комплексы, не следует думать, что он от них отказался. Он сохранил их часть (аффект) и существующую в данный момент формацию (перенос). Он сменил одежду. Или кожу. Он полинял и оставил старую шкуру психоаналитику. Именно поэтому трудно желать окончания переноса: оно совпадает с окончанием того субъекта, который с нами говорит. Теперь боже его упаси уходить без кожи! Наша терапевтическая выгода — это выгода того обмена, который совершил Удачливый Жанно. Только со смертью последний камень падает в колодец».
На этом Фрейд умолк и с ледяной вежливостью попросил аналитиков его оставить.
Теперь Ральф Гринсон считал, что Фрейд был неправ. В жизни мы меняем не только одно желание на другое или один объект на следующий: мы меняем одновременно существующие или сменяющие друг друга идентичности. И эти идентичности носят не только социальный характер, но и семейный, и социальный.
Гринсон искал в этой сказке элементы, которые могли бы помочь ему понять, что произошло между ним и Мэрилин. Возможно, в сердце анализа и переноса лежал не сексуальный вопрос, а этот обмен, участники которого все более освобождаются от веса здешних вещей, возвращаясь в прошлое. Его поразила одна деталь этой истории: Жанно возвращается к матери. Он возвращается умирать там, где родился.
Гринсон снова и снова виделся со своей пациенткой, они беседовали, сидя лицом лицу, как неумелые актеры, «танцоры в темноте», как говорилось в той песенке Синатры, которую Мэрилин часто напевала вполголоса на сеансах, когда ей было трудно говорить. Все это были акты — в театральном смысле. Они были статистами в комедии ошибок. Разыгранный перенос. В мизансцене — воспоминания, рассказы, сны; костюмы, выбранные ей, чтобы разыграть пьесу, и те, в которые она наряжала в своем внутреннем театре его; разыграны ее собственные реплики в трагедии, автором которой была она сама; в этом спектакле он был низведен до роли вешалки, на которую она вешала одежду, сброшенную после предыдущих сцен, при смене декораций.
Комедия закончилась, занавес опустился. Загадка этого существа осталась нераскрытой. Ее личность, ее костюмы, которые Мэрилин постоянно сбрасывала, скрываясь в них, открываясь и вновь скрываясь. Ее театральный перенос, этот излишек любви, который она показывала к нему. Ее страсть к обнаженности. Ее образ, сотворенный из бесприютности и трепета, неустойчивый, как будто на краю экрана. Эта ее манера — как в жизни, так и в фильмах — ходить по невидимой ниточке, отделяющей грубую реальность от абсолютной выдумки. Все это вновь проплывало перед внутренним взором Гринсона и не имело ни малейшего смысла. Он не хотел лишать Мэрилин ее образов, разлучать ее с персонажами, которых она водила с собой. Это был выбор. Он сказал себе, что не был виновен. Что любовь — это кожа. Когда мы любим, мы защищены от холода мира. Что личность — это луковица. Надо остерегаться ее чистить. Когда мы снимем последнюю кожицу, от луковицы ничего не останется.
Беверли Хиллз, Роксбери-драйв 8 августа 1962 года
Уэкслера все более утомляла тревога, которая заставляла его коллегу снова и снова прокручивать перед ним фильм о последних неделях Мэрилин. Гринсон кашлял и говорил неразборчиво, запинаясь, через силу, как будто сам был актером, произносящим еще не вполне выученный текст. Текст ее смерти. Текст ее жизни.
— Ее последний год… мне надо рассказать про ее последний год. Она пришла ко мне, потому что больше не могла. Во время сеансов я вел ее словно на вытянутых руках, на кончиках слов. На самом деле я чувствовал знак судьбы в этом названии: «Что-то должно рухнуть». Я не захотел его слышать.
— Да, — ответил Уэкслер, — ее личность распалась, когда ты уехал в Европу. Ты недооценил шизофренический компонент. За то короткое время, когда я с ней встречался, меня поразило, насколько часто она говорила о себе в третьем лице: «Мэрилин сделала бы это… Она не сказала бы то… Она бы сыграла эту сцену так…» Я указал ей на эту особенность, спросил ее, не слышит ли она внутри себя голос, который говорит: «Она». Она удивленно на меня посмотрела: «А вы, вы разве не слышите голоса? Я слышу не один голос. Скорее толпу».
Отдавая Гринсону записи, Уэкслер колебался, стоит ли указывать ему на то очевидное, чего он сам не разглядел в безумии на двоих, объединившем его с Мэрилин. В конце концов он решил сказать обо всем, пусть даже это будет стоить ему дружбы.
— Ты прекрасно знал, что массивные переносы обращены к матери и что диван ускоряет регрессию. Умирая, по-своему Мэрилин тоже вернулась к своей матери. Она сбросила последнюю свою одежку в колодец. «Невезучая Джин». Но ты и сам все это знаешь…
— Да, именно чтобы избежать этой регрессии, я не клал ее на диван в течение почти всего времени лечения. В конце она была к этому готова: эти записи — действительно наш метод: говорить, не видя собеседника. Но не думаю, что я сыграл роль ее матери.
— Поэтому ты и отрастил бороду в определенный момент: чтобы успокоить вас обоих, уверив в том, что ты отец, а не мать.
— Нет! Это чтобы быть похожим на Фрейда.
— Ты только и делаешь, что отрицаешь. Ты все время говоришь: нет, я не был ее матерью, я не считал себя ее матерью. Но ведь у Фрейда ты узнал, что, когда произносишь слова «это не моя мать», перед тобой именно твоя мать. Знаешь, что я тебе скажу? Вы друг другу до смерти опротивели. Ты от нее уехал, но не смог ее покинуть. Она хотела тебя бросить, а ты не смог дать ей уйти. Вот и все. Твое отчаяние было отчаянием покинутого ребенка.
Гринсон бросил на коллегу полный ненависти взгляд, но ничего не сказал. Уэкслер решил на этом остановиться.
До самого конца Гринсон считал себя как бы отцом Мэрилин. Двадцатого августа 1962 года он написал Марианне Крис: «Я был ее терапевтом, добрым отцом, который не должен был разочаровать ее, который был призван принести ей понимание ее самой или по меньшей мере просто доброту, я стал самым важным человеком в ее жизни, и я чувствую себя виноватым в том, что навязал это моей семье. Но в ней был кто-то, кого невозможно не любить, и она умела показать себя обворожительной».
Возможно, он так и не понял, что эта терапия находилась в областях психики, далеких от фрейдовской теории, и ее темами были не «отец, жизнь, любовь, желание», а «мать, гомосексуальность, экскременты, смерть». Голос той, которой надоело притворяться милой маленькой девочкой, влюбленной в своего папу, наконец высказал немыслимое на этих магнитофонных записях, вдали от переноса, — голос вопиющего в пустыне. Голое. Черное. Черное, как мать, как смерть; черное, как баронесса Страсберг или актриса Кроуфорд в «Джонни-гитаре»; черное, как Юнис Муррей; черное, как дерьмо, как грязный ребенок. Грязь не имеет пола, как и любовь.
Что, если Мэрилин могла расстаться с ним только в смерти? И что, если Гринсон мог овладеть ею, только убив ее? Слушая записи, Уэкслер, казалось, догадывался, что произошло между ними и что он не смог сформулировать при своем коллеге: лечением можно убить. Партитура, которую Гринсон хотел сыграть, этот «мажорный отцовский перенос», как он говорил, незаметно скатилась в архаические тревоги, и он играл мотив сострадания в «материнском миноре». Он решил не делать уколов, которые были в его глазах слишком уж фаллическим актом, но затем пересмотрел свое решение и в последние месяцы часто делал ей инъекции успокаивающих. Доверив Энгельберту прописывать таблетки и предоставив Юнис Муррей полномочие ставить клизмы, он постепенно занял место матери в любви Мэрилин.
Когда вышла «Техника и практика психоанализа», отношения между двумя коллегами охладели. Уэкслер снисходительно улыбнулся, читая строки, вышедшие из-под пера Ральфа Гринсона, доктора медицины: «Именно врач обладает правом исследовать обнаженное тело, не испытывает страха или брезгливости при виде крови, слизи, рвотных масс, мочи или фекалий. Он спасает от боли и от ужаса; он наводит порядок в хаосе; он обеспечивает скорую помощь, которую предоставляла мать в первые годы жизни. Но врач также вызывает и боль, он режет, протыкает плоть, проникает в каждое из отверстий тела. Он напоминает телесную интимность с матерью, но и представляет садомазохистские фантазии о родителях».
Кладбище мемориального парка Вествуд, Глендон-авеню август 1962 года — август 1984 года
Ничем не примечательное кладбище. Тенистая аллея выходит на разваливающийся мавзолей некогда розового цвета. Слышатся тихие аккорды фортепиано, наигрывающего мелодии из «Дома цветов», мюзикла Гарольда Арлена, по которому написал сценарий Трумен Капоте. Капоте, которого хоронят августовским утром 1984 года. Или, скорее, хоронят его прах, собранный в урну, которая будет поставлена недалеко от урны с останками Мэрилин. При входе в часовню жужжат камеры. Царит некоторое оживление, как всегда при встрече старых друзей. Объятья, хлопки по плечу, шуршание ткани, шепот. Дрожащие губы чмокают в поцелуе в сантиметре от морщинистой или выглаженной силиконом щеки. Ноги переступают в поисках равновесия. Глаза, щурящиеся за толстыми стеклами очков, вспоминают о мускулистых бедрах, упругой груди, долгих эрекциях.
Потускневшие звезды пятидесятых — шестидесятых годов, утомленные десятками лет под калифорнийским солнцем, ослабевшие от бесчисленных романов, алкоголя и наркотиков, озлобленные и циничные от потерянного времени, обнимаются с застывшими улыбками. Старые знакомые машут друг другу рукой — тонкие пальцы, хрупкие запястья — через парк с заросшими газонами, в котором царит вечная тень, отбрасываемая окружающими его небоскребами.
На том же кладбище в час пополудни 8 августа 1962 года преподобный Э. Дж. Солдан сопровождает тело Мэрилин Монро в погребальную часовню. «Какой красивой сотворил ее Создатель!» — проповедует он. Мэрилин попросила, чтобы на похоронах сыграли песенку Джуди Гарленд из «Волшебника страны Оз» («Где-то над радугой»), и на протяжении всей церемонии неясная, вульгарная магнитофонная запись слышится словно издалека. Погребальная служба открылась звуками органа Шестой симфонии Чайковского; затем зазвучали псалмы. Прощальную речь сказал Страсберг, заменив заболевшего Карла Сэндберга, которого ожидал ДиМаджио. Разговоры заглушало щелканье затворов и жужжание камер всех служб новостей мира. Смотреть особо было не на что. Допущены только близкие друзья. Хотя Вествуд и находится на западе Лос-Анджелеса, это не Голливуд. Джо ДиМаджио, организовавший церемонию, позаботился о том, чтобы никто из людей кино не мог на ней присутствовать — ни один продюсер, режиссер из студии, ни один актер или кинематографист, ни один журналист. ДиМаджио до конца играет свою роль — роль телохранителя, которую Мэрилин отвела ему раз и навсегда, когда они познакомились десять лет назад. Ему она доверила и свое мертвое тело.
Мэрилин была бы рада увидеть Роми, с застывшим лицом, но сухими глазами, в сопровождении Хильди и Джоан. Женщины в черных вуалетках, с блестящими слезами, всегда придают таким церемониям определенную патетичность. «Там были сотни репортеров и фотографов, — скажет Джоан Гринсон. — Вначале нам не разрешили войти в часовню, потому что, как сказал служащий похоронного бюро, с усопшей была «семья». Какая семья? Если бы у нее действительно была семья, мы бы, наверное, здесь не оказались».
Дэниел Гринсон плачет. Ему всегда казалось, что Мэрилин Монро не задержится надолго в этом мире. Он вспоминает, как три месяца назад на вилле в Санта-Монике он говорил с ней о политике, надеясь привлечь ее на сторону своих крайне левых идей. В тот день, когда он решил покинуть родительский дом, Мэрилин сопровождала его в поисках квартиры, замаскированная черным париком. В другой раз он заметил ее в той же маскировке в глубине битком набитого зала аудитории Высшей школы Беверли Хиллз, она самозабвенно слушала одну из лекций его отца. Он вспоминает, как в последний раз увидел ту, которую сейчас хоронят. Это было июньским вечером. Он вышел с виллы своих родителей; Мэрилин чистила картошку, он чмокнул ее в щеку на прощание.
В тот день Дэниел Гринсон, студент-медик, решил стать психоаналитиком. Не для того, чтобы заниматься той же профессией, что и его отец, а для того, чтобы понять, что он видел: актриса и ее психоаналитик играли в прятки, ища друг друга вслепую не руками, а словами. Бестелесная рукопашная, если можно так выразиться, или безжалостная схватка двух душ. Со временем его жизнь и профессия научат его, что невозможно узнать правду о человеке, даже будучи его сыном или его психоаналитиком. Но в тот день он узнал, что истина прячется в словах, словечках, которые бросают на пороге или шепчут на ухо невнимательного слушателя на алее кладбища, — словах, действительно оставляющих след, только когда они не записаны, как умирают тела, когда их не касаются.
«Last take», последний дубль последней сцены: в открытом гробу бронзового цвета, украшенном атласом цвета шампанского, Мэрилин в зеленом платье и шифоновом шарфе, также зеленом, приготовлена к своей последней роли — труп Мэрилин Монро. В руках ее букет розовых роз. Потрудились всегдашние реквизиторы: костюмер Марджори Пелчер подогнала платье по фигуре, парикмахер Агнесс Флэнаган восстановила прическу, гример Уитни Снайдер поколдовал кисточками. Даже старая мастерица по парикам, Перл Портерфилд, пришла и придирчиво осмотрела результат. При бальзамировании пришлось положить под платье целлофановые пакеты с набивкой из подушки, чтобы заменить груди, пострадавшие при вскрытии. Волосы были слишком испорчены, и Агнесс Флэнаган натянула на голову умершей парик, похожий на ее прическу в фильме. В титрах следует особо упомянуть макияж, сотворенный верным Уайти. Свое прозвище он получил благодаря особому умению смешивать белила, не допуская гипсового оттенка и белоснежного блеска. Много лет назад он в шутку обещал Мэрилин накрасить ее в последний раз, не позволив никому другому сотворить ее последнее лицо. Недавно она напомнила ему об этом обязательстве, подарив драгоценность, купленную у Тиффани: золотой клипс с надписью на обратной стороне, которую он так никому и не разгласил. Протягивая ему драгоценность, она сказала: «Тебе, дорогой Уитни. Пока я еще не остыла». Снайдер занимался ее гримом с первого дебюта, 19 июля 1946 года, когда она пробовалась на роль в фильме под названием «Мама носит брюки». Он был главным гримером «Фокс» и автором грима многих звезд того времени, среди которых Бетти Грейбл, Джин Тьерни, Линда Дарнелл. Кольцо судьбы замкнулось — вновь работая для «Фокс», он занимался гримом Мэрилин в фильме «Что-то должно рухнуть», а теперь, в часы перед похоронами, ему пришлось выпить целую флягу джина, чтобы сделать актрисе последний макияж.
Короткая вереница мужчин и женщин в черном, почти белое небо. Гроб медленно проплывает перед склепами Анны Лоуэр, Грейс МакКи Годдард, двух из ее временных матерей, и останавливается в нескольких метрах от склепа, предназначенного для Мэрилин. Его замуровывают в склепе. Если бы Мэрилин могла посмотреть видеозапись своих похорон, она бы в последний раз удивилась: из всех ее любовников и трех мужей только один-единственный принес цветы: Джо ДиМаджио. Двадцать лет, трижды в неделю, он будет возлагать цветы на ее могилу. Он это ей обещал. Она хотела, чтобы он повторил обещание и поступок Уильяма Пауэлла после смерти Джин Харлоу.
Церемония фальшивая и грустная, как игрушка, выпавшая из детской коляски. Прохожий подбирает ее и осторожно ставит на выступ стены, откуда никто ее не заберет. Что-то такое, чему все присутствующие впустую пытались придать смысл. Образ, который слова не могут ни описать, ни стереть.
«Вы знаете, где похоронена наша бедная звезда? — скажет Джордж Кьюкор. — Чтобы дойти до этого кладбища, надо пройти мимо магазина подержанных автомобилей и здания банка; здесь она покоится, между Уилшир-бульваром и Вествуд-бульваром, а вокруг мчатся автомобили».
Двадцать два года спустя на том же кладбище, в нескольких шагах от Монро, похоронят Капоте. Один из знакомых Мэрилин прошепчет слушающему вполуха соседу: «Он пережил ее на двадцать лет. Он любил ее, как только может гомосексуалист любить женщину. Они часто встречались в 1954 году в Нью-Йорке. Они танцевали в ночном клубе, который теперь закрыт, — «Эль Марокко» на 54-й Восточной улице». Двое идут между столиками к узкому танцполу. Подиум погружен в темноту, его окружает ослепительная гирлянда прожекторов рампы. Они выходят на танцевальную площадку, накачанные алкоголем и наркотиками. Она отбрасывает прочь туфли, чтобы не быть выше его на голову, и они танцуют друг с другом до упаду. Мужчина маленького роста, в полосатом костюме, с темным галстуком, в очках в черепаховой оправе, отчаянно цепляется за сияющую блондинку, как будто перетаскивает напольные часы, которые выше него самого. Она не смотрит на своего кавалера, отворачиваясь к залу, наполненному сигаретным дымом. Он никуда не смотрит, умирая от стыда и грусти. Или, возможно, радости.
Музыкант Арти Шоу берет слово, чтобы воздать прощальные почести Капоте. Он говорит почти шепотом: «Трумен умер. Он смертельно устал от всего. От того, что жил. Слишком сильно переживал жизнь. Но все же в последние годы он словно был готов бросить все. И в итоге то, что останется, будет не его слава, не его знакомство со знаменитостями; останутся его творения. Он хотел, чтобы мы запомнили именно это. Трумен, твои напевы будут звучать в наших ушах, даже когда мы забудем вдохновившие их имена. Поприветствуй все же твою подружку Мэрилин, которую ты никогда не обнимал и которая любила тебя больше, чем многих мужчин, побывавших в ее постели. Теперь ваши памятники разделяют всего три стены с написанными на них словами: НЕЖНОСТЬ, ПРЕДАННОСТЬ, СПОКОЙСТВИЕ. Ведь это вы и давали, понемногу, друг другу, этим и обменялись ваши жизни. Скажи ей, что твои друзья пришли по-соседски остановиться на минуту среди погасших звезд. Скажи, что мы будем помнить о ней, Мэрилин, белой королеве без королевства, и ничто так не оживит ее в нашей памяти, как слова ее друга, твои слова. В вашей двойной тени мы перечитываем в памяти твою великолепную страницу о Мэрилин Монро. Трумен, ты самый правдивый писатель, ты, как никто, сумел очистить сцены своих романов от излишней реальности, чтобы впустить в них больше правды. Приветствуем тебя, Трумен, долгой тебе смерти. И главное, нежной».
Последние гости расходятся. Повернувшись спиной к стелам Натали Вуд и Дэррила Ф. Занука, большинство из них рассаживаются по автомобилям, сделав крюк через северо-восточное крыло Вествудского мемориального парка, чтобы поклоном или мыслью приветствовать плиту МЭРИЛИН МОНРО. Могилы, имена. Много лет спустя Дин Мартин, Джек Леммон, затем Билли Уайлдер присоединились к Мэрилин на Вествудском мемориальном кладбище, где она была похоронена — если можно так называть погружение бронзового гроба в нишу стены из камня.
Вдалеке возвышаются холмы, на них расплываются в пелене смога белые буквы названия ГОЛЛИВУД.
Беверли Хиллз, кабинет адвоката Мильтона Рудина 6 августа 1962 года
Адвокат Микки Рудин вел переговоры по последнему контракту Мэрилин на фильм «Что-то должно рухнуть». Прибывший на место смерти, он сопроводил труп в соседний морг и связался с Джо ДиМаджио, чтобы организовать похороны.
Среди расходов, которые надо было возместить при передаче наследства, — последний счет Ральфа Гринсона на 1450 долларов, соответствующий сеансам за июль и четыре первые дня августа, и счет «XX Сенчури Фокс», требующий оплаты большого кувшина кофе, которые студия предоставила в последний день рождения Монро.
Имущество Мэрилин Монро было оценено в 92 781 доллар. В своем последнем завещании, кроме денег, распределенных между ее матерью, сводной сестрой и друзьями, Мэрилин оставила Ли Страсбергу несколько вещей общей стоимостью 3200 долларов. Основным наследником прав и роялти стал Лондонский центр Анны Фрейд, Институт исследования долговременных воздействий психоанализа и психотерапии на детей с нарушениями эмоциональной сферы. Мэрилин завещала значительную сумму своему бывшему нью-йоркскому психоаналитику, Марианне Крис, «чтобы она могла продолжить работу в психиатрических учреждениях или группах по своему выбору». Крис выбрала лондонскую Хэмпстед Клиник; это решение Элизабет Янг-Брюль, биограф Анны Фрейд, объяснила таким образом: «Пожертвование Мэрилин Монро поступило именно тогда, когда Анна начала работу, которой предстояло оказать большое влияние на психоанализ, — работу, сосредоточенную на страданиях детей, которые, как сама Мэрилин Монро, жили в нескольких приемных семьях». Джеки Кеннеди также передала учреждению, созданному Анной Фрейд, 10 000 долларов, вероятно под влиянием Марианны Крис, пациенткой которой она также являлась.
Слухи о завещании, история с психоаналитиком и многочисленные сексуальные связи — все это запутывается вокруг смерти Мэрилин в странный клубок. Но отношения между ней и сменявшими друг друга психоаналитиками настолько испортились, что можно задаться вопросом: досталось ли ее наследство тем, кому она его предназначила, если бы у нее хватило времени изменить завещание? В последнее время Мэрилин говорила о своем намерении внести в завещание изменения. Для этого она назначила встречу с Микки Рудиным во вторник, 7 августа. В ночь с 4 на 5 августа она умерла. С тех пор каждый раз, когда на экране показывают эту женщину, которую не захотели видеть в роли пациентки Зигмунда Фрейда, выплаты за право показа обогащают учреждение, названное сегодня в честь его дочери Анны.
После смерти актрисы контракты на распространение ее фильмов и песен приносили примерно 1,5 миллиона долларов в год — больше, чем Мэрилин заработала за всю свою жизнь. Сотни торговых марок приобрели право пользоваться ее изображением для рекламы или продажи продукции. Кроме плакатов и футболок мы видим лицо и тело Мэрилин на школьных тетрадях, жалюзи, чулках, бильярдных киях, формах для торта.
Уже на следующий день после ее смерти все, что осталось после нее, стало предметами культа. Хаймен Энгельберг рассказывает, что получил сотни телефонных звонков от женщин, которые говорили, что, если бы они знали, в каком тяжелом положении находится актриса, они бы постарались ей помочь. Он понял, что она была не только завораживающим сексуальным объектом для мужчин — многие женщины видели в ней потерянную маленькую девочку.
В декабре 1999 года вещи, доставшиеся по завещанию Страсбергу, были проданы на аукционе Christie's в Нью-Йорке за 13,4 миллиона долларов. Все, до чего дотрагивалась Мэрилин Монро, все, что соприкасалось с ее телом, стало фетишем. Шерстяная кофточка от Saks, запечатленная в конце июня 1962 года на фотографиях, сделанных Баррисом на пляже Санта-Моники, принесла 167 500 долларов. Платье с большим вырезом на спине из фильма «Как выйти замуж за миллионера» было продано по цене более 52 900 долларов. Стилист Томми Хилфигер вложил целое состояние в две пары джинсов из «Неприкаянных». Цена облегающего платья от Jean Louis из муслина, инкрустированного крошечными стразами, которое Мэрилин надела на семь минут в Мэдисон Сквер Гарден, достигла почти миллиона долларов. Все книги были оценены в 600 000 долларов. Поля многих из них были исписаны пометками. Тогда же был продан и листок бумаги с небрежно написанными ее рукой словами: «Он меня не любит». Замечание, которое могло относиться ко многим мужчинам при ее жизни и к весьма немногим сегодня. С торгов были проданы еще две записки. В одной говорилось: «Если надо покончить с собой, я должна это сделать». В другой, сложенной и спрятанной в книгу, было стихотворение:
Говорят, мне повезло, что я живу. Трудно поверить. Все причиняет мне боль.Через два года после смерти Мэрилин два кинематографиста, Дэвид Л. Уолпер и Терри Сандерс, начали исследования, чтобы снять фильм о ней — «Легенда Мэрилин Монро». Они связались с Доком Годдардом, вдовцом Грейс МакКи. Он отказался участвовать в съемках, но сказал им, что белый рояль, который Глэдис Бейкер купила когда-то для дочери и который был продан за 235 долларов, чтобы оплатить пребывание Мэрилин в больнице в девятилетием возрасте, а потом куплен вновь, не исчез во время распродажи имущества. Он находился на противопожарном товарном складе Дж. Сантини и братьев где-то в Нью-Джерси. Он был отснят с таким закадровым текстом: «Этот белый рояль был ребенком, которого она так и не родила».
При ближайшем рассмотрении нельзя было отрицать очевидного — рояль был изначально не белым, его перекрасили, вероятно, для нужд какой-нибудь музыкальной комедии тридцатых годов. Белый рояль был таким же фальшивым, как и белокурые волосы Мэрилин. Таким же иллюзорным, как перегородка, которая отделяла в Голливуде жизнь от кино и психоанализ от безумия. На аукционе Кристи’с белый рояль купила за 662 500 долларов певица Мэрайя Кэри.
И сегодня еще в магазинах подарков на Сансет-бульвар продают планы города, на которых адрес Мэрилин находится среди адресов живых звезд. В 1980 году планы, снятые снаружи гасиенды, были включены в биографический художественный фильм для телевидения «Мэрилин: тайная история», в котором роль актрисы исполняет некая Кэтрин Хикс. У режиссера Дэвида Линча, который долго обдумывал фильм о последних месяцах ее жизни, была своего рода реликвия: кусок ткани, на котором она, как говорили, позировала ню для знаменитого календаря с фотографиями, сделанными Томом Келли. Возможно, эта ткань даже внушила режиссеру тему его фильма «Синий бархат».
Предметы, застывшие в забвении, вещи, воскрешаемые памятью, и образы, замершие в трауре, остались сегодня реликвиями легенды. Но слова потерялись, они стерты или изменены. Тысячи страниц скрыли ее жизнь — романы, эссе, биографии, расследования, исповеди. Только те, кто действительно любил ее, о ней не написали: Джо ДиМаджио, Ральф Робертс, Уитни Снайдер… Когда Джозефу Манкевичу, режиссеру-пенсионеру, попались на глаза «Беседы с Мэрилин Монро», записанные и опубликованные У. Дж. Уэзерби в середине семидесятых годов, он был шокирован тем, что ни один критик не спросил у автора, почему он ждал пятнадцать лет, чтобы записать свои воспоминания и выпустить книгу. Почему он только теперь подробно описывал ее слова, движения, одежду, выражения лица, которые записывал в два последних года жизни актрисы? «Чтобы снять «психический грим», который она носила, — отвечал автор в своем предисловии, — и открыть настоящую Мэрилин». Манкевич ненавидел, когда действия, продиктованные корыстью, начинают объяснять психологией. Он считал, что это и есть настоящая проституция: когда человек показывает, что делает по любви то, что на самом деле делает ради денег.
Для действий в обществе существует не так уж много мотивов: любовь, ненависть, корысть, честь, деньги, месть… Есть только один мотив: скрывать то, чем ты являешься, страх ничего из себя не представлять. Сексуальная тревога — ничто по сравнению с тревогой статусной, со страхом не быть признанным обществом, в котором живешь, каково бы оно ни было. «Это было верно для Мэрилин, — думал Манкевич, — это было верно для ее психоаналитика, ее биографов, всех тех, кто писал или ставил фильмы о ней, надеясь, что и на них упадет толика звездной пыли с того следа, который она оставила на небосклоне шестидесятых. Но пусть они не говорят о любви: они продают ее, они продают себя».
В конечном итоге, хоть и существуют сотни книг об этой женщине и этой смерти, сами документы исчезли или были погребены вместе с ней. Все следы ее записанных слов были потеряны или стерты. Записывающие, поставленные во всех комнатах ее дома и скрытые в обоих телефонах, устройства, зафиксировали тысячи часов ее голоса. После того как государственные или частные заказчики ознакомились с этими записями, пленки были сданы в тайный архив или уничтожены. Обе власти — политика и психоанализ, — которые довлели над последними месяцами жизни Мэрилин, были заинтересованы в том, чтобы стереть все, что имело к ней отношение. Компания «Фокс», которая объявила Монро, что фильм можно возобновить, и предложила ей новый выгодный контракт, также скрыла документы относительно ее последних съемок.
Санта-Моника, Франклин-стрит август 1962 года – ноябрь 1979 года
Смерть пациентки произвела на Ральфа Гринсона сокрушительное, хотя и непродолжительное действие. Он говорил о любви и трауре.
«Гибель Мэрилин он переживал крайне болезненно, — рассказывает его вдова. — Не только потому, что событие освещалось в средствах массовой информации, что само по себе было ужасно. Но главное потому, что как только он успел подумать, что Мэрилин стало гораздо лучше, он сразу же потерял ее. Это было крайне мучительно». Пациенты доктора Гринсона с удивлением увидели, что он вновь отрастил бороду. Один приятель-режиссер спросил у него почему. Гринсон ответил, что хотел бы стать кем-то другим. Раньше он никогда не интересовался лечением детей, а теперь занялся им. Его коллеги отмечали, что он уже не напоминал, как прежде, полного жизни хищника; теперь он скорее соответствовал образу старого государственного деятеля.
«Пламя в нем угасло, — подытожил один из членов Института психоанализа. — Он продолжал свою деятельность, но внутренне закрылся. Он стал немного странным…»
Его фотографии действительно свидетельствуют о настоящем физическом и эмоциональном упадке. «Он хотел сменить имидж. Он потерял лицо», — говорил другой его коллега.
Через неделю после смерти Мэрилин по настоянию своей жены он поехал в Нью-Йорк на консультацию к Максу Шуру и попросился на сеанс психоанализа. Шур и Гринсон сдружились еще во время обучения в Берне и в Вене. Первый сеанс длился двенадцать часов, но психоаналитик его успокоил: со временем ему удастся со всем этим справиться.
Вначале Гринсон был неспособен думать и мыслить; затем постепенно он ощутил, что его охватывает некая тонкая, почти прозрачная депрессия. Он начал рассказ о своей жизни под названием «Мой отец доктор»:
«Я знал только Мэрилин Монро. На наших сеансах она произнесла свое настоящее имя — Норма Джин — в первый раз только на нашей последней беседе перед моим отъездом в Европу. Своей настоящей фамилии, Мортенсен, она не упомянула ни разу. Она никогда не говорила, почему выбрала в качестве псевдонима девичью фамилию своей матери — Монро. Я никогда не соотносил это с тем, что я тоже появляюсь на сцене — лечу пациентов, читаю лекции, пишу статьи, подписываясь не своими именем и фамилией.
Ромео — это было невозможно. «Психоаналитик Ромео». Хоть мой отец и был без ума от Шекспира, но назвать меня Ромео, а мою сестру Джульеттой — это было чересчур. Не знаю, думала ли об этом Мэрилин, когда на последней записи, которую продиктовала для меня, она объявила: «У меня есть план. Заработать кучу денег и посвятить год изучению Шекспира под руководством Страсберга. Я заплачу ему, чтобы он работал только на меня. Потом я предложу Лоренсу Оливье золотые горы, чтобы он стал моим режиссером. По Шекспиру у меня будет работать самый лучший сценарист на свете, и вдобавок бесплатно. Монро их всех обставит. Всех. Я начну с Джульетты. Отличный костюм, хороший оператор, замечательный грим. Моя игра создаст Джульетту, юную деву четырнадцати лет, чья зарождающаяся женственность фантастически сексуальна».
Что касается фамилии Гриншпун, то это слишком отдавало еврейским Бруклином. Я не отрекся от фамилии моего отца. Но когда я изменил ее, это было связано с тем, что я оставил медицину. Мой отец остался врачом-терапевтом. От него я сохранил только заботу и интерес, с которыми он относился к пациентам. Но почему я все это пишу?»
Как и Мэрилин, и Ингер Стивенс, актриса Дженис Рул посещала занятия Ли Страсберга в актерской студии. Она также была пациенткой Гринсона. Через неделю после смерти Монро он казался ей сломленным, «распятым прессой». Сказанное им на одном из сеансов ее потрясло: «Я никогда в жизни не смогу найти ответ. Но я не в счет. Что меня тревожит, так это то, как это отражается на вас, моей пациентке».
Последние годы жизни Ральфа Гринсона, отмеченные частыми пребываниями в больнице, были болезненными. Дженис вновь увидела своего психоаналитика в самом конце его жизни. Впоследствии она рассказала об этом. Раньше Гринсон позволил ей освободить ее эмоции. На сеансах она часто прерывала свою речь сквернословием, и Гринсон сказал ей однажды: «Мне трудно связать ваше лицо с тем, что выходит у вас изо рта». Гринсон постарел и словно уменьшился после многочисленных сердечных приступов и имплантации третьего кардиостимулятора; ему становилось все труднее говорить. Сердясь на невозможность выражать свои мысли, он сказал Дженис: «Вы научили меня тому, что fuck — очень хорошее слово. Когда ко мне вернулся дар речи, это было первое, что я сказал».
Гринсон четыре года боролся с физическим и интеллектуальным старением. Одна пациентка, пришедшая на консультацию, была потрясена его истощенным видом и дрожащим голосом: «Вы не похожи на психоаналитика». Он снял рубашку и сказал, показывая шрам, оставшийся после имплантации стимулятора сердечной деятельности: «Все мы смертны!»
Судьба играет словами и образами. Как безумная монтажница, мстящая режиссеру, наугад склеивает кадры фильма, заставляя совпадать противоречащие планы и совмещая сцены с противоположным смыслом. Она прокручивает задом наперед на монтажном столе тридцать месяцев, в течение которых Роми и Мэрилин, увязнув во взаимном безумии, уничтожали друг друга. В конце фильма планы поменялись местами. Мы видим Мэрилин, от которой остался только голос. От ее последних часов жизни остались лишь кассеты, надиктованные для ее психоаналитика, и записи прослушивания телефона, сделанные по приказу братьев Кеннеди (или их противников) Фредом Отешем из ЦРУ или по требованию ФБР — неким Бернардом Шпинделем (но возможно, и наоборот). Тридцать шесть лет Мэрилин снимали на пленку, а теперь воруют ее слова. Гринсон, напротив, предстает теперь на переделанной в монтажной пленке тем человеком, которому не хватило слов для своего оправдания. Старик, цепляющийся за образы по мере того, как его звукоряд стирается временем.
Мэрсфилд Гарденс 1962–1982 годы
Впрочем, достаточно быстро Гринсон отреагировал на свою депрессию, сблизившись с фрейдистским институтом и вновь занявшись психоаналитической теорией. Он оставил себе только нескольких пациентов и полностью погрузился в преподавание и написание теоретических трудов. Вначале он затронул тему, которая мучила его уже три года: «Терапевтический альянс между пациентом и терапевтом». Он рассматривает темы терапевтической неудачи, показаний или противопоказаний к лечению в тяжелых случаях пациентов, недоступных для анализа или проявляющих внезапные признаки патологических изменений. Терапевтический альянс он отстаивает как лучшее средство для выхода из тупиков переноса.
По настоянию своего редактора вскоре после смерти Мэрилин он решил закончить «Технику и практику психоанализа», которой предстоит остаться его единственной книгой. В предисловии он благодарит своего отца и упоминает его настоящее имя. Как он писал незадолго до встречи с Мэрилин, «передача знания может быть попыткой преодоления депрессивной позиции». Книги — это дети горя, и психоаналитик, который никогда не пролил ни единой слезы по умершей Мэрилин, рассказывал о своем трауре и горе при любом удобном случае, оплакал свою пациентку на пятистах убористых страницах рекомендаций начинающим или преуспевающим психоаналитикам. Мы всегда вначале оплакиваем самих себя. Точно так же, безжалостно разоблачая недостатки и проступки окружающих, каждый в первую очередь борется с самим собой. В своем талмуде Гринсон подробно рассуждает о «выходных, когда пациент чувствует себя покинутым», о «реальных отношениях между пациентом и аналитиком» и заканчивает главой «Какие аналитические рамки требуются при психоанализе». В этом учебнике мы находим список всего того, что не надо делать с пациентом. И он содержит почти все, что Гринсон делал с Мэрилин в течение тридцати месяцев терапии.
Некоторое время он будет иллюстрировать свои лекции в Университете Калифорнии многочисленными примерами из психоанализа актрисы, всегда отстаивая правильность своего клинического вмешательства.
Через два года после смерти своей пациентки он прочел лекцию в УКЛА: «Наркотические препараты и психотерапевтическая ситуация»: «Врачи и психиатры должны чувствовать эмоциональную вовлеченность в судьбу своих пациентов, чтобы установить связь на основе терапевтического доверия». Оправдываясь в интервью «Медикал Трибьюн» 24 октября 1973 года, он утверждает, что попытался применить для этой пациентки способ лечения, наиболее подходящий к обстоятельствам, так как все остальные не дали результата. Он оправдывает то, что принимал ее у себя дома, в семье, что вел переговоры со студиями, что активно участвовал в принятии ей различных решений: «Я делал все это с конкретной целью. Мой особый метод лечения был единственно возможным для этой конкретной женщины, как я считал тогда. Но я потерпел неудачу. Она умерла». Он никогда не произносил слово «самоубийство».
В середине семидесятых годов Гринсон почти полностью прекратил практику анализа и перестал преподавать. Он написал много статей, которые были собраны в 1993 году в сборник под названием «Любить, ненавидеть и жить хорошо». Сохраняя свой интерес к кино, он часто посылал Лео Ростену неосуществимые и безумные проекты сценариев. Он считал потерянных друзей и умерших коллег. Возвращаясь с похорон, он сказал жене: «Мы должны научиться жить лучше. Это значит наслаждаться жизнью в кругу семьи, сохранять любознательность и активность, работать и еще раз работать».
Свое отношение к смерти он выражает в коротком тексте: «Я психоаналитик по профессии, но также еврей, вот почему я не могу полагаться на какие-либо обещания загробной жизни».
В следующем году, когда у Гринсона начались нарушения речи, он начал в Университете Сан-Диего лекцию «Сексуальная революция» словами: «За пределами сексуального удовлетворения…»
Восемнадцатого августа 1978 года он пишет последнюю неоконченную статью «Особые проблемы психотерапии богатых и знаменитых людей». Не называя Мэрилин, он рассказывает о случае красивой и знаменитой актрисы тридцати пяти лет, которая пришла к нему на консультацию, потому что не любила себя. «Богатые и знаменитые люди думают, что длительная психотерапия — это приманка. Они хотят, чтобы терапевт стал их другом, они желают даже, чтобы их жена и дети стали членами семьи терапевта. Эти пациенты — обольстители. Им нужно все время терапевта, двадцать четыре часа в сутки, они ненасытны. Они также способны внезапно бросить вас, сделав с вами то, что сделали с ними самими их родители или ухаживавшие за ними лица. Вы у них на службе и можете быть уволены в любой момент».
Психоаналитик сделает свой последний доклад в Психоаналитическом институте Южной Калифорнии 6 октября 1978 года — «Люди, страдающие в отсутствие семьи».
В период профессионального кризиса, вызванного смертью его знаменитой пациентки, Гринсон стал поддерживать более тесные связи со своими коллегами. Анна Фрейд сразу же обратилась к нему с соболезнованиями: «Я страшно сожалею о Мэрилин Монро. Я точно знаю, что вы чувствуете, потому что у меня случилось то же самое с одним из моих пациентов, который несколько лет назад принял цианид перед моим возвращением из США. Постоянно прокручиваешь все в голове, чтобы найти, что можно было сделать лучше, и остаешься с ужасным чувством поражения. Но, знаете, я думаю, что в таких случаях нас действительно побеждает что-то, что сильнее нас и против чего психоанализ, несмотря на всю его действенность, слишком слабое оружие».
Гринсон ответил тотчас же:
«Дорогая, дражайшая Анна Фрейд.
С Вашей стороны действительно великодушно написать мне с таким пониманием. Это был страшный удар во многих отношениях. Она была моя пациентка, я заботился о ней. Она была такой жалкой, в ее жизни было так много страшного. У меня были надежды, связанные с ней, мы думали, что продвигаемся вперед. Теперь она мертва, и я осознаю, что все мое знание, мое желание и моя решимость оказались недостаточны. На самом деле я был для нее больше, чем внимательный терапевт. Чем я был для нее? Я не знаю. Возможно, братом по оружию в битве с тьмой. Возможно, мне следовало увидеть, что я был для нее и врагом, так же, как и она для меня. «Рабочий альянс» имеет свои пределы. Это не моя вина, но я последний мужчина, который бросил эту странную и несчастную женщину. Видит бог, я старался, но не смог преодолеть все деструктивные силы, которые были развязаны в ней несчастьями ее прошлой и даже настоящей жизни. Иногда я думаю, что весь мир желал ее смерти — или, во всяком случае, многие люди в мире, особенно те, кто после ее смерти скорбел напоказ. Это приводит меня в ярость. Но, прежде всего, я чувствую печаль и разочарование. Это удар не только по моей гордости, но и по моей науке, хорошим представителем которой я себя считаю. Мне понадобится время, чтобы пережить это; я знаю, что от этого останется шрам. Мои добрые друзья прислали мне сочувственные письма, и это помогло. Мне больно вспоминать, но, только думая об этом, я смогу это когда-нибудь забыть…»
Несколько месяцев спустя Гринсон снова берется за перо: «Я должен успокоить моих друзей и неприятелей. Я все еще работаю!»
Анна отвечает ему: «Марианна Крис этим летом много говорила со мной о Мэрилин Монро и о ее работе с ней; я думаю, никто не мог бы удержать ее в этой жизни».
Через три года Гринсон написал еще одно письмо, которое так и не отослал.
«Санта-Моника, сентябрь.
Милая Анна Фрейд.
Я заканчиваю книгу. Это для меня единственный способ выйти из смерти. Мне пришла странная мысль. Судите сами. Писать — значит отдавать себя на милость ребенка, который есть в каждом из нас. Марать бумагу меня толкает та же нужда, которая заставляет ребенка кричать, чтобы привлечь внимание. Но чье внимание?
Ваш преданный,
Ральф Гринсон».До самой смерти он продолжит переписку с Анной, которая в лечении актрисы сыграла роль психоаналитика-супервизора. Представляется, что он боролся с чувством вины, ссылаясь на судьбу своей пациентки и судьбу психоанализа. В его бумагах было найдено это незаконченное и недатированное письмо.
«Санта-Моника.
Дорогая Анна Фрейд, уважаемый друг, Вы правы. Судьбы предначертаны. Есть имена, буквы, высказывания, выгравированные в глубинах нашего забвения, как эпитафии на надгробных камнях. Я поражен, видя в жизни моей пациентки повторение определенных событий. Знаете, что я узнал? Приемная мать Мэрилин, та, без которой она бы не стала известной всем нам звездой, как и она, страдала алкоголизмом и зависимостью от лекарственных препаратов. Грейс МакКи умерла в сентябре 1953 года от передозировки алкоголя и барбитуратов. Она была похоронена на кладбище Вествуд Мемориал Парк, там же, где мы проводили в последний путь Мэрилин. Но Мэрилин не присутствовала на похоронах Грейс».
В 1965 году отношения Гринсона и Анны Фрейд стали носить более явный организационный и финансовый характер. Гринсон, создавший фонд психоаналитических исследований в Лос-Анджелесе, нашел решение проблемы недостатка места для консультаций в клинике Хэмпстед. Основным жертвователем стала Лита Анненберг Хазен. Она предоставила необходимые средства для покупки нового помещения, и когда дом Фрейда по адресу Мэрсфилд Гарденс, 14, был выставлен на продажу, клиника Хэмпстед оказалась в состоянии его купить. В феврале 1968 года, после работ, осуществленных по планам Энрета Фрейда, архитектора и любимого брата Анны, который был старше нее на три года, дом наконец был готов. В то время Гринсон лечился от ужасных мигреней инъекциями транквилизаторов.
Когда в 1969 году умер его последний психоаналитик, Макс Шур, Гринсон снова обратился к Анне. Она ответила: «Я согласна с вами в том, что траур — ужасная работа, несомненно, самая трудная. Его делают выносимым только те моменты, которые вы также очень хорошо описываете, когда мы мимолетно чувствуем, что утраченный человек вошел в нас и мы приобрели что-то, отрицающее смерть».
В том же письме она отвечает на его просьбу разрешить называть ее по имени: «Я с удовольствием буду называть Вас Роми, а Вы можете звать меня Анной при одном условии: обещайте мне, что не будете роптать против судьбы, Бога (?) и мира, когда мне придет пора исчезнуть. Мой отец называл это «не топать ногами». Мы топаем ногами, возмущаясь судьбой, но, как вы показываете, делаем больно только самим себе и вследствие этого нашим близким. Мне бы не хотелось знать, что когда-нибудь я стану для вас причиной этого».
После этого Ральф Гринсон и Анна Фрейд обменялись письмами насчет документального фильма о клинике Хэмпстед, который Гринсон считал необходимым для сбора средств. Анна и Дороти Берлингем-Тиффани согласились, после уговоров, сняться в этом фильме, который, впрочем, нашли очень хорошим и на который возлагали много надежд. Гринсон умер, не дождавшись выполнения своего плана — показать фильм по всей Калифорнии. В последнем написанном ему письме, в ноябре 1978 года, Анна спрашивает: «Что станет с психоанализом в будущем? Кто станет его хребтом, когда наше поколение исчезнет?»
Гринсон умер 24 ноября 1979 года. Анна, сама пятью днями раньше потерявшая свою спутницу, Дороти, пишет Хильди: «Вы спрашиваете, кто поедет теперь со мной в отпуск. Ответ прост: я поеду одна, потому что не верю в запасных спутников. Я пытаюсь научиться быть одной вне работы».
Хильди отвечает, что для нее также начинается одиночество: «Меня мучает ужасная ностальгия по всем этим чудесным годам, по тому времени, когда мы часто бывали вместе, вчетвером».
Во время собрания психоаналитиков в память Ральфа Гринсона Анна произнесла от имени фрейдистского института хвалебную речь:
«Мы готовим новые поколения психоаналитиков во всем мире. Но мы еще не открыли секрет, который бы позволил подготовить настоящих преемников таких людей, как Роми Гринсон, мужчин и женщин, использующих психоанализ до его последних пределов, чтобы понять самих себя, чтобы понять себе подобных, чтобы общаться с миром в целом. Ральф Гринсон был увлеченным человеком, для которого психоанализ был не просто профессией, а настоящим образом жизни».
От имени Психоаналитического общества Лос-Анджелеса Альберт Солнит произносит прощальную речь в честь «капитана Гринсона, доктора медицины»: «Это был ученый, клиницист и романтик. С детства до самой старости он любил жизнь во всех ее формах, во всех ее выражениях: музыкальном, поэтическом, артистическом и спортивном. Он всегда был неравнодушен к судьбам тех, кто старался реализовать себя, тех, кто терпел неудачу, тех, кто проигрывал в жизненной борьбе, тех, кто страдал и нуждался».
Годом позже Марианна Крис тихо умерла в Лондоне, у Анны, в спальне Марты Фрейд, вдовы учителя. Анне восемьдесят лет, ее сердце барахлит.
«Можно сказать, что я попыталась пойти следом: вскоре после смерти Марианны у меня были проблемы с сердцем», — пишет она Хильди Гринсон. Она умрет в 1982 году.
Нью-Йорк, январь 1964 года
В пьесе Артура Миллера «После падения», впервые поставленной Ильей Казаном в Нью-Йорке в 1964 году, Квентин, мужской персонаж, говорит Маги (очевидно, Мэрилин): «Самоубийство всегда убивает двух человек. Для того оно и нужно».
На своем сеансе психоанализа, на следующий день после просмотра представления, Ральф Гринсон говорит Максу Шуру:
— Миллер вложил в уста персонажа то, что он почерпнул из своей собственной истории любви: «Ты хочешь уже не моей любви. Ты хочешь моего уничтожения». Это можно сказать и о Мэрилин.
— А ваши чувства к ней вы могли бы назвать любовью? — спросил Шур.
— Я ее любил. Я ее не любил. Я не любил ее любовью. Я любил ее, как любят ребенка, больного ребенка. За ее промахи, ее страхи. Ее страх пугал меня, ее страх, который был больше нее, в который она укрывалась, этот страх, который, как мне казалось, я мог принять, сдержать, успокоить.
— Хорошо, на этом мы остановимся, — заключил Шур.
Гринсон выбрал психоаналитика в Нью-Йорке не только для того, чтобы он помог ему выйти из траура по Мэрилин, но и для того, чтобы уехать подальше от Голливуда, забыть о кино. Когда он вспоминал эти годы, он думал, что Лос-Анджелес наконец настиг Мэрилин и убил в ней Мэрилин нью-йоркскую, ту, которая в один прекрасный день бежала из Голливуда, чтобы стать кем-то другим, и по возвращении устроила пресс-конференцию на тему «Новая Монро». Но в конце семидесятых годов в истории кино Манхэттен победил Голливуд. Только в Нью-Йорке Гринсон наконец мог подписаться под фразой, которую повторял ранним утром сержанту Клеммонсу, в то время как санитары компании Шеффер уносили тело Мэрилин: «Мы ее потеряли». Он часто повторял эту фразу при Шуре, но не уточнял, кого обозначал словом «мы».
На следующих сеансах он задавался вопросом: что привело его именно к этому психоаналитику? Шур был врачом Фрейда в его последние годы в Вене, затем в Лондоне. Возможно, Гринсон стремился вернуться к Фрейду, от которого он отошел из-за своей неортодоксальной техники в лечении Мэрилин. Вероятно, между ним и Шуром существовала некая идентификация. Этот последний был — и остался — скорее врачом, чем психоаналитиком. Но Гринсона привлекла некая более бессознательная причина. Он обнаружил ее только после смерти Шура, когда в 1972 году была издана книга, которую он едва успел окончить, — «Смерть в жизни Фрейда». Он задним числом интерпретировал свой выбор четвертого психоаналитика как повторение, продиктованное знаками судьбы.
В то время как пресса начала намекать на то, что Гринсон убил свою пациентку уколом в сердце, он прочитал, что Шур был тем самым врачом, который сделал Фрейду инъекцию морфина, освободившую его от страданий и от жизни.
«Двадцать первого сентября, когда я сидел у его постели, Фрейд взял меня за руку и сказал: «Дорогой Шур, вы помните о нашем первом разговоре. Вы обещали мне тогда, что не покинете меня, когда придет мое время. Теперь все это только пытка, не имеющая смысла». Я кивнул, подтверждая, что не забыл свое обещание. Он вздохнул с облегчением и, не отпуская мою руку, сказал: «Благодарю вас». После секундного колебания он добавил: «Поговорите об этом с Анной». Во всем этом не было ни малейшего следа сентиментальности или жалости к себе — только полное осознание реальности. По желанию Фрейда я сообщил Анне о нашем разговоре. Когда страдание стало невыносимым, я сделал ему подкожную инъекцию двух сантиграммов морфина. Вскоре он почувствовал облегчение и заснул мирным сном. Выражение страдания исчезло с его лица. Я повторил эту дозу примерно двенадцать часов спустя. Последние силы покидали Фрейда. Он вошел в кому и больше не проснулся. Он умер 23 сентября 1939 года в три часа утра».
Гринсон продолжал свой психоанализ у Макса Шура в течение семи лет.
Санта-Моника, Франклин-стрит 8 августа 1962 года
Уже не раз заявлялись предположения, что Мэрилин Монро была убита. На следующий день после ее смерти начались вопросы о роли ее последнего психоаналитика, намеки на то, что он участвовал в преступлении, обвинения в том, что он его совершил. С годами Гринсона живописали все более черными красками. Его представляли каким-то врачом-преступником, который манипулировал актрисой и вызвал ее безумие и смерть. Юнис стала воплощением миссис Дэнверс, жестокой домоправительницей, запугивавшей госпожу Винтер в «Ребекке». Версии, по которым аналитик якобы являлся заказчиком или исполнителем убийства, были немногочисленны и подтверждены малоубедительными показаниями одного-двух свидетелей. Мотивы ему приписывались самые разные: любовная ревность, сообщничество с братьями Джоном и Робертом Кеннеди, выполнение приказа мафии, участие в коммунистическом заговоре. Более достоверными представлялись сценарии, обвинявшие его в убийстве пациентки из-за невольной врачебной ошибки.
Джон Майнер хотел понять. Вторая версия Гринсона, заставлявшая задуматься об убийстве, избавляла психоаналитика от чувства вины в том, что он не смог помешать своей пациентке умереть. Но первая версия самоубийства также могла прикрывать его подлинную виновность, если он соучаствовал в ее убийстве. Умерла ли она от летального сочетания нембутала и хлоргидрата или же фатальной смеси психоаналитического лечения и любовного безумия? Главным вопросом для Майнера оставался вопрос участия Гринсона вскоре после смерти в инсценировке самоубийства, а затем сокрытия следов насильственной смерти. Это не обязательно подтверждало соучастие в убийстве, если не считать, что вина начинается с устранения следов преступления, как писал Фрейд в одном из своих последних текстов, который Гринсон любил цитировать в пору обучения Майнера в УКЛА. Но почему Гринсон так поступил? Были ли заинтересованы в этой смерти политическая власть, с которой он был связан, подрывное движение, к которому был близок, среда, от которой он зависел, или просто она представляла собой иллюстрацию провала психоанализа, который не смог ее спасти?
Майнер позвонил Гринсону:
— Мне хотелось бы попросить вас, чтобы вы рассказали мне всю эту историю.
— Какую историю? — отвечал психоаналитик. — Вы прекрасно знаете, что истории никогда не бывает. Есть только одна история историй. То, что я мог бы вам сказать, не было бы историей последних лет или последних часов Мэрилин и даже моим восприятием этой истории. Я не прошу вас верить в истинность всего, что я вам расскажу, — только в необходимость этого. Вы услышите лишь ее голос и мой, если я смогу прибавить что-либо к этим записям, которые говорят сами за себя. Эти годы, самые прекрасные и ужасные годы моей жизни, я готов вновь пережить вместе с вами. Приходите сегодня вечером, в семнадцать часов, после похорон.
Войдя в дом Гринсона, Майнер был резок. Только успев сесть, он проговорил:
— Сначала ответьте, почему вы сказали вначале: «Мэрилин Монро покончила с собой…»
— Я не это сказал, когда звонил в полицию. Я сказал: «Мэрилин Монро умерла от передозировки». Это не исключало того, что препараты ввел кто-то другой. Только потом я сказал, что она сама стала виновницей своей смерти. Я мог бы сказать «Она стала виновницей своей жизни». Они не поняли бы, что можно хотеть умереть, потому что испытываешь отвращение не к жизни, а к смерти. К этой горькой смерти, которую принимаешь, чтобы забыть о ней, которую глотаешь в приступах переворачивающей сердце тревоги. Никогда мы не узнаем правду об этой смерти, ведь версия самоубийства и версия убийства противоречат только в сознательных действиях и мотивациях. Для подсознания самоубийство почти всегда является убийством, а убийство иногда представляет собой самоубийство. Однажды Мэрилин сказала мне: «Я не боюсь умирать. Я ведь уже умерла». «Все боятся смерти», — ответил я. Мы ничего не знаем о ней. От этого страха, который присутствует в каждом из нас в разной степени, несомненно, избавляют нас вера в рай и в бессмертие. Я допускаю, что в отчаянии и агонии можно прибегнуть к этому представлению. Но я борюсь против представления, что можно жить, рассчитывая на это бессмертие. Все мы боимся смерти, но лучшее средство достойно встретить ее — это хорошо жить. Человек, проживший свою жизнь хорошо, тот, у кого была богатая и хорошая жизнь, может встретить смерть лицом к лицу. Он опасается ее, он встречает ее и умирает достойно. Да, я думаю, что единственное бессмертие, на которое мы можем надеяться, — это прожить некоторое время в воспоминаниях, которые сохранят о нас другие.
— О ком вы говорите? С кем? — прервал его Майнер, озадаченный этим клиническим и философским экскурсом.
Когда Майнер проводил свой допрос, Гринсону оставалось всего пятнадцать лет, чтобы вспоминать о Мэрилин и готовиться к встрече со своей собственной смертью. На коллоквиуме, организованном УКЛА в октябре 1971 года на тему «Насильственные, неосознанные смерти», психоаналитик прочитает лекцию, в которой выскажет свое отношение к насильственной смерти с позиции убийцы и жертвы: «Наша зачарованность смертью включает сознательные и бессознательные чувства и импульсы. Смерть вызывает страх, отвращение, ненависть, но она также может быть обольстительной, славной, неотразимой». Он цитирует Фрейда: «Мы не можем представить себе смерть, нашу смерть». «Именно поэтому фильмы полны образов смерти, потому что она непредставима», — добавляет он.
Затем он переходит к теме самоубийства — отмечает растущую частоту самоубийств, цитируя, среди прочих авторов, тех, кому прокурор Лос-Анджелеса поручил проанализировать вероятность самоубийства Мэрилин: докторов Роберта Литмана и Норманна Фэрбероу. Мэрилин сказала ему однажды: «Убить себя — это что-то, что принадлежит только нам. Привилегия, а не грех или преступление. Право, хоть это и не ведет никуда». Гринсон узнал, что в 1950 году уже была одна попытка отравления нембуталом, от нее осталась только оставленная Наташе Лайтесс записка, в которой Мэрилин завещала ей единственную ценную вещь, находящуюся в ее собственности: меховую пелерину. Он также знал о попытке, совершенной в 1959 году, во время съемок фильма «Некоторые любят погорячее», а два года спустя сам пришел на помощь Мэрилин во время съемок «Неприкаянных», как раз успев помешать ей привести ее намерение в действие.
В своей статье, цитируя поэта Э. Э. Каммингса, умершего в том же году, что и Мэрилин, психоаналитик противопоставляет понятия «умереть» и «быть мертвым». Он упоминает одного пациента, предпринявшего попытку самоубийства, чтобы избежать смерти, и выдвигает предположение, что страх умереть может сопровождаться желанием быть мертвым. Он также упоминает пациентку, которая заставила его обещать, что, если она смертельно заболеет, он или другой врач, которого она очень любила, останутся у ее постели, даже если она будет без сознания, до тех пор, пока не станет совершенно ясно, что она мертва. Для Мэрилин также — он не упомянул ее в этой статье, но, возможно, именно она вдохновила эти строки — смерть была лишь одной из форм одиночества, немного более жестокого, немного более долгого. Она играла в шахматы со смертью и проиграла.
Впоследствии Ральф Гринсон беспрестанно пытался оправдать ту роль, которую он сыграл в конце жизни и в смерти Мэрилин, но о ней самой, казалось, забыл. В Вене летом 1971 года он встретил Пола Мура, международного журналиста и музыканта. Они говорили прежде всего о музыке и немного о Мэрилин. «Больше, чем в чем бы то ни было, — рассказывал он очень уверенно, — она нуждалась в той любви и теплоте, которые давала ей наша семья. Это было то, чего она никогда не знала и не могла узнать из-за своей известности». Немного позже Гринсон заявил в выступлении по немецкому телевидению: «Самые прекрасные люди могут верить, что их желают, но не любят».
Санта-Моника, Франклин-стрит 8 августа 1962 года
Настала ночь. Джон Майнер все еще расспрашивал Гринсона:
— Расскажите мне факты. Истолковать их, доктор, уж позвольте мне самому.
— Я расскажу вам то, что уже говорил и повторял следователям. В воскресенье я пришел к моей пациентке примерно в час дня, затем вернулся, чтобы возобновить сеанс во второй половине дня, с семнадцати до девятнадцати часов. В половину первого ночи мне позвонила Юнис Муррей, как я и просил ее делать в случае проблемы. Я взял трубку после нескольких звонков. «Приезжайте срочно!» Я ответил, что буду на месте минут через десять.
Ее комната была заперта на ключ, через щель под дверью пробивался свет. Мне пришлось выйти из дома, чтобы заглянуть в окно, которое тоже было закрыто. Я взял кочергу и разбил стекло окна без решетки. Просунув руку внутрь, я повернул ручку и забрался в комнату. Голая Мэрилин лежала лицом вниз. Простыни были голубые. Она еще держала в правой руке трубку телефона, который часто называла при мне своим «лучшим союзником». Затем я открыл дверь, чтобы госпожа Муррей могла войти.
Майнера удивили две детали. Невозможно было увидеть, что из комнаты пробивается свет, потому что пространство под дверью было закрыто пушистым ковром, и на двери спальни не было задвижки: после пребывания в психиатрической больнице в Нью-Йорке Мэрилин не вынесла бы этого. Он предположил, что Гринсон был слишком потрясен и память его подвела или же что он изменил элементы сцены, которые не соответствовали правильному сценарию. Беспокоящий луч света, проникновение в закрытую спальню через темную террасу, героический жест спасателя, разбивающего оконное стекло, в котором танцуют голубоватые отблески глаза бассейна, — все это не было необходимо, чтобы прийти на помощь мертвой актрисе, но стало бы красивыми ночными натурными съемками. Возможно, психоаналитику и нечего было скрывать. Но, несомненно, ему было что показать. Джон Майнер не стал доводить его до крайности.
Гринсон прервал свой рассказ. Продолжение своих мыслей он сохранил для себя. «Я разбил стекло, как она сама, по ее рассказу, сделала, когда попала в больницу в Нью-Йорке. Я сделал тот же жест. Почему она бросила этот стул? Чтобы выйти из палаты или чтобы войти в себя, чтобы преодолеть границу разбитого зеркала? Почему я разбил окно, выходящее в сад? Чтобы увидеть наконец эту женщину, чья смерть меня убивала, чье тело заставляло меня отворачивать взгляд? Чтобы тоже пойти против естества? Что стало с нашей шахматной доской после ее смерти?»
Преследуемый черно-белыми воспоминаниями, Гринсон снова вспоминал о стеклянной шахматной доске: «Если бы я действительно рассказал о том, что произошло, я написал бы новеллу, которую бы назвал «Смерть в жизни Мэрилин», на манер Шура. Или же «Защита Мэрилин», как у Набокова. Это была бы не настоящая история, не жизнь, рассказанная от детства до смерти. Скорее, собрание моментов, изложенных без какого-либо порядка. Шахматная задача, в которой показаны ходы фигур по клеткам. Сеть поступков, реакций, ходов, ошибок, упущений, измен, проявлений эгоизма и всепрощения. Все это под взглядом Бога, в которого она не верит. И именно в тишине между словами будет заключаться истина».
Майнер, раздраженный этим скорбным молчанием, продолжил разговор:
— Почему вы искали встречи с токсикологом Р. Дж. Эбернети до того, как он составил рапорт, который передал мне 13 августа, и сразу же натолкнули его на версию самоубийства?
— Она не хотела умирать. У нее было слишком много планов. Люди, которым удается совершить самоубийство, — это те, у кого не осталось надежды.
— Что это за история с личным дневником, который исчез во время уборки дома, после того как Монро перенесли в морг?
— Красный. Красный дневник. Красный, как я и мои друзья коммунисты. Это выглядит правдоподобнее в сценарии. Красный, как пролитая кровь. Лучше смотрится на цветной пленке.
— А если я спрошу вас: «Кто убил Мэрилин Монро?»
— Я не знаю. Психоанализ, вероятно, сыграл определенную роль. Он не убил ее, как говорят антифрейдисты и антисемиты, но и не помог ей выжить.
Майнеру Гринсон больше ничего не смог рассказать, но в его посмертных бумагах нашли эту заметку, написанную, вероятно, в конце лета 1978 года:
«Я никогда не напишу «Случай ММ». Мне не хватает слов. Как в некоторых фильмах со слишком сильным изобразительным рядом, я ничего не слышу.
Как глубоко можно ошибаться в себе самом! Самоанализ невозможен. Меня упрекали — я сам себя упрекал — в том, что взял Мэрилин в свою семью, сделал из нее родственницу. Я ли ее убил? Убил ли ее психоанализ, как начинают поговаривать? Когда говорят, что она была убита слишком сильной властью моей семьи над ней, не видят, что, возможно, речь шла о другой моей семье — психоаналитиках. Семье Фрейда и его сотрудников.
Я стараюсь понять родственные связи, связи в рамках филиации, в которую я вовлек Мэрилин, сам не зная об этом и, конечно, помимо ее ведома. Неужели за грехи отцов действительно платят дети? До какого поколения?
Я постараюсь описать психоаналитическую семью, в которую был вовлечен вместе с ней. Мне нужен план. Чтобы попытаться в этом разобраться, мне нужны схемы, чертежи. Это влияние научного формирования — или деформации — моей личности. А может, потребность исследовать, зрительно представить себе территорию между нею и мной, пространство мысли и поступков вокруг нас. Есть вещи, которые можно понять, только представив их.
Не зная ничего о моей истории, о моих историях в психоанализе, Мэрилин, возможно, претерпела их влияние. Три других ее аналитика поддерживали очень тесные личные связи с Анной Фрейд. В мире фантазий, как ее, так и наших, она принадлежала к нашей семье — семье европейских евреев, изгнанных в Калифорнию. Даже гасиенда, которую я уговорил ее купить, чтобы у нее наконец появился свой дом, находилась рядом с домом Ханны Фенихель, вдовы моего второго психоаналитика. Но вот самый странный узел: Анна Фрейд рассказала мне, что именно благодаря Джозефу Кеннеди, отцу Джона, тогда служившему послом в Лондоне, Марианне Крис удалось эмигрировать в США в 1940 году. Марианна стала аналитиком Джекки, жены Дж. Ф. Кеннеди, после того, как была аналитиком его любовницы, Мэрилин.
Головокружение. Ни слова больше».
Беверли Хиллз, Роксбери-драйв ноябрь 1978 года
— Мильтон, хочешь прочесть то, что я начал писать о нашей звезде? — спросил Гринсон.
— Ты ничего не сможешь о ней сказать. Не ты, только не ты. Ты все еще внутри ситуации. Не надейся выпутаться из этой истории и найти ее разгадку. В ней была констелляция аффектов и личных интересов, личностей и отношений. Вы с Мэрилин стали узниками психоанализа.
— Можешь не напоминать мне о связях, я сам начертил ходы и фигуры. Ты знаешь еще не все. Смотри…
— Странно ты говоришь. Психоаналитик скорее сказал бы «Слушай!», ну да ладно.
— Так слушай, если хочешь, и не перебивай! Мэрилин проходила анализ у Марианны Крис, которую раньше анализировала Анна Фрейд, которая также короткое время анализировала Мэрилин. Анна Фрейд проходила психоанализ у своего отца, который также был аналитиком Марианны Крис, Отто Фенихеля и Вильгельма Штекеля. Два последних были моими психоаналитиками, так что я прихожусь Фрейду «внуком» сразу с двух сторон. Фенихель проводил анализ Рудольфа Лёвенштейна, который в свою очередь был аналитиком Артура Миллера, третьего мужа Мэрилин. Сам я проводил анализ Фрэнка Синатры, ее любовника. Именно в этой среде проходил психоанализ Мэрилин.
— Все это не среда, — отрезал Уэкслер, — а структура. Я хочу сказать, что это не социологические совпадения, а кровосмесительные психические связи, которые сплетают ткань, полотно, сеть — называй это, как хочешь, — внутри которой проходили психическая жизнь и все психоанализы Мэрилин. Смерть твоей пациентки разбила эту систему. Я долго размышлял, рассматривая эту фотографию, снятую на яхте «Маниту» за четыре дня до ее похорон. На ней — президент Дж. Ф. Кеннеди, а также зять, Питер Лоуфорд, и его сестра. Патриция Кеннеди, большая подруга Мэрилин, а также Пэт Ньюкомб, которая занималась, кажется, ее связями со средствами массовой информации и провела с ней ее последнее утро. Так вот, если вглядеться в эти ряды белых зубов, улыбки важных персон, позирующих под звездным знаменем Соединенных Штатов, можно понять многое. Во-первых, тебя на фотографии нет. Во-вторых, ты мог бы ее снять, потому что именно ты представлял связующее звено между запечатленными на ней личностями. В-третьих, нечто трагическое должно вскоре разлучить тех, кого сблизила Мэрилин. Звездам предстоит рассеяться в смерти.
Это были последние слова, которые Гринсон услышал от Уэкслера. В последующие месяцы он прекратил с ним общение. Он не смог бы ответить, почему.
«Случай Мэрилин» ни Гринсон, ни Уэкслер не могли бы рассказать, обосновать, подтвердить в реальности. Как все случаи, описанные психоаналитиками, он был всего лишь фикцией, спиралью интерпретаций, маршрутом, сто раз пройденным во всех направлениях. Никто не может воспрепятствовать другой информации поставить под вопрос факты, смешать карты, расщепить повествование на новеллы, мнения, неточности. Легенда. История правдива, только если кто-то в нее верит, и меняет содержание в устах каждого рассказчика. Клинический случай — не роман, в котором рассказывается о произошедшем, но что-то вроде художественного изложения психоаналитиком себя самого. Жизнь аналитика невозможно отделить от случая пациента. Они пересекаются, и то, что говорится публично, совершенно не совпадает с тем, что происходит с глазу на глаз. Даже когда то, что было тайной, предается гласности, мы не приближаемся к истине. То, что было уже известно, просто включает эти новые элементы и образует новый вариант легенды. В итоге никто не узнает, что произошло на самом деле. Психоанализ не выражает правду людей, которые вступают на его путь. Он дает им пригодное для жизни повествование о том, кто они такие, и рассказывает, как все могло бы быть.
Лос-Анджелес, кладбище мемориального парка Хиллсайд ноябрь 1979 года
Уэкслер медленно начал свой рассказ, оставшись наедине с журналистом, которому поручил написать вместе с ним его мемуары.
— Прежде чем шагнуть за роковой рубеж (мне почти восемьдесят лет), я посмотрю в зеркальце прошлого, чтобы взглянуть на все путаные, смешные и трогательные события, произошедшие в «годы Мэрилин». Вы себе даже не представляете, что являл собой в то время психоанализ в Голливуде. Пока режиссеры лежали у нас на диванах, мы писали сценарии за них. Фрейд думал, что его истории болезни можно читать, как романы, Роми — Ральф Гринсон — хотел, чтобы истории его психоанализа напоминали фильмы, поставленные им самим. Я предпочел просто рассказывать и писать сценарии, немного заняться режиссерской работой. Я обязан Гринсону. Должен это сказать. Именно он ввел меня в мир кино. Часто по воскресеньям мы ходили обедать к писателю и продюсеру Дору Шари, где собирались все сливки Лос-Анджелеса. Мы вскоре сдружились и решили вместе снимать кабинет для работы. Это позволяло нам работать вместе, сравнивать наши случаи и иногда писать статьи в соавторстве. Когда Роми уезжал в отпуск, я его заменял.
— Расскажите мне о нем.
— Я как раз хотел это сделать. Мне часто хотелось снять фильм, в котором бы я показал аналитика звезд в Голливуде, которого я знал, в то время, когда меня преследовало Психоаналитическое общество. Я не уверен, что сегодня это привлечет многочисленных зрителей, не говоря уже о продюсере. Фильм? С кем? Для кого? Зачем? Но если бы я его сделал, то в начальных кадрах я показал бы море зонтиков, из которого появляется лысая голова — моя собственная. Я, более упрямый, чем льющий с неба дождь, отдаю с непокрытой головой последние почести потерянному другу. Впрочем, потерялись мы давно. Все началось не со вчерашнего дня.
Вчера похороны Ромео на кладбище Голливуд Форевер на бульваре Санта-Моника были фарсом, как и любые похороны. На этих похоронах я с горьким удовольствием просматривал внутренним взором мои старые картинки и пытался вспомнить нашу последнюю встречу. Признаюсь, глаза мои были затуманены. Не беспокойтесь, от возраста, а не от слез. Я слеп. С клинической точки зрения зрение у меня нулевое. Для психоаналитика ослепнуть — значит в конечном итоге довести свой эдипов комплекс до логического завершения. Вы не представляете, как мало мне мешает утрата зрения. Я не смотрю больше фильмы, я их вспоминаю.
Если бы я снимал фильм о вчерашней церемонии, получилось бы примерно вот что. Вставка: ноябрь 1979 года. Общий план кладбища резко сменяется крупным планом надгробной доски: «Ральф Гринсон». Стариковский голос за кадром: «Меня звали Роми. Я пожелал покоиться здесь, на кладбище звезд. А она — на кладбище мемориального парка Уэствуд. Я ни разу не пришел к ней на могилу. В отличие от нее, я не отпечатал свою ладонь на цементе Голливуд-бульвара и моя бронзовая звезда не блестит на камне Аллеи славы. Я звезда второй величины — не из тех, которые видны еще долго после того, как они угаснут».
Накануне, туманным днем, Мильтон Уэкслер попрощался с Ральфом Гринсоном. Роми до самого конца заботился о внешней стороне, образах и символах; он позаботился о том, чтобы его прах покоился в мавзолее кладбища мемориального парка Хиллсайд, среди других знаменитостей кино. Уэкслер думал, что единственное, что можно чувствовать к умершему другу, — это ненависть и обиду за то, что он ушел, желание сказать о нем злые слова, которые не смог сказать при его жизни. Когда он увидел, как замуровывают в стене урну с прахом Роми, он испытал слишком сильную ненависть, смешанную с нежностью, чтобы сказать себе, что потерял друга.
«Бедный Роми, — думал он, возвращаясь из мавзолея, в котором Гринсон покоился под черной мраморной плитой. — Он почти ничего не понял в этой истории, а наши коллеги-психоаналитики мало что поняли в его судьбе».
Эхо прощальной речи, произнесенной Робертом Штоллером, еще не умолкло.
От первой до последней статьи нас чарует оригинальный, хитроумный, нежный, провоцирующий, шокирующий, эрудированный, остроумный, задушевный, теплый, сильный, нескромный, постоянный, строгий, бескомпромиссный, эксгибиционистский, робкий и смелый стиль. Даже постороннего человека поражала невероятное обаяние личности Гринсона, потому что он мог думать и писать, только черпая в самом себе, ища в источниках своей психической жизни прочувствованный и пережитый опыт. Только из этого таинственного и обильного источника он мог почерпнуть свою теорию.
Однажды его постигла катастрофа — эмболия. Он лишился способности общаться словами. Несколько месяцев он не мог говорить, читать и писать. Самым ужасным было то, что он утратил бесценную, на его взгляд, способность: не мог больше видеть сны. С помощью врачей он вновь обрел силу и настойчивость. Гринсон заново научился читать, говорить, писать. Однажды, просыпаясь, он вспомнил, что увидел сон. После этого он смог на некоторое время вернуться к тому, что было самой большой его радостью, — клинической работе. Самой большой радостью и самым большим даром: мыслить и писать о природе психоанализа. Но его речь так и не стала полностью нормальной, хотя Гринсон с большим мужеством прочел еще несколько лекций, участвовал в обсуждении статей других авторов и «круглых столах».
Постепенно Роми был вынужден отказаться от этих занятий, потому что его сердце не могло больше их выносить. В итоге у него не осталось ничего. Работа и любовь — таков был девиз его жизни. С одним уточнением: для человека, прожившего свою жизнь хорошо, работа — это любовь.
— Работа любви — это еще ладно, — продолжил Уэкслер, слушая, как крутятся бобины в магнитофоне журналиста. — Анализ — в некоторой степени и это тоже. В значительной степени. Но мы всегда задумываемся, за кого пациент принимает своего терапевта в переносе, и реже, за кого сам терапевт принимает себя в контрпереносе: отца, мать, ребенка своего пациента? Роми не был прекраснодушным гуманистом. Скорее, противоположностью того портрета, который Штоллер нарисовал вчера. Он занимался не лечением словом, а лечением драмой, трагизмом. Это был боец, тигр, который любил запускать когти в жертву, волк, слишком часто показывавший свои слезы, чтобы в них можно было поверить. Он часто повторял странную фразу: «Нет ничего труднее, чем убедить чувство в том, что ты его действительно испытываешь». Он не верил ни во что. Он верил только в свою способность убеждать. Для него не было ничего святого — ни психоанализ, ни психиатрия, ни психология, ни обычные отношения между людьми. Он все ставил под сомнение. Он словно притягивал своим презрением правила и ограничения. Это был актер — он всегда был на сцене, всегда переписывал свою роль. Игрок.
Вот что я сказал бы на его могиле, если бы меня попросили произнести речь.
— А его психоанализ Мэрилин Монро?
— В последнее время в его несколько спутанных речах снова и снова появлялось слово «недуг». Он опять говорил со мной о своей идее кинопостановки «Ночь нежна» Ф. Скотта Фицджеральда. Как вы знаете, это история психоаналитика и безумной женщины. Две жизни, уничтожающие друг друга. На самом деле он не понимал, что произошло между ним и его пациенткой. Возможно, он был слишком врачом, слишком заинтересованным телесными недугами, чтобы вслушаться в страдание Мэрилин, не желая излечить его любой ценой. И слишком актером, чтобы до конца быть психоаналитиком. Но есть и другое, я думаю. В каждом из нас борются слова и образы. Возможно, Мэрилин в конце концов освободилась от своей потребности быть лишь картинкой. Может быть, у Роми образы в итоге одержали верх. Ему тоже хотелось делать фильмы — как автору, как актеру. Но он не осмеливался — ни тогда, ни впоследствии. Он высказывал свое мнение из-за кулис, предлагал внести изменения в диалог, критиковал работу оператора, пытался убедить в необходимости нового кадра, переписывал сценарий. Сценаристы и режиссеры раздражались, но им приходилось мириться с этими небольшими вторжениями «дорогого доктора» в последовательность кадров, в которых его пациентка была скорее объектом, чем субъектом. Роми был заворожен образами. Вы знаете, что в последние годы жизни слова покинули его. Судьба жестока: ему она послала молчание, мне — ночь. Слово и сон — два направления, между которыми делится и разрывается психоанализ, — позвали нас при приближении смерти. Его забрали образы, а мне остается лишь звук голосов. Запишите! Запишите это! Хорошо сказано, правда?
— Может быть, расскажете мне о ней? — прервал его журналист. — Насколько я знаю, вы тоже лечили ее некоторое время.
Уэкслер ненадолго замолчал, потом глубоко вздохнул:
— Я уцелел в этой грязной истории, которая, как и все истории, сделана из снов и денег, из власти и смерти. Бедный Роми! Он хотел бы получить первую роль или по меньшей мере вторую, быть партнером звезды. Он не понял, что ему предстоит стать статистом в жизни Мэрилин, всего лишь статистом. Конечно, это роль первого плана: последний, кто говорил с ней при жизни, и первый, насколько мы знаем, кто увидел ее мертвой. Кроме того, прежде чем взять ее на анализ, он уже был звездой интеллектуалов, и его диван был обязателен для любого, кто относил себя к элите кино. Но смерть Мэрилин его сломила. После этого он выжил, но уже никогда не был таким, как прежде. Между ними было нечто тайное, какая-то страсть, в которой каждый словно говорил другому: «Я не умру, пока останусь под твоей властью».
На следующий день после смерти Гринсона его сын предоставил Мильтону Уэкслеру разобрать его бумаги, прежде чем выбросить ненужные и подать остальные на хранение в архив факультета психиатрии УКЛА. Уэкслер целыми днями копался в бумагах. В одной из папок, где были аккуратно собраны черновики опубликованных статей или разрозненные заметки, в том числе и записи, сделанные на сотнях сеансах с десятками пациентов, он нашел записи, которые его коллега, казалось, сделал, готовясь к допросу:
«Мэрилин Монро пришла ко мне на консультацию в январе 1960 года. Она сказал мне, что я ее четвертый психоаналитик, но первый аналитик-мужчина. Я не знал, что стану последним (не считая Мильтона Уэкслера, который заменял меня в работе с ней в течение нескольких недель весной 1962 года). Тогда она находилась в таком расшатанном физическом и психическом состоянии, что я понял: партия будет трудной и…»
Одной или нескольких страниц не хватало.
Уэкслер вспомнил. Роми часто сравнивал психоанализ с игрой в шахматы. Однажды, когда он наскучил ему своими метафорами дебюта, вилки и прочих гамбитов, Гринсон, видя рассеянный вид своего коллеги, взорвался:
— Но ты знаешь, что сам Фрейд сравнивает лечение с партией в шахматы? Хочешь, прочту тебе, что он пишет?
Он бросился в свой кабинет и вернулся через несколько минут, держа в руке измятую страницу, вероятно переписанную для статьи. Он почти продекламировал:
— «Тот, кто пытается обучиться благородной игре в шахматы по книгам, вскоре обнаруживает, что только начальные и конечные маневры позволяют дать полное схематическое описание этой игры, тогда как огромная сложность, открывающаяся после дебюта партии, не поддается никакому описанию. Правила, которым остается подчинено практическое применение психоаналитического лечения, предполагают те же ограничения». Зигмунд Фрейд, 1913 год, — подытожил Гринсон весьма экзальтированным тоном и, как ни странно, чуть не плача.
Он продолжал чтение. Уэкслер ошеломленно внимал.
— «Слишком грустно сознавать, что жизнь немного похожа на шахматную партию, в которой неправильно сделанный ход может заставить нас проиграть партию, с той только разницей, что у нас нет возможности второй партии или реванша». Зигмунд Фрейд, 1915 год.
Уэкслер больше не слушал. Он вышел из кабинета, хлопнув дверью.
Через многие годы, которые ему не хотелось считать, сидя над стопкой бумаг, оторвавшись от раздумий, Мильтон Уэкслер предался в темноте размышлениям, которые не смог формулировать ни в то время, когда была жива Мэрилин, ни перед Гринсоном. Он думал об игре в шахматы. Он воображал гарцующего на коне всадника, одним прыжком перемахивающего через предназначенные ему клетки, совершающего ход в два движения — вертикальное и горизонтальное — и всегда в итоге оказывающегося на клетке другого цвета, чем в начале хода. Он представлял себе фигуру черной королевы, которая виделась в глубине неумолимого страха перед жизнью, испытываемого Мэрилин. Мэрилин отразила свойственное ее матери стремление к сексуальному совершенству, искусство привлекать мужчин, использовать и бросать их. А также страх старения, расхождения между тем, какой она была, и тем, что она все еще видела в глубине зеркала. Как и ее мать, она, вероятно, испытывала панику перед риском утратить привлекательность, который всегда подстерегает женщину, становящуюся матерью. Гринсон не оценил, насколько в ее роли в фильме «Что-то должно рухнуть» повторяются события, некогда пережитые ею с матерью. Смысл сцен, которые предстояло снять, перекликался с ее прошлой жизнью, плохо прожитой и плохо забытой. Сцена возвращения исчезнувшей матери, одна из сцен, которые она уже сняла, когда, брошенная своим психоаналитиком, пришла на консультацию к Уэкслеру, была словно негативом другой сцены; однажды Мэрилин увидела, как ее мать, которую она считала умершей, вернулась из психиатрической больницы.
Возможно, думал Уэкслер, Глэдис Бейкер окончательно охватило безумие именно из-за того, что она стала матерью. Может быть, Мэрилин сошла с ума именно из-за того, что не стала матерью к тридцати шести годам, когда ей пришлось в первый раз сыграть в фильме роль матери? Матери, которую ее дети не узнают, которая не обнаруживает себя перед ними. Говорили, что во время съемок она была беременна, а после увольнения сделала аборт. Говорили, что она не знала, от кого была беременна. Столько всякого говорили — как узнать правду?
Партия в шахматы между звездой и психоаналитиком закончилась вничью. Кто убил Мэрилин? «Не Роми, — думал Уэкслер. — Для этого он был слишком труслив. А кто же? Норма Джин, как говорили, или ее мать, Глэдис?» История Мэрилин начинается со стекла, через которое одна женщина смотрит на другую. Маленькая Норма Джин подстерегает у окна мать, пришедшую за ней в приемную семью, куда ее раньше пристроила. Затем — зеркало, в которое ее мать смотрится, сомневаясь в своей красоте, разглядывая себя — женщину. Другое или то же самое зеркало — девочка, не знающая, чьим именем она названа, смотрит, как ее мать заглядывает в него. Но вот история продолжается: стеклянные фигуры ходят в тишине по стеклянной шахматной доске. Как в сказке. Белоснежка и ее мать.
В течение всей партии противостоят друг другу белая королева (которая еще не совсем королева, но мечтает ею стать) и черная королева (она еще не погружена во тьму безумия, но уже балансирует на грани, оттого что годами разглядывала кадры фильмов в негативах). Возможно, именно поэтому она хотела, чтобы о ней говорили «платиновая блондинка». Чтобы не быть похожей на Белоснежку, с бледной кожей, алыми, как вишня или кровь, губами, черными бровями и волосами. У нее нет выбора — она вырастает в молодую женщину, которая приходит в ужас, когда стеклянный глаз камеры не вожделеет ее, и она боится до безумия, когда он вперен в нее. Ее единственное убежище — проецировать себя на экран, зеркало ее мечты. Кто убивает в сказках ушедшую красоту, которую плохая женщина видит на лице своей дочери? Мать — отравленным гребешком или же, когда девушка повзрослеет, яблоком греха, приносящим знание и сексуальность, а с ними — работу, страдание и смерть? Кто победил — белая или черная королева? Однажды Мэрилин записала в своем дневнике: «Белый цвет — пассивность, пассивность разглядываемого, попавшего в ловушку. Черный цвет — зрачок глаза, экран, когда закончился фильм, сердце мужчины, который уходит от тебя, засыпая или уезжая».
Прервав размышления, Уэкслер снова увидел умирающего Роми. В его неразборчивом бормотании иногда слышались слова; «Не белая королева… два черных коня… диагональ… безумие…»
Санта-Моника, Франклин-стрит 8 августа 1962 года
Гринсон не был рассержен настойчивыми расспросами Майнера, а казался, скорее, печальным, побежденным. Без единого слова, под озадаченным взглядом следователя, он поставил первую кассету.
«С тех пор, как вы приняли меня в своем доме и разрешили познакомиться с вашей семьей, — говорил голос Мэрилин, — я думаю, что мне хотелось бы быть вашей дочерью, а не пациенткой. Я знаю, что это невозможно, пока я ваша пациентка, но когда я выздоровею, может быть, вы сможете меня удочерить. Тогда у меня будет отец, о котором я всегда мечтала, а ваша жена, которую я обожаю, сможет стать мне матерью. Нет, доктор, я не буду вас заставлять. Но мне нравится об этом думать. Наверное, вы знаете, что я плачу…»
На этом месте Майнер увидел, что лицо психоаналитика залито слезами. Он предложил ему выключить запись. Психоаналитик пожал плечами:
— Вы были очень привязаны к ней, доктор. Как вы реагируете на ее смерть?
— Вы не понимаете. Вы не можете понять, что она одновременно и освободила меня, и казнила. Я потерял ее тогда, когда она была ко мне ближе всего. Речь стала двигаться в ней. Наконец-то она по-настоящему говорила со мной. После почти трех лет, в течение которых она просто присутствовала у меня на глазах. Она стала смотреть в лицо жизни, а не вглядываться в эту темную дорогу у себя за спиной…
— Что вы запомнили о ней?
— Что у меня осталось от нее? Я вам скажу: не ее внешность, которая заставляла меня отворачиваться и делала мне больно, как может делать больно только красота. Нет, не ее вид — ее голос. Этот печальный призрачный голос, поющий два куплета «Happy birthday, mr. president». Я услышал его вчера в кадрах, идущих по всем телепрограммам. Вы знаете, в психоанализе мы имеем дело только с голосами. Недаром Фрейд изобрел это странное устройство, делящее тело пациента надвое. С одной стороны, его образ, его объем, то, какое он занимает пространство, а с другой — его голос, доносящийся до нашего слуха и оставляющий след во времени. Анализ похож на кино, когда в нем еще не было звука: немые сцены чередуются с титрами на черном фоне. Слова порождают вещи. Я недаром всегда относился с таким недоверием к фильмам, в которых хотели показать психоанализ, показать невидимую работу слов. Также недаром — чего только не делает судьба! — у нас остались от Фрейда только, с одной стороны, образы без слов, часы немых съемок, а с другой стороны — беседы, записанные для радио.
Гринсон продолжал с горячностью:
— Мэрилин Монро не просто так записала эти кассеты, которые вы только что прослушали, в темноте, ночью, и не воспользовалась сеансом, чтобы сказать все это во время наших встреч. Мэрилин знала это: реальность заключается в голосе, когда он освобождается от образов. Однажды она мне сказала: «Не нужно пользоваться каким-то специальным тоном голоса. Если вы думаете о чем-то сексуальном, то голос последует сам собой». На самом деле у нее было два голоса — голос ее фильмов, выученный, завоеванный, это прерывистое мурлыканье, невнятный вздох, срывающийся с губ, словно спросонья. И другой голос, которым она говорила вне экрана, более уверенный, более ясный. На сеансах она переходила от одного к другому. В конце она больше не пользовалась своим голосом актрисы. Даже в своем последнем фильме она сохранила на экране голос повседневной жизни.
Психоаналитик помолчал и продолжил свой монолог уже более спокойно:
— С самого начала в ней разыгрывалась драма между голосом и кожей. Она считала, что только ее кожа — когда ее видят, до нее дотрагиваются, ее ранят — могла говорить. Не знаю. Не знаю, что случилось, но, хоть и рискую вас шокировать, я все же думаю, что в последнее время ей было лучше: она начинала говорить по-настоящему. Но я наскучил вам своими историями. Слушайте эти кассеты, слушайте их снова и снова! Я вернусь к своим пациентам. Можете записывать, если сочтете нужным, но кассеты не уносите!
Майнер молча уселся в кресло, лицом к большому окну, освещенному закатом. Мэрилин наконец исчезла из виду. Можно было слушать ее истины, не туманя их взглядом, который ее красота привлекала всегда. Следователь снова и снова слушал последнюю запись. Он еще раз нажал на клавишу «перемотка».
Лос-Анджелес, пригород, Первая Западная улица апрель 2006 года
В полностью освещенном здании «Лос-Анджелес Таймс» Форджер Бэкрайт остался один; он сидел за компьютером. Вновь прослушав запись рассказа Джона Майнера, он решил предать гласности содержание последних сеансов Мэрилин и не ставить под сомнение достоверность расшифровки. Он не уточнил в своем предисловии, что Майнер отказался от соблюдения обещанной Гринсону секретности не для того, чтобы реабилитировать его память, а потому, что переживал финансовые трудности. Бэкрайт не упомянул, что старик упорно торговался при продаже своих воспоминаний. Он не сказал, что сомневался в том, что якобы говорила на последних сеансах Мэрилин, и особенно в светлом, полном надежд тоне ее откровений психоаналитику. Он не стал подчеркивать их слишком значительное соответствие с тем, что доктор Гринсон беспрерывно говорил и писал. Подразумевая: «Ее убили», записи говорили между строк: «Она не покончила с собой» и «Я ее не убивал». Журналист скептически относился не столько к портрету сияющей оптимизмом Мэрилин, сколько к вырисовывающемуся на ее фоне силуэту Гринсона, равнодушного к деньгам, верного супруга, увлеченного психоаналитика, внимательного отца потерянной и вновь нашедшейся девочки.
Что касается Мэрилин, Форджер Бэкрайт также был уже ни в чем не уверен. Вначале он вновь просмотрел фильм, который ему удалось скачать программой E-mule, после долгих поисков через BitTorrent. Мэрилин в черной комбинации занималась грязными вещами, отснятая на пленку, изъеденную временем. Это показалось ему странным. Если это была она, если этот порнографический фрагмент действительно был снят с участием Мэрилин Монро в то время, когда она была всего лишь Нормой Джин Мортенсон, то в этом фильме, когда ей не было еще и двадцати, она казалась старше, чем в тех фильмах, в которых она раздевалась перед камерой пятнадцать лет спустя, как в последних кадрах «Что-то должно рухнуть». Кожа фильмов напоминает женскую: тускнеет и обвисает с течением времени. Этих старых кадров уже коснулась смерть. Но о сексе и связанном с ним горе они, несомненно, говорили меньше, чем слова.
О тех образах, которые возникли у него в голове после прослушивания записей о Мэрилин и чтения тысяч рукописных страниц о ее последних годах, Бэкрайт думал, как оператор монтажа, пытаясь построить из бессвязных обрывков рассказ с началом и концом. Он знал, что истина находится только в этих противоречиях между разными съемками одной и той же сцены, вырезанных фрагментах диалогов, кадрах, исключенных из окончательной версии фильма, ложных состыковках планов, урезанных движениях камеры. Он не стал бы пытаться сплести бесконечную нить ненужной интриги и надеялся только, что его книгу можно будет читать по порядку, или от конца к началу, пропуская фрагменты, которые могут существовать отдельно, или же в последовательности, способной придать им другой смысл.
Утренний номер был закончен, но журналист сидел перед монитором всю ночь. Бэкрайт решил сохранить свои вопросы для себя и придать им единственную форму, которая может приблизиться к истине. Он перечитывал первую страницу романа, который начал восемь месяцев назад, после того как изучил воспоминания и записи, доверенные ему или придуманные Джоном Майнером. Он закончит этот роман. Распутает эту темную историю. Он не был уверен в названии «Мэрилин, последние сеансы?».
Бэкрайт вернулся к первой странице рукописи, появившейся на экране, и перечитал.
Пригород Лос-Анджелеса, Первая Западная улица август 2005 года
REWIND. Перемотать кассету назад. Начать всю историю сначала. Снова прослушать последний сеанс Мэрилин. Конец — это всегда начало.
И Форджер Бэкрайт добавил, как титр: REWIND.
Библиография
Как и большинство авторов книг о Мэрилин Монро, автор не получил доступа к частным источникам, чтобы ознакомиться с письмами и документами, относящимися к двум главным героям этой книги.
В вашингтонской Библиотеке Конгресса, где хранится переписка между Марианной Крис и Анной Фрейд, все письма об их общей пациентке для ознакомления не выдаются. В библиотеке Университета Калифорнии, Лос-Анджелес, переписка между Ральфом Гринсоном и двумя предыдущими психоаналитиками закрыта для доступа. В библиотеке Лос-Анджелесского психоаналитического общества все, что касается психоанализа Мэрилин, недоступно.
Слова, вложенные в этой книге в уста Мэрилин Монро на сеансах и вне сеансов, взяты из различных источников (биографии, беседы). Записи на кассетах, якобы находившихся у доктора Гринсона, цитируются по их расшифровке в книге Мэтью Смита «Жертва: тайные записи Мэрилин Монро» и выпуске «Лос-Анджелес Таймс» от 5 августа 2005 года.
Клинические или теоретические высказывания доктора Гринсона взяты из его изданных книг или архивов, хранящихся в Университете Калифорнии, Лос-Анджелес. Дональду Спото, биографу Мэрилин Монро, удалось ознакомиться с ними, и здесь они цитируются по американскому изданию его книги. Так же дело обстоит с длинным письмом, написанным Мэрилин Монро доктору Гринсону в феврале 1961 года. Все эти тексты процитированы здесь в моем переводе.
Билли Уайлдер поделился своими воспоминаниями с Кэмерон Кроу в сборнике интервью.
Хотя некоторые диалоги, высказывания и письма придуманы автором, чаще всего они буквально взяты из статей и книг.
Благодарности
Я благодарен Мартине Саада, без которой эта книга не могла бы увидеть свет.
Фильмы с участием Мэрилин Монро
1. 1948 Скадда, Ху! Скадда, Хэй! (Scudda Ноо! Scudda Нау!)
2. 1948 Опасные годы (Dangerous Years)
3. 1949 Дамы из кордебалета (Ladies of the Chorus)
4. 1949 Люби счастливо (Love Happy)
5. 1950 Билет в Томагавк (А Ticket to Tomahawk)
6. 1950 Асфальтовые джунгли (The Asphalt Jungle)
7. 1950 Шаровая молния (The Fireball)
8. 1950 Всё о Еве (All about Eve)
9. 1950 Поворот направо (Right Cross)
10. 1951 История родного городка (Ноте Town Story)
11. 1951 Не старше, чем тебе кажется (As Young as You Feel)
12. 1951 Любовное гнездышко (Love Nest)
13. 1951 Давай сделаем это по-быстрому (Let’s Make it Legal)
14. 1952 Схватка в ночи (Clash by Night)
15. 1952 Мы не женаты (We’re not Married)
16. 1952 Можно входить без стука (Don’t Bother to Knock)
17. 1952 Обезьяньи проделки (Monkey Business)
18. 1952 О’Генри: полный комплект (О. Henry’s Full House)
19. 1953 Ниагара (Niagara)
20. 1953 Джентльмены предпочитают блондинок (Gentlemen Prefer Blondes)
21. 1953 Как выйти замуж за миллионера (How to Marry а Millionaire)
22. 1954 Река, с которой нет возврата (Сокровища горной реки) (River of по Return)
23. 1954 Нет штуки лучше шоу-бизнеса (Это не дело) (There’s по Business Like Show Business)
24. 1955 Зуд седьмого года (Семь лет желания) (The Seven Year Itch)
25. 1956 Автобусная остановка (Bus Stop)
26. 1957 Принц и хористка (The Prince and Shower!)
27. 1959 Некоторые любят погорячее (В джазе только девушки) (Some like it Hot)
28. 1960 Давай займемся любовью (Let’s Make Love)
29. 1961 Неприкаянные (The Misfits)
30. 1962 С чем-то пришлось расстаться (Something to do Give) (фильм не был закончен)
Примечания
1
Текст Капоте цитируется в переводе Виктора Голышева.
(обратно)
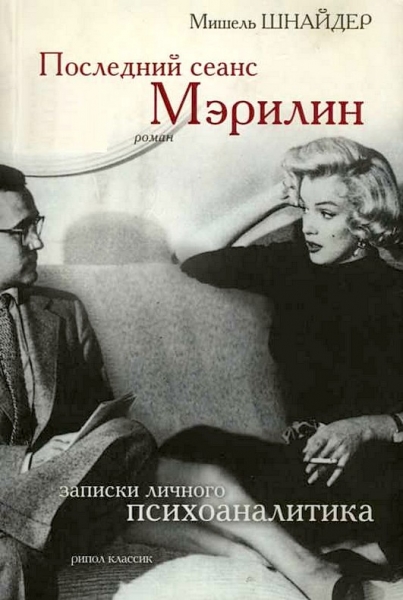










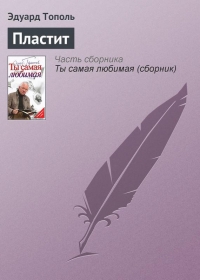
Комментарии к книге «Последний сеанс Мэрилин. Записки личного психоаналитика», Мишель Шнайдер
Всего 0 комментариев