Анатолий Андреев Всего лишь зеркало… Роман
1
Ноябрь все никак не мог угомониться: лил и лил блеклый дождь. С какой-то тупой иронией, как будто доказывая кому-то правоту, в которой и сам изрядно сомневался. Сделает краткую паузу – и опять нудно сыплет плотной стеклянной кисеей, успокаивая себя и раздражая других. Ноябрь…
Делать мне было абсолютно нечего, и я не придумал ничего лучше, как с утра включить телевизор, этот никчемный ящик в пластиковом корпусе со стандартным размером по диагонали (средним), набитый информационным хламом. Смотреть телевизор с утра, по моим меркам, – это верх деградации, ниже некуда.
Через час он мне надоел хуже дождя. Сколько изобретательного энтузиазма по поводу ничтожных вещей! Сколько усилий и материальных затрат, чтобы снять нелепый клип или смазливое шоу! Съемка только одной заковыристой погони в идиотском боевике, где мельтешили сотни искореженных машин и горы трупов, облитых кетчупом, требовала от всех участников этого звездного эпизода такого фанатизма и веры, будто интереснее игры в кошки-мышки не может быть ничего на свете, что это окончательно отвратило меня от людей. Я еще могу понять тех недалеких гениев, что расписывали величественные храмы своими несравненными фресками, отдавая жизнь и здоровье во имя чего-то светлого, хотя и несуществующего. Люди забавлялись с размахом. Но кошки-мышки для взрослых людей…
Мелькание, дробление, пыль…
Планы и кадры, будто капли занудного нидерландского дождя, невозможно сосчитать, они сыплются на вас бесконечным мозаическим каскадом, погребая вас под валом пестрого мусора.
Библейское пророчество «суета сует» нашло, наконец, свое достойное и адекватное воплощение в клиповом сознании.
Долгожданная передышка: рекламная пауза. Место раскрошенных и вышибленных мозгов спешат занять слоганы и девизы, виртуально представляющие мегатонны плотно упакованного товара, который надо продать. «Выбери лучшее», «просто сделай это», «стань самим собой», «верь жажде своей, не дай себе засохнуть», «разве я этого не достойна», «образец вашего вкуса», «управляй мечтой»…
Дьявольское мелькание превращается в вакханалию куцых потребностей, мыслей, вкусов, в карнавал этикеток. Все продается, планета, залепленная лейблами, превращается во Всемирный торговый ларек, а человек – в почтенного потребителя. За вас все решено, расслабьтесь, разве вы этого не достойны? Все к вашим услугам. Сама смерть становится рекламой здорового образа жизни. Где-то на задворках сознания у тебя мелькает мысль, что боевик – это способ продать косметику или новый сорт печенья, а не наивная версия борьбы добра со злом. Кино продано. Тут ты отвлекаешься на рекламу пива, потом тебя прельщают кусочками колбасы, внезапно потоком изобилия посыпались колготки, маечки, лимонад, машины стиральные, джипы…
Продано, продано, продано.
Мир, порезанный в лоскуты, рассыпался в прах…
И единственный способ собрать мир воедино – включить телевизор.
Ты этого достоин.
Лично я предпочитаю всемирный потоп: это более романтично. Жизнь зародилась из воды, пусть водой все и закончится. Да будет так. Вот почему вместо экрана телевизора я тупо уставился в окно. Во-первых, я сделал свой выбор, а во-вторых, это был своего рода протест. Было уже не так скучно.
Вечером, когда отходишь ко сну, всеобщий идиотизм действует как-то успокаивающе, поэтому телевизор не раздражает, а приятно возбуждает; с утра же человеку необходимы иллюзии. Боевик с привкусом чипсов с утра – потерянный день.
К полудню стало заметно темнеть. К четырем часам светло-серое небо погасло. К пяти город Минск погрузился в сплошную тьму. Дождь не прекращался. Скука сгустилась до кромешных сумерек.
Я вновь включил телевизор, чтобы порадовать себя анекдотами.
Новых, как обычно, не было, из старых запомнился один. Постоянный ведущий ток-шоу, избалованный вниманием почтенной публики актеришко с испитым лицом, вяло балагурил, обозначая паузами места, где следует смеяться.
«Вождь индейского племени, которое жило пчеловодством, при смерти. (Смех.) Он был старым и знал о пчелах все. (Смех.) Соплеменники ждут его прощального и напутственного слова.
Вождь поднял слабую руку, индейцы сосредоточились.
– Все на свете фигня. Кроме пчел, – изрек вождь. (Аудитория захлебывается смехом.)
Племя одобрительно зашумело.
Вождь поднял руку, толпа затихла.
– Впрочем, пчелы тоже фигня, – сказал вождь и умер. (Слабый, с оттенком недоумения, смех в зале.)»
По-моему, публика не поняла сути смешного анекдота; впрочем, он не разогнал мою скуку, а только подчеркнул ее.
Тогда-то мне и принесли эту дурацкую телеграмму: «Алик скончался. Похороны понедельник 14 часов. Ждем непременно. Все».
Возможно, телеграмма была и не дурацкая, возможно, в ней и был сокрыт какой-то трагический смысл. Но, во-первых, я не знал никакого Алика. У меня вообще нет друзей, близких настолько, чтобы меня могла взволновать их смерть или жизнь, а уж достойных того, чтобы провожать их в последний путь в такую погоду, и подавно. Во-вторых, получить привет ото «всех», которые ждут меня с нетерпением…
Надо знать меня. Я и «все» – несовместимые понятия. Я уже давно живу отдельно от «всех». К тому же адрес «всех» был совершенно конкретен: Ангарская, 17. Кто у нас там? Никого. Сплошной ноль.
Нет, это явно не ко мне. Меня с кем-то перепутали. Не за того приняли. Обойдется Алик без меня, господа. Я ему чужой, как и всем вам. Адью.
Через час я получил вторую телеграмму. «Встретимся на похоронах. Скорблю. Леха Бусел». Адрес отправителя: Игуменский Тракт, 17.
Это другой конец города – по отношению и ко мне, и к Ангарской. Можно посмотреть по интернету план города. Но никакого Лехи, тем паче Бусла, я не знал. Зачем смотреть?
В 19.03 я получил третью телеграмму: «Приходите на похороны и поминки. Мне надо с вами познакомиться. Оля С.»
Адрес отправителя: главпочтамт.
Я включил компьютер, залез в дебри всемирной паутины, где хаоса и суеты в сто раз больше, чем на телеэкране, и минут через десять благополучно выбрался оттуда, зная уже номер телефончика всех тех, кто жил, надеюсь, в добром здравии, на Ангарской 17. Если терпеть не можешь людей, это еще не повод желать им всем погибели.
TV смотреть не хотелось: клипанутый мир по-прежнему летел вверх тормашками. Это зрелище меня не радовало. Читать не хотелось тем более. Все стоящее или давно написано или еще не написано. Написанное давно – давно прочитано. И мир от этого не поменялся. А то, что не написано…
В общем, это тоже не ко мне.
И я решил потратить время на то, чтобы разочаровать «всех»: я сообщу им, что не приду завтра к 14 часам. И вообще не приду к ним. Причина?
Видите ли, я не был знаком с покойником. А хоронить чужих мне людей…
Я не большой любитель панихид вообще, а не имеющих ко мне никакого отношения – в особенности.
Мне и собственные, боюсь, будут в тягость.
2
– Алло! – приветствовал меня очаровательный женский голос, чересчур жизнерадостный для той, которая собралась хоронить Алика.
– Добрый вечер, – сказал я и тут же вежливо закашлялся, вспомнив, что вечер на Ангарской 17 не мог быть добрым, по крайней мере, если верить телеграммам, никак не должен был быть.
– Добрый, – между тем ответили мне, забыв стереть (готов поклясться в этом!) улыбку с румяных уст.
– Меня зовут…
Тут я назвал свою фамилию, имя и адрес, по которому я получил телеграмму, отправленную с Ангарской 17, из квартиры, куда я, собственно, звоню.
– Так-так, – сказала милая дама (почему-то захотелось считать ее милой), находившаяся на другом конце города. – И что вам угодно?
– Алик умер? – спросил я совершенно по-свойски.
– К сожалению, – жизнерадостно воскликнула дама. – Вам, наверно, нужна Света. Света!
На том конце провода последовало краткое объяснение.
– Я слушаю, – сказал ровный, несколько чинный голос, впрочем, свежий и женственный. Я люблю угадывать людей по голосам. Между прочим, это нелегко. Иногда за басом скрывается дохленький доцент, а за роскошным альтом – невзрачная соседка. Голоса обманчивы.
Я повторил то, что минуту назад сообщил жизнерадостной дамочке.
– Так-так, – сказал голос. – Вы придете?
– Нет, не приду. Произошла ошибка…
Тут я изложил второй даме (тоже, скорее всего, милой) то, что читателю уже хорошо известно.
– Так-так. Вы хотите сказать, что совсем не знали Алика?
– Я не только хочу это сказать; я на этом настаиваю.
– Позвольте, как же так? Он считал вас другом, лучшим своим другом. Он каждый день о вас рассказывал. Вы же встречались с ним ежедневно!
– Я?! С Аликом?! Помилуйте, здесь какая-то ошибка. Уверяю вас, я его не знал вообще и ничего не слышал о нем до сегодняшнего, возможно, печального для него дня.
– Что же я скажу его друзьям? Все соберутся. Они хотят увидеть вас. Все считают вас его лучшим другом.
– Это недоразумение. Вероятно, речь шла о другом человеке, не обо мне. Если угодно, я сожалею, но ничем не могу помочь. Я не был его другом, и это уже не исправишь.
Она еще раз без запинки назвала мое имя-отчество, упомянула два-три моих романа, не столь уж, кстати, популярных среди неискушенной в изящной словесности публики. Я был широко известен в узких кругах. И это меня устраивало.
– Романы-то мои. Но я не знал никакого Алика, – уже не слишком уверенно сказал я. Перспектива хоронить Алика, моего лучшего друга, о котором я ничего не знал, меня явно не прельщала.
С другой стороны, опять сидеть целый день под дождем, у телевизора…
– Может быть, вы все-таки придете? Он оставил для вас большой запечатанный конверт.
– Прочитайте, пожалуйста, адрес и имя получателя, написанные на конверте. Медленно и внятно.
Она идеально исполнила мою просьбу. Выходило, что лучшим другом Алика был я.
– Спасибо, Светлана. Я приду, – неожиданно для самого себя сказал я. – Кстати, будет ли там Оля?
В трубке напряженно затихли. Мне это определенно понравилось. Назревала хоть какая-то интрига. Давненько в моей жизни не было интриги.
– Ладно. Неважно. Я приду. Оле ничего не говорите.
Зачем я произнес последнюю, бессмысленную во всех отношениях фразу, я и сам не знал.
Боюсь, своим поведением я разочаровал бы друга.
3
Похороны Алика стали для меня рождением очаровательной загадки, так мило раскрасившей мою унылую жизнь. Так часто бывает, по моим наблюдениям: гибель одного порождает что-то другое. Интересно, что родится в результате гибели нашего мира?
Безостановочный цикл или круговорот иногда служили для меня источником не очень-то уж и нужного мне оптимизма. Я даже по-своему благодарен был Алику; особенно трогало меня то обстоятельство, что сначала он умер, а потом объявился в качестве моего друга. Вряд ли у нас получилось бы наоборот. Извини, дружище, за откровенность. Я не вру даже ради себя; с какой стати мне брать грех на душу ради друга?
Дождь уныло, с гнусной принципиальностью хлестал даже на похоронах.
На свадьбе, я слышал, дождь – хорошая примета: к богатству, к изобилию. Вода и жизнь совмещаются неплохо: жизнь ведь когда-то зародилась из воды, я слышал. Скорее всего, из чьих-нибудь слез. На свадьбе люди, как правило, еще на что-то надеются, и приметы там весьма кстати.
На похоронах же, по-моему, просто нелепо рассматривать дождь в качестве приметы. «Хорошая» или «плохая» примета для покойника, для того, кого не стало: это ведь нонсенс, если предположить, что все скорбящие в здравом уме. Дождь просто мешает еще живым, портя им и без того сомнительное удовольствие от прощания с безвременно усопшим.
(По моим наблюдениям, люди чаще всего отходят в мир иной безвременно; мне кажется, бессознательно все ориентируются на цифру 100; если меньше ста – значит, безвременно. Измерять жизнь покойника делами его как-то не приходит в голову скорбящих. «Безвременно» становится дежурной отговорочкой: дескать, если бы дожил до ста – то-то бы наворочал дел; а так – просто не успел. А если человек дожил до ста лет, главной его заслугой, что бы он там ни сделал, провозглашается именно это. Долгожительство рассматривается как подвиг, но покойника перестают жалеть. Считается, что он давно умер. Безвременно скончался.)
Единственный, кому было наплевать на дождь, мог бы быть сам виновник торжества; однако о нем и этого не скажешь. Чтобы наплевать, надо быть живым. Безразличие – это реакция временно оставшихся в живых друзей.
А может быть, дождь на похоронах – это ко всемирному потопу?
Стоило бы проверить эту примету, если, конечно, жить ради этого пришлось бы не слишком много. Да, жить…
Алика же, повторю в сотый раз, не стало. И по этому пустому, пустяковому, опустошающему поводу, по поводу исчезновения в пустоту, собралась приличная толпа людей. Протяженность похоронной процессии за гробом свидетельствует о вашей социальной значимости, имейте в виду. А интенсивность всхлипываний – это индекс печали. Чем длиннее и извилистее толпа, чем больше в руках носовых платков всевозможных расцветок – тем безвременнее кончина.
Я порадовался за Алика. Мне стало где-то даже лестно, что я был его другом. Совершенно растроганный, я дал Алику прозвище Zero. Друзьям ведь всегда дают прозвища, я слышал. Алик Zero: по-моему, неплохо. Во всяком случае, для меня, еще неопытного в дружбе.
Кто-то в толпе провозгласил дрожащим, рыхлым от слез, но громким голосом, что дождь – это не просто так; это природа скорбит вместе с нами. Какой-то надтреснувший и отсыревший голос поддержал его. У людей, я понял, ничего не бывает просто так. Интересно, что такого совершил мой друг Zero, чтобы так растрогать природу?
Свою версию о всемирном потопе я решил пока не оглашать.
В руках у меня были две бордовые гвоздики, которые от дождя (который лично мне мешал) и от того, что их всего две, стали вдруг жалкими. Огромные стебли также делали их жалкими, похожими на крепких, но угловатых подростков, которые любят темными вечерами сидеть на скамейках возле подъездов и орать, не попадая в тональность (хотя какая может быть тональность на расстроенной гитаре, то есть куске фанеры, чем-то напоминающем два склеенных пузыря?), нечто вроде песен (я бы назвал их угловатыми зонгами), чтобы обратить на себя внимание таких же угловатых барышень. Зонги, разумеется, бессмысленные, клиповые. В сущности, подростки уподобляются котам. Кстати, о котах…
Нет, боюсь, коты и похороны – это вещи разные настолько, что мне их не объединить. О котах как-нибудь в следующий раз. Дождь, зонты, отсыревшие голоса, подростки – все это причудливым образом сливалось в кошачью тему. Но приличия не позволяют. В следующий раз. Да…
У меня был небольшой опыт расставания с близкими мне людьми, но и он убедил меня, что не стоит ждать от себя слез. Лучше честно запахнуть темно-синий плащ поплотнее, поправить освежающий мой облик теплый шарф в клеточку и ниже опустить огромный купол черного великолепного зонта, неизменного моего спутника в долгих прогулках по осенним бульварам.
Да, да, я не всегда бывал недоволен дождем. Он нравился мне уже за то, что разгонял праздные толпы по домам, поближе к TV ящикам. Словно осерчавший Верховный Пожарный, водяными пушками гнал их в коробки квартир, к коробкам телевизоров или компьютеров; люди напоминали стаи серых крыс с мокрой шерсткой, ринувшихся на приманку в виде мелко нарезанной духовной окрошечки. Много ли им надо, крысам?
Вроде бы, нет.
Но они пожирают все.
4
На этот раз одиночество мое длилось недолго. Рядом со мной, в линию, носик к носику, остановились изящные осенние сапоги отличной рыжей кожи, и женственный голос произнес мою фамилию, словно пароль. Я поднял зонт и предложил свою руку.
Меня обволокло густым ароматом умеренно легкомысленных духов, особенно обжигающим в сырую погоду, – ароматом, возможно, излишне сильным для такого непраздничного случая, но в самый раз для меня. Мне пришло в голову, что мой бессмысленный визит может статься и не таким уж напрасным. Я как-то упустил из виду то обстоятельство, что и на похоронах присутствуют симпатичные женщины. Присутствуют, конечно, со всей силой своего обаяния, особенно когда уходят из жизни их дорогие мужья. Кокетливо скорбеть – особое искусство, а роль вдовы – всегда на виду. Кстати, о вдовах и об их бенефисах…
Нет, боюсь, и это тоже некстати. О вдовах и котах поговорим в нужное время в нужном месте. Между прочим, в этом и заключается искусство романа: нужная краска в нужное время в нужном месте.
Кроме того, это формула удачи, в известной степени – счастья.
А также жизни.
И смерти.
Чтобы происходящее не выглядело так двусмысленно – на похоронах нескромно глазеть на хорошенькую незнакомку, возможно, вдову, – я сначала опишу покойника, к ногам которого я с видимым почтением опустил жалкие гвоздики.
Покойник мне понравился. Глаза, зеркало души, были закрыты, разумеется, но и на лице его можно было разглядеть и прочитать немало любопытного. Высокий лоб, умное выражение лица (зачем оно покойнику?), пленяющее чем-то значительным или из ряда вон выходящим, сразу не скажешь. Мне польстило, что это человек читал мои романы. Пожалуй, таким и представлялся мне идеальный читатель.
Прощай, друг, вот мы и встретились.
Теперь обратимся к даме, безо всякого стеснения, как у себя на тахте, расположившейся у меня под зонтом. И не считайте, Бога ради, что я уделил своему усопшему другу, лежащему в обрамлении гвоздик, белых, красных и пестрых, мало внимания. Во-первых, при жизни мы общались еще меньше. А во-вторых, многим из ныне живущих моих приятелей я не уделяю и половины внимания, доставшегося Алику Zero.
Итак, она звалась…
– Светлана, не так ли?
С таким вопросом обратился я к незнакомке, стараясь не поддаваться чарам духов, уклоняться от них, что на расстоянии, сближающем людей, было совсем не просто.
– Совершенно верно.
– У меня хорошая память на голоса, лица и еще, пожалуй, на дурацкие идеи. Да, и на приличные духи. Ваши духи я не забуду никогда.
– А на что же плохая?
Если правильно вести разговор, то женщина непременно задаст вам тот вопрос, который вы и хотите услышать; при этом ей самой ее вопрос покажется очень неожиданным и оригинальным. Ставящим мужчину если не в тупик, то в положение весьма щекотливое. А что может быть для женщины более приятным, нежели поставить мужчину в щекотливое положение? С умным собеседником женщина всегда довольна сама собой.
– Плохая? На печальный любовный опыт, например. Как-то быстро забывается. На гнусную погоду…
– А счастливый любовный опыт вы помните?
– Да, но это не делает честь моей памяти. Это было один раз. Давно. Это и опытом-то назвать сложно: он мне так и не пригодился.
– Вы не верите в любовь?
Похороны определенно начинали мне нравиться. Вовремя умереть – тоже, знаете ли, большое искусство.
– Верю, конечно. Я не верю в то, что мне это поможет…
Если вы сказали, что верите в любовь, дальше можете говорить все что угодно: женщина не обратит на это никакого внимания. Но если вы признались, что не верите в любовь, разговор теряет смысл.
– Вы чем-то удивительно напоминаете Алика. Вы его действительно не знали?
– Алика Zero? Действительно не знал.
– Как вы сказали? Козерог? Откуда вы об этом знаете?
– О чем именно, Светлана? Я столько всего знаю…
– О Козероге. Алик так называл сам себя. Козерог – была, так сказать, его подпольная кличка, о которой мало кто знал. Но вот вы – знали о ней, вы были его другом. А теперь зачем-то отрицаете, что были. Это не очень порядочно, чтобы не сказать, что сильно напоминает предательство.
– Мне очень жаль, но я его не знал.
– Вот и Алик, бывало, отрицал очевидное. Упрется, как козерог, и ничем его не прошибешь. Говорю вам: вы с ним страшно похожи.
– Виноват, я еще жив в отличие от Алика Zero. Я даже чувствую, что мне зябко и мокро, несмотря на теплоту вашего тела…
Искусно сменить тему – значит, сделать женщине комплимент; комплимент же – это процентов на 80 внимание, оказанное женскому телу. Вот тут менять тему не рекомендую. Невнятный комплимент – это гораздо хуже, чем не доведенная до конца любовная игра, чем даже неоконченный роман.
Она не отстранилась; напротив, едва уловимо прильнула ко мне. Все приключения на свете начинаются с интереса женщины к мужчине. Да здравствуют похороны!
– Что вы сказали о моем теле?
– Я сказал, что оно теплое, и не успел сказать о…
– Окажите мне одну услугу, – перебила меня дама, демонстрируя скромность, так украшающую всякую броскую женщину, особенно вдову. А на похоронах каждая вторая женщина выглядит как вдова.
Ее голос обнажал и тут же попытался скрыть симпатию ко мне. Какая тонкая игра!
– Одну я уже оказал.
– Я это оценила. Вы пришли сюда. Спасибо.
Я кивнул, собрав воедино все свои светские навыки и упустив из виду, что она едва ли увидит мой сдержанный кивок, будучи на полголовы ниже меня. Обожаю, когда женщина ниже на полголовы, младше на много лет и при этом ставит тебя в щекотливое положение. Собственно, это и есть сбывающаяся мечта.
– Окажите еще одну. Или две услуги в один день для вас непосильное благодеяние?
– Вы будете моей должницей. Две услуги подряд – это мой рекорд.
– С удовольствием буду вашей должницей.
Она сказала «с удовольствием». На мой нынешний вкус – чересчур откровенно. Я с удовольствием сделал вид, что не обратил на это внимания.
– О какой услуге на сей раз идет речь?
Мы подошли к автобусу (ах, все хорошее когда-нибудь кончается), который должен был везти собравшихся на кладбище.
– Обещайте, что для всех его друзей, пришедших сюда, вы будете тем самым загадочным другом Алика.
– Могу я спросить: зачем?
– Можете, конечно. Но лучше не спрашивайте.
– Это будет уже третья услуга. Таким безвольным я не был со времен моей счастливой любви.
Моя леди выскользнула из-под укрытия и растворилась в траурной толпе, отливавшей мокрым блеском черных тугих зонтов.
Нет, на этот раз описать ее мне не удастся. Я ее толком даже не разглядел. Правда, в памяти сохранилось так любимое мною длинное платье, скрывающее все, кроме самого главного (прямолинейные мужчины называют это «подчеркнуть достоинства»; решительно с ними не согласен; считаю, что в подобных случаях уместнее говорить о таинственном исчезновении недостатков), да еще мое беглое, но категорически благосклонное впечатление.
Но кого интересуют впечатления случайно попавшего на похороны человека, которые случайно оказались похоронами его лучшего друга?
Опишу Светлану в следующий раз, в обстоятельствах более подобающих столь несуетливому занятию.
Она этого достойна.
5
Начало поминального застолья приятно удивило изобилием и качеством блюд.
Напрашивался вопрос: если покойник и сам был не чужд всего этого, бренного, то зачем было так скоропостижно зарываться в гвоздики?
Впрочем, вопросов было много; но об одних не хотелось думать за столом, сервированным до неприличия прилично, а другие задать было просто некому, ибо Светлана предусмотрительно поместила меня в оболочку из тел, составлявших костяк какой-то полуродственной бригады, которая оказалась по разные концы стола с друзьями. Собственно, изолировала меня с неизвестно какой целью. Я, друг, оказался среди родственников. Мною играли и открыто манипулировали. Это вызвало у меня чувство протеста. Я не стану описывать Светлану сейчас, хотя еще мгновение назад собирался это сделать не без удовольствия. Иногда я люблю позволить себе невинную месть.
Мой сосед справа, не обращавший на меня никакого внимания, пожилой бодрячок-добрячок, заляпанный серебристой эспаньолкой, которую хотелось просто стереть с его холеного лица накрахмаленной салфеткой, нацелился было на фаршированную рыбу, соблазнительно развалившуюся всего в двух локтях от него, как вдруг, различив внятный только ему повелительный женский призыв, съежился и суетливо выпорхнул из-за стола. Его место немедленно и, судя по взглядам, нарушая всякую субординацию, заняла девушка, чем-то похожая на его дочь. Резвая и молодая. На ее грудь нельзя было не обратить внимания. Вы бы сначала посмотрели на ее грудь, и только потом – на лицо: оно было второстепенным. Но рано или поздно вы бы все равно обратили внимание на лицо: его черты были милыми и как бы слегка бесформенными, как у всякой пышноватой блондинки. Размытый носик, пухленькие губки, светлые глаза. Одно слово: блондинка.
Ах, да, локоны льняные, чуть не забыл про локоны.
Между тем печальным колоколом прозвучал первый тост. Я пригубил рюмку и взял в руки прибор: обилие острых закусок, маринадов и разносолов делало простую операцию – заесть что-нибудь под водочку – приятной проблемой. Едва я успел сделать мстительный по отношению к бодрячку выпад, а именно: огрести себе на тарелку приличный кусок фаршированной рыбы, как надо мной раздался милый гром среди ясного неба. Голос был грудным, прошу заметить:
– Что вы ненавидите больше всего на свете?
Вопрос поставил меня в тупик. Я опешил и со стуком опустил вилку на край большого фарфорового блюда. Все вокруг дружно жевали, блюдя при этом содержательную тишину. Непосвященный мог подумать, что все готовились к переживаниям или отходили от них. Я покосился на грудь.
– К сожалению, я не испытываю ненависти ни к чему на свете. Даже к любви.
– Вам на все наплевать?
– Нет, к сожалению. На все наплевать – это единственная привилегия покойника. Есть вещи, которые я терпеть не могу, но так, чтобы относиться с ненавистью… По-моему, это по-детски. Кстати, дети меня утомляют. Я их с трудом выношу.
– Понятно. В вас течет жидкая кровь. Чтобы ненавидеть, надо быть бешеным. Надо, чтобы кровь кипела.
– Пожалуй. Но сначала надо быть глупым.
– Вам не понять. Я вот ненавижу всех, здесь сидящих. Это приличные люди.
Я пожал плечом и превратился в одного из всех: аккуратно отрезал кусок чудной отбивной, прожаренной и сочной, и отправил в рот, сдобрив изрядной порцией веселенького кетчупа. Я намерен был жевать это минимум минуты три, до тех пор, пока обо мне забудут и от меня отстанут.
– Хотите, я расскажу вам историю, связанную с Аликом?
Я кивнул (после паузы). Пожалуй, огненного кетчупа я перебрал. А история об Алике – нужна ли она мне?
Я бы предпочел, чтобы он остался в моей памяти грустным и загадочным эмоциональным пятном. С другой стороны, девушка с бюстом ведь расскажет мне историю не об Алике, а о себе. Зачем, как вы думаете?
Затем, чтобы понравиться. Уважающие себя дамы по другому поводу и пальцем не шевельнут. Я еще в жизни не видел дев, которые раскрывали бы свой милый ротик перед сидящим напротив мужчиной с какой-то иной целью. И я был не прочь дать ей шанс.
В каком-то смысле я был заинтригован историей об Алике.
6
В этот момент подоспел очередной поминальный тост. Моя соседка поднялась, оправила платье, подчеркивая и без того привлекательную грудь, и решительно представила себе слово.
– Меня зовут Оля. Я была последней гражданской женой Алика.
Повисло долгое гробовое молчание, неприличное даже за поминальным столом; оно было явно направлено против Оли. При этом, казалось, неловкость испытывали все, кроме Оли.
– У меня из головы не выходит один случай. Я вам сейчас его расскажу. Он простой, пустяковый, но тем, кто знал и любил Алика, случай этот скажет о многом.
Тишина изменила свой характер. Жанр воспоминаний за таким столом всегда к месту. Главное сейчас, чтобы воспоминания были, так сказать, правильными, уместными.
– Как-то раз мы поехали с ним по делам, на его машине. В городе с парковкой сложно, все забито, особенно в центре. «Машины скоро съедят нас»: это была любимая поговорка Алика. Мы подкатили к офису, собирались уже заворачивать на парковочную площадку, но путь нам преградила брошенная посреди дороги дорогая иномарка. Не «Мерседес», что-то покруче и позаковыристее. Кажется, «Лексус». Внедорожник. Джип, как мы его называем. Сначала мы даже не поняли в чем дело. Машина была буквально брошена, небрежно забыта или поставлена так специально. Либо случилось чрезвычайное что-то, либо… В любом случае что-то чрезвычайное.
Ни проехать, ни выехать, и хозяина нигде не видно. Вполне можно было поставить машину в сторону и не создавать проблем другим. Но мало ли что могло случиться, вот мы сидели и ждали. Сзади уже собралась очередь, кто-то нервно сигналил.
Вдруг я смотрю – Алик изменился в лице, словно увидел что-то страшное. Позеленел. Проследила за его взглядом – и вижу картину: в скверике, неподалеку от нас, ходит и собирает опавшие листья кленов очаровательная семейка: он, она и маленькая их дочурка. Листья крепкие, желто-красные, словно глянцевые, были зажаты в руке малышки радостным букетом. Как-то сразу стало ясно, что машина намеренно поставлена посреди дороги. А причина – чрезвычайная наглость и патологический эгоизм.
Я понимаю еще наглость, так сказать, королевского происхождения, этакую царскую близорукость: он не хотел никого обидеть, он просто не привык замечать проблем других. Но тут была рассчитанная, спланированная наглость, наглость раба, лакея, позавчера только выбившегося в люди.
А наглость зарвавшегося лакея – это нечто в высшей степени гнусное. Низкая и подленькая душонка сотворит из ничего что-нибудь изумительное паскудное. Этот родной нам способ самоутверждения… Заставить всех ждать просто потому, что тебе, якобы, пришла охота потоптать листики. Свой каприз поставить выше всего прочего – для того только, чтобы все увидели, как роскошно ты можешь позволить себе покапризничать. Чувство достоинства понять как безнаказанную возможность унизить всех… Господа лакеи… Они всегда поймут друг друга. По лакейским правилам он был прав: сила ведь на его стороне. Поэтому никто даже внятно не возмутился. Скорее, все любовались, потому что завидовали.
Алик вышел из машины с трясущимися губами, бледным лицом и молча подошел к дорогой машине дешевого пижона. Тот изобразил бег на месте: дескать, спешу и падаю, чтобы уступить вам дорогу, ваше сиятельство. Потом действительно перешел на рысь и, подбегая, поднял руки вверх. Это он так извинялся. Алик что-то сказал ему. Тот, не поднимая глаз, запихал своих девушек в кожаный салон и резко газанул в сторону. Букет из листиков мусором рассыпался на дороге.
Алик припарковал свою машину вплотную к «Лексусу», заблокировав его выезд, и мы пошли по делам. Когда мы вернулись, возле джипа мельтешили люди в милицейской форме. Нашей машины не было. У Алика отобрали права. На него обрушилась куча неприятностей.
Но дело не в водительских правах, разумеется. Ему в очередной раз показали: в этом мире тебе не позволят сохранить достоинство. Все начальники – лакеи, а все лакеи хотят быть начальниками. Тебе навяжут сражение по любому пустяку все эти «приличные люди», и ты проиграешь. Выиграть у них можно тогда, когда ты станешь одним из них, потому что правила игры сделаны по лакейскому кодексу. Алик проиграл. Хотя, по-моему, он выиграл, потому что не стал одним из них.
Оля помолчала несколько секунд, обозначая окончание речи, и после этого выпила.
По-моему, кроме меня, ее никто не поддержал.
– Вот в ком кипела кровь, – сказал я. – Любое сравнение с Аликом будет не в мою пользу, Не сравнивайте меня с ним, пожалуйста. Пощадите мое достоинство. Хотя, говорят, в постели я вовсе не плох. Многие верные мужья, по слухам, мне уступали.
Оля даже бровью не повела. Но когда все с преувеличенным вниманием слушали очередного оратора, ее рука оказалась на моей ширинке. Мне пришлось накрыть ее белоснежной полотняной салфеткой. Кажется, я не разочаровал соседку. Мне было чем ответить на вызов, брошенный ее грудью.
Это маленькое происшествие слегка сгладило неприятное впечатление от прощания с моим достойным другом.
8
Вскоре Оля ушла, оставив на бумажной салфетке номер своего телефона.
Я спрятал его в карман и стал искать глазами Светлану. Ее нигде не было.
Между тем стол начал оживленно гудеть: поминки близились к кульминации. Живые позволяли себе быть живыми все больше и больше. Даже я с тоской взглядывал на свою полотняную салфетку, забыто-заброшенно свернувшуюся у меня на брюках.
Мое наслаждение двусмысленной ситуацией было прервано с большим тактом. Ко мне подошла Светлана, положила руку на плечо (а я, разумеется, вцепился в салфетку), и дождалась, чтобы приличный шумок стих. Все смотрели на нас.
Она негромко, однако же веско, на правах старой знакомой, представила меня как сокровенного друга усопшего, который (я, а не усопший), к сожалению, в силу целого ряда причин и обстоятельств (она со знанием дела напустила туману) не знаком с присутствующими здесь искренними друзьями Алика. Конечно, рано или поздно господин N., то есть я, был бы представлен; получилось, что поздно. Однако лучше поздно, чем никогда. Память друзей – вот лучший памятник Алику. Итак…
Я солидно плеснул себе в рюмку, медленно поднялся, сделавшись центром внимания. Светлана стояла рядом со мной. Я не должен был подвести своего друга (в своих же собственных интересах).
– Мне трудно говорить, – начал я.
И я не врал. Мне действительно трудно было говорить: неизвестно с кем и неизвестно о чем. Вдохновляло разве лишь то, что четвертая подряд услуга Светлане могла дорого обойтись ей: это обстоятельство позволяло мне комфортно чувствовать себя в качестве кредитора, этакого наглого молодчика в черных очках, уверенного в своем праве казнить или миловать должника, или даже распоряжаться его, в данном случае, ее, жизнью.
– В одном моем романе, – начал я, отчаянно цепляясь за смутную мысль, – есть такой эпизод…
И я, импровизируя, рассказал всем присутствующим эпизод, переврав, как потом выяснилось, добрую половину. Что ж: я не обязан помнить то, что когда-то родилось в моем воображении, – вспыхнуло, расцвело и погасло. Что-то из вспыхнувшего удалось зафиксировать, в результате появился роман; а что-то зафиксировать не удалось, и оно бесследно исчезло. (А что-то, робко признаюсь, мне приходится вычеркивать: мое ощущение и понимание свободы может шокировать читателей.) Мне всегда жаль вот этих эфемерно улетучивающихся картин, которые кажутся мне лучшим из того, что я мог бы написать.
Так случилось и в этот раз: я что-то выдумал, а они плакали. Героем эпизода был главный персонаж романа, благородно спасший пегую собаку, рискуя собственной жизнью. Мне показалось, что Алик вполне был способен на такую глупость. Правда, следующий за этим эпизод, в котором мой герой честно обвинил себя в лжегеройстве и выгнал несчастного пса на улицу, я от публики утаил: для того, чтобы сделать из человека героя, надо обходиться полуправдой. Из правды не только героя, даже сколько-нибудь приличного человека вылепить не удается, уж не знаю почему. Правда и герой – загадочно не совмещаются.
Алик предстал в моем спиче трогательным любителем жизни, которого, разумеется, трудно представить себе ушедшим из этой самой дорогой для него жизни. Мне кажется, они едва сдерживали аплодисменты: на их глазах искусство счастливо слилось с выдуманной жизнью, что, по их понятиям, и является целью и критерием всякого благородного искусства, а по моим – происходить не должно, ибо слияние искусства с невыдуманной жизнью ведет к превращению жизни в искусство – ведет к тяжкой работе, неожиданным смыслом которой является смерть. Для них высокое искусство несовместимо с правдой (высокое – значит оторванное от земли и приближенное к мечте); для меня – великое искусство замешано на правде, и высокое оно потому, что им, сидящим за этим столом, до него не дотянуться.
Итак, я нарисовал образ человека, который настолько любил и ценил жизнь, что ему неловко было думать о своей жизни, когда опасности подвергалась жизнь чужая – человеческая или собачья, неважно. Такое качество человека называется благородство, и его особенно приятно оплакивать, потому что в жизни его не бывает. Только в высоком искусстве. А если бывает – тем более. Нет ничего приятнее и возвышеннее, чем хоронить героев. Очищает и просветляет душу.
– Из какого романа это эпизод? – заплаканным голосом спросила жена бодрячка, украшенного по недоразумению не рогами, а серебристой эспаньолкой.
– Роман называется «Женщина, которая любила ночь», мадам.
По залу прокатился сдержанный вздох, грозящий превратить поминальную вечерю в читательскую конференцию. Умерший и выдуманный герои стали уже сливаться в одно целое.
Светлана, приложив розовый платок к глазам, свежо орошенным подлинными слезами, вновь добилась тишины лишь тем, что встала (я, разумеется, сел).
Этому мероприятию, которому не доставало искренности и горя, но где было много слез и светлой печали, вновь было указано должное направление. Кто-то заговорил угодливым тенорком (это был бодрячок в эспаньолке, дядя безвременно отошедшего, – дядя самых честных правил, само собой), многие достали уже помятые платки. Все это начало смахивать на турнир: кто разжалобит публику больше, чем я.
Быть же хотя бы отчасти виновником торжества вовсе не входило в мои планы.
9
Перспектива лицом к лицу встретиться с друзьями Алика Zero, среди которых должен находиться скорбящий Леха Бусел, меня не прельщала настолько, что я позволил себе отвлечь внимание Светланы от речи убитого горем оратора-дилетанта, или, лучше сказать, привлечь ее внимание к себе.
– Я оказал вам четвертую услугу, которую по моим меркам я расцениваю как подвиг, – скромно сообщил я.
Она повернула ко мне лицо со скупыми следами макияжа, прикрыв его платком так, что со стороны могло показаться, что слушает она не меня, а говорящую эспаньолку.
– Чего вы хотите? – спросила она совершено невыразительным голосом, как нельзя кстати соответствующего выразительности вопроса.
– Даже если за каждую оказанную услугу я назначу один поцелуй, нам понадобится полночи, чтобы расквитаться.
– Что ж, вы вправе этого требовать, – сказала она, прислушиваясь, якобы, к эспаньолке, которая пустилась в воспоминания. Прощаться с человеком, который когда-то был ребенком, вдвойне трогательно. Я недооценил способностей оратора. – Но вы ведь не знаете, кто я такая.
Я понял, что меня хотят смутить и огорошить. От меня требовалось, очевидно, быть смущенным – хотя бы приличия ради.
– Кто же вы? – спросил я не без любопытства, успев заметить, что среди колец на ее пальцах отсутствует обручальное – то самое, которое делает женщину неприступной в собственных глазах, но очень, очень привлекательной.
– Я его бывшая жена, – сказала Светлана, подготовив ответ глубокой паузой.
– Предпоследняя гражданская? – уточнил я.
– Это спорный вопрос, – лукаво просияли глаза. – Будете настаивать на поцелуях?
– О, донна Светлана, я не смею. Я не должен. Но, боюсь, я не в силах противиться искушению.
Церемониальные условности вновь отвлекли от меня жену моего загадочного друга (воспоминания дядюшки иссякли в самый неподходящий момент; дядюшкам, по моему разумению, надо чаще и больше общаться с племенниками, тогда будет что вспомнить в нужное время в нужном месте), которая жестами распорядилась о чем-то.
– Вы нахал, – сказала внимательная вдова.
– Не то слово, – трагически сознался я.
– Вы уже знаете, отчего умер Алик?
– Я полагаю, что он умер естественной и ненасильственной смертью, чего и нам желаю, – выразил я убежденную веру в порядок вещей и в некоторую склонность к гуманизму близких усопшего.
– Конечно, естественной. Он совершил самоубийство. Только вот зачем он это сделал? – загадка. Кстати, официальная версия – сердечная недостаточность. Вы меня понимаете?
– Не уверен, что во всем.
– Он умер от сердечной недостаточности. У него было слабое сердце. Он не был таким бессердечным, как вы. Понимаете? Про самоубийство я вам ничего не говорила.
– Понимаю. Прошу прощения за то, что некстати влез со своими поцелуями.
– А вот это зря. Извинения не принимаются. Немного некстати, конечно, но по существу. Я на вас не сержусь. Напротив.
– А я вот собой недоволен. Скажите… А как именно совершил он, гм-гм, само-убийство?
– Я же сказала: у него было слабое сердце.
Гнусный ответ в моем стиле. За такой ответ иногда хочется убить.
И я, самым бескорыстным образом не интересуясь завещанным мне пакетом, по-английски покинул вечерю, все больше напоминавшую русскую вечеринку, по-татарски при этом хлопнув дверью.
Что вы хотите: я действительно был недоволен собой.
10
Следующий день выдался редким для ноября – ясным, с низко висящим ярким солнцем, днем, который быстро закончился холодным закатом теплого цвета. Осталась узкая оранжево-лимонная полоса, переходящая в нежный аквамарин и, далее, в широкий голубой след, который сливался с безграничной тревожной синью. Небо, как и все на свете, состояло из оттенков. Кроме того, небо, состоявшее из лоскутов, тяготело к гармонии. Телевидению не хватает неба. Почему оно так редко попадает на голубой экран?
Когда отсветы заката истаяли (чему я был прилежный свидетель), раздался телефонный звонок. Нисколько не сомневаясь в том, что сейчас услышу голос Светланы, я придал своим ветшающим тембрам подчеркнутую сдержанность и светскую отстраненность.
Обратившись ко мне по имени-отчеству, она поинтересовалась, когда я смог бы забрать предназначенный мне конверт.
– Сегодня вечером, – ответил я чарующим баритоном.
– Тогда приезжайте, – предложила она. – Я у вас в большом долгу.
– У вас прекрасная память.
– Я помню то, что мне приятно помнить; но то, что мне хотелось бы забыть, я никогда не забываю. Никогда.
– Я это запомню.
– Вот и прекрасно. Приезжайте.
Меня охватила радость совершенно особого свойства. Я радовался оттого, что еще способен радоваться, если вы меня понимаете. А если нет – и не надо. Всю жизнь я как-то обходился без чьего бы то ни было понимания и дотянул, как видите, до сорока девяти. А вот дальше…
Суета сует как способ жизнедеятельности меня не очень интересовал, все остальное выглядело несовременным. Тебе сорок три, почти сорок четыре (в апреле), а твое время ушло. Да и было ли оно когда-нибудь?
У меня появилось хобби: я старался радовать себя. Сначала я быстро втянулся в это нехитрое, как мне казалось, дело, но очень скоро выяснилось, что это не хобби, а смертельная игра. Радости в жизни мало. Понимаете? Нет?
Я обращаюсь к вам как к зеркалу, которое, по идее, должно отражать объект без особых искажений. Подойдите к зеркалу – и оно вас отразит. Худо или бедно – себя вы узнаете, верно ведь? А теперь представьте себе, что мне необходимо зеркало, которое адекватно отражало происходящие во мне процессы. Я не требую, чтобы мой космос понравился всем и не приглашаю туда в гости. Боже упаси: наследите, разведете бардак, как полагается. Но мой космос, если он существует, должен отражаться как реальный объект. Мне необходимо всего лишь зеркало. Нет зеркала – нет космоса. Понимаете? Это уже не каприз, а вопрос жизни и смерти, как любят говорить тогда, когда речь идет именно о капризе. Не отбрасывать тени, не отражаться – значит, не существовать. А я существую, следовательно, должен радоваться жизни. И я цеплялся за радость из последних сил. Почему?
Смотрите. Подношу зеркало к своей душе. Буду великодушным.
Мне порой кажется, что я вижу насквозь и себя, и других; я испытываю ощущение, будто я настолько разбираюсь в законах жизни, – в мельчайших движениях души, оттенках мысли, противоречивых мотивах поведения, – что могу все на свете разложить на молекулы и вновь воссоздать в прежнем виде. Все эти вольные или невольные человеческие самообманы, самоуспокоения, ложные отчаяния, наслаждение горем, страшные радости и беззащитность мудрости – все мне ведомо, ничто не тайна. Добро бы я верил в какие-нибудь потусторонние силы, чудеса или что-нибудь непостижимое, так ведь нет: свое понимание я вынужден приписывать исключительно собственным заслугам.
Я вижу человека насквозь, поэтому перестал его уважать. Мне иногда кажется, что еще немного – и я увижу микробов в воздухе, и даже разгляжу микроволоски на их мохнатых лапках. Боюсь только одного: что совершенно перестану испытывать удовольствие от своего тотального понимания, которое делает меня одиноким королем без королевства, – королем, дух которого не улавливается, не отражается системой человеческих зеркал. И я наслаждаюсь этим страхом, этим чувством удивительного происхождения. Люблю и презираю себя – со всеми бесконечными нюансами.
Таков мой ответ суете.
И это чувство чемпиона среди человеков делает меня в чем-то не человеком, едва ли не выводит за рамки человеческого измерения.
В конце концов, я стал становиться себе в тягость. Если бы я считал себя глупым или немного сумасшедшим – я был бы, кажется, счастлив. Но я чувствовал себя абсолютно нормальным и понимал, что так оно и есть.
Утешало одно. Именно предельная ясность более всего способствует запутыванию жизни. Появляется хоть какая-то интрига. Должна появиться, если я что-то понимаю…
В тот вечер, когда я получил телеграмму, я готов был поверить, что она слетела с небес (тут же презирая себя за эту, такую естественную в моем положении, слабость). Светлана и эти нелепые похороны внесли в мою жизнь хоть какое-то подобие интриги. Судите сами: мог ли я не поехать к Светлане?
И вот теперь я убираю зеркало, отражающее зигзаги пещер, которые пронизывают плоть чудовища psyche, и срочно еду к Светлане. Кстати, это и в ваших же интересах. Долго смотреть на отражение нельзя: завораживает и испепеляет. А меня вгоняет в смертельную тоску.
Мое великодушие, как водится, наполовину состояло из чувства самосохранения.
Итак, к Светлане.
11
Вдова выглядела потрясающе. Порой кажется, что каждой женщине просто необходимо стать вдовой, для того, чтобы порадовать нас своей второй молодостью. Вторая, зрелая, молодость ценится женщиной значительно выше, нежели легкомысленная первая. А ведь первый муж помнит только первую молодость. Вторую он просто не замечает. Вот почему вдова – это праздник со слезами на глазах.
Зеленоватого оттенка платье, уже не столь длинное, но столь же облегающее, необыкновенно шло к ней. Судя по тому, что облик был решен с помощью минимума украшений, и царила буквально аскеза (два бриллиантика в смуглых ушках, не считая дюжины колец, а вместо ожерелья на шею был наброшен тончайший шарф), вы имели дело с дамой в трауре. Заставить темные тона освежить ваш облик, выжать из темной гаммы свет – значит, получать большую радость… от чего?
Это мне предстояло сейчас выяснить.
Описывать наряд женщины – значит, описывать ее вкус и ее представление о себе. Прочитать это послание, адресованное мужчине, – очень важно для того, чтобы сразить ее потом комплиментом, то есть озвучить то, что она думает о себе. (Именно поэтому, кстати, лучше всего приводить дам в чувство комплиментами: они, услышав смутно знакомое, произнесенное, к тому же, мужским голосом, сразу понимают, о чем речь, и практически мгновенно возвращаются к жизни.)
Описать обнаженную женщину – значит продемонстрировать свой вкус. Пришло время описать Светлану без прикрас. Ее тело было ухоженным. Она была полноватой, но и это шло к ней. Хорошая фигура, ноги чуть «столбиком», пухловатые в коленках. Я без спешки (торопливость – враг удовольствия) ласкал взглядом (а она внимательно следила за моими глазами) гладкое тело женщины, отмеченное очаровательными признаками первого увядания: складочки, морщинки, не та уже свежесть, но еще отнюдь не дряблость. Дама переходного возраста. И все это по-своему возбуждало. Очевидно, она удовлетворена была произведенным впечатлением, поэтому позволила себе закрыть глаза и предоставить себя в полное мое распоряжение, не забыв при этом целомудренно сомкнуть бедра. И это шло к ней. Я люблю разводить бедра, испытывая легкое сопротивление: так целомудрие становится источником разврата. Восхитительно заросший темным волосом лобок в сочетании с выбритыми подмышками – это как специально для меня. Я успел перевернуть ее раза два, мягко целуя в шею, обвевая трепещущим дыханием и непрерывно поглаживая, а у нее уже грудь ходила ходуном и щеки покрылись горячим румянцем. Не сомневаюсь: она любила наслаждения и оценила мою неторопливость – кратчайший путь к успеху в постели (с известного рода женщинами).
Покажи мне, как ведет себя распаленная женщина, и я скажу, кто она. Светлана ни на секунду не забывала обо мне: верный признак не только хорошего тона, но и эгоизма. Мы с ней уверенно взбирались на вершину, все выше и выше, а потом еще выше, выше того, что нам хотелось, выше наших возможностей, и это было покорение вершины в прекрасном стиле. Без репетиций и тренировок подобное редко удается с первого раза. Уже хотелось думать, что мы рождены друг для друга.
После того, как мы плавно спустились к подножию (я заботливо и неустанно ассистировал), она улыбалась и нежно льнула ко мне – верный признак того, что не прочь назначить меня своим повелителем.
Ей и в голову не приходило, что повелевать – скучно.
12
Утро, последовавшее за долгой и бурной ночью, было совершенно непохоже на предыдущее. Мир был окутан мутными небесами, откуда густо валил мокрый снег. Вдруг раздался гром. Я ближе подошел к окну. На моих глазах свершилось редкое природное явление: бледно-желтое лезвие молнии пронзило рыхлую снежную муть, и раскаты грома вновь потрясли округу. Ничего не скажешь: славное начало зимы.
Под такой гром я и вскрыл адресованный мне конверт.
Не думаю, что нужны какие-то предисловия. Читатель все поймет сам. Вот аккуратная стопка бумаги, которую я там обнаружил, – в определенном порядке, бережно зафиксированную скрепками. Все начиналось с пустячка, с небрежного письмеца, отосланного старому приятелю.
«Дорогой N. (указано мое имя и отчество)! Вы ведь были на моих похоронах, не правда ли? Почти не сомневаюсь, что почтили их своим присутствием; во всяком случае, был бы жив – не удивился: это вполне в Вашем духе. Нездоровая склонность к здоровому авантюризму, и все такое. Я бы на Вашем месте так и поступил. Не буду спрашивать, понравилось ли Вам: ответа я уже не услышу, да это и бестактно. Надеюсь, что было забавно. Мой дядя самых лучших правил (извините за поверхностную ассоциацию: трудно удержаться, раз взглянув на него, думаю, Вы со мной согласитесь) – редкой занудливости типаж; наверняка он рассказал, как видел меня в детстве, лазающим, словно Маугли, по сливам. Почему-то именно эта картинка врезалась ему в память: больше от ничего не помнит. Не верьте ему: это были вишни (или черешни, я и сам уже точно не помню; но не сливы, за это я ручаюсь). Я уже сто раз его поправлял. Но Вам поистине повезло, если вы не успели познакомиться с тетушкой. Это дюжина дядюшек вместе взятых. Анализируя именно ее поведение, я сделал свое первое маленькое открытие: занудство – это форма эгоизма. Правда, Светлана утверждает, что зануда – это мужчина, с которым легче переспать, чем объяснить ему, что ты этого не хочешь. Думаю, моя формула менее остроумна, но более приближена к сути. Вот так всегда в жизни: чем больше истины – тем меньше блеска. Обидно, если разобраться.
Если Вы все же соблаговолите пообщаться со мной, то сразу хотел бы объяснить, почему я выбрал Вас в друзья, без Вашего ведома и согласия. Все просто: ответ ищите в Вашем скандально гениальном романе «Женщина, которая любила ночь».
Я считаю себя человеком нормальным, однако роман Ваш произвел на меня ненормальное впечатление: я до сих пор не могу отделаться от ощущения, что написал его я, будучи господином N. Извините за эту чушь, мне уже нет смысла говорить неправду. Меня уже практически нет. Хотя я и так всю жизнь, как без пяти минут покойник, никогда не врал.
Ваш роман – это мой взгляд на мир, это мои чувства и мысли. Доходило до мистики. Помните сцену в заброшенном парке? Незнакомец угадал не только слова Вашего героя, но и мои. Да, да, я был в том парке (еще до прочтения романа) и подумал именно так, слово в слово. Даже произнес это вслух.
И вдруг читаю это в Вашем романе. Согласитесь: нормальным остаться после этого довольно сложно.
И я заболел. Я заболел Вами, Вашим романом, Вашим (нашим!) мироощущением. Тем, что появился человек, который выразил меня до последней клеточки. Вывернул наизнанку. Клянусь, я впервые тогда подумал: теперь мне легко будет умирать, ибо весь я не умру. Я, именно я, был гарантом того, что Ваш восхитительный роман – это постижение сути жизни. Я обрел второе рождение.
С другой стороны, Вы открыли, освободили мне путь к смерти. Не понимаете?
К сожалению, Вы это должны понимать: если сказано самое главное – неизбежно начинается путь к смерти. Увы. Пророку обиднее всего накаркать собственную судьбу; но если он ее не накаркает, то какой же он пророк?
Но не мне вас утешать. Продолжу, ибо я ловлю момент, мне надо торопиться. Куда торопиться, спросите Вы? Зачем? Ох, не спрашивайте.
… И я придумал Вас, сотворил в своем воображении – человека, который меня понимает. Вы, в свою очередь, были гарантом моей нормальности и, если угодно, гениальности. Не удивлюсь, если и Вам нужен такой гарант, извините за самоуверенность. Спешу подставить плечо, пока не поздно. Я правильно понимаю суть проблемы?
Больше никто меня не понимал, никто. Я был безжалостно одинок. Мне не хотелось Вас терять, поэтому я не спешил с вами познакомиться. Кто знает: а вдруг творение Ваше оказалось бы умнее и содержательнее творца? Тогда я оказался бы другом Вашего подсознания. Было бы очень обидно. Я не хотел, нет, не мог позволить себе рискнуть и подойти к Вам. А хотелось, очень хотелось, не скрою…
Постепенно Вы стали частью моей жизни, и терять Вас было бы горькой утратой, а возможно, и непосильной. Я выбрал скромный вариант: лучше пребывать с надеждой иметь друга, чем навсегда остаться одному. Я решил не спешить. Понимаете, это был вопрос жизни и смерти, и я, как человек нормальный, был осторожен.
Надо сказать, Вы меня ни разу не разочаровали. Вы буквально скрасили мою жизнь, наполнили ее такими ощущениями, которые не приобретешь ни за какие сокровища. И ведь без Вас всех этих ощущений бы не было. Ну, кто может понять такое: радоваться тому, что ты способен еще радоваться?! Мне не к кому с этим идти. Только в дурдом. Или к Вам. Для меня большая честь быть Вашим читателем, осознавать, что Вы написали роман, понятный мне одному.
Духовное братство: это стало реальностью для меня. Все мои женщины описаны в Ваших романах. Они говорят и делают именно то, что говорят и делают Ваши героини, а я, тень Вашего героя, переживаю все точно так же, до мельчайших и вкуснейших подробностей.
Кстати сказать, со Светланой Вы уже должны были познакомиться. Не удивлюсь даже, если знакомство зашло гораздо дальше предписанного моралью. Это наш тип, извините за амикашонство; это наши женщины. Но берегитесь ее. Впрочем, Вы и сами это прекрасно понимаете, не сомневаюсь.
Пожалуй, для первого контакта достаточно (чувство меры во всем – я с восторгом разделяю это Ваше качество).
Если я заинтересовал Вас, то моя душа, запечатленная в бумагах, к Вашим услугам. Если нет…
Что ж, это ничего, в сущности, не меняет. Моя жизнь уже состоялась. Спасибо за все. С искренним приветом – Алик, ныне покойный».
Подпись. Дата.
Вы желаете знать мое мнение об этом письме?
Оно меня заинтересовало. Если бы я писал не для Вас, а для себя (впрочем, кто знает, захочу ли я отдать это в печать, для Вас?), то сказал бы так: я читал его со страхом, переходящим в мистический ужас. Я не мог отделаться от ощущения, что я при определенных обстоятельствах (тьфу, тьфу, тьфу!) мог бы написать именно такое письмо. Я смотрелся в зеркало, в котором отражалась такая картина: я подставляю зеркало Алику, утопающему в ворохе гвоздик и внимательно встречающему мой взгляд. Между нами проскакивает бледно-желтая молния. Мне даже показалось, что он подмигнул мне, хотя настаивать на этом не буду. Свет мой, зеркальце, скажи, да всю правду доложи…
Все же как хорошо, что человек иногда может никому не сообщать о своих чувствах. Так спокойнее всем.
Прежде чем разбирать бумаги покойного дальше, я достал с полки свой роман и сразу же (мистику сложно остановить, она, если уж поперла, то лезет изо всех щелей) раскрыл его на той странице, где был описан заброшенный парк. Ну почему именно на этой, на 117 стр.? Почему? Кто-нибудь меня слышит? Ведь никто же не слышит. Зачем же тогда книге раскрываться на сто семнадцатой странице? Чтобы продемонстрировать всесилие случая?
Вот это место, если угодно, в которое я вчитался с некоторым волнением.
13
«Осень для меня началась с беспощадной трезвости.
Я пил уже несколько дней, потеряв счет бутылкам и собутыльникам. Это был черный тягучий запой, который в первой молодости расценивается еще как бесшабашный кутеж. Но я-то чувствовал, что перестал контролировать ситуацию. Я поплыл. «Ну и пусть», – отзывалось внутри безвольным шевелением.
– Пусть, – вторил я, опустив голову.
Что-то не складывалось, и это мучило меня. В подобных случаях запои иногда срабатывают как лекарство (правда, это можно установить только в том случае, если ты выживешь). Дни пролетали, как счастливые годы. Похмеляясь, кажется, вчера утром, я удивлением обнаружил, что лето, которое несколько дней назад было в полном разгаре, уже кончилось.
– Кончилось лето? – спросил я у друзей.
Ответом мне был здоровый мужской рогот.
Сегодня утром я забрел в заброшенный сквер в поисках одиночества. В руках у меня была непочатая бутылка полусладкого вина, впереди беззаботный день и, возможно, длинная жизнь. Мне надо было о чем-то подумать.
Я сидел на ребристой спинке скамейки (ноги на сиденье: глупый молодежный стиль) и щурился навстречу теплому утреннему свету, струившемуся сквозь зеленую листву. Никаких признаков осени обнаружить мне не удавалось.
Наступил момент, когда приятней было уже не держать полновесную бутылку в руке, а не спеша отхлебнуть из нее первый глоток, а если честно, залпом отхватить добрую четверть. И ждать после этого мягкой теплой волны, которая примирила бы с мыслью об осени. И еще о чем-то.
Ах, да, от меня же ушла Ольга. Я действительно забыл об этом, и почему-то обрадовался этому обстоятельству, то есть тому, что мне удалось забыть.
Захотелось поторопить момент, когда я почувствую слегка вяжущую влагу на языке. Я открыл бутылку и приготовился уже поднести ее ко рту, как вдруг увидел на скамейке напротив, через аллею, сидящего на грязном сиденье (не на спинке) просто шикарно одетого мужчину. Не броско, а шикарно, я это оценил сразу. Удивительного заграничного покроя и фасона темная рубашка и белые брюки, которых не купить было в наших магазинах (это было начало 1980-х годов). Я замялся на секунду, а потом аккуратно отхлебнул из своей бутылки небольшой глоток и вытер губы.
Мы сидели напротив друг друга и молчали. Я сделал второй глоток. И тут мужчина, которого я тут же мысленно окрестил «диссидентом», сказал фразу, которая потрясла меня до глубины души. Он сказал, даже не глядя в мою сторону:
– Лето как украли…
Дело было не во фразе; дело в том, что секунду назад я про себя произнес точно такую же фразу с точно такой же интонацией. Слово в слово. Буковка в буковку. Это не была шаблонная фраза, она впервые сложилась в моем мутном мозгу.
Отхлебнув из бутылки, я сказал:
– Да…
Потом отхлебнул еще раз и не вытер губы, а облизал их.
– Давно пьете?
Я хотел честно ответить «неделю», но вовремя спохватился и сказал:
– Давно.
– Тут главное вовремя завязать, – сказал незнакомец. – Если до тридцати лет не бросите пить – пропадете.
Я кивнул и опять приложился к горлышку.
– Студент?
Я кивнул.
– Обычно говорят, что это лучшее время в жизни. Но я не уверен, – сказал «диссидент».
– Я тоже.
– Вы любите ее?
– Очень, – сказал я, ничуть не удивившись.
– Скоро пойдут дожди.
Я, не стесняясь, высоко задрал бутылку. Когда я допил ее, незнакомец был уже в конце парка. Мне показалось, что его белоснежные брюки были совершенно не испачканы.
Вскоре действительно пошли дожди».
14
Меня мучили два ощущения. Первое было связано с только что прочитанным отрывком. Его я расшифровать пока не мог.
Второе кольнуло меня еще во время чтения письма Алика. Оно не забывалось ни на секунду: «берегитесь ее». Я вспоминал Светлану, выражение ее глаз, ее позы, прохладную кожу, и меня ничего особенно не настораживало. Я остерегался ее, конечно, – но ровно настолько, насколько должен остерегаться женщины всякий нормальный мужчина. Не меньше. Но и не больше. Однако я уже настолько верил Алику, настолько чувствовал его, что понимал: просто так «берегись ее» он на ветер не бросит. Что же такое знал покойник, чего еще не знаю я? Может, он навязывал мне соперничество?
С него станется. Мне уже хотелось назло ему не остерегаться ее, а сблизиться еще больше.
В принципе же развитие событий меня полностью устраивало. Вместо скуки и пустоты я получил сразу несколько загадок. Радоваться надо было бы, по идее.
Чтобы еще больше запутать ситуацию и обрадовать себя окончательно, я достал телефон Оли и решительно его набрал. Казалось, она только и ждала моего звонка. Ей надо со мной поговорить, и она готова тут же приехать.
– Да я уж знаю, где ты живешь, не секретничай.
– И где я живу?
Она назвала дом, квартиру и номер телефона.
– Значит, ты быстро найдешь.
– Я буду у тебя через пять минут.
– А можно через пятнадцать?
– У тебя женщина?
Я решил сразу же расставить все точки над «и», как говорится в плохих романах. Там всего-то одна точка, если на то пошло. Кажется, Оля любит решительность и определенность, обожает нападать. Воспользуемся этой ее слабостью и обратим против нее ее же оружие.
– Я живу один. И ни разу не был женат. Если бы у меня была женщина, я бы попросил тебя прийти через час. Но сейчас никого нет. Мне необходимо пятнадцать минут, чтобы встретить тебя так, как мне хотелось бы.
– Конечно. Извини.
Она была у меня ровно через пятнадцать минут.
– Спасибо за историю об Алике, – сказал я, мягко убирая плащ с ее довольно узких плеч. Я демонстрировал полное отсутствие когтей. Только пухлые подушечки на передних лапах. После чего я оглядел ее и продолжил:
– Кажется, я знаю, что ненавижу больше всего на свете.
– Что же? – сказала она, обтягивая плотный свитер.
– Я ненавижу говорить пустые слова, в то время как мне хочется увидеть твою грудь.
– Зачем же говорить?
Она нырнула рукой в мою ширинку, а я немедленно занялся ее грудью.
Есть, есть в жизни вещи, которые не разочаровывают. Это подзабытое ощущение взбодрило меня чрезвычайно. Близко посаженые пышные овалы, предназначенные, казалось, для осторожных ласк, через минуту хотелось уже свирепо терзать. С Олей всякие прелюдии были неуместны, они представлялись даже не напрасной тратой времени, а непониманием женской природы. В данном случае быстрота и натиск становились другом удовольствия. До постели мы так и не добрались, повиснув друг на друге в прихожей.
Поделюсь своим интимным секретом. Приличную часть моей вместительной прихожей занимал встроенный зеркальный шкаф-купе, закрывавший пространство от пола до потолка и придававший прихожей празднично-парадный блеск. Будни – это кухня, а прихожая – праздник. Я развернул Олю, сразу ставшую соблазнительно маленькой, лицом к огромному зеркалу (глаза ее были закрыты). Руками она, словно сомнамбула, оперлась о зеркальную поверхность. Моя красавица быстро расставила ноги и изогнула спину: очаровательная белая пантера задрала хвост.
Если делать это с женщиной перед зеркалом, перед большим зеркалом, раздвигающим пространство, то наслаждение удваивается, а иногда увеличивается многократно – вот в чем половина моего секрета. Возникает впечатление, что это происходит не с тобой, и ты, реальный, одновременно становишься участником виртуальной голографической игры, то есть выпадаешь из реальности. Ты начинаешь обитать в двух измерениях сразу и наслаждаться одним мгновением (одной точкой во времени) по разным правилам игры. Я видел перед собой страстную пару, которая корчилась в любовных судорогах, понимая, что эта сладкая парочка – мы с Олей. Я был внутри ситуации, участник, и одновременно над ней, посторонний зритель и участник уже с другими функциями.
Вы пробовали смотреть себя на видео? Дело в том, что изнутри всегда представляешь себя иначе, чем видишь со стороны. Представлять себя – значит пытаться увидеть со стороны, а смотреть на себя со стороны – значит пытаться убедить себя, что это и есть ты.
Короче говоря, происходит эффект раздваивания личности. Незнакомый мужчина на моих глазах укрощает маленькую белую пантеру – и я, господин N., чувствую ее горячую плоть.
Секс – странная штука. Возбуждение наступает от самых неожиданных вещей. Иногда это запах, даже не букет, а едва уловимый и оттого особенно дразнящий оттенок; иногда милый и трогательный жест – детский рецидив опытной женщины, не подозревающей, что она навсегда в чем-то останется ребенком; иногда развратно содрогающиеся овалы, которые хочется плотно сдвинуть, а потом медленно растащить в стороны. И зеркало возвратит вам ваши воплотившиеся фантазии с удвоенной силой.
Да здравствует зеркало!
Вы думаете, что я вам сейчас о сексе?
Глубоко заблуждаетесь, милейший (ая). Я именно о зеркале (и это вторая половина моего секрета). Я всю жизнь страдал от сакральных качеств этого мерзкого стекла, воздавая при этом хвалу тому, кто выдумал эту сладчайшую казнь. Не стоило труда описывать мое интимное приключение с Олей, да я, собственно, и не его описывал. Я пытался донести до себя (это моя каторга), а значит, и до Вас (а это мое наслаждение, светлая сторона каторги), пытался отразить закон зеркального отражения, делающий человека человеком и в то же время превращающий человека в страдающее существо. Любое темное чувство отражается в зеркале разума, кроится на мелкие кусочки, препарируется – и все искусство остаться человеком заключается в том, чтобы не убить чувство, а сделать его светлым. Странный закон. Если ты живешь только чувствами – ты не вполне человек; но как только ты разобрался с чувствами, отразил их в зеркале разума – ты становишься лишним. Я живу с зеркалом внутри – и чувствую себя выше всех и, вследствие этого, никому не нужным. А может быть, я никому не нужен, и поэтому чувствую себя «выше всех?..
Вот это бесконечное отражение зеркал я действительно ненавижу больше всего на свете (я тогда соврал Оле: было неуместно вдаваться в подробные разъяснения, к тому же я никогда не делаю этого с женщинами; впрочем, с мужчинами тоже). Я начинаю сходить с ума, и мне хочется разбить зеркало вдребезги и как-нибудь ненароком порезаться о криво изогнутые, острые, как бритва, края осколков.
…Я слишком долго смотрелся в зеркало, а этого делать, как уже было сказано, не следует.
Засмотришься в зеркало – увидишь смерть.
15
А согласитесь: смертельное манит. Завораживает. Трудно отойти от края глубокой пропасти, хочется еще и еще взглянуть на серые камни, о которые так легко разбиться и оставить на недолгую память о себе поблескивающие маслянистые пятна теплой крови.
К таким чувствам я зеркала не подношу принципиально.
– Может быть, ты думаешь, что я не любила Алика?
Я с сожалением смотрел, как Оля небрежно упаковывает свои овалы в изящный бюстгальтер алого цвета.
– Если ты переспала со мной, это не значит, что ты не любишь другого, – скучно заметил я.
– Да я не о том. Вы так похожи… У меня такое чувство, что я ему не изменила.
– Все зависит от того, как посмотреть…
У меня не имелось причин ссориться с ней. Было просто грустно.
– Ты неправильно все понимаешь. Я могу спать только с теми мужчинами, которые мне очень нравятся. Которых я люблю. Они сливаются для меня в один облик – тот, который я ищу. Короче говоря, я могу спать только с одним мужчиной.
Не скрою: мне было приятно.
– Вот как, – счел необходимым сказать я.
– Да, вот такое странное чувство, – сказала Оля.
– Можно, я спрошу тебя об Алике?
– Можно.
– Чем он занимался?
– Он был журналистом. Писал под дурацким псевдонимом Жан Бакланов. Добывал сведения о жизни звезд из интернета и рассылал в разные редакции. Неплохо зарабатывал, делал деньги из воздуха, как он говорил. Потешался над публикой, спекулируя на ее потребности творить себе кумира. Особенно его привечали в деловом еженедельнике «Дедал».
– А Светлана?
– У нее завод в Томске. Кирпичный.
– Завод!? Зачем же ей нужен был Жан, то бишь Алик?
– Ей нравятся умные, интеллигентные мужчины. Писателей она просто обожает. Охотно прощает им разные странности. Без закидонов что за писатель? Бизнесвумен должна окружать себя культурными людьми. А если уж совсем просто, то она мечтает родить ребенка от интеллигентного мужчины.
– Почему же она не родила от Алика?
– Она родила. Мальчика. Ребенок отчего-то умер через год. Без видимых причин. Алик сильно переживал.
– И Светлана боялась, что бы родишь от Алика?
– Боялась не то слово.
Оля говорила сухо и без выражения, то есть с выражением подчеркнутого равнодушия. И речи, и манера – все обнаруживало в ней тактичность и ум. Сейчас мне трудно было представить ее в той позе, около зеркала. Это хороший признак, ибо я давно заметил: если женщину трудно представить в постели, значит, ей там самое место. Мне даже неловко было за ней ухаживать, чтобы она, не дай бог, не подумала чего-нибудь такого. Это тоже признак: отношения, если они изволят складываться, будут глубокими, а не поверхностными – то есть именно такими, которых я избегаю. Естественно, я не мог сказать об этом Оле, поэтому молчал, обрекая ее на инициативу – на неблагодарное мужское подвижничество.
– Можно, я скажу тебе то, чего говорить, скорее всего, не следует?
– Мы же с тобой не чужие, – сказал я с оскорбительным отсутствием энтузиазма, но безо всякого намерения оскорбить.
– Думаю, мы именно чужие, хотя… Все равно: я хочу тебя предостеречь.
На мой вкус, это было лишним, хотя бы потому, что не так давно я уже получил одно предостережение, но как повод для поддержания беседы вполне подходило.
– Я весь внимание.
– Ты относишься к этому несерьезно, понимаю, и все же я скажу. Думаю, Светлана проявит к тебе интерес. Я хочу, чтобы ты знал: она со своей сестрой Ритой весьма успешно делили Алика.
– Как это делили? Он же не фунт изюма, однако.
Я был рад, что у меня появился интерес к беседе с человеком, с которым еще недавно мы, как говорится, были близки. Обычно после близости интерес утрачивается безвозвратно.
– Алик поочередно жил с сестрами, и они знали это.
Я задумался, и это было похоже на то, что я завидовал Алику.
– От чего ты меня предостерегаешь?
Она подняла свои глаза, которые (я давно это заметил) меняли цвет в зависимости от освещения. Сейчас они были светло-серыми.
– Я не знаю. Я просто чувствую, что должна тебе это сказать.
– Твои глаза меняют цвет в зависимости от освещения.
– И от настроения тоже.
– Ты удивительная женщина.
Нечего сказать – говори комплимент. Она действительно была удивительной, потому что сразу же уловила фальшь в моем отрепетированном комплименте и одним движением губ, весьма артистично, дала мне понять это. Мы оба рассмеялись, поймав друг друга на игре.
До сих пор не знаю: почему я избегаю глубоких отношений?
16
Мне часто снится один и тот же сон.
Пустыня.
Я иду, иду, в зной, по пыльному бездорожью. Я свободен, и всякая проторенная дорога, то есть определенное направление, ущемляет мое чувство свободы. Я иду по неизвестному пути, потом оборачиваюсь и вижу себя в огромном зеркале, подозрительно напоминающем марево миража, потом опять иду (мне делается все тяжелее и тяжелее: босые ноги вязнут в горячей пыли), оборачиваюсь – и становлюсь все меньше и меньше, превращаясь в маленькую шевелящуюся точку. Зеркало от меня не отдаляется, а я в зеркале уменьшаюсь. Что-то происходит с пространством и временем, но я никак не могу понять, что именно. Я уже превращаюсь в ничто, мне интересно, что будет дальше…
Однако мне ни разу не удалось досмотреть сон до конца. На глазах я превращался в самую маленькую точечку, в пылинку – но знал, что это я, продолжающий брести.
Вот такой скучный сюжет: идешь, свободный, – и все. В пустыне, неизвестно куда и зачем. И при чем тут зеркало?
На сей раз я проснулся в тот момент, когда мое зеркальное отражение было размером с лягушонка, и мне пришло в голову: а почему бы не пойти назад, в сторону зеркала? Ведь во сне я был совершенно свободен. Правда, зеркало, по законам сна, могло оказаться у меня за спиной, но попробовать стоило.
Я взял свой роман, с недавних пор лежащий от моей тахты на расстоянии вытянутой руки, словно горькие пилюли, приносящие облегчение, и раскрыл страницу наугад. С большим интересом я прочитал отрывок, ставший для меня вдруг загадочным.
«Константин Трубач проснулся на нарах, убедился в этом глазами и руками – и облегченно вздохнул. Поселившаяся неделю назад на губах его улыбка словно приклеилась к нему. И сегодня она расцвела с самого утра.
Тюрьма никогда не была пределом мечтаний для Трубача. За плечами – два высших образования (историческое и юридическое), беглый испанский язык, престижная работа, возможно – карьера, благополучная семья (две девочки), образ жизни преуспевающего и вполне успешного, здорового, кстати сказать, человека. Достаток. Внешний лоск. Респектабельность. По нынешним временам – сказка.
К сожалению, у него был друг Николай. К сожалению – умный. К счастью – его не стало…
Долгое время друг был, так сказать, элементом сказочной декорации: дружить с умным человеком, ум которого признают все, не только приятно, но и престижно. Не может же умный дружить с дураком, следовательно…
Странная, однако, вещь, этот неординарный ум: он представляет вещи в каком-то кривом зеркале. То, что все считают за благо, ум выставляет в глупом свете (и ему, этому проклятому уму, нельзя не верить). Ум – это своего рода болезнь: умудряться всегда и во всем видеть оборотную сторону вещей, за которой скрывается еще одна оборотная, и еще, и еще. На четвертой обнаруженной стороне начинаешь себя остро ненавидеть, на пятой – восхищенно аплодируешь себе, а на шестой…
При известной сноровке и безжалостности к себе это может далеко завести.
Рано или поздно в мире не остается ничего святого. Только ум, великий пожиратель иллюзий! Послушаешь Николая и невольно соглашаешься с ним, что юриспруденция – это если не глупость, то во всяком случае кучерявая штучка, не имеющая к уму никакого отношения. Испанский – тоже. Престиж – тоже…
У престижа с умом наиболее напряженные отношения. Есть особого рода престиж: состояться в номинации «философ», то есть специалист по оборотным сторонам вещей. Начинаешь чувствовать себя особым индивидуумом среди коллег, видишь, что умнее их, начинаешь смотреть на них с высоты всех обнаруженных тобой сторон! Жизнь становится невыразимо приятной штукой. Умный человек начинает презирать активные социальные действия (оборотную сторону глупости); а вот лень становится своеобразной формой активности (умственной).
Прелесть! Дуракам не понять.
Слишком поздно Константин Трубач оценил опасность, связанную с умом. Закон земного притяжения срабатывает и в этой «неземной» сфере: чем выше забрался – тем больнее падать (в том, что придется падать, нет никакого сомнения: это тоже закон, плод ума). Проверка на прочность.
Николай неизвестно из каких соображений (скорее всего, не из каких; он просто так жил) подносил к жизни Трубача зеркало, кривое для всех, но идеальное для избранных, в котором постепенно возникали совсем не те отражения, которые бы устраивали Трубача. Другие стороны начинали утомлять и раздражать. А жена Константина, Инна, мечтательная женщина, способная к глубоким переживаниям (которые, как утверждал Николай, и являются показателем ума женщины), внимательно слушала Николая, и с некоторых пор, как стало казаться Трубачу, стала иначе смотреть в сторону мужа.
Константин становился умнее и ждал уже небывалых прорывов, а жизнь его, такая успешная, если смотреть на нее глазами простого парня, стала давать трещину именно тогда, когда «хозяин жизни» значительно поумнел. Он оказался не готов к проблемам умного человека и неожиданно стал завидовать Николаю, рядовому доценту, которого раньше, по большому счету, никогда не принимал всерьез. Зависть стала принимать непредсказуемые и страстные формы. В Трубаче проснулась тщательно и глубоко сокрытая от самого себя ревность. Когда он чувствовал себя чемпионом, ревность дремала. Он бы первый посмеялся, если бы кто-нибудь вздумал считать его ревнивцем. А сейчас…
Уверения жены в том, что он жестоко ошибается, служили прямым доказательством ее виновности. Почва стала уходить из-под ног, мир заходил ходуном. Ум, как ни странно, пробудил в душе какие-то разрушительные силы. Обсуждать это с Николаем не хотелось: надоело чувствовать себя мальчишкой. Хотелось самостоятельно выбраться из высокого тупика.
Вскоре нашлось и противоядие против доводов Николая: водка. Обычная бесцветная жидкость, в изобилии окружающая людей, но обладающая, как выяснилось, чудодейственным эффектом. Стоило выпить – и ревность притуплялась, а Николай представлялся уж не таким несокрушимо умным. Водка убирала нежелательные оборотные стороны вещей.
Трубач быстро освоил искусство казаться трезвым и озабоченным делом, думая, в сущности, только о водке. По неуловимым признакам его «вычислили» и потянулись к нему те, кто «разделял его убеждения» и кого раньше он в упор не замечал; почему-то все они были ниже его по статусу и по должности. Общаясь с «живыми, настоящими людьми», Константин стал уяснять, что жизнь большинства людей состоит из драм, по сравнению с которыми его «трудности» были сущими пустяками. Его положение в жизни внушало «настоящим людям» уважение, и Константин чувствовал среди них свою значимость. Как минимум – нормальность.
Постепенно стали накапливаться проблемы, постепенно они становились неразрешимыми, и только Николай по-прежнему был уверен в своем уме.
– Что мне делать? – спрашивал Трубач, лукаво улыбаясь.
– Бросить пить, – отвечал умник.
– Я не о том. Как мне вернуть все, что было? Ведь не с водки все началось.
– Не с водки. Все началось с твоей слабости. Но сейчас начинать надо с того, чтобы бросить пить водку. Тогда появится шанс вернуть утраченное. А сейчас ты живешь в зазеркалье.
– Я был сильным, я многого достиг. Мне пришлось очень постараться, чтобы все это разрушить. И кое-кто мне в этом здорово помог. Спасибо ему…
– Своей силой ты просто маскировал свою слабость – до поры до времени…
– По-твоему, я был слабаком?
– Ты стал слабаком тогда, когда понял, что в жизни твоей нет смысла. А на смысл ты не работал, тебе было некогда: ты учил испанский и административное право.
– Ты все выдумываешь и врешь!
– Перестань рассуждать и болтать, Константин. А то скоро с работы полетишь. Просто займись делом.
– Ты предлагаешь мне стать одним из тех, над кем всю жизнь смеешься?
– Я предлагаю тебе взглянуть на себя со стороны. Не каждому дано быть мыслителем. Не философ – это еще не смешно.
Именно в такие моменты Николая хотелось убить. Верилось, что именно он виноват во всех бедах, свалившихся на голову Трубача. Он, кто же еще! Это непостижимо: я был слабым, но не знал об этом… Что за бред, господин доцент! Нет, никак нет, у меня была хватка, и только предательство жены…
– Зря ты все валишь на жену. Она чиста перед тобой. Ты сам виноват во всем, ты и больше никто.
Но нашлась уже другая женщина, Людмила, которая искренне считала, что роковой точкой отсчета, с которой у Трубача началась полоса неудач, были именно безобидные вечерние чаепития с Николаем в благополучном и уютном доме Константина. Смеялись, шутили. А в дом вползла черная змея…
Судя по всему, Николай давно положил глаз на жену Кости. Пустые разговоры, скользящие по зигзагам, выкроенным лекалами диалектики (с одной стороны, с другой стороны… тьфу, пакость!), обернулись катастрофой. «Диалектика» – это ведь от лукавого. Это заклятие. Сильная негативная энергетика доцента, отрицательное биополе – вот вам и результат. В сущности, Константина сглазили. Надо бы снять порчу. Только дело это непростое и небыстрое…
Это вам не диалектику «по сторонам» крутить.
Трубач все ждал, когда же у него появятся неоспоримые доказательства виновности жены: казалось, сразу станет легче; но ее хладнокровная осторожность и бдительность выводили из себя. Он всегда оказывался в дураках.
Вдруг оказалось, что в один прекрасный день он лишился работы. Обидно, как ему казалось, из-за глупой случайности. Но больше всего его злило то, что он дал повод Николаю криво улыбнуться. Ходит по земле диалектической поступью и злорадствует, гаденыш.
Теперь ему нужны были доказательства любой ценой: только так он мог вернуть себе самоуважение. И он решил добыть их как настоящий мужчина.
С утра заехал к Людмиле, похмелился, после чего решил внезапно нагрянуть домой. Внезапность ничего не дала: жена мирно собиралась на работу. Давно бы уже вышла, да все никак не могла привести в порядок покрасневшие заплаканные глаза.
Чувства вины, жалости и бессмысленного гнева требовали выхода. Он ударом кулака сбил жену с ног (первый раз в жизни поднял на нее руку!), потом схватил в охапку и запихал в кресло. Она отчаянно сопротивлялась, и стало ясно, что один из них уйдет отсюда навсегда виноватым. Навсегда.
Константин привязал жену к креслу и попросил рассказать, подробно и в деталях, как она развлекается с Николаем, как они потешаются над ее несчастным мужем.
Инна назвала его идиотом. Слабак, идиот…
Он обезумел и стал душить ее, изрыгая проклятия в адрес диалектики.
Пришел в себя только после того, как она потеряла сознание.
Повернул голову – в дверях стоит Николай.
Вот вам и доказательства. Сразу стало ясно, что следует делать, сразу четко обозначился виновник всех его бед: Николай. Это было так очевидно.
Не раздумывая ни секунды, Трубач метнулся на кухню и схватил в руки топор. Если уж убивать, то непременно топором, со школы известно. Николай наклонился над Инной, презрительно не оборачиваясь на громкую возню за спиной.
И прекрасно. Его голова светилась аккуратной проплешиной, словно притягательной мишенью.
Череп хрустнул и просел – показалось, что ненавистное зеркало, поднесенное кем-то к его жизни, разлетелось вдребезги.
Трубач знал, что не вынесет тюрьмы, что дни его сочтены, но улыбка не сходила с его губ. Он освободился от свидетеля своего ничтожества и не чувствовал за собой никакой вины. То, что ему мешало, отныне перестало существовать. Дьявольский соблазн расточился. Даже дышать стало легче и о водке думать не хотелось.
Константин Трубач стал свободен».
17
Свободен, свободен…
Я вдруг понял, какое ощущение мучило меня после того, как я прочитал отрывок, героем которого был «диссидент» в белых штанах. Вот, если угодно, портрет диссидента в зеркале истины.
Уже после перестройки, то есть после того, как огромная страна именем демократии развалилась, погребя, как и полагается, под руинами революционные идеалы, и власть была захвачена кучкой демократически озабоченных олигархов, о диссидентах заговорили как о героях. И, что важнее всего, как о борцах за свободу. Это были, по легенде, свободные люди в несвободном обществе. Если ты не был диссидентом – значит, ты был несвободным. Всем недиссидентам, собственно, всей стране, стало ужасно стыдно. После триумфа перестройки, подозрительно смахивающего на обычную катастрофу, число диссидентов резко увеличилось (многие повылазили из элитных домов, то бишь подполий, где они, как выяснилось, окопались в своих кухнях в расчете благополучно пережить тяготы и лишения тоталитаризма), и честь страны была отчасти спасена, но все равно героев было до слез мало. Примерно столько же, сколько было членов ЦК ненавистной КПСС.
Признаться, меня всегда настораживала эта логика: не был диссидентом – значит, был не свободным. Я не был диссидентом – и никогда не испытывал в связи с этим никакого чувства вины или обделенности. Я искал свободу, во-первых, не в борьбе, но в познании, а во-вторых, с помощью ума, но не ощущений. И, как выяснилось, был прав.
Я бы порекомендовал всем любителям свободы и вольного, свободного, то есть ни к чему не обязывающего, трепа посмотреть, что стало с диссидентами после того, как они оказались в свободном обществе. Более узкомыслящих и просто глупых людей я не видел в своей жизни. Эти свободолюбивые люди оказались рабами своих представлений о свободе и свободном обществе – представлений, не имеющих ничего общего с реальностью. Они боролись с тоталитарным режимом ровно до тех пор, пока не стали жить припеваючи. А тот факт, что общество стало еще более не свободным, их перестал волновать. Собственно, никогда и не волновал. Не социализм они побеждали, и не капитализм насаждали; они просто мечтали о легком хлебе с маслом. Диссидентство – это способ решать личные проблемы под маркой борьбы за свободу.
Так возник миф о рабах, ставших героическими борцами за свободу. Что они понимают в свободе?
Каркас свободы – прочная арматура закона, добытого разумом человека. Свобода есть познанная необходимость. Ты свободен ровно настолько, насколько способен разглядеть флажки вокруг своей персоны, расставленные природой, социумом и своим же разумом. Флажки – это и есть границы твоей реальной свободы, превращающие ее в клетку. Свободный человек может жить только в клетке, изготовленной собственным разумом. Это значит, что такой человек свободен от необходимости быть диссидентом, от любого тоталитарного режима, от всех ваших мнений и заморочек. Сказать, что страна лишила тебя свободы – значит, спекулировать на свободе, значит, ничего не понимать в законах свободы и быть недостойным свободы. Диссидент – худшая разновидность раба. Поднесите зеркало истины к мурлу диссидента, и вы увидите рыльце в пушку в белых штанах. Если убрать зеркало – останется голое чувство протеста, типичное чувство раба, который хочет выглядеть свободным, но не хочет и не может быть им.
Я подошел к зеркалу, приготовившись увидеть в нем облик свободного человека, но мое отражение показалось мне растерянным и нерешительным. Вот почему я, в пику отражению, решительно набрал номер телефона Светланы. Долго никто не брал трубку, а потом запыхавшийся женский голос (тот самый очаровательный и жизнерадостный, с которого началось мое знакомство с окружением Алика), отфыркиваясь, поинтересовался, какого черта так долго звонить, если никто не берет трубку. Скорее всего, никого нет дома, верно? Или не хотят поднимать трубку, что в принципе одно и тоже. Значит – свободен. Это ты, Бусел? Зачем так невежливо молчать, прикидываясь валенком?
– Но вы ведь дома, – сказал я. Монолог в стиле потока сознания меня слегка ошеломил. – Здравствуйте.
– Случайно. Здравствуйте. И я только что вышла из ванной. Можно сказать, вы меня оттуда вытащили. С меня стекают капельки воды. Кстати, кто вы?
– Я не Бусел, я…
– Так-так. Я знаю, кто вы. Светлана мне рассказывала о вас. Она пребывает в восторге. Что вы такое сделали с бедной женщиной, мужчина? Судя по голосу, в вас что-то есть. От вас можно ожидать чего угодно.
– Наверное, надо дать вам возможность одеться. А я бы пока поговорил со Светланой.
Я решил начать с вежливости – не самый удачный прием с точки зрения моей теории флирта. Скорее, наоборот. Но ведь я и не собирался флиртовать.
– Светланы нет дома. Я уже успела накинуть халат, не волнуйтесь.
– Какого цвета халат? – поинтересовался я потому, что, мне казалось, от меня ждали этого вопроса. Это тоже была своего рода вежливость.
– Вам интересно?
– Пожалуй.
– Желтого. Замечательный халат турецкого производства. Мягкий. Ведь я этого достойна…
– На вас халат желтого цвета, и вы… сидите?
– Нет, я стою перед зеркалом, и халат распахнут. Мне некого стесняться. И, между прочим, нечего. Все на месте.
– Вы, конечно, пользуетесь дорогой косметикой?
– Само собой.
– И что отражается в зеркале?
– Красивое женское тело, едва прикрытое халатом. Молодое и дьявольски соблазнительное. А что бы вы хотели увидеть в зеркале?
– Даже не знаю. Мое зеркало отражает угрюмую физиономию.
– Нет, нет, так не годится. Если вы разденетесь перед своим зеркалом, я расскажу вам, что начинает происходить в моем.
– Что же?
– Но вы еще не разделись…
– Мы с вами не слишком спешим, Маргарита?
– Откуда вы знаете, что это я?
– Мне тоже о вас рассказывали.
– Света? Не поверю.
– Нет, не Светлана.
– Эта драная блондинка? Клевета. Не верьте ни одному ее слову.
– Чему же мне верить?
– Своему желанию. Верь жажде своей, будь самим собой.
– Это может далеко нас завести…
– И глубоко… Перед моим зеркалом стоит женщина, на которой уже нет никакого халата.
– И что она делает?
– Трудно сказать… Глаза ее закрыты.
– Что делает ее правая рука?
– Это надо видеть. Легкий разврат. Я бы с удовольствием пригласила вас туда, где находится моя правая рука. Там мягко и тепло. А вы… Что делаете вы?
– Стыдно сказать.
– Скажите, бессовестный мужчина.
– Я не думал, что это может доставить мне удовольствие.
– Мне хорошо, мне уже очень хорошо. Мои увлажнившиеся лепестки… Я хочу, чтобы ты вошел в меня…
В трубке послышалось прерывистое шумное дыхание, потом сдавленный вопль и, наконец, затихающие стоны. Все очень откровенно, как в эротической сцене в боевике, происходящей между перестрелками.
– Алло, Маргарита, ты справилась?
– Я сделала это. Я была на волне блаженства. А ты?
– Ты бросила меня в одиночестве.
– Тебе надо помочь? Бедненький, сейчас мы кончим. Давай займемся любовью.
– Нет, то, что я вижу в зеркале, меня не очень вдохновляет. В зеркале не хватает обнаженной женщины без турецкого халата.
– Но я не могу сейчас приехать к тебе. И ко мне сейчас нельзя: вот-вот появится Света.
– Я должен рассказать об этом Светлане?
– Ни в коем случае.
– Это наша тайна?
– Конечно. Разве ты не любишь тайн?
«Я их ненавижу и презираю», – хотелось ответить мне. «Я сражаюсь с ними всю мою сознательную жизнь, и уважаю себя только за то, что презираю ваши тайны».
Но наши доверительные отношения совершенно исключали подобную неучтивость. Я промолчал.
Жизнь моя, кажется, запуталась окончательно – настолько, что скука стала подбираться уже со стороны неразрешимости проблем. Я где-то перебрал, чем-то оскорбил и возмутил присущее мне чувство меры.
Мне стало плохо.
18
После всех свалившихся на мою голову женщин я почувствовал себя очень одиноким, буквально отверженным, и мне захотелось побольше узнать об Алике. Благо у меня была такая возможность: стопка писем его, адресованных мне, лежала передо мной едва початой горкой. Сначала я достал письмо из середины, но потом положил его на место (всунул в стопочку) и взял лежащее сверху, решив не нарушать порядок (мне подумалось, что письма, возможно, лежат в определенном порядке, который мог быть тайной умершего. Ради покойника я решил сделать исключение в своем отношении к тайнам).
Письмо начиналось так:
«Заметили ли вы, дорогой N., как неприлично обострилась в нас тяга к наслаждениям? С чего бы это?»
Я отложил письмо, задумался, а потом сел за стол и в стремительном темпе намарал учтивый ответ, не замечая, что обращаюсь к нему, как к живому.
Я поблагодарил его за интересный вопрос и предложил свой ответ (чтобы потом сверить его с версией Алика).
Да, я заметил, что культ наслаждений – оборотная сторона буржуазного идола, на узком челе которого въедливым петитом выведена жирная татуировка: не думать. Потреблять – не думать – развлекаться. Хлеба и зрелищ. Этот девиз завоевал весь мир. Капитулировало все живое. Мне все равно, страдать иль наслаждаться. Не так ли, коллега?
Сопротивляться? Можно, конечно. Но почему-то, по какому-то странному стечению обстоятельств, сегодня лучше всего оплачивается именно протест против буржуазности, – протест, буржуазный по духу. Это нынче модно, и конкуренция здесь приличная. Так что сопротивлением, превратившимся в коммерческий проект, никого не удивишь. Сопротивляться надо по-другому.
И мы, не разделяя их идеологии потребления, также потянулись к удовольствиям, отдаленно напоминая тупого буржуа. С чего бы это?
А с того, что на пире во время чумы глупо проливать слезы и вырывать у ближнего своего тарелку со сладким куском, затыкая ему рот проповедью. Что может чувствовать этот массовый человек, думающий желудком? Достаточно или недостаточно корма: вот предел его мечтаний и забота его ума. Он просто ужинает и никакой такой чумы не видит. Но мы-то понимаем, что эта масса, этот планктон, уже дожевывает сам себя. Пурпурный закат цивилизации представляется ему розовым утром безоблачного дня, сулящего еще больше наслаждений, еще больше пищи. Прогресс с точки зрения желудка: завтра больше, чем сегодня. С добрым утром, планктон. Это уже не люди, это демографическое оружие, цель которого – поразить личность и культуру. Глядя на то, как они жрут, боимся только мы. У нас пропало чувство уверенности в завтрашнем дне, ибо человеческий мир – бесчеловечен. Люди идиоты, поэтому их ждет большая кровь.
Вот и мы бросаемся в наслаждение, под защиту природы, предпочитая сладкую форму агонии – горькой. Наслаждение уже не радует нас, но это единственный способ продлить жизнь. Это даже не наслаждение, это бунт плоти. Ведь это ненормально – делить Маргариту со Светланой. Давай признаемся друг другу…
Я заглянул в письмо Алика и убедился, что мы во многом не похожи друг на друга: втиснутое мною в два-три абзаца, он пространно изложил на десяти листах. Да с такой страстью, выдумкой и фантазией, что я невольно позавидовал. В нем явно умер писатель. Вот несколько выдержек.
«Приходило ли вам в вашу светлую голову, добрейший N., что мы, умные люди, интуитивно чувствуем не только то, как и откуда мы произошли, но и то, что нас ожидает впереди? Мы несем в себе и рождение и смерть, и начало и конец. Лет каких-нибудь через сто-двести (хотя пугают и всеми пятьюдесятью) эти опарыши (по моей версии – планктон – N.) радикально истребят все земные ресурсы. И что тогда?
А что говорит нам история? Формы организации общества – вот они, к вашим услугам. Наиболее эффективная из них – тоталитаризм. В отдельно взятой стране это мы уже проходили, а вот в масштабах всего земного шарика – еще не было. Тотальность: круговая порука, полный цикл. Замкнутый круг. Именно к этому ведут дело оголтелые демократии.
Ну и что, спросите вы, какое нам, сугубым индивидуумам, до этого всего дело?
Ваша наивность на руку опарышам. Если они решат, что ваши мысли вредны во вселенском масштабе – то вас вычеркнут их истории раз и навсегда. Представляете? Мы тут с вами пыжимся и куражимся, а придут к неограниченной власти эти узколобые (с их крысиной настырностью – это вопрос времени), и мы с вами белым облачком растаем в поднебесье. В пурпурных лучах заката. Поэтично и навсегда. Крысота!
Еще ничего не ясно, хочу я сказать. Реванш натуры с поединке с культурой может произойти в любой момент. И ваши «рукописи не горят» будут самым популярным анекдотом в узком кругу опарышей. Вы их до смерти насмешите. Они ни за что не простят вам «Женщину, которая любила ночь». Извините за пророчество. Рукописи еретика и язычника Аристотеля по неизвестным никому соображениям, возможно, просто из чувства противоречия, спасли мусульмане от вполне обоснованного гнева христиан. Мир еще не был един. Аристотелю временно повезло. Вас просто некому будет спасать. Все люди будут заодно. Возьмемся за руки, друзья, чтоб не пропасть поодиночке. Станем в круг».
Этот отрывок я прочитал и перечитал с некоторым даже содроганием.
А вот следующий меня немало повеселил. «В Силиконовых Долинах, компьютерных центрах, которые представляют собой единый мегаэкран, у них расхаживают священные животные, и ядерные дубины типа «Крылатые Ракеты» они украшают гирляндами из живых цветов. Бережно и любовно, отмечая каждый религиозный праздник. Их боги, сотворенные при помощи интеллекта по технологии Звездных Войн, не желают войны, но из принципа, из самых гуманных побуждений, кнопочку нажать они все же позволят. Не исключено.
Господа! Граждане! Людишки! Ну нельзя же с таким убогим уровнем сознания и мышления иметь такой проворный интеллект! Именно так каверзно натура отомстит культуре. Интеллект – это разум идиотов. Натура наделила человека сознанием (интеллектом), забыв предупредить, что оно (он) может перейти в конструктивный разум, а может только усилить деструктивное природное начало. А люди понатворили технических чудес и решили, что они таким образом застраховали свое будущее. Хитрость и слабость они приняли за разумную силу. Как вам такое данайское подношение? Ирония судьбы называется.
В принципе, люди этого достойны. Но мы-то здесь при чем?
Я боюсь только одного: глупости и связанных с ней благих намерений. И что я могу поделать? Иногда мне кажется, что природа наделила нас умом только для того, чтобы медленно – и публично! – казнить нас всеобщей глупостью и тем самым прилюдно унизить разум. Это какие-то дьявольские штучки. Лично я не желаю быть Иисусом: как показывает практика, это бесперспективно. Несколько людей обладает тем, что спасет всех, разумом, и эти все с удовольствием растаптывают тех, кто призван их спасти. Это сценарий на пятерочку. Браво. Только вот кто автор? Автора! К барьеру!»
Да, мое послание было бледным отражением его опуса, брызжущего энергией. С другой стороны, это несколько странно для без пяти минут покойника. Это не похоже на судороги трупа.
Что ж, признаю: есть тайны которые я уважаю. Эти тайны я стремлюсь разгадать. Но это не всегда получается. Точнее, что-то получается, но место одной разгаданной тайны сразу же занимают несколько других. Точнее, тайна просто меняет свои обличья. Вот почему я убежден: за множеством тайн скрывается всего одна. До нее-то и надо добраться. Зачем, собственно говоря?
Разгадаю тайну – узнаю.
Чтобы отвлечься от тяжелых «тайных» мыслей, я заслонился от реальности своим романом, который, по идее, должен был реальность отражать.
19
«– У вас вышел очередной роман, я слышала? – спросила как-то меня моя очаровательная знакомая, точнее, знакомая моего знакомого, большой знаток прекрасного, которая уже года два умоляла дать ей почитать «что-нибудь из своего»; правда, вспоминала она об этом только тогда, когда сталкивалась со мной нос к носу; а это, благодаря моим стараниям и неусыпной бдительности (цепких ценительниц прекрасного много, а я один), происходило «до обидного редко», собственно, раз в год.
Тот памятный день начался крайне неудачно для меня. Я был расстроен благополучной, но бездарной развязкой очередного своего опуса (свидетельства собственной никчемности лицезреть так же тяжело, как и талант коллеги), и не успел увернуться от знакомой, отвлекшись на черную кошку, молнией метнувшейся у меня под ногами за бисквитом, которым именно в это время, минута в минуту, местная сумасшедшая прямо из окна своей квартиры сердобольно кормила тучных обнаглевших кошек, трусивших на полусогнутых лапах к десерту, брюхом при этом задевая асфальт. Говорили, что сумасшедшая тоже была большой любительницей прекрасного, и даже танцевала в балете, но потом в ее жизни случилась трагическая история…
– Какая прелестная киска, – игриво мяукнула леди, твердо беря меня под руку.
– При таких добрых людях кошки не пропадут, – обреченно заметил я.
Моя дорогая знакомая весьма решительно была настроена на благодеяние, а я никак не мог найти благовидного повода, чтобы избавиться от нее и не стать жертвой ее великодушия, приступ которого был налицо. К сожалению, она была энергична, обладала изрядным жизненным опытом (третий раз благополучно замужем: уже одно это чего стоило), известной наблюдательностью и склонностью творить добрые дела. Разумеется, считала себя умной и заслужившей право поучать, и хотел бы я посмотреть на того, кому удалось бы поколебать ее уверенность. Результатом всего этого явилось то, что она была буквально набита историями (про себя я невежливо называл ее Мешок Историй). Бремя творить добрые, следовательно, полезные, дела было для нее легким и приятным: она лечила историями. Очевидно, она считала меня не очень удачливым коллегой, в глазах у которого стояла мольба о помощи. Вежливым с этим Мешком, распираемым темпераментом, можно было быть единственным способом: молчать. Мне всегда было неловко перед ней за то, что я пишу романы. Хотелось оправдываться.
– Да, роман вышел, – сказал я, виновато вздохнул – и очень кстати вспомнил, как зовут Мешок Историй. Его звали Виолетта Кожедуб (она вернулась к девичьей фамилии, чтобы не обижать своих мужей). – Как ваше здоровье, драгоценная Виолетта Леопольдовна?
Она вполне самозабвенно и альтруистически махнула рукой на свое здоровье (и это был, спешу заметить, лицемерный жест: здоровье перло из нее, как пена из шампанского) и тут же приступила к добрым делам. Она давала мастер-класс, безвозмездно.
– Я вам сейчас расскажу историю, из которой можно выкроить три романа. Три! Никак не меньше.
Я молча сник.
– Моя подруга…
Подруг и друзей у миссис Кожедуб было больше, чем у меня, преуспевающего литератора, недоброжелателей. Те, кто, к несчастью, не попали в число ее друзей, были просто приятели. Остальных людей она просто любила. Врагов ее представить себе было невозможно: их тут же хотелось пожалеть, и они становились похожи на ее друзей.
У ее подруги была трагическая судьба. Но интересная, так и просится в роман. Отец подруги на почве ревности убил ее мать, а сам, естественно, попал в тюрьму. Ужасная судьба, просто ужасная!
Я молчал, хотя мне хотелось спросить: «У кого была ужасная судьба? У мамы? У папы? У подруги? У кого, черт побери, мой дорогой Мешок?».
– И что бы вы думали? Моя подруга, Оленька, – мы вместе учились в архитектурном институте – встретила человека своей мечты, Лешеньку. Мы ей все завидовали, все до одной. Какие красивые отношения, с ума сойти. Как ее молодой человек за ней ухаживал! Усы, погоны, смелые глаза, которые делались робкими, когда он видел свою Олю. Каждый день дарил цветы. Каждый день! Мы украдкой наблюдали за ними из окна общежития и восхищались. Я была рада за нее: наступил ее звездный час. Справедливость восторжествовала. Я бы только об этом написала роман. Это очень красивая история.
Я молчал.
– Потом они поженились, у них родилась девочка. А муж по-прежнему любил Оленьку как сумасшедший. Я ей очень завидовала – белой-белой завистью. К тому времени я ушла от своего первого и разочаровалась в мужчинах. И только ее Лешенька поддерживал мою веру в то, что есть настоящие мужчины.
Когда я вышла замуж за второго, у Лешеньки с Оленькой произошла история. К тому времени страна развалилась, военных стали сокращать, устроиться на работу было очень сложно. Леша стал пить, как мой первый. А Оля была красивой женщиной, стройной, привлекательной. Глаз не отвести. И Лешенька стал ее ревновать. Стал закатывать ей скандалы, истерики, даже руку иногда поднимал и прикладывал. Он страшно ее любил. И вот однажды он не выдержал. Привязал ее к креслу и задушил. И оставил записку: ищите меня там-то и там-то. Его нашли в указанном месте. Он повесился. Представляете? Их хоронили в один день, и мать Леши шла за гробом Оленьки. Ужасно, правда? Кто бы мог подумать: Оля повторила судьбу своей матери. Это невозможно выдумать. Лабиринт в душе. Разве это не роман?
– Это не годится в роман, – сказал я, никак не показывая, однако, интонацией, что я сопротивляюсь.
– Не годится?! Отчего?
– Видите ли, Виолетта Леопольдовна, калейдоскоп событий или, как вы изволили выразиться, лабиринт – это еще не роман.
– Почему?
– Потому что роман держится не на событиях, а на характере, на личности человека. Все, что случается, должно работать на характер и…
– Вы думаете у Оленьки не было характера? У нее был сильный характер. Она бросила курить однажды утром – раз и навсегда. Я свидетель. И она была личность. Она увлекалась живописью, обожала Сальвадора Дали.
– Я имею в виду нечто другое. Калейдоскоп, мозаика или, если угодно, лабиринт развлекают читателя; а хороший роман держится на внутренней интриге. Из ревности убить жену: где тут интрига? Интрига возникает тогда, когда добро становится трудно отличить от зла, хорошего человека – от плохого, ум – от глупости…
– Да вы что! Весь город рыдал, все соседи шли за гробом. Было море цветов. Кому ни расскажешь эту историю, у всех волосы дыбом. Леша ведь был хорошим? Хорошим. И вдруг взял и совершил зло. Это же невероятно!
– Это элементарно. Леша был обыкновенным дурачком, который ничего не понимал в жизни. Он слабак. Он не годится в герои романа. Герои романа – все понимают, но ничего не могут исправить. И не хнычут, и никого не убивают, потому что этим горю не поможешь. Вот когда возникает трагедия.
– А убить жену и повеситься – это, по-вашему, не трагедия?
– Никак нет. Это всего лишь море крови. У людей такое случается сплошь и рядом. Это больше смахивает на боевичок.
– А Оленька? Не героиня, вы хотите сказать?
– Чтобы выйти замуж за дурачка, много ума не надо, Виолетта Леопольдовна. Кстати, Сальвадор Дали со своими лабиринтами имеет к живописи такое же отношение, как ваша история к роману.
Боюсь, впервые она посмотрела на человека как на врага – причем, сделала она это от имени всего человечества. Глаза были очень большими и выразительными. На мгновение она показалась мне сумасшедшей, потому что она приняла за сумасшедшего меня. Но надо отдать ей должное: она не отвернулась от меня, а сделала еще одну попытку.
– А вы все-таки напишите роман. Вот увидите, он у вас получится. Он станет бестселлером. И начните так: «Он принес ей лилии…»
– На могилу? Он же повесился.
– Не на могилу. На первое свидание. Правда, там были не лилии, а розы. Но лилии – звучит красивее. Надо же начинать сначала. А начало было как в сказке. Все люди мечтают о таком начале, как вы не понимаете?
Ей было искренне жаль меня, не сомневаюсь. И я, окончательно переведенный Мешком Историй из разряда врагов в сумасшедшие, решил не упускать возможность и довести дело до конца – то есть раз и навсегда отбить у нее охоту общаться со мной как с романистом. Перейти из друзей в приятели и занять среди них самое незаметное место. Кивка головы раз в год как способа общения мне будет вполне достаточно.
– Сказка – ложь, поэтому сказочное начало не годится для романа, – начал я.
– Красивой может быть только сказка. Красивой и вечной, – перебили меня.
– Ложь не может быть вечной. Вам когда-нибудь приходило в голову, что в жизни есть еще и правда? Я бы начал роман так. Сорвал бы с Лешеньки погоны, сбрил усы, кстати, имя бы тоже поменял, усадил в то самое кресло и заставил бы произнести следующее, ровным и вежливым тоном, про себя, ни к кому не обращаясь: «Серьезно отнесешься к женщине – перестанешь себя уважать; несерьезно – будешь несчастлив». Такой человек никогда бы не задушил бедную женщину. Он бы, скорее всего, на ней не женился.
Я выстроил свою тираду в расчете на лучшие человеческие качества: меня должны были запрезирать и отвернуться от меня. Но я жестоко просчитался.
– Вы не правы! – бодро и звонко воскликнула Мешок Историй, и голос ее звучал так, словно в руках она держала знамя борьбы за истину. – Если никого не душат – это скучно. Никакого гуманизма. Я сейчас расскажу вам еще одну историю, и вы поймете, как вы заблуждаетесь. Моя подруга Сесилия…
Виолетта Леопольдовна тут же отреклась от меня как от загадочного, хотя и мелковатого, романиста и стала лепить из меня другой образ: я стал заблудшей овцой, которую надо было двумя-тремя историями вернуть, загнать в стадо. Я оказался хорошим раздражителем для той, кто привыкла казнить добротой.
Но я ей благодарен. Я понял, что концовка правдивого романа не может быть благополучной и сказочной, и с восторгом переделал ее в тот же вечер. Остался доволен. Мой герой сел в кресло и произнес именно ту фразу, которую я предложил вниманию Виолетты Кожедуб. Я стер сказочные румяна – и роман ожил.
Но вот писать следующий роман мне совершено расхотелось.
Я замолчал».
20
Попробуйте понять полноценную мужскую логику, которая так любит издеваться над неполноценной женской: после всего этого мне захотелось увидеть Олю. Не Светлану, не Маргариту, а почему-то Олю, которая рисовалась моему воображению в виде спасательного круга. Я это знаю совершенно точно, потому что я собрался звонить Светлане, а затем внезапно передумал. Засомневался. Кончилось тем, что гора сомнений родила мышь решимости. Я стал набирать телефон Оли.
Пока мои пальцы давили на кнопки, в голове пронеслась какая-то семантическая буря, отдаленно напоминающая цунами рекламных пауз. Из этого вихря мне удалось понять следующее: стоило мне только пообщаться с покойником, так сказать, пойти по его следам, как из-под ног моих уплыла платформа прочного пессимизма, на которой я безрадостно ожидал неизбежного конца. Все было просто и понятно. Или непонятно, но это ничего не меняло: пессимизм надежно защищал меня от жизни. И вдруг эта броня, эта платформа стала давать трещину и уплывать. Я похож был на беспечного рыбака, твердо стоящего на хрупкой льдине, напоминающей платформу, которую, вопреки всем прогнозам, унесло в открытое море. Я не то чтобы потерял чувство уверенности; просто оно оказалось глупым и ненужным. Я не потерял почву; просто почва поплыла. Мелькнуло опасение за сохранность моего рассудка.
– Алло, алло! – между тем беспокоилась Оля.
– Минское время 17 часов 37 минут, – скучным казенным голосом проскрипел я. – Вас ждут уже ровно 37 минут и 37 секунд, миледи.
– Но я не знала, что меня ждут, – растерянно сказала Оля. – Разве мы договаривались?
– Нет, не договаривались. Но я подумал, что от знаменитой женской интуиции невозможно скрыть… Короче говоря, просто оказалось, что ты мне нужна. Я это понял 37 минут тому назад. Уже 38. Время летит. Скоро будет 39.
– Я не знаю, что мне делать. Глубокие и серьезные отношения, которые не имеют перспективы, – разве это нормально? Я устала… Я не знаю, чего хочу я и чего хочешь ты.
– Последние новости информационных агентств мира бегущей строкой, – равнодушно бубнил я, стилизуя свои откровения под рутинный треп телевизионного диктора (почему-то именно того, который мне особенно не нравился, молодого, красивого брюнета). – Некто господин N. пообещал своей возлюбленной (размер груди 37, ноги стройные, хрустальных башмачков не носит; особые приметы: малахольная), что съест свою шляпу, если их отношения окажутся серьезными и глубокими, это во-первых; а во-вторых – и это главная мировая новость – если возлюбленная г. N. не окажется у него в постели через сорок минут, он съест и ее. Присылайте нам сообщения на сайт три дабл ю, собачка, киска-брыска. Серый волк и Красная шапочка.
– Подожди. Ты не веришь, что между нами возможны серьезные отношения?
– Я боюсь в это верить. Я как-то не готов к этому.
– Ну да, тебе ведь всего-то сорок три годика. Куда спешить? А что это за размер груди такой – 37?
– Большой.
– Таких размеров не бывает.
– Мне всегда казалось, что 37 – это очень впечатляюще. Это даже больше нормальной температуры человека.
– Ты ошибаешься. А зачем я тебе нужна, господин N. (тут она назвала меня по имени и очень ласково; это меня удивило, потому что мне казалось, что мое имя не может быть подвержено сентиментальным трансформациям)?
– Честно?
– Нет, честно не надо. Боюсь, твоя честность все испортит.
– Тогда я совру. Ты чем-то напоминаешь мою первую любовь.
Я сказал правду, разумеется, но сказал то, что мне пришло в голову только сейчас. В режиме реального времени.
– Ты врешь красиво и печально.
– Я стараюсь.
– Ты правда меня съешь?
– Честно?
Оля задумалась и ничего не ответила.
– Постараюсь быть у тебя через полчаса.
С Олей мне было так хорошо и при этом как-то буднично хорошо, само собой хорошо, что в чувствах, которые связывали нас, я не усматривал ничего необычного. Я, если честно, и чувств никаких не усматривал. Все было просто и естественно. Пока она добиралась до меня, я выскочил на улицу и купил в ближайшем цветочном киоске розы сорта «Гейша», многолепестковые бутоны которых поразили меня своими интимно приоткрывшимися кратерами и волнующей пестротой окраса. Ей-богу, в этот момент о себе я думал больше, чем об Оле. Мне было приятно удивить ее (почему-то знал, что она удивится, – и она меня не подвела: она удивила меня своим удивлением; она заплакала…), мне было приятно делать ей приятное. Даже проклятая привычка называть вещи своими именами и портить себе вечера, мало-мальски напоминающие праздник, не мешала мне на сей раз. Это было новое для меня состояние, но я легкомысленно не придал ему значения, ибо я не ждал уже ничего нового от жизни.
Оленька удивительно напоминала свежий, целомудренно свернувшийся бутон, источающий нежно-терпкие ароматы, надышаться которыми было невозможно. Прохладная, казалось, влажная кожа, влажные губы… Прелесть. Меня затягивала розовая бездна, которая волшебно отшибала мне мозги. Я, почему-то, принимал это как должное – то ли благодаря эгоизму своему, то ли не ценя того, как мне было хорошо. Олю я краешком сознания воспринимал как гейшу, девушку на час в буквальном смысле (акцент на времени). Пройдет час – и она уйдет из моей жизни. Как Светлана, Маргарита, да мало ли еще кто… Может, ей будет так же хорошо с кем-нибудь другим. Зачем себя обманывать?
Не знаю, что испортило наш праздник: Олино преждевременное любопытство или моя первобытная честность.
– Тебе было хорошо? – спросила она, особенной интонацией намекая на то, что нам было как-то особенно хорошо.
– Конечно, – вежливо отозвался я.
– Ты спишь со Светланой, – вдруг неожиданно продолжила она.
Я интуитивно почувствовал, что ее интуиция сработала безошибочно. Переубеждать людей давно уже не входило в число моих слабостей, а бороться со слабостью, которая называется «приступ честности», не было сил.
– Да или нет?
В ее глазах запрыгали лютые золотые черти.
– Скорее, да, чем нет, – отозвался я, всем видом давая понять, что обсуждаемый вопрос не имеет для меня большого значения.
– Может, ты и с Маргаритой спишь?
– Скорее, нет, чем да.
Я решил не баловать ее разнообразием вариантов. Я жестоко боролся за свою постылую свободу.
– А еще с кем ты спишь? – с неожиданной улыбкой спросила Оля.
Улыбка мне не понравилась: она означала, что мне все легко простили. Оскорбительно легко. Но прощать такое дорогому человеку нельзя. Улыбаться в такой момент – значило не ценить меня. Наверно, я надеялся, что сердце гейши обольется кровавыми слезами, нарвавшись на мои колючки. Я ждал чего-то другого. Однако клиент оказался чересчур самонадеянным. Не таким уж и «дорогим».
– С тобой, – сказал я. – Еще я сплю с тобой.
– Браво. Ты идешь по следам Алика.
– Надеюсь, что нет. Мне не нравится, что я чувствую себя в чем-то виноватым перед тобой.
– К сожалению, ты ни в чем передо мной не виноват.
– Нет, подожди. Теперь моя очередь задавать вопросы. Вчера ты спала с Аликом. Так? Так. Сегодня со мной. С кем ты собираешься спать завтра, позволь тебя спросить?
– А разве тебе есть до этого дело?
– Положим, что нет. Спрашиваю из чистого любопытства.
Я уже усвоил (спасибо, Оля, за урок), что больнее всего ранит демонстративное равнодушие.
– И потом… Я не люблю, когда на моих глазах битый небитого везет – тем более не люблю, если этим битым оказываюсь я. Это оскорбляет мое чувство справедливости. И еще… Ты говоришь таким тоном, словно тебе есть до меня дело.
– Конечно. Иначе бы я не спрашивала. Ты меня очень сильно обидел. Ты даже не догадываешься, что ты сейчас сделал.
Беззащитная откровенность впечатлила меня даже больше, чем показное равнодушие. Но чтобы сохранить человеческое лицо, то есть видимость достоинства, пришлось прикидываться монстром.
– Прежде всего, я сказал тебе правду. Ты бы предпочла, чтобы я соврал?
– Нет. Я бы предпочла, чтобы ты мне сказал другую правду. Ты меня не обманывал; наверно, я невольно обманулась. А требовать от тебя, чтобы ты чутко упредил мой самообман… Я сама виновата. Нельзя требовать от другого того, что тебе хочется. Ты прав. Но это не вся правда. Хочешь знать всю?
– Только ради того, чтобы сделать тебе приятное.
Нет, быть монстром – явно не мое призвание. Я рожден для чего-то другого.
– Я тебя ненавижу, – сказала Оля.
– Значит, ты меня любишь.
– Сейчас это не имеет никакого значения. Ты меня больше не увидишь.
Вы не поверите: я испытал настоящее облегчение. Нет, глубокие отношения – это не для простых смертных.
Вечером позвонила Светлана и укоряющим тоном попеняла мне, что я увиливаю от обязанностей повелителя. Я улыбнулся жалкой улыбкой и, чтобы не повторять ошибок трехчасовой давности, признал себя виноватым уже в начале первого раунда. Мне предстоял ритуал, больше похожий на аттракцион, которым наслаждаются люди женатые, безнадежно утратившие само представление о свободе: он назывался «заслужить прощение». Для этого надо было напрячь фантазию, к чему я был совершенно не готов. Можно завезти ей розы «Гейша», которые Оля демонстративно забыла в моей вазе. Эти цветы должны ввести Светлану в оцепенение. Потом припасть на правое колено и, мгновение спустя, атакующим движением плавно перейти к лобзанию кошачьей впадины, слегка заплывшей жирком. Сценарий классический, результат гарантирован. Но как только я представил себе неторопливое, размеренное развитие любовной игры, мне стало тошно. Почему-то сразу вспомнился Алик, смирно лежащий в гробу в позе заслуженного отдыха.
Нет, служить и заслуживать – это тоже не мое.
С уходом Оли мое душевное равновесие, которое – никогда бы не подумал! – у меня присутствовало, было нарушено. Что имеем – не храним. Признаться, я удивился: мне, как ни странно, было что терять. И я его потерял.
Но вот что?
21
«Оказывается, у покойника тоже есть привилегии, и я спешу ими воспользоваться.
Если меня нет, если я ушел в небытие – значит, извините, я в чем-то опередил вас. Может быть, я поторопился (не торопись, а то успеешь: в простоте иногда содержится больше мудрости, нежели кажется простаку). Я потерял страх, этот тонкий защитный слой, укрывающий, оберегающий жизнь. Я бесстрашно посмотрел в глаза смертоносному. Я сделал то, что живой позволить себе не может. По большому счету, я презираю такого рода смелость, однако… На всякого мудреца довольно простоты.
Так вот. Я знаю все ваши фобии в лицо, а мать всех фобий – близкое мне, почти родное существо. Догадываетесь, о чем я?
А приятно быть живым, черт побери, приятно догадываться . Съеживаться, не понимать, предчувствуя, однако, что вот сейчас, сию секунду, все поймешь. Войдешь в темную-темную, беспросветно-темную комнату и детским усилием – одним поворотом выключателя – разгонишь библейский мрак, осветишь все вокруг, и с легким разочарованием оглянешься по сторонам, узнавая то, что давно предчувствовал. Мрак всегда обещает больше, чем дает свет. Щелчок – и ты расшифровал себя, получив бездну удовольствия вкупе с еще большим страхом. Хе-хе-с, как говорится в подобных случаях. Дьявольски живое ощущение, мне его будет не хватать.
Так о чем я? Сказать ли?
Говорю. Не хотите знать – не читайте дальше. Как выражаются в таких случаях спортивные комментаторы, играя на интересе слушателей, приглушите звук ваших телевизоров. Итак…
Мать всех фобий – …»
Я отбросил лист в сторону.
А почему, собственно, отбросил? Собираюсь жить долго и счастливо? Нет? Чего испугался?
Я предчувствовал, что произойдет дальше. Я не знал, что скажет Алик, но знал, что скажет он именно то, что я считаю правдой. Он повернет ко мне зеркало. Стоит ли спешить?
С другой стороны, я продвинусь на пути познания; а с третьей – на пути смерти. Стоит ли игра свеч?
И тут я поймал себя на окончательно верном ощущении: я испытываю удовольствие от процесса вызревания догадки. Я растягиваю удовольствие. Я вновь цепляюсь за удовольствие . Ясно как божий день, что я дочитаю письмо (неужели в этом у кого-нибудь есть какие-нибудь сомнения?); я играю с собой – и с ним, черт побери! – в кошки-мышки. Ну, что ж, друг, говори мне то, что я знаю, но искусно утаиваю от себя. Я готов.
«Матерь всех фобий – …
Держу пари: вы закрыли глаза. Зажмурились. Не знаю, в какой форме вы это сделали, но вы отдалили миг сладостно-печального прозрения. Если так – это хорошо. Значит, вы еще не устали жить. Если я прав, то есть если вы зажмурились, рискну предположить, что Светлана уже ваша. Вы цените еще удовольствия. Что же, спешу поделиться с вами всем, что имею. Мне оно уже ни к чему. Матерь всех фобий – …»
Я вдруг разорвал лист и отшвырнул его в темный угол. И тут же рассмеялся: во-первых, я рвал его аккуратненько, так, чтобы потом можно было без труда дочитать, а во-вторых, швырял и мял еще более аккуратно. В моей свирепости не было ничего агрессивного. Зачем этот спектакль перед самим собой? Ведь не перед Аликом же, в самом деле, я ломал комедию, не его же хотел удивить? А что если я паясничал перед Аликом в себе?
Не исключено. И все же, думаю, я так «неожиданно» обошелся с его письмом от радости. От какой такой радости?
Вот дочитаю разорванное письмо – и объясню.
«Матерь всех фобий – боязнь усталости, постепенно перерастающая в зрелый страх. Но страх – это еще показатель жизненных сил. Страшно потерять страх: тогда остается только безмерная усталость. От нее до смерти – полшага. Собственно, усталость – это и есть первая фаза погибели. Вы это знали, не так ли?»
Я это знал. Но я был потрясен.
«Зачем же я вам это говорю, зачем заражаю вас фобией, инфицирую страхом?
Дело в том, что усталость накатывает внезапно. Вы проснулись солнечным утром, включили телевизор – а вокруг вас темно. Нельзя сказать, каков запас прочности, сколько еще продлится ваш спасительный страх. Я хочу вас предостеречь (не знаю, поможет ли, но делаю это с чувством исполняемого долга): что-то подсказывает мне, что умный человек может и должен учиться на ошибках других. А я где-то совершил ошибку. Я пошел по вашей колее, но так разогнался, что обошел вас, старшего, и, не заметив спасительного тупичка, влетел в топку финиша. Влез поперек батьки в пекло. Где-то надо свернуть, вы меня понимаете?»
Я и это знал. Я давно и лихорадочно ищу свой спасительный тупичок.
Не сознавая глупости происходящего, я настрочил ответное письмо.
«Дорогой Алик!
Думаю, ты во всем прав. Я все больше и больше представляю себя на твоем месте – и вряд ли бы я сделал больше. Может быть, ты и в самом деле поспешил, а может быть, иллюзия спешки – все что нам осталось. Пока не знаю.
Но я сделаю все, чтобы увеличить запас прочности, ты слышишь? Я не верю, что люди нашего формата и масштаба нежизнеспособны.
Есть одна идея, впрочем, не то чтобы идея, а нечто средненькое между предчувствием и желанием. Поживем – увидим. Я тебе сообщу.
P.S. А за Светку извини. Меня оправдывает лишь то, что на моем месте ты поступил бы точно так же. Нет, не извини. Спасибо за нее. Думаю, тебе приятно будет узнать, что проблем у меня с ней намечается не меньше, чем было у тебя, как я догадываюсь».
Здесь я должен возвратиться к обещанной радости. Но мне отчего-то расхотелось оплачивать добровольно принятые на себя долговые обязательства. Скажу лишь, что радость связана с «не то чтобы идеей, а чем-то средненьким между предчувствием и желанием». Пусть эта радость растворится между строк всего романа, если, конечно, у меня хватит писательского мастерства.
И желания дотянуть до конца.
Хотя бы до конца романа.
22
Я накликал беду.
Ведь не только наши предчувствия и желания отражают жизнь, но и наоборот: жизнь чутко отражает наши предчувствия и желания.
Светка, не дождавшись от меня феерии под названием «мужчина вымаливает прощение у ног обожаемой им женщины», перешла к активным наступательным действиям, дабы закрепить викторию. Если мужчина не вымаливает прощения, не служит, словно пудель, прыгающий на задних лапках, как кузнечик, следовательно, такой мужчина не грезит о кошачьих ямках. Может, он вовсе и не пудель. А это плохой знак. Дремавшая в ней страсть укрощать (покойный Алик выскользнул из-под ее влияния уже ровно сорок дней тому назад, выиграв битву ценой жизни), проснулась в ней с прежней силой.
Ошибка в отношениях мужчины с женщиной заключается в том, что отношения заводятся не с той женщиной. Все остальное поправимо. Но вот если женщина не та – пиши пропало. Если ты лев, а тебя принимают за пуделя, возможны ли тут компромиссы?
Светлана небрежно, однако же пресекая всякую возможность отказаться, пригласила меня на скромный, что только подчеркивало его торжественную исключительность, ужин при свечах под названием «сорок дней и ночей жуткого одиночества вдовы», – поминальное мероприятие, которое грозило обернуться помолвкой. Звон обручальных кандалов сквозь густой печальный колокол чудился мне, словно легкий трупный запах вперемешку с благовонием ладана: такая звуковая и обонятельная аранжировка мероприятия не делала его самым приятным на свете. Лично мне этот памятный ужин, который скромным можно было назвать только из желания обидеть вдову, с самого начала представлялся сражением за свободу и, отчасти, местью за друга. Позвольте мне в этом месте воскликнуть, упреждая события: каким надо быть наивным, чтобы пытаться на равных сражаться женщиной, рожденной на горе наивным!
Встретила меня Маргарита, что я сразу же расценил как недобрый знак. Она стала раздевать меня взглядом еще до того, как я снял пальто. Из-за спины она заглядывала мне в лицо, ловила шальной, нетвердый взгляд, отражавшийся в зеркале, – взгляд, которым я нарциссически испепелял самого себя. Я подмигнул ей, о чем тут же пожалел, ибо мое легкомысленное заигрывание позволило ей вручить инициативу мне, а самой потупить очи и скромно провести руками по бедрам, обтянутым серым платьем. Собственно, позволило ей предложить себя. Настала моя очередь рассмотреть ее, простая вежливость требовала даже полюбоваться тем, что мне предлагали по телефону, но я, как последний неджентльмен, поспешил к своей Светлане.
Наряд вдовы кричал о том, что она – обратить внимание на овал плечей! – производит на меня впечатление, а взгляд недвусмысленно отлучал, намекал на то, чтобы я оставил всякую надежду. Забыл, вычеркнул вдову из жизни. Неразрешимая задачка для начинающего соблазнителя, принимающего женское «нет» либо за чистую монету, либо за твердое «да». На самом деле «нет» чаще всего означает «может быть»; «нет» может превратиться в «да», если…
Далее подразумевается целый список усилий, которые необходимо приложить порядочному мужчине, чтобы соблазнить женщину, давно уже избравшую вас в качестве соблазнителя. Простодушно избрать вариант «оставить всякую надежду» только на том основании, что об этом честно было написано в лживых очах, значило оскорбить вдову; второй раз подряд поступить бестактно с женщиной (бестактно – значит, вопреки ее ожиданиям, а не согласно своему желанию) было уже слишком непорядочно. Жертва первой бестактности, Маргарита, также надувшись (при желании выражение ее физиономии можно было трактовать следующим образом: на лицо набежала тень из недавнего прошлого, став вуалью печальных воспоминаний), памятником обманутых ожиданий сидела напротив, поэтому я, переча взгляду Светланы, не сводил глаз с плеч, рекомендованных сдержанным покроем. Кажется, это не осталось не замеченным, и мне позволили поухаживать за собой. Не особенно церемонясь, мне вручили шанс, к которому прилагалась подробная инструкция, как им воспользоваться. Видимо, я сделал все как надо, потому что глаза явно потеплели.
В общем, я легко добивался успеха, мрачнея с каждой минутой.
За этим столом мне явно не хватало Алика.
– А где Леха Бусел? – спросил я как ни в чем ни бывало Маргариту.
– Не знаю, – ответила она, развратно, с детсадовской непосредственностью орудуя кончиком языка между губами.
Видимо, это не укрылось от внимания Светланы. Слегка наклонив голову в мою сторону и обдав меня волной новых духов, она нежно шепнула:
– Милый, у нас будет ребенок.
Я поперхнулся рыбой, произведя сдавленный звук, будто человек, которому неожиданно всадили в спину, под кольчугу, ятаган. Мне как ни в чем не бывало подали салфетку. Очевидно, моя реакция не смутила Светлану. Напротив, чем-то порадовала. Слабость: вот чего от тебя ожидали и что охотно прощали в этом милом доме. Заслужить уважение здесь можно было одним-единственным способом: дать себя растоптать.
Я наполовину наполнил себе фужер водкой и спросил, вперившись в пространство, разделявшее двух дам:
– За что пьем?
– За упокой души, – выразила общее женское мнение Светлана, очевидно, на правах той, кто сумела предъявить на меня неоспоримые права.
– Чьей? – спросил я, покашливая: кость в горле застряла надежно.
– Алика.
– У меня с каждой минутой крепнет впечатление, что покойник знал, что делал. Он пал смертью храбрых. Он погиб на поле боя. Вечная память Баклажанову.
Я выпил.
Очевидно, Светлана решила, что «погиб» следует принять на свой счет. Во всяком случае, пропускать такие вещи мимо ушей было не в ее правилах. Бросать вызов матери своего будущего ребенка… Сумасшедший.
– Так-так. Господин писатель завидует своему другу?
– Нет, писатель хочет исправить его ошибку. Кха-кха.
– И это правильно. Лучше быть живым папашей, чем мертвым негодяем.
Светлана крепко хлопнула меня по спине – и я благополучно проглотил кость, ощущая колики где-то в межреберном пространстве.
– Что происходит? – спросил я, боясь вдохнуть всей грудью.
Маргарита засмеялась, а Светлана загадочно улыбнулась. Я вновь наполнил себе фужер водкой. Светлана сказала, что водку фужерами пьют только дегенераты или самоубийцы. Я плеснул в фужер еще, почти до краев, чтобы убедить ее, что она имеет дело с тем и другим одновременно. Она повела плечом, обидно прокомментировав аксиому о мужской слабости. Маргарита ослепительно сверкала зубами, забыв о печали.
Я встал и, не обращая внимания на своих дам, приветствовал дядюшку, эспаньолка которого припухла и округлилась за эти сорок дней. На моих глазах она расплылась, превращаясь в пятно, заслоняющее лицо. Возможно, дядюшка просто любезно улыбнулся.
– Я хотел бы уточнить, – сказал я. – В детстве Алик лазил не по сливам, а по вишням. На худой конец – по черешням. Но не по сливам же! Я вас умоляю: есть разница. Запомните же, наконец: по-виш-ням. Это во-первых. А во-вторых, предлагаю всем выпить за здоровье моего несчастного друга.
Эспаньолка резко уклонилась из-под прицела моих глаз, и я, пользуясь моментом, выцедил фужер до дна, победно откинув голову.
Затем я потребовал, чтобы меня представили Лехе Буслу. Кто-то видел его где-то в углу. Услужливо бросились искать.
– Леха, – орал я, – иди сюда. – Я научу тебя свободу любить. Леха!
Все почему-то решили, что меня надо успокаивать, а этого не следовало делать ни при каких обстоятельствах. Звяканье кандалов под смирительные речи привело меня в исступление.
– Диссиденты сраные! – кричал я. – Что вы знаете о свободе!
Последнее, что я помню – момент трезвости. Меня отрезвило выражение их глаз: я общался с толпой сумасшедших. Среди них, мне показалось, мелькнули потрясенные зрачки, принадлежащие Мешку Историй. Все они, эти почтенные людишки, были на одно лицо.
– Они все сумасшедшие, – шептал я. – Леха, ты где? В сумасшедшем доме и с валенком дружишь…
– Козерог, – возразили мне.
23
…Я лежал на просторной тахте, раскинув руки, и меня раздевала, кажется, Маргарита. Правда, стоило мне напрячь зрение, как она противно раздваивалась, превращаясь одновременно в Светлану и Маргариту. Это было забавно, и я несколько раз сощурился, смакуя расплывающуюся картинку. Светлана стояла в дверях, а Маргарита ближним планом нависала надо мной, то заслоняя ее, то превращаясь в двуликое существо. Все это было очень весело. В голове моей размашисто кружилась карусель и чертиками прыгали изображения, словно на телеэкране. Недолго думая, я сгреб Маргариту в охапку и повалил к себе в постель. Мой сон, продолжая оставаться сном, превратился отчасти в твердую явь. Вот ее ребристый бюстгальтер, вот платье, которое я упорно не хотел снимать, а только задирал вверх. Пальцы мои затрещали: кто-то сильный и привычный к нападению умело выламывал их. Я сдался, и меня накрыло женское тело, чудесным образом само освободившееся из платья. В дверях прохладным колокольчиком звенел вовсе не ревнивый смех Светланы. «Кандалы Колымы», – скаламбурил я, демонстрируя себе изрядную трезвость. Я отчетливо запомнил момент агрессивного проникновения. Затем, вечность спустя, я ощутил жаркое дыхание податливой Маргариты. Потом мягкие волны. Потом женское шептание под тихий, приглушенный интимный смешок. Потом поцелуи у меня на глазах. Мне вновь захотелось женщину, и я ее получил: она материализовалась откуда-то из темного пространства. Кто это был – Светлана или Маргарита? – сказать было невозможно.
24
Наутро я проснулся с дикой головной болью и с желанием убежать от себя, то есть выбраться из ада. Мне даже казалось, что где-то рядом со мной есть лесенка, металлическая, почему-то. Очень холодная на ощупь. На худой конец, я готов был последовать дурному примеру Алика: тоже выход, если разобраться. Поза друга моего была мне к лицу, и я на всякий случай сложил плохо слушающиеся руки на груди. Меня останавливало только нечто вроде здравого рассуждения, мерцающей строкой осциллографа время от времени пульсирующее где-то в закоулках души в формате назойливых рекламных пауз: стоило ли менять ад на ад? Менять ад на ад? Этот неуверенно пульсирующий зуммер усиливал головную боль, и, казалось, организм страдает от проникновения в него чего-то здравого. Я чувствовал себя полным Козерогом.
Рядом со мной лежала вторая подушка, желтого цвета (моя была белая), простыня была запачкана пятнами явно свежего и, без сомнения, любовного происхождения. Я не понимал ничего, но помнил что-то нехорошее. Путем несложного извлечения ассоциативных цепочек из недр собственного существа я кое-что выяснил. При мысли о «нехорошем» воображение стала распирать располневшая фигура Светланы, мне даже почудился запах ее духов, замешанных, конечно же, на разложении чего-то гниющего (между рекламой духов однажды показывали технологию их производства: рекламу не помню, а технологию запомнил навсегда). Показалось даже, что ее духами пахнет желтая подушка. Я попытался быстро избавиться от тошнотворного наваждения – и тут нарвался на ассоциацию звуковую, возбуждающий шепоток, из которого прорезался металлический, синтезированный голосок Светланы: «Милый, у нас будет ребенок. И это потребует много пеленок». Что-то в стиле рэп. Все звуки слились в булькающий скрежет, в который причудливо вплелся душевный запах духов, соединенный с ощущением наваливающегося на меня женского тела, завертелась карусель, я утратил контроль за мелькающими иконками, – и меня вывернуло наизнанку, жестоко и безжалостно. Я блевал самозабвенно и как в последний раз. Физиологическое ощущение раздирающих мое нутро противоречий было единственным, что связывало меня с жизнью, но оно же убедительно доказывало, что я еще не труп.
Спазмы нехотя отпустили, и я, впечатленный результатом, сполз с кровати на четвереньках, чтобы поискать тряпку. Убрать за собой – это уже инстинкт. Жить – значит оставлять улики и грязные следы. В комнате, временно служившей мне темницей, я обнаружил трюмо. На зеркале губной помадой было нарисовано обнаженное женское тело, без рук и без головы; сердце, напоминающее все женское вместе взятое, было нарисовано отдельно. В зеркале отражались контуры мужского тела, смутно мне знакомые. Что делать дальше, я не знал, а принимать решение не получалось физически. Шевельнулось слабенькое желание разбить зеркало, но где уж мне было взять сил на погром, если даже на волевое усилие меня не хватало.
– Добро пожаловать домой, – раздалось где-то сбоку от меня.
В дверном проеме, словно уверенные гиены, маячили две любопытствующие женские фигуры, облаченные в халаты, желтый и розовый. Пропустить момент такого унижения они, конечно, не могли. Теперь мне было вовек не отмыться.
– Где ванна? – спросил я после некоторого как бы раздумья.
– По коридору направо.
– Спасибо, – сказал я и двинулся прямо на фигуры, соображая, что мне в моем положении следует считать «направо». Фигуры исчезли, и я двинулся наугад, в ту сторону, где стена, ограничивающая коридор, казалась мне поближе.
– Я хочу к себе домой, – прошипел я в пространство, изображая крик, и вдруг уперся головой в стену: она оказалась значительно ближе, чем я рассчитывал.
– Сначала мы поедем на кладбище, на могилу Алика, – ответили мне из глубины квартиры.
– Нет, я хочу к себе домой.
– Так-так. Не хочешь на кладбище – поедем в ЗАГС.
– Я хочу к себе домой.
В ответ мне выбросили мои помятые вещи. Обозвали Козерогом.
И закрыли дверь, металлически щелкнув замком.
25
Как я оказался дома?
Наверное, очень просто. Точно не помню. Помню, что я дрался за свою свободу, подтверждением чего являлись россыпи сиренево-лиловых синяков на бренном моем корпусе, напоминающих то ли трупные пятна, то ли временные язвы на вполне здоровом теле.
Приехал домой и лег спать: судя по всему, так я торжествовал победу.
Проснулся, осмотрел с помощью зеркала себя, словно изрешеченного пулями, – и мне захотелось почитать письма Алика Zero.
Очередное письмо лежало в отдельном незапечатанном конверте. Я достал и развернул лист, сложенный вчетверо. Посередине листа была написана загадочная фраза: «Они все сумасшедшие». И больше ни значка. Чистый лист бумаги, не считая трех слов (семнадцати букв), непонятно к кому относящихся.
Я потянулся за следующим письмом. Прочитаем его вместе с вами, заглянем, так сказать, через плечо. Когда вы последний раз читали письма? Сейчас их не пишут. Потому что не читают.
А может, у вас просто нет друзей?
26
«Как ты думаешь, почему я совершил самоубийство? (Совершу: в этом мало сомнений.)
Если это патология, если я склонен к самоубийству – то здесь и говорить не о чем. Сбой в генетической программе – и точка. Туда и дорога.
Но я-то идейный. Я духовный самурай. Человечество погибнет, в этом так же мало сомнений, как и в том, что скоро меня не станет. Если отвлечься от сантиментов по поводу красоты и религий – люди обречены. Я не хочу поддерживать иллюзию того, что все наладится, образуется, устаканится. Ничего не наладится само собой. Я протестую. Но не это главное; всемирное – это мой побочный мотив.
Главное же в этом мире – личное дело. Ты думаешь, что я испытываю восторг по поводу личной обреченности? Как бы не так. Я ненавижу смерть! Я готов даже умереть, чтобы отодвинуть ее хоть на мгновение. У меня просто не осталось резервов и иллюзий. Истребление иллюзий – опасная вещь, ибо покоится она на иллюзии, будто стоит убрать все иллюзии – и останется голая, неприкрытая правда.
Черта с два. Вместе с иллюзией уничтожится и правда: вот мое запоздалое и печальное открытие. Надо не иллюзии истреблять, писатель. Надо смело делать иллюзии стороной правды. Истины.
Думаю, ты меня начинаешь понимать. Мне 37 лет. В 37 жизнь не начинается и не заканчивается. Она обрывается. Вспомним Рафаэля, Байрона, Пушкина, Рембо, Маяковского, Хлебникова… Ван-Гога… Список убедительный. Тот же Питер Брейгель Старший дотянул лишь до 39. А где могила обожаемого вами Моцарта, немного не дотянувшего до 37? Где, люди добрые?
Моих родственничков, родную мне генетику, ты видел. Они легко протянут до 73. Это лидеры в номинации «Мистер и миссис Пошлость». Женщины?
Ты видел моих женщин. В кого я с ними превратился! Я низко пал к ногам Светланы. Мне стыдно стало смотреть в глаза себе, поэтому я стал избегать зеркал. Словно в доме покойника их не существовало для меня.
А это странно – не отражаться. Попробуй хоть день прожить не отражаясь. Тебя как бы нет. Ты стал бесплотной тенью. Под вечер уже сил нет терпеть, хочется убедиться, что ты занимаешь свое место в пространстве и времени. И страшно увидеть свое отражение: а вдруг тебя уже нет?
Лучше умереть, чем жить со Светкой и Ритулей. Их мелкая и тупая, какая-то фиолетовая сущность угнетает меня. Я называю их баклажанами с 17 грядки. Баклажан-Света, Баклажан-Рита. Обожаемые баклажаны…
Нет, я не умираю; я выбираю жизнь. Просто я отказываюсь жить либо растительной жизнью, либо дорасти в своем развитии до мелких принципов. А способны ли люди на большее?..
Что касается Оли, нашей дорогой светлой Оленьки (которая, кажется, даже в душе блондинка, хотя чужая душа – потемки), то это дама из области иллюзий, из каких-то романов. Не из жизни. Она настолько безнадежно целомудренна, что ее хочется развратить уже из педагогических соображений. Мне страшно, что она лопнет, словно мыльный пузырь, и разлетится радужными брызгами. Мне иногда кажется, что она не существует, что это просто моя выдумка в отместку жизни. Я не могу поверить, что такие бывают.
Честно сказать, я и за Вас боюсь. Хоть своим романом Вы и доказали, что являетесь доблестным рыцарем, врагом иллюзий, но при этом Вы чересчур красиво размахиваете мечом. Для хладнокровного убийцы Вы слишком романтичны. Нет, Вы не дожили еще до 37. Вам только 43. Вы не стали равнодушны к иллюзиям. Не верю, что Вы зашли в своем развитии дальше меня. Куда дальше? Куда?..
P.S. Пункт 1. Мне так хочется, чтобы меня кто-нибудь остановил, назвал все это бредом, и мы пошли бы пить шампанское. Но шампанское без иллюзий – это пойло с пузырьками.
Пункт 2. Написать столько писем, наворотить столько чепухи и не умереть – это даже не смешно. Это утрата достоинства. Сам себя загнал в тупик. Если найду достойный выход – порву письма и позвоню тебе. А если нет…
Приятного чтения.
P.P.S. Больше всего на свете мне жаль людей, написавших нечто подобное «Евгению Онегину» или «Моби Дику». Я бы поставил памятник Пушкину отдельно за «Онегина» и отдельно за все остальное; Онегину же воодрузил бы монумент только за то, что он убил поэта. Ненавижу поэтов, этих разносчиков иллюзий.
И Пушкин, писавший об интеллектуально развитом безумном Германне, и Герман Мелвилл прекратили творить в 37 (правда, один, Александр, был убит, а второй, Герман, и того хуже: доживал).
И тот, и другой знали цену своим творениям и цену публике, которая никогда их не прочитает.
Жаль.
Поэтому я и написал Вам. Мне стало жаль Вас. Лучше общаться с умным мертвецом, чем разделить судьбу Пушкина. По его меркам Вы уже зажились на этом свете, пардон за прямоту.
Ты залетел слишком высоко».
27
Пустыня.
Я иду вперед, ощущая за спиной зеркало. Не видя отражения, я чувствую, как уменьшаюсь в размерах. Оборачиваюсь. Я представлял себя именно таким: размером с валенок. Иду дальше, но уже знаю, что вскоре поверну назад. Почему же я не поворачиваю прямо сейчас, сию секунду? Я набираюсь решимости.
Поворачиваю. Иду прямо к зеркалу, оно все увеличивается и увеличивается в размерах. Напрасно я опасался, что оно может оказаться у меня за спиной. На всякий случай оборачиваюсь: пустыня до самого горизонта. Вновь вижу перед собой зеркало. Подхожу к нему, не меняя скорости. Просовываю ногу в зеркальный овал. Зеркало должно бы разбиться, однако оно, не меняя своей стеклянно-зеркальной субстанции, легко пропускает меня сквозь себя, в зазеркалье, и на моих глазах срастается, затягивается поврежденная амальгама, словно плазма.
Я иду в другую сторону. Не прибавляю, но и не укорачиваю шаг. Иду в другом направлении, неизвестно куда, но у меня на душе радостно и немного тревожно. Постепенно приходит ощущение, что я все делаю правильно.
Набираюсь решимости. Оборачиваюсь.
Зеркало исчезло.
Я, не сбиваясь с темпа, продолжаю идти вперед. Вхожу в город. Подхожу к собственному дому. Захожу в подъезд, поднимаюсь на свой этаж. Открываю собственным ключом дверь собственной квартиры. Вхожу. Подхожу к дивану. Ложусь и закрываю глаза.
Открываю глаза – и нахожу себя лежащим на диване.
В своей комнате.
В своем городе.
Вокруг что-то изменилось.
28
Я вышел на улицу. Уже весеннее голубенькое небо было затянуто сизыми дымами, клубящимися из бетонных труб, жерла которых были направлены, очевидно, против белоснежных ангелов; лоскуты свободного подсиненного пространства были заляпаны какими-то неопрятными пятнами, и только светлый аквамариновый луч, рассекавший небо напополам, – расплывающийся след от реактивного истребителя – вселял оптимизм. На другой стороне неба скромно, хмурой аскезой, бледнел кружок луны, словно упрек и одновременно облатка, протянутая страждущим строгим неулыбчивым пастырем.
Всему хватало места, не было только чистоты и простора.
Я уставился себе под ноги. В грязных лужах отражалось небо. Тогда я поднял глаза на прохожего, чем-то напоминающего Алика. Он опустил свой взгляд вниз. Я отвел глаза в сторону – и вдруг увидел даму, попавшую в мой роман под именем Мешок Историй. Она подтянула к себе пса на поводке, словно опасаясь, что я на него брошусь. (У собаки была кличка Лео и подрубленная морда, отчего псина производила впечатление недоделанной.) Я кивнул ей и пошел дальше, сопровождаемый изумленным взглядом Лео. В этом мире, кажется, не потеряли способность изумляться только собаки.
И вдруг до меня дошло: все люди в буквальном смысле сумасшедшие. С ними можно общаться только на собачью тему «пожрать – поспать – повеселиться». Люблю повеселиться, особенно пожрать. Все, что касается проблем брюха (а это природа и социум), – всегда пожалуйста. Тут они мудры и талантливы. Но как только дело касается понимания, смысла или «философии», требующих умения удивляться, – все становятся сумасшедшими. Никого ничем не удивишь.
Я писал для сумасшедших: вот откуда моя тягучая вековая тоска.
Я один в мире сумасшедших.
Мне стало весело. Оттенки сумасшествия – правый, левый, диссидент, буддист, христианин, демократ, зеленый, голубой, рыжий, что там еще? – меня давно перестали интересовать.
Я остался один. А круглое одиночество, насколько мне известно, является в культуре символом смерти. Нулем. Чтобы возвратиться к людям, надо было признать себя сумасшедшим, а их нормальными. Нужно было стать, как все. Но это мне никак не удавалось. По всему выходило, что сумасшедший не я, а они, несмотря на подавляющее количественное превосходство. Соотношение могло смутить кого угодно: один (просто один, как земной шар, безо всяких нулей) – к семи миллиардам (это сколько же нулей!). Когда роман выйдет, будет один к восьми, а может, к девяти; десяти миллиардов земной шар может просто не вынести и превратиться в ноль; значит, один к десяти нереально.
Чтобы доказать себе, что я еще жив, я решил чего-нибудь захотеть. Чего мне хочется?
Когда первый страх прошел (секунд десять-пятнадцать мне абсолютно ничего не хотелось: пустота, вакуум…), мне представились груди Оленьки. Круглые. Похожие на два ноля, к сосцам которых присасывается всякая начинающая жизнь. Я очень обрадовался: мне очень хотелось, чтобы мне захотелось именно Оленьку.
Инстинктивно (привычка – вторая натура) я поднял голову вверх. Небо потеряло краски, а луна набирала свет. Она выпукло выпирала из тьмы и стала удивительно похожа на воплотившийся ноль (если отвлечься от ассоциаций с женской – Оленькиной! – грудью). В мире все обнулилось. Но начало это было или конец – неизвестно. Куда дальше?
Скажу тебе, Алик, куда (или Жан? Псевдоним потянул за собой псевдожизнь…). Дальше – вниз, в смысле, вверх. К Оле, вот куда. Все-таки дорога жизни – это на круги своя. Нарезай по спирали круги-нули – это и есть прямая дорога жизни. Дорога ведет в никуда, а жить надо со смыслом. Ничего себе задачка. Чтобы весело истреблять иллюзии, надо плодить их в бешеном количестве и подсовывать себе, как спасательные круги. Что-то в этом духе. Понимаешь?
Извините, что поздно сообщаю Вам об этом, но думаю, Вам приятно было бы это слышать. Думаю, что Вы были бы счастливы, если бы я Вам достойно возразил. Может быть, дошло бы и до шампанского…
Извини, Алик-Жан. И большое человеческое спасибо.
29
Телефон Оли упорно не отвечал.
Я сразу же решил, что она исчезла.
От чувства фатальной утраты у меня даже засосало под ложечкой. Два дня с утра до поздней ночи я с механической регулярностью набирал номер ее телефона. После тринадцатого гудка я давал отбой. Через час набирал снова.
И я так привык к монотонным тягучим гудкам, удивительно созвучным моему темному настроению, что не сразу узнал ее голос, когда она взяла трубку. Мне даже не понравилось, что кто-то мне отвечает. Мне уже не нужен был никто.
– Слушаю, – сказала Оля.
– Это я. Ты мне нужна.
Я произнес это настолько неубедительно, что мне стало неловко, как в юности. Слова были правильными, честными, но пустыми. Не так надо было говорить о том богатом и сложном чувстве, которое распирало меня два дня тому назад. Да, общение с людьми – это сплошной труд. Расслабиться нельзя ни на секунду. Но именно общение и держит тебя в форме.
– Извини, – зачем-то добавил я. Это прозвучало уж и вовсе по-дурацки. Я бы на ее месте бросил трубку и пошел пить кефир.
– Ты зачем звонишь? – спросила Оля, мягко протягивая мне руку.
– Понимаешь…
И я изложил все, что накопилось у меня на душе. Это заняло минут двадцать.
Оля плакала.
– Что случилось? – глупо спросил я, не испытывая при этом никакой неловкости.
– У меня умерла Муся.
– Кто такая Муся?
Я похолодел, готовясь услышать самое страшное.
– Кошка.
– Ты что, два дня ее хоронила?
– Нет. Я была дома. Лежала и плакала.
– Почему же не поднимала трубку?
– Я отключила телефон.
– Понятно. А сейчас ты в порядке?
– Нет, не в порядке.
– Что же будем делать?
– Не знаю. Ты бесчувственный эгоист.
– Не исключено. К тому же я страдаю клипофобией.
– Тебя надо бросить, чтобы ты побыл один. Ты знаешь, что такое одиночество?
– Конечно. Эгоисты ведь одинокие люди. Скажи, а как выглядела твоя кошка?
– Она была красивой. Большие глаза, пушистый хвост.
– Удивительно. А какого она была цвета: черного или белого?
– Ты думаешь, что кошки бывают только черные или белые? Она была пестренькая.
– Оля, а ты, случайно, не буддистка?
– Нет.
– Значит, для тебя кошка не больше чем кошка?
– Ты ничего не понимаешь. Она была мне другом.
– Пестренькая кошка?
– Да, кошка. Муся.
Я действительно ничего не понимал. Впрочем, удивляться не спешил. Кошка Муся была хоть родом с этого света, земным существом, а мой далекий друг…
Спроси меня кто-нибудь о моем несуществующем, но несомненно реальном друге Zero – и я бы ничего толком не объяснил.
В таком состоянии лучше всего писать романы.
30
Экран телевизора, заменяющий окно в мир, загорелся нежной голубизной, заимствованной у весеннего неба. Оказалось, что небо и было в кадре, ибо именно в небо упирался купол собора Святого Петра в Риме.
Показывали церемонию прощания с усопшим Папой Римским, наместником Бога на Земле. Миллиард католиков осиротел. Континенты трогательно рыдали. У всех остальных были свои Папы и свои наместники. Однако все люди, представители разных рас и вероисповеданий, дружно кивали головами: мир потерял великого праведника, который хотел примирить всех нас. Получалось, что на свете не было мировой войны, но это не означало, что был мир. Какое-то неестественное перемирие царило на Земле, и никто не знал, как долго оно продлится. Папа был хрупким символом чего-то важного для всех. На всякий случай в небе над площадью барражировали самые современные военные вертолеты, чудо техники; на крышах расположились снайперы, оснащенные чудо-винтовками; четыре миллиона паломников, прибывших проститься с Папой, общались со своими близкими при помощи мобильных и сотовых телефонов. Человечество не сводило глаз с Рима.
– Сначала нам было невыносимо тяжело, – говорили верующие. – А теперь мы радуемся за Папу: он предстал перед Богом.
Интересно, подумал я, встретится ли Алик с Папой? Это было бы большим сюрпризом для господина Бакланова. И о чем бы они стали говорить?
Печальное неспешное зрелище, образцово-показательное укрощение суеты. Тщательно продуманный ритуал, вполне достойный кончины наместника Бога. Траурный пурпурный колор в белом обрамлении, мрамор склепов. Но чего-то не хватало.
Ах, да, рекламных пауз.
XXI век на дворе. Амен.
На другом канале, в популярном ток-шоу, тучная, но не лишенная элегантности, дама, чем-то похожая на Мешок Историй, уверяла публику, что, идя в церковь на исповедь, всегда прихватывает с собой милую Леди, породистую суку аристократических кровей. Вот эту прелесть, лежащую у ее ног. И эта сука кается в грехах даже искреннее, чем сама хозяйка. «Это несомненно», – признавалась дама. Услышав такое признание, сука решительно залаяла. Отзывчивая публика сочувственно качала головами.
Вмешался солидный мужчина. Он со знанием разъяснил, что собакам на исповеди быть не полагается. Они животные нечистые, и потому загрязняют Храм Божий. Бывали случаи, когда Храм приходилось переосвящать. Да-да. Часть сочувствующей публики переметнулась на сторону мужчины. Возникла дискуссия в цивилизованных рамках. Все говорили правильные слова, расставленные в правильном порядке. Но все это вместе взятое являло собой чудовищную глупость.
На меня в очередной раз накатило хорошо знакомое мне чувство вселенского абсурда. Всемирно-исторический маразм никто в упор не замечал: вот что было забавно. Зрение миллиардов было устроено таким чудесным образом, что они видели во всем благодать и непостижимость. Для меня же непостижимым было только одно: как они умудряются жить-поживать без царя в голове, как они до сих пор не сгинули со своими лицемерными душонками, которые смердят, кажется, мне одному. Если бы я попытался встрять в любую дискуссию на любом шоу, сочувствие публики было бы не на моей стороне. Меня бы просто съели. Неужели весь мир копошится назло мне?
Я отреагировал как обычно: достал из холодильника кефир и сделал добрый глоток. Терпкая живительная влага сделала свое дело. На миллиарды стало наплевать. Мне нужна была только Оля.
Я переключил канал. Переделанная на новый лад старая история любви примирила меня с абсурдом. Печальная мелодрама: вот лекарство ото всех печалей. Ничто не ново на земле. Под луной. К сожалению.
Во время рекламной паузы (рекламировали новую модель телевизора: «сверхплоский экран, райское наслаждение») я, чтобы избежать клипового вала, переключил канал и услышал анекдот от постоянного унылого ведущего, изображающего жизнелюбие.
«Доктор (внимательно осмотрев больного). – Этого пациента в морг.
Пациент (жалобно). – Доктор, может все-таки в реанимацию?
Доктор. – Больной, не занимайтесь самолечением. Я сказал в морг – значит, в морг».
Анекдот хороший, но, опять же, с бородой. Столько информации, а ничего нового.
Неужели ничто, совсем ничто не ново под солнцем?
31
У людей ведь небогатая фантазия: вечность у них облицована мрамором, ангелы представляются в виде невинных младенцев, а невинные, но незаконнорожденные, младенцы – кошмаром для законопослушных пап.
Кстати, по поводу младенцев. Вчера я погорячился, утверждая, что телевидение не удивит вас ничем новым. Думаете, почему я смотрю телевизор? Потому что у меня нет кошки?
Не только поэтому. Телевидение изумляет меня тем, что неутомимо заваливает вас все новыми и новыми аргументами, подтверждающими старую истину, которая гласит: люди глупы, но еще глупее тот, кто позволяет себе обнаруживать свой ум. Какими великолепными образцами глупости иной раз побалуют вас! Выдумать такое невозможно. Есть просто шедевры.
Вот перл, украшающий мою коллекцию идиотизмов, радикально обновляющуюся каждые три дня. Где-то в Канаде в срочном порядке стали вытравливать амурчиков или ангелочков (в общем, младенчиков с крылышками) с барельефов старого культового здания – католического собора. Почему? Потому что младенцы с крылышками стали ассоциироваться у паствы с педофилией в храмах. Амурчики стали уликами. На воре загорелась шапка. Малиновые колпачки кардиналов стыдливо пылали. Если бы священники хотя бы на один вечер оторвались от Библии, они бы поняли: сбивать ангелов – значит де факто признавать педофилию и делать ангелов ее символами и провозвестниками.
Вроде бы пустячок, ничего нового, но, согласитесь, придумать такое невозможно. Меня радует глупость человеческая, это единственный источник моего хмурого оптимизма. Люди боятся самих себя, и вынуждены обращаться к разуму. Вынуждены! Для меня это звучит как молитва последней надежды. Амен.
Я бы сохранил все телепередачи в записи, чтобы потомки, если они появятся, воочию убедились: самое удивительное не то, что человек произошел от обезьяны, а то, что он не желает замечать своего сходства с этой Божьей тварью.
А по поводу младенцев я бы хотел добавить следующее. Моей жизни стало угрожать обстоятельство, которое раньше не воспринималось мною как меня касающееся. Очевидно, где-то глубине души к детям, нашему будущему, я относился серьезно. Представить себе, что мое будущее находится во чреве рабы Божьей Светланы, было для меня пыткой. Кроме того, по этому поводу неизбежно было объяснение не только со Светланой, но и с Олей. Это меня не радовало.
Как только решишь вернуться к жизни, сразу появляются проблемы, от которых не хочется жить. Может быть, поэтому я решил съездить на могилу к Алику. Поводом же послужило то, что я ни разу там не был.
Каково же было мое удивление, когда я обнаружил рядом с ухоженным холмиком рыдающую вдову! Да-да, Светлана плакала не на публику, ибо на сотни метров вокруг не было ни единой живой души. Как я и предполагал, Алик был похоронен рядом с детской могилкой. Мальчика звали Артем. Он был крещен. Я стал невольным свидетелем трогательной семейной сцены.
Светлана, заметив меня, не стала вести себя как при постороннем. Она неторопливо осушила слезы, потом долго возилась с носовым платком, приводя себя в порядок. Наконец, изволила обратить внимание на меня.
Я был чужаком, вторгшимся на интимную территорию. С другой стороны, и меня застали в минуту откровенности: я сам, по собственной (доброй или недоброй?) воле, прибыл на могилу того, кто так или иначе был мне дорог. Своим визитом я признавался в этом, и это была дань слабости. Отрицать мое неравнодушие к Алику было бы глупо.
Вдова тонко почувствовала мутный эфир, объединяющий нас. Она взяла меня под руку, и мы, связанные общим горем, направились к общим радостям (по умолчанию). В этой ситуации все, сделанное, сказанное или помысленное мной против вдовы, решительно оборачивалось против меня. В частности, уйти от вдовы не женихом означало тут же, не сходя с места, превратиться в подлеца. Вот это я и называю великим умением налаживать отношения, самым естественным образом оборачивая все двусмысленное в свою пользу.
У вдовы в скором будущем, не сомневаюсь, будет три завода. Нет, пять как минимум.
Поскольку о котах и вдовах я так ничего и не сказал, считаю уместным выполнить свое обещание вернуться к этой теме именно сейчас. Возможно, это не лучшее время и место, но других просто не предвидится: что-то подсказывает мне, что роман близок к завершению (хотя агония – понятие растяжимое и трудно прогнозируемое). Так вот. Кошки, мне кажется, весьма и весьма напоминают вдов, даже белые, не говоря уже о черных. Они, кошки и вдовы, естественны и грациозны. При всем том, что они и не думают скрывать своих корыстных намерений, одно удовольствие наблюдать за тем, как они с неподражаемой ленцой, как бы нехотя, словно уступая назойливым упрашиваниям, добиваются своих целей. Им глупо завидовать, ибо здесь нет умения или искусства: это Божий дар. Надо родиться вдовой или кошкой.
Вот почему, с обожанием глядя на Светлану, я с придыханием полуспросил, не скрывая зародившейся надежды:
– Ангел мой, а ведь ты не беременна…
Кошка осталась кошкой. Она вывернулась у меня из-под руки и неотразимо возразила:
– Неужели ты думаешь, что когда-нибудь узнаешь об этом наверняка? От тебя, возможно, и Марго беременна. Мы еще не решили. А я все равно рожу ребенка, и это будет мой ребенок. А вот твой или нет – ты никогда об этом не узнаешь.
Смех ее чем-то напомнил довольное утробное урчание.
32
Рассказать о богатой и содержательной жизни – значит поведать о том, как приятное роковым образом превращается в себе противоположное. Трагедия подстерегает удовольствие, приятное во всех отношениях порождает катастрофу, все это переплавляется в сладкую муку, отказаться от которой – погибнуть, а жить с ней – выше отпущенных тебе сил.
Приличный человек и трагедия становятся ближайшими родственниками. Жить – значит существовать в королевстве кривых зеркал, где вы будете отражаться очень неприлично. Комната смеха по нечетным дням будет превращаться в комнату ужаса. Вы обречены слоняться по лабиринтам в поисках единственного запылившегося нормального зеркала, которое отобразит вас без искажений, таким, каков вы есть на самом деле. И вы найдете его, желая того или не желая. Иногда после этого человек делает вид, что нечаянно разбивает честное зерцало, которое разлетается вдребезги, как будто к нему приложились доброй кувалдой, и мчится в зал с кривыми зеркалами. Но пыльное зеркало, то самое мерзкое стекло, будет время от времени обнаруживаться в самых неподходящих местах, то ли преследуя вас, то ли пытаясь чем-то помочь. Оно превратится в гадкий инструмент идентификации. А надо ли это человеку, для которого инструментом познания стал миф?
Мне вдруг стало понятно, почему в моем романе «Женщина, которая любила ночь» безнадежная ситуация, которая завораживала своей безнадежностью, взяла и банально закончилась любовью. И я, слабо посопротивлявшись для приличия, особо не препятствовал этому. Роман честно отразил самый главный закон жизни, который можно отразить только романом. На закон, отраженный в зеркале философии, смотреть нельзя, как на солнце. Нужны защитные очки или защитный экран. Нужно постепенно приучать свое зрение к истине, угрожающей жизни. Алик сунулся без спецсредств – и что же?
Крылья свои опалил, словно Икар неразумный.
Кстати, по поводу Икара… В письмах у Алика я обнаружил репродукцию картины Питера Брейгеля (старшего) «Падение Икара».
Честное отражение. Я, разумеется, прочитал картину как письмо.
Вот вам Божий мир, состоящий из будничных забот: люди пашут землю, занимаются скотоводством, рыбачат – как говорится, добывают хлеб насущный. Словом, живут, послушные зову природы. Суета сует. А тот, кто дерзнул подняться выше всех, воспарить над суетой, долететь до Солнца как-то неуклюже сверзился, булькнул в воду – и никто этого даже не заметил. Вот пастух среди деловито жующих овец (он близоруко смотрит в небо: его интересует, конечно, погода, а не чиркнувший по тучке человек воспаривший, подобные глупости добропорядочного пастуха не волнуют), вот пахарь на зеленом мысу (в поте лица своего, разумеется, поэтому лица-то, собственно, и нет: важно, что он пашет, а не какое у него лицо), а вот крупным планом впечатляющий круп его помощницы, доброй лошади; пахарь в алой рубахе со знающей свое дело лошадью выше всех над уровнем моря, ближе всех к небу, между прочим, по принятой Брейгелем иерархии; вот почему рядом с землепашцем – меч и мошна, набитая златом (поближе к тебе, зритель, подальше от дурака Икара, лица которого, кстати, по понятным причинам также не разобрать); вот моряки доблестного военно-торгового флота, уходящие в море: им тоже не до праздного глазения, ибо и они заняты делом, они ставят паруса. Все дышит и пышет благонравием.
И среди этого мирского благолепия маленьким диссонансом, только обостряющим чувство гармонии, нелепо торчат голые ноги бунтаря из лужи залива. Перья распавшихся крыльев ветер уносит смешливый.
Самое смешное и трагичное – Икара в упор не заметили. Ни одна душа не отреагировала на первый полет человека в космос.
Кроме Питера Брейгеля (старшего). Да вот нас с Аликом.
Так ведь картина-притча брудера Питера, Мужского, как известно, как раз о том, что никто ничего не заметил…
У Алика было чувство юмора и художественный вкус. Мне приятно, что мой роман ему понравился. Но я уже знал, что он обязательно коснется концовки.
И я не ошибся. Вот его последнее письмо.
«Я уже говорил Вам, что роман Ваш, вернувший меня к жизни, жизнь-то у меня и отнял. Это не обвинение, это, если угодно, комплимент. Так вот. Я не принимаю в Вашем романе только концовку. Такой слащавый, лишенный энергии трагизма конец задает всему роману и, соответственно, всей нашей жизни иной вектор, иную содержательную направленность. Роман, опаскуженный благими намерениями, начинает противоречить себе в такой степени, что ему перестаешь верить. Вы пошли на компромисс, Вы проявили слабость. Я имею право сказать Тебе это, ибо нет у Тебя более преданного, а потому непримиримого, почитателя. Я Твой абсолютный читатель. Без меня Твой роман был бы невозможен. Он был бы мертвым, невостребованным.
Я тебе шепотом выскажу одну мыслишку. Если бы ты отважился на беспросветный финал, если бы ты не дрогнул и обрубил все концы, говорю я, то, возможно, мы бы с тобой пили сейчас шампанское. Понимаете? Хе-хе-с.
Вы не оставили мне выбора. Финал Вашего романа делает меня неполноценным, подносит зеркало к моей жизни с другой стороны и издевательски поигрывает ракурсами. Я не готов к таком финалу, я в самом начале отверг его как банальную розовую чушь. Это нелогичный финал. И не очень-то гуманный, не питайте иллюзий. Лучше честно сказать, что всем нам крышка: мы хоть шевелиться начнем. А Вы опять про небо в алмазах. И почему это каждый писатель (не путать с рассказчиком и сочинителем) считает своим долгом пострадать за гуманизм, которого не бывает без привкуса чудес? Гуманизм – это жестокая правда, настолько жестокая, что перенести ее можно только потому, что это правда. Правда рождает достоинство, но отнимает жизнь. Именно об этом Ваш роман, вплоть до самого конца…
Я бы предложил такой финал.
«Серьезно отнесешься к женщине – перестанешь себя уважать; несерьезно – будешь несчастлив». Вот лейтмотив романа и смысловая доминанта его финала, выступающего концом и одновременно органическим продолжением романного целого, – финала, устремленного к началу романа. Герой отлучает «счастье» и «смысл» от «женщины». Это неизбежно. Следовательно, он расстается с той, к которой питает известную слабость. Любовь – это серьезное отношение, невозможное для серьезного героя. И что потом? Потом смерть, которая является началом всякой жизни. Он умирает, а женщина рожает от него ребенка. Уже после его смерти. И жизнь продолжается, и герой не унижен сказкой.
Прощайте (тут он назвал меня по имени-отчеству). Видит Бог, мне жалко с Вами расставаться. Но иного финала я просто не представляю. Пора. А как не хочется бросать ручку, обычную пластмассовую шариковую ручку. Атрибут цивилизации. Ярко красного цвета. Держусь за нее, как за соломинку. Глупо…»
Меня охватило чувство праведного гнева, слегка смешанного с отчаянием (как известно, непростительным смертным грехом). Я подошел к зеркалу и заорал в лицо своему покореженному отражению, так сказать, швырнул в морду сопернику гроздья гнева:
– Урод! Ты просто урод! Бедолага! У тебя не хватило мужества опуститься до иллюзий. Ты решил, что лучше стать девятьсот девяносто девятым Икаром, чем первым, обратившим внимание на его гибель. Хорошо, пускай не первым. Третьим. Но не девятьсот же девяносто девятым! У тебя атрофировались чемпионские амбиции, ты забыл вкус победы. Ты превратился в бабу, и все испортил своей бабьей логикой.
Мне до того не понравилось свирепая рожа Алика, озабоченно торчащая из зеркала, что я схватил первый попавший мне под руку предмет (к несчастью, им оказался телефонный аппарат) и с наслаждением, сделавшим бы честь Герострату, запустил в лоб своему визави. Зеркало ледяным колким крошевом опало и поползло вниз. Этот ледяной душ привел меня в чувство. Я стоял один, и у меня больше не было ни зеркала, ни телефона.
А ведь я собирался сегодня позвонить Оле.
Так я первый раз в жизни поссорился со своим другом. Поскольку это было последнее письмо, то и надежды на примирение не было никакой. Абсолютно никакой. Я ведь лишен счастья быть католиком. Мы с ними живем на одной земле, но для них это стартовая, во многом экспериментальная, площадка, откуда начинается, может, и терновый, но реальный путь в блаженное бессмертие, а для меня здесь начало и конец. Всё. Все икары возвращаются сюда. Этот нулевой цикл является для меня возможностью понять. Жизнь для меня и блаженно верующих имеет разную цену. Они готовы отдать жизнь за плащаницу, я же не отдам ее и за то, чтобы доказать, что и плащаницы никакой не было. Мне нельзя ошибиться. Меня никто не простит.
И вдруг я понял такую вещь: моего финала не появилось бы, если бы не было каторжного финала Алика. Он спас меня, протянув руку оттуда, где нет никакого бессмертия. Ай, да Алик, ай, да Сукин Сын. Смертию смерть попрал, бестия этакая. Это удавалось немногим из живших на Земле.
Да-да, именно так: написанный до его смерти роман был во многом обязан неизбежности его гибели. И теперь мою и его жизнь, мой новый этап и его финал, нашу переписку и мой роман, наших женщин, мою и его Олю я рассматривал как одно целое. В этом целом нашлось место и католикам и нашему с ними фатальному взаимонепониманию, ведущему – я верю в это! – к большой дружбе.
Так я помирился со своим другом Аликом Zero.
33
Только ближе к вечеру я осознал, что телефон мой мог молчать лишь потому, что аппарат был разбит. Оказывается, я ждал звонка, упустив из виду, что был отрезан от всего мира. Я не был, как католики, вооружен мобильником, этим чудом научно-технического прогресса: он был мне просто ни к чему. Меня ведь никто нигде не ждал.
Мне пришлось выйти на улицу. Я долго отыскивал таксофон на улице и еще дольше покупал электронную карточку, с помощью которой можно было позвонить. Молоденькие продавщицы киосков смотрели на меня как на продукт ушедшей в прошлое эпохи. Сейчас играют по другим правилам. В моем возрасте все давным-давно обзавелись мобильниками. Я стремительно морально устаревал и в их, и в собственных глазах.
Оля к своему аппарату не подходила. Я три раза посчитал до тринадцати.
Может, сегодня было девять дней по кошке?
Вернувшись домой, я автоматически нажал на пульт телевизора. Чудо из чудес ожило: мягко вспыхнул экран. Рекламировали мобильники. «Ты этого достоин!» – вещал за кадром густой харизматический баритон, от которого за версту несло успехом и вальяжным благополучием. На фоне голубого неба безмятежно летел Икар, весело болтая по мобильнику и подрыгивая ногами. Вот он, чертов дух эпохи.
Именно в тот момент, как баритон уговаривал меня приобрести престижное средство связи, на зависть всем, исключительно последнюю модель (все предыдущие мгновенно превращались в хлам, то есть морально устаревали), принесли телеграмму. «Куда ты исчез? Не могу дозвониться. У нас будет ребенок. Оля».
После рекламы, когда, как и положено в лучшее вечернее время, у экранов собралась многомиллионная завороженная аудитория, наступил час анекдота. Потом, разумеется, пластиковый ящик будет тешить народ паршивым мелодраматическим (или детективным: тут, будем справедливы, возможны варианты) телесериалом, повторяемым утром, потом боксом попсового качества (или новым сериалом). Актер, обреченный на успех, лениво картавил.
«На борту пассажирского авиалайнера возникла аварийная ситуация. (Смех в зале.)
Командир экипажа. – Алло, Земля, как слышите? Прием!
Земля. – Слышим прекрасно. В чем дело?
Командир. – Дело в том, что у нас заклинило руль! (Взрыв смеха.)
Земля. – Попробуйте повернуть его вправо.
Командир. – Пробовал. Не получается. (Смех.)
Земля. – Попробуйте влево.
Командир. – Не получается! Что нам делать? (Смех.)
Земля. – Значит так, сын мой. Крепче держись за штурвал и повторяй за мной: «Отче наш иже еси на небеси…» (Все тонет в хохоте.)»
Я тоже рассмеялся, хотя анекдот был настолько старый, что смешно было смеяться. А потом подумал: «Непременно куплю себе мобильник. Ведь я этого достоин».
И еще я подумал: экран телевизора следует сделать не только плоским, но и круглым.
Надо соответствовать миру по всем параметрам.
<34–36>
37
… – Мир кучкуется вокруг Рима. Я же проповедую новую веру: персоноцентризм называется. Да-да, персоноцентризм. В центре мира – личность. Бога – в отставку. Не миллиардами надо считать людей, господа, а личностями. Лицо – это зеркало ума. Смысл моей веры в том, чтобы ни во что не верить, даже в неотразимые доводы рассудка (особенно – в неотразимые). Надо все понимать. Не плакать. Не смеяться. Не ненавидеть. А понимать. Неужели и Спиноза ушел из жизни в 37? Обидно всем. Я проповедую культ разума (не интеллекта, Боже упаси!). Ты хоть понимаешь, что это такое? Меня спроси. Тебе хорошо, ты уже труп. А я тут отдувайся за вас всех. Да-да, за вас всех. Валом. Пахарей, пастухов, пастырей в алом. Yeah…
Права человека надо заменить правами личности. Я живу по кодексу прав личности, а Нагорная проповедь сегодня морально устарела. Это миллиарды сегодня устарели, а не я, и не надо так смотреть на меня, милые барышни. Круглые глаза – это еще не аргумент. Круглые глаза бывают и у кошек. Да-да, я к вам обращаюсь, королевы киосков, где предлагают публике только жвачку в красочной упаковке, колготки и мобильники. И уж чем-чем, а грехом любви к ближнему я не оскандалился. Да-с!
И вообще, что вы тут мне тычете круглым? У моей жены круглый живот: чем вы меня удивите после этого? Ах, вы ничего не знали об этом, вы не в курсе дела? Так знать надо, дор-рогие мои, хор-рошие… Пригожие.
Возможно, я напишу еще один роман. «Мужчина, который обожает день». Или «Игра в игру». Или целых два-с. И детей я буду любить. И вас. Но чего вы не дождетесь от меня, так это благостно-постной мины при упоминании о священных правах человека, превыше всего ставящих права желудка и его служанки, души. Идеология – вот ваш предел. Вам подавай систему заморочек, которую вы именуете свободой. А предел моей веры – разумный миропорядок, где нет толпы и не барражируют вертолеты, где личность перестает быть лишней и может реализовать себя…
И не надо творить из меня кумира. Успокойтесь, миллиарды. Да, да. Ага. Я устал быть бронзовым, я хочу рухнуть с пьедестала, yeah, и рассыпаться на мелкие кусочки – чтобы восстать из праха и стать тверже бронзы, тверже стали, скрывая ото всех свою хрупкость… Достали…
– Что с тобой, милый? – спросила Оля, просунув голову в дверь. Она застала меня перед новым зеркалом, где я в полутьме репетировал нечто вроде тронной речи. Это был клип в стиле рэп на тему собственной личности, вписанной в контекст человеческой истории. Глаза у нее сделались огромными, словно у кошки, занимая около тридцати процентов площади лица.
– Со мной все в порядке, дорогая, – соврал я.
– Не пора ли спать?
– Пора.
– Я же говорю тебе, не смотри телевизор на ночь. Лучше с утра: там хоть сериал стоящий.
– Оля, ты знаешь, кто такой Спиноза?
– Нет. Но это не мешает мне спать.
– Оля, а кто такой Леха Бусел?
– Зачем тебе Леха?
– Это таинственный человек.
Мое отражение в зеркале поднесло палец к губам. И я, хитро сощурившись отражению, озвучил этот жест:
– Тс-с-с…
– Милый, а кто такой ты?
Я задумался.
– Человек, который получает интеллектуальное, нет, разумное удовольствие от погружения в дурную бесконечность. В давние времена таких называли философами. Они должны знать цену человеку. Сейчас эта категория морально устарела. В цене шаманы и рассказчики анекдотов.
– А кто такая женщина, которая любит ночь?
– Это просто женщина, всякая женщина. Вообще все женское: наша цивилизация, Земля, душа… По-моему, любая женщина любит ночь, потому что ночь к лицу женщине. Словно вуаль. Или косметика. Разве нет? Посмотри.
Две фигуры, мужчины и женщины, отражались в зеркале. Круглые глаза Оли светились сухим, то ли мистическим, то ли оптимистическим, блеском. Она казалась таинственной и загадочной. Ночь делала ее значительнее и привлекательнее. Мужчина – просто темный строгий силуэт – явно стушевался на ее фоне. Лучше сказать, он-то и служил неброским фоном, оттенявшим ее расплывчатый облик. У мужчины, если присмотреться, сзади намечался легкий горбик, напоминавший сложенные крылья, которые вовсе не делали его похожим на ангела; у женщины, словно для симметрии, округлялся животик спереди. Мужчина обнимал сзади женщину, и совмещенные таким образом силуэты стремились образовать круг. Подозрительно напоминавший нуль.
При этом любой бы сказал, что надежда и мечта сконцентрированы в правом от зрителя полушарии, в туманном облике женщине, а не в четких линиях мужчины.
Женщина, носящая в своем чреве мужчину, – последнее для него прибежище и пристанище…
Эта ночь была для меня бессонной. Я лежал, тупо уставившись в потолок.
Под утро мне приснился сон. Ощущение прерванного полета, всплеск воды.
Я проснулся действительно мокрый, весь в нездоровом поту.
Кстати или некстати на улице лил мелкий дождь. Апрель…
Моя жизнь сильно изменилась.
Я почувствовал себя значительно помолодевшим.
Сбросившим года лет до 37.
...
Ноябрь 2004 – апрель 2005






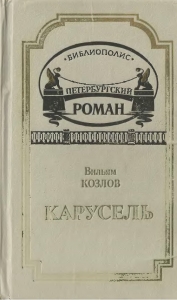


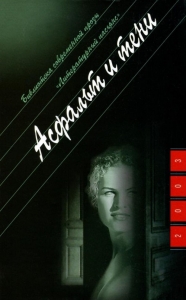

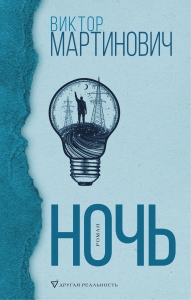
Комментарии к книге «Всего лишь зеркало», Анатолий Николаевич Андреев
Всего 0 комментариев