Сью Монк Кидд Обретение крыльев
© И. Иванченко, перевод, 2014
© ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2015
Издательство АЗБУКА®
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
Со всей любовью посвящается Сэнди Кид
Часть первая Ноябрь 1803 – февраль 1805
Хетти Гримке Подарочек
Давным-давно в Африке люди умели летать. Я услышала эту историю от матушки, когда мне было десять. Однажды вечером она сказала:
– Хетти, твоя бабка сама видела. Говорила, будто видела летящих над деревьями и облаками людей. Приехав сюда, мы утратили прежнюю магию.
Матушка была сама мудрость. Ее, в отличие от меня, не учили читать и писать – обучила сама жизнь, подчас немилосердная.
– Не веришь? – Она взглянула в мое недоверчивое лицо. – Тогда откуда у тебя это, девочка? – И похлопала по моим выпирающим костлявым лопаткам. – Все, что осталось от крыльев. Сейчас это лишь плоские косточки, но когда-нибудь у тебя вновь вырастут крылья.
Я не уступала матушке в уме и сообразительности. Даже в десять лет понимала, что история про летающих людей – полная чушь. Мы вовсе не особенный народ, утративший магию. Мы – рабы, которые никуда не денутся от своих цепей. Лишь позже я осознала, что она имела в виду: летать мы все-таки умели, но в этом не было никакого волшебства.
* * *
День прошел как обычно. Я кипятила постельное белье рабов на заднем дворе, следя за огнем под чаном с водой. Глаза жгло от капель щелока. Утро выдалось холодным, и солнце напоминало маленькую белую пуговицу, притороченную к небу. Летом мы поверх панталон носили домотканые хлопчатобумажные платья, а когда вдруг в ноябре или январе в Чарльстон ленивой девчонкой заявлялась зима, мы облачались в саки – платья из толстой пряжи. Старые хламиды с рукавами. Моя доходила мне до лодыжек. Не знаю, сколько немытых тел она прикрывала, прежде чем попасть ко мне, но запахами пропиталась всевозможными.
Утром госпожа успела разок пройтись тростью по моей спине за то, что я заснула во время чтения молитв. Каждое утро все рабы, кроме старой чокнутой Розетты, набивались перед завтраком в столовую и, борясь со сном, повторяли за госпожой короткие стихи – вроде «Возрыдал Иисус» – из Библии. Еще она громким голосом молилась о смирении, столь любимом Богом. Но стоило начать клевать носом, и ты получала звонкую затрещину посреди Божеских изречений.
От обиды меня подмывало надерзить рабыне по прозвищу Тетка.
– Да минует меня чаша сия, – повторила я за госпожой и добавила: – Иисус рыдал, потому что, как и мы, оказался здесь вместе с госпожой.
Тетка была поварихой и знала госпожу с пеленок. На пару с дворецким Томфри она заправляла делами и – единственная из нас – могла, не опасаясь удара тростью, посоветовать что-то госпоже. Матушка велела держать язык за зубами, но я не слушалась, а потому Тетка лупила меня по заду по три раза на дню.
Я была тот еще подарочек. Впрочем, звали меня иначе. Подарочек – «корзиночное» имя. Настоящее же давали господин и госпожа. А мать посмотрит, бывало, на чадо в корзине, и взбредет ей на ум какое-нибудь имя – то ли разглядит что-то в облике ребенка, то ли подумает о дне недели, или погоде за окном, или даже о мире в целом. Мою матушку при рождении нарекли Лето, а по-настоящему – Шарлотта. У нее был брат, которого в корзине назвали Мучение. Люди думают, я все сочиняю, но это чистая правда.
Человек с «корзиночным» именем, по крайней мере, получал что-то от матери. Господин Гримке назвал меня Хетти, а матушка, взглянув впервые, подумала о том, как же быстро я родилась, и нарекла Подарочек.
В тот день, пока я помогала Тетке на заднем дворе, матушка трудилась в доме над платьем из золотистого сатина с турнюром для госпожи. Она слыла в Чарльстоне лучшей швеей, все пальцы у нее были исколоты иглой. Вам вряд ли доводилось видеть такие наряды, которые мастерила моя матушка, и она не пользовалась готовыми выкройками, терпеть их не могла. Сама выбирала на рынке шелк и бархат и обшивала семейство Гримке – оконные шторы, стеганые халаты, кринолины, штаны из оленьей кожи, а также нарядная экипировка жокеев для Недели скачек.
Вот что я вам скажу: белые люди жили ради Недели скачек. Пикники, балы и всяческие развлечения шли бесконечной чередой. Во вторник устраивался прием у миссис Кинг, в среду – обед в жокейском клубе. В субботу гремел бал Святой Цецилии, для которого господа берегли лучшие наряды. Тетка говорила, что Чарльстон помешался на роскоши.
Госпожа была низенькой женщиной с полной талией и мешками под глазами. Она не разрешала моей матушке работать на других дам, хотя те умоляли ее, и матушка тоже, надеясь оставить себе часть жалованья. Но госпожа говорила: «Не могу допустить, чтобы ты делала что-то для них лучше, чем для нас». Вечерами матушка рвала материю на полосы для лоскутных одеял, я же одной рукой держала сальную свечу, а другой сортировала полоски по цветам. Она обожала яркие тона, находила неожиданные сочетания – фиолетовый с оранжевым, розовый с красным. А еще любила треугольники. Черные. Нашивала их почти на каждое лоскутное одеяло.
У нас были свои маленькие сокровища – деревянная шкатулка для лоскутков, мешочек для иголок и ниток и настоящий латунный наперсток. Матушка говорила, что однажды он станет моим. Когда она не работала с наперстком, я носила его на кончике пальца, словно драгоценность. Мы набивали лоскутные одеяла хлопком-сырцом и обрывками шерсти. И перьями, они лучшая набивка, и мы не пропускали на земле ни одного пера. В иные дни матушка приходила с карманами, полными гусиного пуха, надерганного из дыр в матрасах. Когда нечем было набить одеяло, мы обдирали длинные плети мха с дуба, что рос во дворе, и вшивали их между подкладкой и верхом – с клещами и прочей гадостью.
Мы с матушкой обожали возиться с лоскутными одеялами.
Какой бы работой ни загружала меня Тетка во дворе, я то и дело поглядывала на верхний этаж, где шила матушка. У нас был условный сигнал: я переворачивала ведро вверх дном и ставила его около кухни – это означало, что все спокойно. Матушка откроет, бывало, окно и бросит ириску, стащенную из комнаты госпожи. Иногда прилетала связка тряпичных лоскутков – премиленький набивной ситец, полосатая или клетчатая ткань, муслин, привозное полотно. Один раз – даже латунный наперсток. Больше всего матушке нравилось таскать ярко-красные нитки. Отмотает, бывало, себе ниток, засунет в карман и отправится с ними на прогулку.
В тот день на дворе кипела работа, и я даже не надеялась, что с неба посыплются ириски. Мария, рабыня-прачка, обожгла руку углем из утюга, и ее пришлось отправить восвояси. Тетка бесилась из-за задержки стирки. Томфри велел мужчинам забить свинью, а та с ужасным визгом носилась по двору. Охотились на хрюшку все – начиная со старого кучера Снежка и заканчивая уборщиком конюшен Принцем. Томфри хотел поскорей разделаться со свиньей, потому что госпожа терпеть не могла галдежа во дворе.
Гвалт входил в ее список рабьих грехов, который мы знали наизусть. Номер первый – воровство. Номер второй – неповиновение. Номер третий – лень. Номер четвертый – гвалт. Считалось, что раб должен быть Святым Духом – его не видно, не слышно, но он всегда под рукой.
Госпожа окликнула Томфри, велев навести порядок, – мол, леди не обязательно знать, откуда берется бекон. Услышав это, я сказала Тетке: «Госпожа не знает, с какой стороны бекон входит и с какой выходит». И получила от Тетки затрещину.
Вооружившись длинной палкой, которая называлась у нас боевой дубинкой, я выуживала из котла покрывала и развешивала их на перекладине рядом с Теткиными травами. В конюшне сушить белье запрещалось – следовало беречь лошадиные глаза от щелока. Глаза рабов – дело другое. И я принялась изо всех сил колотить палкой по простыням и одеялам – «выколачивать грязь».
Закончив со стиркой, я освободилась и смогла насладиться грехом номер три. Пошла по тропинке, которую протоптала за день, пока сновала туда-сюда – от задворков усадьбы, мимо кухни и прачечной, в сторону раскидистого дерева. Некоторые его ветви были толще моего туловища, и каждая из них закручивалась, как лента из шкатулки. Злые духи летают по прямой, а на нашем дереве – ни одной не изогнутой веточки. Когда донимала жара, мы, рабы, собирались под его сенью. Матушка всегда говорила: «Не сдирай серый мох, а то дерево не защитит нас от солнца и любопытных глаз».
Обратный путь проходил мимо конюшни и каретного сарая. Тропинка из знакомой мне карты. Говорят, в доме хозяев есть глобус, на котором обозначена остальная часть мира, но я его ни разу не видела. Я брела и мечтала о том, чтобы нас с матушкой отпустили в родную каморку без окна, ютившуюся над каретным сараем. В нее из конюшни и коровника поднимался такой густой навозный дух, что казалось, тюфяки набиты им, а не соломой. Комнатушки прочих рабов размещались над кухней.
Налетел порыв ветра, и я прислушалась к щелканью парусов в гавани по ту сторону дороги. Никогда не ходила туда, но временами ветер доносил запахи. Паруса затрещат, бывало, как щелкающий бич, и все мы навострим уши, гадая – то ли на соседнем дворе секут раба, то ли перед отплытием корабль паруса расправляет. Если раздавались вопли – мы получали ответ.
Солнце скрылось, оставив в облаках складку, словно пуговица оторвалась. Я взяла боевую дубинку и ни с того ни с сего воткнула ее в тыкву, растущую в огороде. После чего швырнула через ограду серый орех, он с треском стукнулся о землю.
Затем наступила тишина. Из задней двери раздался голос госпожи:
– Тетка, сейчас же приведи ко мне Хетти.
Я пошла в дом, готовясь к взбучке за тыкву.
Сара Гримке
В день моего одиннадцатилетия мама перевела меня из детской. Целый год я мечтала избавиться от фарфоровых кукол, волчков и крошечных чайных сервизов, разбросанных по полу, равно как и от выставленных в ряд маленьких кроватей, – от всего этого бедлама. Но теперь, когда долгожданный момент настал, я медлила на пороге новой комнаты. Обитая темными панелями, она пропиталась запахом моего брата – запахом дымка и кожи. Дубовая кровать с балдахином из красного бархата, возвышаясь на массивном остове, казалась ближе к потолку, чем к полу. Меня сковал страх при мысли о том, что я буду жить в такой громадине.
Собравшись с духом, я ринулась через порог. Таким безыскусным способом я брала барьеры девичества. Все считали меня отважной девочкой, но на самом деле я была не такой уж бесстрашной, скорее отличалась черепашьим нравом: встретив на пути опасность, норовила замереть и затаиться. «Если тебе суждено оступиться, делай это дерзко» – такой девиз придумала я для себя, до сих пор он помогал мне преодолевать пороги.
Все утро с Атлантики дул холодный свежий ветер, разнося по небу облака. На несколько мгновений я замерла в комнате, прислушиваясь к шуму длинных листьев карликовых пальм. Скрипели карнизы веранды. Стонали цепи над крыльцом. Внизу, в кухне, мать командовала рабами, которые, готовясь к празднованию моего дня рождения, доставали из шкафов китайские соусники и веджвудовские чашки. Горничная Синди потратила не один час на смачивание и завивку маминого парика, по лестнице поднимался кисловатый запах паленых волос.
Я смотрела, как Бина, наша няня, складывает в старый массивный шкаф мои вещи. Вспомнилось, как она качала колыбель Чарльза, помогая себе каминной кочергой, как звенели на ее руках браслеты из ракушек каури, как она пугала нас сказками о Буге Га – старухе, летающей на метле и высасывающей жизнь из непослушных детей. Мне будет не хватать Бины. И милой Анны, спавшей с большим пальцем во рту. И Бена с Генри, любивших до одури прыгать на кроватях, пока матрасы не взрывались фонтанами гусиных перьев. И маленькой Элизы, прятавшейся у меня в кровати от ужасной Буги.
Разумеется, мне давно следовало переселиться из детской, но пришлось ждать, пока Джон не уедет в колледж. Наш трехэтажный дом считался самым большим в Чарльстоне, но все равно не хватало спален, спасибо… гм… плодовитости матери. У нее было десять детей: Джон, Томас, Мэри, Фредерик, я и обитатели детской – Анна, Элиза, Бен, Генри, малютка Чарльз. Мама говорила, что я не похожа на других, отец называл особенной. У меня были ярко-рыжие волосы и веснушки – целые россыпи веснушек. Братья однажды нарисовали углем у меня на щеках и лбу Орион и Большую Медведицу, соединив «солнечные» крапинки. Я не возражала – на несколько часов стала их вселенной.
Все твердили, что я папина любимица. Не знаю, выделял ли он меня среди других или просто жалел, но сам был моим любимцем. Работая судьей в Верховном суде Южной Каролины, он принадлежал к верхушке плантаторского класса, которую в Чарльстоне считали элитой. Он воевал с генералом Вашингтоном, побывал в плену у британцев, но из скромности не рассказывал об этих вещах. Это делала мама.
Ее звали Мэри, и на этом заканчивалось ее сходство с матерью нашего Господа. Ее предки – первые семейства Чарльстона, небольшая компания лордов, которых король Карл послал основать город. Мать не уставала талдычить об этом направо и налево, и в какой-то момент мы перестали в негодовании закатывать глаза. Помимо надзора за домом, кучей детей и четырнадцатью рабами, на ней висел целый ряд общественных и религиозных обязанностей, способных измотать всех королев и святых Европы. Когда я была готова прощать, то говорила, что мать просто измучена, хотя и догадывалась, что она не слишком добра.
Бина разложила гребни и ленты на новом туалетном столике, повернулась ко мне и, заметив мой несчастный вид, поцокала языком:
– Бедная мисс Сара.
Меня всегда раздражало слово «бедная» рядом с моим именем. Впервые я услышала гадкое заклинание Бины в четыре года.
* * *
Это мое самое раннее воспоминание: я складываю слова из игровых шариков брата. Сижу под летним дубом в углу заднего двора. Десятилетний Том, мой любимец, учит меня словам: САРА, ДЕВОЧКА, МАЛЬЧИК, ИДИ, СТОЙ, ПРЫГАЙ, БЕГИ, ВВЕРХ, ВНИЗ. Написав их на бумаге, он дает мне мешочек с сорока восьмью стеклянными шариками с буквами. Шариков хватает на составление сразу двух слов. Копируя написанное Томасом, я выкладываю на земле: «Сара иди», «мальчик беги», «девочка прыгай». Я спешу изо всех сил. Скоро на поиски меня отправится Бина.
Однако во двор с черного крыльца выходит мама. За ней вплотную, стараясь попасть в такт шагам хозяйки, движутся домашние рабы во главе с Биной. Все вместе они напоминают огромную сороконожку, которой вздумалось переползти незащищенный участок. Я чувствую нависающую над ними тень, несущую в себе неведомую угрозу, и заползаю обратно в зеленоватый сумрак, под дерево.
Рабы не мигая смотрят на прямую спину своей госпожи. Повернувшись к ним, мать бранится:
– Что вы плететесь? Поторопитесь, надо скорей с этим покончить.
Пока она это говорит, дворовый раб выволакивает из коровника пожилую рабыню Розетту. Та вырывается, царапает ему лицо. Мать бесстрастно наблюдает.
Раб привязывает Розетту за руки к угловому столбику кухонного крыльца, рабыня с мольбой смотрит через плечо:
– Госпожа, пожалуйста. Госпожа. Госпожа. Прошу вас.
Она не перестает умолять, даже когда мужчина стегает ее плетью.
На ней светло-желтое хлопчатобумажное платье. Оцепенев от ужаса, я смотрю, как сквозь него проступают лепестки кровавых цветов. Как может свирепость ударов сочетаться с этими сладкозвучными причитаниями или красотой роз, вьющихся по спине рабыни, как по шпалере. Кто-то считает удары – не мать ли? Шесть, семь.
Бичевание продолжается, Розетта перестает голосить и всем телом наваливается на перила крыльца. Девять, десять. Я отвожу глаза и замечаю черного муравья, букашка, вопреки опасностям, путешествует под деревом по громадным корням и лесистым мхам. В голове всплывают слова, которые я недавно складывала: «Мальчик беги. Девочка прыгай. Сара иди».
Тринадцать. Четырнадцать… Я выныриваю из тени, пробегаю мимо раба, который с чувством исполненного долга складывает плеть, мимо Розетты, повисшей обмякшим телом на руках. Поднявшись по ступеням заднего крыльца, я слышу оклик матери, а Бина пытается схватить меня, но я вырываюсь и мчусь по центральному коридору, потом выскакиваю из парадной двери и без оглядки несусь к причалу.
Остальное – словно в тумане, помню лишь, как, плача, шла по сходням корабля под парусами, как споткнулась о смотанный канат. Добрый бородатый человек в темной шляпе спрашивает, что мне нужно. Я умоляю взять меня с собой. «Сара иди».
За мной гонится Бина, но я замечаю ее, только когда она берет меня на руки и воркует:
– Бедная мисс Сара, бедная мисс Сара.
Это звучит как воззвание, как пророчество.
Меня приносят домой, всю в соплях, слезах и портовой грязи. Мама прижимает к себе беглое чадо, потом отодвигается и, сердито встряхнув, снова обнимает:
– Ты должна пообещать, что никогда больше не убежишь. Обещай мне.
Я хочу. Я стараюсь. Слова на кончике языка – круглые комочки, сверкающие, как шарики под деревом.
– Сара!
Ничего. Ни звука.
Целую неделю я не разговаривала. Слова, казалось, засосало в ямку между ключицами. Мало-помалу я вызволяла их – молитвами, угрозами и лестью. Я вновь заговорила, но со странными запинками. Никогда я не отличалась беглой речью, но теперь у меня между фразами появились некрасивые паузы, слова медлили на губах, а люди отводили глаза. Со временем эти ужасные заминки стали жить своей жизнью. То неделями изводили меня, то исчезали на несколько месяцев, чтобы потом так же внезапно возникнуть вновь.
* * *
В тот день, покинув детскую, чтобы начать взрослую жизнь в респектабельной комнате Джона, я не вспоминала о жестокой сцене семилетней давности. Не думала и о тонких нитях, которые с той поры связывали мой голос. Меня совершенно не волновали эти проблемы. Дефект речи не проявлялся уже четыре месяца и шесть дней, и я воображала себя выздоровевшей.
Поэтому, когда в комнату влетела мама – а я с головой ушла в новые заботы – и спросила, как мне нравится жилье, я, к своему ужасу, не смогла ответить. В горле словно захлопнулась дверца, и воцарилось молчание. Мама посмотрела на меня и вздохнула.
Когда она вышла, я, с трудом сдерживая слезы, отвернулась от Бины. Не хватало вновь услышать: «Бедная мисс Сара».
Подарочек
Тетка привела меня в теплую кухню, где Бина и Синди хлопотали над серебряными подносами, раскладывая имбирные пирожные и яблоки с молотыми орехами. Рабыни нарядились в длинные накрахмаленные фартуки. Из гостиной доносился гул голосов, словно пчелы жужжали.
Пришла госпожа и велела Тетке снять с меня грязное пальто и вымыть мне лицо, а потом добавила:
– Хетти, Саре исполняется одиннадцать лет, и мы устраиваем ей праздник.
Госпожа достала с буфета сиреневую ленточку и, обвив ее вокруг моей шеи, завязала бантик, а Тетка стерла салфеткой грязь с моих щек. Госпожа также обмотала лентой мою талию, я задергалась, а она строго прикрикнула:
– Перестань вертеться, Хетти! Стой спокойно.
Госпожа слишком туго затянула ленточку на шее, отчего стало больно глотать. Я поискала глазами Тетку, но та занималась угощением. Хотелось попросить ее: «Избавь меня от этого, помоги. Позволь побыть одной». Никогда я не лезла в карман за дерзким словечком, но на этот раз в горле клокотал лишь мышиный писк.
Я переминалась с ноги на ногу, вспоминая матушкины слова: «Тебе следует хорошо проявить себя к Рождеству, потому что в это время они продают лишних детей или отсылают на поля». Не слышала, чтобы господин Гримке продал хотя бы одного раба, но знала многих, кого он отослал на плантацию в сельскую глушь. Оттуда-то и прибыла моя матушка со мной в животе, оставив там отца.
И я перестала крутиться, стараясь делать то, о чем просил Бог. Быть покорной, спокойной и тихой.
Госпожа внимательно оглядела меня, взяла за руку и отвела в гостиную, где сидели расфуфыренные леди, держа в руках фарфоровые чашки и кружевные салфетки. Одна дама играла на крошечном пианино – клавесине, но, когда госпожа хлопнула в ладоши, остановилась.
Все уставились на меня. Госпожа молвила:
– Это наша маленькая Хетти. Сара, дорогая, вот тебе подарок – твоя собственная горничная.
Я в смущении скрестила руки на животе, но госпожа шлепнула меня по рукам и покружила на месте. Окружившие нас леди загалдели, как попугаи: «С днем рождения! С днем рождения!» Старшая сестра мисс Сары, мисс Мэри, сидела надувшись, потому, наверное, что не она была в центре внимания. Дурным нравом она, пожалуй, могла бы поспорить с госпожой. Все мы видели, как она обращается со своей горничной Люси – каждый день шпыняет. Мы часто повторяли, что если бы мисс Мэри обронила со второго этажа носовой платок, то заставила бы Люси прыгать за ним. Меня, по крайней мере, это миновало.
Мисс Сара встала. На ней было темно-синее платье, ярко-рыжие волосы шелковистыми прямыми прядями обрамляли лицо, по которому рассыпаны веснушки. Она глубоко вздохнула и зашевелила губами. Казалось, она пытается извлечь слова из горла, словно воду из колодца.
Когда же наконец вытащила ведро воды, мы едва расслышали ее.
– …Извини, мама… Я не могу это принять.
Госпожа попросила повторить. На этот раз мисс Сара заорала, как торговец креветками. Холодные голубые глаза госпожи потемнели. Она все сильней впивалась ногтями мне в руку. Потом произнесла:
– Садись, милая Сара.
Мисс Сара сказала:
– …Мне не нужна горничная… Я прекрасно обхожусь без нее.
– Довольно! – отрезала госпожа.
Не понимаю, как можно было не внять этому предупреждению. И тем не менее.
– …Нельзя разве оставить ее для Анны?
– Довольно!
Мисс Сара плюхнулась в кресло, будто ее толкнули.
По ноге у меня потекла струйка. Я пыталась вырваться из когтей госпожи, а струйка тем временем расползалась по ковру.
Госпожа вскрикнула, и все замолчали. Слышно было, как шипят в камине угольки.
Я приготовилась получить затрещину или что похуже. И подумала о Розетте, умевшей разыгрывать припадок, когда нужно. Она, бывало, напустит слюней и закатит глаза, иногда это помогало ей избежать наказания. Может, упасть на пол и изобразить припадок?
Но я, сгорая от стыда, продолжала стоять в мокром платье, прилипшем к бедрам.
Подошла Тетка и увела меня. Когда мы проходили мимо главной лестницы, я увидела матушку на площадке. Она прижимала руки к груди.
* * *
В ту ночь на ветвях дерева ворковали голуби. Я лежала на кровати, прижималась к матушке и пялилась на раму для лоскутного одеяла, висящую на стропилах. Матушка говорила, что эта рама – наш ангел-хранитель.
– Все будет хорошо, – пообещала она.
Но я никак не могла избавиться от чувства стыда. Ощущала на языке его горьковатый, как у шпината, вкус.
По Чарльстону прокатился гул колоколов, возвещающий комендантский час для рабов. Матушка сказала, что скоро с барабанным боем пройдет стража, но прозвучало это так, словно она говорит о жучках в крупе.
Потом она потерла плоские косточки у меня на спине и рассказала африканскую историю, о которой поведала ее мама. О том, что люди умели летать, парили над деревьями и облаками, будто птицы.
На следующее утро матушка вручила мне лоскутное одеяло по моему росту и сообщила, что мне нельзя больше с ней спать. С этого времени я должна ночевать на полу в коридоре у комнаты мисс Сары.
– Вставай с одеяла, только когда позовет мисс Сара, – сказала мама. – Не броди вокруг. Не зажигай свечей. Не шуми. И беги, когда мисс Сара позвонит в колокольчик. – И еще добавила: – Теперь тебе будет несладко, Подарочек.
Сара
Меня отослали в новую комнату, как в одиночное заключение, и велели написать каждому гостю письмо с извинениями. Мама усадила за письменный стол, дала бумагу, чернильницу и составленное ею письмо, которое мне предстояло копировать.
– …Ты ведь не наказала Хетти, да? – спросила я.
– Считаешь меня безжалостной, Сара? С девочкой вышел конфуз. Что я могла поделать? – Она раздраженно пожала плечами. – Если ковер нельзя почистить, придется его выбросить.
Пока она шла к двери, я выдавливала из себя нужные слова:
– …Мама, пожалуйста, разреши мне… разреши вернуть тебе Хетти.
«Вернуть Хетти». Будто она принадлежала мне. Словно владеть людьми так же естественно, как дышать. При всей моей неприязни к рабству, я тоже дышала отравленным воздухом.
– Твое попечительство законно и обязательно к исполнению. Хетти твоя, Сара, и с этим ничего не поделаешь.
– …Но…
Я услышала шуршание юбок – мать снова подошла ко мне. Она была женщиной, которой подчинялись ветры и приливы, но в этот момент обращалась со мной мягко. С улыбкой взяв меня за подбородок, она произнесла:
– Почему ты противишься? Не понимаю, откуда у тебя столь чуждые идеи. Это наш образ жизни, милая, и тебе надо с ним примириться. – Она поцеловала меня в макушку. – К утру все восемнадцать писем должны быть готовы.
Комната наполнилась оранжевым сиянием, подсветив кипарисовые панели, но вскоре погрузилась в сумрак и тени. Я живо представила себе Хетти – застывшее смущенное лицо, торчащие косички, жалкие сиреневые ленточки. Настоящий заморыш – всего на год моложе меня, но выглядит не больше чем на шесть лет. Тонкие как палки руки и ноги. Выделялись только огромные глаза удивительного золотистого оттенка, сияющие луны над черными щеками.
Мне казалось лицемерным просить прощения за то, в чем я не чувствовала вины. Я сожалела лишь о том, каким жалким получился мой протест. Больше всего хотелось упрямо просидеть здесь всю ночь, сидеть днями и неделями, если потребуется, но в конце концов я сдалась и написала мерзкие письма. Я знала, что меня считают необычной девочкой с бунтарскими идеями, жадным умом и забавной внешностью. Частенько я фыркала, словно лошадь, а подобная строптивость не красит женщин. Меня ожидала участь семейной парии, и я боялась гонений. Страшилась их пуще всего.
Снова и снова я писала:
Дорогая мадам!
Благодарю за честь, которую вы оказали, придя на празднование моего дня рождения. Сожалею, что, несмотря на хорошее воспитание, полученное от родителей, я проявила крайнюю непочтительность. Смиренно прошу простить меня за грубость и неуважение.
Ваш раскаявшийся друг,
Сара Гримке.Только я вскарабкалась на нелепую высокую кровать и умостилась там, как за окном послышалась трель птички. Сначала каскад страстных придыханий, потом тихая грустная песенка. Я, со своими чуждыми идеями, почувствовала себя такой одинокой в этом мире.
Соскользнув с «насеста» и дрожа от холода в белой шерстяной сорочке, я подкралась к окну и поверх темных крыш всмотрелась в Ист-Бей с гаванью. Сезон штормов миновал, и в гавани пришвартовалось не менее сотни парусных судов с мерцающими в сумерках марселями и топселями. Прижавшись щекой к холодному стеклу, я разглядела над каретным сараем жилье рабов, где Хетти в последний раз ночевала с матерью. Назавтра ей предстояло приступить к своим обязанностям и спать в коридоре под моей дверью.
И тут на меня нашло озарение. Я зажгла свечу от гаснущих углей в камине и, открыв дверь, вышла в темный неотапливаемый коридор. На полу у дверей спален лежали три темные фигуры. Я впервые попала ночью в мир за детской и поэтому не сразу сообразила, что это рабы, которым велено спать поблизости на случай, если кто-то из Гримке позвонит в колокольчик.
Мама намеревалась заменить устаревший порядок новым, принятым в доме ее приятельницы миссис Рассел. Там господа нажимали кнопки, а в жилище рабов звонили колокольчики, каждый по-своему. Мама была помешана на новшествах, а отец считал их расточительством. Хотя мы и были англиканцами, но в папе чувствовалась гугенотская тяга к бережливости. Он говорил, что ненужные кнопки появятся в доме Гримке только через его труп.
Я прокралась босиком по широким ступеням из красного дерева на первый этаж, где спали еще два раба. Рядом, прислонившись спиной к стене у комнаты моих родителей, сидела настороже Синди. Она с опаской взглянула на меня, но ничего не спросила.
Пройдя по центральному коридору, застланному персидским ковром, я вошла в отцовскую библиотеку. Лунный свет струился из окна на портрет Джорджа Вашингтона в пышной раме. Уже почти год отец сквозь пальцы смотрел на то, как я под носом у господина Вашингтона совершаю набеги на библиотеку. Джон, Томас и Фредерик в полной мере пользовались ее обширными сокровищами – книгами по праву, географии, философии, теологии, истории, ботанике, греческим гуманитарным наукам, а также сборниками поэзии, – в то время как мне и Мэри официально запрещалось прочитать хоть слово. Мэри и дела не было до чтения, но я… мне оно снилось ночами. Я так любила книги, но почему – не смогла объяснить бы даже Томасу. Это он выбирал для меня подходящие томики и натаскивал по латинским склонениям. Он один знал о моем горячем желании получить хорошее образование, помимо того, что могла дать французская гувернантка мадам Руфин, мой заклятый враг.
Это была миниатюрная вспыльчивая женщина, носившая вдовий чепец с болтающимися вдоль щек тесемками. В холодное время она надевала накидку на беличьем меху и крошечные, подбитые мехом ботинки. Мадам Руфин славилась тем, что за малейшую провинность ставила воспитанницу на скамью для нерадивых и орала, пока та не теряла сознания. Я презирала и саму гувернантку, и ее «деликатное воспитание женского ума», состоящее из рукоделия, манер поведения, рисования, чтения, чистописания, фортепьяно, Библии, французского и основ арифметики. Временами казалось, что легче умереть, чем копировать в альбом крошечные цветы. Однажды я написала на полях: «Если мне суждено умереть от сего ужасного упражнения, пусть эти цветы украсят мой гроб». Мадам Руфин не оценила шутки. Меня поставили на скамью для нерадивых и громко ругали за дерзость. Я изо всех сил старалась не упасть в обморок.
Во время занятий меня все сильней обуревали непонятные желания, сердце разрывалось от мук. Хотелось многое узнать, стать личностью. О, быть бы мне сыном! Я обожала отца, потому что он обращался со мной почти как с мальчиком, позволял наведываться в библиотеку.
В ту ночь угли в библиотечном камине успели остыть, но в воздухе по-прежнему пахло сигарами. Я без труда нашла отцовское «Гражданское и общественное право Южной Каролины», сочиненное им самим. Мне и раньше приходилось листать эту книгу, и я быстро отыскала страницы с описанием вольной грамоты.
Взяв бумагу и перо с отцовского стола, я скопировала документ:
Сим подтверждаю, что в этот день, 26 ноября 1803 года, в городе Чарльстоне штата Южная Каролина я освобождаю от рабства Хетти Гримке и дарую ей данную вольную грамоту.
Сара Мур Гримке.Что оставалось отцу, как не признать законность свободы Хетти? Ведь я следовала своду законов, придуманных им самим! Я оставила свою писанину на коробке для нардов, лежавшей на столе.
В коридоре услышала звон маминого колокольчика, призывающего Синди, и со всех ног помчалась по лестнице, так что пламя свечи погасло.
В моей комнате стало еще холодней, и птичка утихла. Я залезла под ворох одеял, но из-за возбуждения не могла уснуть, представляла, как меня будут благодарить Хетти и Шарлотта. Воображала гордость отца, обнаружившего документ, и гнев матери. Это законно и обязательно к исполнению, без сомнения! Наконец, усталая и довольная собой, я уснула.
Когда проснулась, на голубоватых дельфтских изразцах камина играли световые блики. Ночные восторги улетучились, мне было легко и спокойно. В тот момент я не смогла бы объяснить, как именно внутри желудя зарождается дуб или почему я вдруг поняла, что во мне подобным таинственным образом что-то пробуждается – женщина, которой я стану, – но казалось, я уже знала, какой она будет.
Я давно чувствовала это, когда штудировала отцовские книги и выстраивала доводы во время дебатов за обеденным столом. Только на прошлой неделе отец руководил дискуссией на предмет экзотических ископаемых животных между мной и Томасом. Томас доказывал: если необычные звери действительно вымерли, это ставит под сомнение Божьи замыслы, нанося урон совершенству Бога. А значит, подобные существа должны жить где-то в отдаленных уголках земли. Я же пыталась объяснить, что даже Господу позволено изменять решения.
– Почему совершенство Бога должно быть основано на неизменности? – спросила я. – Разве гибкость не более совершенна, нежели застой?
Отец хлопнул ладонью по столу:
– Будь Сара мальчиком, она стала бы лучшим юристом в Южной Каролине!
В том момент меня потрясли его слова, но сейчас, проснувшись в новой комнате, я поняла их истинное значение. И свое предназначение. Я стану юристом!
Разумеется, я знала, что женщин-юристов не бывает. Удел женщин – домашние дела и крошечные цветочки на страницах альбома. Чтобы леди стала юристом – скорей наступит конец света! Но ведь из желудя вырастает дуб!
Я говорила себе, что сомнения меня не остановят, только укрепят мою решимость, ибо я должна быть сильной.
Я любила придумывать для себя тайные ритуалы. Взяв впервые книгу из библиотеки отца, я на полоске бумаги записала число и название – 25 февраля 1803-го, «Озерная госпожа» – и засунула ее в черепаховую заколку для волос, которую носила потом с таинственным видом. Сейчас, когда на кровати заиграли солнечные блики, мне пришла на ум новая задумка.
Подойдя к шкафу, я вынула синее платье, сшитое Шарлоттой для той неудачной вечеринки. Воротничок застегивался на большую серебряную пуговицу с выгравированным ирисом. Я отпорола пуговицу ножом для разрезания писем. Зажав ее в руке, принялась молиться: «Прошу Тебя, Господи, пусть посаженное Тобой зерно принесет плоды».
Когда открыла глаза, все оставалось на своих местах. Комнату так же освещали блики света, на полу, как лоскут голубого неба, лежало платье, а в руке была зажата серебряная пуговица, но я чувствовала, что Бог меня услышал.
Серебряная пуговица вобрала в себя все, что произошло минувшей ночью: нежелание владеть другим человеком, облегчение, испытанное при подписании вольной, но превыше всего – узнавание в себе природного зерна, которое отец успел во мне разглядеть. Юрист.
Я засунула пуговицу в небольшую шкатулку и спрятала ее в глубине комода.
Из коридора послышались голоса вперемешку со звоном подносов и кувшинов. Рабы в услужении… Мир просыпался.
Я поспешно оделась, желая узнать, увижу ли за дверью Хетти. Сердце забилось сильней, но Хетти там не было. Зато на полу лежала составленная мной вольная. Разорванная пополам.
Подарочек
Моя жизнь с мисс Сарой началась не с той ноги. Когда я в первое утро подошла к ее комнате, дверь была распахнута, а мисс Сара сидела на полу, уставившись на стену. Я спросила:
– Мисс Сара, хотите, чтобы я вошла?
Она поднесла ко рту маленькие пухлые ладони, раскрыв короткие пальцы как дамский веер. Потухшие глаза говорили яснее слов: «Не хочу тебя здесь видеть». Но она сказала:
– …Да, входи… Я рада, что ты будешь моей горничной.
Потом плюхнулась в кресло и вернулась к прежнему занятию. То есть к ничегонеделанию.
Я, десятилетняя рабыня, не знавшая иной работы, кроме домашней – для Тетки, почти никогда не заходила в господский дом. И никогда – на верхние этажи. Что за хоромы! Кровать, огромная, как экипаж, туалетный столик с зеркалом, письменный стол с книгами, множество стульев с мягкой обивкой. У камина стоял защитный экран с вышитыми розовыми цветами – работа моей матушки. На каминной полке – две белые вазы из настоящего фарфора.
Я осмотрелась по сторонам и замерла, не зная, что делать дальше.
– Тут холодно, – сказала я. Мисс Сара ничего не ответила, и я повторила громче: – У вас холодно.
Она оторвала взгляд от стены:
– …Можешь разжечь камин.
Я видела, как это делается, но наблюдать и распалить самой – не одно и то же. Я не догадалась открыть заслонку, и из топки повалил дым, словно из трубы вырвалась стая летучих мышей.
Мисс Сара бросилась распахивать окна. Наверное, похоже было, что горит дом, потому что со двора послышался крик Томфри:
– Пожар, пожар!
И все принялись за дело.
Я схватила таз с водой, окунула в него лицо, а потом выплеснула воду в камин, отчего задымило в два раза больше. Мисс Сара, мелькала в черном тумане, как привидение, гнала дым в окна. В комнате была дверь, выходящая на веранду, я побежала к ней, хотела прокричать Томфри, что пожара нет. Но не успела я это сделать, как услышала госпожу – она с воплями носилась по дому, приказывая всем выходить, прихватив охапку вещей.
Когда дым почти рассеялся, я вслед за мисс Сарой спустилась во двор. Старый Снежок вместе с Сейбом взнуздали лошадей и отвели экипажи в дальний угол, на случай если с домом рухнут и дворовые постройки. Томфри велел Принцу и Эли таскать из цистерны воду. Показались соседские мужчины с ведрами. Люди боялись пожара пуще дьявола. На колокольне церкви Святого Михаила постоянно держали раба, который наблюдал за крышами – нет ли пожара, я боялась, что он увидит весь этот дым и зазвонит в церковный колокол, вызвав пожарную команду.
Я подбежала к матушке, которая жалась к остальным рабам. У их ног лежали в куче спасенные пожитки. Фарфоровые миски и чайницы, амбарные книги, одежда, портреты, Библии, броши и жемчуга. Даже мраморный бюст. Госпожа одной рукой сжимала трость с золотым набалдашником, а другой – серебряный мундштук для сигар.
Мисс Сара пробивалась сквозь толпу обезумевших людей, чтобы сказать Томфри, что пожара нет и заливать нечего. Пока она запиналась, подыскивая нужные слова, мужчины вновь принялись таскать воду.
Когда наконец все поняли, что произошло, госпожа пришла в ярость:
– Хетти, какая же ты неумеха!
Никто не шевельнулся, даже соседи. Матушка подвинулась и спрятала меня за спиной, но госпожа вытащила вперед и двинула тростью по затылку, я упала на колени.
Матушка завопила, мисс Сара тоже. Но госпожа замахнулась, собираясь ударить снова. Не могу объяснить, что произошло потом. Двор, люди в нем, окружающие нас стены исчезли. Земля ушла из-под ног, и небо вздулось подобно парусу на ветру. Я оказалась в каком-то пространстве, неподвластном времени. В голове прозвучал четкий голос: «Поднимись. Поднимись и взгляни ей в лицо. Брось ей вызов, и пусть попробует ударить тебя. Брось вызов».
Я встала на ноги и повернулась к ней. Глаза мои говорили: «Ударь меня. Я тебя не боюсь».
Госпожа уронила руку и отступила назад.
Двор вернулся. Протянув руку, я нащупала на голове шишку с перепелиное яйцо. Матушка кончиком пальца тоже осторожно прикоснулась к шишке.
До конца этого Богом забытого дня рабыни – женщины и девочки – вытаскивали из верхних комнат на веранду одежду, белье, ковры и шторы. Для проветривания. Все, кроме матушки и Бины, бросали на меня презрительные взгляды. Мисс Сара вызвалась помочь и таскала вещи наравне со всеми. Каждый раз, встречаясь с ней взглядом, я недоумевала: почему она смотрит на меня так, словно видит впервые в жизни?
Сара
В знак протеста против обладания Хетти – не знаю, придал ли кто-нибудь этому значение, – я целых три дня ела одна у себя в комнате. На четвертый, усмирив гордость, явилась в столовую на завтрак. Мы с матерью не говорили о загубленной вольной грамоте. Думаю, именно она разорвала бумагу на два равных кусочка и положила у порога моей комнаты, высказав тем самым последнее слово, не произнеся при этом ни звука.
В возрасте одиннадцати лет я владела рабыней, которую не могла освободить.
Эта самая длинная за день трапеза тянулась уже давно. Отец, Томас и Фредерик успели уйти – кто в школу, кто на службу, – но в столовой оставались мама, Мэри, Анна и Элиза.
– Ты опоздала, дорогая моя, – произнесла мать не без симпатии.
Благоухая кухонными ароматами – пóтом, углем, дымом и резким запахом рыбы, – рядом со мной возникла Фиби, помощница Тетки, на вид чуть старше меня. Обычно она стояла у стола и размахивала мухобойкой, но сегодня поставила передо мной тарелку с сосисками, лепешкой из кукурузной муки, солеными креветками, черным хлебом и желе из тапиоки.
Дрожащей рукой опуская на стол чашку чая, Фиби водрузила ее на ложку, расплескав кипяток на скатерть.
– Ох, госпожа, простите! – вскрикнула она.
Мать вздохнула с таким видом, будто ей приходится расхлебывать промахи всех негров на свете.
– А где Тетка? Почему, ради всего святого, ты прислуживаешь?
– Она меня учит.
– Что ж, оно и видно.
Фиби бросилась за дверь, а я ободряюще ей улыбнулась.
– Мило, что ты появилась, – произнесла мама. – Как себя чувствуешь?
Все взоры обратились ко мне. Слова накапливались у меня на кончике языка, но не спешили выходить. В такие моменты я представляла, что мой язык – это рогатка. Я оттягиваю ее назад, сильней, сильней…
– Все хорошо.
Слова полетели через стол с брызгами слюны.
Мэри сделала вид, что промокает лицо салфеткой.
«Она станет такой же, как мама, – подумала я. – Дом с кучей детей и рабов, а вот у меня…»
– Полагаю, ты нашла остатки своей причуды?
Ах вот оно что. Она конфисковала мой документ, вероятно, даже без ведома отца.
– Какой причуды? – спросила Мэри.
Я бросила на мать умоляющий взгляд.
– Это тебя не касается, Мэри, – отрезала мама, наклонив голову, словно желая сгладить конфликт между нами.
У себя в комнате я плюхнулась в кресло и задумалась над тем, как объяснить отцу свой поступок. Я хотела показать ему разорванный документ. Размышляла об этом весь день, но ближе к ночи поняла, что ничего хорошего не выйдет. Ведь он подчинялся матери во всех домашних делах и терпеть не мог болтунов. Братья никогда не говорили лишнего, и я не стану. Надо быть идиоткой, чтобы и дальше сердить маму.
В надежде справиться с разочарованием я стала бодро обсуждать сама с собой свое будущее. Ведь произойти может что угодно. Все что угодно!
Ночью я открыла лавовую шкатулочку и долго смотрела на серебряную пуговицу.
Подарочек
Госпожа сказала, что я самая плохая горничная в Чарльстоне.
– Ты чудовищна, Хетти, чудовищна!
Я спросила мисс Сару, что означает «чудовищная».
– Не совсем такая, как все, – ответила та.
Ага, на лице госпожи было написано, что бывают плохие, бывают те, которые хуже, а после них уж чудовищные.
За первую неделю, помимо истории с дымом, я пролила на пол масло из лампы, оставив скользкое пятно, разбила фарфоровую вазу и подпалила щипцами для завивки прядь рыжих волос мисс Сары. Мисс Сара не стала браниться. Она перетащила ковер на масляное пятно, спрятала в кладовке погреба разбитую вазу и отрезала подпаленные волосы щипцами для снятия нагара.
Только в одном случае мисс Сара звонила в колокольчик: если к нам приближалась госпожа. Бина и ее девочки, Люси и Фиби, начинали петь: «Вот трость стучит. Вот трость стучит». Предупреждающий колокольчик мисс Сары давал мне некоторую свободу, и я, бывало, уходила по коридору к эркеру, откуда видна гавань с океанскими волнами, накатывающими на пристань. Ничто не могло сравниться с этой великолепной картиной.
Увидев ее впервые, я затопала ногами и, подняв руку, пустилась в пляс. Вот когда я обрела свою религию. В тот момент я не понимала, что такое вера, не отличала «аминь» от «аллилуйя». Знала лишь: во мне появилось нечто, связавшее с этой водой.
Я видела, как волны меняют цвет. В какой-то день они бывали зелеными, потом бурыми, на следующий день – желтыми, как сидр. Фиолетовые, черные, голубые. И все время в движении, ни на миг не успокаиваются. По морю взад-вперед ходят корабли, в глубине плавают рыбы.
Мне хотелось спеть воде песенку:
Через воды и моря Рыбы пусть везут меня. Хоть и длинен водный путь, Мне с дороги не свернуть.Спустя месяц или два я прилично освоила некоторые дела по дому. Но даже мисс Сара не знала, что иногда по ночам я покидаю пост у ее двери и до рассвета смотрю на воду, искрящуюся в лунном сиянии. Сверкали огромные, как блюдца, звезды. Иногда был виден остров Салливан. В темноте я тосковала по матушке, мне не хватало нашей кровати и развешенного над нами лоскутного одеяла. Я представляла себе, как матушка шьет их одна, вспоминала набитый перьями грубый мешок, красный кожаный мешочек с булавками и иголками, мой чудный латунный наперсток. В такие ночи я со всех ног мчалась в каморку над конюшней.
Матушка очень сердилась каждый раз, когда, проснувшись, заставала меня в своей постели. Говорила, если меня поймают, то беды не оберешься, я, мол, и так часто вывожу госпожу из себя.
– Ничего хорошего не выйдет из твоих ночных брожений, – говорила она. – Оставайся-ка на своей подстилке. Сделай это ради меня, слышишь?
И я старалась ради нее. Целых несколько дней. Лежала на полу в коридоре, пытаясь согреться на сквозняке и поудобней устроиться на досках. Приходилось мириться с этими мучениями, чтобы потом дождаться утешения от воды.
Сара
Прошло четыре месяца после катастрофы с моим одиннадцатым днем рождения. Проснувшись однажды пасмурным мартовским утром, я не нашла Хетти. Подстилка ее была смята, храня очертания маленького тела. В это время она обычно наполняла водой умывальный таз, развлекая меня всякими историями. Удивительно, но ее отсутствие задевало меня. Я скучала по ней, как по близкому другу, да и волновалась за нее. Ведь мать однажды уже приложилась тростью к Хетти.
Не найдя ее в доме, я остановилась на верхней ступеньке заднего крыльца, осматривая двор. Из гавани принесло редкий туман, и сквозь него просвечивало солнце, сияя тусклым золотом карманных часов. У дверей каретного сарая Снежок чинил ремень сбруи. Тетка сидела верхом на табуретке около огорода и чистила рыбу. Не желая вызывать ее подозрений, я не спеша направилась к кухонному крыльцу, где Томфри раздавал слугам орудия труда: Эли – мыло для мраморных ступеней, Фиби – два полотенца для чистки хрусталя, Сейбу – совок для наполнения ведер углем.
Дожидаясь, пока он не закончит, я скользнула взглядом по дубу в левом заднем углу двора. Ветки его были унизаны тугими почками, и, хотя сейчас дерево мало походило на себя летнее, мне вспомнился тот далекий день: я сижу на земле, расставив ноги, – в тишине и зное, в зеленоватой тени – и составляю из шариков слова: «Сара иди»…
Взглянув в противоположную сторону двора, я увидела Шарлотту. Мать Хетти шла вдоль поленницы, то и дело наклоняясь и подбирая что-то с земли.
Подойдя незамеченной, я увидела у нее в руках маленькие пушистые перья.
– …Шарлотта…
Она подпрыгнула от неожиданности, выпустила из руки перышко, и его подхватил морской бриз. Перышко долетело до верха высокой кирпичной ограды и застряло в изогнутых ветвях смоковницы.
– Мисс Сара! – воскликнула Шарлотта. – Вы напугали меня до смерти.
Она засмеялась визгливым нервным смехом, метнув взгляд в сторону конюшни.
– …Я не хотела… Хотела только спросить… не знаешь, где…
Не дав мне договорить, она указала на поленницу:
– Посмотрите вниз, туда.
Вглядевшись в промежуток между двумя поленьями, я заметила коричневое пушистое существо с острыми ушками. Совенок! Немногим больше цыпленка. Он помигал желтыми глазами, а потом уставился на меня, и я отодвинулась.
Шарлотта снова рассмеялась, на этот раз более непринужденно:
– Не укусит, не бойтесь.
– …Это птенчик.
– Я наткнулась на него несколько дней назад. Бедняжка лежал на земле и пищал.
– …Он был… ранен?
– Не-а, просто его бросили. Его мама – амбарная сова. Устроилась в вороньем гнезде под навесом, а потом пропала. Наверное, с ней что-то стряслось. Кормлю птенчика объедками.
Раньше мое общение с Шарлоттой ограничивалось лишь примерками платьев, но мне и тогда не нравилась ее проницательность. Из всех отцовских рабов она была самой умной, и в этом таилась опасность. Мои опасения впоследствии подтвердились.
– …Я буду хорошо обращаться с Хетти, – неожиданно ляпнула я.
Эти полные сожаления и в то же время высокомерные слова прорвались, обнажая чувство вины.
Глаза рабыни – медовые, как у ее дочери, – широко распахнулись, а потом сощурились, превратившись в щелки.
– …Мне не хотелось владеть ею… Я пыталась освободить ее, но… мне не позволили.
Я не могла остановиться.
Шарлотта опустила руку в карман фартука. Повисла гнетущая тишина. Она ощутила мое чувство вины и хитро им воспользовалась.
– Хорошо, – сказала рабыня. – Потому что я знаю, вы скоро сделаете это для нее.
– …Сделаю это?
– Уверена, вы обязательно поможете ей освободиться.
– …Да, постараюсь, – откликнулась я.
– И мне надо, чтобы вы поклялись.
Я кивнула, с трудом понимая, что меня ловко принудили к соглашению.
– Только сдержите слово, – сказала она. – Знаю, так и будет.
Я вдруг вспомнила, зачем подошла к ней.
– …Мне никак не найти…
– Не успеете и глазом моргнуть, а Подарочек будет у вашей двери.
Я пошла в дом, чувствуя, как сильнее затягивается петля этих странных доверительных отношений.
Через десять минут в моей комнате появилась Хетти, на худеньком лице блестели огромные глаза, жгучие, как у того совенка. Я сидела за письменным столом, только что открыв книгу из отцовской библиотеки, «Приключения Телемаха». Телемах, сын Пенелопы и Одиссея, отправлялся в Трою на поиски отца. Не спрашивая у Хетти, где она была, я принялась читать вслух. Хетти забралась на ступеньки моего ложа, уткнула подбородок в ладони и все утро слушала, как Телемах мерится силами с опасностями Древнего мира.
* * *
Коварная Шарлотта. Весь март меня донимали мысли о вырванном обещании. Почему я не сказала, что освободить Хетти невозможно? Что я могу предложить ей лишь доброту?
Пришло время шить платье к Пасхе, и я обмирала от одной мысли, что рабыня припомнит разговор у поленницы. Лучше мне было бы уколоться иглой, чем снова выдерживать ее испытующий взгляд.
– Мне не нужен новый наряд на Пасху, – сказала я матери.
И неделю спустя стояла на табурете в недошитом атласном платье. Войдя в комнату, Шарлотта поспешно выпроводила Хетти по выдуманному делу. Платье было светло-коричневого цвета. «Как кожа Шарлотты», – подумала я, глядя, как та стоит передо мной с тремя зажатыми в зубах булавками. Когда рабыня заговорила, я почувствовала запах кофейных зерен, которые она обычно жевала. Слова с трудом проталкивались сквозь сжатые зубы.
– Вы сдержите обещание?
К своему стыду, я нарочно начала заикаться больше обычного…
Подарочек
В первую погожую субботу, когда весна вошла в свои права, госпожа вывезла в карете с фонарями мисс Сару, мисс Мэри и мисс Анну. Тетка сказала, что они вооружились зонтиками от солнца и поехали на прогулку на Уайт-Пойнт.
Когда Снежок вывел экипаж из задних ворот, мисс Сара помахала мне рукой, а Сейб, разодетый в зеленый сюртук и жилетку, осклабился, свисая с задка кареты.
– Чего глазеете? – прикрикнула Тетка. – Быстро за уборку, надо навести лоск в их комнатах. Коси коса, пока роса.
В комнате мисс Сары я застелила постель, отчистила налет с зеркала, который никак не смывался водой с золой. После чего смахнула со штор жирных мертвых мотыльков, протерла ночной горшок и насыпала туда щепотку соды. Затем долго скребла полы.
Утомившись от работы, я задумалась, что делать дальше. Слоняться без дела нельзя. Для начала я выглянула в коридор: нет ли рабов? Кое-кто из них не моргнув глазом донес бы на ближнего. Лучше не рисковать. Я затворила дверь и открыла книги мисс Сары. Я листала страницу за страницей, всматривалась в пометки, напоминающие обрывки черного кружева, оставленные на бумаге. В них было свое очарование, но, как по мне, мало проку.
Я выдвинула ящик стола и стала рыться в ее вещах. Нашла незаконченную неумелую вышивку крестом, словно ее сделала трехлетка. Еще в ящике обнаружились красивые блестящие нитки на деревянных шпульках. Сургуч, коричневая бумага. Мелкие рисунки с чернильными кляксами. Длинный латунный ключ с кисточкой.
Я заглянула в платяной шкаф, пощупала сшитые матушкой платья. Потом залезла в ящик туалетного столика и вынула хозяйкины ювелирные украшения, ленты для волос, бумажные веера, флаконы и щетки и, наконец, маленькую шкатулку. Она сияла, как моя кожа, когда намокнет. Я отодвинула защелку и увидела большую серебряную пуговицу. Дотронувшись до нее, я медленно опустила крышку – так же медленно, как закрывала шкаф и книги, как задвигала ящики, – чувствуя, как переполняется грудь. На свете столько всего, что можно иметь и не иметь.
Я вернулась к письменному столу, снова выдвинула ящик и уставилась на нитки. А потом сделала нечто нехорошее, но без зазрения совести. Взяла пухлую шпульку с ярко-красными нитками и опустила ее в карман платья.
* * *
В субботу перед Пасхой нас всех позвали в столовую. Томфри сказал, что пропали какие-то вещи. Я шла туда и думала: «Господи, помоги».
Ничего не было хуже для раба, чем пропажа старой чепуховины. Достаточно помятой оловянной чашки из буфетной или кусочка тоста с хозяйкиной тарелки… На этот раз исчезла не старая чепуховина и не шпулька с красными нитками, а совершенно новый хозяйский отрез зеленого шелка.
И вот все мы, четырнадцать человек, выстроились в линию перед госпожой, которая нас распекала – говорила, что шелк особенный, его везли с другого конца земли, из Китая, где какие-то червяки пряли нитки. Оглядываясь назад, я думаю, что в жизни не слышала подобного бреда.
Каждый из нас обливался пóтом и дрожал, нервно пряча руки в карманы штанов или под фартук. Запах страха вился над нами.
Матушка была в курсе всего, что происходило за каменной оградой, поскольку госпожа позволяла ей самостоятельно ходить на рынок. Она старалась оградить меня от ужасных вещей, но я слышала про дом мучений на Мэгазин-стрит – белые называли его работным домом. Говорили, рабы шили там одежду, делали кирпичи и подковывали лошадей. Я узнала об этом, когда мне не было и восьми лет. Ходили слухи, что рабов сажали в темный подвал и не выпускали неделями. И еще я проведала о наказании плетьми. Раб мог получить до двадцати плетей. Белый человек за полдоллара покупал серию порок и использовал их для приведения раба в нужное расположение духа.
Насколько я знала, ни один из рабов Гримке еще не попадал в работный дом, в то утро в столовой каждый из нас опасался, что роковой день настал.
– Один из вас виновен в воровстве. Если вернете отрез ткани, а именно этого хочет Бог, я буду милосердна.
Угу.
Хозяйка считала нас совсем пустоголовыми.
Зачем рабу шелк изумрудного цвета?
* * *
На следующую ночь после пропажи ткани я выскользнула из дома. Главная задача – незаметно пройти мимо Синди, спящей перед дверью госпожи. Она не дружила с матушкой, потому приходилось быть осторожной, но, к счастью, Синди громко храпела. Я залезла в матушкину кровать, в пустую – мама стояла в углу со скрещенными на груди руками.
– Что же ты вытворяешь?
Никогда прежде я не слышала такого тона в ее голосе.
– Вставай, мы сейчас же вернемся в дом. Ты сбежала в последний раз, в последний. Это не игра, Подарочек. Накликаешь на нас беду.
Она не стала ждать, пока я поднимусь, а схватила меня, как тюфяк, и поставила на ноги. Потом, взяв под руку, спустила по ступеням каретного сарая, протащила через двор. Мои ступни едва касались земли. Она заволокла меня в теплую кухню через дверь, которая никогда не запиралась. Прижав палец к губам, подтолкнула к лестнице и кивком указала наверх: «Теперь иди».
Ступени сильно скрипели. Не успела я сделать и десяти шагов, как внизу открылась дверь, а матушка приглушенно вздохнула.
Из темноты раздался голос господина:
– Кто это? Кто там?
По стенам заметался свет фонаря. Матушка не шевелилась.
– Шарлотта? – Он казался абсолютно спокойным. – Что ты здесь делаешь?
За его спиной матушка подала мне знак, чтобы я прижалась к ступеням.
– Ничего, господин Гримке. Ничего, сэр.
– Должна быть причина твоего присутствия в доме в этот час. Если не хочешь неприятностей, объяснись сейчас же.
Он говорил довольно мягко.
Матушка стояла, словно язык проглотив. Господин Гримке всегда так на нее действовал. Будь на его месте госпожа, матушка уже бы выпалила три-четыре фразы. Ну скажи, что Подарочек заболела и ты собиралась навестить ее. Скажи, что тебя прислала Тетка за лекарством для Снежка. Скажи, что не можешь уснуть, беспокоишься о пасхальных нарядах – как они будут сидеть утром. Скажи, что ходишь во сне. Скажи хоть что-нибудь.
Матушка раздумывала слишком долго, и вот из комнаты вышла госпожа, я заметила, что у нее сбился ночной чепец.
Есть такие узелки в судьбе, которые никак не развязать, и вот один из самых сложных – ночь, когда провинилась я, а поймали матушку.
Я могла бы обнаружить себя, признаться, сказать, что виновата, но продолжала, затаившись, сидеть на ступенях.
Госпожа спросила:
– Так это ты воришка, Шарлотта? Пришла за чем-то еще? Значит, бродишь здесь по ночам?
Госпожа разбудила Синди, велела привести Тетку и зажечь два фонаря, чтобы обыскать матушкину комнату.
– Да, мэм. Да, мэм, – залепетала довольная Синди.
Господин Гримке зарычал, будто наступил на собачью кучу. Ох уж эти хлопоты с женщинами и рабами! Забрав свой фонарь, он отправился спать.
Я на расстоянии шла за матушкой и остальными, повторяя слова, которые не положено знать десятилетке. Ругаться я научилась в конюшне, слушая, как Сейб поет лошадям. «Тьфу, черт бы вас побрал, проклятые белые!» Я уговаривала себя признаться госпоже в том, что произошло. «Я ушла со своего места у двери мисс Сары и пробралась в старую комнату. А матушка привела меня обратно в дом».
Робко заглянув в нашу каморку, я увидела, что с кровати сорваны все одеяла, умывальный таз перевернут, а мешок из рогожи вывернут наизнанку и повсюду валяются клочки шерсти и тканей. Тетка поворачивала шкив, чтобы опустить раму с лоскутным одеялом, его верхние края не были обработаны, отовсюду торчали концы ярких нитей.
Меня в дверном проеме не замечал никто, кроме матушки, взор которой всегда обращен в мою сторону. Веки ее опустились, и она долго не открывала глаз.
Колесики шкива запели, и рама медленно опустилась под скрипучую музыку. К верху незаконченного лоскутного одеяла была приторочена ярко-зеленая ткань.
* * *
Первая моя мысль: как красиво. На каждой складочке играл свет от фонаря. Я, Тетка и госпожа уставились на ткань с таким видом, будто она нам приснилась.
Потом госпожа долго распространялась о том, насколько трудно ей будет карать рабыню, которой доверяла, но выбора нет.
– Твое наказание откладывается до понедельника, – сообщила она матушке, – завтра Пасха, и я не хочу портить праздник. Ты не будешь наказана вне дома, и скажи за это спасибо, но не сомневайся, что получишь по заслугам.
Госпожа не произнесла слов «работный дом», сказала «вне дома», но мы ее поняли. По крайней мере, матушку не отошлют в тот кошмар.
Госпожа наконец повернулась ко мне, она не спросила, что я здесь делаю, и не отослала меня к комнате мисс Сары, сказала лишь:
– Можешь остаться с матерью до ее наказания в понедельник. Хочу, чтобы у нее было какое-то утешение. Не такая уж я бесчувственная.
Долго той ночью я изливала матушке свою печаль и раскаяние. Она гладила меня по плечам и говорила, что не злится. Повторяла, что ни в коем случае мне нельзя было отлучаться из дома, но она не сердится.
Я уже почти заснула, когда услышала:
– Надо было вшить зеленый шелк внутрь одеяла, и его никогда бы не нашли. Мне не жаль, что я украла, жаль только, что меня поймали.
– Зачем ты его взяла?
– Затем, – ответила она. – Затем, что могла.
Слова запали мне в душу. Матушке не нужна была эта тряпка, ей хотелось показать свое неповиновение. Не в ее власти получить свободу или двинуть госпожу тростью по затылку, но она могла украсть хозяйский шелк. Человек бунтует любыми способами.
Сара
В день Пасхи мы, Гримке, ехали в экипажах в епископальную церковь Святого Филипа по Митинг-стрит, обсаженную с двух сторон индийской мелией. Я просила отца взять меня с собой в открытую двуколку, но этой привилегией успели воспользоваться Томас и Фредерик, а мне остался душный экипаж с мамой. Воздух еле просачивался сквозь узкие прорези, выполнявшие роль окошек. Прижавшись лицом к щели, я любовалась великолепием пролетавшего мимо Чарльстона – нарядные особняки с просторными верандами, ящики с цветами на балкончиках выстроившихся в ряд домов, подстриженные тропические деревья – олеандр, гибискус, бугенвиллея.
– Сара, полагаю, ты готова дать свои первые уроки, – сказала мама.
Недавно я стала учительницей в воскресной школе для цветных. Один урок там вели девочки от тринадцати лет и старше, но мама упросила преподобного Холла сделать для меня исключение. В кои-то веки ее властная натура была мне на руку.
Из окна резко пахло бирючиной, я повернулась к матери:
– …Да… я оч-чень много занималась.
– …Оч-чень много, – передразнила меня Мэри, выпучив глаза и гримасничая.
Бен захихикал.
У моей сестры всегда была наготове какая-нибудь пакость. В последнее время я стала меньше запинаться и не позволяла ей сбивать себя с толку. Я стремилась сделать что-то полезное, и если заикнусь на уроке, то так тому и быть. Сейчас меня больше беспокоило, что придется вести занятие на пару с Мэри.
Экипажи подъезжали к рынку, где по тротуарам разгуливали толпы негров и мулатов. Воскресенье – единственный выходной у рабов, и они заполоняли оживленные улицы. Большинство отправлялось в церкви хозяев, где им надлежало сидеть на галерее. Однако и в будни на улицах было полно рабов: они выполняли господские распоряжения, наведывались на рынок, доставляли письма и приглашения на чай и обед. Некоторые трудились по найму, ходили на работу и с работы. У них почти не оставалось времени, чтобы заводить знакомства, и тем не менее они нередко собирались на углах улиц, на причалах или у винных погребков. Газета «Чарльстон меркьюри» выступала против «безнадзорной толпы» и требовала принять меры, но отец говорил, что, если у раба есть пропуск и рабочий жетон, его присутствие абсолютно законно.
Однажды задержали Снежка. Вместо того чтобы ждать нас у церкви, он принялся радостно разъезжать по городу. Его забрали в караулку около церкви Святого Михаила. Отец разгневался, но не на Снежка, а на городскую стражу, он бушевал всю дорогу до канцелярии мэра и заплатил штраф, чтобы Снежка не забрали в работный дом.
Из-за огромного скопления экипажей на Камберленд-стрит мы не смогли подъехать близко к церкви. Мать возмущалась: мол, народ валом валит на службу только на Пасхальной неделе, в то время как она заботится, чтобы Гримке посещали храм каждое скучное, ничем не примечательное воскресенье. С места возницы донесся скрипучий голос Снежка:
– Госпожа, отсюда придется идти пешком.
Сейб распахнул дверцы экипажа и по очереди помог нам сойти.
Впереди размашисто шагал отец – невысокий, но импозантный мужчина в сером пальто, цилиндре и с узким шелковым шарфом на шее. У него было худое лицо с длинным носом и густыми, кустистыми бровями. Я думаю, красивым его делали волосы – буйная темно-каштановая копна. Томас унаследовал от него насыщенный коричнево-красный цвет волос – как и Анна, и маленький Чарльз, – а мне достался приглушенный оттенок хурмы да еще светлые, почти незаметные брови и ресницы.
Места прихожан в церкви Святого Филипа точно отражали их статус в Чарльстоне. Элита соперничала за сиденья в передней части, менее богатые размещались сзади, а бедняки теснились на боковых лавках. Наша скамья, которую отец арендовал за триста долларов в год, стояла всего в третьем ряду от алтаря.
Я сидела рядом с отцом, держала его шляпу на коленях и улавливала легкий аромат лимонного масла, которым он пользовался для приручения своих локонов. С верхних галерей доносились галдеж и смех рабов. Этот гомон всегда нам докучал. Когда рабов собиралось много, они шумели в церкви так же, как на улицах. В последнее время гвалт сделался столь невыносимым, что на балконах для устрашения поставили наблюдателей. И тем не менее галдеж не прекращался. А тут – бац! Крик. Прихожане зашевелились, с опаской поглядывая вверх.
К тому времени как преподобный Холл взобрался на кафедру, под сводами поднялся невообразимый шум. Над галереей пролетел чей-то ботинок и шлепнулся вниз. Тяжелый ботинок. Он упал на леди, спешащую к выходу, удар пришелся по голове, сбив шляпу.
Когда семья вывела травмированную леди из церкви, преподобный Холл наставил указательный палец на дальний левый балкон и медленно покрутил им. Наступила тишина, и он по памяти процитировал отрывок из Послания апостола Павла.
– Рабы, со страхом и трепетом подчиняйтесь своим господам, как самому Христу. – Затем он произнес слова, которые многие, включая мою мать, назвали бы самой красноречивой импровизацией на тему рабства. – Рабы, призываю вас не роптать на судьбу, ибо такова воля Господа! Ваша покорность предписана Священным Писанием. Так повелевает Господь через пророка Моисея. Ваше послушание одобрено Христом через Его апостолов и поддерживается Церковью. Так будьте же осмотрительны, и пусть Господь в своем милосердии дарует вам в этот день смирение с тем, чтобы вы вернулись к своим хозяевам преданными слугами.
Священник сел в кресло за алтарем. Я уставилась на папину шляпу, потом в смущении и замешательстве подняла взгляд на отца, силясь разобраться в происходящем. Лицо его походило на бледную суровую маску.
* * *
После службы я пришла в небольшую грязноватую классную комнату за церковью, по которой взад-вперед носилось двадцать два ребенка. Я распахнула окна, впустив облако пыльцы цветущих деревьев в сумрачную душную комнату. Чихнув несколько раз, я постучала концом веера по столу в надежде призвать детей к порядку. На единственном стуле сидела Мэри и глядела на меня со смешанным выражением скуки и насмешки.
– Пускай играют, – сказала она. – Я им разрешаю.
Я растерялась. После проповеди преподобного рвения к уроку у меня поубавилось. В заднем углу класса валялась куча пыльных потрепанных подушек, на которых, вероятно, сидели дети, поскольку в комнате не было иной мебели, помимо учительского стола и стула. Никаких листков с расписанием, книг с картинками, грифельной доски, мела или картинок на стенах.
Я разложила подушки рядами на полу, и дети бросились пинать их ногами, как мячи. Мне было велено прочитать им сегодняшнюю проповедь и разъяснить ее значение. Когда удалось рассадить детей на подушках и взглянуть в их лица, затея показалась мне глупой. Если каждый озабочен обращением рабов в христианство, то почему бы не научить их самостоятельно читать Библию?
Я запела алфавит, это была новая песенка для обучения. A B C D E F G… Мэри с удивлением посмотрела на меня, потом вздохнула и вернулась в состояние апатии. H I J K L M N O P… Когда я пела, я никогда не запиналась. Глаза детей заблестели от любопытства. Q R S… T U V…W X…Y Z.
Я уговорила детей петь песенку по частям со мной. Произношение хромало, но надо было видеть их улыбающиеся лица! Я сказала себе, что в следующий раз принесу грифельную доску и буду писать буквы. Мне вспомнилась Хетти. На письменном столе я заметила беспорядок в книгах и поняла, что в мое отсутствие она их рассматривала. Ей бы понравилось выучить алфавит!
После полудюжины повторов дети запели от души, почти выкрикивая буквы. Мэри заткнула уши пальцами, а я пела в полный голос, дирижируя руками, и даже не заметила на пороге преподобного Холла.
– Что за ужасные проказы? – спросил он.
Мы замолчали, а меня не покидало странное ощущение, будто буквы продолжают беспорядочно кружиться над головами. Запылали щеки.
– …Мы пели, ваше преподобие.
– Которая ты из детей Гримке?
В младенчестве он крестил меня, как и моих братьев и сестер, однако вряд ли помнил каждого.
– Это Сара, – вскочила на ноги Мэри. – Я с ними не пела.
– …Извините, что мы так шумели, – сказала я.
Он нахмурился:
– Мы не поем в воскресной школе для цветных и, само собой, не поем алфавит. Ты знаешь, что учить раба читать – это нарушение закона?
Я смутно помнила об этом законе, он хранился где-то в глубине памяти и казался постыдным. Вряд ли священник стал бы утверждать, что это тоже Божья воля.
Он ждал ответа, а когда оного не последовало, спросил:
– Не думаешь ли ты, что Церковь может противоречить закону?
Вспыхнули воспоминания о дне, когда мать стукнула Хетти тростью, и я, подняв голову, молча взглянула на священника.
Подарочек
События завертелись стремительно и неотвратимо.
В понедельник, после молитвы, Тетка отвела матушку в сторону. Она сообщила, что у госпожи есть подруга, которой не нравится наказание кнутом, и та предложила кару под названием «на одной ноге». Сказала, что на лодыжку раба набрасывают петлю из кожаного ремня, потом заставляют отвести назад согнутую ногу и завязывают второй конец на шее. Если раб опускает ногу, петля затягивается…
Мы понимали, о чем она говорит. Матушка уселась на ступени кухонного корпуса и положила голову на колени. Привязывать ее пришел Томфри. На его лице было написано, что ему хочется оказаться где угодно, только не здесь, но он не произнес ни слова.
– Одного часа, Томфри, будет достаточно, – распорядилась госпожа.
Потом она пошла в дом и села у окна.
Томфри вывел матушку на середину двора близ сада, где из земли пробивались крошечные ростки. Все рабы, кроме Снежка, уехавшего на экипаже, сгрудились под нашим раскидистым деревом. Розетта завыла, Эли, пытаясь успокоить, похлопывала ее по руке. Люси и Фиби спорили из-за куска ветчины, оставшегося от завтрака, к ним подошла Тетка и влепила каждой по оплеухе.
Томфри повернул матушку лицом к дереву и спиной к дому. Она не сопротивлялась, стояла поникшая и безвольная. Повсюду чувствовался гнилостный запах водорослей, доносящийся из гавани.
– Держись за меня, – сказал Томфри матушке.
Она положила руку ему на плечо, пока он привязывал к лодыжке нечто вроде старого кожаного ремня. Потом он заставил ее поднять ногу с ремнем, другой конец которого обмотал вокруг шеи и застегнул пряжку.
Я прижималась к Бине, у меня дрожали губы и подбородок. Заметив это, матушка сказала:
– Не смотри. Закрой глаза.
Но я не послушалась.
Связав ее, Томфри отошел, чтобы наказанная не могла за него держаться. Она тяжело грохнулась на землю и рассекла кожу над бровью. При падении ремень натянулся, и матушка начала задыхаться, откинув голову назад, она хватала ртом воздух. Я бросилась на помощь, но тут же послышался стук хозяйкиной трости по окну, и Томфри, оттащив меня в сторону, помог матушке встать.
Тогда я закрыла глаза, но увиденное во мраке было страшнее действительности. Разлепив веки, я смотрела, как мама пытается удержать ногу согнутой и размахивает руками, чтобы сохранить равновесие. Матушка устремила взгляд на вершину дуба. Нога, на которой она стояла, дрожала. По щеке, как поток дождя по скату крыши, текла струйка крови.
«Не дай ей снова упасть», – повторяла я, словно молитву. Госпожа говорила, что Бог слышит каждого, даже раба. У меня сложилось свое представление о Боге – это белый человек, расхаживающий с тростью, как госпожа, или избегающий рабов, как господин Гримке, который держался так, будто в его мире невольников не существует. Такой Бог и пальцем не пошевелит, чтобы помочь.
Матушка не упала, и я подумала, что Бог меня все же услышал. А может, существует еще и черный Бог. Или матушка заставила себя стоять, собрав в кулак всю свою волю и все силы, откликнулась на мою молитву. Она не жаловалась, не издавала ни звука, только иногда шевелила губами. Позже я спросила, нашептывала ли она что-то Богу.
– Твоей бабушке, – был ответ.
Когда прошел час и Томфри снял у нее с шеи ремешок, матушка повалилась на землю и свернулась калачиком. Томфри с Теткой подняли ее за руки и поволокли по лестнице каретного сарая в каморку. Я бежала сзади, следя, чтобы ноги матушки не бились о ступени. Потом ее, как мешок с мукой, свалили на кровать.
Как только мы остались одни, я легла рядом и уставилась на раму с одеялом. Время от времени я спрашивала:
– Хочешь воды? Ноги болят?
Она кивала, не открывая глаз.
Ближе к вечеру Тетка принесла рисовых лепешек и куриного бульона, но матушка не притронулась к еде. Мы всегда оставляли дверь каморки открытой, чтобы было светло, и весь день к нам прилетали шум и запахи со двора. Таких долгих суток у меня еще не было.
Матушка снова начала ходить, но в душе изменилась. Казалось, какая-то ее часть навсегда осталась в том дне, ожидая, когда удавка ослабнет. Наверное, тогда и начало разгораться холодное пламя ее ненависти.
Сара
Хетти не появилась и наутро после Пасхи. Я позавтракала и, перед тем как отправиться в школу мадам Руфин на Легар-стрит, по настоянию матери написала письмо с извинением преподобному Холлу.
Ваше преподобие,
прошу извинить меня за то, что я не справилась с учительскими обязанностями в воскресной школе для цветных при церкви Святого Филипа. Прошу прощения за то, что пренебрегла расписанием занятий, а также за то, что проявила дерзость в отношении вас и святой канцелярии.
Ваша раскаявшаяся прихожанка
Сара Гримке.Едва я поставила подпись, мама потащила меня к входной двери, где ждал Снежок с экипажем, в котором уже сидела Мэри. Обычно карету для нас с Мэри подавали к заднему крыльцу… Кучер копался, и мы опаздывали.
– Почему он у парадного входа? – спросила я.
Мама ответила, что мне следует брать пример с сестры и не задавать ненужных вопросов.
Снежок повернулся и как-то странно взглянул на меня, будто предостерегая.
Целый день я была словно натянутая струна. Вечером, встретившись с Томасом на веранде для занятий – настоящих занятий, я едва подавляла тревогу.
Дважды в неделю мы рылись в отцовских книгах – вопросы права, латынь, история Старого Света и, с недавних пор, работы Вольтера. Брат считал, что я чересчур юна для Вольтера.
– Он для тебя слишком сложен! – говорил Томас.
Это правда, но тем не менее я бросалась в волны вольтеровского моря и выныривала с горсткой афоризмов. «Каждый человек виноват в том, что не совершил всех хороших дел» – такое высказывание сводило на нет все удовольствие от жизни! Или: «Если бы Бога не было, человеку пришлось бы Его выдумать». Я не знала, выдумал ли преподобный Холл своего Бога, а я – своего, но подобные мысли мучили и тревожили меня.
В занятиях с Томасом я видела смысл жизни, но в тот день, сидя с учебником латыни на коленях, не могла сосредоточиться. День пропитался ровным теплом и запахом крабов, выловленных в красноватых водах реки Эшли.
– Давай. Продолжай, – сказал Томас и, наклонившись, постучал пальцем по книге. – Вода, господин, сын – именительный падеж, единственное и множественное число.
– …Aqua, aquae… Dominus, domini… Filius, filii… Ой, Томас, что-то не так!
Я размышляла, куда подевалась Хетти, почему мама ведет себя странно, а Снежок столь хмур. В каждом рабе – Тетке, Фиби, Томфри, Бине – я ощущала какую-то подавленность. Томас, наверное, тоже.
– Сара, ты читаешь мои мысли, – сказал он. – Я думал, мне удалось это скрыть.
– …Что такое?
– Не хочу быть адвокатом.
Брат неверно истолковал мою тревогу, но я промолчала – такого захватывающего секрета он мне еще не открывал.
– …Не адвокатом?
– Никогда не хотел им быть. Это противно моей природе. – Он устало улыбнулся. – Зато ты – будешь. Отец сказал, ты станешь самым выдающимся юристом в Южной Каролине, помнишь?
Я помнила об этом так же, как любой человек помнит о солнце, луне и рассыпанных по небу звездах. Казалось, мир устремляется ко мне навстречу – сверкающий и прекрасный. Взглянув на Томаса, я еще больше уверилась в своем предназначении. У меня был союзник. Истинный и несгибаемый.
Поглаживая волнистые, густые, как у отца, волосы, Томас вышагивал по веранде.
– Хочу стать священником, – сказал он. – Мне осталось меньше года до поступления в Йель вслед за Джоном, а со мной обращаются как с несмышленышем. Отец считает, я не ведаю, чего хочу, но на самом деле я знаю!
– А он разрешит тебе изучать богословие?
– Вчера вечером я просил его благословения, но он отказал. Я сказал: «Тебя не волнует, что я собираюсь откликнуться на призыв Бога?» И знаешь, что он ответил? «Покуда Бог не сообщит мне о твоем призыве, будешь изучать право».
Томас плюхнулся в кресло, а я подошла и опустилась перед ним на колени, прижалась щекой к тыльной стороне его ладони.
– Я бы все сделала, чтобы помочь тебе.
* * *
Солнце опускалось все ниже, а Хетти так и не появлялась. Не в силах больше совладать с тревогой, я притаилась у окна кухонного корпуса, где после вечерней трапезы собирались рабыни.
Кухонный корпус служил им убежищем. Здесь они сочиняли небылицы, сплетничали и делились секретами. Время от времени рабыни затягивали песню, она плыла через двор, просачивалась в дом. Мне особенно нравилась одна, которая со временем становилась все более буйной.
Пусть, хлеб преломив, Придет к нам Иисус. И ноги устали. Придет к нам Иисус. Болит поясница. Придет к нам Иисус. Вот выпали зубы. Придет к нам Иисус. Тащусь еле-еле. Придет к нам Иисус.Иногда в кухне раздавались взрывы смеха, радуя мать.
– Наши рабы счастливы, – самодовольно говорила она.
Ей не приходило в голову, что веселятся они не потому, что довольны, а из желания выжить.
Однако в тот вечер кухонный корпус был окутан сумраком. Из окна тянуло жаром, от печи – дымом, и мое лицо освещалось отблесками огня. Я заметила Тетку, Бину, Синди, Марию, Фиби и Люси в ситцевых платьях, все молчали, слышался лишь звон чугунных кастрюль и сковородок.
Наконец до меня долетел голос Бины:
– Говоришь, она не ела весь день?
– Ни крошки, – ответила Тетка.
– Я бы тоже не смогла есть, если бы на меня накинули удавку, – сказала Фиби.
Я похолодела. «Накинули удавку? На кого? Не на Хетти же?»
– А о чем она думала, когда воровала? – Это был голос Синди. – Что говорит в свое оправдание?
Вновь послышался голос Тетки:
– Ничего. С ней там Подарочек, она болтает за двоих.
– Бедная Шарлотта, – сказала Бина.
«Шарлотта! На нее накинули удавку. Что это значит?» В памяти всплыло мелодичное причитание Розетты. Я видела, как ей связывали руки, как плеть рассекала спину и на коже распускались и увядали кровавые цветы.
Не помню, как вернулась в дом, только оказалась вдруг в маленькой кухне у запертого буфета, где мама хранила лекарства. Я часто заглядывала в него в поисках снотворного для отца, а потому быстро нашла ключ и достала голубую склянку с жидкой мазью и баночку со сладким душистым чаем. В чай капнула два грана опия.
Пока я укладывала лекарства в корзину, в коридор вошла мать:
– Что, ради всего святого, ты делаешь?
– …А что сделала ты?
– Юная леди, попридержите язык!
Ах так? Почти всю жизнь я держала свой бедный язык за зубами.
– …Что ты сделала? – закричала я.
Плотно сжав губы, она выхватила у меня корзинку.
Меня охватила неведомая ярость, я вырвала корзинку из рук матери и пошла к двери.
– Ты не выйдешь из этого дома! – отрезала она. – Я запрещаю.
Я выбежала через заднюю дверь в тихий сумрак, дрожа от своего же неповиновения. Небо стало синевато-зеленым, из гавани дул упорный ветер.
Вслед за мной, пронзительно вопя, шла мать:
– Я запрещаю тебе!
Ее слова колыхались на ветру, неслись мимо веток дуба, над кирпичной оградой.
Сзади послышался шум, обернувшись, мы увидели в колышущемся сумраке Тетку, Бину, Синди и прочих. Они смотрели на нас с крыльца кухни.
Бледная мать поднялась на ступени.
– Я хочу проведать Шарлотту, – отчеканила я.
Слова легко сорвались с губ, как поток воды. Я поняла, что нервное заикание ушло в небытие, так уже случалось в прошлом, мой дефект постепенно сглаживался, пока однажды я не избавилась от него полностью.
Мать тоже это заметила. Она больше ничего не сказала, и я, не оглядываясь, поспешила к каретному сараю.
Подарочек
Когда стемнело, матушку затрясло. Голова ее свесилась набок, зубы застучали. У Розетты при приступах дергались конечности, матушку, казалось, до костей пробирает холод. Я не знала, что делать, и просто гладила ее по рукам и ногам. Через некоторое время она затихла. Дыхание ее выровнялось, и я сама не заметила, как уснула.
Мне снился сон, и я в нем спала. Дремала под сводом густой зелени, склонившейся надо мной. Мои руки обвивали виноградные лозы, которые вились у лица. Я спала, но в то же время видела себя со стороны, словно была частью проплывающих мимо облаков. Взглянув вниз, я поняла, что зеленый свод вовсе не свод, а наша рама для лоскутных одеял, увитая лозами и листьями. Я спала, наблюдая за собой со стороны, и облака продолжали плыть мимо, и я вновь увидела густую зелень. На этот раз в ней была матушка.
Не знаю, отчего я проснулась. В каморке было тихо и темно.
– Не спишь? – спросила матушка.
Это были ее первые слова с момента, как Томфри связал ее.
– Нет.
– Хорошо. Хочу рассказать тебе историю. Слушаешь, Подарочек?
– Да.
Мои глаза привыкли к темноте, и я увидела, что дверь по-прежнему широко распахнута, а матушка, нахмурившись, лежит рядом со мной.
– Твою бабушку девочкой привезли из Африки, – начала она. – Ей было примерно столько же, сколько тебе сейчас.
У меня забилось сердце. Я обратилась в слух.
– Вскоре после приезда ее разлучили с мамой и папой, и в ту же ночь с неба попадали звезды. Ты думаешь, звезды не падают, но твоя бабушка это видела. – Матушка помедлила, чтобы я могла представить себе, как выглядело небо. – Она говорила, что все ей стало казаться никчемным. Еда напоминала мясо обезьяны. У нее не осталось ничего, кроме небольшого обрывка лоскутного одеяла, сшитого мамой. В Африке ее мать слыла лучшей мастерицей по лоскутным одеялам. Наш народ фон делал аппликации, как и я сейчас. Люди вырезали фигурки рыб, птиц, львов, слонов – всяких местных зверей – и пришивали их на одеяло. Но на том, что привезла с собой твоя бабушка, не было животных, только маленькие трехсторонние фигуры, которые ты зовешь треугольниками. Такие же, как я пришиваю на свои одеяла. Моя матушка называла их крыльями дрозда.
В коридоре заскрипели половицы, и я услышала учащенное дыхание, как у мисс Сары. Я приподнялась на локте, вытянула шею и различила ее силуэт на фоне коридорного окна. Потом опустилась на кровать, и матушка продолжила рассказ, к которому стала прислушиваться и мисс Сара.
– Твою бабушку продали за двадцать долларов, новый хозяин отправил ее на плантации близ Джорджтауна. Утром им давали вареные бобы и горох, и если раб не справлялся с едой за десять минут, то в этот день ничего больше не получал. Твоя бабушка говорила, что всегда ела слишком медленно. С отцом я незнакома. Знаю только, что он был белым, звали его Джон Пол. Хозяину он приходился братом. После моего рождения нас продали. Мать говорила, что у меня кожа светло-коричневого оттенка, и все понимали почему. Новый владелец жил близ Камдена. Мать работала на плантации, я была при ней, а по ночам она учила меня всему, что знала о лоскутных одеялах. Я распарывала штанины старых брюк и подолы платьев и собирала из кусков нечто новое. Мама говорила, в Африке в лоскутные вещи зашивают талисманы. В свои я прятала пряди волос. Когда мне исполнилось двенадцать, матушка стала похваляться перед госпожой, что я могу шить все на свете, и госпожа взяла меня в дом – учиться у их швеи.
Матушка замолчала и пошевелила ногами. Я боялась, что ей больше нечего рассказать. Никогда прежде не слышала этой истории. Слушать ее было все равно что смотреть на себя спящую – проплывают облака, надо мной склонилась матушка… Я позабыла, что за дверью стоит мисс Сара.
Я ждала, и она продолжила рассказ:
– Мама родила мне брата, пока я шила в доме. Она не говорила, кто его отец. Мальчик не прожил и года. Когда он умер, твоя бабушка отыскала для нас дерево душ. Это был простой дуб, но она называла его баобабом, как в Африке. Говорила, что у народа фон есть дерево душ – баобаб. Твоя бабушка обмотала ствол нитками, которые то ли выпросила, то ли стащила, затем привела меня к нему и произнесла: «Отдаем дереву свои души, чтобы сберечь их». После мы встали на колени на ее африканское лоскутное одеяло и отдали дереву души. «Теперь живут на дереве вместе с птицами и учатся летать, – сказала мама. – Если покинешь это место, забери свою душу с собой». Мы, бывало, собирали под деревом листья и веточки и засовывали их в мешочки, которые носили на шее. – Рука матушки потянулась к горлу, ощупала его. – Мама умерла зимой от крупа. Мне было шестнадцать, я научилась хорошо шить. Вскоре хозяин влез в долги и продал всех нас. Меня купил господин Гримке для дома в Юнионе. Накануне отъезда я забрала у дерева свою душу. Хочу, чтобы ты знала: твой папа был золотой человек. Его звали Шенни, он работал на плантации у господина Гримке. Однажды госпожа сообщила, что я поеду в Чарльстон, чтобы шить для нее. Я сказала: «Хорошо, но возьмите Шенни, он мой муж». Она ответила, что Шенни останется работать на плантации и, может быть, иногда я смогу с ним видеться. Ты уже жила во мне, но никто этого не знал. Шенни умер от раны на ноге, когда тебе не исполнилось и года. Он так и не увидел тебя.
Матушка замолчала и вскоре уснула, а я осталась с ее рассказом.
* * *
На следующее утро я проснулась, пошла в уборную и споткнулась о корзину у двери. Внутри была склянка с жидкой мазью и лечебный чай.
В тот день я вернулась к мисс Саре, прошмыгнула в комнату, застав ее за книгой. Она постеснялась спрашивать, что случилось с матушкой, и я сказала:
– Мы нашли вашу корзинку.
Лицо ее прояснилось.
– Скажи своей маме: мне очень жаль, что с ней так обошлись. Надеюсь, она скоро поправится.
В ее словах не было притворства.
– Это для нас очень важно, – ответила я.
Отложив книгу, мисс Сара подошла ко мне и обняла. Трудно было разобраться, что к чему. Люди говорят, при таком различии, как у нас, теплые чувства невозможны. Я не знала наверняка, симпатизирует ли мне мисс Сара или просто чувствует вину? И не понимала, идет ли моя симпатия к ней от любви или от потребности в защите. Она любила и жалела меня. А я любила и использовала ее. Все очень сложно. Но в тот день наши помыслы были чисты.
Сара
За весной пришло лето, я освободилась от мадам Руфин до осени и попросила Томаса чаще заниматься со мной на веранде.
– Боюсь, нам придется прекратить уроки, – сказал он. – Мне и самому пора садиться за учебу. Отец велел приступить к изучению его книг по юриспруденции для поступления в Йель.
– Я буду помогать тебе! – воскликнула я.
– Сара, Сара, контра-ра.
Так он говорил, когда его отказ бывал окончательным и бесповоротным.
Он понятия не имел, какие планы я строила на его счет. На Брод-стрит от биржи до собора Святого Михаила протянулась цепочка контор барристеров. Я мечтала о том, что мы станем партнерами в одной из них и над входом повесим табличку «Гримке и Гримке». Конечно, не обойдется без стычек с членами семьи, но при поддержке Томаса и отца ничто мне не помешает.
Каждый вечер я в одиночку трудилась над юридическими книгами отца.
По утрам, закрыв двери, вслух читала Хетти. Когда воздух нестерпимо раскалялся, мы скрывались на веранде и там, сидя рядышком на качелях, пели сочиненные Хетти песенки – по большей части о морском путешествии на корабле или на спине кита. Ее ноги болтались взад-вперед, как палки. Иногда мы садились перед окнами в эркере второго этажа и играли в «сплети нитку». У Хетти в кармане платья всегда был запас красных ниток, и мы часами продевали их сквозь вытянутые пальцы, создавая в воздухе замысловатые красные узоры.
Обычные девчоночьи игры, но для каждой из нас они были в новинку, и, чтобы мама нам не помешала, мы скрывались как могли. Мы с Хетти переступили опасную черту.
* * *
Ранним утром Чарльстон изнывал от немилосердного летнего зноя, а мы с Хетти лежали ничком на ковре в моей комнате, и я вслух читала «Дон Кихота». Неделей раньше мать, в ожидании сезона москитов, приказала достать москитные сетки и укрепить над кроватями. Однако у рабов не было такой защиты, и они уже вовсю чесались, натираясь, чтобы избавиться от зуда, свиным жиром и черной патокой.
Хетти расчесывала укус москита на плече и хмуро посматривала на книжные страницы, словно те таили в себе неразрешимый шифр. Мне хотелось поведать ей о подвигах рыцаря и Санчо Пансы, но она то и дело перебивала меня, тыча пальцем то в одно слово, то в другое:
– Что здесь написано?
Приходилось прерывать чтение и объяснять. Когда мы читали «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо из Йорка», она вела себя точно так же. Возможно, ей просто наскучило слушать об этих нелепых людях – рыцаре и потерпевшем крушение моряке?
Чтобы оживить в Хетти интерес к повествованию, я старалась читать выразительно. А между тем свет в комнате померк – приближался шторм. Насыщенный запахами дождя и олеандра, через открытое окно врывался ветер, колыхая москитный полог. Послышались раскаты грома, и на подоконник полились струи дождя. Я отложила книгу.
Мы с Хетти разом вскочили, опустили оконную раму и вдруг увидели в желтоватом сумраке пикирующую молодую сову, которую Шарлотта с Хетти преданно выкармливали всю весну. Из птенца совенок превратился во взрослую птицу, но продолжал жить в поленнице.
Я смотрела, как он летит на нас, по дуге над стеной заднего двора. Мы успели хорошо рассмотреть странное совиное лицо. Когда птица пропала из виду, Хетти отправилась зажигать лампу, а я стояла, не в силах оторваться от окна. Вспомнился день, когда Шарлотта показала мне совенка у поленницы, и моя клятва освободить Хетти – невыполнимое обещание, по-прежнему вызывающее чувство вины. Но вдруг до меня дошло: Шарлотта сказала, что я должна любым путем помочь Хетти освободиться.
Обернувшись, я смотрела, как она несет фонарь к туалетному столику и вокруг ее ног пляшут блики света.
– Хетти, научить тебя читать? – спросила я, когда она поставила фонарь.
* * *
Я обзавелась букварем, орфографическим справочником, грифельной доской и куском мела, и мы приступили к ежедневным урокам в моей комнате. Я не только запирала дверь, но и завешивала замочную скважину. Занимались по утрам часа два, а то и больше. После урока я заворачивала учебные пособия в мешковину и засовывала под кровать.
Прежде я никого не обучала чтению, но со мной усиленно занимался латынью Томас, а мадам натаскивала по другим предметам, так что я имела представление о том, как надо учить. Хетти проявила большие способности. Через неделю занятий научилась писать и освоила алфавит. Через две – проговаривала слова из сборника упражнений. Никогда не забуду момента чудесного озарения, когда буквы, как и звуки, обрели для нее свой смысл. После этого она все увереннее читала по букварю.
К сороковой странице ее словарный запас насчитывал восемьдесят шесть слов. Каждое новое слово я заносила в блокнот.
– Дойдешь до сотни – устроим чаепитие, – обещала я ей.
Хетти начала разбирать надписи на аптечных этикетках и банках с продуктами.
– Как пишется «Хетти»? – спрашивала она. – А «вода»?
У нее была огромная тяга к учебе.
Однажды я заметила, как она что-то чертила палкой на земле двора, и выбежала остановить ее. Хетти крупными буквами выводила слово В-О-Д-А.
– Что ты делаешь? – спросила я, стирая буквы ступней. – Кто-нибудь увидит.
Она рассердилась на меня не меньше.
– Думаешь, у меня нет ног, чтобы стереть буквы, если кто-нибудь придет?
Свое сотое слово она освоила тринадцатого июля.
* * *
На следующий день мы устроили праздничное чаепитие на четырехскатной крыше нашего дома в надежде увидеть торжества в честь Дня взятия Бастилии. У нас была обширная французская колония из Сан-Доминго, французский театр и на каждом углу – французский пансион благородных девиц. Маму и ее приятельниц завивал и пудрил французский парикмахер, развлекая дам рассказами о гильотинировании Марии Антуанетты, которому он якобы стал свидетелем. Чарльстон – британский до мозга костей, однако день разрушения Бастилии праздновал с не меньшим рвением, чем День независимости.
Мы поднялись на чердак с двумя фарфоровыми чашками и чайником черного чая, приправленного иссопом и медом. Оттуда поднялись по лесенке, ведущей к люку в крыше. В тринадцать лет Томас обнаружил это тайное окошко, и мы с ним бродили среди труб. Однажды Снежок подвозил мать к дому с благотворительного мероприятия и заметил нас на крыше. Ни слова не сказав ей, он забрался наверх и увел нас. С тех пор я не отваживалась туда ходить.
Мы с Хетти, прислонившись к скату, примостились у водостока с южной стороны. Она никогда не пила из фарфоровых чашек и проглотила свой чай залпом, а я прихлебывала не спеша. Вдали по Брод-стрит вышагивала процессия, которую почти не было видно, но мы слышали, как она поет Марсельезу. Звонили колокола в церкви Святого Филипа, громыхал салют из тринадцати залпов.
На крыше возились птицы, и повсюду валялись перья. Хетти рассовывала их по карманам, и это почему-то вызвало во мне приступ нежности. Может, я чуть-чуть опьянела от иссопа и меда или разволновалась от новизны происходящего. Как бы то ни было, я начала выбалтывать Хетти свои секреты.
Призналась, что подслушивала под дверью комнаты Шарлотты в день, когда ее наказали.
– Знаю, – сказала Хетти. – Не так уж здорово ты умеешь шпионить.
Я выболтала все тайны. Сестра Мэри презирает меня. Томас – единственный друг. Мне не разрешили учить детей рабов, но не потому, что я к этому не способна, – пусть не думает.
Мои откровения становились все мрачнее.
– Однажды я видела, как били плетью Розетту, – сказала я. – Мне было четыре. Тогда я и начала заикаться.
– Сейчас ты вроде хорошо говоришь.
– Бывает по-разному.
– Розетте здорово досталось?
– Да, это было ужасно.
– Что она сделала такого?
– Не знаю. Не спрашивала. Я тогда несколько недель не разговаривала.
Мы замолчали, откинувшись назад и глядя на перистые облака. Разговор о Розетте слишком сильно на нас подействовал, и как-то забылось, что чаепитие – в честь сотого слова Хетти.
Захотелось немного поднять настроение.
– Хочу стать юристом, как отец. – Неожиданно для самой себя я выдала главный свой секрет и поспешно добавила: – Но об этом нельзя никому говорить.
– Мне некому рассказывать. Разве только маме.
– Даже ей нельзя. Обещай.
Хетти кивнула.
Успокоившись, я подумала о шкатулке из лавы и серебряной пуговице.
– Знаешь, иногда какой-то предмет может означать совсем не то, чем является на самом деле… – Она непонимающе смотрела на меня, пока я думала, как объяснить. – К примеру, трость моей матери должна помогать ходить, но все мы знаем, для чего она используется.
– Чтобы дубасить по головам. – Помолчав, Хетти добавила: – Треугольник на лоскутном одеяле означает крыло дрозда.
– Да, это я и хотела сказать. У меня в комоде есть шкатулка с пуговицей внутри. Пуговица нужна для застегивания одежды, но эта – красивая и такая необычная, что я решила – пусть символизирует мое желание стать юристом.
– Я знаю про пуговицу. Я не трогала ее, просто открыла шкатулку и посмотрела.
– Не возражаю, если ты ее подержишь.
– У меня есть наперсток, он помогает проталкивать иглу и защищает пальцы, но, я думаю, может означать что-то еще.
Я спросила, что именно.
– Не знаю. Просто хочу научиться шить, как мама.
Хетти была в ударе. Она пересказала всю историю, которую поведала в тот вечер ее мать и которую я подслушала. О бабушке, привезенной в детстве из Африки и научившейся нашивать на лоскутные одеяла треугольники. О дереве душ Хетти говорила с благоговением.
– Я взяла из твоей комнаты шпульку ниток, – призналась Хетти, перед тем как спуститься вниз. – Она без дела лежала в ящике стола. Прости, я могу вернуть ее.
– О-о. Ладно, оставь себе, но прошу тебя, Хетти, больше ничего не кради, даже маленькие вещи. Это может очень плохо кончиться.
Когда мы спускались по лесенке, она сказала:
– Мое настоящее имя – Подарочек.
Подарочек
Матушка спустилась вниз прихрамывая. В каморке и кухонном корпусе она держалась, но, оказавшись во дворе, начинала приволакивать ногу, словно бревно. Тетка и прочие рабыни только головой качали, они считали это хитрой уловкой, о чем и заявляли без стеснения.
– Вот накажут вас стоянием на одной ноге, тогда и будете умничать, – отвечала им мама. – А пока помолчите.
Они и отстали. Замолкали при матушке, но, стоило ей уйти, снова судачили.
Теперь ее глаза постоянно пылали гневом. Иногда она срывалась на мне, но порой ее раздражительность служила во благо. Однажды я застала мать перед лестницей, она объясняла госпоже, насколько трудно ей карабкаться по лестнице в дом, к шитью, а также – в каморку над каретным сараем.
– Не беспокойтесь, как-нибудь справлюсь, – кротко добавила она после причитаний.
А после мы с госпожой наблюдали, как матушка, вцепившись в перила, тащится наверх, то и дело призывая Иисуса.
Вскоре госпожа заставила Принца прибраться в большой подвальной комнате со стороны, выходящей к ограде заднего двора. Слуга перетащил туда матушкину кровать и все ее пожитки, снял с потолка раму для одеял и прибил на новое место. Госпожа объявила, что теперь матушка будет заниматься шитьем в своей комнате, и повелела Принцу принести туда лакированный стол для шитья.
Подвальная комната была размером с три рабьи каморки. Со свежей побелкой и крошечным окном под потолком, в которое виднелись не облака, а кирпичи ограды. Тем не менее матушка сшила ситцевую занавеску. Еще она разжилась картинками плывущих кораблей из какой-то ненужной книги и прикрепила их к стене. Также в новом хозяйстве нашлось крашеное кресло-качалка и ветхий туалетный столик, который мама накрыла салфеткой. На столик она поставила пустые цветные бутылки, коробку свечей, положила кусок сала и оловянное блюдо с кофейными зернами для жевания. Понятия не имею, откуда взялись эти припасы. На настенную полку матушка выложила все наши швейные принадлежности: коробку с лоскутками, мешочек с иголками и нитками, мешок побольше с набивкой для одеял, подушечку для булавок, ножницы, колесико для разметки, уголь, бумагу, измерительные ленты. Отдельно лежали мой латунный наперсток и красные нитки, стащенные из ящика мисс Сары.
Заселившись, можно сказать, во дворец, матушка пригласила Тетку и прочих прийти и помолиться за ее «бедное жалкое жилище». И вот вечером пожаловало много народу, чтобы посмотреть, насколько же оно «бедное и жалкое». Матушка предложила каждому кофейное зерно, позволила рассматривать комнату сколько душе угодно, показала, что дверь запирается на железный засов, продемонстрировала личный ночной горшок под кроватью. Учитывая, какой калекой она была, опорожнять этот горшок выпало мне. Матушка хорошо отыгралась на деревянной трости, которой как-то огрела ее госпожа.
Удалившись с вечеринки, Тетка плюнула на пол за дверью, и Синди, шедшая следом, сделала то же самое.
Самое приятное, что теперь я могла приходить к матушке, не выходя из дома. Едва ли не каждую ночь я, стараясь не скрипеть, кралась из Сариной комнаты по двум лестничным пролетам. Матушке нравился запор на двери. Если она в комнате, дверь наверняка заперта, а когда засыпала, мне приходилось подолгу стучать в дверь.
Матушку больше не заботило, что я покидала свой пост. Она, бывало, распахнет дверь комнаты, втолкнет меня внутрь и снова закроется. Я забиралась под одеяло и просила рассказать о дереве душ, требуя больше подробностей. Думая, что я уснула, она вставала и расхаживала по комнате, вполголоса напевая песенку. В те ночи в ней просыпалось что-то темное и необузданное.
Сутки напролет она сидела в новой комнате с шитьем. Мисс Сара отпускала меня днем, разрешала оставаться с мамой до ужина. Около оконца ощущалось движение воздуха, но в целом в комнате было жарко, как в плавильной печи.
– Займись чем-нибудь, – говорила матушка.
Я научилась сметывать, собирать складки, плиссировать и вшивать клинья. Освоила разные швы. Научилась делать петли для пуговиц и вырезать выкройку по одним лишь меткам.
Тем летом мне исполнилось одиннадцать, и матушка сказала, что подстилка, на которой я сплю наверху, не годится даже для собаки. Мы должны были готовить очередную порцию одежды для рабов. Каждый год мужчины получали по две коричневые рубашки и две белые, две пары штанов, две жилетки. А женщины – по три платья, четыре фартука и по головному шарфу. Матушка сказала, что все это подождет. Она показала мне, как вырезать черные треугольники, каждый величиной с кончик моего большого пальца. Мы их около двух сотен пришили на красные – цвета бычьей крови – квадраты. Еще приладили крошечные желтые кружки – солнечные блики. Затем спустили раму для одеяла и собрали все вместе. Я сама притачала домотканую подкладку, и мы набили одеяло всем ватином и перьями, какие у нас были. Я отрезала прядь своих волос и прядь маминых и засунула внутрь в качестве талисмана. На это ушло шесть вечеров.
Матушка перестала красть, выбрав более безопасные «шалости». Она могла «забыть», что рукава платья госпожи сметаны на живую нитку, и один из них отрывался в церкви или где-нибудь еще. Матушка заставляла меня пришивать пуговицы, не делая узлов на нитке, и они в первый же вечер падали с груди хозяйки. Все слышали, как госпожа громко ругает матушку за нерадивость, а та голосит в ответ:
– Ой, госпожа, помолитесь за меня! Я хочу исправиться!
Не припомню всех пакостей, совершенных матушкой, – только те, что видела сама, – но их было достаточно. Она «случайно» разбивала фарфоровую чашку или статуэтку, стоявшую поблизости. Роняла и шла дальше. Завидев чайные подносы, поставленные Теткой в буфетную для подачи в гостиную, матушка бросала в чайник любую гадость – грязь с пола, шерсть с ковра, плевала туда. Я говорила мисс Саре, чтобы не притрагивалась к чаю.
* * *
В ожидании шторма воздух стал совершенно неподвижным. Все чего-то ждали, а чего именно – непонятно. Томфри сказал, что надвигается ураган, и принял жесткие меры. Принц с Сейбом закрыли все ставни в доме, спрятали рабочие инструменты в сарай и привязали животных. В доме мы убрали с пола на первом этаже ковры и отодвинули от окон хрупкие вещи. Госпожа приказала принести из кухонного корпуса запасы еды.
Ураган налетел ночью, когда я была с мамой в постели. Ветер завывал и швырял в дом сломанные ветки, в темноте шумели листья бесчисленных пальм, и, чтобы услыхать друг друга, нам с матушкой приходилось кричать. Мы сидели на кровати и смотрели, как в окошко, заливая его края, хлещет дождь. К двери подступала вода. Чтобы отвлечься, я громко пела песню собственного сочинения.
Через воды и моря Рыбы пусть везут меня. Хоть и длинен водный путь, Мне с дороги не свернуть.Когда шторм наконец утих, мы опустили ноги на пол и поняли, что вода доходит нам до лодыжек. Матушкина комната воистину превратилась в «бедное жалкое жилище».
На следующий день был отлив, вода опустилась, и всех рабов позвали вычерпывать грязь из подвала. На заднем дворе в беспорядке валялись сучья, сломанные пальмовые листья, ведра, конский фураж, дверь уборной – все, что сорвал и разнес ветер. В ветвях раскидистого дуба повис обрывок корабельного паруса.
Закончив прибираться в матушкиной комнате, я решила посмотреть на парус на дереве. Он хлопал на ветру и выглядел странно. Земля под ветками была сплошь синеватой глиной. Я взяла палку и, глубоко вонзая ее в вязкую землю, вывела: «МАЛЫШ, ПОДУЙ В РОЖОК. ХЕТТИ». Я была довольна собой. Когда Тетка позвала меня в кухонный корпус, я быстро затерла слова носком ботинка.
До конца дня солнце высушило землю.
Следующим утром, когда мы с матушкой дожидались в столовой молитвы, по коридору быстро прошла мисс Мэри, а за ней протрусила госпожа. Они направлялись к задней двери.
– Куда это они сорвались? – спросила матушка, опираясь на палку.
Выглянув в окно, мы увидели под дубом Люси, горничную мисс Мэри. На дереве по-прежнему висел парус, мисс Мэри провела госпожу через двор к Люси и указала на землю. Меня будто обдало горячей волной.
– На что они смотрят? – спросила матушка, глядя, как вся тройка наклонилась и уставилась на что-то под ногами.
Люси со всех ног бросилась к дому.
– Подарочек! Подарочек! – заорала она, подбежав ближе. – Госпожа велит тебе немедленно подойти.
Я пошла, хорошо зная, что меня ждет.
В глине спеклись мои слова, взятые из букваря. Размазанный сверху слой растрескался, и показались глубокие расщелины букв.
«МАЛЫШ, ПОДУЙ В РОЖОК. ХЕТТИ».
Сара
Минуло два дня после того, как ураган залил водой весь Ист-Бей до Митинг-стрит. Перед завтраком Бина постучала в мою комнату, в глазах ее читались страх и сострадание, и я поняла, что произошло нечто ужасное.
– Кто-нибудь умер? Отец…
– Нет, все живы. Ваш папенька просит вас в библиотеку.
Приглашение странно подействовало на меня: когда я подошла к туалетному столику, чтобы взглянуть на ленту в волосах, у меня даже колени подгибались.
– Что случилось? – Я поправила бантик, пригладила платье и взглянула на отражение служанки в зеркале.
– Мисс Сара, не знаю, чего он хочет, – покачала она головой, – но мешкать не стоит.
После чего приобняла меня за талию и увлекла из комнаты. В коридоре лежало новое лоскутное одеяло Хетти, будто пришпиленное к полу множеством треугольников. Мы спустились по лестнице и задержались у двери библиотеки. Бина не стала повторять свое: «Бедная мисс Сара». Вместо этого сказала:
– Послушайте Бину. Не плачьте и не убегайте. Будьте молодцом.
Видимо, ее слова должны были приободрить, но они окончательно выбили меня из колеи. Я постучала в дверь, колени снова задрожали. Отец сидел за письменным столом, изучая стопку документов. Волосы его были напомажены и зачесаны назад.
Подняв лицо, он сурово взглянул на меня:
– Ты разочаровала меня, Сара.
Он настолько ошеломил меня, что ни плакать, ни бежать прочь я была не в состоянии.
– Я ни за что не стала бы намеренно вас разочаровывать, отец. Хочу только…
Он взмахнул рукой:
– Я позвал тебя, чтобы ты слушала. Молчи!
Сердце бешено колотилось в груди – вот-вот выскочит.
– Мне сообщили, что твоя служанка-рабыня научилась грамоте. Не вздумай отрицать. Она написала на земле двора несколько слов и даже не забыла имя подписать.
«Ох, Подарочек, нет!» Я отвела взгляд от суровых укоризненных глаз, пытаясь представить, что произойдет дальше. Подарочек слишком беспечна. Нас разоблачили. Однако я поверить не могла, что отец посчитает умение читать непростительным прегрешением. Накажет меня как должно, и, без сомнения, по настоянию матери, а потом смягчится. В глубине души он, конечно, понимает, что ничего плохого я не сделала.
– Откуда, по-твоему, у нее это умение? – спокойно спросил он. – Снизошло как гром среди ясного неба? Или она с ним родилась? Или настолько гениальна, что сама научилась читать? Разумеется, мы знаем, кто обучил девочку, – ты. Ты пренебрегла матерью, отцом, законами штата, даже своим пастором, который настойчиво предостерегал тебя. – Он встал с кожаного кресла, подошел ко мне и остановился на расстоянии вытянутой руки. Потом заговорил более дружелюбно: – Я спрашиваю себя, как ты можешь не повиноваться с такой легкостью и неуважением к старшим. Думаю, причина в том, что ты избалованная девочка, не понимающая своего места в мире, и в этом отчасти моя вина. Я слишком снисходителен к тебе. Моя терпимость позволяет тебе переступать некие границы, как сейчас.
Меня охватил неведомый раньше ужас, я осмелилась заговорить, но горло сжал знакомый спазм.
– …Простите, отец… – зажмурившись, с трудом произнесла я. – Я не хотела вас обидеть.
– Неужели?
Не заметив, что ко мне вернулось заикание, отец вышагивал по душной комнате, читал наставления, а с каминной полки на нас невозмутимо взирал мистер Вашингтон.
– Полагаешь, нет вреда в образованном слуге? В нашем мире есть печальные истины, и одна из них – в том, что читающие рабы представляют собой угрозу. Они будут в курсе новостей, которые могут спровоцировать их на действия, неподвластные контролю. Да, несправедливо лишать их знаний, но существуют другие ценности, которые следует защищать.
– …Но, отец, это неправильно! – воскликнула я.
– У тебя хватает дерзости возражать мне даже сейчас? Нужно было привести тебя в чувство сразу после документа об освобождении Хетти, оставленном у меня на столе, но я продолжал нянчиться с тобой. Подумал, что ты, увидев разорванную бумагу, поймешь: Гримке не разрушают правил и законов, по которым живут, даже если не согласны с ними.
Мне было неловко. Какая же я глупая! Мою вольную грамоту разорвал отец. Отец!
– Пойми меня правильно, Сара. Я буду защищать наш образ жизни и не потерплю бунта в собственной семье!
Когда во время застольных дебатов я высказывалась против рабства и отец с улыбкой поощрял меня, я думала, он оценивает по достоинству мою позицию. Разделяет ее. Но сейчас меня осенило: я была ручной обезьянкой, пляшущей под аккордеон хозяина. Отец веселился. Или, быть может, поощрял мои оппозиционные взгляды только потому, что они помогали остальным отстаивать свою позицию. Или терпел их, поскольку споры заменяли устные упражнения, помогающие дочери преодолеть заикание?
Отец скрестил руки на белой рубашке и вперил в меня взгляд из-под кустистых бровей. В ясных карих глазах не было сострадания, и в тот момент я впервые разглядела отца таким, каким он был: человеком, для которого принципы превыше любви.
– Ты в буквальном смысле совершила преступление, – сказал он и вновь зашагал, медленно описывая вокруг меня широкий круг. – Я не стану тебя наказывать надлежащим образом, но урок преподнесу, Сара. С сегодняшнего дня тебе запрещается входить в эту комнату. Ты не должна переступать ее порог ни днем ни ночью. Ты лишаешься доступа к этим книгам, а также ко всем другим, кроме тех, что выдает мадам Руфин.
«Никаких книг! Господи, прошу Тебя». У меня подкосились ноги, и я упала на колени.
Отец продолжал кружить:
– Ты не будешь изучать ничего, кроме предметов, одобренных мадам. Никаких занятий латынью с Томасом. Не будешь ни писать на ней, ни говорить, ни сочинять. Понятно?
Я просительно подняла руки:
– …Отец, умоляю вас… П-п-пожалуйста, не отнимайте у меня книг… Я этого не вынесу.
– Тебе не нужны книги, Сара.
– …От-тец!
Он вернулся к письменному столу:
– Мне больно видеть, как ты расстраиваешься, Сара, но пути назад нет. Постарайся не принимать все так близко к сердцу.
Из окна доносился грохот подвод и экипажей, крики уличных торговцев. Коммерция жила, невзирая ни на что. За дверью библиотеки ждала Бина, она взяла меня за руку и отвела по лестнице к двери моей комнаты:
– Сейчас принесу вам завтрак.
Она ушла, а я заглянула под кровать, где хранила грифельную доску и букварь. Все исчезло. Книги с письменного стола тоже пропали. Мою комнату обыскивали.
И только когда Бина вернулась с подносом, я догадалась спросить:
– …А где Подарочек?
– О, мисс Сара, то-то и оно. Ее собираются наказать.
* * *
Не помню, как слетела с лестницы.
– Только одна плеть! – кричала вслед Бина. – Госпожа сказала, одна плеть. И больше ничего.
Я распахнула заднюю дверь, оглядела двор. Тощие руки Подарочка привязаны к перилам крыльца кухни, в десяти шагах от нее, уставившись в землю, застыл Томфри с плетью. Шарлотта стояла в колее, пролегающей от каретного сарая к задним воротам, остальные рабы сгрудились под дубом.
Томфри поднял руку.
– Нет! – завизжала я. – Нееет!
Он неуверенно повернулся ко мне с облегчением на лице.
Потом раздался стук материнской трости по стеклу верхнего окна, и Томфри поднял усталые глаза. Кивнув, он опустил плеть на спину Подарочка.
Подарочек
Томфри сказал, что старался не бить изо всех сил, но от удара у меня содралась кожа. Мисс Сара сделала примочку из бальзама на основе рома господина Гримке, а матушка протянула мне фляжку:
– На, выпей.
Я почти не помню боли.
Рана зарубцевалась быстро, а вот обида мисс Сары разгоралась все сильней. Она опять стала заикаться и очень тосковала по книгам. Несчастная девочка!
Это Люси наболтала мисс Мэри о моей писанине под деревом, а мисс Мэри побежала жаловаться госпоже. Я всегда считала Люси глупой, но она просто хотела угодить мисс Мэри. Я так и не простила ее и не знаю, простит ли мисс Сара свою сестру, потому что эти кляузы изменили жизнь моей юной госпожи. С ее занятиями было покончено.
Наши уроки чтения тоже прекратились. У меня была сотня слов, но, пошевелив мозгами, я могла прочесть гораздо больше. Время от времени я повторяла алфавит для матушки и читала ей слова с картинок, прикрепленных на стену.
* * *
Однажды я пришла в подвал и увидела, что матушка шьет детскую распашонку из муслина с сиреневыми ленточками.
– Да, на подходе новый Гримке, – сказала она, заметив удивление на моем лице. – Где-то зимой ожидается. Госпожа не рада. Я слышала, как она говорила хозяину, что это будет последний ребенок.
Закончив подрубать маленькую распашонку, матушка порылась в мешке из рогожи и вытащила небольшую пачку чистой бумаги, чернильницу и гусиное перо. Я знала, что все это она украла.
– Зачем ты продолжаешь воровать?
– Хочу, чтобы ты кое-что написала. Пиши: «Шарлотта Гримке имеет разрешение на перемещение». Ниже поставь месяц, оставь место для числа и подпишись «Мэри Гримке» с какой-нибудь завитушкой.
– Прежде всего я не знаю, как писать «Шарлотта». И не знаю слова «разрешение».
– Тогда напиши: «Этой рабыне можно перемещаться».
– Зачем тебе понадобилась такая бумага?
Она улыбнулась, обнажив щель в передних зубах:
– Эта рабыня собирается странствовать. Но не волнуйся, она всегда будет возвращаться.
– Что ты собираешься делать, когда тебя остановит белый и попросит пропуск? И догадается, что его написал ребенок.
– Тогда постарайся написать не как ребенок.
– А как ты перелезешь через стену?
Матушка подняла взгляд к окну под потолком, которое было не больше шляпной коробки. Я понятия не имела, как она в него протиснется, но, если понадобится, намажется гусиным жиром. Я написала матушке пропуск, потому что ей страшно хотелось его получить.
После этого она стала пропадать на один или два вечера в неделю. Уходила ранним вечером и возвращалась затемно, не объясняя, где была. Не говорила, как выбиралась со двора и как попадала во двор. Правда, мысленно я проследила ее маршрут. Расстояние между стеной дома и оградой напротив оконца – не больше двух футов. Протиснувшись в окно, она могла прислониться спиной к стене дома, а ногами упереться в ограду и залезть на нее, после чего спрыгнуть на землю с другой стороны.
Обратный путь – другой. Лежит он, вероятно, через задние ворота, в которые въезжали и выезжали экипажи. Матушка возвращалась, когда было безопасно и темно, и могла незамеченной взобраться на подножку. И всегда приходила до барабанного боя, возвещавшего комендантский час. Я с ужасом представляла, как она где-то там скрывается от городской стражи.
Однажды, когда мы дошивали одежду для рабов, я высказала свои соображения о том, как она днем вылезала из окна, а в темноте возвращалась через ворота.
– Ну разве ты не умница! – ответила мать.
Краем сознания я представляла ее с ремнем, затянутым вокруг лодыжки и накинутым на шею.
– Не делай этого больше, – взволнованно упрашивала я. – Пожалуйста. Ладно? Тебя могут поймать.
– Знаешь что, в твоих силах мне помочь. Если кто-нибудь здесь хватится меня, поставь ведро рядом с цистерной, чтобы я увидела его от задних ворот. Сделаешь это для меня?
Я испугалась еще больше:
– А если ты его увидишь, что сделаешь – убежишь? И бросишь меня?
Я расплакалась.
Она погладила мои плечи, как делала всегда:
– Подарочек, детка. Я скорей умру, чем брошу тебя, ты же знаешь. Если замечу ведро у цистерны, буду предупреждена об опасности, вот и все.
* * *
У белых вновь начался светский сезон, и мы с матушкой не успевали справляться со всеми платьями и сюртуками. Вдобавок она без разрешения нанялась работать на стороне. Я узнала об этом после ужина, когда мы стояли посредине заднего двора. Мисс Сара весь день была не в духе, и я подумала, что больше всего на свете меня волнуют две вещи: подавленное состояние Сары и мамины вылазки через окно. Но тут матушка достала из кармана жетон раба. Нанимая раба, хозяин должен купить у города жетон, а я знала, что господин Гримке таковых не покупал. Заиметь поддельный жетон – это хуже, чем украсть зеленый хозяйкин шелк.
Я рассматривала его – маленький медный прямоугольник с отверстием в верхней части, чтобы можно было крепить к одежде. И выгравированные слова. Я долго пыталась произнести их, пока наконец не получилось: «При-слу-га».
– Прислуга! – воскликнула я. – Номер сто тридцать три. Тысяча восемьсот пятый год. Где ты его взяла?
– Все это время я ведь не бездельничала, а искала работу.
– Но у тебя здесь столько работы, что и вдвоем не справиться.
– И я за нее ничего не получаю, так ведь? – Она забрала жетон и опустила в карман. – У Тома, раба Рассела, есть своя кузня на Ист-Бей. Госпожа Рассел разрешает ему работать по найму весь день и забирает только три четверти заработка. Он сделал мне жетон, скопировал с настоящего.
Я была одиннадцатилетним ребенком, но сразу поняла, что кузнец не просто какой-то добряк, оказавший услугу. Зачем ему рисковать?
– Я собираюсь шить капоры, платья и лоскутные одеяла для леди с Куин-стрит, госпожи Аллен, – сообщила матушка. – Сказала, что меня зовут Перл и я рабыня массы Дюпре, который живет на углу Джордж-стрит и Ист-Бей. Она спросила: «Ты имеешь в виду французского портного?» И я ответила: «Да, мэм, он теперь не загружает меня и отпускает работать по найму».
– А вдруг она проверит твою историю?
– Не станет старая вдова ничего проверять. Сказала только: «Покажи жетон». – Матушка гордилась жетоном и собой. – Госпожа Аллен будет платить мне за каждую вещь. Ее две дочери хотят, чтобы я шила одежду их детям.
– Как ты собираешься справляться со всей этой работой?
– У меня есть ты. И ночные часы.
Матушка жгла так много свечей, работая в темноте, что пристрастилась тащить их из любой комнаты, где бы ни оказывалась. Глаза ее начали косить, а кожа вокруг них собиралась мелкими морщинками. Она изматывалась, но душа ее успокоилась.
Матушка приносила деньги домой и засовывала в мешок из рогожи. Я днем и ночью помогала ей с шитьем – в любую минуту, когда не прислуживала мисс Саре. Приготовив заказы для вдовы, матушка вылезет, бывало, из окна и отнесет свертки к ее двери, где получит ткань для нового заказа. Потом дождется темноты и прошмыгнет в задние ворота. Дни были длинными, и опасный бизнес процветал.
* * *
Однажды теплым январским вечером госпожа послала Синди в подвал за матушкой – на новом хозяйском платье не держались розетки – и, разумеется, матушка была в это время за оградой. Уходя, она не запирала засов, понимая, что, если не ответит на стук, госпожа заставит Принца снять дверь с петель. И как она объяснила бы пустую комнату, запертую изнутри?
Весть о пропавшем рабе разлетается молниеносно. Когда я услышала новость, сердце ушло в пятки. Госпожа колокольчиком созвала всех во двор к задней двери.
– Если вы знаете, где сейчас Шарлотта, то обязаны мне сказать, – изрекла она, положив руки на большой живот.
Ни звука. Госпожа устремила взор на меня:
– Хетти! Где твоя мать?
Пожав плечами, я сделала вид, что озадачена:
– Понятия не имею, госпожа. Сама хотела бы знать.
Госпожа приказала Томфри обыскать кухонный корпус, прачечную, каретный сарай, конюшню, сарай для инструментов, уборную и комнаты рабов. Велела прочесать каждый уголок во дворе и даже наклонный желоб, по которому лошадям подавалось сено. Сказала, что, если матушка не отыщется, Томфри придется сверху донизу обшарить дом, веранду и декоративный сад.
Госпожа позвонила в колокольчик, призывая вернуться к работе. Я заспешила в комнату матушки – проверить мешок из рогожи. Деньги были на дне, под набивкой. Потом я прокралась на улицу и поставила рядом с цистерной ведро. Солнце спускалось с небес, окрашивая их в цвета абрикоса.
Томфри занимался поисками, а я заняла позицию в переднем эркере второго этажа и ждала. Начало смеркаться, я выглянула в окно и увидела, как матушка поворачивает за угол. Она направилась прямо к парадной двери и постучала.
Я бросилась вниз по лестнице и оказалась у входа одновременно с дворецким. Он открыл, и матушка сказала:
– Дам тебе полдоллара, если впустишь меня. За тобой должок, Томфри.
Через миг она стояла на площадке, Томфри запер дверь. Я обвила шею мамы руками.
– Скорей, что мне делать? – спросила она у дворецкого.
– Некуда тебя спрятать, – ответил он. – Госпожа заставила меня обыскать каждый уголок.
– Но только не крышу, – вставила я.
Томфри проверил, нет ли кого, а я отвела матушку на чердак, показала ей лесенку и люк.
– Когда они придут, скажи, что было очень тепло, ты пришла сюда посмотреть на гавань, легла и уснула.
Тем временем Томфри объяснял госпоже, что забыл при поисках о крыше и точно знает – Шарлотта один раз там бывала.
Госпожа, тяжело дыша, ждала с тростью у подножия чердачной лестницы. Я притаилась у нее за спиной и дрожала от возбуждения.
Матушка, поеживаясь и рассказывая вздорную историю моего сочинения, спускалась по лестнице.
– Я считала тебя не такой тупой, как прочие, Шарлотта, – сказала госпожа, – но ты меня разочаровала. Заснуть на крыше! Ты могла свалиться на улицу. Крыша! Чтоб ты знала, это абсолютно запрещенное место. – Госпожа подняла трость и опустила ее на матушкин затылок. – Отправляйся к себе в комнату, а утром после молитвы нашьешь розетки на мое новое платье. Ты стала очень небрежно шить.
– Да, мэм.
Матушка поспешила к лестнице, помахав мне рукой. Может, госпожа и заметила, что матушка обходится без палки и не хромает, но ничего не сказала.
Когда мы вошли в подвал, матушка закрыла дверь и задвинула засов. Меня трясло, но она была само спокойствие.
– Я необыкновенная женщина, а ты необыкновенная девочка, – сказала она, потерев затылок, – и мы не станем расшаркиваться перед этой бабой.
Сара
Мысль о пополнении семейства не радовала. Запершись в своей комнате, я предалась унынию. Характер беременной матери совсем испортился, что, разумеется, никому не нравилось. Нехитрые арифметические вычисления настроения не добавили – из последних двадцати лет мать десять проходила беременной. Ради всего святого!
Скоро мне исполнится двенадцать. Я стояла на пороге девичества, и я хотела замуж – правда хотела, – но подобные цифры ошеломляли и отвращали от будущей женской доли, особенно после того, как у меня отняли книги.
Со дня отцовского нагоняя я выходила из комнаты только для трапезы, уроков мадам Руфин три раза в неделю и церкви по воскресеньям. Компанию мне составляла Подарочек, задавая вопросы, ответы на которые ее не интересовали, поскольку она лишь хотела развлечь меня. Она одна наблюдала мои робкие попытки вышивания и сочинения рассказов о девочке, оказавшейся на необитаемом острове на манер Робинзона Крузо. Мать требовала, чтобы я поборола хандру и перестала замыкаться. Я пыталась, однако мое отчаяние лишь росло.
Мать пригласила нашего врача, доктора Геддингса, а тот, тщательно осмотрев меня, заключил, что я страдаю от сильной меланхолии. Я подслушала у двери, когда он говорил матери, что никогда не наблюдал этого заболевания у столь юного пациента, мол, подобного рода психоз случается у женщин после рождения ребенка или после прекращения менструаций. Он назвал меня легковозбудимой, темпераментной девушкой со склонностью к истерии, и это якобы явствовало даже из моей речи.
Вскоре после Рождества я проходила мимо приотворенной двери в комнату Томаса и заметила на полу открытый чемодан. Мысль о его отъезде была невыносимой, но еще обидней знать, что он уезжает в Нью-Хейвен осуществлять мою мечту, которая никогда не исполнится. В приступе зависти к его блестящему будущему я бросилась в свою комнату, чтобы выплакать горе. Оно изливалось черными волнами, и мое отчаяние, казалось, достигло предела, перерастая в то, что я сейчас называю выстраданной надеждой.
Все в конце концов проходит, даже жестокая меланхолия. Я выдвинула ящик стола и достала шкатулку из лавы с пуговицей. С грустью взглянув на нее, я почувствовала, что смогу воспрянуть духом и проявить волю. Я не сдамся. Пусть ошибусь, но дерзну. Я всегда так поступала.
* * *
Мое дерзкое выступление разразилось на прощальном вечере в честь Томаса, устроенном в гостиной второго этажа в день Богоявления. Всю неделю я ловила на себе взгляды отца, который иногда улыбался мне через обеденный стол. Его рождественский подарок – гравюру с изображением Аполлона и муз – я воспринимала как изъявление любви и стремление к примирению. Этим вечером отец беседовал с Томасом, Фредериком и Джоном, приехавшим из Йеля. Все мужчины были в черных шерстяных сюртуках и полосатых жилетках разных расцветок. Отец – в светло-желтой. Сидя с Мэри за раскладным столом, я наблюдала за ними, мечтая узнать, о чем они спорят. Анна и Элиза, которых пускали на праздники, сидели на ковре перед каминным экраном, вцепившись в рождественских кукол, а Бен, расставив для битвы новеньких деревянных солдатиков, через каждые десять секунд вопил: «В атаку!»
Мама прилегла на принесенную из ее спальни кушетку из розового дерева, обитую красным бархатом. Я наблюдала пять маминых беременностей, и эта была самой трудной. Она растолстела до гигантских размеров. Даже лицо у бедняжки опухло. Тем не менее мать тщательно подготовилась к торжеству. Комната сияла огнями свечей и ламп, их блики отражались в зеркалах и позолоте. В соответствии с цветами Крещения столы были застелены белыми льняными скатертями с дорожками из золотой парчи. Прислуживали Томфри, Снежок и Эли, в темно-зеленых ливреях, таская подносы с крабовыми пирожками, креветками, телятиной, жареным мерлангом и суфле.
Ко мне вернулся отменный аппетит, и я занялась едой, прислушиваясь к гулу голосов на другом конце стола. Говорили о переизбрании мистера Джефферсона, о том, есть ли шанс у мистера Мериуэзера Льюиса и мистера Уильяма Кларка достичь Тихоокеанского побережья. И самое важное: что сулит Югу отмена рабства в северных штатах, совсем недавняя – в Нью-Джерси? Отмена по закону? Я ничего об этом не слышала и вытягивала шею, ловя каждое слово. Значит, северяне считают, что Бог против рабства?
Обед закончился любимым десертом Томаса – миндальным печеньем и миндальным мороженым, после чего отец постучал ложкой по хрустальному бокалу, прося тишины. Он пожелал Томасу успехов и подарил ему «Опыт о человеческом разуме» Локка. Мама разрешила нам с Мэри выпить по полбокала вина, мой первый опыт. Я с завистью смотрела на книгу в руках Томаса.
– Кто хочет сказать что-нибудь Томасу? – оглядывая лица сыновей, спросил отец.
Старший, Джон, теребил край жилетки, а я, шестой по счету ребенок и вторая дочь, вскочила на ноги и произнесла речь:
– …Томас, дорогой мой брат, я буду скучать по тебе… Пусть Господь поможет тебе в твоих занятиях… – Я помолчала, набираясь смелости. – Однажды я пойду по твоим стопам… Стану юристом.
Когда к отцу вернулся дар речи, он заговорил насмешливо:
– Неужели меня обманывает слух? Ты сказала, что последуешь за братом в зал суда? – Джон захихикал, а Фредерик открыто захохотал; взглянув на них, отец с улыбкой продолжил: – Разве бывают женщины-юристы? Если да, малышка, просвети нас.
Они веселились вовсю, даже Томас засмеялся.
Я пыталась ответить, не понимая, что они не принимают меня всерьез и что вопрос отца адресован братьям.
– …Разве не будет большим достижением, если я стану первой?
Теперь насмешливость отца обернулась раздражением.
– Не будет никакой первой, Сара. А если такая абсурдная вещь и произойдет, то не с моей дочерью.
Но я упрямо продолжала:
– …Отец, вы будете мной гордиться. Я сделаю все на свете.
– Сара, прекрати говорить чепуху! Ты позоришь себя. Позоришь всех нас. С чего ты вообще взяла, что можешь изучать право?
Я не сдавалась, какая-то упрямая частичка меня не желала сдаваться.
– …Вы говорили, я стану великим юристом…
– Будь ты мальчиком!
Я бросила взгляд на Анну и Элизу, сестры таращились на меня во все глаза, а Мэри даже не посмотрела в мою сторону.
Я повернулась к Томасу:
– …Пожалуйста… помнишь… ты сказал, что я должна стать юристом?
– Сара, прости, но отец прав.
Его слова доконали меня.
Отец жестом руки закрыл тему. Их компания отвернулась от меня и возобновила беседу. Я услышала, как меня тихонько зовет мама. Она уже не лежала, а сидела прямо и глядела сочувствующе.
– Можешь идти в свою комнату, – велела она.
Я выскользнула прочь, как провинившийся ребенок. На полу около моей двери, на красных квадратах и черных треугольниках, свернулась калачиком Подарочек.
– Я зажгла лампу и подбросила дров в камин, – сказала она. – Вам помочь с платьем?
– …Нет, оставайся на своем месте, – хмуро бросила я.
Она робко меня рассматривала:
– Что случилось, мисс Сара?
Не в силах ответить, я вошла в комнату и закрыла дверь. Села на банкетку перед туалетным столиком. Я чувствовала себя опустошенной, но слез не было. Никаких эмоций, лишь сосущее чувство под ложечкой.
Через минуту послышался легкий стук в дверь. Думая, что это Подарочек, я собрала последние капли энергии:
– …Ты мне сейчас не нужна.
Грузно покачиваясь, вошла мама.
– Печально было видеть, как рушатся твои надежды, – сказала она. – Отец и братья проявили жестокость, но, думаю, ты их не только позабавила, но и удивила. Адвокат Сара? Идея нелепая, и ты меня расстраиваешь.
Мать положила ладонь на живот и прикрыла глаза, словно загораживаясь от толчка локтем или ногой. Мягкость голоса, само ее присутствие в моей комнате говорили о том, что она переживает за меня и все же, казалось, оправдывает их нечуткость.
– Отец считает тебя немного ненормальной, с твоей тягой к книгам и дерзкими устремлениями, но он ошибается.
Я взглянула на мать с удивлением. В ней не осталось высокомерия, зато появилось сострадание, которого я не замечала прежде.
– Каждая девочка приходит в этот мир со своими амбициями, даже если это всего лишь желание не принадлежать мужу душой и телом. Можешь не верить, но и я была когда-то девочкой.
Передо мной стояла незнакомая женщина, без защитной брони от обид прожитой жизни, но потом она заговорила вновь, и я узнала маму.
– Суть в том, – сказала она, – что следует выбивать честолюбие из каждой девочки для ее собственного блага. Ты необычна только в решимости сопротивляться неизбежному. Ты воспротивилась, и вот что из этого вышло – тебя объездили, как норовистую лошадку. – Мама наклонилась и обняла меня. – Сара, милая, ты стойко боролась, но придется подчиниться долгу и судьбе и постараться стать счастливой.
Я почувствовала одутловатую кожу ее щеки, и мне захотелось прильнуть к ней и в то же время оттолкнуть. Я смотрела, как она уходит, и поняла, что дверь оставалась приоткрытой. Наверное, Подарочек все слышала. Эта мысль успокоила меня. Нет такого страдания на земле, которое не заслуживало бы благосклонного свидетеля.
Когда появилась Подарочек и взглянула на меня огромными добрыми глазами, я вынула из ящика лавовую шкатулку, достала серебряную пуговицу и бросила в стоящее у камина ведро для золы, где она исчезла под серым и белым пеплом.
* * *
На следующий день гостиную второго этажа прибрали для маминых родов. Здесь в окружении Бины, Тетки, доктора Геддингса, нанятой кормилицы и двух кузин она родила шестерых детей. Вряд ли мать допустит меня к себе, но за неделю до родов она разрешила мне навестить ее.
Стоял морозный февральский день. На небе собирались зимние облака, и по всему дому потрескивали и шипели горящие камины. Гостиная освещалась лишь огнем одного из них. Мама, которой неделю назад минуло сорок, с несчастным видом распростерлась на кушетке рекамье.
– Надеюсь, ты не с проблемами пришла ко мне, потому что у меня нет сил с ними разбираться, – проговорила она опухшими губами.
– …У меня к тебе просьба.
Она приподнялась и потянулась к чашке на чайном столике:
– Какая? Она не может подождать?
Я пришла с подготовленной речью и настроилась решительно, но сейчас разволновалась. Прикрыв глаза, задумалась о том, как заставить ее понять.
– …Боюсь, ты сразу мне откажешь.
– Ради всего святого, почему?
– …Моя просьба не совсем обычная… Я хочу быть крестной матерью нового ребенка.
– Что ж, ты права – необычная просьба. Об этом не может быть и речи.
Ожидаемый ответ. Я опустилась перед матерью на колени:
– …Мама, умоляю тебя… Я потеряла все самое дорогое. То, что считала целью жизни, надежду на образование, книги, Томаса… Даже отец кажется для меня потерянным. Пожалуйста, не отказывай мне в этом.
– Но, Сара, крестная мать ребенка? Подумать только! Это ведь не игрушка. В твоих руках окажется духовное благополучие ребенка. Тебе двенадцать. Что скажут люди?
– …Этот ребенок станет главным в моей жизни…Ты сказала, я должна отказаться от амбиций…Ты наверняка одобришь любовь к ребенку и заботу о нем… Прошу тебя, если ты меня любишь…
Опустив голову к ней на колени, я смогла выплакать слезы, которых не было на прощальном вечере в честь отъезда Томаса, да и после тоже.
Мама положила ладонь мне на затылок. Наконец успокоившись, я заметила влагу в ее глазах.
– Хорошо. Будешь крестной матерью ребенка, но смотри не подведи.
Поцеловав мамину руку, я выскользнула из комнаты, чувствуя, что обрела утерянную частичку самой себя.
Подарочек
Я обматывала красную нитку вокруг ствола раскидистого дуба, пока та не закончилась. Матушка за мной наблюдала. Это я придумала сделать дерево душ, как у бабушки. Видно было, что матушка просто мне потакает. Она обхватила себя руками, изо рта у нее шел пар.
– Готово? – спросила она. – Зябко, на небе голубая луна.
Такие холода редкость в Чарльстоне. Обледеневшие окна, попоны на спинах лошадей, Сейб и Принц целыми днями до темноты рубят дрова. Взглянув на матушку, я расстелила на земле красно-черное лоскутное одеяло, под голыми ветвями оно выделялось ярким пятном.
– Сначала мы встанем на колени и отдадим дереву души. Я хочу, чтобы мы проделали это, как моя бабушка.
– Хорошо, так и сделаем, – согласилась матушка.
Мы опустились на колени и уставились на дерево, соприкасаясь рукавами пальто. Затвердевшую землю усеяли желуди, и сквозь квадраты и треугольники струился холод. На нас снизошел покой, я закрыла глаза. Засунув руку в карман, я поглаживала кончиками пальцев серебряную пуговицу мисс Сары. На ощупь она была как кусочек льда, я выудила ее, выброшенную, из ведра с золой. Жаль, что хозяйке пришлось отказаться от ее плана, но это не означало, что надо выкидывать отличную вещь.
Матушка заерзала коленями по одеялу. Она мечтала поскорей покончить с деревом душ, а мне хотелось продлить эти минуты.
– Расскажи снова, как вы с бабушкой это делали.
– Ладно. Мы так же опустились на одеяло, и она сказала: «Отдаем свои души дереву, чтобы сберечь их, чтобы они жили с птицами и научились летать». Потом просто отдали ему души.
– Вы что-нибудь почувствовали?
Матушка натянула шарф на замерзшие уши, пытаясь скрыть улыбку.
– Дай вспомнить. Ага, я ощутила, как моя душа вылетает отсюда. – Она прикоснулась к груди. – Унеслась, словно легкое дуновение ветра. Я посмотрела на ветку и не увидела ее, но знала, душа глядит на меня сверху.
Матушка все выдумала, но это было не важно. Я думала, почему бы подобному не случиться теперь?
– Отдаю дереву свою душу, – сообщила я.
Матушка повторила за мной. Потом прибавила:
– После того как твоя бабка сделала наше дерево душ, она сказала: «Если ты уедешь отсюда, забери свою душу с собой». Потом собрала желудей, веточек и листьев и положила их в мешочки, чтобы носить на шее.
И вот мы с матушкой набрали желудей, веток и желтых обрывков листьев. Все это время я вспоминала о дне, когда госпожа подарила меня мисс Саре и как матушка сказала: «С этого момента тебе придется несладко, Подарочек».
Пролетел год. Мисс Сара стала моим другом. Я научилась читать и писать, но, как матушка и говорила, путь оказался трудным, и я не знала, что с нами будет дальше. Мы могли бы всю оставшуюся жизнь света белого не видеть, но матушка нашла в себе силы не склонять голову.
Часть вторая Февраль 1811 – декабрь 1812
Сара
Я сидела перед зеркалом в своей комнате, а Подарочек и шестилетняя Нина заплетали в косы мой конский хвост, чтобы потом сложить веночек на затылке. Чуть раньше я натерла лицо солью и соком лимона – раствор, которым мама удаляла чернильные пятна. Мои веснушки посветлели, но не исчезли, и я взялась за пуховку с пудрой.
Стоял февраль, пик светского сезона в Чарльстоне, и всю неделю на столике у парадной двери копились визитные карточки и приглашения. Из них мама выбирала самые изысканные и интересные. Сегодня нас ждет вечер вальса.
Меня вывели в свет два года назад, в шестнадцать лет. Я окунулась в шумную круговерть балов, чаепитий, музыкальных салонов, скачек и пикников, а это, если верить маме, означало, что для меня распахнулись двери в ослепительную светскую жизнь Чарльстона и началась настоящая женская жизнь. Иными словами, мне пора искать мужа. Насколько знатным и богатым окажется супруг, полностью зависит от привлекательности моего лица, грациозности фигуры, обаяния при общении, а также мастерства портнихи. Впрочем, несмотря на золотые руки моей швеи, я входила в эти блистающие двери, как агнец на заклание.
– Посмотри, что ты здесь натворила, – сказала Подарочек Нине, которая превратила доставшийся ей пучок волос в подобие крысиного гнезда.
Подарочек с трудом расчесала спутанные пряди, разделила их на три равные части и сообщила, что две из них – это кролики, а одна – бревно. Нина, надувшая было губы, оживилась в предвкушении игры.
– Теперь гляди, – сказала Подарочек. – Один кролик скачет под бревном, а другой – над. Пусть они так и прыгают у тебя. Смотри, как надо заплетать косу – хоп вверх, хоп вниз!
Нина завладела кроликами и бревном и соорудила вполне сносную косу. Мы с Подарочком охали и ахали, словно она изваяла флорентийскую статую.
Этот зимний вечер был столь похож на многие другие – комната, освещенная лампой, горящий камин, подступающие к окнам ранние сумерки, – а надо мной хлопочут за туалетным столиком две подружки.
У моей сестры и крестницы Ангелины – сокращенно Нина – карие глаза, темные волосы и ресницы. Ее лицо – нежный овал с тонкими чертами, какими природа одарила и нашу Мэри. Моя драгоценная Нина поразительно красива. К тому же она отличалась живым умом и бесстрашием. Верила, что может все, – и я всеми силами старалась поощрять ее желания, несмотря на то что собственные устремления закончились крахом.
Моя мечта стать юристом упокоилась на «кладбище несбывшихся надежд», хорошо знакомом всем женщинам. Печаль притупилась, но осталось сожаление, и я часто спрашивала себя: возможно, парки проявят больше доброты к другой девочке? Ребенком помню, что на верхней площадке лестницы висел этюд в рамке с изображением трех парок, они пряли, отмеривали и отрезали нити жизни, не спуская с меня внимательных глаз. Я не сомневалась, что вершительницы судеб враждебны ко мне, но это не означало, что они так же обойдутся с любимой сестрой.
Когда-то я поклялась матери, что Нина станет смыслом моей жизни, и сдержала слово. Благодаря ей я обрела плавную речь и целостную душу. Я проживала через нее часть своей жизни, и наши личности воистину подчас сливались в одну, не было человека, который любил бы Нину больше меня. Она стала моим спасением, и, надеюсь, я отплачу ей тем же.
Едва начав говорить, Нина называла меня мамой. Это вышло само собой, я не останавливала ее, но и не поощряла перед настоящей матерью. С колыбели я внушала сестричке, что рабство – это зло. Учила девочку всему, что знала и во что верила. Мать догадывалась, что я воспитываю Нину по своему образу и подобию, но не представляла, в какой степени.
Покончив с косичкой, Нина забралась ко мне на колени и принялась упрашивать:
– Не уходи! Останься со мной.
– О, мне придется, ты же знаешь. Бина уложит тебя спать. – Нина скривила губы, и я добавила: – Если не будешь хныкать, позволю подобрать для меня платье.
Нина мигом соскочила с моих колен и бросилась к шкафу. Она выбрала мой самый роскошный наряд – платье из бордового бархата с тремя атласными вставками спереди, каждая из которых украшена аграфом с алмазной крошкой. Великолепное творение Подарочка. В свои семнадцать лет она слыла прекрасной швеей, превосходящей даже свою мать. Она теперь шила большинство моих нарядов.
Подарочек поднялась на цыпочки, чтобы достать платье, и я заметила, насколько она физически неразвита – тело гибкое и худое, как у мальчика. Она не доросла и до пяти футов и никогда не дорастет. Но ее глаза зачаровывали. Однажды я услышала, как друг Томаса назвал ее хорошенькой желтоглазой негритянкой.
Мы с ней не были так близки, как в детстве. Возможно, виной тому моя поглощенность Ниной или дополнительные обязанности Подарочка как начинающей швеи. Или мы просто достигли того возраста, когда пути расходятся сами собой. Но все равно мы подруги, говорила я себе.
С платьем в руках она прошла мимо камина, и я заметила, как насуплены ее брови, это часто бывало в последнее время, словно, прищуривая глазища, она отгораживалась от мира. Казалось, Подарочек стала более остро ощущать жизненные рамки, чувствовать, что наступил некий час расплаты. На прошлой неделе по пустяковой причине мать не пустила ее на базар, и Подарочек очень расстроилась. Походы на рынок были для нее главным событием.
– Мне жаль, Подарочек, – желая подбодрить, сказала я. – Понимаю, что ты чувствуешь.
Мне казалось, я действительно понимаю, каково это – когда твою свободу ограничивают, но она вдруг взорвалась:
– Так мы с тобой равны, оказывается? Вот почему ты испражняешься в горшок, а я выношу его?
Ее слова ошеломили меня, и я, пряча обиду, отвернулась к окну. Шумно дыша, она вылетела из комнаты и в тот день не приходила. На эту тему мы больше не заговаривали.
И вот сейчас она помогла мне надеть платье поверх корсета, который я зашнуровала как можно свободнее. Я не была полной и не считала нужным затягиваться по самое не могу. Застегнув платье, Подарочек прикрепила на мою макушку черную мантилью, а Нина подала черный кружевной веер. Я раскрыла его и плавной походкой прошлась по комнате.
Выписывая пируэты, я не заметила, как в комнату вошла мама. От неожиданности я наступила на подол платья, чуть не упав, – сама грация.
– Надеюсь, у миссис Элстон ты не будешь столь неповоротлива, – сказала мать.
Она стояла, опираясь на трость. К сорока шести годам плечи ее ссутулились, как у старушки. Уже год от случая к случаю она рассказывала мне о тяжелой доле старых дев, приводя в пример печальную жизнь своей незамужней тетушки Амелии Джейн. Мама сравнивала ее с засушенным цветком, забытым между страницами книги. Неужели снова грядет лекция о безрадостной судьбе тетушки?
– Разве позавчера ты была не в том же платье? – между тем спросила мать.
– Да, в нем, но… – Я с улыбкой взглянула на младшую сестру, примостившуюся на банкетке. – Его выбрала Нина.
– Неприлично так скоро надевать его.
Казалось, что мама говорит сама с собой, а потому я не ответила.
Взгляд матери упал на Ангелину, ее последнего ребенка. Она поманила девочку рукой:
– Пойдем, отведу тебя в детскую.
Нина не шелохнулась, посмотрела на меня, словно я была высшим авторитетом и могла отменить приказ. Это не укрылось от матери.
– Ангелина! Я сказала, пойдем. Сейчас же!
Как бы сильно я ни сердила маму, до Ангелины мне было далеко. Она затрясла головой и плечами, а потом с вызывающим видом закачалась на табурете и заявила:
– Хочу остаться здесь с мамой!
Я сжалась, ожидая вспышки гнева, но ничего не произошло. Мать прижала пальцы к вискам, издав то ли стон, то ли вздох.
– У меня ужасный приступ мигрени, – сказала она. – Хетти, пришли Синди ко мне в комнату.
Закатив глаза, Подарочек повиновалась, и мать ушла вслед за ней под затихающий стук трости.
Я опустилась перед Ниной на колени, утопая в своей юбке, словно тычинка в громадном красном цветке.
– Сколько тебе говорить? Нельзя называть меня мамой, если мы не одни.
Подбородок Нины задрожал.
– Но ты ведь моя мама. – Она уткнулась в бархат платья и заплакала. – Да, да, да!
* * *
Верхняя гостиная в доме миссис Элстон на Кинг-стрит ярко освещалась хрустальной люстрой, полыхающей под потолком, словно миниатюрный пожар. Под ней в ритме медленной польки колыхалось людское море. Смех заглушал песни скрипок.
Моя танцевальная карта пустовала, если не считать Томаса, записавшегося на две кадрили. Год назад его допустили в адвокатуру, и он открыл адвокатскую практику с мистером Лэнгдоном Чевесом, человеком, который, как мне казалось, занял мое место, так же как я заняла место матери. Томас написал мне из Йеля, высказал сожаления о том, что посмеялся над моими амбициями в прощальный вечер, но от позиции своей не отступил. Тем не менее мы помирились, и он во многом оставался для меня полубогом. Я высматривала его в зале, зная, что он будет рядом с Салли Дрейтон, своей невестой. На помолвке отец объявил, что брак между Гримке и Дрейтонами даст начало «новой чарльстонской династии». Это задело Мэри, которая тоже была помолвлена, однако не удостоилась столь высокопарных напутствий.
Как-то мадам Руфин посоветовала мне пользоваться веером себе во благо, чтобы скрыть «тяжеловатую челюсть и румяные щеки». И вот я рассматривала окружающих поверх его фестончатого края. Я знала многих молодых женщин по занятиям у мадам Руфин, школе Святого Филипа или по предыдущему светскому сезону, но не могла похвастаться дружбой ни с одной из них. Они обращались со мной приветливо, но никогда не посвящали в секреты, не шушукались со мной. Думаю, их смущало мое заикание, а также неловкость, которую я испытывала в их присутствии. Они носили на голове новомодные тюрбаны из тяжелой парчи размером с диванную подушку, утыканные булавками, жемчужинами и маленькими палитрами с портретом нового президента, мистера Мэдисона. От такой тяжести их бедные головы покачивались из стороны в сторону. Мне казалось, у них глупый вид, но рядом с ними всегда толпились кавалеры.
Вечер за вечером я в одиночку сносила чванство этих девиц, презирая никчемность света, но все же, непонятно почему, стремясь стать одной из них.
Среди гостей сновали рабы с подносами пирожных. Также они придерживали двери, принимали у гостей пальто, помешивали угли в камине, но были словно невидимы. До чего же странно, что никто никогда о них не говорит, что слово «рабство» не принято в приличном обществе, а заменяется понятием «специфическая система».
Я резко повернулась, чтобы выйти из комнаты, и с размаха врезалась в раба, несущего хрустальный кувшин драгунского пунша. Раздался взрыв из чая, виски, рома, вишен, ломтиков апельсинов и лимонов и осколков стекла. Все это обрушилось на ковер, ливрею раба, мою юбку, а также брюки молодого человека, которого угораздило оказаться рядом.
Гости замерли в замешательстве, а молодой человек устремил на меня взгляд, и я неосознанно подняла руку к подбородку, желая прикрыться веером, но оный при столкновении уронила. Незнакомец улыбнулся мне, и зал тут же наполнился звуками, вздохами и тревожными вскриками. Меня успокоило самообладание юноши, и я улыбнулась в ответ, заметив у него на щеке крошечный кусочек апельсинной мякоти.
Появилась миссис Элстон, в шуршащем серебристо-сером платье и с непокрытой головой, если не считать небольшой диадемы с драгоценными камнями поверх кудряшек. Она важно осведомилась, не пострадал ли кто-нибудь, жестом руки отпустила оцепеневшего раба и позвала другого – прибраться. При этом хозяйка вечера не переставала негромко посмеиваться, чтобы разрядить обстановку.
Я собралась извиниться, но молодой человек меня опередил, он громко заговорил, обращаясь к гостям:
– Прошу меня извинить. Наверное, я похож на деревенщину.
– Но это не вы… – начала я.
Он перебил меня:
– Оплошность только моя.
– Прошу вас, забудьте об этом, – произнесла миссис Элстон. – Пойдемте со мной, надо привести вас в порядок.
Проводив в свою комнату, хозяйка оставила нас на попечении горничной, которая подсушила мне платье полотенцем. Молодой человек ждал своей очереди, и я не задумываясь протянула руку и смахнула с его щеки ошметок апельсина. Это было неприкрытой дерзостью, но я подумала о том лишь немного погодя.
– Мы подмокли на пару, – сказал он. – Позвольте представиться. Берк Уильямс.
– Сара Гримке.
Единственный джентльмен, когда-либо проявивший ко мне интерес, оказался непривлекательным парнем с выпуклым лбом и карими глазами. Будучи членом Жокейского клуба, он показал мне скаковой круг в Нью-Маркете на прошлогодней неделе скачек, после чего проводил на трибуны для дам и оставил наблюдать за лошадьми. С тех пор я его не видела.
Мистер Уильямс взял полотенце и промокнул свои брюки, потом спросил, не хочу ли я подышать свежим воздухом. Потрясенная, я кивнула. У него были белокурые волосы, напоминающие светлый песок на пляже острова Салливан, зеленоватые глаза, выступающая челюсть и худощавые щеки. Пока мы шли из гостиной к балкону, я поймала себя на том, что пялюсь на него как дурочка. Он заметил это. На его губах промелькнула улыбка, и я молча побранила себя за наивность, за оброненный драгоценный веер и за то, что иду на темный балкон с незнакомцем. Что я делаю?
Вечер выдался прохладным. Мы стояли у перил, украшенных венками из веток сосны, и смотрели на движущиеся за окнами фигуры. Сквозь оконные стекла доносилась музыка. Мысли мои витали где-то далеко. Налетел морской ветер, и меня пробрала дрожь. Почти год заикание не давало о себе знать, но прошлой зимой, накануне выхода в свет, вернулось и не отпускало весь сезон, превратив его в сплошные муки. И сейчас я дрожала не только от холода, но и из боязни, что мерзкий дефект все испортит.
– Вы замерзли. – Юноша снял с себя сюртук и по-джентельменски накинул мне на плечи. – Как вышло, что нас до сих пор не представили друг другу?
Уильямс. Фамилия мне незнакома. Вершину социальной пирамиды Чарльстона составляла плантаторская аристократия – Миддлтоны, Пинкни, Хейворды, Дрейтоны, Смиты, Мэниголты, Расселы, Элстоны, Гримке и так далее. За ними шел класс торговцев, который временами переезжал с места на место. Возможно, мистер Уильямс из второго яруса, а в свет попал благодаря счастливой возможности. Или он просто гость в городе.
– Вы приехали сюда погостить? – спросила я.
– Вовсе нет, наш дом находится в Вандерхерсте. Я знаю, о чем вы думаете. Оцениваете, из какой я семьи. «Уильямс, Уильямс, почему ты Уильямс?» – Он рассмеялся. – Вы, наверное, как и все прочие, гадаете: уж не мастеровой ли я, не рабочий ли или, хуже того, какой-нибудь честолюбец.
У меня перехватило дыхание.
– О-о, ничего подобного. Меня такие вещи не волнуют.
– Я пошутил. Вижу, вы не похожи на других. Если, конечно, вас не смущает, что моя семья владеет магазином серебряных изделий на Куин-стрит. Когда-нибудь я его унаследую.
– Вовсе нет, – заверила я, – мы с мамой были в вашем магазине.
Я не стала уточнять, что покупка серебра безмерно раздражала меня, как и прочая подготовка к роли жены. Ах, эти дни, когда мама повелевала поручить Нину Бине и сидеть с Мэри за рукоделием, натянуть на белые пяльца белую ткань и расшивать ее шерстью или вышивать крестиком. А если не рукоделие, то рисование, а если не рисование, то визиты, а если не визиты, то покупки в мрачных лавках серебряных дел мастеров, где моя мать и Мэри теряли голову от терки из серебра высшей пробы для мускатного ореха или чего-то подобного.
Я смутилась поворотом нашего разговора, замолчала и обернулась к саду, всматриваясь в неясные тени. Голые персиковые деревья раскинули ветви, словно спицы зонтика. Далеко в сумрак, к самой оконечности полуострова, уходили ровные ряды особняков, домов и вилл.
– Вижу, что обидел вас, – произнес мистер Уильямс. – Собирался очаровать, а вместо этого насмешничал. А все потому, что мой социальный статус для меня больная тема.
Я повернулась к нему удивленная. Как свободно он держится! Не доводилось знать юношу, который признался бы в своей уязвимости.
– Я не обиделась. Я очарована, как вы и хотели.
– В таком случае спасибо.
– Это я должна благодарить вас. Неловкость в гостиной – моя вина. А вы…
– Я мог бы сказать, что желал проявить галантность, но на самом деле пытался произвести на вас впечатление. Я уже давно наблюдаю за вами. Только собрался представиться, как вы бросились вперед и на нас пролился пунш.
Я рассмеялась, скорей испугавшись, чем развеселившись. Молодые люди обычно не замечали меня.
– Вы разыграли замечательный спектакль. Вам так не кажется?
Увы, мы взяли курс на подводные камни флирта. Я мало что в них смыслила.
– Да. Я… я стараюсь.
– И часто вы устраиваете подобные представления? – спросил он.
– Не очень.
– У вас хорошо получилось. Дамы в танцевальной зале так резво отпрыгнули в сторону, что я заволновался, как бы не слетел чей-нибудь тюрбан и не ушиб кого-то.
– Ах, но в причинении ущерба обвинили бы вас, а не меня. То есть это ведь вы взяли на себя ответственность за происшествие.
«Что я болтаю?»
Он поклонился, соглашаясь.
– Нам следует вернуться к гостям, – сказала я, снимая сюртук с плеч и желая закончить добродушное подшучивание на высокой ноте.
Кроме того, я волновалась, что нас могут хватиться.
– Если настаиваете. Но мне бы не хотелось делить вас с кем-либо. Вы самая привлекательная леди из всех, с кем я познакомился в этом сезоне.
Его слова показались несколько неуместными, и на миг я засомневалась в его искренности. Но почему я не могла показаться ему привлекательной? Наверное, парки передумали. Возможно, этому человеку неважна моя внешность и он разглядел за ней что-то более глубокое. Или я была не такой уж некрасивой.
– Можно мне навестить вас? – спросил он.
– Вы и правда этого хотите?
Он взял мою руку и поднес к губам. Не отводя взгляда от моих глаз, прижался к моей коже теплыми и гладкими губами. Лицо юноши казалось странно сосредоточенным, и я почувствовала, как тепло его губ струится прямо в мое сердце.
Подарочек
В день, когда матушка начала шить одеяло семейных преданий, мы трудились под деревом душ. Мы всегда здесь работали, когда нужно было подрубить край, пришить пуговицы, выполнить отделку или крошечные стежки, которые сложно делать в плохо освещенной комнате. В хорошую погоду, бывало, расстелем на земле одеяло и примемся орудовать иголками. Госпожа сердилась, боясь, что одежда испачкается.
– Для лучшего результата мне нужен свежий воздух, но я попытаюсь обойтись без него, – отвечала матушка.
Вскоре после этого доля ее работы сократилась. Новую одежду почти не изготавливали, и госпожа сказала:
– Ладно, шейте на улице, только смотрите не пачкайте ткани.
Стояла ранняя весна, и на деревьях распускались почки. В те дни на душе у меня было тревожно. Я наблюдала, как мисс Сара выходит в свет, как надевает пышные наряды и ездит на званые вечера. Она хотела скорей найти себе мужа и уехать. Перед ней распахивался весь мир, а передо мной двери закрылись – верней, никогда не открывались. Взрослея, я стала понимать, что и не откроются.
Госпожа продолжала таскать нас в столовую для молитв.
– Будьте довольны своей долей, ибо она от Господа.
Меня так и подмывало ответить: «А ты засунь свою долю куда-нибудь подальше».
Еще была маленькая Нина, сестра мисс Сары, ставшая для нее почти дочерью. Я тоже любила Нину, не любить ее было невозможно, но она завладела сердцем мисс Сары. Это правильно, но в моей душе поселилась пустота.
В тот день мы с матушкой разложили на корнях дерева все наши швейные принадлежности – нитки, мешочки с иглами, подушечки для булавок, ножницы и маленькую жестянку пчелиного воска для игл. Смазанная воском игла без усилий входит в ткань, к тому же я не любила шить, если не чувствовала запаха воска. С латунным наперстком на пальце, я заканчивала салфетку для туалетного столика из спальни госпожи, вышивая по краям виноградные лозы. Матушка говорила, что я превзошла ее в шитье я не пользовалась разметочным колесиком, но у меня всякий раз получались идеальные швы.
За два года до этого, когда мне исполнилось пятнадцать, госпожа сказала:
– Назначаю тебя помощницей швеи, Хетти. Ты должна всему обучиться и участвовать в работе.
Я начала учиться, поначалу едва иглу держала, но теперь стала официальной швеей, и на меня возложили часть матушкиных обязанностей.
Рядом с матушкой лежала деревянная шкатулка с лоскутами и стопка только что вырезанных красных и коричневых квадратов. Порывшись в шкатулке, она вытащила обрывок черной ткани. Я смотрела, как она на глаз вырезает три фигуры. Без всякого колебания, в этом фокус. Потом приколола фигуры на красный квадрат и начала пришивать. Матушка сидела ссутулившись, вытянув ноги перед собой, а руки ритмично двигались у груди.
Когда мы создали дерево духов, я сшила для нас по мешочку из старого тика. Мамин, набитый кусочками дерева, сейчас высовывался из-под воротника платья. Я похлопала по своему. Помимо амулетов из дерева, в нем хранилась пуговица мисс Сары.
– И какое одеяло ты сейчас шьешь? – спросила я.
– Одеяло нашей истории.
Я впервые слышала о подобном. Матушка сказала, что ее мать шила такое и мать матери. Вся ее родня в Африке, весь народ фон хранил свою историю на лоскутных одеялах.
Я оставила вышивку и стала рассматривать фигурки, которые пришивала мама, – мужчина, женщина и маленькая девочка между ними. Они держались за руки.
– Кто это?
– Закончу и расскажу тебе историю квадрат за квадратом.
Она улыбнулась, показывая редкие зубы.
Прикрепив фигурки людей, матушка вырезала маленькое лоскутное одеяльце с черными треугольниками и пришила его у ног девочки. Вырезала крошечные кандалы и цепи для их ног, а потом разбросала вокруг фигурок звезды. Некоторые были со светлыми шлейфами, другие лежали на земле. Это был рассказ о ночи, когда продали ее мать, мою бабушку, и с неба упали звезды.
Матушка торопилась, чтобы скорей перейти к истории, но чем больше она вырезала и пришивала, тем печальней становилась. Через некоторое время отложила работу в сторону:
– Пожалуй, надо подождать.
Потом взяла неоконченное одеяло – молочно-белое с розовыми цветами – наверняка для продажи. Матушка трудилась над ним без воодушевления. Солнечный свет заливал листву над головами, и я смотрела, как над ней играют тени.
Мне захотелось посплетничать.
– На званом вечере мисс Сара познакомилась с парнем и теперь говорит только о нем.
– У меня тоже есть кто-то в этом роде, – сказала мама.
Я взглянула на нее как на умалишенную, отложила в сторону пяльцы с вышивкой, и белая салфетка для столика угодила в грязь.
– И кто же он, откуда взялся?
– Когда в следующий раз пойдем на рынок, я тебе покажу его. Скажу только: он свободный чернокожий и он просто необыкновенный.
Мне не понравилось, что у нее от меня тайны.
– Ты собираешься замуж за этого необыкновенного свободного чернокожего? – резко спросила я.
– Нет, он уже женат.
Разумеется!
Мама выждала, пока я не успокоюсь:
– У него появились деньги, и он купил себе свободу. Стоил целое состояние, но у хозяина был карточный долг, и он заплатил за себя только пятьсот долларов. На оставшиеся деньги купил дом на Булл-стрит, двадцать, в трех кварталах от особняка губернатора.
– Откуда у него взялись все эти деньги?
– Выиграл в лотерею на Ист-Бей-стрит.
Я расхохоталась:
– Он так тебе сказал? Пожалуй, твой избранник самый счастливый раб из живущих на свете.
– Он выиграл десять лет назад, и все об этом знают. Купил билет, и ему повезло. Так бывает.
Контора лотереи находилась неподалеку от рынка, у доков. Я как-то проходила мимо нее, когда матушка учила меня делать покупки. Там всегда толпился народ – корабельные капитаны, городская стража, белые рабочие, свободные чернокожие, рабы, мулаты и креолы. Часто можно было увидеть двух-трех мужчин с шелковыми шейными платками и ожидающими экипажами за углом.
– Почему же ты не купила билет?
– Зачем попусту тратить деньги?
Последние пять лет матушка бросала все силы, оставшиеся после шитья для госпожи, на накопление векселей. Все эти годы она работала по найму, но уже не тайком – спасибо доброму Иисусу. Из-за ее поддельного жетона и тайных вылазок я начала седеть. Бывало, выдерну белый волос из головы и покажу ей:
– Посмотри, что ты со мной делаешь.
А она только отмахивалась:
– Я тут деньги зарабатываю, чтобы купить нам свободу, а ты беспокоишься о волосах.
Когда мне минуло тринадцать, госпожа наконец сдалась и разрешила матушке работать по найму. Не знаю почему. Возможно, устала твердить «нет». Может, нуждалась в деньгах, ведь матушка пополняла карман госпожи на сто долларов в год… И конечно же, сшитое матушкой в тот год лоскутное одеяло – подарок к Рождеству – пришлось очень кстати. Оно состояло из квадратов, каждый из которых был сшит из лоскутков одежды детей госпожи.
– Знаю, это не бог весть что, – сказала матушка, – но я сшила вам одеяло для воспоминаний о вашей семье. Когда дети разъедутся, вы сможете им укрываться.
Госпожа прикоснулась к каждому квадрату:
– Ах, это из платья, которое Мэри надела для первого выхода в свет… Это крестильное одеяльце Чарльза… Боже правый, первая рубашка Томаса для верховой езды.
Матушка не теряла времени даром, сразу же попросила госпожу разрешить ей работать по найму. Месяц спустя ее легально наняла женщина с Трэд-стрит. Мама оставляла себе двадцать центов с каждого доллара. Остальное доставалось госпоже, но я знала, что матушка продает на сторону капоры с рюшами, махровые покрывала, лоскутные одеяла – все, что не требовало примерки.
Она заставляла меня регулярно подсчитывать деньги. Дошло до ста девяноста долларов. Мне не хотелось говорить маме, что, узнав про такую кучу денег, госпожа рассердится, однако вряд ли нас продаст.
– Мы слишком хорошие швеи, чтобы госпожа нас отпустила, – задумчиво сказала я.
– Если откажет, станем шить очень плохо и очень быстро.
– А почему ты думаешь, что она не продаст нас кому-нибудь назло?
Матушка перестала работать, казалось, задор ее иссяк. Выглядела она уставшей.
– Этим шансом надо воспользоваться, или мы кончим, как Снежок.
Бедняга умер ночью прошлым летом. Споткнулся в уборной. Тетка подвязала ему челюсть, чтобы душа не вылетела, и, перед тем как положить в гроб, его на двое суток поместили на охлаждающую плиту в кухонном корпусе. Этот человек всю жизнь возил Гримке по городу. Место кучера занял Сейб, и еще хозяева взяли с плантации нового паренька на должность лакея. Его звали Гудис, он косил на один глаз и часто поглядывал на меня.
– Парень заприметил тебя, – улыбнулась матушка.
– Не хочу, чтобы меня запримечали.
– И ладно, – сказала она. – Я смогу купить свободу себе и тебе. Если заведешь мужа, пусть сам освобождается.
Я завязала узелок и переместила пяльцы с вышивкой, говоря себе: «Не хочу никакого мужа и не собираюсь кончить жизнь, как Снежок, на холодной плите в кухонном корпусе».
– Сколько будет стоить выкупить нас обеих? – спросила я.
Матушка воткнула иголку в ткань.
– Вот это тебе и придется разузнать.
Сара
До встречи с Берком Уильямсом мне не приходило в голову вести дневник. Теперь же подумала, что, описывая свои чувства, смогу управлять ими и даже обуздать то, что преподобный Холл называл «приступами похоти».
Оно того стоило! Страсть, перенесенная на страницы дневника, который запрятан в шляпную коробку в шкафу, нисколько не ослабевает.
20 февраля 1811 года
Раньше мне казалось, что романтическая любовь – это приятная эйфория, а вовсе не страдание! Подумать только, всего несколько недель назад я считала самой большой своей бедой мой изголодавшийся ум. Теперь страдаю от сердечных мук. Мистер Уильямс, вы меня терзаете, словно я подхватила тропическую лихорадку. И не знаю, хочу ли исцеления.
Мой дневник изобиловал подобными выспренними излияниями.
3 марта
Мистер Уильямс, почему вы не заезжаете? Несправедливо, что я вынуждена ждать от вас действий. Почему я, женщина, должна зависеть от вас? Почему не могу послать приглашение? Кто только придумал эти несправедливые правила? Мужчины, вот кто. Бог задумал женщину как подчиненное создание. Я в возмущении!
9 марта
Прошел целый месяц, и теперь я понимаю: то, что произошло на балконе между мистером Уильямсом и мной, глупышкой, было фарсом. Он бесстыдно играл со мной. Даже тогда я это понимала! Легкомысленный невежа! Уж скорей я заговорю с дьяволом, чем с ним!
Когда я не была занята своими чувствами, заботами о маленькой Нине или пресечением маминых попыток вовлечь меня во всякую женскую ерунду, то рылась в приглашениях и визитках, оставленных на столике у парадной двери. Во время дневного сна Нины заставляла Подарочка прикатывать в мою комнату медную ванну и наполнять ее несколькими ведрами пузырящейся воды из прачечной.
Эта ванна – современное чудо, привезенное из Франции через Виргинию, – была на устах у всего Чарльстона. Похожая на подвижную тележку, она путешествовала на скрипучих колесиках из комнаты в комнату. В ней сидели. Не надо было стоять в тазу и лить на себя воду – нет, можно полностью погрузиться в воду! С одной стороны в ванне имелся клапан для слива использованной воды. Мама велела рабам выкатывать ванну на веранду ближе к перилам и сливать воду во двор. Низвергающиеся в сад водопады сообщали соседям о том, что чистоплотные Гримке опять купались.
Когда незадолго до полудня в мартовские иды в дом доставили записку, нацарапанную небрежным почерком, я вцепилась в нее раньше матери.
15 марта
Берк Уильямс приветствует Сару Гримке и просит составить ему компанию завтра вечером. Он сочтет за честь для себя, если сможет быть к ее услугам.
P. S. Прошу извинить меня за взятую взаймы бумагу.
Я замерла на миг, потом положила записку на столик, думая: «Какое кому дело до того, что бумага позаимствована?», но быстро вышла из оцепенения. В приступе бурного восторга помчалась к себе в комнату и закружилась в диком танце, совсем позабыв про Подарочка с Ниной. Они расставляли под окном на полу игрушечный чайный сервиз. Я повернулась и натолкнулась на изумленные взгляды.
– Наверное, получила весточку от того парня, – сказала Подарочек.
Она единственная о нем знала.
– Какого парня? – спросила Нина, и мне пришлось рассказать ей о мистере Уильямсе.
В этот момент мама, должно быть, отправляла ответ на приглашение, вознося благодарность Господу, и ей и в голову не пришло бы разузнать о его верительных грамотах.
– Ты женишься, как и Томас? – спросила Нина.
Свадьба брата должна была состояться через два с половиной месяца, но уже сейчас она стала точкой отсчета для всех событий.
– Надеюсь, что да, – ответила я, и эта мысль показалась мне вполне осуществимой.
Я не превращусь в засушенный цветок, забытый между страницами книги.
* * *
Мы ждали мистера Уильямса к восьми часам, но прошло десять минут после означенного времени, а его не было. Шея матери от негодования пошла красными пятнами, а отец все время держал в руках часы. Мы трое сидели с таким видом, словно ожидали похоронную процессию. Я боялась, что он вовсе не придет, а если и появится, то очень ненадолго. По традиции после комендантского часа для рабов – девять часов зимой и десять летом – джентльменам-визитерам надлежало покинуть гостиные. Когда раздавалась барабанная дробь и рабы уходили с улиц, кавалеры как по команде вставали.
Мистер Уильямс постучал в дверь в четверть девятого. Томфри проводил его в гостиную, я подняла к лицу веер – нелепое сооружение из куриных перьев, – а мои родители поднялись с холодной учтивостью и предложили ему кресло справа от камина. Мне велено было сесть в кресло слева, то есть нас разделяла каминная ширма, и, чтобы взглянуть друг на друга, приходилось выворачивать шею. А жаль, он казался еще красивее, чем я запомнила. Лицо его загорело, а волосы немного отросли и завивались за ушами. Почувствовав исходящий от него аромат лаймового мыла, я затрепетала – настоящий приступ похоти.
После извинений и обязательных фраз отец перешел к делу:
– Скажите, мистер Уильямс, чем занимается ваша семья?
– Сэр, мой отец владеет лавкой серебряных изделий на Куин-стрит. Ее основал мой прадед, она крупнейшая серебряная лавка на Юге.
Он говорил с нескрываемой гордостью, однако напряженная тишина, предшествующая визиту, вновь повисла в комнате. Дочь Гримке выйдет замуж за сына плантатора, который до вступления в права наследования будет изучать право, медицину, религию или архитектуру.
– Лавка, говорите? – спросила мать, оттягивая время, чтобы постигнуть смысл сказанного.
– Верно, мадам.
Она повернулась к отцу:
– Лавка серебряных изделий, Джон.
Отец кивнул, на лице у него читалось: «Лавочник». Мысль эта витала в воздухе, сгущаясь над его лбом.
– Мы часто бываем в этом магазине! – просияв, воскликнула я, будто эти моменты – самые яркие в моей жизни.
Мама пришла ко мне на помощь:
– Правда бываем. Это замечательный магазин, Джон.
Мистер Уильямс подался вперед и обратился к отцу:
– Сэр, у моего деда была мечта – дать нашему городу магазин серебряных изделий, который был бы достоин магазина, открытого вашим дедом Джоном Полом Гримке. Он находился на углу Куин и Митинг-стрит, не так ли? Мой дед считал вашего величайшим серебряных дел мастером в стране, превосходящим мистера Ревира.
О-о, какой находчивый человек! Я повернулась в кресле, чтобы лучше рассмотреть его. Дал нам понять в форме комплимента, что он здесь не единственный выходец из класса торговцев. Разумеется, разница в том, что Джон Пол Гримке удачно использовал прибыль от магазина: вложил ее в хлопковый бизнес и земельные участки на юге страны. Будучи амбициозным и расчетливым, он проложил себе путь в аристократические круги Чарльстона. Тем не менее мистер Уильямс вовремя нанес удар.
Пристально посмотрев на него, отец произнес одно слово:
– Понимаю.
Думаю, в тот момент отец действительно разгадал мистера Уильямса.
Томфри подал чай с бисквитами, и разговор опять перешел на банальности, но прервался, едва прогремела барабанная дробь. Мистер Уильямс поднялся, и я почувствовала себя опустошенной. К моему удивлению, мама настойчиво приглашала его вновь посетить нас, и я заметила, как в изумлении поднялась густая отцовская бровь.
– Можно, я провожу гостя до двери? – спросила я.
– Конечно, дорогая, но с вами пойдет Томфри.
Мы вышли из комнаты вслед за Томфри, а за дверью мистер Уильямс остановился и положил ладонь мне на плечо.
– Вы сегодня очаровательны, – прошептал он, приближая свое лицо к моему. – Соблаговолите подарить мне прядь своих волос, чтобы не так больно было расставаться.
– Прядь волос?
– Как знак вашей любви.
Я поднесла куриные перья к пылающему лицу.
Он вложил мне в ладонь белый носовой платок.
– Заверните в него прядь и перекиньте через ограду на Джордж-стрит. Я буду ждать.
Сделав это волнующее распоряжение, он улыбнулся мне – и как улыбнулся! – и направился к двери, где в нетерпении ждал Томфри.
Возвращаясь в гостиную к родителям, я остановилась у двери и услышала разговор о себе.
– Джон, нам следует проявить здравомыслие. Он может оказаться ее единственным шансом.
– Полагаешь, у нашей дочери так мало перспек тив на замужество, что лучше этого ей не найти?
– Его семья не бедная. Они вполне зажиточные.
– Но, Мэри, это семья торговцев.
– Мужчина ухаживает за Сарой, и, скорей всего, это лучшее, на что она может рассчитывать.
Немного огорчившись, я бросилась к себе в комнату, чтобы выполнить тайную миссию. Над моим столом при свете лампы склонилась Подарочек, нахмурив лоб, она пыталась читать сложную поэму «Леонид», оду мужчинам и войнам. Как всегда, на шее у нее болтался мешочек с корой, листьями и желудями дуба с заднего двора.
– Быстрей! – выпалила я. – Возьми из ящика ножницы и отрежь прядь моих волос.
Прищурившись, она не сдвинулась с места.
– Зачем?
– Просто сделай, и все!
Я сгорала от нетерпения, но, увидев, что ее обижает мой тон, объяснила причину.
Она отрезала прядь длиной с мой палец, посмотрела, как я заворачиваю волосы в носовой платок. После чего спустилась за мной в сад, где я разглядела сквозь забор палисадника темную фигуру, прислонившуюся к оштукатуренной кирпичной стене дома Дюпре на той стороне улицы.
– Это он? – спросила Подарочек.
Испугавшись, что он услышит, я зашикала на нее, а потом швырнула через забор любовное послание. Оно упало на разбитые ракушки, которыми была усыпана улица.
* * *
На следующий день отец объявил, что мы немедленно отправляемся в Белмонт. Из-за предстоящего бракосочетания Томаса было решено, что этой весной отец уедет на северную плантацию один. А теперь вдруг всей семье предстоял лихорадочный массовый исход. Неужели отец думал, что никто не понимает – дело в неугодном сыне серебряных дел мастера?
Я второпях написала письмо и оставила его Томфри для отправки.
17 марта
Дорогой мистер Уильямс!
С сожалением должна сообщить вам, что этим утром мое семейство уезжает из Чарльстона. Я вернусь только в середине мая. Наш поспешный отъезд не позволяет мне лично с вами попрощаться, о чем я очень сожалею. Надеюсь, что по возвращении в цивилизацию смогу вновь пригласить вас в наш дом на Ист-Бей. Думаю, вы нашли платок с его содержимым, сохраните его.
С теплыми пожеланиями от Сары Гримке.
Семь недель разлуки с мистером Уильямсом стали для меня настоящим мучением. Между тем я занялась устройством лазарета для рабов на плантации, разместив его в углу прядильни. Много лет назад здесь уже был лазарет, но потом пришел в запустение, и рабыня Пегги, пряха, приспособилась хранить на старых койках чесаную шерсть. Нина помогла мне отскрести один угол и собрать аптечку из лекарств, целебных мазей и трав, которые я выпрашивала или смешивала сама на кухне. Вскоре появились больные, да так много, что надсмотрщик пожаловался отцу, мол, моя лечебница нарушает работу на плантации. Я ожидала, что отец запретит лазарет, но он оставил все как есть, предупредив, правда, что у рабов найдется масса способов злоупотребить моей добротой.
Мама же едва не прикрыла эту лавочку. Узнав, что я провела ночь у постели пятнадцатилетней девочки с родильной горячкой, она закрыла лазарет на два дня, но потом сдалась.
– Ты ведешь себя неосмотрительно, – сказала она и добавила, почти угадав правду: – Догадываюсь, что тобой движет не сострадание, а потребность отвлечься от мыслей о мистере Уильямсе.
Вечерами от нечего делать мы с Мэри шили, пили чай или рисовали пейзажи, а Нина играла у моих ног. Все это происходило в душной гостиной при скудном свете из окон, занавешенных бархатными шторами цвета отцовского портвейна. Единственной отдушиной были прогулки верхом на резвом жеребце по кличке Хирам. Его мне подарили на четырнадцатилетие, и, поскольку он не подпадал под категорию раба, рабовладельца или красивого ухажера, мне позволялось просто любить его. Улучив минуту, когда можно было улизнуть из гостиной, я садилась на Хирама и, кипя изнутри, скакала галопом на бешеной скорости по полям и холмам. Свирепые ветры гуляли по лазурным небесам, жирные дикие утки мелькали в облаках. Заборы вдоль узких улочек были в жасминном цвету, источавшем сладкий и душный мускусный аромат. На этих прогулках меня охватывала та же пьянящая чувственность, что и в медной ванне, где я полулежала, откинувшись на спину. Возвращалась я обычно в сумерках.
Мама только раз разрешила мне написать мистеру Уильямсу. Второе послание, по ее словам, стало бы «вопиющей несдержанностью». Ответа не последовало. Мэри тоже не получала писем от суженого и ругала почту, поэтому я чрезмерно не волновалась, но каждый день спрашивала себя, увижу ли по возвращении мистера Уильямса и его улыбку. Вся надежда на колдовские чары пряди моих рыжих волос. Я не слишком отличалась от Подарочка, которая носила на шее древесную кору и желуди, хотя и не признавалась в этом даже себе.
Во время заключения в Белмонте я почти не вспоминала о Подарочке, но накануне нашего отъезда появилась пятнадцатилетняя рабыня, за которой я недавно ухаживала. Она излечилась от родильной горячки, но на шее у нее вскочили фурункулы. Увидев ее, я вдруг поняла, что нас с Подарочком разделяют не только мили. И не обстоятельства, о которых я говорила себе, и не моя поглощенность Ниной, не обязанности Подарочка, не естественный ход взросления. Была другая, все увеличивающаяся пропасть, и она появилась задолго до моего отъезда.
Подарочек
Вечером, когда семейство Гримке уехало на плантацию, а оставшиеся в усадьбе рабы разошлись по комнатам, матушка послала меня в библиотеку господина Гримке разузнать, за сколько могут продать меня и ее. Сама осталась за дверью – караулить Томфри. Я сказала ей, что опасаться надо не Томфри, а Люси.
Прошлой зимой приходил какой-то человек; он переписал, оценил все, чем владеет господин Гримке. Матушка видела, как он заносил лакированный швейный стол, раму для одеял и каждое приспособление для шитья в коричневую кожаную тетрадь, которую потом перевязал бечевкой.
– Если мы записаны в этой тетради, значит там указана наша цена, – сказала она. – Тетрадь должна быть где-то в библиотеке.
«Хорошая идея», – думала я, пока не закрыла за собой дверь. Тогда наша задумка показалась чертовски глупой. Вы не поверите, сколько книг у господина Гримке! И половина из них в коричневых кожаных переплетах. Я открывала ящики и рылась на полках, пока наконец не нашла книгу, перевязанную бечевкой. Усевшись за письменный стол, я открыла ее.
После того как меня застукали за преступной писаниной на земле, мисс Сара прекратила занятия, но приносила книги с поэзией – единственное, что ей теперь давали читать.
– Стихотворение можно быстро прочитать. Закрой дверь и, если попадется незнакомое слово, покажи его мне, и я шепотом произнесу.
Таким вот образом я выучила тьму слов. Некоторые, правда, невозможно вставить в разговор: «о-хо-хо, отселе, увы, божья роса». Но я все равно запомнила их.
Слова из кожаной тетради не годились для стихотворений. Почерк у того мужчины был ужасный. Я раскалывала слово одно за другим, добираясь до смысла, – примерно так, как мы разламывали голубых крабов из водопада, доставая мясо и расцарапывая пальцы в кровь. Но иногда получалось прочитать несколько слов сразу.
Город Чарльстон… Мы, нижеподписавшиеся… Для вынесения наилучшего суждения… личный инвентарь… Вещи и движимое имущество…
2 карточных стола красного дерева. . . . . 20,50
Портрет и адрес генерала Вашингтона. . . . . 30
2 брюссельских ковра и покрывала. . . . . . 180
Клавесин. . . . . . . . . . . . . . . . 29
В коридоре послышались шаги. Матушка сказала, что запоет, если надо будет спрятаться, но песни не последовало, и я продолжила изучать перечень на тридцати шести страницах. То шелка и слоновая кость, то золото, то серебро, но никаких Хетти и Шарлотты Гримке.
Наконец я перевернула последнюю страницу, там-то и обнаружились все рабы, как раз после корыта, тачки, молотка-гвоздодера и бушеля кукурузы.
Томфри, 51 год. Дворецкий, прислуживает
господам. . . . . . . . . . . . . . . . 600
Тетка, 48 лет. Повариха. . . . . . . . . . 450
Шарлотта, 36 лет. Швея. . . . . . . . . . 550
Я перечитала дважды – Шарлотта, моя мать, ее возраст, за сколько ее продают – и почувствовала гордость смущенной девочки, гордость за маму, которая стоила больше, чем Тетка.
Бина, 41 год. Нянька. . . . . . . . . . . 425
Синди, 45 лет. Горничная. . . . . . . . . . 400
Сейб, 29 лет. Кучер, домашний слуга. . . . . 600
Эли, 50 лет. Домашний слуга. . . . . . . . . 550
Мария, 34 года. Прачка, гладильщица. . . . . 400
Люси, 20 лет. Горничная. . . . . . . . . . .400
Хетти, 16 лет. Горничная, швея. . . . . . . . 500
Я гордо выпрямилась. Пятьсот долларов! Я погладила пальцем шершавые высохшие чернила, в восторге оттого, что они опустили слово «ученица», как четко было написано «швея» и что меня оценили дороже любой рабыни, кроме матушки. Я хорошо считала и сложила свои и мамины цифры. Нас оценивали в тысячу пятьдесят долларов. В тот момент у меня были шоры на глазах, как у лошади. Я улыбалась, словно это прибавляло нам веса, и продолжала чтение, чтобы посмотреть, во что оценивали прочих.
Фиби, 17 лет. Кухонная прислуга. . . . . . . 400
Принц, 26 лет. Дворовый слуга. . . . . . . . 500
Гудис, 21 год. Лакей, конюший, дворовый слуга. . 500
Розетта, 73 года. Бесполезна. . . . . . . . . . 1
Я положила тетрадь на место, вышла из библиотеки и сообщила матушке цифру. Тысяча пятьдесят долларов. Она опустилась на нижнюю ступень лестницы и ухватилась за перила:
– Как я смогу собрать столько денег?
На это ушло бы лет десять.
– Не знаю, – откликнулась я. – Некоторые вещи невозможно сделать, вот и все.
Она поднялась и пошла к подвалу, не оборачиваясь и говоря на ходу:
– Не говори мне «невозможно». Это чертовы белые так говорят, вот что.
Я потащилась вверх по лестнице и пошла к эркеру, откуда было видно море. В пустом доме наверху была только я. Я торчала у окна, пока небо полностью не потемнело и вода не стала черной. «Через воды и моря рыбы пусть везут меня». Мне все еще вспоминались песенки, которые я пела, когда меня отдали мисс Саре, но уверенность, что я куда-нибудь приплыву, исчезла.
– Пятьсот долларов, – еле слышно произнесла я.
Вещи и движимое имущество. В голову лезли слова из кожаной тетради. Мы, рабы, были чем-то вроде зеркала из сусального золота или конского седла. Неполноценные люди. Я никогда в это не верила, но если долго слушать разговоры белых, то печаль в душе сменится недоумением. Вдруг улетучилась глупая гордость по поводу того, кто чего стоит. Впервые мне стало стыдно и обидно оттого, кто я такая.
Немного погодя я спустилась в подвал. Увидев мои мокрые глаза, матушка сказала:
– Кто бы посмел написать в тетради, чего ты стоишь?
Сара
Наш караван из двух экипажей, двух фургонов и семнадцати человек вернулся в Чарльстон в мае, в разгар весны. Обильные дожди омыли город, и он благоухал вновь распустившимся миртом, бирючиной и китайским сальным деревом. Над садовыми воротами нависали кусты бугенвиллеи, по яркому небу проносились воздушные облака. Я была безумно рада возвращению.
Мы с грохотом въехали через задние ворота во двор, а навстречу старческой рысцой уже спешил Томфри.
– Масса, рано приехали! – выкрикивал он на ходу.
Из-за воротника у него торчала салфетка, дворецкий немного нервничал, словно мы застали его за неурочной трапезой.
– Всего на день, – сказал отец, вылезая из ландо. – Сообщи всем, что мы прибыли.
Я помчалась вперед, позабыв даже о Нине, ворвалась в дом и принялась рыться в визитках – и вот оно, приглашение, на одолженной у кого-то бумаге.
3 мая
Берк Уильямс приглашает Сару Гримке по возвращении в Чарльстон совершить верховую прогулку (в сопровождении компаньонки) на остров Салливан.
Ваш преданный слуга.Едва не завопив от счастья, я поднялась наверх.
Ясно помню, как резко остановилась на площадке второго этажа, с любопытством разглядывая дверь своей комнаты. Только она одна была закрыта, а все прочие открыты. Со смутным предчувствием я подошла, положила ладонь на дверную ручку, на миг помедлила и прислушалась. Тишина, я повернула ручку. Заперто.
Я несколько раз подергала за ручку и наконец услышала робкий голос:
– Это ты, мама?
Подарочек? Я была ошарашена тем, что она заперлась в моей комнате, и не нашлась что ответить.
– Иду, – раздраженным и хриплым голосом произнесла она.
Послышались всплески воды, в замке повернулся ключ.
На пороге стояла мокрая Хетти, с повязанным вокруг бедер полотняным полотенцем. Ее торчащие груди напоминали маленькие фиолетовые сливы. Я не могла оторвать взгляд от ее влажной черной кожи, от небольшого торса, излучающего энергию. Косички ее были распущены, и волосы короной окружали голову, искрясь капельками воды.
Она отступила с открытым ртом. За ее спиной посредине комнаты стояла дивная медная ванна, наполненная водой, от которой поднимался пар. У меня перехватило дыхание от подобной дерзости. Если об этом узнает мать, последствия будут скорыми и ужасными.
Я быстро вошла в комнату и закрыла за собой дверь, даже сейчас пытаясь защитить Хетти. Она не стала оправдываться. В ее взгляде, во вздернутом подбородке чувствовался вызов: да, это я искупалась в твоей драгоценной ванне.
Наступило гнетущее молчание. Она была права, если думала, что я вот-вот взорвусь. Мне хотелось хорошенько встряхнуть ее. Ее дерзость казалась не просто желанием понежиться в ванне, а скорее мятежом, узурпацией. Что на нее нашло? Она не только нарушила мое уединение и вторглась в интимную жизнь, но и подорвала мое доверие.
Я не сразу осознала, что во мне звучит раздраженный голос матери.
Подарочек открыла рот, и я испугалась, что она станет сердито оправдываться, и в то же время опасалась извинений. Поэтому остановила ее:
– Прошу тебя. Не говори ничего. Хотя бы ради меня, молчи.
Она вытиралась и натягивала платье, а я повернулась к ней спиной. Когда посмотрела на нее вновь, она повязывала волосы бледно-зеленым, как пятна патины на меди, платком. Подарочек наклонилась, чтобы вытереть лужи на полу, и я заметила, что платок, намокнув, потемнел.
– Хочешь, чтобы я сразу вылила воду, или подождать? – спросила она.
– Давай сделаем это сразу. Нельзя, чтобы мама увидела.
В надежде, что семейство сейчас в доме и не услышит шума воды, мы с большим трудом вывезли ванну с расплескивающейся водой через потайную дверь на веранду, поближе к перилам. Подарочек выдернула пробку, и вода хлынула широким серебристым потоком.
– Я знаю, ты злишься, Сара, но не вижу никакого вреда в том, что приняла ванну, как делаешь это ты.
Не мисс Сара, а Сара. С того дня она никогда больше не называла меня «мисс».
У нее был вид человека, который заявил о себе. Увидев это, я справилась с негодованием, и ее мятежное купание превратилось в кое-что другое. Она воспользовалась запрещенной привилегией, полагая, что достойна подобных привилегий. Ее проступок был не мятежом, а посвящением.
И я осознала нечто, прежде не доступное моему пониманию. Я преуспела в порицании абстрактного рабства применительно к далеким незнакомым массам, а в отношении конкретной девушки из плоти и крови, находящейся рядом со мной, утрачивала способность отвергать рабство. Суть всех невыразимых вещей скрыта за пугающей немотой, и я нашла к ней свой путь.
Пока Подарочек тащила ванну по веранде, я выдавливала из себя слова:
– …Постой… я… помогу…
Обернувшись, она взглянула на меня, и мы друг друга поняли. А мой язык опять отказывался повиноваться.
Подарочек
Госпожа послала нас с матушкой на рынок за хлопчатобумажной тканью – на платье для Нины. Девочка быстро из всего вырастала. Госпожа велела в этот раз купить чего-нибудь светлого, а также присмотреть домотканой материи для Томфри и остальных – на новые жилетки.
Длинный ряд прилавков тянулся от Ист-Бей до Митинг-стрит. На них можно было найти все, что душе угодно. Госпожи твердила, что это жуткое место. У мясных прилавков, словно постоянные покупатели, кружили грифы-индейки. Торговцам приходилось держать человека, который отгонял их пальмовым листом, а они взлетали на крыши, пережидали и, уловив момент, возвращались. Окрестная вонь сшибала с ног. Бычьи хвосты, воловьи сердца, сырая свинина, живые куры, устрицы, голубые крабы, рыба и снова рыба. Сладкие пирожки с арахисом учуять было невозможно. Я ходила по рядам, зажав нос рукой, пока матушка не дала мне листья эвкалипта, чтобы растереть их над верхней губой.
Продавцы-рабы, то есть разносчики, перекрикивая друг друга, расхваливали свой товар. Мужчины выпевали: «Джимми» (так мы называли крабов-самцов), а женщины подхватывали: «Сук» (название для самок). «Джиммиии… Сууук… Джиммиии… Сууук». Затыкать приходилось и нос, и уши.
Стоял сентябрь, а я так и не встретилась с мужчиной, о котором рассказывала мать, – с удачливым свободным чернокожим, что выиграл деньги и купил себе свободу. У него была плотницкая мастерская в доме, и я знала, что всякий раз, когда матушку отпускали на работу по найму или посылали на рынок без меня, она развлекалась с ним. Один или два раза в неделю она приходила домой, пропахшая стружками, с опилками на подоле платья.
Мы подошли к рядам с отрезами тканей, и я заявила, что она все сочинила про этого мужика.
– Ладно, – сказала матушка.
После чего схватила первый попавшийся отрез светлой ткани и отрез тускло-коричневой шерсти, и с нагруженными корзинами мы пошли прочь. Через квартал от рынка посреди улицы продавали рабов, и мы двинулись на Кинг-стрит другой дорогой. Я три раза проверяла свой пропуск в кармане платья и смотрела, приколот ли жетон к платью матушки. От города я постоянно ждала беды. На Каминг-стрит стражник не старше меня остановил старика. Тот разволновался и обронил пропуск, а стражник, насмехаясь, наступил на бумагу ногой.
Мы шли торопливо, обгоняя экипажи. Теперь, за исключением особых случаев, матушка обходилась без трости. Вспоминала о ней, когда хотела добиться от госпожи послабления. Матушка скажет, бывало: «Похоже, лечение, которое я вымолила для своей ноги, больше не действует. Мне просто нужно отдохнуть и несколько дней помолиться». И тогда из небытия возвращалась трость.
Свободный черный мужчина жил на Булл-стрит, 20, в белом каркасном доме с черными облупленными ставнями и замызганными кустами у крыльца. Матушка отряхнула подол платья.
– Если я постою здесь, он увидит меня и сразу же выйдет, – сказала она.
– Будем тут торчать, пока он не выглянет в окно?
– А ты хочешь, чтобы я постучала в дверь? Если откроет его жена, ты думаешь, я скажу: «Передайте супругу, что пришла его подружка»?
– Как вышло, что ты развлекаешься с женатым мужчиной?
– Она его гражданская жена. У него их еще две. Все мулатки.
При слове «мулатки» мужчина вышел из дома, остановился на крыльце, посмотрел на нас. Настоящий бык. Хотелось сказать: «Живет он на подходящей улице». Он был крепкого сложения, с широкой грудью и выпуклым лбом.
– Это моя девочка, Подарочек, – сказала матушка подошедшему возлюбленному.
Тот кивнул с суровым надменным видом:
– Я Денмарк[1] Визи.
Матушка бочком подошла к нему и объяснила мне:
– Дания – страна рядом с Францией и тоже очень красивая.
Она так откровенно улыбнулась ему, что я отвела взгляд.
Он погладил ее по руке, а я, недолго думая, отправилась бродить по улице. Пусть себе флиртуют на здоровье, но зачем мне на них любоваться?
В том году мы приходили к дому на Булл-стрит, 20, бессчетное число раз. Два голубка упорхнут, бывало, в мастерскую, а я останусь на улице ждать. Сделают они свое дело, и он, бывало, выйдет и давай вещать. И как он говорил, Господи, как умел этот мужчина говорить! Денмарк никогда не бывал в Дании, только на Датских островах. Зато, если верить его рассказам, наведался во все другие места. Он путешествовал по миру со своим хозяином капитаном Визи, владельцем невольничьего корабля. Говорил на французском, датском, на креольском диалекте, языке галла и даже на королевском английском. Я слышала, как он разговаривает на каждом из этих языков. Родом он был с Барбадоса и любил повторять, что жители Чарльстона не доверяли рабам оттуда, потому что его землякам ничего не стоило перерезать человеку глотку. Он говорил, Чарльстону нужны чернокожие с морского побережья Африки, умеющие сажать рис.
Самым неприятным из всего, что он мне рассказал, была история о соседе с той же улицы – свободном чернокожем мистере Роберте Смите, владельце трех рабов. И как прикажете относиться к подобным вещам? Я отказывалась верить в эту историю, и мистеру Визи пришлось отвести меня в дом того человека, показать рабов. Не знаю, уподобился ли мистер Смит белым, или же подобная низость свойственна всем людям.
Денмарк Визи знал Библию вдоль и поперек. За пять минут мог пересказать вам историю Моисея, который вывел людей из Египта. Тут были и расступившиеся воды моря, и падающие с неба лягушки, и заколотые в колыбели младенцы-мальчики. Он так часто повторял стихи из шестой книги Библии, что я до сих пор помню целые фразы. «Они полностью истребили всех бывших в городе, мужчин и женщин, молодых и старых». Этот человек был умным и в то же время безрассудным. Я боялась его до смерти.
Мы с ним повздорили при первой же встрече. Да, я ушла тогда прочь от дома, чтобы показать, что мне ни к чему глазеть на их страсти. На улице было полно народу – здесь жили все, от свободных чернокожих до мэра и губернатора. Навстречу мне шла белая женщина, я поступила как обычно – отшагнула в сторону, давая дорогу. Это закон, уступать дорогу на улице необходимо, но тут появился Денмарк Визи, кипящий от гнева, а за ним – испуганная матушка. Он схватил меня за руку и закричал:
– Ты такой хочешь стать? Человеком, который отступает в сторону? Который готов всюду унижаться?
Мне хотелось сказать: «Убери руки. Ты ничего про меня не знаешь. Я купаюсь в медной ванне, а от тебя смердит». Воздух вокруг меня сгустился, в горле стоял ком.
– Дай мне пройти, – выдавила я.
– Убери от нее руки, – сладким голосом произнесла стоящая за ним матушка.
Он разжал пальцы:
– Чтобы я больше этого не видел.
И улыбнулся. Матушка тоже улыбнулась.
Мы пошли домой и не разговаривали по дороге.
В доме Гримке дверь в библиотеку была открыта, комната пустовала. Я вошла и стала вертеть глобус. Он скрипел, как ноготь, которым водишь по грифельной доске, а я рассматривала страны. Дания была не рядом с Францией, между ними располагалась Пруссия. Глядя на глобус, я поняла, почему мама выбрала этого мужчину. Он видел столько интересных мест, и она загорелась желанием тоже взглянуть на них.
Сара
Нина нашла выход! Заявила, что недостатки моей речи можно исправить, если месить язык так, как обычно месят тесто. Эта девчушка была настоящим первооткрывателем. Все лето и начало осени она слушала мои вымученные фразы и решила, что пора сформировать у меня на языке правильный бугорок, чтобы слова набухали и поднимались легко, как дрожжи. Ей было шесть с половиной лет.
Если уж перед Ниной стояла какая-то задача, она не отступала, пока не находила решения. Они могли быть нелепыми, но поразительно оригинальными. Не желая подавлять ее потрясающие способности, я высовывала язык и разрешала ей ухватить его, как я надеялась, чистым полотенцем.
Эксперимент проводился на веранде второго этажа. Я сидела на качелях, вывернув шею, открыв рот и выпучив глаза – как прожорливый птенец в ожидании червяка, хотя любому наблюдателю показалось бы, что червяка скорее извлекают, чем засовывают.
Над бухтой огромным желтком вставало осеннее солнце. Краем глаза я видела, как отражается на воде его сияние, острым клином уходя к острову Салливан. Во время конных прогулок, довольно напряженных, мы с мистером Уильямсом скакали вдоль береговой линии. Напряженных, потому что я почти не открывала рта, боясь отбить у него желание ухаживать за заикой. Тем не менее он продолжал приглашать меня, и начиная с июня, после возвращения из Белмонта, мы виделись пять раз. От каждого свидания я ожидала, что оно окажется последним. Мы с Ниной очень тонко чувствовали друг друга, и я думаю, мои страхи передавались и ей. И она решительно настроилась вылечить меня.
Схватив мой язык, она нажимала на него и тянула. В ответ он извивался, как щупальце осьминога.
– Твой язык какой-то неподдающийся, – вздохнула сестра.
Неподдающийся! Откуда маленький гений брал эти слова? Я учила ее читать, как когда-то Подарочка, но точно знала: этого слова мы не проходили.
– И ты сдерживаешь дыхание, – добавила она. – Дыши. Постарайся расслабиться.
Она вела себя как командирша. У нее уже сейчас было больше властности и уверенности в себе, чем у меня.
– …Постараюсь, – промямлила я.
Хотя на самом деле я не старалась, просто закрыла глаза и глубоко задышала. Вообразила себе яркую воду в гавани, а потом – воду из ванны Подарочка, низвергающуюся лентой с края веранды. Почувствовала, как язык под пальцами Нины становится мягким и расслабленным.
Не знаю, сколько времени Нина трудилась над моим языком. Я совершенно потерялась в потоках воды. Наконец я услышала:
– Повторяй за мной: «Крошка Вилли-Винки».
– Крошка Вилли-Винки, – повторила я без запинки.
Эта странная интерлюдия на веранде принесла мне не исцеление, но что-то очень близкое к нему и не имела ничего общего со своеобразным массажем языка Нины. Дело было в дыхании, расслаблении и воображаемой воде.
С тех пор, едва начав заикаться, я закрывала глаза, глубоко дышала и представляла себе водопад из ванны. Видела, как вода льется и льется, и, открыв глаза, начинала легко говорить, иногда часами.
* * *
В ноябре мне исполнилось девятнадцать, о чем лишний раз не говорилось, если не считать материнских напоминаний за завтраком о моем наиболее благоприятном для замужества возрасте. Шла подготовка к зимнему сезону, каждую неделю устраивались примерки, и, по сути, только в это время я общалась с Подарочком. Она дни напролет шила в комнате Шарлотты или – в теплые дни – под дубом. Все эти месяцы между нами стояло происшествие с ванной, хотя Подарочку, похоже, было совсем не стыдно. Скорей наоборот, она, наверное, ощущала себя человеком, поднявшимся до высот. Во время примерок моих новых платьев Подарочек пела. Я стояла на возвышении, медленно поворачивалась и размышляла над смыслом ее песен, чтобы не разговаривать. И меня это устраивало.
Однажды в январе отец и мои старшие братья собрались в библиотеке. Дверь осталась открытой, и я из коридора видела, как отец потирает руки у огня – ночью пришли первые зимние заморозки, и Томфри разжег камины, – а Томас, Джон и Фредерик жестикулируют и вьются около него, словно мотыльки в свете лампы. Фредерик, недавно закончивший Йель и вслед за Томасом начавший адвокатскую практику, ударил кулаком по ладони:
– Как они посмели? Как только посмели?
– Мы организуем защиту, – сказал Томас. – Не волнуйтесь, отец, нас не одолеют – я вам обещаю.
«Кто-то причинил отцу зло?» Я приблизилась, но мало что поняла из их дискуссии. Они говорили о каком-то произволе, не называя его. Клялись защитить, но от чего? Через раскрытую дверь я увидела, как они подошли к письменному столу и склонились над какой-то бумагой. Тыкали пальцами в строчки документа и переговаривались важными голосами. Я наблюдала за ними, и во мне просыпалось жадное стремление занять свое место в мире, принять участие в деятельности братьев. Сколько лет прошло с тех пор, как я выбросила серебряную пуговицу?
Вдруг рассердившись, я отошла от двери. Мне было жаль отца. Ему причинили зло, и ради него сыновья были готовы свернуть горы, в то время как их жены, мать и сестры не имели никаких прав, даже в отношении собственных детей. Мы не могли голосовать, давать показания в суде или составить завещание – поскольку не владели ничем, что можно было бы передать по наследству. Почему мужчины клана Гримке не собираются вместе, чтобы защитить наши права?
* * *
Мой гнев утих, но я оставалась в неведении в течение всей недели. Дни тянулись бесконечно. Мама не выходила из комнаты, страдая от мигрени, а Томас отказывался отвечать на вопросы, говорил, что это дело отца, а не его. Новости я узнала на салонном концерте, устроенном на плантации к северо-западу от города.
Мы с Мэри приехали на плантацию в вечерних сумерках. Наш экипаж встретила стайка павлинов, разгуливающих по парку с единственной целью – украшать. В свете уходящего дня их перья красиво отливали голубым, однако попытки птиц взлететь показались мне достойными жалости.
Концерт уже начался. Берк вскочил со своего места и тепло приветствовал меня. Он выглядел потрясающе в длинном светло-вишневом жилете и шелковом костюме.
– Я волновался, что вы не придете, – прошептал он и быстро повел меня к свободному стулу рядом с собой.
Пока я снимала жакет изумрудного цвета, замечательно сшитый Подарочком, он положил мне на колени письмо. Я подняла брови, словно спрашивая, распечатать ли письмо сейчас, когда мисс Пароди соперничает с клавесином за внимание зрителей, или…
– Потом, – прошептал он.
Разумеется, письмо меня заинтриговало, я с нетерпением дожидалась окончания вечера. Миссис Дрейтон, теща Томаса, сыграла на арфе заключительную пьесу, и мы направились в столовую, где был накрыт стол с десертом – русской шарлоткой, коллекцией французских вин, бренди и мадерой. Несмотря на волнение, я не притронулась ни к чему. Берк осушил рюмку бренди и стал подталкивать меня к входной двери.
– Куда мы идем? – спросила я, не вполне уверенная в пристойности такого поведения.
– Давайте прогуляемся.
Мы вышли на крыльцо, под веерообразное окно, и устремили взоры на небо. Оно было фиолетово-водянистым. Над вершинами деревьев поднималась луна. Я, однако, могла думать лишь о письме. Вынув его из сумочки, я оторвала печать.
Моя дорогая и любимая,
молю даровать мне счастье стать вашим самым преданным женихом.
Сердце мое принадлежит вам.
Жду ответа,
Берк.Немного сбитая с толку, я прочитала письмо раз, потом другой. Словно послание, которое он передал мне раньше, заменили на это, не имеющее ко мне отношения. Казалось, мое смущение забавляет его.
– Ваши родители захотят, чтобы вы посоветовались с ними, прежде чем ответить.
– Принимаю ваше предложение, – улыбнулась я.
Меня переполняли смешанные чувства ликования и облегчения. Я выйду замуж! Я не стану такой, как тетушка Амелия Джейн.
Тем не менее Берк прав. Мама пришла бы в ужас, ответь я без ее согласия, но я не сомневалась в родителях. Не показывая своего неодобрения, они ухватятся за чудесное предложение Берка Уильямса, как за лекарство от страшной болезни.
Я взяла его под руку, и мы пошли вдоль дороги. Я слегка дрожала. Неожиданно он свернул с тропинки и повел меня к рощице камелий. Мы исчезли в тени огромных цветущих кустов, и он вдруг поцеловал меня в губы. Я отшатнулась:
– …Зачем… зачем… Вы меня удивляете.
– Любовь моя, мы теперь обручены, и такие вольности позволительны.
Притянув к себе, он снова меня поцеловал. Потом провел пальцами по краю моего декольте, поглаживая кожу. Я не капитулировала полностью, но много чего позволила Берку Уильямсу во время этого маленького приключения в роще камелий. Когда окончательно пришла в себя, освободившись из его объятий, он попросил меня не считать его пылкость большим грехом. Что я и пообещала. Поправила платье, заправила под помятый капор выбившиеся пряди волос.
«Такие вольности теперь позволительны».
Мы возвращались к дому по тропинке, усеянной павлиньим пометом и галькой, что посверкивала в лунном свете. Ведь этот брак будет на всю жизнь, так ведь? Правда, Берк говорил о долгой помолвке… Год, он сказал.
У крыльца мы услышали ржание лошади, а потом из парадной двери вышел мужчина и зажег трубку. Это был мистер Дрейтон, тесть Томаса.
– Сара? – удивился он. – Это вы?
Он перевел взгляд на Берка, потом – снова на меня. У моего плеча виновато болтался локон.
– Где вы были? – В голосе мистера Дрейтона звучали упрек и тревога. – С вами все хорошо?
– …Я… Мы помолвлены.
Мои родители были еще в неведении, а я объявила новость мистеру Дрейтону, которого едва знала, в надежде оправдать картину, нарисованную его воображением.
– Мы немного прогулялись по свежему воздуху, – сказал Берк. Похоже, он пытался сгладить остроту ситуации.
Мистер Дрейтон не был дураком. Он взглянул на меня, невзрачную Сару, которая – растрепанная, с пылающими щеками – возвращалась с «прогулки по свежему воздуху» с поразительно красивым мужчиной.
– Что ж, примите мои поздравления. Ваше счастье должно стать желанной передышкой для семьи в то время, когда на вашего отца обрушились неприятности.
Оказывается, неприятности отца – общеизвестный факт?
– Судью Гримке постигло несчастье? – спросил Берк.
– Сара вам не рассказывала?
– …Я была слишком расстроена и не могла говорить об этом, – сказала я. – …Прошу вас, сэр, проинформируйте мистера Уильямса от моего лица.
Мистер Дрейтон затянулся трубкой и выпустил в темноту терпкий дым:
– К сожалению, враги судьи добиваются вывода его из суда. Ему предъявляют серьезные обвинения.
Я судорожно вздохнула. Невозможно представить большего унижения для отца.
– Какого рода обвинения? – спросил ошеломленный Берк.
– Говорят, в своих судебных решениях он стал предвзятым и чересчур строгим. – Мистер Дрейтон замялся. – Обвиняют его в некомпетентности. Ах, все это политика.
Мистер Дрейтон взмахнул рукой, и я увидела, как разгорелись угольки в его трубке.
* * *
Любая радость со стороны родных, на которую я могла надеяться в связи с моей помолвкой, любое наказание за принятие предложения без разрешения, которого можно было опасаться, – все это померкло на фоне судебного разбирательства над отцом. Реакция матери на мое сообщение была незамысловатой, словно речь шла об образце вышивки.
– Отлично сделано, Сара.
Отец не сказал ничего.
В течение всей зимы он днем и ночью уединялся в библиотеке с Томасом, Фредериком и мистером Дэниелом Хьюджером, адвокатом и другом, известным тем, что законными методами потрошил своих оппонентов. Мой слух, доведенный почти до идеала благодаря многолетнему подслушиванию, позволил уловить обрывки разговора, когда однажды я сидела за карточным столиком в центральном коридоре и делала вид, что читаю.
«Джон, вы не брали денег, не пользовались привилегиями. Вас не обвиняют ни в чем таком, что подходило бы под серьезные правонарушения».
«А разве обвинение в некомпетентности недостаточно серьезно? Меня обвиняют в предвзятости! Об этом говорят люди, пишут в газетах. Я погиб».
«Отец, у вас есть друзья в законодательной палате!»
«Не будь глупцом, Томас. Все, что у меня есть, – это враги. Подлые интриганы из центральных штатов ищут для себя местечко».
«Вряд ли они получат большинство в две трети голосов».
«Разберитесь с ними, Дэниел, слышите? Скормите их псам».
На судебном слушании, которое состоялось весной в палате представителей города Колумбии, мистер Хьюджер столь яростно нападал на врагов отца, разоблачая их политическое вероломство, что обвиняемого оправдали через день. Голосование, однако, было тайным, и отец вернулся в Чарльстон реабилитированным, но запятнанным.
В свои пятьдесят девять лет он вдруг превратился в старика. Лицо осунулось, одежда висела мешком, словно тело его усохло. Правая рука дрожала.
Проходили месяцы, и Берк, как жених, еженедельно наносил мне визиты в гостиной, где нам разрешали оставаться одним. Он наполнял свидания той же пылкостью и несдержанностью, что и прогулку в рощице камелий, и я подчинялась, изо всех сил стараясь усвоить уроки. То, что нас не застукали, я полагала чудом Господним, хотя, скорей всего, нашей безнаказанностью мы были обязаны не Богу, а невниманию семьи. Отец продолжал шаркать ногами, все больше слабел и, чтобы скрыть дрожь, засовывал руку в карман. Он превращался в затворника. Ну а я – я превращалась в распутницу.
Подарочек
Матушка не могла заснуть. Кружила, как обычно, по подвальной комнате, и выражение «тихо как мышь», определенно было ей незнакомо. Я лежала на соломенном тюфяке, гадая, что у нее на уме на этот раз. Уже давно я не спала у двери Сариной комнаты, решение приняла я сама, и никто не сказал мне ни слова, даже госпожа. За последние годы злости у нее поубавилось.
Матушка подтащила стул к высокому окну и, вытянув шею, стала разглядывать кусочек неба над стеной, а я наблюдала за ней.
Почти каждую ночь она зажигала лампу и шила лоскутное одеяло с историей семьи. Уже более двух лет трудилась она над квадратами для одеяла.
– Если случится пожар, а меня уже здесь не будет, это достанется тебе, – любила повторять она. – Сохрани лоскутки, они – часть меня, так же как мясо на костях.
Я донимала ее, прося показать законченные квадраты, но матушка не поддавалась. Она любила делать сюрпризы. Ей хотелось снять покрывало со своего произведения, как с мраморной статуи. Она, как и народ фон, запечатлела свою историю на лоскутном одеяле и хотела показать все разом, а не по частям.
– Подожди немного, – сказала она накануне. – Уже совсем скоро я разверну раму и начну сшивать лоскуты.
Она запирала кусочки ткани в деревянный сундук, который притащила из кладовки в подвале. Сундук вонял плесенью. Внутри мы нашли личинки моли и маленький ключик. Матушка отчистила сундук льняным маслом и заперла в нем завернутые в муслин лоскуты. Я догадалась, что она спрятала там и наши деньги на свободу, потому что сразу после этого сбережения исчезли из рогожного мешка.
Последний раз там было четыреста долларов.
И теперь, лежа в постели, я подсчитывала в уме – чтобы выкупить нас обеих, требовалось еще шестьсот пятьдесят долларов.
Я прервала молчание:
– Собираешься всю ночь сидеть в темноте и глазеть на дыру в стене?
– Надо кое-что сделать. Спи.
Спать мне не хотелось.
– Где ты прячешь ключ от сундучка?
– Ах вот что у тебя на уме? Лежишь и придумываешь, как бы взглянуть на одеяло? Ключик найдешь, если пойдешь туда, не знаю куда.
Оставив попытки, я переключилась на мысли о Саре.
Мне никакого дела не было до этого мистера Уильямса. Единственное, что я от него услышала: «Быстренько исчезни». Я разжигала в гостиной камин, чтобы мужчина согрелся, и он это сказал.
«Быстренько исчезни».
Мне так же трудно вообразить Сару замужем за ним, как и себя – замужем за Гудисом, который все ходил за мной сами знаете зачем. Матушка как-то сказала: «Скажи, пусть утопится».
Вчера Сара спросила меня:
– Когда я выйду замуж, поедешь жить со мной?
– Оставить матушку?
– О-о, ты не обязана! – воскликнула она. – Я просто подумала… Знаешь, мне будет тебя не хватать.
Несмотря на то что у нас почти не осталось тем для разговоров, мысли о разлуке ранили меня.
– Мне тоже, – призналась я.
Матушка спросила с другого конца комнаты:
– Сколько, по-твоему, мне лет? – Она не знала своего возраста наверняка, свидетельства у нее не было. – Кажется, ты родилась, когда мне было примерно столько же, сколько тебе сейчас, девятнадцать. Сколько же мне?
Я подсчитала в уме.
– Тебе тридцать восемь.
– Не слишком старая, – заключила она.
Мы помолчали. Матушка все так же смотрела в окно и размышляла над своим возрастом, а я, окончательно проснувшись, лежала в кровати.
– Посмотри, Подарочек! Гляди сюда! – вдруг закричала матушка и вскочила на ноги. – Вот еще одна!
Я выпрыгнула из кровати.
– Звезды, – молвила она. – Падают точно так же, как при твоей бабушке. Давай, скорей.
Мы засунули ноги в башмаки, накинули пальто и, схватив старое одеяло, быстро прошли через задний двор.
Потом расстелили одеяло под деревом душ и улеглись на него. Я взглянула наверх, небесный свод распахнулся, и пролился звездный поток.
Каждый раз, когда падала звезда, матушка смеялась горловым смехом.
Когда звездопад прекратился и на небе все замерло, я увидела, как она поглаживает свой немного располневший живот.
И поняла, для чего она «не слишком старая».
Сара
– Сара, садись, пожалуйста.
С этого Томас начал. Он указал на два стула у окна, выходящего на веранду, но села я одна.
Было полпервого, и мой брат, чарльстонский барристер, прервал службу в конторе, чтобы поговорить наедине в моей комнате. Мне показалось, что он бледен от страха.
Естественно, я подумала об отце. Последнее время на него невозможно было смотреть без тревоги – худой, опустошенный человек с нетвердой походкой и трясущейся рукой. Однако, вопреки всему, ему стало немного лучше, и он вернулся к обязанностям судьи.
Неделей раньше я натолкнулась на отца, медленно продвигающегося с тростью по центральному коридору. В памяти всплыл образ Лазаря из катехизиса, по которому мы занимались в воскресной школе, – Лазаря, восставшего из гроба и ковыляющего в длинном саване. Левая рука отца тряслась, словно он махал прохожему; увидев меня, он схватил ее правой, стараясь унять дрожь.
– Ох, Сара, Бог безжалостен к старикам, – сообщил он.
Я провела его до задней двери, приноравливаясь к отцовскому шагу, что еще больше подчеркивало его немощность.
– Так скажи, когда ты выходишь замуж?
В последнее время все задавали мне этот вопрос, но, услышав его от отца, я замерла на месте. Мы с Берком помолвились в феврале, и отец ни разу не упомянул об этом. Я не винила его за то, что он пропустил празднование в нашу честь, которое любезно устроили у себя Томас и Салли. Отец тогда был прикован к постели, но с тех пор прошли месяцы молчания.
– Не знаю, – ответила я. – Берк ждет, когда отец передаст ему бизнес. Хочет обрести надлежащее положение.
– Правда?
Его сардонический тон отбил желание продолжать разговор.
С трудом верилось, что когда-то отец позволял мне рыться в его книгах и с наслаждением слушал мои речи. Между нами была протянута невидимая нить, и я силилась понять, когда же она порвалась. В день, когда он запретил мне брать книги? На проводах Томаса в университет, когда отец бросил мне обидные слова? «Ты позоришь себя. Позоришь всех нас. С чего ты взяла, что можешь изучать право?»
– Напоминаю, Сара, что в нашем штате нет закона о разводе, – между тем говорил он. – Если ты замужем, контракт расторгнуть нельзя. Ты об этом знаешь?
– Да, отец.
Он кивнул со сдержанным одобрением.
Вот о чем вспоминала я в мгновения, когда Томас собирался сообщить мне новость. Об отце, его немощности и последней встрече с ним.
– Ты всегда была моей любимой сестрой, – начал Томас. – Ты это знаешь. По правде, ты для меня дороже всех братьев и сестер.
Он замолчал и, замерев, разглядывал через окно и веранду сад. По его виску скатилась капелька пота, запутавшись в сети первых морщинок. Мной овладело странное смирение. «Что бы это ни было, оно уже случилось».
– …Прошу тебя, я не такая уж ранимая, как ты думаешь. Говори прямо.
– Ты права. Скажу без обиняков. Боюсь, Берк Уильямс не тот, за кого себя выдает. Я обратил внимание на то, что у него есть другие знакомые женщины.
Я не уловила двусмысленности.
– Это, безусловно, не преступление.
– Сара, они тоже его невесты.
Почему-то я сразу поняла, что сказанное им – правда. Теперь многое становилось понятным. Отсрочки с назначением дня свадьбы. Его бесконечные визиты к родным или деловые поездки. Любопытный факт, что красивый обворожительный мужчина выбрал меня.
Слезы брызнули из глаз. Томас протянул мне платок.
– Как ты об этом узнал? – спросила я, слегка оправившись от потрясения.
– Кузина Салли, Фрэнни из Бофорта, написала, что была на приеме и видела, как Берк открыто ухаживает за молодой женщиной. Она, конечно, не говорила с ним, но осторожно расспросила его спутницу, а та поведала, что Берк недавно сделал ей предложение.
Я уставилась на свои колени, пытаясь уразуметь сказанное.
– Но зачем? Зачем ему это делать? Не понимаю.
Томас сел и взял меня за руки:
– Он из тех мужчин, что охотятся за юными леди. В наше время подобное случается. Существует такая порода молодых людей, которые находят себе невест, чтобы… – Он помолчал. – Чтобы склонить к интимной близости. Они убеждают женщин, что в преддверии супружества подобный компромисс возможен. – Томас боялся посмотреть на меня. – Надеюсь, он не воспользовался возможностью…
– Нет, – сказала я. – Не воспользовался.
Томас с облегчением вздохнул, смутив меня своей несдержанностью.
– …Ты говорил «невесты». Помимо знакомой из Бофорта, есть и другая?
– Да, она, кажется, из Саванны.
– А как ты узнал об этой? Надеюсь, не от очередной кузины?
Он едва заметно улыбнулся:
– Об этой я услышал от самого Берка. Столкнулся с ним вчера вечером. Он признался, что имеет виды на обеих молодых леди.
– Ты видел его? Но почему не дал мне…
– Хотел избавить тебя от страданий и унижения. Наши родители сходятся на том, что тебя следует оградить от этого человека. Тебе больше незачем с ним видеться. Я разорвал помолвку с твоей стороны.
«Как ты мог?»
Он узурпировал любой мой шанс на личную месть. В тот момент я больше сердилась на детскую попытку Томаса защитить меня, чем на низость Берка. Я вскочила на ноги, повернулась к брату спиной, задыхаясь от невнятных обидных слов.
– Я понимаю, что ты чувствуешь, – произнес он у меня за спиной. – Но уж лучше пусть будет так.
Он ничего не понимал в моих чувствах. Мне хотелось накричать на него за надменные слова, но, обернувшись, я увидела его полные слез глаза и заставила себя ответить вежливо.
– …Мне хочется побыть одной. Прошу тебя.
Он поднялся:
– И еще кое-что. Тебе придется какое-то время не показываться на публике. Мама считает, трех недель достаточно, для того чтобы разговоры утихли. Потом сможешь вернуться в свет.
Он ушел, а я стояла у окна, охваченная гневом и обидой, и понимала, что виновата во всем сама. Как могла я стать добычей столь распутного человека? Неужели была настолько ослеплена страстью, что вообразила, будто он любит меня? Оконное стекло отражало мое лицо – румяные круглые щеки, длинный отцовский нос, бледные глаза, волосы необычного цвета. И я отрезала для него прядь этих волос! Должно быть, он посмеялся надо мной.
Я подошла к письменному столу и достала письмо с его предложением о замужестве. Не стала перечитывать послание, лишь разорвала его на мелкие кусочки. Обрывки усеяли стол, ковер и складки моей юбки.
В это время года перелетные вороны – обычное явление. Шумные стаи двигались темной завесой и оглушали пространство карканьем. Я повернулась к окну и смотрела, как птицы, заполнив все небо, постепенно исчезают, оставляя после себя пустоту.
Подарочек
Сара сидела в своей комнате. У нее, бедняжки, разбилось сердце. Бина говорила даже, что, когда она ходит, слышно позвякивание. Ее брат Томас забыл перед уходом надеть шляпу, и весь дом узнал, что случилось. У мистера Уильямса обнаружилось еще две невесты. И кому же теперь надо «быстренько исчезнуть»?
В тот день, когда настало время чаепития, госпожа сказала Томфри:
– Следующие три недели Сара не будет принимать посетителей. Говори гостям, что ей нездоровится. Нездоровится, Томфри. Я хочу, чтобы ты говорил именно так.
– Да, мэм.
Госпожа заметила мою нерешительность:
– Не мешкай, Хетти, отнеси поднос в комнату Сары.
Я приготовила поднос, но знала, что Сара не притронется к угощению. Я заварила ее любимый чай с иссопом, вспоминая, как в детстве мы пили его на крыше, и она рассказывала мне о серебряной пуговице и своих грандиозных планах. Пуговицу она выбросила, но я носила ее в мешочке на шее едва ли не каждый день.
Я заскочила в маленькую кухню, сняла с шеи мешочек и вынула потускневшую пуговицу. Она стала похожа на большую съежившуюся виноградину. Я почистила пуговицу, и та засверкала.
Сара сидела за письменным столом и что-то писала в блокноте. Глаза у нее были такие заплаканные, что я даже не понимала, как она может писать. Я поставила перед ней поднос и попросила:
– Посмотри, что там, на чайном блюдце.
Все эти годы она не видела пуговицу, но сразу узнала ее:
– Как ты… Ой, Подарочек, ты ее сохранила?
Сара не прикасалась к пуговице, только смотрела на нее во все глаза.
– Ну да, вот она, – сказала я.
И пошла к двери.
Сара
На следующее утро, несмотря на мои протесты, мама отправила Нину в гости к Смитам – поиграть с их дочерью. Смиты жили в квартале от работного дома. Во время своего последнего визита Нина услышала крики и в испуге вскочила, рассыпав камешки по веранде. Моя сестра еще ничего не знала о камере пыток – я старалась оградить ее от этого, – но сыновья Смитов рассудили по-своему. Они объяснили ей, что услышанные звуки – вопли раба, которого секли кнутом, и в жутких подробностях описали наказание. Руки раба с помощью блоков поднимали над головой, а ноги приковывали цепями к опоре. Мальчики поведали и о других ужасах – отрезанных ушах, выбитых зубах, ошейниках с шипами и некоем хитроумном изобретении в виде птичьей клетки, надеваемой на голову раба.
Я обещала Нине, что ей не придется туда возвращаться. Но теперь, когда карьера отца под угрозой, мать не погнушалась использовать семилетнюю девочку для укрепления связей с политически могущественными Смитами.
Вскоре после отъезда Нины начался ливень, на пару с приливом он быстро превратил улицы в каналы, полные грязи. Днем шторм разбушевался над морем, и мое терпение лопнуло. Надев старую черную шляпу Мэри с вуалью, я выскользнула в заднюю дверь с намерением во что бы то ни стало привезти домой сестру.
В конюшне Сейба не было, только Гудис, которому я доверяла больше.
– Я лишь лакей и не должен править экипажем, – испугался он.
С большим трудом я убедила его в безотлагательности поездки, и мы отправились в новом кабриолете.
В тот день город гудел разговорами о космическом явлении – потоке комет, как говорили. Даже разумные люди вроде отца и Томаса твердили об апокалипсисе, но я-то знала, что в салонах Чарльстона с бо`льшим жаром, чем конец света, обсуждается мой скандал с Берком. Я надеялась, что меня не узнают в шляпке Мэри и в новом, не примелькавшемся еще кабриолете с поднятым верхом. При некотором везении мать никогда не заподозрила бы, что я вырвалась из заточения.
Беспокоясь за Нину, я закрыла глаза и представила, что держу ее в объятиях. Вдруг экипаж толкнуло, и он резко остановился на Каминг-стрит, правое колесо застряло в глубокой луже.
Гудис стегал лошадь кнутом, потом спустился, потянул за уздечку и хомут. Норовистая кобыла откинула голову и отшагнула назад, отчего экипаж сел еще глубже. Я услышала, как Гудис вполголоса ругается.
Он подошел к задку экипажа и налег на него. Экипаж чуть-чуть качнулся вперед, не более того.
– Оставайтесь на месте, мисс, – сказал он мне. – Я схожу за подмогой.
И неуклюже пошел прочь, а я разглядывала улицу. Несмотря на сырость, по улице прогуливались дамы, группами толпились мужчины, негры-разносчики тащили подносы с креветками и корзины французских булочек с кокосом. Я нервно подняла руку, ощупала вуаль на лице и с удивлением заметила Шарлотту, идущую в сторону Булл-стрит.
Она прокладывала себе путь, как канатоходец, по узкой полоске травы, тянущейся вдоль кирпичной стены. На ее лоб была надвинута красная косынка, в руках – корзина, набитая одеждой. Меня Шарлотта не замечала, как и нарядную белую женщину, которая по той же узкой кромке травы шла ей навстречу. Одной из них пришлось бы вернуться по своим же следам к месту, где начиналась кирпичная стена, или дать дорогу, отступив на грязную проезжую часть. Подобные конфликты случались на улицах столь часто, что было принято муниципальное постановление, предписывающее рабам уступать. Окажись на месте Шарлотты другая рабыня – Бина, Тетка, Синди или даже Подарочек, – и я бы не беспокоилась, но Шарлотта!
Женщины замерли в двух шагах друг от друга. Белая подняла зонтик и постучала Шарлотту по руке. «Отойди. Прочь с дороги».
Шарлотта не шелохнулась. Она как будто окаменела. Зонтик женщины снова уперся в нее. Кыш, кыш.
Началась перепалка. Голоса спорщиц звенели, переходя на визг, слов не разобрать. Я в панике осматривалась в поисках Гудиса.
На середину улицы выехал на лошади мужчина в форме городского стражника.
– Отойди в сторону, негритянка! – рявкнул он.
Затем слез с лошади и передал поводья какому-то мальчишке, тащившему тележку.
Не успел он подойти к спорщицам, как Шарлотта замахнулась корзиной, из которой посыпались капоры, и ударила женщину по плечу, отчего та отлетела в сторону. Грязь на улице была вязкой, как пудинг, и по цвету напоминала тапиоку. Когда нарядная леди приземлилась, от нее в обе стороны пошли небольшие волны.
Я выпрыгнула из кабриолета и, не имея представления, что делать, побежала к ним. Стражник, призвав на помощь еще одного человека, схватил Шарлотту за руки. Они волокли ее по улице, а она плевалась и царапалась.
Я следила за ними всю дорогу до Бофейна, где мужчины отобрали у кого-то повозку и затолкали Шарлотту внутрь, заставив лечь на живот. Стражник уселся на нее сверху. Кучер взялся за вожжи, лошади рванули с места, а я осталась стоять, обрызганная липкой грязью с дороги.
Я успела только откинуть вуаль и выкрикнуть ее имя:
– Шарлотта!
Она услышала. И, не издав ни звука, смотрела на меня, пока повозка не укатила прочь.
Подарочек
Матушка исчезла через два дня после ночи падающих звезд.
Мы стояли на рабочем дворе около задних ворот. Голову матушка повязала красным шарфом, нарядилась в платье цвета индиго и аккуратно отглаженный фартук. Она смазала губы маслом и украсила руки браслетами из ракушек каури, одолженными у Бины. Кожа ее при солнечном свете казалась золотистой, а глаза сияли, как речные камушки. Такой я вижу ее во снах. Почти счастливой.
Она в спешке приколола жетон раба. Ей разрешили отнести заказчикам новые капоры, но я знала: она собирается навестить этого человека, мистера Визи.
– Проверь, чтобы жетон был хорошо приколот, – напомнила я.
Матушка не выносила моей чрезмерной заботы.
– Все в порядке, Подарочек. Никуда он не денется.
– А что с твоим мешочком?
Я наполняла наши мешочки свежей корой и листьями дерева и хотела, чтобы мама носила свой – ведь ей так нужна защита от бед. Она выудила мешочек из-под платья. Ее пальцы были в угольном порошке, которым она пользовалась для разметки выкроек капоров.
Мне хотелось сказать матушке и многое другое. «Почему ты надела столь красивое платье, когда кругом грязь? Когда скажешь мне о ребенке? Теперь придется покупать свободу для троих?» Но я откладывала все это на потом.
Я дождалась, пока Томфри не откроет задние ворота и не выпустит ее. Выйдя в переулок, она обернулась, посмотрела на меня и пошла дальше.
* * *
Проводив матушку, я занялась обычными делами. Вырезала рукава и воротники для рабочих рубашек рабов, занималась ширмами для столиков с умывальными принадлежностями – это такие полотнища ткани, которые крепятся над столиками. Ибо, как говорила госпожа, Бог не допустит, чтобы на стену попадала вода. И каждую ширму приходилось вышивать.
Вечером я пошла в уборную. Солнце стояло еще высоко, и небо было василькового цвета. В кухонном корпусе Тетка запекала целые яблоки в заварном креме – мы называли это блюдо пудингом «птичье гнездо», – и в воздухе вкусно пахло. Вдыхая восхитительный аромат, я возвращалась в дом, и тут в ворота влетел экипаж с Сарой и Ниной. Обе – перепуганные. А на козлах сидел Гудис. Экипаж остановился, Сара и Нина выскочили из него и, молча пробежав мимо меня, бросились в дом. Серая дорожная пелерина, которую я сшила для Нины, развевалась у нее за спиной, как крыло голубя.
Гудис посмотрел на меня долгим жалостливым взглядом и повел лошадь в конюшню.
На землю легли длинные тени, я уселась на ступеньках крыльца кухонного корпуса в ожидании мамы. Вместе со мной нес вахту и Гудис, он сидел на другом конце двора у дверей конюшни и вырезал что-то из дерева. Он знал нечто, мне неизвестное.
В воздухе еще чувствовался аромат запеченных яблок, когда Тетка с Фиби закончили уборку и задули лампы. Стемнело, а луны не было.
Вскоре меня разыскала Сара и села рядом на ступеньках.
– …Подарочек, – начала она, – я хочу сама все тебе рассказать.
– Про матушку, да?
– Она поспорила с белой леди… Эта леди хотела, чтобы Шарлотта уступила дорогу, ткнула твою маму зонтиком, и… ты ведь знаешь свою мать – она не отошла. Она… она ударила леди. – Сара вздохнула и взяла меня за руку. – Там был городской стражник. Ее увезли.
Я ждала, когда Сара скажет, что матушка умерла. Но сейчас ко мне вернулась надежда.
– Где она?
Сара взглянула на меня:
– …Это я и пытаюсь выяснить… Мы не знаем, где она. Ее везли в караулку, но, когда Томас поехал туда, чтобы заплатить штраф, ему сказали, что Шарлотте удалось вырваться… Она сбежала… Сказали, что стражник погнался за ней, но потерял в переулках. Они и сейчас ее разыскивают.
Я различала в тишине дыхание Сары, Гудиса на другом конце двора, лошадей в конюшне, каких-то существ в густом кустарнике, белых людей, спящих на пуховых перинах, рабов – на тонких подстилках. Дышали все, кроме меня.
Сара спустилась со мной в подвал.
– Хочешь горячего чая? – предложила она. – Могу налить туда бренди.
Я покачала головой. Она порывалась обнять меня, но сдержалась и лишь ласково положила ладонь мне на плечо со словами:
– Она вернется.
Я твердила эти слова всю ночь напролет.
Я не знала, как жить в этом мире без нее.
Сара
Исчезновение Шарлотты несло в себе жестокое и страшное милосердие, ибо за последние недели после предательства Берка я не раз задумывалась: что из двух событий настоящая трагедия?
Кто-то – мама, отец, быть может, Томас – поместили в «Чарльстон меркьюри» объявление.
ПРОПАЛА РАБЫНЯ
Мулатка. Редкие верхние передние зубы. Иногда хромает. Отзывается на имя Шарлотта. Одета в темно-синее платье и красный шарф. Опытная швея. Принадлежит судье Джону Гримке. Солидное вознаграждение за возвращение.
Ответа на объявление не последовало.
Каждый день я наблюдала из заднего окна своей комнаты, как Подарочек ходит кругами по рабочему двору. Иногда она бродила целое утро. Никогда не меняла пути, начинала от задней части дома, шла к кухонному корпусу, мимо прачечной, потом к дубу, прикасалась рукой к стволу и возвращалась к дому мимо конюшни и каретного сарая. Дойдя до ступеней крыльца, начинала заново. Это было какое-то педантично-ритуальное круговращение скорби, в которое никто не вмешивался. Даже моя мать не препятствовала странному хождению по двору.
Я не слишком печалилась о том, что потеряла Берка и что свадьба расстроилась. Не странно ли это? Да, я выплакала море слез, но в основном от стыда.
Я больше не нарушала своего затворничества. Напротив, нашла в нем прибежище.
Почти ежедневно я получала записки с цветистыми изъявлениями сочувствия. За меня молились все кому не лень. Надеялись, что моя репутация не слишком пострадает. Известно ли мне, что Берк уехал из города и, говорят, живет у дяди в Колумбии? Разве не ужасно, что его мать разбил паралич? Как поживает моя мать? Без меня на чаепитии было скучно, но мое затворничество одобряют. Не стоит отчаиваться, наверняка найдется молодой человек, которого не оттолкнет мой позор.
Я заполняла свой дневник напыщенными тирадами и жалобами, потом вырывала страницы и сжигала их со всеми высокопарностями. Постепенно страсти утихли, и осталась лишь молодая женщина с загубленной жизнью. В отличие от Подарочка, я не имела представления, по какой тропинке идти.
* * *
Прошел месяц после исчезновения Шарлотты, пронизывающий ветер сорвал с дуба почти все листья. Подарочек продолжала одержимо вышагивать каждое утро, но делала лишь один круг. Неделей раньше моя мать запретила ей ходить по двору и велела приступать к своим обязанностям. Предстоял насыщенный светский сезон, а значит, нужны новые наряды, и все шитье теперь лежало на Подарочке. Шарлотты не было. Никто не верил, что она вернется.
Мне удалось растянуть три недели затворничества на четыре, но вот моя передышка закончилась. Мать велела и мне вернуться к своим обязанностям, то есть к добыванию мужа. Она поведала, что гребную шлюпку в Атлантике может спасти проходящий мимо корабль, но только если шлюпка сумеет обратить на себя внимание, – неуклюжая метафора описывала мои перспективы на брак. Сестра Мэри подбодрила меня примерно в тех же выражениях:
– Выше голову, Сара. Держись так, будто ничего не случилось. Старайся быть веселой и уверенной в себе. Ты найдешь мужа. Если будет на то воля Божья.
«Если будет на то воля Божья». Какими странными кажутся мне сейчас эти слова.
В вечер завершившегося затворничества я показалась на публике, посетив проповедь известного священника, преподобного Генри Коллака, во Второй пресвитерианской церкви. Это были не те воды, о которых говорила моя мать. Епископальная церковь еще могла сойти за светское общество, но уж никак не пресвитерианская с ее религиозным возрождением и криками о покаянии, но мать не возражала. По крайней мере, я гребла в шлюпке, не так ли?
Я сидела на скамье рядом с пригласившей меня набожной подругой и поначалу почти не слушала. Слова – грех, моральная деградация, кара – пролетали мимо сознания, но в какой-то момент нечто привлекло мое внимание.
Глаза его преподобия остановились на мне – не могу объяснить почему. Заговорив, он продолжал смотреть на меня.
– Разве вам не противно оттого, каким ветреным существом вы стали? Не унизительно осознание собственной безрассудности, не устали еще от балов с их раззолоченными игрушками? Не следует ли отказаться от суеты и развлечений этой жизни ради спасения души?
Я чувствовала, что он говорит именно со мной. В этом было нечто сверхъестественное. Откуда мог он знать мои мысли и чувства? Как понял, что именно в тот момент я смогла увидеть себя самое?
– Господь взывает к тебе, – произнес он. – Господь, возлюбленный твой, умоляет дать ответ.
Эти слова привели меня в восторг. Казалось, они пробили брешь в извечной фальши. Я, потрясенная, тихо сидела на скамье. Преподобный Коллак теперь не выказывал ко мне пристального внимания, а может, этого внимания и не было, не важно. Он стал гласом Господа. Подвел меня к краю пропасти, и мне надлежало сделать выбор между смирением и разнузданностью.
Пока его преподобие долго и горячо молился за наши души, я приняла решение. Поклялась, что не вернусь в свет. И замуж не выйду. Никогда не выйду замуж. Пусть говорят что угодно. Я посвящу себя Богу.
* * *
Две недели спустя, в день своего двадцатилетия, я в сопровождении Нины вошла в гостиную, где собралась вся семья, чтобы высказать мне добрые пожелания. Увидев меня в самом простом платье и без украшений, Мэри грустно улыбнулась, словно на мне было одеяние монахини. Видимо, мама рассказала сестрам, а также отцу и братьям о моем обращении к Богу.
Тетка испекла мой любимый десерт – двухслойный пирог с коринкой и сахаром. Его замешивали на доске, клали дрожжи и оставляли подходить. Этот пирог поднялся замечательно! Нина нетерпеливо скакала около него, и наконец мама дала сигнал Тетке разрезать вкуснятину.
Отец что-то обсуждал с моими братьями. По обрывкам разговора я поняла, что Томас разгневал собеседников, поощряя программу, известную как колонизация. Из того, что я уловила, этот термин имел мало общего с британскими завоеваниями прошлого столетия и всем, что связано с рабами.
– …В чем заключается твоя концепция? – спросила я.
Они воззрились на меня, как на муху, пролезшую через щель в ставне и надоедливо жужжавшую около.
– Это новая передовая идея, – ответил Томас. – Вопреки вашим представлениям она скоро превратится в национальное движение. Попомните мои слова.
– Но что это? – спросила я.
– Нам предлагают освободить рабов и отослать их обратно в Африку.
Я оказалась не готова к такому радикальному проекту.
– …Как, но это абсурдно!
Моя реакция застала их врасплох. Даже Генри и Чарльз, тринадцати и двенадцати лет, в изумлении уставились на меня.
– Храни нас Господь, – произнес Джон. – Сара против!
Он решил, что я переросла мятежные настроения и стала, как все, поборником рабства. Я не винила его. Когда в последний раз кто-то из них слышал мои высказывания против рабства? Я долго жила во власти любовных чар, испытав на себе худшую напасть для женщины – тягостное ожидание.
Джон захихикал. В камине бушевал огонь, и ярко освещенное лицо отца покрылось испариной. Он вытер лицо и тоже рассмеялся.
– Да, я действительно против колонизации, – начала я. Речь моя лилась без запинки, и я заставила себя продолжать: – Я против, но не по той причине, о которой вы думаете. Мы должны освободить рабов и оставить их здесь. Как равных нам.
Возникла странная пауза. Среди набожных женщин уже давно ходили разговоры, взывающие к христианскому состраданию к рабам. Время от времени какая-нибудь сердобольная душа заговаривала о полном освобождении рабов. Но равенство – нет, это нелепость!
Согласно закону, раб считался человеком на три пятых. Я вдруг осознала, что мое предложение равносильно тому, чтобы объявить овощи равными животным, животных равными человеку, женщин равными мужчинам, а мужчин равными ангелам. Я опрокидывала вверх тормашками порядок мироздания. Самое удивительное, что мысли о равенстве пришли мне в голову впервые, и я могла приписать их только Богу, к которому в последнее время часто обращалась и который представлялся мне скорее бунтарским, чем законопослушным.
– Боже правый, неужели ты нахваталась этого от пресвитериан? – спросил отец. – Это они говорят, что рабы должны жить среди нас как равные?
Вопрос звучал саркастически и был адресован моим братьям, но все же ответила я сама.
– Нет, отец, это говорю я.
Пока я рассуждала, перед глазами пронеслась вереница картин, и в каждой из них была Подарочек. Вон она – малютка с сиреневым бантиком на шее. Вот – наполняет дымом весь дом. Учится читать. Прихлебывает чай, сидя на крыше. Я вижу, как ее стегают плетью. Как она обматывает дуб украденной ниткой. Купается в медной ванне. Шьет изумительные вещи. Ходит кругами как потерянная. Я увидела все в истинном свете.
Подарочек
Матушка пропала. Это так же очевидно, как и то, что я сижу здесь. Мне остается только наворачивать круги по двору, пытаясь унять печаль. По правде, можно стереть ноги до волдырей, вышагивать до второго пришествия, но так и не перегнать свое горе. Пришел декабрь, и я прекратила хождение. Я задержалась у поленницы, где мы давным-давно кормили совенка.
– Черт тебя побери, если ты спаслась! Как же ты могла оставить меня с моей любовью и ненавистью к тебе! Это меня убьет, и ты знаешь, что так оно и есть.
Потом я повернулась, пошла в подвальную комнату и взялась за шитье.
Не думайте, что я могла сделать хоть один стежок, не вспоминая о ней. Она была в ветре, дожде и скрипе кресла-качалки. Она сидела на ограде с птицами и смотрела на меня. Когда приходила темнота, матушка являлась вместе с ней.
Однажды, незадолго до Рождества, я взглянула на деревянный сундучок на полу, засунутый за мамин мешок из рогожи.
– И куда ты подевала ключ?
Я все время с ней разговаривала. Но, честное слово, не слышала, чтобы она отвечала, так что я не свихнулась. Я перевернула комнату вверх дном, ключа нигде не было. Вряд ли он остался у нее в кармане в день, когда она ушла и не вернулась. У нас в сарае хранился топор, но мне совсем не хотелось раскалывать сундучок.
– Будь я на твоем месте, – стала рассуждать я, – куда бы спрятала ключ от сундучка с самыми ценными вещами?
Я с минуту постояла на месте. Потом подняла глаза к потолку. К раме для лоскутных одеял. Колесики шкива недавно смазали маслом. Они не заскрипели, когда я опустила раму.
«Наверняка».
Ключ лежал в канавке, проходящей вдоль одной из досок.
В сундучке я нашла пухлую пачку, завернутую в муслин. Отогнула край и учуяла мамин запах, этот солоноватый запах. Я не удержалась и всплакнула, прижала к себе лоскуты, вспоминая, как матушка говорила, что они – мясо на ее костях.
Всего там было десять больших квадратов. Я разложила их на раме. Цвета, которыми пользовалась матушка, превзошли Бога и радугу. Красный, фиолетовый, оранжевый, розовый, желтый, черный и коричневый. Они больше подействовали на мой слух, чем на зрение, звучали так, словно она смеялась и плакала одновременно. Это была самая замечательная работа, вышедшая из-под пальцев матушки.
На первом квадрате изображалась ее мама в детстве, она держала за руки своих маму и папу, и вокруг падали звезды. Это была ночь, когда бабушку продали в рабство и когда началась вся история.
Дальше шла какая-то мешанина. Некоторые лоскуты я могла разгадать, другие нет. На одном женщина с красным шарфом на голове мотыжила землю в поле – думаю, это моя бабушка, – а среди растущих побегов лежал младенец, моя матушка. Над их головами по воздуху летали рабы и исчезали за солнечным диском.
На следующем оказалась маленькая девочка, сидящая на трехногом табурете и пришивающая аппликации на одеяло – красное с черными треугольниками. Некоторые треугольники рассыпаны по полу.
– Наверное, это ты, а может быть, и я, – пробормотала я.
На четвертом было дерево духов с обмотанной вокруг ствола красной нитью, на ветках его сидели стервятники. Матушка изобразила лежащих на земле женщину и маленького мальчика. Я решила, что это моя бабушка и ее сын. Оба были мертвы и запятнаны кровью. После этой картинки мне пришлось прогуляться на свежем воздухе. Ты выходишь из чрева своей матери, едва ли не до двадцати лет спишь с ней в одной постели и все же не знаешь, что скрывается в темных уголках ее души.
Я вернулась в дом и стала рассматривать следующую картинку – мужчину на плантации. У него была коричневая шляпа, а с неба смотрело множество глаз, примостившихся на облаках, – больших желтых глаз, из которых капал красный дождь. «Мой дед Шенни», – сказала я себе.
На другой картинке я увидела маму и девочку-младенца, распростертых на раме для одеял. Понятно, что эта девочка – я. Наши тела были разрезаны на кусочки – яркие лоскутки, которые следовало соединить. При взгляде на них у меня закружилась голова.
На новом квадрате матушка шьет потрясающее фиолетовое платье с лунами и звездами. Только делает это она в мышиной норке с нависающими сводами.
Я переходила от картинки к картинке, будто переворачивая страницы книги, которую она оставила после себя и в которой заключены ее последние слова. Через какое-то время я перестала что-либо чувствовать – так бывает, когда неловко подвернешь руку во сне и она онемеет. Теперь я смотрела на аппликации, над которыми матушка трудилась два года, так, словно они не имели ко мне отношения, и было легче. Я представила себе, что они парят в воздухе, как освещенные окна.
А вот мама стоит во дворе с подогнутой ногой и привязанным к ней ремнем. Так ее наказывали. Еще одно дерево духов, наше с матушкой, и на нем нет стервятников, лишь зеленые листья. Под деревом девочка с книгой, и ей на спину опускается кнут.
На последней картинке был изображен мужчина, здоровый как бык, в плотницком фартуке, – мистер Денмарк Визи, – а рядом вышито четыре цифры с него высотой: 1884. Я понятия не имела, что они значат.
Я принялась за шитье. К черту госпожу с ее платьями! Весь день допоздна я сшивала мамины квадраты мелкими, едва видимыми стежками. Потом пришила подкладку и заполнила одеяло лучшей набивкой, какая нашлась, и целой коллекцией собранных перьев. После чего взяла ножницы и постриглась налысо, оставив на голове только пушок. Остриженные волосы я затолкала в набивку.
И только тогда вспомнила о деньгах – сбережениях за восемь лет. Я заглянула в сундучок – он был пуст. Четыреста долларов исчезли, как и сама матушка. Где я только их не искала! Дух занимался от тоски.
* * *
На следующий день, немного поспав, я сметала слои лоскутного одеяла. Потом завернулась в него, будто в плащ победителя, и вышла во двор, где тепло укутанная Тетка толкла тростниковый сахар.
– Девочка, что это на тебе? – удивилась она. – И что ты сделала со своей головой?
Я ничего не ответила. Вдыхая холодный воздух, подошла к дереву и обмотала вокруг ствола новую нитку.
В небе послышался шум. Над головой пролетали вороны, им навстречу поднимался дым из труб.
– Вот и вы, – сказала я. – Летите, летите.
Часть третья Октябрь 1818 – ноябрь 1820
Подарочек
Порою я шла по Ист-Бей и вдруг краем глаза замечала женщину со светло-коричневой кожей и красным шарфом на голове. Она исчезала за углом, а я говорила: «Это опять ты». Мне было двадцать пять, а я продолжала разговаривать с ней.
Каждый октябрь, в день исчезновения матушки, мы, рабы, собирались в кухонном корпусе и вспоминали о ней. Невыносимо было ждать этого дня.
В день шестилетней годовщины Бина похлопала меня по ноге со словами:
– Твоей матушки нет, но мы еще здесь, и небеса пока не упали.
Да, не упали, но каждый год из-под них выбивалась очередная подпорка.
В тот вечер мы задержались после ужина, вороша истории про матушку. Как она украла отрез зеленой ткани. Как дурачила госпожу хромотой. Как отстояла комнату в подвале. Нанималась работать на сторону. Томфри рассказал о случае, когда госпожа заставила его искать матушку по всей усадьбе, а мы отвели ее на крышу и сочинили историю, будто она там заснула. Все те же старые байки. Тот же смех и хлопки.
Теперь, когда ее не было, все полюбили ее намного сильнее.
– У тебя точно ее глаза, – сказал Гудис, повернув ко мне круглое лицо.
Глаза ее, но остальное я взяла от папы. Мама говорила, он был мелкий и чернее обратной стороны луны.
Ради меня никто не рассказывал историй о матушкиных страданиях и печали. Никаких предположений о том, что с ней могло произойти. Все и каждый, даже Гудис, верили, что она сбежала и жила где-то прекрасной свободной жизнью. Я бы скорей поверила, что она все это время спала на крыше.
А день за окном угасал. Томфри сказал, что пора зажигать лампы в доме, но никто не шевельнулся. Я чувствовала: они жаждут узнать настоящую матушку – не пронырливую мулатку, а женщину, которая подолгу гладила вещи, изнемогая от жары, не спала ночи напролет и молилась о моей бабушке. За день матушка переживала больше страстей, чем другие рабы за год. Она работала не покладая рук и в поисках лучшей доли постоянно рисковала. Я хотела, чтобы они узнали эту женщину. Такую, которая не бросила бы меня.
– Она не сбежала, – сказала я. – Думайте что хотите, но она не сбежала.
Они сидели и смотрели на меня. Я чувствовала, как в их головах поворачиваются крошечные колесики: «Бедная обманутая девочка, бедная обманутая девочка».
Заговорил Томфри:
– Подарочек, подумай. Если не сбежала, значит ее нет в живых. Во что нам верить, по-твоему?
Прежде никто из них не говорил мне об этом прямо. На мамином одеяле с преданиями изображались летящие по небу рабы и мертвые рабы, лежащие на земле. По моему разумению, матушка затерялась где-то между улетевшими и умершими.
«Во что верить?» Воздух звенел от напряжения.
– Ни во что, – отрезала я, встала и ушла.
В комнате я легла на кровать, поверх одеяла с преданиями, и уставилась на раму, по-прежнему прикрепленную к потолку. Я больше ее не опускала, но каждую ночь, кроме лета и жаркой осени, спала под мамиными преданиями и знала эти истории вдоль и поперек. Матушкины аппликации рассказывали, откуда она прибыла, кем была, что любила, из-за чего страдала и на что надеялась. Она придумала способ все это поведать.
Через некоторое время я услышала наверху шаги – Томфри, Синди и Бина зажигали лампы. Мне больше не надо заботиться о Сариных лампах. Я занималась исключительно шитьем. Не так давно Сара вернула меня госпоже – официально, на бумаге. Сказала, что не желает иметь ничего общего с рабовладением. Она специально пришла в мою комнату, чтобы сообщить мне об этом, но была так взвинчена, что с трудом выдавливала из себя слова.
– …Я бы освободила тебя, если бы могла… но есть закон… Он не разрешает владельцам легко освобождать рабов… Иначе я бы… Ты ведь знаешь… Правда?
После этих слов мне стало яснее ясного: чтобы освободиться от госпожи, нужно умереть, быть проданной или найти убежище матушки. Временами я грезила о деньгах, накопленных матушкой, но так и не нашла их. Отыскав это состояние, я бы попыталась купить у госпожи свободу, как мы и планировали. По крайней мере, у меня был бы шанс, пусть слабый, но он придал бы мне силы.
Шесть лет прошло. Я перекатилась на кровати лицом к окну.
– Матушка, что с тобой стряслось?
* * *
Приближался Новый год, и я отправилась на рынок с поручением от Тетки. Там я услышала, как один раб, работающий на мясника, рассказывал об африканской церкви. Этого доброго человека звали Джесс. Он, бывало, приносил детям свиные пузыри и наполнял их водой. Обычно я не обращала на него внимания – он все время молол языком, вставляя в конце каждой фразы «Славьте Господа», но в тот день, не знаю почему, подошла ближе и прислушалась.
Тетка приказывала скорей возвращаться – ожидался мокрый снег, но, несмотря на промозглую погоду, я стояла и слушала разговоры о церкви. Я узнала, что ее правильное название – Африканская методистская епископальная церковь. Она объединяла цветных, рабов и свободных чернокожих, которые собирались в помещении склада для гробов рядом с кладбищем для чернокожих. Джесс говорил, каждый вечер склад забивался под завязку.
Стоящий рядом со мной раб, одетый в поношенную ливрею, хмыкнул:
– С каких это пор городские власти так поглупели, что разрешают рабам приходить в собственную церковь?
Все засмеялись над этой шуткой про Чарльстон.
– Разве это не правда? – продолжал Джесс. – Славьте Господа. В церкви есть человек, который всегда рассказывает о том, как Моисей вывел рабов из Египта, молитесь Господу. Он говорит, Чарльстон стал Египтом. Славьте Господа.
У меня волосы встали дыбом.
– Как зовут этого человека?
– Денмарк Визи, – ответил Джесс.
Несколько лет подряд я отказывалась думать о мистере Визи и о том, что матушка изобразила его на последнем квадрате. Мне не нравилось, что этот мужчина оказался на одеяле с преданиями, мне вообще не нравилось все, что с ним связано. И вряд ли он знает что-нибудь о ней – откуда? Но сейчас, при воспоминании о нем, мне пришла в голову одна идея… И пожалуй, она не лишена смысла. Может, хоть так я смогу наконец отпустить матушку?
Я решила обратиться к религии.
При первой же возможности сказала Саре, что ощущаю потребность в спасении и что Бог призывает меня в африканскую церковь. Даже приложила платок к глазам.
Все-таки мы с матушкой одним миром мазаны.
На следующий день госпожа позвала меня к себе в комнату. Она сидела у окна с раскрытой Библией.
– До меня дошли слухи, что ты намерена вступить в новую церковь, организованную в городе для людей твоей расы. Сара сказала, ты хочешь посещать вечерние собрания. Я позволю тебе ходить туда дважды в неделю по вечерам и в воскресенье, если это не помешает работе. Сара подготовит пропуск. – Она взглянула на меня через очки. – Постарайся не упустить возможность, которую я тебе предоставляю.
– Да, мэм. – И добавила: – Славьте Господа.
Сара
Нас с Ниной призвали в гостиную на первом этаже. К чему бы это? Я терялась в догадках, понимала только, что ничего хорошего нас не ждет. Войдя, мы увидели дородного преподобного Гадсдена, сидящего на канапе, обитом желтым шелком. Рядом примостилась мать, она с такой силой вцепилась в трость, словно собиралась ввинтить ее в пол. Взглянув на Нину, которая в свои четырнадцать была выше меня, я заметила, как сверкнули ее глаза под густыми темными ресницами. Она вздернула подбородок, и мне на миг стало жаль его преподобия.
– Закройте за собой дверь, – сказала мама.
Дальше по коридору находилась комната отца, который уже давно болел. Доктор Геддингс рекомендовал ему покой. Несколько недель кряду рабы ходили на цыпочках, разговаривали шепотом и под страхом смерти старались не греметь подносами. Если врач вместо лекарства прописывает покой и сироп из корня хрена, он признается в своем бессилии.
Я уселась рядом с Ниной на канапе напротив матери и священника. Меня в очередной раз собирались журить за плохое исполнение обязанностей Нининой крестной.
В прошлое воскресенье моя сестра отказалась проходить конфирмацию в церкви Святого Филипа. Дело было даже не в самом отказе, а в спектакле, который она из него устроила. Когда все подростки встали со стульев, стоящих на возвышении, и подошли к ограждению алтаря, чтобы епископ возложил руки на их милые головки, Нина демонстративно осталась на месте. Там была вся наша семья, кроме отца, и я со смешанным чувством смущения и гордости смотрела, как сестра сидит со сложенными на коленях руками, как мерцают рассыпанные по плечам темные волосы и на каждой щеке рдеет маленькое пятнышко.
Епископ подошел к ней, что-то сказал, она покачала головой. Мать рядом со мной словно окаменела. Казалось, над нашими головами сгущается воздух. Уговоры епископа не возымели действия, и он продолжил службу.
Я не представляла, что она задумала подобное, хотя, пожалуй, должна была догадаться – ведь, в конце концов, это Нина. Ее мнение отличалось категоричностью, а действия – бунтарством. Прошлой зимой она шокировала свой класс, сняв туфли, потому что мальчик-раб, вытиравший грифельные доски, был босым. Я потеряла счет письмам с извинениями, которые мать заставляла ее писать. Не желая подчиняться, Нина могла несколько дней кряду просидеть над чистым листом, пока мать наконец не сдавалась. В день своего одиннадцатилетия Нина с такой горячностью отказывалась от подаренной рабыни, что мама, потеряв терпение, уступила.
Попытайся я не допустить в тот день Нининой демонстрации в церкви, она бы припомнила мне, что и я в свое время отвергла Англиканскую церковь. Да, так и было, но я сделала это ради пресвитериан, а Нина бы и их отвергла. Она ненавидела их «за желчь и горечь».
Религия – единственное, в чем мы с сестрой расходились.
Последние несколько лет моя жизнь качалась, словно маятник, между аскетизмом и потворством своим желаниям. После истории с Берком Уильямсом я избегала общества – это верно, – но, будучи вечной отступницей, каждый сезон соблазнялась каким-нибудь приемом или балом. Выходила оттуда опустошенная, полная отвращения и вновь обращалась к Богу. Нина часто заставала меня на коленях, когда я, застигнутая приступом самоуничижения, молилась и, обливаясь слезами, выпрашивала у Бога прощение.
– Зачем ты так? – кричала она порой.
Действительно, зачем?
Если можно так выразиться, Чарльстон стряхнул мистера Уильямса с коленей, как испачканную салфетку. Он женился на своей кузине и открыл лавку в магазине мануфактуры, которым владел его дядя в городе Колумбии. Я давно забыла о нем, гораздо сложнее примириться с мыслью, что мне придется до конца дней жить в этом доме. У меня была Нина, но с ее обаянием и красотой она не задержится здесь надолго. К ней начнут свататься толпы поклонников, и очень скоро я останусь здесь с матерью. Осознание этого заставляло меня отступать от принципов. С другой стороны, в двадцать шесть я была старовата для наступающего сезона. Все кончено, и я ощущала себя потерянной и несчастной, раздраженной и разочарованной, и с этим ничего не поделаешь.
Здесь, в нашей гостиной, преподобному Гадсдену было не по себе. Он все время сжимал и разжимал губы. Нина сидела рядом со мной, выпрямившись, словно говоря: «Ладно, начинайте вашу экзекуцию», но незаметно взяла меня за руку.
– Я пришел, потому что твоя мать попросила меня поговорить с тобой. Вчера ты ошеломила всех нас. Весьма опрометчиво отвергать Церковь с ее таинствами и спасением души…
Он продолжал разглагольствовать, а Нина все сильней сжимала мою ладонь.
Она чувствовала мою боль, а я ощущала ее. Эта юная душа была уже в чем-то надломлена. Вопли из работного дома, услышанные когда-то, не отпускали ее. Иногда она с криком просыпалась по ночам. Да, Нина устроила немыслимый спектакль, но я знала, как она уязвима. После строгих выговоров матери Нина часами сидела в своей комнате и появлялась с красными от слез глазами.
Временами от меня ускользал смысл сердечной, но утомительной речи его преподобия.
– Должен заметить, – услышала я его слова, – что ты подвергаешь свою душу опасности.
Тогда Нина заговорила:
– Простите, ваше преподобие, но даже угроза ада не поколеблет меня.
Мать прикрыла глаза:
– О, Ангелина, ради всего святого!
Нина произнесла слово «ад», слегка шокировав даже меня. Пастор в изнеможении откинулся на спинку канапе. С него было довольно.
Но мама, естественно, не успокоилась:
– Твой отец тяжело болен. Ты, конечно, знаешь: он хочет, чтобы ты прошла конфирмацию в церкви. Это, возможно, его последняя воля. Неужели ты в этом ему откажешь?
Нина сжала мою руку, стараясь быть верной себе.
– …Поступить не по совести или отказать отцу? – встряла я.
Мать подалась назад, словно я ударила ее.
– Ты намерена поощрять неповиновение сестры?
– Я поощряю ее следовать велениям совести.
– Совести? – Шея матери покрылась пятнами. Она повернулась к пастырю. – Как видите, Ангелина всецело под влиянием Сары. Что думает Сара, то же думает и Ангелина. Если Сара в чем-то сомневается, ее сестра за ней повторяет. Это моя вина – я выбрала Сару крестной, и по сей день она сбивает ребенка с пути истинного.
– Мама! – воскликнула Нина. – Я сама думаю за себя.
Мать перевела спокойный безжалостный взгляд с пастора на Нину и задала вопрос, который всегда будет лежать между нами:
– Чтобы не запутаться, уточни: когда ты сейчас сказала «мама», имела в виду меня или Сару? – Пастор заерзал и потянулся за шляпой, но мать продолжала: – Как я уже сказала, ваше преподобие, я просто не знаю, как уменьшить нанесенный вред. Пока обе живут под одной крышей, для Ангелины надежды нет.
Мать проводила его преподобие до двери, тем временем пошел сильный ливень. Нина сидела, прильнув ко мне, но я подняла ее на ноги, и мы заспешили вверх по лестнице.
* * *
В комнате я отвернула покрывало, и Нина легла на кровать. Ее лицо на полотняной наволочке казалось странно-застывшим. От дождя стало темно, и она вглядывалась в окно мерцающими глазами. Под моей рукой поднималась и опускалась ее спина.
– Ты думаешь, мама отошлет меня? – спросила она.
– Я этого не допущу, – заверила я сестру.
Правда, если бы мать вознамерилась отослать Нину, я совершенно не представляла, как ей помешать. Непокорную девочку вполне могли отправить в пансион или на плантацию нашего дяди в Северную Каролину.
Подарочек
– Разве Господь не избавил Даниила? – выкрикивал Денмарк Визи.
И вся церковь отвечала:
– Теперь он пришел за мной.
Нас набилось сотни две. Я сидела сзади, на своем обычном месте. Люди оставляли его для меня, говоря:
– Это место Подарочка.
Уже четыре месяца я ходила на проповеди, но ни слова не услышала о матушке, зато узнала больше госпожи о людях, которых избавил Господь.
– Абрам, Моисей, Самсон, Петр, Павел, – выпевал мистер Визи. Все стояли, хлопали в ладоши и выкрикивали, размахивая руками:
– А теперь он придет за мной!
Я стояла в самой гуще народа и подпрыгивала на месте, как в детстве, когда пела про море.
Нашим пастырем был свободный чернокожий по имени Морис Браун. Он говорил, что, когда мы приходим в такое состояние, в нас вселяется Святой Дух. Мистер Визи, один из его четырех помощников, возражал, что это не Святой Дух, а надежда. Что бы это ни было, оно прожигало в груди дыру.
В церкви была ужасная духота. По лицам струился пот, одежда намокла, и мужчины открыли окна. С улицы врывался свежий воздух, а наши голоса вырывались наружу.
Когда мистер Визи перечислил всех людей из Библии, которых освободил Бог, он пошел вдоль скамей, выкрикивая имена.
Пусть Господь избавит Роллу.
Пусть Господь избавит Нэнси.
Пусть Господь избавит Неда.
Если он называл твое имя, тебе казалось, оно улетает прямиком на небеса и попадает к Господу. Пастор Браун говорил: «Будьте осторожны, небеса окажутся такими, какими вы их вообразите». Себе он воображал на небесах Африку до появления рабства: любая еда и желанная свобода – и ни одного белого. Если мама умерла, у нее должен быть большой красивый дом и госпожа в услужении.
А вот мистер Визи не любил разговоров о небесах. Твердил, что так ведут себя трусы: мечтают о будущей жизни, словно сегодняшняя ничего не стоит. В этом я была с ним согласна.
Даже когда я пела и скакала, как сейчас, какая-то часть меня оставалась спокойной, подмечая все, что он говорит и делает. Я была птичкой, которая следит за котом, кружащим около дерева. Теперь волосы мистера Визи местами свалялись в белые комки, но в остальном он выглядел как прежде. Так же хмурился, такими же острыми были его глаза, такими же мощными – руки и такой же необъятной – грудь.
Я так и не собралась с духом поговорить с ним. Люди боялись Денмарка Визи. Я в шутку говорила себе, что в конечном итоге пришла в африканскую церковь за Господом. Так или иначе – что я надеялась узнать о матушке?
Никто не услышал цокота конских копыт. Мистер Визи распевал новый гимн: «Иисус Навин сражался за Иерихон, и стены его обрушились». Главный помощник, галла Джек, бил в барабан, а мы все топали ногами в такт: «Иерихон, Иерихон».
Потом двери с силой распахнулись, и руки галла Джека замерли, песнопение затихло. Мы в замешательстве смотрели по сторонам, а городские стражники встали вдоль стен, в проходе, по одному у каждого окна и четверо – у двери.
Главный стражник, с бумагой в одной руке и мушкетом в другой, вышел вперед.
– Что это значит? – вопросил Денмарк Визи рокочущим басом. – Это дом Господа, и вам тут не место.
Стражник, недолго думая, ударил мистера Визи в лицо прикладом ружья. Минуту назад мистер Визи распевал «Иерихон», а теперь лежал на полу окровавленный.
Послышались крики. Другой стражник стрельнул вверх, на нас посыпались опилки, запахло дымом. В ушах у меня стучало, и когда главный стражник зачитывал ордер, мне казалось, он вещает со дна высохшего колодца. Он сказал, что люди, живущие рядом с церковью, жалуются на нас, обвиняя в нарушении общественного порядка.
После засунул бумагу в карман:
– Вас отведут в караулку, а утром назначат подходящее наказание.
В дальнем конце комнаты зарыдала женщина, повсюду слышалось испуганное бормотание. Мы знали, что такое караулка: в ней держали злоумышленников, белых и черных, пока не решат, что с ними делать. Белые оставались там до слушания дела, а чернокожие – до тех пор, пока владельцы не заплатят штраф. Надо было молиться Богу, чтобы хозяин не оказался скупым, потому что, если он отказывался платить, раба отправляли в работный дом для отработки долга.
На небе светила бледная луна. Нас собрали в четыре гурта и погнали по улице. Какой-то раб запел: «Разве Господь не избавил Даниила?» – но стражник велел ему заткнуться. С этого момента стало тихо, если не считать цоканья лошадиных копыт да хныканья ребенка, которого мать несла на спине. Я вытягивала шею, пытаясь увидеть мистера Визи, но его нигде не было. Потом я заметила на земле свежие темные пятна и поняла, что он идет впереди.
* * *
Мы провели ночь на полу в камере – мужчины и женщины в общей куче, всем приходилось мочиться в одно ведро, стоящее в углу. Какая-то женщина полночи кашляла, а двое мужиков начали тузить друг друга, но в основном все сидели в темноте, задремывая и снова просыпаясь. Один раз я проснулась от плача того же ребенка.
Когда рассвело, стражник с волосами до плеч принес ведро воды с ковшом, и мы по очереди пили, а в животах у нас урчало от голода. Потом мы стали ожидать своей участи. Мужчина из нашей камеры, которого шесть раз забирали в караулку, рассказал нам, что к чему. Штраф – пять долларов, если хозяин не платил, ты получал двенадцать плетей в работном доме или, хуже того, тебя отправляли на колесо-топчак. Я не знала, что это такое, а мужчина не объяснил, сказал только, что надо молить Бога о плети. Потом он приподнял рубашку – его спина вся была в бороздах, как шкура аллигатора. Меня чуть не вытошнило.
– Мой хозяин никогда не платит, – объяснил он.
Утро тянулось вечно, а мы все ждали и ждали. Я думала только о спине этого мужчины и о том, куда подевали побитого мистера Визи. От жары плавился воздух, воняло кислятиной, и снова кричал ребенок. Кто-то спросил:
– Почему бы тебе не покормить ребенка?
– У меня нет молока, – ответила мать.
А другая женщина, с пятнами на платье, сказала:
– Эй, дай мне ребенка. Мой сейчас дома, и молоко пропадает.
Она вытащила коричневую грудь, молоко так и текло из соска, и ребенок вцепился в нее.
Вернулся длинноволосый стражник.
– Слушайте внимательно, – сказал он. – Те, чьи имена я назову, могут идти домой.
Мы все поднялись на ноги. Я твердила себе: «Рабов Гримке никогда не посылали в работный дом. Никогда».
– Сет Бол, Бен Прингл, Тинни Элстон, Джейн Брютон, Аполлон Ратледж…
Он все читал и читал, и вот остались только я, мужчина с рубцами на спине, мать с ребенком и еще горстка людей.
– Если вы все еще здесь, – продолжил стражник, – значит ваши хозяева решили, что работный дом благотворно на вас повлияет.
Какой-то мужчина сказал:
– Я свободный чернокожий, у меня нет хозяина.
– Если у тебя есть документ, можешь сам заплатить штраф, – ответил стражник. – А если заплатить не в состоянии, то вместе с прочими отправишься в работный дом.
Я искренне удивилась:
– Мистер, мистер! Вы не назвали меня. Я Хетти. Хетти Гримке.
В ответ он хлопнул дверью.
* * *
Колесо-топчак хрупало и скрежетало зубами – это было слышно из-за закрытой двери. Человек из работного дома, погоняя палкой, привел двенадцать рабов на верхнюю галерею. За мной шел Денмарк Визи, с разбитым лицом и заплывшим глазом. У него единственного на руках и ногах были кандалы. Он шаркал ногами, и цепь скрежетала и звенела.
Когда он споткнулся на ступенях, я сказала ему через плечо:
– Осторожней. – И прошептала: – Как вышло, что вы не заплатили штраф? Разве у вас нет денег?
– Что бы они ни сделали с остальными, это касается и меня, – ответил он.
Я подумала про себя: «Мистер Визи вообразил себя Иисусом, несущим крест, и, сдается мне, все из-за того, что у него нет с собой пяти долларов на штраф». Впрочем, он мог и добровольно разделить участь товарищей по несчастью. Человек он был заносчивый и гордый, но с добрым сердцем.
Мы поднялись на галерею и посмотрели сверху на ожидавшее нас орудие пытки, после чего, скорчившись, сели на пол.
Надсмотрщик прикрепил цепь мистера Визи к железному кольцу и велел нам внимательно смотреть на колесо, чтобы понять, что надо делать. Мать с малышом за спиной обратилась к надсмотрщику:
– Кто присмотрит за моим ребенком, пока я буду там, внизу?
– Ты думаешь, у нас есть люди, которые будут нянчиться с твоим отпрыском? – бросил он.
Она склонила голову, а ребенок смотрел через ее плечо широко открытыми глазенками. Я отвернулась.
Колесо-топчак представляло собой вращающийся барабан в два человеческих роста, со ступеньками. На него как можно быстрее вскарабкивались двенадцать человек, заставляя колесо вращаться. Люди держались за поручень, он проходил поверху, и к нему привязывались запястья рабов. В мельнице внизу размалывалось зерно. Рядом расхаживали чернокожие надсмотрщики с кнутами из воловьей кожи, и, когда колесо замедлялось, они до крови стегали несчастных людей по спинам и ногам.
Мистер Визи разглядывал меня здоровым глазом:
– Где я мог тебя видеть?
– В нашей церкви.
– Нет, где-то еще.
Я могла бы обрушить на него правду, но мы оба оказались во рве со львами, как Даниил, и Господь покинул нас.
– Где же то спасение, с которым должен прийти Господь? – спросила я.
Он фыркнул:
– Ты права, единственное спасение – то, которое мы сами обретаем для себя. У Бога нет иных рук и ног, помимо наших.
– Это не говорит в пользу Бога.
– В нашу пользу это тоже не говорит.
Внизу зазвенел колокольчик, и челюсти колеса остановились. Надсмотрщики развязали запястья рабов, и те слезли по лестнице на пол. Некоторые были настолько измотаны, что их пришлось оттаскивать.
Надсмотрщик отстегнул мистера Визи от кольца в полу:
– Поднимайся. Твоя очередь.
Сара
Покалеченная нога Подарочка лежала на подушке, а Тетка прикладывала к ране листья подорожника. По запаху, витавшему в воздухе, я определила, что рану обработали поташом и уксусом.
– Пришла мисс Сара, – сказала Тетка.
Голова Подарочка моталась из стороны в сторону, но глаза оставались закрытыми. Недавно приходил аптекарь и дал ей для успокоения настойку опия.
Я заморгала, чтобы удержать слезы, так жалко было смотреть на нее, но боль причиняло и чувство вины. Я не знала, что ее арестовали и что мать решила подвергнуть ее мучениям работного дома. Поначалу я даже не заметила отсутствия Подарочка. Не верни я матери право владения Подарочком, этого никогда бы не случилось. Я понимала, что Подарочку будет хуже с ней, и все-таки вернула ее. Эта моя ужасная лицемерная праведность!
Сейб привез Подарочка домой в экипаже, пока я была на занятиях по изучению Библии. Изучение Библии! Стыдно вспоминать, как я разбирала стихи из тринадцатой главы Послания к Коринфянам: «Будь у меня все знание и вся вера – без милосердия я ничто».
Я заставила себя взглянуть на Тетку:
– Как ее рана?
Вместо ответа та сняла зеленые листья. Ступня Подарочка под неестественным углом вывернулась внутрь, и от лодыжки до мизинца шла глубокая открытая рана. Сквозь примочку проступали капли яркой крови. Тетка промокнула кровь салфеткой, наложила листья.
– Как это случилось? – спросила я.
– Ее послали на колесо-топчак, говорят, она соскользнула с него, и ступня попала под колесо.
Недавно в «Меркьюри» появился очерк о новой чудовищной машине под заголовком «Более изобретательное наказание». Предполагалось, что в первый же год город получит от нее прибыль в размере пятисот долларов.
– Аптекарь сказал, нога не сломана, – проговорила Тетка. – Но порваны связки, и она останется калекой. Помяните мое слово.
Подарочек застонала, потом невнятно забормотала. Я взяла ее за руку, подивившись худобе этой руки и тому, что ее ступню не раскрошило на мелкие кусочки. Она лежала такая маленькая, но уже непохожая на ребенка. Неровно подстриженные волосы отросли на дюйм. Под глазами появились небольшие круги, а на лбу – морщинки. Она превратилась в маленькую старушку.
Она вновь попыталась заговорить, веки ее затрепетали, но глаза не открылись. Я наклонилась к ее губам.
– Уходи, – прошипела она. – Уходи. Прочь.
* * *
Позже я скажу себе, что ее рассудок был затуманен опиумом. Она не понимала, что говорит. Или, быть может, выразила собственное желание уйти прочь.
Подарочек не выходила из комнаты десять дней. Тетка и Фиби приносили ей еду и ухаживали за ногой, а Гудис в ожидании новостей постоянно торчал на ступеньках заднего крыльца. А вот я не приходила, опасаясь, что ее слова все же адресовались мне.
Мне по-прежнему запрещалось посещать отцовский кабинет, и я заглядывала в него лишь изредка. Когда же Подарочек пошла на поправку, я заскочила туда и взяла две книги о морских приключениях – «Путешествие пилигрима» Баньяна и «Бурю» Шекспира, – которые ей должны были особенно понравиться, оставила их под дверью, постучала и поспешила уйти.
В то утро, когда Подарочек встала после болезни, мы, Гримке, завтракали в столовой. Осталось лишь четверо детей, которые еще не женились или не уехали учиться, – Чарльз, Генри, Нина и, разумеется, я, рыжеволосая девица. Мама сидела во главе стола на фоне подвесной шелковой ширмы с нарисованным вручную жасмином, который окружал ореолом ее голову. Она повернулась к окну, и рот ее раскрылся от удивления. Подарочек шла через двор к дубу, опираясь на деревянную трость, чересчур для нее длинную. Неуклюже двигаясь, она подавалась вперед, приволакивая правую ногу.
– Она ходит! – воскликнула Нина.
Я отодвинула стул и вышла из-за стола, Нина вскочила за мной.
– Вам не разрешили выйти! – молвила мать.
Мы даже не взглянули на нее.
Подарочек стояла на островке изумрудного мха под распускающимся деревом. На земле остались следы ее волочащейся ноги, и я ступала по ним, как по чему-то священному. Когда мы подошли, она обматывала вокруг ствола новую красную нить. Я не понимала странного ритуала, но тем не менее он продолжался многие годы.
Мы с Ниной подождали, пока Подарочек не вынет из кармана ножницы и не отрежет полинявшие старые нити. Некоторые зацепились за кору. Она потянула за них, трость выскользнула из рук, и она ухватилась за ствол.
Нина подняла трость и протянула Подарочку:
– Болит?
Подарочек скользнула взглядом по Нине, посмотрела на меня:
– Теперь уже не сильно.
Нина, не смущаясь, присела на корточки, чтобы рассмотреть раздутую ступню Подарочка и появившийся сверху странный бугорок. Ботинок на этой ноге был без шнурка.
– Мне очень жаль, что так вышло, – сказала я. – Мне так жаль.
– Я прочитала, что смогла, в книгах, которые ты принесла. И у меня появилось занятие, пока я лежала.
– Можно потрогать твою ногу? – спросила сестра.
– Нина, – с упреком сказала я, и вдруг поняла: это тот кошмар, который ей снится с детства, – тайный ужас работного дома.
Кажется, Подарочек поняла тоже.
– Разумеется, можно, – сказала она.
Нина провела пальцем по шраму, рдевшему на коже Подарочка. Нас окутывала тишина, и я посмотрела вверх на листочки, распускавшиеся на ветках, как маленькие папоротники. Я почувствовала, что Подарочек смотрит на меня.
– Тебе что-нибудь нужно? – спросила я.
Она рассмеялась:
– Нужно ли мне что-нибудь? Ну давай посмотрим.
Ее суровые глаза пылали желтым огнем.
Она перенесла зверство, которое я не могла себе вообразить, и в ее душе остался более глубокий шрам, чем на искалеченной ноге. В безжалостном смехе я уловила интонации ее матери. Она вдруг показалась мне опасной – такой, как ее мать. Однако Подарочек была рассудительнее и осторожнее Шарлотты, и это тревожило еще сильнее. На меня накатила волна предчувствия, предвестник надвигающейся темноты, но потом все прошло.
– Я просто имела в виду…
– Знаю, что ты имела в виду. – Она смягчила тон.
Выражение гнева стерлось с ее лица, и мне на миг показалось: она сейчас заплачет. Ее слез я не видела никогда, даже когда пропала Шарлотта.
Вместо этого она повернулась и пошла к кухонному корпусу, сильно наклонившись влево. Ее суровость огорчила меня не меньше, чем хромота. И только когда Нина обняла меня за талию и притянула к себе, я поняла, что тоже наклоняюсь вбок, как Подарочек.
* * *
Прошло несколько дней, и в мою дверь постучалась Синди с запиской. Мне было велено прийти на веранду первого этажа, где мать в прохладе отдыхала днем. Раньше она не писала подобных записок, но в последнее время Синди сделалась забывчивой – бродила по комнатам, не в силах вспомнить, зачем она здесь, приносила матери щетку для волос вместо подушки и так далее. Я понимала, что череда досадных промахов закончится заменой Синди на более молодую горничную.
Спускаясь по лестнице, я вдруг задумалась о том, что мать может также заменить Подарочка, которая теперь вряд ли способна ходить на рынок за тканями и припасами. На лестничной площадке я помедлила, глядя на картинку с парками, те, как всегда, искоса смотрели на меня, вызывая детский ужас. Могла ли мать позвать меня по этому поводу?
Было только начало мая, но уже стояла влажная жара. Мать сидела в кресле-качалке, пытаясь охладить себя веером с обрамлением из слоновой кости. Она не стала ждать, пока я сяду.
– Уже больше года состояние твоего отца не меняется. Нервическая дрожь постепенно усугубляется, и здесь ему ничем нельзя помочь.
– Что ты хочешь этим сказать? Он что…
– Нет, послушай. Я разговаривала с доктором Геддингсом, и мы решили, что единственный путь – отвезти отца в Филадельфию. Там живет знаменитый хирург, доктор Филип Физик. Недавно я ему написала, и он согласился осмотреть твоего отца.
Я опустилась в кресло.
– Он поплывет на корабле, – продолжила мать. – Для него поездка будет тяжелой, и, вероятно, ему придется остаться на севере на все лето или на столько времени, сколько потребуется для лечения. Этот план вселяет в него надежду.
– Да, конечно, – кивнула я. – Надо сделать все возможное.
– Я рада, что ты так думаешь. Именно ты будешь его сопровождать.
Я вскочила на ноги:
– Я? Ты ведь не хочешь сказать, что я должна одна везти отца в Филадельфию? А как насчет Томаса или Джона?
– Будь благоразумной, Сара. Они не могут бросить службу и семьи.
– А я могу?
– Надо ли напоминать, что у тебя нет занятия или семьи? Ты живешь под отцовской крышей. И ты перед ним в долгу.
Заботиться об отце неделя за неделей, возможно, в течение многих месяцев, одной в отдаленном месте – я почувствовала, что из меня уходит жизнь.
– Но я не могу оставить…
Хотела сказать: «Я не могу оставить Нину», но передумала.
– Я позабочусь о Нине, если ты об этом беспокоишься.
Мать улыбнулась, что бывало нечасто. Мне вспомнилась сцена с пастором в гостиной: холодный взгляд матери, когда я защищала право Нины на следование совести. Я отнеслась к ее предупреждению недостаточно серьезно: «Пока обе живут под одной крышей, для Ангелины надежды нет»… Не Нину мать намеревалась отослать, а меня.
– Уезжаешь через три дня, – сказала она.
Подарочек
Матушка притворялась хромой, а я хромала по-настоящему. Я пользовалась ее старой деревянной тростью, но та доставала мне до груди и больше походила на костыль. Однажды Гудис, не работавший из-за дождя, сказал мне:
– Дай мне трость.
– Зачем?
– Просто дай, и все, – попросил он, и я послушалась.
Всю оставшуюся часть дня он сидел в конюшне и что-то вырезал. Вернулся со спрятанной за спиной тростью и сказал:
– Уверен, тебе нравятся кролики.
Парень не только срезал нижнюю часть трости, чтобы подогнать ее по размеру, но и вырезал ручку в виде кроличьей головы. У кролика был круглый крапчатый нос, большие глаза и два длинных уха, заложенных за спину. Гудис сделал даже насечки на дереве, чтобы было похоже на мех.
– Вот теперь я люблю кроликов, – ответила я.
Не часто кто-нибудь делал мне добро в жизни. Однажды я спросила, откуда у него это имя, и он ответил, что мать назвала его Гудисом в десять лет, потому что он – лучший из ее детей.
Так здорово было ходить с этой тростью! В тот вечер Синди, увидев, как я иду в кухонный корпус на ужин, сказала, что я прыгаю по двору как кролик. Я посмеялась.
На следующий день Синди куда-то отправили, и мы больше никогда ее не видели. Тетка сказала, что она повредилась в уме и госпожа отослала ее с Томасом на плантацию, где она будет доживать свой век. Теперь Томас отвечал за плантацию, и, конечно же, он вернулся с новой горничной для госпожи. Ее звали Минта.
Бог в помощь этой девушке.
Когда Синди отослали, все мы перепугались. Я поскорей взялась за обязанности швеи. Я показала госпоже, что могу подниматься по лестнице. Шла уверенно, не останавливаясь, и, дойдя до верха, услышала:
– Отлично, Хетти. Ты наверняка знаешь, как я огорчилась, когда тебя отправили в работный дом.
Я кивнула, соглашаясь с тем, что мое наказание стало для нее тяжелым бременем.
– Печально, что временами приходится прибегать к таким вещам, – продолжила она, – но, похоже, это пошло тебе на пользу. Что до твоей ноги… сожалею об этом несчастном случае, но посмотрите на нее – скоро ты будешь в полном порядке.
– Да, мэм.
Я сделала реверанс с верхней ступеньки, думая о словах, произнесенных однажды в церкви мистером Визи: «Одна моя половинка для хозяина. Другая, настоящая, для себя».
* * *
Однажды вечером в дверь постучали, и я увидела на пороге Сару. Ее веснушчатое лицо побелело, как яичная скорлупа. Я занималась брюками господина Гримке. Госпожа прислала несколько пар и сказала, что они ему слишком велики. Когда вошла Сара, я ковыляла вокруг рабочего стола, раскладывая на нем бриджи. Увидев ее, я тут же отложила ножницы в сторону.
– …Я только хочу сказать… Понимаешь, мне придется уехать… На север. И я… не знаю, когда вернусь.
Она вновь стала запинаться, рассказывала мне о враче из Филадельфии, о том, что ей придется ухаживать за отцом, о расставании с Ниной, об ожидающих ее хлопотах по упаковке вещей. Я слушала ее и думала: «Всякий раз, споткнувшись, белые думают, тебя волнует все, что с ними происходит».
– Это для тебя большая обуза, – произнесла я вслух. – Мне жаль.
Едва сказав это, я поняла, что говорит моя настоящая половина, а не та, которая для хозяина. Мне действительно было жаль Сару. Она уже давно влезла ко мне в душу, но сейчас мне ужасно не понравилось ее белое лицо и беспомощный взгляд. Сара относилась ко мне с теплом, но была частью всего того, что лишало меня жизни.
– …Ты береги себя, пока меня не будет, – попросила она.
Глядя, как Сара идет к двери, я решилась:
– Помнишь, ты спросила недавно, нужно ли мне что-нибудь? Да, кое-что нужно.
Она обернулась и просияла:
– …Конечно… что в моих силах.
– Мне нужна подписанная бумага.
– …Какая бумага?
– Которая разрешала бы находиться на улице. На случай, если кто-нибудь меня остановит.
– А-а, – только и произнесла она. Потом добавила: —…Мать не хочет, чтобы ты отлучалась, даже ненадолго… Она поручила Фиби ходить на рынок. Кроме того, африканскую церковь закрыли – и теперь нечего посещать.
Я предчувствовала, что церковь обречена, но эта весть огорошила меня.
– Все же мне нужен пропуск.
– …Зачем? Куда тебе надо идти?.. Это опасно, Подарочек.
– Почти всю жизнь я работала на вас и никогда ничего не просила. Мне есть куда пойти, это мое дело.
Сара подняла на меня голос. Впервые.
– …А как ты собираешься выходить со двора?
Сверху на нас смотрело маленькое высокое оконце, которым пользовалась матушка, чтобы выбираться наружу. Через него в комнату попадала толика света. Я сказала себе: «Если мама могла, смогу и я. Я сделаю это хромая, слепая, а если понадобится, то и задом наперед».
Я не стала ничего объяснять Саре, лишь кивнула на лист бумаги, перо и склянку чернил на полке:
– Если не хочешь писать пропуск, придется мне написать его самой и подписаться твоим именем.
Глубоко вздохнув, она пристально посмотрела на меня, а потом подошла и окунула перо в чернила.
* * *
Когда я первый раз протиснулась в окно и перелезла через стену, Сара уже неделю была в отъезде. Труднее всего оказалось взобраться на кирпичную стену, имея для прикрытия только белый олеандр. К спине я привязала трость с кроликом и узел из рогожи, они затрудняли движение, и, спрыгивая на землю, я приземлилась на больную ногу. Выждав, пока не пройдет боль, я выскользнула из-под деревьев на улицу – еще одна рабыня, выполняющая поручение белого человека.
Этот день я выбрала, потому что у госпожи была мигрень. Мы жили в ожидании ее мигреней. Они укладывали госпожу в постель и предоставляли нас самим себе. Я старалась не думать о том, как вернусь в усадьбу. В свое время матушка дожидалась темноты и перелезала через задние ворота, но сейчас было лето и темнело поздно. Прислуга могла сколько угодно размышлять над тем, где меня носит.
В квартале от Ист-Бей я увидела стражника. Заметив, что я хромаю, он на меня уставился. «Иди ровно. Не слишком быстро. Не слишком медленно». Сжав уши кролика, я, чуть дыша, завернула за угол.
До Булл-стрит, 20, дошла в два раза медленней, чем раньше. Я стояла на противоположной стороне улицы и смотрела на дом, который по-прежнему не помешало бы покрасить. Я не знала, выбрался ли Денмарк Визи из работного дома и что вообще с ним приключилось. Последнее, что помнила о том адском месте, был его голос, кричавший: «Помогите девочке там внизу, помогите девочке!»
Я запрещала себе думать об этом, но, стоя там, на улице, словно увидела страшную картину воочию. Я стою на колесе, изо всех сил вцепившись в поручень. Карабкаюсь на колесо, карабкаюсь. Оно никогда не остановится. Мистер Визи молчит, не издает ни звука, остальные стонут и призывают Иисуса. Воздух рассекает кнут из сыромятной кожи. Мои покрытые пóтом ладони скользят по поручню. Узел, завязанный на запястье, ослабевает. Я говорю себе: не смотри по сторонам, иди вперед, но слышу вой женщины с ребенком на спине. Кнут стегает ее по ногам, потом раздается визг ребенка. Я оглядываюсь и вижу его головку в крови. Красной и мокрой. И тут я срываюсь. Ремень соскальзывает с кистей, и я падаю. И у меня за спиной не вырастают крылья.
В окне его дома виднелась женщина, она гладила белье. Незнакомка стояла ко мне спиной, но я разглядела ее фигуру, светлую кожу, яркий головной шарф, руку, которая двигалась туда-сюда над тканью. У меня на миг замерло сердце.
Подойдя к крыльцу, я услышала, как она поет. «Там вдалеке, где реют птицы, тружусь над колесом для колесницы». Заглянув в открытое окно, я увидела, что женщина вертит бедрами. «Дай полечу, дай полечу так высоко, как захочу».
Я постучала, и мелодия оборвалась. Женщина открыла дверь с утюгом в руках, от него шел запах углей. Матушка повторяла, что у этого мужчины по всему городу жены-мулатки, но главная живет в этом доме. Женщина вздернула подбородок и нахмурилась, и я подумала, уж не решила ли она, что я его новая невеста.
– Кто ты такая?
– Я – Подарочек. Мне надо повидать Денмарка Визи.
Сердито взглянув на меня, она опустила глаза на мою искалеченную ногу:
– А я – Сьюзен, его жена. Что тебе от него надо?
Утюг дышал жаром. С этой женщиной раньше плохо обращались, и я не могла винить ее в том, что она не хочет впускать в дом случайного человека.
– Всего лишь поговорить с ним. Он дома?
– Я здесь.
Позади нее в дверном проеме стоял мужчина со сложенными на груди руками, как Господь, наблюдающий за ходом вещей. Он велел жене чем-нибудь заняться, и ее глаза превратились в узкие щелочки.
– Забери с собой утюг, – сказал он. – Вся комната в дыму.
Женщина ушла, и он посмотрел на меня. Лицо его исхудало, стали заметнее скулы.
– Тебе повезло, что нога не загноилась, а то могла бы умереть, – сказал он.
– Я справилась. Похоже, вы тоже.
– Ты ведь пришла не для того, чтобы интересоваться моим здоровьем.
Он не собирался ходить вокруг да около. Это мне понравилось. Нога болела от долгой ходьбы. Я сняла узел со спины и уселась в кресло. В комнате не было ничего лишнего, только плетеные кресла и стол, на котором лежала Библия.
– Иногда я приходила сюда с матерью. Ее звали Шарлотта.
Ухмылка исчезла с его лица.
– Я знал, что где-то тебя видел. У тебя ее глаза.
– Так мне говорят.
– И сообразительность тоже от нее.
Я прижала к груди мешок из рогожи.
– Хочу знать, что с ней случилось.
– Это было давно.
– Скоро семь лет.
Он не ответил, а я развязала узелок и разложила на столе мамино одеяло с преданиями. Его лоскуты свисали почти до пола – такие яркие, что казалось, темная комната вот-вот вспыхнет огнем.
Люди говорили, он никогда не улыбается, но, увидев рабов, летящих мимо солнца, он улыбнулся. Он смотрел на бабушку и падающие звезды, на то, как матушка оставляет папу в поле, на меня и на нее, разрезанных на куски и положенных на раму. Рассматривал дерево душ и наказание стоянием на одной ноге. Объяснений не просил, знал: это история ее жизни.
Я украдкой взглянула на последний квадрат, на котором мама изобразила мужчину в фартуке плотника с номером 1884. Я внимательно наблюдала за ним – узнает ли он себя?
– Думаешь, это я, да?
– Я знаю, что это вы, но не понимаю, что означают цифры.
Он хохотнул:
– Один, восемь, восемь, четыре. Эти цифры были на моем лотерейном билете. Цифры, которые принесли мне свободу.
В комнате было ужасно жарко. Мои виски заливал пот. «Значит, это ее последнее слово. Вот чем все закончилось – попыткой получить свободу. Призрачный шанс».
Я сложила одеяло, затолкала в узел и привязала к спине. Потом взяла трость.
– Она была беременна, вы знали об этом? Когда она исчезла, с ней пропал и ваш ребенок.
Он не вздрогнул, но я поняла, что он ничего не знал.
Я сказала:
– Эти цифры так и не приблизились к ней, верно?
Сара
Морское путешествие оказалось мучительным. Почти две недели мы лавировали у побережья Виргинии на вздымающихся приливных волнах, страдая от морской болезни, а затем пошли вдоль побережья Делавэра к месту высадки Пенна. Когда доплыли, мне хотелось целовать землю. От слабости отец не мог разговаривать, и мне пришлось самой организовывать выгрузку наших чемоданов и нанимать экипаж.
Мы подъезжали к Сосайети-Хилл, где жил доктор, и прелестный городок разворачивал перед нами великолепные виды на деревья, колокольни, кирпичные дома и особняки. Меня поразило, что на улицах почти не было рабов. От этого я слегка расслабилась и только тогда поняла, как была напряжена.
Я нашла жилье в пансионе «Квакер» в районе 4-й улицы. Отец полностью предоставил себя в мое распоряжение – покупка еды и одежды, лечение и уход за ним, – передав мне все деньги и бухгалтерию. Раз в несколько дней мы ездили в наемном экипаже к доктору. Спустя три недели визитов, по сути дела бесполезных, отец по-прежнему не мог и двух шагов сделать без боли. Он продолжал худеть и выглядел совершенно истощенным.
Тем утром я сидела в приемной и рассматривала седые волосы доктора и его орлиный нос, очень напоминающий отцовский.
– К сожалению, не могу найти причину нервической дрожи судьи Гримке, как и причину ухудшения его состояния, – сообщил врач.
Не только отец был разочарован, но и я тоже. Приехав сюда с надеждой, придется уезжать ни с чем.
– Наверняка вы могли бы что-нибудь порекомендовать.
– Разумеется. Полагаю, ему поможет морской воздух.
– Морской воздух?
Врач улыбнулся:
– Вы скептически к этому относитесь, но талассотерапия – признанная вещь. Бывали случаи, когда выздоравливали даже тяжелобольные люди.
Я уже предвидела ответ отца на это. Морской воздух.
– Рекомендую вам, – сказал доктор, – отвезти его на лето в Лонг-Бранч. Это небольшой уединенный поселок на побережье Нью-Джерси, известный целебным морским климатом. Возьмете с собой настойку опия и успокоительные средства. Ваш отец должен проводить на воздухе как можно больше времени. Поощряйте прогулки босиком по воде, если они будут ему под силу. Возможно, к осени он достаточно окрепнет, чтобы вернуться домой.
Возможно, к сентябрю я окажусь дома с Ниной.
* * *
Доктор назвал Лонг-Бранч маленьким, но он ему польстил. Поселок был не маленьким, даже не крошечным – он почти не существовал. Там стояло четыре фермерских дома, малюсенькая методистская церковь, обшитая вагонкой, и магазин мануфактуры. К тому же это место было не просто уединенным, а совершенно оторванным от цивилизации. Шесть суток мы ехали из Филадельфии в частном экипаже, а последний день тряслись по колдобинам пешеходной дороги, остановились лишь для покупки туалетных принадлежностей в мануфактурной лавке, потом доехали до «Рыбной таверны», единственной гостиницы. Она примостилась на крутом обрывистом берегу океана – большое, открытое всем ветрам здание. Служащий объявил нам, что после ужина в общинном обеденном зале проводятся молитвенные собрания, и я восприняла это как знак того, что нас направляет Господь.
Отец поехал сюда охотно, даже чересчур охотно. Поначалу я не сомневалась, что он захочет вернуться в Южную Каролину, ожидала колкостей вроде: «Разве у нас в Чарльстоне нет морского воздуха?» Но когда в кабинете доктора Физика я сообщила ему новость, не преминув вставить слово «талассотерапия», он лишь посмотрел на меня странным долгим взглядом. По его лицу пробежала тень, и я подумала, что он разочарован. Но он ответил:
– Тогда поедем в Нью-Джерси.
В первый вечер перед наступлением сумерек я принесла в комнату отца суп из трески. Он пытался есть сам, но рука тряслась так сильно, что суп проливался на постель. Тогда папа прислонился к спинке кровати и позволил накормить себя. Изо всех сил стараясь отвлечь нас от происходящего, я тараторила о бушующем океане, об извилистой лестнице, ведущей от гостиницы к берегу. Его рот открывался и закрывался, как у птенца. Он был таким беспомощным!
Я кормила его, а комнату заполнял грохот волн. Из окна я видела, как под напором ветра свинцовая поверхность воды превращалась в пенную зыбь. Наконец отец поднял руку, давая понять, что насытился и супом, и моей болтовней.
На пол рядом с кроватью я поставила ночной горшок:
– Спокойной ночи, отец.
Он уже закрыл глаза, но рукой нащупал мое плечо:
– Все в порядке, Сара. Будь что будет.
* * *
17 июля 1819 года
Дорогая Нина!
Мы остановились в «Рыбной таверне». Мама назвала бы эту гостиницу захудалой, но она еще хранит следы вкуса и своеобразия. Почти все комнаты заняты пансионерами, но я познакомилась только с двумя – пожилыми вдовыми сестрами из Нью-Йорка, которые каждый вечер приходят в столовую на молитвенные собрания. Мне очень нравится младшая.
Я постоянно рядом с отцом. Мы приехали за морским воздухом, но он пока не отважился выйти из комнаты. Я открываю окно, но его раздражают крики чаек, и он велит к полудню его закрыть. Приходится хитрить. Я оставляю щелочку в окне и говорю отцу, что оно закрыто. Еще один повод пойти в столовую и помолиться с сестрами.
Тебе уже пятнадцать, и я могу говорить с тобой, как со взрослой. У отца усиливаются боли. От настойки опия он на несколько часов погружается в беспокойный сон, а когда я заставляю его походить по комнате, грузно опирается на меня. Мне приходится в основном кормить его с ложки. И все же я знаю, Нина, надежда есть! Если вера движет горами, то Господь даст отцу исцеление. Сидя у его постели, я молюсь и часами вслух читаю Библию. Не сердись на меня за набожность. В конце концов, я пресвитерианка. Как ты знаешь, мы лелеем свою горечь и раздражение.
Надеюсь, ты не слишком часто провоцируешь маму. По возможности держи себя в руках до моего возвращения. Молюсь за благополучие Подарочка. Присматривай за ней. Если понадобится – защити ее.
Скучаю по тебе. Наверное, я немного одинока, но у меня есть Господь. Скажи маме, что все в порядке.
Твоя любящая сестра Сара.
* * *
Каждый день в одно и то же время служащий гостиницы поднимал и опускал красный и белый флаги вблизи ступеней, ведущих к пляжу. Ровно в девять часов взвивался красный флаг, призывая джентльменов занять пляж. Я наблюдала, как они бросаются в волны, бегут и ныряют за линией прибоя. Потом выныривают, стоят, подбоченясь, по пояс в воде и обозревают горизонт. На пляже мужчины боролись или сбивались в кучки и курили сигары. В одиннадцать часов поднимали белый флаг, и мужчины с шерстяными полотенцами на шее карабкались по ступеням в гостиницу.
Потом появлялись дамы. Даже если я в этот момент молилась, я бормотала торопливое «аминь» и неслась к окну посмотреть, как они спускаются по лестнице в купальных платьях и непромокаемых шапочках. Никогда прежде не видела купающихся дам. У нас дома женщины не окунаются в океан в причудливых нарядах. В бухте Ист-Бэттери была плавучая купальня с приватной зоной для женщин, но мать считала ее непристойной. Однажды я, к своему удивлению, заметила, как две пожилые сестры, о которых я писала Нине, осторожно спускаются по ступеням с прочими женщинами. Младшая, Алтея, по доброте душевной всегда справлялась не только об отце, но и обо мне: «Как вы, дорогая? У вас бледный вид. Вы часто бываете на воздухе?» В тот день, когда я заметила ее среди купальщиц, она бросила мне ответный взгляд и жестом пригласила присоединиться. Я покачала головой, но как я была бы этому рада!
Женщины заходили в воду иначе, чем мужчины, – держась за канаты, протянутые с берега. Временами с десяток их ложились на воду и, прицепившись к одной и той же веревке, повизгивали и закрывались от водяных брызг. Если отец спал, я стояла у окна и с комком в горле смотрела на них, пока белый флаг не опускался.
* * *
Утром восьмого августа я, позабыв о молитвах, стояла у окна, и вдруг отец выкрикнул мое имя:
– Сара!
Подойдя, я поняла, что он еще спит.
– Сара! – вновь закричал он, голова его металась по подушке.
Чтобы успокоить, я положила ладонь ему на грудь, и он проснулся, тяжело и часто дыша.
Он смотрел на меня лихорадочным взором человека, с трудом пробуждающегося от ночного кошмара. Печально, что я оказалась частью этого кошмара. На протяжении недель, проведенных в Лонг-Бранч, отец был добр со мной. «Как ты себя чувствуешь, Сара? Хорошо питаешься? У тебя усталый вид. Отложи Библию, иди погуляй». Его нежность поражала меня. И все же он оставался отчужденным, никогда не заговаривал о важных вещах.
Я положила ему на лоб влажную салфетку:
– …Отец, я знаю, эта поездка – испытание для вас, и выздоровление идет… идет медленно.
Он улыбнулся, не открывая глаз:
– Пора сказать правду. Никакого выздоровления нет.
– …Нельзя отчаиваться.
– Разве? – Кожа у него на щеках была тонкой и прозрачной, как вуаль. – Я приехал сюда умирать. Ты наверняка это знаешь.
– Нет! Разумеется, не знаю. – Я пришла в ужас. Казалось, сквозь внешнюю оболочку пробился дурной сон, пусть он исчезнет! – …Если вы думаете, что умираете, почему не настояли на возвращении домой?
– Это сложно понять, но последние несколько лет дом стал мне в тягость. Оказаться вдалеке, побыть с тобой в тишине и покое – большое облегчение. Я почувствовал, что здесь мне легче будет отстраниться от вещей, которые я знал и любил всю жизнь.
Я непроизвольно потянулась рукой к губам и почувствовала, как глаза мои наполняются слезами.
– Сара, дорогая моя девочка. Давай не будем лелеять напрасных надежд. Я не надеюсь поправиться, да и не хочу.
Теперь его лицо пылало. Я взяла его за руку, и постепенно он успокоился и задремал.
Проснулся отец в три часа дня. Только что подняли белый флаг – он развевался в раме окна на фоне прозрачного неба. Я поднесла к губам отца стакан с водой и помогла ему отпить.
– У нас бывали ссоры, правда? – произнес он.
Я знала, что последует дальше, и хотела оградить его от тяжелых разговоров. Оградить себя.
– Теперь они не имеют значения.
– Ты всегда отличалась сильным независимым умом, может, даже радикальным умом, и я порой бывал с тобой резок. Ты должна простить меня.
Трудно представить, чего стоили ему эти слова.
– Прощаю. И ты прости меня.
– За что, Сара? За то, что ты следовала велениям совести? Думаешь, мне не противно рабство, так же как и тебе? Или я не понимаю, что алчность помешала мне послушаться голоса совести? Плантация, дом, весь наш жизненный уклад зависели от рабов. – Лицо его исказилось, и он схватился за бок, а потом продолжил: – Или простить тебя за желание найти применение своему интеллекту? Ты умнее даже Томаса или Джона, но ты женщина – и это еще одна несправедливость, которую я был не в силах изменить.
– Отец, прошу вас. Я не в обиде, – сказала я, хотя и не вполне искренне.
На пляже смеялись.
– Иди прогуляйся и освежись, – предложил отец. Я отказалась, но он не уступал. – Как ты сможешь ухаживать за мной, если не заботишься о себе? Сделай это ради меня. Со мной все хорошо.
* * *
Я собиралась лишь побродить босиком по прибою. Сняла туфли и поставила их рядом с передвижной кабинкой для переодевания, которую вывезли на песок. В этот момент из кабинки, отодвинув парусину, выглянула приветливая Алтея, в купальном платье в красно-черную полоску с баской и пышными рукавами. Я пожалела, что Подарочек этого не видит.
– Как мило. Вы наконец поплаваете с нами? – спросила она.
– …О нет, у меня нет подходящего одеяния.
Внимательно всмотревшись в мое несчастное лицо, она объявила, что перехотела купаться и будет очень рада, если я надену ее платье и окунусь. После разговора с отцом я чувствовала себя страшно уязвимой. Хотелось побыть одной, но, взглянув на женщин, уцепившихся за канат и плещущихся в море, на поднимающиеся за ними зеленые водяные валы, нескончаемые и необузданные, я приняла предложение.
Она улыбнулась, когда я вышла из кабинки. У нее не было купальной шапочки, и я вынула из волос шпильки. Мои волосы пламенем затрепетали на ветру. Алтея сказала, что я похожа на русалку.
Я ухватилась за веревку и пошла в волны – туда, где стояли дамы. Вода подступала и отступала, плескалась у наших бедер. Сама не понимая, что делаю, я бросила веревку и устремилась вперед. Потом ринулась в бурлящую воду и легла на спину. Так удивительно было ощущать, что вода меня держит. Лежать на воде, в то время как наверху отец лежал на смертном одре.
* * *
9 августа 1819 года
Дорогая мама,
Библия уверяет, что Господь осушит каждую нашу слезинку…
Я отложила перо, не зная, что писать. Странно, что именно я должна сообщить ей новость. Я представила себе, как она собирает нас, своих детей, в гостиной и говорит: «Вашего отца забрал Господь». Какже получилось, что эта обязанность возложена на меня?
В Чарльстоне отцу полагались бы пышные похороны – торжественность церкви Святого Филипа, величественная процессия вдоль Митинг-стрит, гроб в украшенном цветами экипаже, за которым следует полгорода… Вместо всего этого его похоронят в безымянной могиле на разросшемся кладбище под стенами методистской церкви, которую мы проезжали по пути сюда. Гроб с его телом повезут в фермерском фургоне, за которым пойду я одна.
Но матери я не расскажу ничего из этого. Не скажу также, что в час его смерти я плавала в океане в полном уединении, о котором буду вспоминать всю жизнь. Надо мной кричали чайки, а на вершине шеста реял белый флаг.
Подарочек
Глаза госпожи опухли от слез. Она просидела в постели в ночной одежде до середины утра. Вокруг кровати был натянут москитный полог, шторы на окнах задернуты, но я все равно заметила ее опухшие веки. Минта, новая горничная, притаилась в углу.
Госпожа хотела заговорить со мной, но расплакалась. Мне было ее жаль. Я знала, что такое потерять близкого человека. Но не представляла, зачем она меня вызвала. Оставалось только стоять и дожидаться, пока она не возьмет себя в руки.
Прошло несколько минут, и госпожа прикрикнула на Минту:
– Ты собираешься принести мне носовой платок или нет?
Минта принялась рыться в ящике с бельем, а госпожа повернулась ко мне:
– Немедленно принимайся за мое платье. Я хочу наряд из черного бархата с вышивкой бисером. У госпожи Рассел на платье бисер из гагата. Еще мне понадобится капор с длинной вуалью из крепа сзади. И черные перчатки, но пусть это будут митенки – из-за жары. Ты все запомнила?
– Да, мэм.
– Все должно быть готово через два дня. И сделано безупречно, Хетти, понимаешь? Безупречно. Если понадобится, работай по ночам.
Похоже, она вполне овладела собой.
Госпожа выписала мне пропуск на рынок и отправила в экипаже с Томфри, который должен был купить карточки с приглашениями на поминки. Сказала, сама я слишком долго буду ковылять туда и обратно. Вот так я впервые в жизни прокатилась в экипаже.
– Перестань улыбаться, мы должны скорбеть, – одернул меня Томфри.
Разыскивая на рынке бисер, я натолкнулась на жену мистера Визи, Сьюзен. Я не видела ее с начала лета, с моего визита на Булл-стрит, 20.
– Посмотрите на эту драную кошку! – воскликнула она.
Наверное, все еще злилась на меня.
Я подумала, что она могла многое знать. Наверняка в тот день подслушала мой разговор с мистером Визи, и ей известно о матушке, о ребенке, обо всем.
Я не видела смысла в этой перепалке.
– Я не собираюсь с тобой спорить. И беспокоить больше не стану.
Раздражение ее улеглось. Плечи опустились, и лицо смягчилось. Тут я и заметила шарф. Красный. Края подшиты безупречным тамбурным швом, на краю – маленькие масляные пятна.
– Это головной шарф моей матушки! – выпалила я.
Ее губы раскрылись, словно пробка выскочила из бутылки. Я ждала, но она так и стояла с открытым ртом. А я не отступала:
– Я узнала шарф!
Она поставила на землю корзину с одеждой и сняла шарф с головы:
– Возьми.
Я пробежала пальцами по подшитому краю, потрогала складки, к которым прикасались ее волосы. Потом сняла свой шарф и повязала мамин – низко на лоб, как носила она.
– Откуда он у тебя? – спросила я.
Она покачала головой:
– Тебе следует это знать. В тот вечер твоя мать пришла к нашей двери. Денмарк сказал, что стража будет разыскивать женщину в красном шарфе. Вот я и взяла у нее шарф, а ей отдала свой. Простой коричневый, чтобы не привлекать внимания.
– Вы помогли ей? Помогли скрыться?
– Я делаю то, что скажет Денмарк, – вместо ответа сообщила она.
И ушла плавной походкой с непокрытой головой.
* * *
Я шила весь день и всю ночь и следующий день и ночь и ни на минуту не снимала мамин шарф. Я постоянно думала о том, что матушка в тот вечер приходила к мистеру Визи и что он знает больше, чем говорит.
Я носила платье наверх для примерок, а дом лихорадочно готовился к поминкам. Госпожа сказала, что придет полгорода. Тетка и Фиби пекли поминальные лепешки и готовили чайную посуду. Бина завешивала картины и зеркала черной тканью, а Эли приставили к уборке. Минте досталась самая тяжелая работа: приготовить носовые платки и тем самым принять на себя главный удар.
Томфри повесил в гостиной портрет господина Гримке и разложил на столе памятные вещи: цилиндр, запонки и написанные им книги по юриспруденции. Томас привез флаг с надписью «Ушел, но не забыт», его Томфри тоже поставил на стол рядом с часами, чьи стрелки застыли на часе смерти господина. Госпожа не знала точного времени. Сара написала, что ее отец умер вечером, и госпожа сказала: «Установите на полпятого».
Когда госпожа не рыдала, то сетовала на то, что Сара не догадалась отрезать у господина Гримке прядь волос и отправить в письме. И теперь ей нечего положить в золотой поминальный медальон. И еще госпоже не понравилась статья в «Меркьюри». Там говорилось, что господин был предан земле на Севере без родных и друзей, что является неподобающим для великого сына Южной Каролины.
Уж не знаю, как мне удалось вовремя сшить платье. Это была самая красивая моя работа. Я нанизала на нитку сотни черных шариков, а потом вшила нитку в воротник, сделав его похожим на паучью сеть. Я притачала воротник к горловине, и он ниспадал до бюста. Когда госпожа увидела платье, она произнесла слова, которые я не в силах забыть:
– Что ж, Хетти, твоя мать гордилась бы тобой.
* * *
В воскресенье, когда поток соболезнующих гостей иссяк, я вылезла в окно и перемахнула через стену. Был выходной, слуги слонялись по усадьбе, а госпожа закрылась в своей комнате. Миновав парадный фасад дома, я почувствовала себя в безопасности, но тут увидела на ступенях парадного крыльца Томфри, который торговался с чернокожим мальчишкой, разносчиком рыбы. Они наклонились над большой корзиной камбалы. Я опустила голову и продолжила путь.
– Подарочек! Это ты?
Я подняла голову. С верхней ступеньки на меня пристально смотрел Томфри. Он постарел, стал плохо видеть, я хотела соврать: «Нет, ты ошибся», но… вдруг он заметил трость у меня в руке?
– Да, это я. Иду на рынок.
– Кто тебе разрешил?
У меня в кармане лежал пропуск Сары, но вряд ли бы он убедил Томфри – она все еще была на Севере, ожидая отплытия домой. Я стояла на тротуаре, пригвожденная к месту.
– Что ты там делаешь? – повторил он. – Отвечай.
В голове у меня зазвучал скрежет колеса-топчака.
За окном мелькнул силуэт. Нина. Потом открылась дверь, и Нина спросила:
– В чем дело, Томфри?
– Там Подарочек за воротами. Пытаюсь выяснить, что она делает.
– Ах. Она выполняет мое поручение, вот и все. Пожалуйста, не говори маме. Не хочу ее беспокоить. – И крикнула мне: – Можешь идти!
Томфри вернулся к разносчику рыбы. Я никак не могла заставить ноги шевелиться быстрее. На углу Джордж-стрит я остановилась и оглянулась. Нина помахала мне рукой.
Неподалеку от Булл-стрит, 20, играл маленький шумовой оркестр – трое мальчишек дули в большие кувшины, а галла Джек, приятель мистера Визи, бил в барабан. Собралась толпа цветных, две женщины приплясывали. Я остановилась посмотреть и глазела в основном на Джека. У него были густые бакенбарды, и он подпрыгивал на коротких ногах. Доиграв мелодию, засунул барабан под мышку и зашагал к дому мистера Визи, а я – следом за ним.
Из кухни вился дымок, я подошла и постучала. Меня впустила Сьюзен.
– Странно, что ты так долго собиралась, – заметила она. И добавила, что я могла бы ей помочь – в комнате собрались мужчины.
– По какому поводу?
Она пожала плечами:
– Не знаю, да и знать не хочу.
Я помогла ей нарезать капусту и морковь для ужина. Когда она понесла мужчинам бутылку мадеры, я увязалась за ней. Пока она наполняла стаканы, я ждала за дверью, но видела сидящих за столом – мистера Визи, галла Джека, Питера Пойаса, Манди Джелла и еще двоих, принадлежащих губернатору, Роллу и Неда Беннетт. Я знала всех по церкви. Все были рабами, кроме мистера Визи. Позже он назовет их своими заместителями.
Я отошла в коридор, чтобы дать Сьюзен пройти на кухню, а сама подкралась к двери, оставаясь незамеченной.
Похоже, что мистер Визи разделял всех рабов штата на группы:
– Я отвезу французских негров на реку Санти, а ты, Джек, отправишь рабов на Си-Айлендс. Трудно будет переписать сельских рабов с плантаций. Питер и ты, Манди, знаете их лучше. Ролла, тебе достаются городские рабы, а тебе, Нед, рабы с перешейка. – Он понизил голос, и я подкралась ближе. – Переписывайте всех, кого привлечете. И храните список как зеницу ока. Скажите всем: «Запаситесь терпением, скоро придет наш день».
Не знаю, откуда он взялся, но не успела я обернуться, как на меня набросился галла Джек. Схватил меня сзади и швырнул в комнату, трость взлетела в воздух. Я отскочила от стены и плашмя упала на пол.
Он поставил ногу мне на грудь, прижимая к полу:
– Кто ты такая?
– Убери свою поганую ногу!
Я плюнула в него, но слюна попала мне же в лицо.
Он поднял руку, собираясь ударить, но краем глаза я увидела, как Денмарк Визи хватает его за воротник и швыряет через комнату. Потом мистер Визи поднял меня:
– Ты в порядке?
Меня трясло.
– Все, что здесь услышала, держи при себе, – велел он.
Я снова кивнула, и он обнял меня, унимая дрожь. Потом повернулся к галла Джеку и остальным и сообщил:
– Это дочь моей жены и сестра моего ребенка. Она – моя семья, и это значит, вы и пальцем не смеете ее тронуть.
Потом мистер Визи велел мужчинам возвращаться в его мастерскую. Мы подождали, пока все не уйдут из комнаты.
Итак, он считал матушку своей женой. Я – его семья.
Он пододвинул мне стул:
– Садись. Что ты здесь делаешь?
– Пришла узнать правду о том, что случилось с матушкой. Вам ведь это известно!
– Некоторые вещи лучше не знать, – произнес он.
– Но Библия учит другому. В ней говорится, что знание истины делает человека свободным.
Он обошел вокруг стола:
– Тогда ладно, – и закрыл окно, чтобы правда не вышла из комнаты и не стала известна всему миру. – Шарлотта пришла сюда в день, когда попала в историю со стражником. Я работал в мастерской и в какой-то момент увидел ее. За ней гнались до самого пруда у рисовой мельницы, там она спряталась в мешок. Все платье у нее было в рисовой шелухе. Я оставил ее у себя до темноты, а потом отвел на перешеек Нек, где не так строго следят за порядком. Хотел ее там спрятать.
Нек располагался к северу от города, и там сдавалось много домов для свободных чернокожих и рабов, чьи хозяева позволяли жить отдельно. Их называли негритянскими хижинами. Я попыталась представить себе матушку в таком доме.
– Я знал там свободного чернокожего, у которого была комната, он приютил Шарлотту. Она собиралась вернуться к Гримке и попросить пощады, как только стража перестанет ее разыскивать. – До этого мистер Визи вышагивал по комнате, но сейчас сел рядом со мной и торопливо закончил рассказ: – Однажды вечером она вышла в уборную, а поблизости ее поджидал белый по имени Роберт Мартин. Он занимается кражей рабов.
В голове у меня загудело.
– Кражей рабов?
– Да. Такие люди – настоящие подонки. Мы все знаем этого мужика – у него была передвижная лавка в фургоне. Поначалу торговал обычными товарами, потом начал перекупать рабов, а затем и красть их. Он охотился за ними в Неке. Всегда был начеку и выслеживал беглых рабов. Не один человек видел, как он забрал Шарлотту.
– Он ее забрал? И продал? – Я вскочила на ноги, пытаясь перекричать шум в голове. – Почему вы не искали ее?
Он взял меня за плечи и встряхнул. Глаза его сверкали.
– Галла Джек и я искали ее два дня. Везде искали, но она исчезла.
Сара
Возвращение в Филадельфию было утомительным, я сняла жилье в том же доме в Сосайети-Хилл, где останавливались мы с отцом. Я собиралась остаться только до отплытия корабля, но в назначенное утро, когда чемодан уже был упакован и меня ожидал экипаж, неожиданно передумала.
В дверь постучала миссис Тодд, хозяйка, у которой мы снимали комнату:
– Мисс Гримке, экипаж подан. Могу я прислать возницу за чемоданом?
Я ответила не сразу, продолжала стоять у окна, глядя на пышную лозу, обвившую штакетник, на мощенную булыжником улицу, обсаженную сикоморами, на пятнистую узорчатую тень. Потом еле слышно прошептала:
– Нет.
Я повернулась к женщине и развязала черный капор с небольшой оборкой, приличествующей трауру. Купила его накануне на Хай-стрит, в одиночестве бродя по магазинам. Потом вернулась в простую комнату, где не было слуг или рабов, не было излишеств в мебели, филиграни или листового золота, где никто не звал меня на чай с гостями, до которых мне нет дела, где мне нечего было ожидать. В этой небольшой комнате я делала все сама, даже застилала постель и стирала. Я повернулась к миссис Тодд:
– …Если можно, я бы хотела пожить тут еще чуть-чуть.
Она смутилась:
– Вы не уезжаете, как собирались?
– Нет. Я решила ненадолго задержаться.
Я говорила себе, что хочу побыть наедине со своим горем. Разве это не очевидно?
Миссис Тодд, жена бедствующего судебного клерка, схватила меня за руку:
– Милости прошу оставаться, сколько пожелаете.
Я написала матери подробное письмо, пытаясь объяснить необъяснимое: отец скончался и я не собиралась сразу же ехать домой. «Мне надо побыть наедине со своим горем».
Ответное письмо пришло в сентябре. Строчки, выведенные мелким, компактным почерком, распирало от ярости и чернил. Мое поведение было позорным, эгоистичным, жестоким. «Как могла ты покинуть меня в самый тяжелый час?» – вопрошала она.
Я сожгла послание в камине, но ее слова вызвали чувство вины. В них была доля правды. Я проявила эгоизм. Бросила мать, а также Нину. Меня это терзало, но я не стала собирать чемодан.
Я проводила дни в безделье. Утомившись, сразу ложилась в постель, часто в середине дня. Миссис Тодд перестала приглашать меня на обед по расписанию и оставляла мне еду на кухне. Обычно я уносила ее к себе в неурочное время и сама мыла посуду. Книг для чтения почти не было, но я вела записи в небольшом дневнике, в основном о последних днях отца. Еще я практиковалась в стихах из Священного Писания с помощью карточек с текстом. Прогуливалась взад-вперед по улицам под сикоморами, листва которых постепенно желтела, потом становилась бронзовой. Каждый день я уходила все дальше и дальше – к площади Вашингтона, зданию Философского общества, старой церкви Святой Марии, а один раз совершенно случайно дошла до таверны «Бедовый парень», из нее доносились крики и звон бьющейся посуды.
Однажды в воскресенье, когда прозрачный воздух был пронизан ярким светом, я прогуливалась по щиколотку в опавших листьях по Арч-стрит и натолкнулась на столь громадный молитвенный дом квакеров, что в изумлении остановилась. В Чарльстоне у нас был один крошечный обветшалый Дом друзей, в который, как говорили, приходили лишь два вздорных старика. Пока я стояла, из центральных дверей вылился людской поток, причем женщины и девочки были в таких жалких изношенных платьях, что наряды пресвитерианок казались роскошными. Даже дети с унылыми личиками были одеты в пальто тусклых цветов. Я смотрела, как квакеры идут на фоне красных кирпичей, крыши без колокольни, простых окон со ставнями, и понимала, что они мне неприятны. Говорят, они обычно сидят в тишине, ожидая, пока кто-нибудь вслух поделится с Богом самыми сокровенными мыслями. По-моему, это ужасно.
Впрочем, квакеры не испортили моего настроения, которое в те дни очень напоминало о моментах, когда я плавала в океане в Лонг-Бранч под белым флагом. Я была полна энергии, словно в груди забилось второе сердце. Я осознала, что вполне могу обходиться одна. Если бы не смерть отца, я была бы счастлива.
Тем не менее наступил ноябрь, и я поняла, что дольше оставаться нельзя. Приближалась зима. Морское путешествие могло стать рискованным. Я упаковала чемодан.
* * *
Плыть предстояло на одномачтовой парусной яхте, что давало надежду добраться до Чарльстона за десять дней. Я приобрела билет первого класса, но каюта оказалась темной и тесной – в ней был только встроенный шкаф и койка шириной два фута. При любой возможности я выходила на верхнюю палубу навстречу холодному крепкому ветру в компании других пассажиров, толпившихся с подветренной стороны.
На третье утро я проснулась перед рассветом и быстро оделась, не потрудившись заплести волосы. От душного, спертого воздуха каюта стала похожа на склеп, и я отправилась на верхнюю палубу с развевающимися рыжими волосами, ожидая, что буду одна, но у поручня уже стоял мужчина. Подняв капюшон плаща, я встала чуть в стороне от него.
В небе, как напоминание о ночи, висел крошечный белый диск луны. Под ним вдоль линии горизонта появилась тонкая голубая полоска. Я смотрела, как она постепенно расширяется.
– Как поживаете? – произнес мужчина формальное приветствие квакеров, которое мне приходилось слышать в Филадельфии.
Я повернулась к нему, и пряди волос, выбившись из-под капюшона, дико взметнулись над моим лицом.
– …Хорошо, сэр.
У него была ямочка на подбородке и пронзительные карие глаза, над которыми взлетали дуги бровей. Одет он был в простые бриджи с серебряными пряжками на коленях, темный сюртук и треуголку. На лоб падала прядь черных как уголь волос. Я предположила, что он старше меня лет на десять или больше. Я видела его раньше на палубе, а в первый вечер – в столовой, с женой и восьмью детьми, шестью мальчиками и двумя девочками. Мать семейства выглядела утомленной.
– Меня зовут Израэль Моррис, – представился он.
Позже я задумаюсь, не парки ли перенесли меня сюда, не они ли заставили на три месяца задержаться в Филадельфии до отплытия именно этого судна, хотя, конечно, мы, пресвитериане, верили, что именно Господь устраивает счастливые встречи вроде этой, а не мифологические женщины с веретенами, нитками и ножницами.
Паруса громко хлопали и свистели. Я назвала свое имя, и мы молча любовались разгорающимся светом, морскими птицами, взмывающими в небо плавными дугами. Он сказал, что его жена Ребекка – в каюте на карантине. Ухаживает за двумя младшими детьми, заболевшими дизентерией. Он сам был маклером, коммивояжером, и, хотя держался скромно, я догадывалась, что дела его идут успешно.
В свою очередь я рассказала о путешествии с отцом и его внезапной смерти. Слова легко слетали с моего языка, я почти не запиналась. Думаю, столь благотворно на меня действовала бурлящая вокруг вода.
– Прошу принять мои соболезнования, – сказал он. – Должно быть, тяжело одной ухаживать за отцом. Ваш муж не смог поехать с вами?
– Мой муж? О, мистер Моррис, я не замужем.
Лицо его вспыхнуло.
Я попыталась сгладить неловкость:
– Уверяю вас, я не беспокоюсь по этому поводу.
Он рассмеялся и стал расспрашивать о моей семье, о жизни в Чарльстоне. Когда я рассказала ему о доме на Ист-Бей и плантации на севере, улыбка его угасла.
– Так, значит, вы рабовладельцы?
– …Мои родные – да, но я сама этого не поддерживаю.
– И все же связали свою судьбу с теми, кто поддерживает?
Я рассердилась:
– …Они моя семья, сэр. Что, по-вашему, я могу поделать?
Он взглянул на меня с добротой и сочувствием:
– Молчать при виде зла – тоже своего рода зло.
Я отвернулась от него и уставилась на прозрачную воду. Кем надо быть, чтобы сказать такое? Джентльмен с Юга скорее бы проглотил язык.
– Простите мою прямолинейность, – произнес он. – Я квакер. Мы считаем рабство мерзостью. Это важная часть нашей веры.
– …А я пресвитерианка, и, хотя мы не отрицаем рабства, как вы, это важная часть и моей веры.
– Разумеется. Прошу меня извинить. Боюсь, во мне говорит фанатик, и иногда я не владею собой. – Он с улыбкой притронулся к полям шляпы. – Мне надо позаботиться о завтраке для семьи. Надеюсь, мы еще поговорим, мисс Гримке. Счастливо оставаться.
Следующие два дня я думала только о нем – и днем, и даже во сне. Меня тянуло к нему сильнее, чем к Берку, и это пугало. Меня притягивали его суровая совестливость, откровенное квакерство, энергия его идей, энергия его самого. Он был женат, и этому я была рада, поскольку чувствовала себя защищенной.
На шестой день путешествия он подошел ко мне в столовой. Надвигался шторм, корабль несся на всех парусах, и пассажирам запретили выходить на верхнюю палубу.
– Можно сесть с вами? – спросил он.
– …Как вам угодно. – В моей груди разгоралось пламя, я почувствовала, что оно перекинулось на щеки и залило их румянцем. – …Ваши дети поправились? А жена? Она хорошо себя чувствует?
– Болезнь перекинулась на остальных детей, но благодаря Ребекке они выздоравливают. Мы и дня не обошлись бы без нее. Она… – Он вдруг осекся, но я продолжала выжидающе смотреть на него, и он закончил фразу: – Идеальная мать.
Без шляпы он выглядел моложе. Черные волосы его пышной шевелюры вились крупными локонами. Под глазами залегли тени от усталости, и я подумала, что он помогал жене ухаживать за детьми, но он вынул из жилета потрепанную книгу в кожаном переплете и сообщил, что долго читал ночью.
– Это «Дневник» Джона Вулмана, великого защитника нашей веры.
Разговор вновь обратился к квакерству, мистер Моррис стал зачитывать отрывки из книги, пытаясь просветить меня в отношении их веры.
– Все люди одинаково значимы, – сказал он. – Священниками у нас бывают женщины, так же как и мужчины.
– Женщины?
Я дотошно расспрашивала его об этой диковине, и он даже развеселился:
– Могу ли я предположить, что значимость женщины, как и отмена рабства, является частью вашей индивидуальной веры?
– …Я уже давно размышляю о своем призвании.
– Вы – исключительная женщина.
– Некоторые считают меня скорее радикальной, чем исключительной.
Он улыбнулся, и брови его поползли на лоб.
– Возможно ли, чтобы под личиной пресвитерианки скрывался квакер?
– Вовсе нет, – отмахнулась я.
Но позже, оставшись одна, засомневалась. Одно дело порицать рабство в душе, но женщины-пасторы!
В течение нескольких оставшихся дней плавания мы беседовали на продуваемой всеми ветрами верхней палубе, а также в столовой, где пахло вареным рисом и сигарами. Обсуждали не только квакеров, но и богословие, философию и пути освобождения от рабства. Он считал, что отмена рабства должна происходить постепенно. Я спорила, доказывая, что это нужно сделать немедленно. Он нашел во мне интеллектуального собеседника, и все же я до конца не понимала, почему он так приветлив со мной.
В последний вечер Израэль пригласил меня встретиться в столовой с его семьей. Его жена Ребекка держала на коленях младшего ребенка, хнычущего малыша не старше трех лет, розовое личико маячило около ее плеча. Она была из тех тонких, хрупких женщин, чье тело кажется сотканным из воздуха. Легкие, как солома, волосы были разделены посредине пробором и обрамляли лицо тонкими прядями.
Она похлопала ребенка по спине:
– Израэль очень хорошо о вас отзывался. Сказал, вы терпеливо выслушали его объяснения о вере. Надеюсь, он вас не утомил. Он бывает невыносимым. – И она заговорщицки мне улыбнулась.
Меня немного задело, что она оказалась такой хорошенькой и милой.
– …Что ж, он определенно очень основателен, – нашлась я.
В ответ зажурчал смех Ребекки. Я взглянула на Израэля. Он смотрел на жену с сияющей улыбкой.
– Если вернетесь на Север, обязательно погостите у нас, – сказала Ребекка, после чего повела детей в каюту.
Израэль задержался на минуту и достал «Дневник» Джона Вулмана:
– Возьмите, пожалуйста.
– Но это ваша книга. Я не могу ее принять.
– Мне будет очень приятно. По возвращении в Филадельфию я достану себе другой экземпляр. Прошу только: когда прочтете, напишите о своих впечатлениях.
Открыв книгу, он показал мне листок бумаги с его адресом.
В ту ночь, задув фитилек лампы, я лежала без сна и думала о книге, положенной в чемодан, и адресе, спрятанном в ней. «Когда прочтете, напишите мне». Подо мной колыхалась вода, неся наш корабль в раскачивающейся тьме в сторону Чарльстона.
Подарочек
Когда тебя собираются продать, первое, что говорят: «Иди почисти зубы». Так рассказывала Тетка. Она сообщила, что, выбирая раба на рынке, белые люди в первую очередь проверяют их зубы. Правда, после смерти господина Гримке никто из нас не думал о зубах. Нам казалось, жизнь будет идти по-старому.
Через два дня после возвращения Сары с Севера приехал адвокат для оглашения завещания. Все собрались в столовой – дети Гримке и рабы. Я удивилась: зачем госпоже понадобились рабы? Мы стояли по струнке в задней части комнаты, начиная чувствовать себя частью семьи.
Сара сидела по одну сторону стола, Нина – по другую. Сара посматривала на сестру с печальной улыбкой, а Нина отводила взгляд. Они немного повздорили.
Госпожа была в красивом черном траурном платье. Я хотела намекнуть ей, что пора бы снять его и отдать Марии в стирку, поскольку под мышками виднелись серые пятна. Похоже, она носила его с августа, но попробуй ей что-нибудь сказать! Характер этой женщины портился день ото дня.
Адвокат мистер Хьюджер поднялся с ворохом бумаг в руке, сообщил, что это завещание Джона Фошеро Гримке, составленное им в мае. Мы долго слушали бесконечные «по какой причине», «а именно» и «из этого следует». Это было намного хуже Библии.
Дом переходил не к госпоже, а к Генри, которому еще не исполнилось восемнадцати. Но, по крайней мере, она до самой смерти могла жить в этом доме. «Оставляю ей всю мебель, столовое серебро, фарфор, экипаж и двух моих лошадей, а также запас спиртных напитков и провизии, которые останутся в наличии к моменту моей смерти». Перечень продолжался и продолжался. Все добро и движимое имущество.
Потом он зачитал такое, отчего у меня мурашки побежали по спине. «Она должна оставить себе любых шестерых моих негров, на свой выбор, а остальных пусть продаст или раздаст детям, как пожелает».
Рядом со мной стояла Бина.
– Господи, нет, – прошептала она.
Я оглядела шеренгу рабов. Нас было одиннадцать – Розетта год назад умерла во сне.
«Оставить себе любых шестерых… а остальных пусть продаст или раздаст». Пятеро из нас должны покинуть этот дом.
Минта засопела. Тетка шикнула на нее, но даже ее старые глаза округлились от страха. Она, себе на беду, слишком хорошо выучила Фиби. Томфри тоже сильно постарел, а у Эли пальцы скрючились, как веточки. Гудис и Сейб были по-прежнему молоды, но для двух лошадей не нужно держать двух рабов. Принц с его выносливостью хорошо справлялся с работой во дворе, но у него стали случаться приступы дурного настроения, когда он сидел, глядя в одну точку и сморкаясь в рубашку. Мария слыла хорошей работницей, и я думала, ее оставят. А вот Бина еле слышно постанывала, она была нянькой, а нянчить уже некого.
Я сказала себе: «Госпоже понадобится портниха». Но потом вновь взглянула на черное платье и подумала, что теперь госпожа станет обходиться несколькими старыми нарядами и сможет нанимать швею на стороне.
– …Отец не мог написать такое! – возмутилась Сара.
Госпожа бросила на дочь злобный взгляд:
– Он сам написал эти слова, и мы будем уважать его желания. У нас нет выбора. Пожалуйста, позволь мистеру Хьюджеру продолжить.
Когда адвокат возобновил чтение, Сара взглянула на меня теми же печальными голубыми глазами, что и в день своего одиннадцатилетия, когда я стояла перед ней с сиреневой ленточкой на шее. Этот мир жесток, и ей не под силу его улучшить.
* * *
В декабре каждый из нас был на пределе в ожидании решения госпожи: кто останется и кого отошлют? Если меня продадут, как найдет меня матушка, вздумай она вернуться?
Каждую ночь, пытаясь согреть ноги, я клала в постель горячий кирпич и лежала, думая о том, что матушка жива. Как она там? Интересно, купил ли ее добрый человек? И послал ли на плантацию? Занимается ли она шитьем? С ней ли мой маленький брат или сестра? Носит ли она на шее мешочек? Я знала, если бы могла, она бы вернулась. Здесь, в дереве, ее душа. Здесь обретаюсь и я.
«Не дай мне стать одной из тех, кому придется уйти».
В этом году госпожа не устраивала празднования Рождества, но разрешила, если кто пожелает, отмечать Джонкону. Эту традицию несколько лет назад привезли негры с Ямайки. Бывало, Томфри нарядится в рубашку и штаны с нашитыми полосками разноцветных ярких тряпок и шляпу из печной трубы. Мы называли его Старьевщиком, тащились за ним к задней двери, распевая песни и гремя горшками. Он постучит в дверь, а госпожа выйдет со всеми домочадцами и станет смотреть, как он пляшет, а потом вручит нам маленькие подарки – монетку или новую свечку. Иногда шарф или глиняную трубку. Считалось, что это делает нас счастливыми.
В этом году мы не были настроены на праздник, но в день Джонкону во дворе появился Томфри в лохматом наряде, и мы от души пошумели, позабыв на время о бедах.
Из задней двери вышла госпожа в черном платье с корзиной подарков, за ней следовали Сара, Нина, Генри и Чарльз. Они пытались выдавить из себя улыбки. Даже Генри, очень похожий на мать, напоминал улыбающегося ангелочка.
Томфри исполнил джигу – крутился, подпрыгивал и размахивал руками. Развевались ленточки, и, когда он остановился, все захлопали в ладоши. Томфри снял высокую шляпу и почесал седую голову. Госпожа раздала женщинам веера из раскрашенной бумаги. Мужчины получили две монеты, а не одну.
Весь день небо было затянуто тучами, но вот выглянуло солнце. Опершись на трость с золотым набалдашником, госпожа искоса посмотрела на нас. Потом назвала имя Томфри. Затем Бины. Эли. Принца. Марии.
– У меня есть для вас что-то еще, – добавила она.
И вручила каждому баночку масла для полоскания горла.
– Вы хорошо мне служили. Томфри, ты отправишься в семью Джона. Бина, поедешь к Томасу. А тебя, Эли, я отправляю к Мэри. – Затем госпожа повернулась к Принцу и Марии. – Очень жаль, но вас придется продать. Я этого не хочу, но так надо.
Все молчали. На нас, как камень, навалилась гнетущая тишина.
Мария упала на колени и поползла к госпоже, плача и умоляя изменить решение.
Госпожа вытерла глаза. Потом повернулась и в сопровождении сыновей пошла к дому, но Сара и Нина остались. На их лицах читалась жалость.
Казнь меня миновала. «Разве Господь не спас Подарочка?» Казнь миновала также и Гудиса, и я подивилась тому, что почувствовала облегчение. Но во всем этом Бога не было. Ничего, кроме четверых стоящих рабов и Марии на коленях. Невыносимо было смотреть на Томфри, который комкал в руках шляпу. На Принца и Эли, опустивших глаза. На Бину, с веером в руке, не отрывавшую взгляда от Фиби. Дочь, которую ей не суждено будет больше увидеть.
* * *
Госпожа распределила обязанности для оставшихся рабов. Сейбу перешли от Томфри обязанности дворецкого. Гудис стал заниматься рабочим двором, конюшней и экипажем. Фиби досталась стирка, а Минте и мне уборка, которой прежде занимался Эли.
Когда наступил Новый год, госпожа велела мне почистить люстру в гостиной. Проворчала, что Эли десять лет толком не чистил эту люстру. В ней было двадцать восемь рожков с хрустальными колпаками и подвесками из граненого стекла. Я залезла на лестницу в белых хлопковых перчатках, разобрала люстру на части, разложила их на столе и почистила нашатырным спиртом. А вот собрать снова не смогла.
Я нашла Сару в ее комнате. Она читала книгу в кожаном переплете.
– Сейчас все сделаем, – успокоила она.
После ее возвращения мы почти не разговаривали. Она все время грустила и была погружена в эту самую книгу.
Когда мы наконец собрали люстру и повесили под потолок, у Сары на глазах вдруг показались слезы.
– Ты расстраиваешься из-за папы?
Ответ поразил меня, и я поняла, что в ее словах таится неподдельная боль, которую она привезла с собой.
– …Мне двадцать семь лет, Подарочек, и это теперь моя жизнь. – Она окинула взглядом комнату, посмотрела на люстру, снова на меня. – …Вот это все – моя жизнь. Только здесь и до скончания дней. – Голос ее оборвался, и она прикрыла рот рукой.
Она, так же как и я, жила в ловушке, но загнал ее туда собственный ум, мнения других людей, а не закон. В африканской церкви мистер Визи любил повторять: «Будьте бдительны, человека можно поработить дважды: один раз телом, другой раз душой».
Я попыталась высказать это Саре.
– Телом я могу быть рабыней, но не душой. Ты же – наоборот.
Она с удивлением взглянула на меня, и ее слезы заблестели, как граненый хрусталь.
* * *
В день, когда увезли Бину, из кухонного корпуса все время доносился плач Фиби.
Сара
1 февраля 1820 года
Дорогой Израэль,
я часто думаю о нашем разговоре на борту корабля. Прочитала вашу книгу, и она меня очень воодушевила. Есть много вещей, о которых мечтаю вас расспросить! Как бы мне хотелось встретиться с вами вновь…
3 февраля 1820 года
Дорогой мистер Моррис,
полгода я пробыла вдали от ужасов рабства, и теперь, по возвращении в Чарльстон, мое сердце переполняется новой мукой при виде этой мерзости. После прочтения вашей книги все стало только хуже. Кроме вас, мне не к кому обратиться…
10 февраля 1820 года
Дорогой мистер Моррис,
надеюсь, у вас все хорошо. Как поживает ваша милая жена Ребекка…
11 февраля 1820 года
Благодарю вас за книгу, сэр. В ваших квакерских верованиях я нахожу необычную красоту – мысль о том, что в нас присутствует зерно света, таинственный Внутренний Голос. Расскажите, пожалуйста, как этот Голос…
Я все писала и писала ему письма, которые была не в состоянии закончить. И неизменно останавливалась на середине фразы. Откладывала перо, складывала письмо и прятала его к остальным – в глубину ящика письменного стола.
Был ранний вечер, надвигались зимние сумерки. Я достала пухлую пачку, развязала черную атласную ленточку и добавила в пачку письмо от 11 февраля. Отправь я письма, мне стало бы еще горше. Меня сильно тянуло к этому человеку. Его ответ на любое письмо только подстегнул бы мои чувства. К тому же его поощрения меня к квакерству до добра не доведут. Здесь у нас квакеры считались презираемой сектой – кучка раздражающе эксцентричных и плохо одетых людей, которые на улице привлекали к себе нездоровое внимание. Ни к чему мне становиться объектом насмешек и преследований. И моя мать ни за что не позволит этого.
Послышалось постукивание трости по сосновому полу, я схватила письма и в панике выдвинула ящик. От неловкого движения письма упали ко мне на колени и рассыпались по ковру. Я наклонилась, чтобы поднять их. В этот момент дверь без стука распахнулась, и на пороге возникла мать, взгляд ее устремился на мой тайник.
Я подняла на нее глаза, теребя в руках черную ленточку.
– Ты нужна в библиотеке, – сказала она, не проявив ни малейшего интереса к рассыпанным бумагам. – Сейб упаковывает книги твоего отца, и я хочу, чтобы ты проследила за процессом.
– Упаковывает?
– Их поделят между Томасом и Джоном, – сообщила она и, повернувшись, вышла.
Я собрала письма, перевязала черной ленточкой и положила в ящик. Не знаю, зачем я их хранила, – это ведь глупо.
Сейба в библиотеке я не застала. Он успел освободить почти все полки и сложил книги в несколько больших чемоданов, что лежали открытыми на полу – том самом полу, где я много лет назад стояла на коленях, когда отец запретил мне пользоваться библиотекой. Не хотелось думать о том ужасном эпизоде и о растерзанной ныне комнате. Книги потеряны для меня, всегда были потеряны.
Я опустилась в отцовское кресло. В центральном коридоре громко тикали часы, и я ощутила, как меня вновь захлестывает тоска, на сей раз более сильная. С каждым днем я все глубже погружалась в меланхолию. Впервые я познакомилась с ней в двенадцать лет, жизнь тогда для меня потеряла всякий смысл. В те дни мать приглашала доктора Геддингса, и я опасалась, что она опять это сделает. Каждый день я заставляла себя спускаться к чаю. Мне приходилось выносить визиты ее знакомых. Я продолжала ходить в церковь, на занятия по изучению Библии, на благотворительные встречи. По утрам я сидела с матерью над вышивкой – на коленях пяльцы с канвой, иголка снует взад-вперед. Мама поручила мне вести записи по ведению хозяйства, и каждую неделю я разбирала припасы, составляла описи и списки предстоящих закупок. Дом, рабы, Чарльстон, мать, пресвитериане – вот и вся моя жизнь.
Нина отдалилась от меня. Сердилась за то, что я надолго осталась в Филадельфии после смерти отца.
– Ты даже не представляешь себе, как ужасно остаться здесь одной! – кричала она. – Мама постоянно выговаривала мне за мой вспыльчивый характер, выискивала промахи. Это было ужасно!
Я всегда смягчала разногласия между ней и матерью, а отлучившись надолго, оставила сестру незащищенной.
– Прости меня, – попросила я.
– Ты написала лишь один раз! – Ее красивое лицо исказилось от боли и обиды. – Один раз.
Это правда. Я была настолько очарована той свободой, что обо всем позабыла.
– Прости, – повторила я.
Зная, что со временем она извинит меня за эгоизм, я чувствовала, что у возникшей отчужденности есть и другие причины. В свои пятнадцать сестра хотела оторваться от меня, выйти из моей тени, осознать, кто она есть. Мое затворничество в Филадельфии стало лишь предлогом для провозглашения независимости.
Убегая в свою комнату в день нашей ссоры, она прокричала:
– Мама права! У меня нет собственного разума. Только твой!
Мы стали почти чужие. Я ничего не пыталась изменить, и от этого мое отчаяние только усиливалось.
Я уставилась на чемоданы с книгами на полу библиотеки, вспоминая, как некогда стремилась к образованию, к обретению цели. Мир в те времена казался таким заманчивым.
Сейб не возвращался. Я поднялась с кресла и принялась с ностальгией перебирать книги. Почти сразу наткнулась на «Биографию Жанны д’Арк из Франции». Не могу сказать, сколько раз перечитывала этот чудесный томик о подвигах святой Иоанны еще до того, как отец наложил запрет на библиотеку. Открыв книгу сейчас, я воззрилась на изображение ее герба – два ириса. Я уже и позабыла об этом цветке, но теперь поняла, почему вцепилась в пуговицу с ирисом, когда мне было одиннадцать. Я засунула книгу под шаль.
Той ночью я не могла уснуть, слышала, как часы внизу бьют два, потом три. Вскоре начался ливень и немилосердно захлестал по веранде и окнам. Я вылезла из-под одеяла и зажгла лампу, решив написать Израэлю. Я рассказала бы ему, что меня временами душит меланхолия, что иногда думаю о могиле как о прибежище. Сочинила бы еще одно письмо, которое бы снова не отправила. Может, мне стало бы легче.
Я выдвинула ящик стола. На своих местах лежали Библия и комментарий к Блэкстону, мои канцелярские принадлежности, но пачки писем видно не было. Я придвинула лампу ближе и пошарила в пустых углах. Там, свернувшись злобной запоздалой мыслью, лежала черная ленточка. Письма к Израэлю исчезли.
Мне захотелось накричать на мать. Не помня себя от гнева, я распахнула дверь и бросилась вниз по лестнице, уцепившись за перила, поскольку боялась упасть.
Я забарабанила в дверь кулаком, подергала ручку. Заперто.
– …Как ты посмела их взять?! – пронзительно закричала я. – Как ты посмела! Открой дверь. Открой!
Я не могла представить, что она подумала, читая мои сокровенные излияния к незнакомцу с Севера. Квакер. Женатый мужчина. Считала ли она, что я оставалась в Филадельфии ради него?
За дверью мать звала Минту, спящую на полу рядом с ее кроватью. Я продолжала колотить в дверь:
– …Открой дверь! Ты не имеешь права!
Мать не отвечала, но с лестничной площадки донесся испуганный голос Нины:
– Сестра?
Подняв глаза, я увидела в темноте Нину в белой ночной сорочке и рядом с ней Генри и Чарльза – все трое напоминали привидения.
– …Ложитесь спать, – сказала я.
Босые ноги прошлепали по полу, одна за другой закрылись двери их комнат. Я вновь подняла кулак, но ярость начала утихать, возвращаясь в то ужасное место, где возникла. Совершенно обессиленная, я прислонилась головой к дверному косяку, проклиная себя.
* * *
Утром я была не в силах встать с постели. Неведомая сила тянула меня вниз. Безучастная ко всему, я зарылась лицом в подушку.
В следующие дни Подарочек приносила мне подносы с едой, к которой я почти не притрагивалась. Хотелось забыться сном, но сон бежал от меня. Иногда по ночам я бродила по веранде, всматривалась в сад внизу, представляя себе, как падаю.
Однажды Подарочек положила на кровать подле меня мешочек из рогожи.
– Открой его, – попросила она.
Из мешка доносился запах гари. Внутри я нашла свои письма – опаленные и почерневшие. Подарочек увидела, как Минта бросает их в очаг кухонного корпуса по приказу моей матери, и вытащила письма кочергой.
С наступлением весны мое душевное состояние не улучшилось, ко мне снова пригласили доктора Геддингса. Мама казалась искренне обеспокоенной. Приходила в мою комнату с охапками нарциссов, ласковым голосом приглашала прогуляться с ней или сообщала, что попросит Тетку испечь для меня рисовый пудинг. Она приносила записки от членов моей церковной общины, которые справлялись о моем здоровье. Я безучастно смотрела на нее и отворачивалась к окну.
Нина тоже приходила.
– Это из-за меня? – спрашивала она. – Из-за меня тебе плохо?
– Ах, Нина, – вздыхала я. – Не надо так думать… Не могу объяснить, что со мной происходит, но дело не в тебе.
И вот однажды в мае появился Томас. Он усадил меня на крыльце, где теплый воздух был напоен ароматом сирени, и стал гневно рассказывать о недавнем компромиссе в конгрессе, который отменял запрет рабства в Миссури.
– Этот чертов Генри Клей! – воскликнул Томас. – Великий миротворец. Он потворствует новому распространению заразы.
Я не имела понятия, о чем он говорит. Однако, к своему удивлению, заинтересовалась. Позже я разгадала намерение Томаса – попытаться как-то расшевелить меня.
– Он болван. Думает, разрешение рабства в Миссури погасит горящие здесь у нас головни, но оно лишь усугубит разобщение в стране. – Томас взял газету и развернул ее передо мной. – Взгляни на это.
На первой полосе «Меркьюри» красовалось письмо, в котором компромисс Клея называли «пожарным колоколом в ночи».
«Он разбудил меня и наполнил сердце ужасом. Стал для меня похоронным звоном по Союзу…» Письмо было подписано – Томас Джефферсон.
Меня уже давно не волновали происходящие в мире события. Но сейчас во мне вспыхнуло прежнее возмущение. Необходимо найти новые смелые аргументы в пользу отмены рабства. Мне показалось, мой брат тоже его не приемлет.
– …Ты поддерживаешь северян? – спросила я.
– Я знаю только, что нельзя по-прежнему закрывать глаза на тот грех, когда людей заковывают в цепи. Необходимо положить этому конец.
– …Значит, ты освободишь своих рабов, Томас? – не удержалась я от язвительности, зная, что брат и не думал об этом.
– Пока ты была в отъезде, я основал здесь, в Чарльстоне, отделение американской колонизации. Мы собираем деньги.
– …Только не говори, что вы по-прежнему надеетесь выкупить рабов и отослать обратно в Африку. – Я не испытывала подобного возбуждения со времен наших бесед с Израэлем, у меня горели щеки. – Значит, таков твой ответ на распространяющуюся заразу?
– Возможно, ответ неубедительный, Сара, но другого я пока вообразить не могу.
– …Неужели у нас такое бедное воображение, Томас? Если Союз погибнет, как говорит бывший президент, это произойдет из-за недостатка воображения… Из-за спеси южан, нашей любви к богатству и душевной черствости!
Томас поднялся и с улыбкой посмотрел на меня:
– Вот она какая – моя сестра.
Не могу сказать, что я стала прежней, но меланхолия постепенно прошла, уступив место волнующему чувству обновления, словно я была новорожденным существом без кожи или скорлупы. Я начала есть рисовые пудинги. Сидя на солнце, прихлебывала чай и перечитывала книгу о квакерах. Я часто размышляла о пожарном колоколе в ночи.
В середине лета я, повинуясь порыву, достала лист бумаги и перо.
19 июля 1820 года
Дорогой мистер Моррис,
простите, что долго не писала вам. Все это время моим верным товарищем была книга, которую вы подарили мне в ноябре прошлого года на борту корабля. Меня привлекают верования квакеров, но я не знаю, достанет ли у меня смелости следовать им. Не сомневаюсь, что за все придется дорого платить. Не прошу ничего, кроме ваших советов.
С уважением,
Сара Гримке.Я вручила письмо Подарочку:
– Аккуратней с ним. Отправь сама вечерней почтой.
* * *
Когда пришел ответ от Израэля, я осматривала кладовые при кухне и составляла перечень продуктов, которые надо закупить на рынке. Подарочек перехватила письмо у Сейба на пороге и отдала мне.
Я взяла нож и вскрыла печать. Потом прочитала письмо дважды: один раз про себя, второй – вслух для нее.
10 сентября 1820 года
Дорогая мисс Гримке,
было очень приятно получить ваше письмо и узнать, что вы заинтересовались квакерами. Труден путь Господень, и цена высока. Хочу напомнить вам цитату из Библии: «Тот, кто нашел свою жизнь, может потерять ее, и потерявший жизнь может обрести ее». Не бойтесь утратить то, что должно быть утрачено.
С тяжелым сердцем сообщаю вам скорбную весть. В январе скончалась моя любимая Ребекка. Она умерла от тяжелой инфлюэнцы вскоре после нашего возвращения из Филадельфии. Присматривать за детьми приехала моя сестра Кэтрин. Дети очень скучают по маме, как и я, но нас утешает то, что наша возлюбленная жена и мать сейчас с Господом.
Пишите. Я готов поддерживать вас на вашем пути.
Ваш друг Израэль Моррис.* * *
В середине дня я сидела в своей комнате с закрытыми глазами, сложив руки на коленях, и старалась услышать Голос, который, по разумению квакеров, живет внутри каждого человека. Я увлеклась этой странной деятельностью после получения письма от Израэля, хотя и сомневалась, что квакеры назвали бы это «деятельностью». Для них слушание Голоса сводилось к полному бездействию, к подчинению умиротворенной человеческой душе. Хотелось верить, что Бог в конце концов проявит себя, нашепчет свои указания и разъяснения. Как обычно, я ничего не услышала.
Я сразу же ответила на письмо Израэля. Рука моя дрожала, и строчки получились неровными. Я излила на него свое сочувствие, молитвы, всевозможные благочестивые уверения. Каждое слово казалось банальным, как пустая болтовня, которую я слушала на занятиях по изучению Библии. Но за этими словами я чувствовала себя защищенной.
Он написал мне очередное письмо, наконец-то началась переписка. В основном это были серьезные вопросы с моей стороны и его ответные наставления. Я открыто спрашивала, на что похож Внутренний Голос. Как я его узнаю? «Не могу сказать, – писал он. – Но когда услышите, вы его узнаете».
В тот день тишина особенно давила, словно я оказалась под толщей воды. Она забивала уши и пульсировала в барабанных перепонках. В голове, как белки в гуще деревьев, мелькали беспокойные мысли. Вероятно, во мне было слишком много от англиканки, пресвитерианки, от Гримке. Взглянув на камин, я увидела, что угли погасли.
Еще несколько минут, говорила я себе. Мои веки вновь опустились. Не осталось ни ожиданий, ни надежд, ни стремлений, и я перестала думать о Голосе. В этот момент бег мыслей остановился, и я поплыла в некоем спокойном потоке.
Поезжай на Север.
Голос нарушил мое краткое забытье, словно брошенный в воду темный красивый камушек.
У меня перехватило дыхание. Это не было похоже на обычную мысль – нечто отчетливое, пульсирующее и несущее печать Бога.
Поезжай на Север.
Я открыла глаза. Сердце билось так сильно, что пришлось прижать ладонь к груди.
Это было невообразимо. Незамужние дочери не уезжают жить самостоятельно в незнакомое место. Они торчат дома с матерью, а если нет матери, то с сестрами или братьями. Они не порывают со всеми, кого знают и любят, не ломают свою жизнь, не бросают тень на свою репутацию и имя семьи. И не устраивают скандалов.
Я поднялась и принялась вышагивать перед окном, говоря себе, что это невозможно. Мать устроит мне Армагеддон. Голос или не Голос, она быстро с ним разберется.
Отец оставил сыновьям всю свою собственность и обширную долю богатства, но не забыл и про дочерей. Каждой из нас он завещал по десять тысяч долларов, и при экономной жизни на проценты я была бы обеспечена до конца дней.
За окном разрасталось необъятное небо, наполненное рассеянным светом. Я вдруг вспомнила тот день прошлогодней зимы, когда Подарочек чистила люстру в гостиной и заявила мне: «Телом я могу быть рабыней, но не душой. Ты же – наоборот». Я тогда отмахнулась от ее слов. Что могла она понимать? Но теперь осознала, насколько они правильны. Моя душа жила в оковах.
Я подошла к комоду и выдвинула ящик, который почти никогда не открывала, – тот, где хранилась шкатулка из лавы. Внутри нашла серебряную пуговицу, которую вернула мне Подарочек несколько лет назад. О пуговице давно не вспоминали, и она потускнела. Я положила ее на ладонь.
Как человеку узнать голос Бога? Я поверила, что голос, повелевавший мне ехать на Север, принадлежит Ему, хотя, возможно, ощутила собственный порыв к свободе. Возможно, то был мой голос. Разве это имеет значение?
Часть четвертая Сентябрь 1821 – июль 1822
Сара
Дом назывался Грин-Хилл. Когда Израэль приглашал погостить в его семье в окрестностях Филадельфии, я представляла себе просторный каркасный дом с большой верандой и ставнями из сосны. Приехав к ним в конце весны, я с изумлением обнаружила небольшой каменный замок. Грин-Хилл оказался мегалитическим сооружением из бледно-серых камней, украшен он был арочными окнами, балконами и башенками. Увидев его впервые, я почувствовала себя настоящей изгнанницей.
Покойная жена Израэля Ребекка, по крайней мере, постаралась сделать дом уютным. Наполнила его вязаными ковриками, подушками с цветочным рисунком, обставила скромной мебелью. На стенах висели часы с кукушкой, из которых выскакивали птички и куковали каждый час. Жилище это было очень странным, но постепенно я привыкла к жизни в каменоломне. Я любила смотреть, как блестит под дождем каменный фасад и как он серебрится при свете полной луны. Мне нравилось слушать, как медленной спиралью закручивается в комнатах эхо детских голосов, было приятно, что в жаркие дни воздух в помещении остается сумрачным и прохладным. Но больше всего меня покорила неприступность замка.
Я поселилась в мансардной комнате на третьем этаже. Перед этим несколько месяцев переписывалась с Израэлем и ругалась с матерью. Я надеялась уверить ее в том, что все это промысел Божий. Она была набожной женщиной. Поколебать ее представления о жизни могло лишь благочестие, но, когда я рассказала о Внутреннем Голосе, она пришла в ужас. Решила, что я встала на путь одержимых женщин-святых, которые позволяли бросать себя в кипящее масло и поджаривать на решетке. Когда я наконец призналась, что намерена жить под крышей мужчины, которому писала те скандальные неотправленные письма, у матери сдало здоровье, на нее посыпались разные хвори, начиная с лихорадки и кончая болью в груди. Она не притворялась, о чем говорило ее осунувшееся лицо в испарине, и я опасалась, что мое намерение может убить ее.
– Если в тебе осталась хоть капля благопристойности, ты не сбежишь из дома к вдовцу-квакеру! – кричала она во время нашей последней стычки.
Мы были в ее спальне, и я стояла спиной к окну, глядя на ее покрасневшее от гнева лицо.
– …Там живет также незамужняя сестра Израэля, – в десятый раз повторила я. – …Я просто сниму у них комнату. Буду помогать с детьми, заниматься с девочками… Все вполне пристойно. Считай меня гувернанткой.
– Гувернантка. – Она прижала ко лбу тыльную сторону ладони, словно отгораживаясь от чего-то. – Это убило бы твоего отца, будь он жив.
– …Не впутывай отца. Он хотел для меня счастья.
– Не могу – не стану тебя на это благословлять!
– …Значит, поеду без твоего благословения.
Я оцепенела от собственной смелости.
Мать откинулась в кресле, и я поняла, что сильно обидела ее. Она сердито уставилась на меня воспаленными глазами:
– И поезжай! Только держи при себе омерзительные россказни о голосах. Ты едешь на Север лечиться, понятно?
– …И каким же недугом я страдаю?
Повернувшись к окну, она сделала вид, что рассматривает кусок шафранового неба. Молчание затянулось, и я решила, что мне можно уйти.
– Кашель, – изрекла она. – Мы боимся, что у тебя чахотка.
Вот такой пакт я заключила. Мать согласится на мой отъезд и не выгонит меня из семьи, а я притворюсь, что моим легким угрожает чахотка.
За три месяца в Грин-Хилле я часто тосковала по дому и чувствовала себя не в своей тарелке. Я скучала по Нине, да и Подарочек не выходила из головы. К своему удивлению, я скучала по Чарльстону – разумеется, не по рабовладению или общественным кастам. Мне вспоминались блики света на воде гавани, просоленный морской воздух, райские птицы с оранжевыми головками в садах, летние ветра, хлопающие ставнями на верандах. Стоило закрыть глаза, и я слышала колокола церкви Святого Филипа и ощущала душный сладкий аромат бирючины, заполняющий город.
К счастью, дни здесь текли быстро. Они были заполнены заботами о восьми осиротевших детях от пяти до шестнадцати лет, а также домашними делами, с которыми я помогала сестре Израэля Кэтрин. Даже в самых своих суровых пресвитерианских убеждениях мне далеко до нее. Это была исполненная благих намерений женщина, отличающаяся неискоренимой чопорностью. Она плохо видела, и даже очки не позволяли ей вдеть нитку в иголку или отмерить муку. Не представляю, как они управлялись с делами до меня. Платья девочек были подшиты неровно, и в бисквит вместо сахара вполне могла попасть соль.
Каждую неделю мы ездили в город в молитвенный дом на Арч-стрит, поездки были долгими и утомительными. Я стала стажером-квакером, после того как подверглась допросу со стороны совета старейшин по поводу своих убеждений. Теперь приходилось ожидать их решения, проявляя себя с наилучшей стороны.
Каждый вечер, к огромному неудовольствию Кэтрин, мы с Израэлем спускались с холма к небольшому пруду – покормить уток. Украшенные радужными зелеными перьями и причудливыми черными хохолками, эти птицы словно бросали вызов квакерству. Кэтрин как-то сравнила их оперение с моими нарядами.
– Неужели все южные дамы склонны наряжаться напоказ? – спросила она.
«Если бы эта женщина только знала!» Самые пышные свои наряды я оставила дома. Подарила Нине несколько шелковых платьев, усыпанных всевозможными украшениями – от перьев до меха, роскошный головной убор из кружев, привезенную из-за границы модную шляпу, накидку из оборчатого тюля, брошь из лазурита, нитки жемчугов, веер, инкрустированный крошечными зеркальцами.
В какой-то момент мне пришлось бы перешить свой капор. И отказаться от всех любимых вещей, облачиться в серые платья и скромные капоры, став совсем непривлекательной. Кэтрин уже предложила мне в качестве «поощрения» несколько мышиных нарядов, как будто их вид мог вызвать что-то помимо отвращения. К счастью, ритуал отказа от украшательства должен был состояться лишь по окончании испытательного срока, и я не торопила события.
Прогуливаясь с Израэлем у пруда, мы бросали в воду хлебные крошки и смотрели, как утки спешат к ним. В зарослях рогоза в дальнем конце пруда лежала вверх днищем старая шлюпка, но мы не отваживались покататься на ней, сидели на сооруженной моим спутником скамье и беседовали о детях, политике, Боге и неизменно о вере квакеров. Израэль часто говорил о жене, скончавшейся полтора года назад. Его Ребекку можно было бы причислить к лику святых. Однажды, когда он заговорил о ней, его голос прервался, он взял меня за руку, и мы молча сидели в сгущающихся фиолетовых сумерках.
* * *
Как-то в сентябре, на исходе лета, я забылась сном на кровати у себя в комнате и вдруг сквозь сон услышала детский плач и сразу очнулась от дремоты. Окно было открыто, и какое-то время я не различала ничего, кроме стрекотания сверчков. Потом снова послышалось хныканье.
Открыв скрипучую дверь, я увидела Бекки, шестилетнюю дочь Израэля, в огромной белой ночной рубашке. Она громко плакала и терла глаза. Девочке досталось не только имя матери, но и ее тонкие соломенно-желтые волосы. И все же ребенок чем-то напоминал мне меня саму. Светлые, едва заметные брови и ресницы придавали ей тот же бесцветный вид, что и у меня. Более того, она нечетко произносила и проглатывала слова, за что ее немилосердно дразнили братья и сестра. Услышав, как брат называет ее «мямля», я сделала ему внушение. С тех пор он избегал меня, а вот Бекки ходила за мной, как ручной медвежонок.
Девочка бросилась ко мне на шею.
– Боже правый, что случилось?
– Мне приснилась мамочка. Она была в ящике под землей.
– О, милая моя, нет. Твоя мамочка сейчас с Богом и ангелами.
– Но я видела ее в ящике. Видела. – Она оросила слезами мое платье.
Я обняла ее и, когда рыдания прекратились, сказала:
– Ладно… Я отведу тебя в твою комнату.
Отстранившись, она юркнула в мою кровать и натянула одеяло до подбородка:
– Хочу спать у тебя.
Я легла под одеяло, и, когда девочка придвинулась ко мне, уткнувшись в плечо, на меня снизошел невыразимый покой. Ее волосы пахли листьями майорана, которые Кэтрин зашивала в подушки. Когда ее ручонка легла ко мне на грудь, я заметила в сжатом кулачке цепочку.
– …Что у тебя в руке?
– Я сплю с ним, – ответила Бекки. – Но тогда мне снится мама.
Она разжала пальцы, и я увидела круглый золотой медальон. На передней стороне был выгравирован букетик нарциссов с бантиком, а ниже имя Ребекка.
– Это мое имя, – сказала она.
– И медальон тоже твой?
– Да. – Девочка вновь зажала медальон в кулаке.
Я ни разу не видела украшений на Кэтрин или старшей сестре Бекки, а вот в Чарльстоне медальон на шее маленькой девочки был столь же привычен, как заколка для волос.
– Мне он больше не нужен, – сказала она. – Хочу, чтобы ты его носила.
– …Я? О, Бекки, я не могу носить твой медальон.
– Почему? – Она приподнялась, и ее глаза снова затуманились.
– Потому что… он твой, на нем твое имя, а не мое.
– Но ты могла бы поносить его сейчас. Немножко. – Она бросила на меня умоляющий взгляд, и я взяла медальон.
– …Я сохраню его для тебя.
– Наденешь?
– …Один раз, если это доставит тебе удовольствие. Но только один.
Постепенно она задышала ровнее, и я услышала, как она бормочет:
– Мама.
* * *
Всю неделю Бекки бросала красноречивые взгляды на воротник моего платья. Я надеялась, что она забудет эпизод с медальоном, но почему-то ей очень хотелось, чтобы я носила его. И, не увидев медальона, она сразу огорченно поникала.
Было ли глупо с моей стороны так осторожничать? Внутри медальона лежал локон волос – Бекки, как я полагала, но такого неуловимого оттенка, что должен был напоминать о ее матери. Если созерцание цепочки на моей шее доставляло девочке короткую радость, почему бы не порадовать ее?
Обычно я надевала цепочку с медальоном по четвергам, на урок с девочками. Мальчики каждое утро встречались в классной комнате с гувернером, приезжавшим из города, а я занималась с девочками по вечерам. Израэль соорудил ряд парт, прикрепленных к стене, и длинную скамью. Кроме того, в классе была грифельная доска, полки для книг и учительский стол, пахнущий кедром. В то утро я надела платье изумрудного цвета, которое носила редко, поскольку его цвет сильно напоминал утиные перья. Вырез горловины доходил до ключиц, и в ямке между ними приютился золотой медальон.
Заметив его, Бекки поднялась на цыпочки, и ее личико на миг озарилось светом. В течение следующего часа она отблагодарила меня тем, что каждый раз, когда я задавала вопрос, поднимала руку независимо оттого, знала ли ответ.
Я сама составляла расписание занятий, а потому решила, что «образование для деликатного женского ума» по системе моего давнишнего врага мадам Руфин совершенно нам не подходит. Я намеревалась учить девочек географии, всемирной истории, философии и математике. Они должны освоить гуманитарные науки и в конце обучения будут знать латынь лучше братьев.
Тем не менее я не была против естествознания и после особенно утомительного урока на тему долготы и широты открыла книгу Джона Джеймса Одбана «Птицы Америки», тяжелый том в коричневом кожаном переплете, весящий не меньше Бекки. Найдя страницу с воротничковым рябчиком, обитающим в местных лесах, я спросила:
– Кто умеет подражать его крику?
И вот мы, стайка рябчиков у открытого окна, принялись выводить трели и свистеть. Вскоре в комнату вошла Кэтрин и пожелала узнать, какой урок я веду. Она услышала наше щебетание, когда снимала в огороде последние огурцы.
– Вы так сильно шумели, – заметила она.
На руке у нее висела корзина с овощами, платье пепельного цвета испачкалось в земле. Бекки, почувствовав раздражение тети, заговорила первой:
– Мы звали рябчиков.
– Вот как? Понимаю. – Кэтрин взглянула на меня. – Это было чересчур громко. В следующий раз не шумите так.
Я улыбнулась ей. Она наклонила голову и подошла ближе, так что задела меня подолом платья. Глазами, увеличенными толстыми линзами очков, уставилась на медальон.
– Что это значит? – спросила она.
– …О чем вы спрашиваете?
– Снимите это!
Между нами вклинилась Бекки:
– Тетушка, тетушка!
Кэтрин проигнорировала ее:
– Я сразу разгадала ваши намерения, Сара, но я не думала, что у вас хватит наглости носить медальон Ребекки!
– …Ребекки?.. Хотите сказать, он принадлежал… – Слова застряли у меня в горле, и я на миг онемела.
– Жене Израэля, – закончила она мою фразу.
– Тетушка! – Поднятое кверху лицо Бекки, выглядывало из волн наших серо-зеленых юбок, словно умоляя о спасении. – Я сама дала ей медальон.
– Что ты сделала? Мне все равно, кто дал. Она не должна была его брать.
Кэтрин, шумно дыша, вытянула вперед руку, едва не задев меня за подбородок.
– …Но я… не знала.
– Дайте мне, пожалуйста, медальон.
– Нет! – вскрикнула Бекки и повалилась на коврик.
Отступив, я расстегнула цепочку и положила ее в руку Кэтрин. Затем наклонилась поднять Бекки с пола, ее тетя осторожно потянула ребенка за руку и вывела обеих девочек из комнаты.
* * *
Я спокойно и неторопливо вышла за дверь и по крутому откосу спустилась к пруду. Не доходя до лесных зарослей, я оглянулась на дом. Свет пока еще оставался ярким и прозрачным, но скоро должен приехать Израэль, и Кэтрин дождется его с медальоном.
Я вошла в заросли, остановилась на несколько мгновений, зажав рот рукой и собираясь с духом. Потом выпрямилась и пошла по тропинке к воде.
Еще не видя пруда, я услышала его – кваканье лягушек в тине, тонкий стрекот насекомых. Повинуясь порыву, прошла вдоль берега к брошенной лодке. Она увязла в тине, и у меня едва хватило сил перевернуть ее. Я подняла весло и осмотрела посудину – нет ли дыр и сгнившего дерева. Убедившись, что все в порядке, я приподняла юбку, забралась в лодку и поплыла к середине пруда, подальше от всех. Я раздумывала, что скажу ему и не подведет ли опять меня голос.
Шлепая веслом по воде, я плавала довольно долго. Над водой заклубился пар, по воздуху носились стрекозы, и все это казалось мне прекрасным. Я надеялась, Израэль не отошлет меня прочь. Надеялась, на этот раз не возникнет Внутренний Голос со словами: «Поезжай на Юг».
– Сара!
Я вздрогнула так сильно, что лодка закачалась и мне пришлось ухватиться за борта.
– Что вы делаете? – крикнул Израэль.
Он стоял на берегу в бриджах со сверкающими пряжками, без шляпы. Заслонив глаза ладонью, он махал мне рукой.
Я опускала весло в воду, потом вытаскивала, впопыхах ударяя им по остову шлюпки, и шлюпка, вихляя из стороны в сторону, шла к берегу.
Мы сидели на скамье, и я силилась объяснить ему, что ошиблась, была уверена, что медальон принадлежит его дочери Ребекке, а не его жене Ребекке. Рассказала Израэлю о вечере, когда Бекки дала мне медальон, и пусть я говорила с запинками, но высказала все, что хотела.
– …Я никогда не пыталась бы занять место вашей жены.
– Да, – откликнулся он. – И никто не смог бы.
– …Сомневаюсь, что Кэтрин поверит мне, хотя… Она очень рассержена.
– Она всего лишь пытается защитить меня. Наша мать умерла молодой, и Кэтрин заботилась обо мне. Она так и не вышла замуж. Ребекка, дети и я были ее единственной семьей. Боюсь, ваше присутствие растревожило ее. Думаю, она до конца не понимает, зачем я пригласил вас сюда.
– …Я, пожалуй, тоже этого не понимаю, Израэль… Зачем я здесь?
– Вы сами рассказывали – Бог велел вам ехать на Север.
– …Но он не говорил: «Поезжай в Филадельфию, в дом Израэля».
Он положил руку мне на плечо, слегка сжав его:
– Помните последние слова, которые моя Ребекка сказала вам на корабле? «Если вы снова поедете на Север, то должны остановиться у нас». Думаю, это она привела вас сюда. Ради меня, ради детей. Наверное, сюда привел вас Бог.
Я отвела от него глаза, взглянула на пруд, местами затянутый ряской. В лучах заходящего солнца вода стала бронзовой. Потом я вновь посмотрела на него, и он притянул меня к себе, прижал к груди. И я почувствовала, что обнимает он меня, а не свою Ребекку.
Подарочек
За полквартала от дома Денмарка Визи я почуяла запах кукурузного фриттера – аромат масла и сладкой кукурузы распространился по всей улице. Два года я при любой возможности тайком выбиралась на Булл-стрит, 20. Сейб, наш новый дворецкий, не следил за нами с той строгостью, какой отличался Томфри. За это можно было сказать госпоже спасибо.
Я сообщу, бывало, Сейбу, что у нас закончились нитки, пчелиный воск, пуговицы или крысиный яд, и ему волей-неволей приходится посылать меня на рынок. Порой его вообще не интересовало, где я. Он думал только о том, как бы приложиться к бренди и виски из погреба господина Гримке или позабавиться с Минтой. Они то и дело пропадали в пустой каморке над каретным сараем, занимаясь тем самым, о чем все догадывались. Я, Тетка, Фиби и Гудис частенько слышали их с крыльца кухонного корпуса, а Гудис, бывало, приподнимет бровь и посмотрит на меня. Все знали, что он положил на меня глаз сразу, как появился здесь. Специально для меня смастерил трость с кроликом. Я знала, он отдал бы мне последний кусок. Однажды, когда Сейб накричал на меня за отлучку, Гудис сунул ему в лицо кулак, и тот заткнулся. Ко мне ни разу не прикасался мужчина, и я не страдала по этому поводу, но иногда, слыша голоса Сейба и Минты из каморки над каретным сараем, думала, что Гудис не так уж плох.
С отъездом Сары дом постепенно приходил в запустение. Младшие мальчики уехали в колледж, и в доме не осталось никого, кроме госпожи и Нины да шестерых рабов в услужении. Госпожа все время талдычила о деньгах. Господин Гримке оставил ей солидный куш, но она говорила, что это пустяк и ей нужно гораздо больше. Со стен дома облупилась краска, и хозяйка продала лишнюю лошадь. Она больше не лакомилась пудингом с «птичьим гнездом», а в рабьей столовой мы ели в основном рис.
В день, когда я учуяла запах фриттера, помню, воздух пощипывал легким морозцем и венки из пальмовых листьев на дверях веранд причудливо сплетались, как косички. Два дня до Рождества. На этот раз Сейб послал меня отнести записку от госпожи в адвокатскую контору. Не думайте, что я не прочла ее.
Уважаемый мистер Хьюджер.
Я нахожу, что моего денежного содержания недостаточно для благополучной жизни. Прошу вас сообщить моим сыновьям о моих потребностях. Как вам известно, они владеют собственностью, часть из которой можно продать для пополнения моих средств. Такого рода предложение более веско прозвучит из уст человека с вашим влиянием, бывшего преданным другом их отцу.
Искренне ваша,
Мэри Гримке.В кармане я спрятала горшочек с сорго, который стянула из кладовки. Я любила приносить Денмарку всякую всячину, а сорго хорошо пошел бы с фриттером. Он привык сообщать гостям, что я его дочь. Не говорил, что я ему как дочь, а утверждал, что родная. Сьюзен ворчала, но тоже хорошо ко мне относилась.
Я нашла ее на кухне. Она перекладывала кукурузные лепешки со сковороды на тарелку.
– Где ты была? Больше недели тебя не видно.
– Ты не можешь со мной и не можешь без меня.
Она рассмеялась:
– Я с тобой отлично лажу. А вот человек, с которым не лажу и без которого не могу, сейчас в мастерской.
– Денмарк? Чем он занимается?
Она фыркнула:
– Хочешь сказать, помимо того, что заводит женщин по всему городу?
Я предпочла уклониться от скользкой темы, поскольку матушка была одной из них.
– Ага, помимо этого.
Губы ее тронула улыбка. Она подала мне тарелку:
– На, отнеси ему. Он не в духе. А все этот Манди Джел. Парень потерял что-то, и Денмарк разгневался. Какой-то список. Я думала, Денмарк убьет парня.
Я отправилась в мастерскую, зная, что Манди потерял список рекрутов, который составлял для Денмарка на ферме Балкли за городом.
Уже давно Денмарк с помощниками занимался вербовкой рабов, занося их имена в так называемую Книгу. Как я слышала, насчитывалось уже более двух тысяч рабов, давших клятву взяться за оружие, когда придет время. Денмарк разрешал мне сидеть и слушать разговоры о том, как поднимется армия и освободит нас, мужчины привыкли к моему присутствию. Знали, что я не проболтаюсь.
Денмарку не нравилось, когда ветер дует неизвестно откуда. Он, бывало, придумывал точные слова, которыми галла Джек и прочие должны были завлекать рекрутов. Однажды попросил меня сделать вид, что я его новая пассия.
– Слышала новость? – спросил он на улице.
– Какую новость? – ответила я, как он велел.
– Скоро мы станем свободными.
– Свободными? Кто сказал?
– Пойдем, и я покажу тебе.
Ему хотелось, чтобы эти слова были услышаны. А потом, если какой-то раб из города проявлял любопытство, помощник приводил его на Булл-стрит, 20, к Денмарку. Если рабы находились на плантации, Денмарк ехал к ним и устраивал секретное сборище.
Я была у него дома, когда появился любопытный раб. Их разговор я запомнила на всю жизнь. Денмарк воспарил из кресла, как пророк Илья на колеснице.
– Со мной говорил Господь! – воскликнул он. – Он сказал: освободи мой народ. Если имя твое занесено в Книгу, ты один из нас и ты слуга Господа; и мы завоюем свободу по слову Господню. Да не затрепещет твое сердце. Да не дрогнет оно. Веруй в Бога, веруй также и в меня.
Меня охватила дрожь – как в детстве, когда я забиралась в эркер и мечтала о том, как поплыву на корабле, или когда мы пели о рассыпающихся стенах Иерихона и мои ноги отбивали ритм на полу. Моего имени в Книге не было, только имена мужчин, но, если б могла, я вписала бы его кровью.
В тот день Денмарк приделывал ножки к сосновому столу. Когда я вошла в комнату с лепешками, он отложил молоток и осклабился, а увидев горшочек с сорго, воскликнул:
– Разве она не похожа на Шарлотту?!
Облокотившись на рабочий стол, чтобы дать отдых больной ноге, я смотрела, как он ест.
– Сьюзен говорит, Манди потерял список.
Дверь в проулок была открыта, чтобы вылетали опилки. Денмарк подошел к ней, огляделся по сторонам и закрыл.
– Манди – чертов идиот! Прятал свой список в пустой бочке из-под фуража на ферме Балкли, а вчера бочка пропала, и никто не знает, где она.
– Что будет, если кто-нибудь найдет список?
Он откинулся на стуле и взял вилку.
– Всякое может случиться. Если список вызовет подозрение и попадет в караулку, они пройдутся по именам кнутом, пока не выведают правду.
От этих слов руки у меня покрылись гусиной кожей.
– Где вы храните ваши имена? – спросила я.
Он перестал жевать.
– А зачем это тебе?
Я испытывала его терпение, но мне было все равно.
– Хорошо ли спрятан список?
Он перевел взгляд на кожаный ранец на рабочем столе.
– Список в этом ранце? – спросила я. – На виду?
Я словно хотела дать ему понять, что он тоже чертов идиот, но Денмарк не отшил меня, а лишь рассмеялся:
– Этот ранец всегда у меня на глазах.
– Но если стражники завладеют списком Манди и придут за вами, они без труда найдут ваш список.
Он молча смахнул с губ сахарную пыль. Понимал, что я права, но не хотел признаваться.
Солнце светило в окно, разливалось по полу четырьмя яркими лоскутами. Я уставилась на них в полной тишине, думая о заявлении Денмарка, что я – вылитая Шарлотта. Вспомнила вдруг, как она засовывала в наши одеяла пряди волос и маленькие амулеты, а потом припомнила, как ее поймали с зеленым шелком госпожи. Тогда она сказала мне: «Надо было зашить шелк в одеяло, и она никогда не нашла бы его».
– Я знаю, что вам надо сделать со списком.
– Неужели?
– Нужно спрятать его в лоскутное одеяло. Я могу сшить потайной карман. Вы положите одеяло на кровать, и никто ничего не заметит.
Денмарк три или четыре раза обошел мастерскую. Наконец спросил:
– А если мне понадобится достать список?
– Это просто. Я оставлю в шве прореху, чтобы можно было просунуть руку.
Он кивнул:
– Посмотри, есть ли у Сьюзен одеяло. Займись делом.
* * *
С наступлением нового года Нина собрала пять девушек и организовала Женское молитвенное общество. Они встречались в гостиной по утрам в среду. Я подавала им чай и бисквиты, топила камин. Насколько я могла судить, молитвы занимали их меньше всего. Нина всеми силами старалась познакомить гостей с ужасами рабства.
Ох уж мне эта девочка. Так похожа на Сару! В их голову приходили одни и те же идеи, обе стремились быть полезными, но в чем-то они отличались. Нина всегда привлекала внимание мужчин и могла заговорить человека до потери сознания. Правда, кавалеры долго около нее не задерживались. Госпожа говорила, Нина отпугивает их своей прямотой.
Не знаю почему, но девушек она не отпугивала.
На встречах Нина произносила пылкие и пространные речи, но обычно какая-то девица теряла нить повествования и переводила разговор на что-то другое – кто с кем танцевал или кто во что был одет на последнем приеме. Тогда Нина сдавалась, но радовалась, что удалось открыто высказаться. Госпожа тоже была довольна, считая, что Нина наконец обрела какую-то религию.
На мартовском собрании Нина обидела девочку Смитов, расписывая ужасы, что царят у них в округе.
– Подойди, пожалуйста, Подарочек, – позвала меня Нина и повернулась к девицам. – Видите ее ногу? Видите, как она волочит ее за собой? Это все топчак в работном доме. Эта мерзость происходит прямо у тебя под носом, Генриетта!
Девица Смит рассердилась:
– А что она вообще делала в работном доме? Должен же быть порядок. Что она натворила?
– Что натворила? Ты совсем не слушала, о чем я говорила? Помоги нам Бог, как ты можешь быть такой слепой? Если хочешь знать, как Подарочек попала в работный дом, она перед тобой. Она тоже человек, спроси ее.
– Пожалуй, не буду, – фыркнула девушка, одергивая юбку.
Нина встала со стула и подошла ко мне:
– Почему бы тебе не снять ботинок и не показать, какие зверства происходят на ее улице?
Я бы не стала этого делать, но в памяти был еще свеж тот день, когда Томфри поймал меня перед нашим домом на пути к Денмарку, а Нина – выручила. И даже не спросила, куда я шла. По сути дела, я даже хотела, чтобы девушки увидели, что со мной сделал работный дом. Я стащила ботинок и обнажила изуродованную ногу и розовые шрамы, вьющиеся по коже как дождевые черви. Девицы прижали пальцы к носам и побелели как мука, а Генриетта Смит грохнулась в обморок прямо на стуле.
Я принесла нюхательную соль и привела ее в чувство, а потом госпожа услышала гул голосов.
Вечером того же дня в дверь моей комнаты постучали. На пороге стояла Нина с распухшими глазами.
– Мама наказала тебя? – спросила она. – Я должна знать.
С тех пор как умер господин Гримке, госпожа часто поколачивала Минту тростью, и коричневые руки горничной вечно были в черных синяках. Неудивительно, что Минта ходила к Сейбу в каретный сарай за утешением. Иногда доставалось и нам с Фиби. Госпожа набрасывалась даже на Тетку, чего не бывало прежде. Но Тетка не сдавалась. Однажды я услышала, как она сказала госпоже: «Бина и другие проданные вами – счастливчики».
Нина рассказывала:
– Я пыталась сказать маме, что сама попросила тебя снять ботинок.
Я вытянула руку и показала ей рубец.
– Трость? – спросила Нина.
– Один удар, но приличный. А с тобой что она сделала?
– В основном сильно ругала. Девочки больше не будут собираться.
– Это уж точно, – сказала я.
У нее был такой расстроенный вид, что я добавила:
– Но ты же пыталась.
Ее глаза наполнились слезами, и я протянула ей свой чистый головной шарф. Нина опустилась в кресло-качалку и зарылась в него лицом. То ли она плакала от неудачи с молитвенным обществом, то ли тосковала по Саре и общению с людьми.
Нарыдавшись вволю, она пошла к себе, а я зажгла свечу и, сидя при колеблющемся свете, представляла лоскутное одеяло на кровати Денмарка, а внутри – потайной карман, в котором спрятан список с именами. Эти люди были готовы отдать жизнь за свободу. В день, когда я придумала тайник для списка, у Сьюзен в доме не нашлось ни одного лоскутного одеяла – только обычные шерстяные. Я сшила из обрезков новое одеяло – красные квадраты и черные треугольники – любимые мамины цвета. Улетающие дрозды.
Денмарк считал, что ничего не изменится, пока не прольется кровь. Качаясь в кресле, я думала о Нине, о ее лекциях для пяти избалованных белых девиц и о Саре, которую настолько не устраивал ее мир, что ей пришлось его покинуть. Они делали добрые дела, но я понимала: этого недостаточно для борьбы с жестокостью и несправедливостью.
Приближалось возмездие, и нам предстояло пожертвовать собой. И единственный путь – пролить кровь. Я была рада, что Сара сейчас в стороне от опасности, но надо уберечь Нину. Я говорила себе: «Да не затрепещет сердце твое. Да не дрогнет оно».
Сара
Я развернула хрустящую белую скатерть и встряхнула ее, превратив на миг в овальное облачко, которое опустилось на сосновые иголки.
– Обычно мы не используем ее для пикников, – сложив руки на груди, изрекла Кэтрин.
Ее замечания в мой адрес напоминали молитвы – возвышенные, ежедневные и суровые. Теперь я была начеку. Учила детей, но старалась не проявлять к ним материнской заботы. Уступала Кэтрин во всех домашних делах: если она по ошибке сыпала соль в пирог, я делала вид, что не замечаю. Что касается Израэля, я даже не смотрела на него в присутствии Кэтрин.
– …Извините, – ответила я, – …я думала, вы велели взять белую скатерть.
– Придется ее отбелить и заново накрахмалить. Остается только молить Бога, чтобы на земле не оказалось сосновой смолы.
«Господи, пусть там не будет смолы».
Сегодня, первого апреля, Бекки исполнилось семь лет. К тому же стоял первый теплый день в году. После зимы на Севере я начала особенно ценить тепло. До приезда сюда я никогда не видела снега; когда он пошел, небо Пенсильвании разверзлось огромным пуховым одеялом и весь мир покрылся белым пухом. Увидев это впервые, я выбежала на улицу и принялась ловить снежинки руками и языком. Они оседали на моих распущенных волосах. Израэль и дети ошарашенно наблюдали за мной из окна. Но как только снег превратился в мокрую кашу, мое восхищение прошло. Казалось, мир окунулся в вечные сумерки, обесцветился, пейзажи стали черно-белыми. Пусть в каминах ревело пламя, я, южанка, промерзала до костей.
Пикник придумала я. Квакеры не отмечали праздников – все дни считались одинаковыми, и проживать их надо было с одинаковой простотой. Однако Израэль отклонялся от этого правила в дни рождения детей. Первого апреля он работал дома, закрывшись в кабинете со своими счетами, векселями и гроссбухом. У меня хватило ума не обращаться к Кэтрин с этой причудой, и в середине утра я постучалась к нему.
– …Весна пришла, – начала я. – Как бы не пропустить ее… Пикник всем нам пойдет на пользу, и вы повидаете Бекки. Она так счастлива, что ей уже семь… Небольшой праздник не повредит, правда ведь?
Он отложил в сторону счетную книгу и посмотрел на меня с робкой, беззащитной улыбкой. Уже несколько месяцев он не прикасался ко мне. Осенью Израэль часто брал меня за руку или обнимал за талию, когда мы поднимались по холму от пруда. Потом наступила зима, прогулки прекратились, и он ушел в себя, словно впал в зимнюю спячку. Я не понимала, что случилось, пока однажды в январе Кэтрин не объявила, что наступила вторая годовщина со смерти Ребекки. Она с угрюмым оживлением объясняла, как глубоко скорбит ее брат – этой зимой даже сильнее, чем в прошлом году.
– Ладно, устройте пикник, но без праздничного торта, – разрешил Израэль.
– Я и не мечтаю о чем-то столь депрессивном, как торт, – поддразнила его я с улыбкой, и он открыто рассмеялся.
– Вы тоже приходите, – добавила я.
Он перевел взгляд на медальон, лежащий на столе, – тот самый, с нарциссами и выгравированным именем его жены.
– Возможно, – ответил он. – У меня очень много работы.
– Что ж, постарайтесь все же присоединиться к нам. Дети будут рады.
Я ушла, стараясь не сердиться на его изменчивый нрав: сегодня он мог обнимать меня, а завтра стать холодным и неприветливым.
Сейчас, глядя на белую скатерть, расстеленную на лужайке, я ощущала даже не разочарование – гнев. Он не пришел.
Мы с Кэтрин разложили угощение из корзины – дюжину вареных яиц, морковь, две буханки хлеба, яблочное повидло и мягкий сыр, который Кэтрин сама делала из сливок. Дети сорвали на опушке леса пучок мяты и растерли листья между пальцами. В воздухе разлился свежий аромат.
– О-о! – воскликнула Кэтрин.
Она смотрела в сторону дома, откуда к нам по бурой траве широкими шагами шел Израэль.
Мы ели, сидя на земле и глядя на яркий небесный купол. Когда с едой покончили, Кэтрин достала из корзины имбирный пряник, разрезала его и сложила куски пирамидой.
– Верхний кусочек тебе, Бекки, – сказала она.
Было очевидно, что Кэтрин любит эту девочку и остальных детей. Мне стало стыдно за нехорошие мысли о ней. Дети расхватали пряник и разбежались – мальчики к лесным зарослям, а девочки стали собирать первые пробивающиеся из земли цветы. Кэтрин собирала посуду, и тут я совершила ужасную ошибку.
Опершись на локти, я прилегла на расстоянии вытянутой руки от Израэля. Чувствовалось, что он очнулся от зимней спячки, что ему хорошо. Кэтрин сидела к нам спиной; взглянув на Израэля, я снова заметила в его глазах тоскующее выражение, увидела печальную и в то же время пылкую улыбку. Он осмелился протянуть ко мне руку и зацепиться мизинцем за мой мизинец. Такой пустяк, наши пальцы переплелись, как лозы, но я судорожно вздохнула.
Кэтрин обернулась на звук, посмотрела на нас через плечо. Израэль отдернул палец. Или это я отдернула свой?
Женщина устремила на него взгляд:
– Этого я и боялась.
– Это не твое дело, – отрезал он.
После встал, с сожалением улыбнулся мне и пошел вверх по холму.
Кэтрин заговорила не сразу, но когда я попыталась помочь ей упаковать корзину, она сказала:
– Вы должны съехать от нас и найти другое жилье. Вам не подобает оставаться здесь. Я поговорю с Израэлем о вашем отъезде, но лучше вам уехать самой, не заставляя его вмешиваться.
– …Он не станет просить меня уехать!
– Мы должны вести себя согласно нормам пристойного поведения, – заявила она, неожиданно прикрыв ладонью мою руку. – Мне жаль, но так будет лучше.
* * *
Мы все, одиннадцать человек, сидели на скамье в молитвенном доме на Арч-стрит – восемь детей Моррисов, подпираемые с одной стороны Израэлем и с другой – Кэтрин и мной. Я считала, что всем семейством на «собрании с богослужением и деловой частью» торчать не обязательно. По сути, это было чисто деловое собрание. Такие проводились ежемесячно, но я обычно оставалась дома с детьми, а ходили на них Израэль с Кэтрин. В этот раз Кэтрин настояла, чтобы присутствовали все.
Кэтрин не стала терять время, а сразу обратилась к Израэлю после пикника, но он стоял на своем – я должна остаться в Грин-Хилле. Если случай с медальоном охладил наши с Кэтрин отношения, то мой отказ уехать и нежелание Израэля поддержать сестру ожесточили их. Я лишь надеялась, что со временем она смягчится.
В молитвенной комнате стояла женщина, открывшая собрание стихом из Библии. Среди нас она была единственным священнослужителем-женщиной. Выглядела она не старше меня, лет на тридцать, – молодой возраст для такой должности. Впервые я слушала ее выступление в молитвенном доме едва ли не с благоговением. И даже слегка завидовала ей. Я вполне уяснила себе суть веры квакеров, но до сих пор воздерживалась от выступлений на собраниях.
Началась деловая часть, и члены общины принялись обсуждать свои рутинные дела. Двое сыновей Израэля молча пихались, а младший уснул. «Как глупо со стороны Кэтрин притащить их сюда», – подумала я.
Кэтрин встала, поправила шаль на хрупких плечах:
– Дух Святой призывает меня поделиться с вами моим затруднением.
Я вскинула голову, посмотрела сначала на решительный подбородок Кэтрин, потом – на Израэля в дальнем конце ряда, он тоже казался удивленным.
– Очень надеюсь, что мы придем к согласию по поводу необходимости подыскать новое жилье для нашей возлюбленной стажерки Сары Гримке, – заявила Кэтрин. – Мисс Гримке – превосходная учительница для детей Израэля и моя помощница в домашних делах. Она, разумеется, истинная христианка, поэтому важно, чтобы ни у одного члена общины и ни у кого за ее пределами не возникал вопрос: подобает ли незамужней женщине жить в доме вдовца? Нам больно отпускать ее из Грин-Хилла, но мы пойдем на эту жертву ради большего блага. Просим вас помочь с ее переездом.
Не в силах вздохнуть, я уставилась на некрашеные доски пола и подол платья Кэтрин.
Помню только часть из сказанного членами общины после коварной речи. Меня приветствовали одобрительными возгласами за мои сомнения и за принесенную жертву. Вспоминаю такие слова, как «благородная, самоотверженная, достойная похвалы, обязательная».
Когда гул голосов наконец стих, пожилой мужчина спросил:
– У нас единое мнение по поводу этого дела? Если кто-то против, попрошу высказаться.
«Я против. Я, Сара Гримке». Слова рвались из груди, но терялись где-то. Мне хотелось опровергнуть заявление Кэтрин, но я не знала, с чего начать. Она находчиво представила меня образчиком доброты и самоотверженности. Любое опровержение с моей стороны противоречило бы этому и, возможно, лишило бы меня шанса примкнуть к квакерской пастве. Я не могла допустить подобное. Несмотря на аскетизм квакеров, на их педантизм, они предложили первый в истории документ об отмене рабства. Показали мне Бога в любви и свете, а также веру, опирающуюся на личное сознание. Я не хотела их терять, как не хотела терять Израэля, что непременно произошло бы, не пройди я испытание.
Я не могла пошевелиться, и язык онемел.
Израэль задвигался на скамье, словно собираясь встать и заговорить в мою защиту, но остался сидеть, сжав руку в кулак и вдавливая его в ладонь другой руки. Кэтрин поставила его в то же беззащитное положение, что и меня, – он не хотел давать повод для сплетен, в особенности добрым людям с Арч-стрит, очень важным людям в его жизни, знавшим и любившим Ребекку. Я это понимала. И все же, видя его колебания, чувствовала, что он не решается публично высказаться в мою защиту из-за глубоко запрятанной потребности оберегать свою любовь к жене. Я вдруг поняла, что по этой же причине он еще не высказал чувств ко мне. Покосившись на меня, он уселся на прежнее место.
В передней части помещения на скамье с другими священниками сидела женщина-пастор. Она внимательно рассматривала меня и наверняка заметила мои терзания, которые мне не удавалось скрыть. Бросив на нее ответный взгляд, я подумала, что она читает в моем сердце, чувствуя то, что я сама только начинала понимать.
«Он может никогда не сделать мне предложения».
Вдруг она кивнула мне и встала:
– Я против. Не вижу причин, почему мисс Гримке надо съезжать. Это станет для нее большим потрясением и доставит неудобства всем, кто ее окружает. Ее поведение не вызывает сомнений. Не следует обращать внимания на поверхностные вещи.
Она села на место и улыбнулась мне, и я подумала, что сейчас расплачусь.
Она единственная из всех не согласилась с Кэтрин. Квакеры постановили, что в течение месяца я уеду из Грин-Хилла, и сделали соответствующую запись в журнале заседаний.
После собрания Израэль быстро ушел, чтобы нанять экипаж, а я сидела на скамье, пытаясь собраться с мыслями. Не могла придумать, куда податься. Продолжу ли я учить детей? Когда Кэтрин вела их к двери, Бекки оглянулась на меня и попыталась вывернуться из рук тетки, сжимавших ее плечи.
– Сара? Можно называть вас Сарой? – Это была моя защитница.
Я кивнула:
– …Спасибо за ваши слова… Я так вам благодарна.
Она протянула сложенный листок бумаги:
– Мой адрес. Приглашаю вас остановиться у нас с мужем. – Она собралась уйти, потом повернулась ко мне. – Простите, я, кажется, не представилась. Меня зовут Лукреция Мотт.
Подарочек
В мастерской вокруг верстака стояли заместители Денмарка. Они всегда были рядом с ним. Их предводитель назначил дату – ждать осталось два месяца – и сказал, что в Книге шесть тысяч имен.
Я сидела в углу на скамеечке для ног, своем обычном месте, и слушала. Обо мне вспоминали в одном лишь случае – когда кому-то хотелось пить: «Подарочек, принеси воды. Подарочек, принеси имбирного пива».
В апрельском Чарльстоне установилась почти летняя адская жара. Мужчины истекали по`том.
– В эти последние недели вы должны разыгрывать из себя послушных рабов, – говорил Денмарк. – Передайте всем: надо стиснуть зубы и подчиниться хозяевам. Если кто-то скажет белым, что надвигается мятеж рабов, пусть они посмеются и ответят: «Только не наши рабы, они почти члены семьи и самые счастливые люди на свете».
Они разговаривали, а мне вспомнилась матушка, но ее образ размылся, как красный цвет лоскутного одеяла, которое слишком часто кипятили. Иногда я даже не могла вспомнить ее лицо, рубцы на ее пальцах от иголки, ее запах в конце дня. Когда такое случалось, я шла к дереву душ. Там я острее всего ощущала матушку – в листьях, коре и падающих желудях.
Я закрыла глаза и пыталась вернуть ее, испугавшись, что она покидает меня навеки. Тетка сказала бы: «Отпусти, все в прошлом». Но я предпочла бы страдать, вспоминая лицо и руки матушки, чем спокойно жить без этих воспоминаний.
На минуту мне захотелось удрать отсюда и вернуться к дереву душ – воспользоваться случаем и до темноты пройти через ворота, но вспомнила, как госпожа поймала меня на этом в прошлом месяце и сильно огрела по голове. Рана от трости только начала покрываться коркой. Тогда она сказала Сейбу: «Если Подарочек опять улизнет без разрешения, велю выпороть кнутом тебя вместе с ней». После этого у него глаза на затылке выросли.
Я постаралась сосредоточиться на разговоре мужчин.
– Нам нужно заняться отливкой пуль, – сказал Денмарк. – У нас есть мушкеты, а вот пуль нет.
Они приступили к учету оружия. Я знала, что прольется кровь, но не думала, что хлынет она ручьями. У них были дубинки, топоры и ножи, а также краденые мечи. Имелось несколько бочонков пороха и припрятанные запалы, которые предполагалось взрывать по всему городу, сжигая его до основания.
Мужчины говорили, что кузнец-раб Том изготовит пятьсот пик. Я сообразила, что это тот самый Том, который сделал для матушки поддельный жетон раба, когда она начала работать по найму на стороне. Я вспомнила день, когда она показала мне жетон. Маленький медный квадратик с булавкой сверху и надписью «Прислуга, номер 133, 1805 год». Все это я четко представляла, но лицо матушки оставалось размытым.
У меня в кармане лежало перышко сойки, которое я подобрала по пути сюда. Я вынула его и принялась крутить в пальцах, просто чтобы чем-то заняться, и тут же вспомнила мамин рассказ о птичьих похоронах. В детстве она с моей бабушкой наткнулась на мертвую ворону, лежащую под их деревом душ. Они пошли за совком, чтобы закопать птицу, а вернувшись, увидели семь ворон, которые водили вокруг мертвой птицы хоровод, но не каркали, а издавали тонкие пронзительные крики, как плакальщицы на похоронах. Бабушка сказала маме: «Видишь, что делают птицы? Они не летают, не добывают еду, а спустились вниз, чтобы уделить внимание умершей. Кружат вокруг нее и плачут. Делают они это для того, чтобы все знали: вот она жила, а теперь умерла».
История вернула мне яркие матушкины краски. В памяти возник ее четкий образ. Я увидела светло-коричневую кожу, мозоли на костяшках пальцев, золотистые глаза и щель между передними зубами.
– Форма для пуль есть в городском арсенале на Митинг-стрит, – сказал галла Джек. – Но как туда попасть, я не знаю.
– Сколько у них стражников? – спросил Ролла.
Джек поскреб бакенбарды:
– Два, иногда три. Там есть запас оружия для стражи, но никто нас туда не впустит.
– Чтобы войти, придется сражаться, – сказал Денмарк, – а этого мы не можем допустить. Как я уже говорил, главное сейчас – не возбуждать подозрений.
– А как насчет меня? – спросила я.
Они повернулись и уставились на меня, словно впервые увидели.
– Что – насчет тебя? – спросил Денмарк.
– Я могла бы туда пойти. Никто не обратит внимания на хромоногую рабыню.
Сара
Спускались сумерки. Я сидела за столом своей комнаты и распечатывала письмо от Нины. Я прожила в Грин-Хилле почти год и каждый месяц слала ей короткие весточки о своей жизни, спрашивала о ее делах, но она не ответила ни разу. И вот передо мной лежал конверт, подписанный ее крупным каллиграфическим почерком, и я могла предположить только худшее.
14 марта 1822 года
Милая сестра!
Я плохая корреспондентка и никудышная сестра. Я не соглашалась с твоим решением ехать на Север, и мое мнение не изменилось, но я нехорошо себя вела, и надеюсь, ты меня простишь.
Наша мать сводит меня с ума. С каждым днем становится все невыносимей и вспыльчивей. Кричит, что нас оставили без средств к существованию, и обвиняет Томаса, Джона и Фредерика в том, что они плохо о ней заботятся. Стоит ли говорить, что они часто навещают нас, а вот Мэри не приезжает, только Элиза. Со дня твоего отъезда мать почти не выходит из своей комнаты, а когда выходит, набрасывается на рабов. По пустякам бьет тростью. Недавно ударила Тетку всего лишь за подгоревший хлеб. Вчера вечером прибила Подарочка, заметив, как та перелезает через задние ворота. Должна сказать, Подарочек перелезала во двор, а не на улицу. Когда мать потребовала объяснений, та ответила, что увидела в переулке раненого щенка и перемахнула через ворота, чтобы помочь бедняжке. Говорила, что возвращалась после краткой вылазки, но, думаю, мать ей не поверила. Я точно не поверила. Мать рассекла Подарочку бровь, и я перевязала рану.
Меня тревожит ухудшающийся характер матери, но я опасаюсь также, что Подарочек замешана в каких-то рискованных делах, требующих частых отлучек. Я видела, как она и в другой раз выскальзывала за ворота. Говорить со мной об этом отказывается. Сомневаюсь, что смогу защитить, если ее снова застукают.
Здесь я чувствую себя беззащитной. Мне одиноко. Пожалуйста, помоги мне. Умоляю, приезжай домой.
С сестринской любовью,
Нина.Я положила письмо. Потом, отодвинув стул, подошла к мансардному окну и вперила взгляд в темнеющую рощу кедров. Оттуда, как тлеющие угольки, поднимался небольшой рой светлячков. «Здесь я чувствую себя беззащитной. Мне одиноко». Слова Нины относились и ко мне.
Чуть раньше Кэтрин прислала из подвала мой чемодан, и теперь я вытаскивала вещи из шкафа и письменного стола и раскладывала их на кровати и плетеном коврике – капоры, шали, платья, ночные рубашки, перчатки, журналы, письма, книгу о Жанне д’Арк из отцовского кабинета, единственную нитку жемчуга, щетки из слоновой кости, флакончики французского стекла с лосьонами и пудрой и самое дорогое – мою лавовую шкатулку с серебряной пуговицей.
– Вы не пришли на ужин.
В дверном проеме стоял Израэль, заглядывая внутрь и не решаясь войти в мое маленькое неприбранное убежище.
По меркам Гримке вещей у меня было немного, но тем не менее я смутилась от их избытка, и в особенности – от шерстяного белья в моих руках. Он посмотрел на открытый чемодан, перевел взгляд на карниз крыши, словно ему больно было наблюдать, как я собираюсь.
– Аппетит пропал, – ответила я.
Наконец он вошел:
– Я пришел сказать – простите. Нужно было мне выступить на собрании. Сожалею, что не сделал этого. Поступок Кэтрин непростителен. Я так ей и сказал. На этой неделе я встречусь со старейшинами и дам им понять, что не хочу вас отпускать.
Его глаза излучали страдание.
– Слишком поздно, Израэль.
– Да нет же. Я заставлю их понять…
– Нет!
Помимо воли я произнесла это слово чересчур резко.
Он опустился на край узкой кровати и провел рукой по пышным черным волосам. Было мучительно больно видеть его на этой кровати рядом с моими ночными рубашками, жемчугами и лавовой шкатулкой. Я подумала о том, как сильно мне будет его не хватать.
Он поднялся и взял меня за руку:
– Вы станете приходить и учить девочек, правда ведь? Несколько человек предложили вам жить у них.
Я отняла руку:
– Я еду домой.
Он вновь бросил взгляд на чемодан. Его плечи и голова поникли.
– Это из-за меня?
Я молчала, не зная, что ответить. Письмо от Нины пришло как раз в тот момент, когда все разладилось, и я действительно обрадовалась предлогу уехать. Убегала ли я от него?
– Нет, – ответила я.
Я была уверена, что все равно бы уехала, тогда зачем скрывать причину?
Когда я пересказала ему письмо Нины, он спросил:
– С вашей матерью ситуация тяжелая, но есть ведь другие дети, которые могли бы помочь?
– Нине нужна я, а не кто-то другой.
– Но это так неожиданно. Вам надо подумать об этом и помолиться. Нельзя отрицать, что вас привел сюда Бог.
Да, я этого не отрицала. На Север меня привело нечто хорошее и правильное, и даже именно в это место – в Грин-Хилл к Израэлю с детьми. Порыв уехать из Чарльстона был благотворным, я и сейчас так считала, но передо мной на столе лежало письмо от Нины. И потом, не отпускали мысли о Ребекке.
– Сара, вы нам здесь нужны. Нам без вас не обойтись.
– Это решено, Израэль. Я еду домой в Чарльстон.
Он вздохнул:
– Обещайте, по крайней мере, что вернетесь, когда уладите свои дела.
В окне отражалось пламя свечей. Я подошла и прислонилась лбом к стеклу. За ним по-прежнему мелькали яркие спирали светлячков.
– Не знаю. Больше не знаю.
Подарочек
Ночью накануне моей вылазки в городской арсенал за формой для отливки пуль мы с Гудисом пробрались в пустую каморку над каретным сараем, похожую на нашу с матушкой, и я позволила ему сделать то, о чем он мечтал все эти годы, да и я, пожалуй, тоже. Мне было двадцать девять лет, и я сказала себе: если завтра попадусь, меня убьет стража, а если не она – то работный дом. Так что перед тем, как покинуть грешную землю, хорошо бы узнать, что это за штука – любовь и секс.
В каморке был только соломенный тюфяк, который Сейб положил на пол для Минты и себя. Еще здесь витал дух конского навоза. Я с опаской посмотрела на грязный тюфяк, но Гудис застелил его чистым одеялом, тщательно разгладив все складочки. Видя, как он старается, я переполнилась к нему нежностью. Он совсем не стар, но почти все волосы у него выпали. Веко над больным глазом было всегда опущено, а другое – поднято, поэтому он казался полусонным, зато улыбка у него широкая и приветливая. Помогая мне снять платье, он улыбался.
Когда я вытянулась на одеяле, он удивленно посмотрел на мешочек у меня на шее, набитый кусочками коры и веточек дерева душ.
– Я его не снимаю, – объяснила я.
Он потрогал мешочек, нащупав твердые кусочки коры и желуди.
– Это твои драгоценности?
– Угу, мои бриллианты.
Он отодвинул мешочек в сторону, взял в руки мои груди:
– Они не больше ореха, но как они мне нравятся, такие маленькие и коричневые.
И поцеловал меня в губы и в плечи, потерся лицом об орехи. Потом поцеловал мою больную ступню, дотрагиваясь губами до извилистых шрамов. Я не была плаксой, но у меня из глаз потекли слезы, и стало щекотно за ушами.
За все время я не произнесла ни слова, даже когда он вошел в меня. Поначалу я чувствовала себя ступкой, а он стал пестиком. Это было похоже на то, как толкут рис, но нежнее и добрее. Он засмеялся, спрашивая:
– Все так, как ты представляла?
Но я ничего не смогла ответить, только улыбалась сквозь слезы.
На следующее утро у меня все болело от занятий любовью.
– Сегодня хороший день, – заявил Гудис за завтраком. – Что скажешь, Подарочек?
– Да, отличный.
– Завтра тоже будет хороший.
– Может быть, – ответила я.
После завтрака я разыскала Нину и попросила у нее пропуск на рынок – Сейб был не в духе.
– Тетка говорит, черная патока с виски может помочь вашей матушке, – объяснила я, – успокоит ее, а у нас она закончилась.
Нина написала мне пропуск и сказала:
– В любое время, когда понадобится… черная патока или что-то другое, приходи ко мне. Ладно?
Тогда я поняла, что у нас есть взаимопонимание. Конечно, узнай она, что я собиралась сделать, ни за что не подписала бы бумагу.
* * *
Я пошла к арсеналу с тростью, корзиной тряпок, бутылочкой спирта, метелкой из перьев и шваброй через плечо. Галла Джек уже давно наблюдал за этим местом. Он сказал, что в первый понедельник месяца арсенал открывали для инспекции и уборки, подсчета оружия, чистки мушкетов и прочего. В эти дни сюда приходила свободная чернокожая девушка по имени Хильда, которая выметала мусор, вытирала пыль, смазывала стойки для ружей и мыла уборную. Чтобы она не выходила сегодня, галла Джек дал ей монету.
Денмарк нарисовал мне форму для отливки пуль. Она напоминала острогубцы с той разницей, что к концам был приделан маленький тигель, куда лили свинец для получения мушкетной пули. Эта форма, как он объяснил, не больше кисти его руки, и надо достать две. Главное, сказал он, смотри, чтобы тебя не поймали.
Для меня это тоже было главным.
Арсенал размещался в круглом здании из земляного бетона со стенами толщиной два фута. В нем было три крошечных оконца, расположенные высоко и забранные железными прутьями. В тот день ставни открыли, чтобы впустить свет. Стражник у двери спросил, кто я такая и где Хильда. Я рассказала, что она заболела и послала меня вместо себя.
– Непохоже, что ты сможешь удержать в руках метлу, – ответил он.
«И как, по-твоему, эта метла забралась ко мне на плечо? Сама?» – так мне хотелось ему ответить, но я опустила глаза в землю:
– Да, сэр, но я хорошая работница, вот увидите.
Он отодвинул засов на двери:
– Сегодня там чистят мушкеты. Не лезь им под ноги. Когда закончишь, постучи, и я тебя выпущу.
Я вошла внутрь. С грохотом закрылась дверь. Щелкнул засов.
Я остановилась и попыталась сориентироваться, чувствуя запах плесени, льняного масла и отвратительный дух тюрьмы. В дальнем конце спиной ко мне стояли два стражника и разбирали под окном мушкет – на столе были разложены его части. Один обернулся со словами:
– Это Хильда.
Я не стала поправлять его, а начала подметать пол.
Арсенал представлял собой одно помещение, заполненное оружием. Я внимательно все осмотрела. В середине в несколько рядов стояли бочонки с порохом. Вдоль стен шли деревянные стеллажи с мушкетами и пистолетами, а также с грудами пушечных ядер. В глубине стеллажей стояли дюжины деревянных ящиков.
Я изо всех сил орудовала метлой, надеясь, что ее шуршание заглушит мое шумное прерывистое дыхание. Голоса стражников эхом отдавались в гулком помещении.
– Этот может выстрелить на предохранителе. Видишь пусковую пружину курка? Она испорчена.
– Смотри, чтобы головка шомпола сидела туго и не было ржавчины.
Когда я оказалась позади бочонков с порохом, вне поля зрения стражников, дышать стало легче. Я достала метелку из перьев. Переходя от одного к другому, сметала пыль с ящиков, каждый раз оглядываясь через плечо, прежде чем заглянуть под крышку. Я обнаружила коровьи рога с кожаными ремешками. Связку железных наручников. Свинцовые бруски. Кусочки тонкого шнура, как я думала – запалы. Но никаких форм для отливки пуль.
Потом заметила у стены старый барабан и за ним – еще один ящик. Пробираясь к нему, я задела хромой ногой барабан, и он ударился об пол.
Послышался топот сапог. Я схватила метелку, и перья, как живые, заколыхались в дрожащей руке.
Стражник завопил на меня:
– Что за шум?
– Вон тот барабан упал.
Он прищурил глаза:
– Ты не Хильда.
– Да, она заболела. Я ее замещаю.
У него в руке был длинный металлический прут из мушкета. Он указал им на барабан:
– Нам здесь не нужны такие непорядки!
– Да, сэр. Я буду осторожна.
Он вернулся к работе, но сердце у меня колотилось как бешеное.
Я открыла ящик, к которому был прислонен барабан, внутри оказалось примерно десять форм для отливки пуль. Осторожно, чтобы не звякнули, я вытащила две и засунула в корзину под тряпки.
Потом обмела паутину и смазала маслом стойки с ружьями. Закончив уборку, собрала вещи и постучала в дверь.
– Не забудь про уборную, – сказал охранник, стоящий у двери, и показал на заднюю часть арсенала.
Я направилась туда, но прошла мимо и двинулась к выходу.
* * *
Вечером дома я нашла у себя в волосах обрывки паутины. Я взяла полотенце и обтерла все тело, потом улеглась поверх лоскутного одеяла преданий, вспоминая улыбку на лице Денмарка, когда я пришла к нему и вынула из корзины форму для отливки пуль. А когда достала вторую, он хлопнул себя по ноге и заявил:
– Ты, пожалуй, лучший мой помощник.
Я хотела уснуть, но сон не шел, и я вышла из дома, уселась на ступенях заднего крыльца. Во дворе было тихо. Я посмотрела на каморку над каретным сараем, спрашивая себя, искал ли меня Гудис после ужина. Он, должно быть, спал. Денмарк тоже. Одна я бодрствовала, размышляя о тигле на конце формы для отливки, в который льют свинец. Сколько человек убьют эти пули? Я могла сегодня пройти по улице мимо одного из них. А завтра – мимо другого. Могла бы пройти мимо сотни людей, которые умрут из-за меня.
Высоко в небе висела круглая белая луна. Она казалась совсем маленькой, способной поместиться в тигель формы для отливки пуль. Вот о чем я мечтала – чтобы луна была там вместо свинца.
Сара
Я приехала в Чарльстон в своем лучшем квакерском наряде – скромном сером платье с плоским белым воротничком и подходящим капором, само смирение. Перед отъездом из Филадельфии меня официально приняли в квакерскую церковь. Испытание завершилось. Я стала одной из них.
Увидев меня по прошествии более чем года, мать подставила щеку для поцелуя со словами:
– Вижу, ты вернулась квакершей. Право, Сара, как ты можешь показываться в Чарльстоне в подобной одежде?
Мне тоже не нравился мой наряд, но он, по крайней мере, шился из шерсти и не требовал рабского труда. Мы, квакеры, бойкотировали южный хлопок. «Мы, квакеры» – как непривычно это звучало.
Я постаралась улыбнуться и не придавать значения ворчанию матери, еще не вполне уловив ее мотивы.
– Вот как ты меня встречаешь. Ты ведь скучала по мне, правда?
Она сидела на том же месте, где я видела ее в последний раз, – у окна в кресле с высокой спинкой и обивкой из потускневшей золотой парчи. На ней было то же черное платье, а на коленях лежала адская трость с золотым набалдашником. Создавалось впечатление, что она сидит здесь с самого моего отъезда. Казалось, она такая же, как прежде, только более неряшливая. Кожа шеи висела над воротником складками, как у черепахи, и волосы на лбу обтрепались, как край тряпки.
– Разумеется, я скучала по тебе, дорогая. Без тебя страдало все семейство и слуги, но нельзя появляться на людях в таком наряде. Тебя примут за квакершу, а здесь хорошо известны их антирабовладельческие взгляды.
Об этом я не подумала. Я провела ладонями по бокам юбки, испытав вдруг нежность к тусклому платью.
С порога послышался голос:
– Если это и есть твое отвратительное платье, я закажу себе такое же.
Нина. Как она изменилась! Переросла меня на несколько дюймов. Черные волосы откинуты назад, высокие скулы, густые брови и черные глаза. Моя сестра превратилась в роковую красавицу.
Она обвила мою шею руками:
– Ты больше никогда отсюда не уедешь.
Пока мы обнимались, мама пробормотала себе под нос:
– В кои-то веки мы с ребенком в чем-то согласны.
Мы с Ниной рассмеялись, и, как ни странно, мама тоже, и на меня нахлынула какая-то детская радость.
– …Только посмотрите на нее. – Я взяла в ладони Нинино лицо.
Глаза матери заскользили от воротника моего платья к подолу и обратно.
– Я не шучу насчет платья, Сара. Дом одной квакерской семьи здесь забросали тухлыми яйцами. Об этом вчера писали в «Меркьюри». Скажи ей, Нина. Объясни сестре, что жители Чарльстона будут не в восторге от ее нарядов.
Нина вздохнула:
– По городу ходят слухи о бунте рабов.
– …Бунт?
– Пустая болтовня, – заметила мать, – но люди взвинчены.
– Если верить слухам, – продолжила Нина, – рабы собираются выйти на улицы, поубивать белых и сжечь город.
У меня мурашки забегали по спине.
– После резни и поджогов они, вероятно, ограбят государственный банк, а затем уведут лошадей из городской конюшни или захватят в гавани корабли и отплывут на Гаити.
Мать негромко хмыкнула:
– Возможно ли, чтобы негры разработали столь сложный план?
У меня сердце оборвалось. Я вполне могла себе это представить. Не саму резню – такого мое сердце постичь не способно. В Чарльстоне рабов больше, чем белых, и почему бы им не составить план освобождения? Для успеха он должен быть тщательно продуманным и дерзким. И обязательно жестоким.
Я в раздумье сложила ладони перед грудью, словно молилась:
– …Боже милосердный.
– Нельзя же воспринимать это всерьез, – одернула меня Нина. – В Эджфилде происходило подобное, помните? Белые поверили, что их поубивают ночью в постели. Поднялась настоящая истерия.
– Что стоит за всем этим? Откуда пошли слухи?
– Началось с домашнего раба полковника Джона Приоло. Очевидно, он услышал новость о бунте на верфях и сообщил полковнику, а тот обратился к властям. Стража нашла источник слухов – раба по имени Уильям Пол, известного болтуна. Беднягу арестовали и отправили в работный дом. – Умолкнув, Нина поежилась. – Страшно представить, что они с ним сделали.
Мать постучала тростью по полу:
– Мэр-интендант закрыл это дело. Губернатор Беннетт закрыл дело. Не желаю больше говорить об этом. Будь осторожна, Сара, ты сидишь на пороховой бочке.
Мне очень хотелось отбросить возможность мятежа, но на душе было неспокойно.
* * *
На следующее утро я разыскала Подарочка на ступенях кухонного корпуса. Она сидела рядом с Гудисом, с иголкой в руках и латунным наперстком на указательном пальце, и подрубала, кажется, фартук. Они хихикали и любовно пихались, но, увидев меня, притихли.
Гудис вскочил, комбинезон его перекосился. Я немного нервничала перед встречей с Подарочком и не придумала ничего лучше, чем указать на место оторванной пуговицы.
– Тебе придется попросить Подарочка, чтобы пришила, – сказала я и сразу же пожалела о сказанном.
Фраза прозвучала снисходительно, а я хотела дружеской встречи.
– Да, мэм, – кивнул он и, взглянув на Подарочка, ушел.
Наклонившись, я обняла ее за плечи. В ответ она похлопала меня по спине:
– Нина сказала, что ты приедешь. Теперь останешься надолго?
– Может быть. – Я села рядом с ней. – Посмотрим.
– Знаешь, на твоем месте я уплыла бы обратно.
Я улыбнулась. Карниз отбрасывал на нас полоску темно-голубой тени. Я поймала себя на том, что глазею на изуродованную вывернутую ступню Подарочка, на плавные движения ее рук, на согнутую над работой спину. Меня пронзило знакомое чувство вины.
Я забросала ее вопросами. Как обращалась с ней моя мать после моего отъезда? Как продержались другие рабы? Спросила, какие у нее отношения с Гудисом. Она показала мне шрам на лбу, называя его рукоделием моей матери. Сказала, что зрение Тетки очень ухудшилось и готовкой занимается в основном Фиби и что Сейб в подметки не годится Томфри, а Минта, добрая душа, принимает на себя основной удар «господской злобы». На вопрос о Гудисе Подарочек лишь ухмыльнулась, тем самым выдав себя.
– Что ты знаешь о слухах по поводу мятежа рабов? – наконец спросила я.
Ее рука на мгновение остановилась.
– Почему бы тебе не рассказать, что знаешь об этом ты?
Я повторила ей то, что поведала мне Нина о рабе Уильяме Поле и его словах о мятеже.
– Власти говорят, что это неправда, – добавила я.
Подарочек положила фартук:
– Да? Не верят, значит?
Ее лицо осветилось надеждой, и я подумала не только о реальной возможности бунта, но и о том, что Подарочек немало о нем знает.
– Даже если власти поверят в существование такого плана, все равно будут его отрицать. – Я постаралась внушить ей мысль об опасности мятежа. – Сомневаюсь, что они публично это признают. Не захотят создавать панику. Но, уверяю тебя, если у них будет хотя бы малейшее доказательство бунта, они ответят.
Она взялась за иголку с ниткой, и вновь наступила гнетущая тишина. Я наблюдала, как ее рука движется вверх-вниз, смотрела на сверкание наперстка и вспоминала нас – маленьких девочек на крыше, ее рассказ о настоящем латунном наперстке. Об этом самом, подумала я. И словно наяву увидела, как она лежит на крыше, прищурившись на небо и облака, с чайной чашкой на животе. Карман ее платья набит перьями, концы которых высовываются наружу. Там мы поделились друг с другом всеми секретами. Никогда прежде мы так близко не подходили к равенству. Я попыталась удержать картинку в сознании, но она исчезла.
Я больше не ждала от нее доверия. Теперь она будет хранить свои секреты.
* * *
В воскресенье мы с Ниной отправились пешком в небольшой молельный дом квакеров, расположенный на другом конце города. Мы шли, держась за руки, и она рассказывала о письмах, которые сыпались несколько недель после моего отъезда и в которых люди спрашивали о моем здоровье. Я уже забыла об истории с чахоткой, выдуманной матерью, и мы с Ниной смеялись над ней всю дорогу по Сосайети-стрит.
Ночью прошел летний ливень, и воздух стал прохладным и свежим, напоенным ароматами цветущих деревьев. В дождевых лужах плавали розовые лепестки бугенвиллеи. При виде их в такой восхитительный день, идя рядом с Ниной, я почувствовала, что смогу вновь обрести чувство связи с родным домом.
Последние десять дней прошли спокойно. Время мое уходило на хозяйственные дела, а также на долгие разговоры с Ниной. Сестра без конца расспрашивала меня о Севере, квакерах, об Израэле. Я надеялась избежать любых упоминаний о хозяине Грин-Хилла, однако слова о нем так или иначе срывались с моих уст. Подарочек меня избегала. К счастью, в городе не происходило ничего необычного, слухи о бунте рабов постепенно утихали, и жители города возвращались к своим делам. Я решила, что чересчур бурно на все среагировала.
В то утро на мне было «платье аболиционистки», как называла мои наряды мать. Как квакерше, мне разрешалось носить лишь такую одежду. Бог свидетель, я была этому искренне рада. За завтраком, узнав о намерении посетить собрание квакеров и взять с собой Нину, мать закатила настолько ожидаемый скандал, что мы с Ниной проигнорировали его. Хорошо хоть она не знала, что пойдем мы пешком.
Подойдя к рынку, мы услышали в отдалении топот ног, а потом крики. Когда мы заворачивали за угол, мимо нас, подхватив юбки, промчались две рабыни. Навстречу двигалась по крайней мере сотня южнокаролинской милиции с саблями и пистолетами на изготовку. По бокам шли стражники с мушкетами вместо обычных дубинок.
Было рыночное воскресенье – день, когда на улицах разгуливает много рабов. Замерев, мы с Ниной наблюдали, как они в панике разбегаются от конных гусар, а те преследуют их с криками «разойтись».
– Что происходит? – спросила Нина.
Оцепенев, я смотрела на это столпотворение. Мы оказались у дверей кофейни «Каролина», я хотела нырнуть внутрь, но дверь оказалась заперта.
– Надо вернуться домой, – сказала я Нине.
Мы собрались уйти, но в нашу сторону в панике бросилась уличная разносчица, рабыня лет двенадцати, и, споткнувшись, опрокинула нам под ноги корзину с овощами. Мы с Ниной, не задумываясь, наклонились и стали помогать ей – собирать редиску, капусту и картофель.
– Отойдите! – прокричал мужчина. – Вы!
Подняв голову, я увидела офицера на лошади, которая рысцой приближалась. Он обращался к нам с Ниной. Мы выпрямились, а девочка продолжила собирать свой товар.
– Мы не делаем ничего плохого, – удивилась я.
Офицер остановил лошадь. Смотрел он на мое платье, а вовсе не на репу у меня в руке.
– Вы квакерша?
У него было крупное костистое лицо со слегка выпученными глазами, отчего он выглядел более устрашающе, чем на самом деле, но в тот момент я не мыслила логически. От ужаса мне сдавило гортань, и мой бедный язык утратил способность шевелиться.
– Вы меня слышали? – спокойно поинтересовался он. – Я спросил, не одна ли вы из тех религиозных отступников, которые баламутят против рабства.
Я шевелила губами, но звуки не выходили. Нина подошла ближе и взяла меня за руку. Я знала, она хочет ответить за меня, но, сдержавшись, ждала. Прикрыв глаза, я услышала крики чаек в гавани. Представила, как они скользят на воздушных потоках и отдыхают на волнах.
– Да, я квакерша, – сообщила я без запинки, которая почти всегда предшествовала моим фразам.
Нина с облегчением вздохнула.
Почуяв перебранку, двое белых мужчин остановились поглазеть. У них за спиной пробежала прочь девочка с корзиной.
– Как вас зовут? – спросил офицер.
– Я Сара Гримке. А вы, сэр, кто такой?
Он и не подумал ответить.
– Вы, конечно, не дочь судьи Гримке?
– Да, он был моим отцом. Скончался три года назад.
– Хорошо, что не дожил до этих времен и не видит вас сейчас.
– Прошу прощения, но я не понимаю, почему моя вера вас беспокоит.
Казалось, я свободно парю в воздухе. Я вспомнила, как плавала в море в Лонг-Бранч в день, когда отец лежал больной в постели. Как я плавала вдали от страховочного каната.
До нас наконец дошла колонна милиции, которую возглавлял конный офицер. Его лошадь беспокойно задергала головой, а офицер, стараясь перекричать шум, произнес:
– Из уважения к вашему отцу я вас не задержу.
Тут вмешалась Нина:
– Какое право вы имеете…
Я перебила ее, не позволив нырнуть в воды, которые становились все опаснее. Как ни странно, к себе я жалости не испытывала.
– Задержать меня? – спросила я. – На каком основании?
К двум зевакам присоединилось еще несколько. Мужчина в воскресном утреннем сюртуке плюнул в нашу сторону. Нина крепче сжала мою руку.
– Ваши убеждения, даже ваш внешний вид подрывают порядок, который я пытаюсь здесь поддержать, – сказал офицер. – Вы нарушаете покой добрых горожан и подталкиваете рабов к нежелательным идеям. Даете пищу бунтарским настроениям, которые появились в нашем городе.
– Какие бунтарские настроения?
– Будете притворяться, что не слышали разговоров? Рабы задумали убить своих хозяев и сбежать. Думаю, вас с сестрой эта участь тоже не миновала бы. Мятеж должен был произойти сегодняшней ночью, но, уверяю вас, его вовремя предупредили. – Взявшись за вожжи, офицер взглянул на проходящую милицию, потом повернулся ко мне. – Идите домой, мисс Гримке. Ваше присутствие на улицах нежелательно и опасно.
– Идите домой! – выкрикнул кто-то из толпы, а остальные подхватили.
Собравшись с духом, я посмотрела в их рассерженные лица.
– К чему вы принуждаете рабов? – воскликнула я. – Если мы их не освободим, они любыми способами освободятся сами.
– Сара! – изумленно проговорила Нина.
Толпа осыпала меня ругательствами, но я взяла сестру за руку, и мы быстро пошли прочь.
– Не оборачивайся, – велела я ей.
– Сара, – с благоговением произнесла Нина, – ты превратилась в настоящую мятежницу.
Мятеж рабов не вспыхнул ни в эту ночь, ни в другую. Отцам города действительно удалось раскрыть заговор не без помощи жестоких допросов в работном доме. На протяжении последующих дней новость о предполагаемом восстании прокатилась по Чарльстону, как страшная эпидемия, приводя жителей в оцепенение и ужас. Совершались аресты, и говорили, их будет намного больше. Я понимала, что это начало мощной обратной реакции. Жители уже укрепляли заборы битыми бутылками, пока не было возможности установить железные пики. В скором времени самые элегантные дома должны были одеться в декоративную броню из рогаток и защитных стен.
В предстоящие месяцы власти собирались установить новый жесткий порядок. Готовились указы для контроля и ограничения рабов в дальнейшем, а также для исполнения суровых наказаний. Для защиты белого населения предполагалось соорудить цитадель. Но в первую неделю все мы были ошеломлены.
Мое вызывающее поведение на улице стало общеизвестным. Мать не могла спокойно смотреть на меня, а Томас даже приехал лично предупредить, что мои безумства могут повредить попечительству его фирмы. Только Нина была на моей стороне.
И Подарочек.
Однажды ранним вечером она мыла лестницу красного дерева, и вдруг в переднее окно гостиной влетел камень. Услышав со второго этажа звон разбитого стекла, я поспешила вниз и нашла Подарочка, которая прижалась спиной к стене у разбитого окна, стараясь выглянуть в него так, чтобы ее не увидели. Она помахала мне рукой:
– Берегись, могут еще кинуть.
На коврике лежал камень величиной с куриное яйцо. С улицы доносились крики:
– Любительница рабов! Любительница ниггеров! Аболиционистка! Северная шлюха!
Пока вопящие не умолкли, мы смотрели друг на друга. В комнате стало тихо. Свет из окна превращал осколки разбитого стекла в язычки пламени на малиновом ковре. Зрелище обескуражило меня. Меня не смущало презрение этих людей, но я ощущала себя беспомощной, ни на что не способной. Скоро мне исполнится тридцать, а я ничего еще не успела совершить.
Говорят, в экстремальные моменты время замедляется, словно возвращаясь к неподвижной сердцевине. Пока я стояла там, мне показалось, что оно остановилось. И в этой неподвижности я ощутила хорошо знакомое неукротимое желание узнать, каким будет мое место в жизни. Оно пересилило все на свете, даже мое привычное стремление к одиночеству. Снова вспомнилась пуговица с изображением ириса, лежащая в шкатулке, и положившая ее туда растерянная девочка. Вспомнилось и то, как я дважды возила пуговицу из Чарльстона в Филадельфию и обратно как символ угасающей надежды.
На той стороне комнаты Подарочек наступила на сверкающие осколки на ковре, подняла камень. Я смотрела, как она вертит его в руках, зная, что вновь уеду из этого дома. Уеду на Север и построю там свою жизнь.
Подарочек
День возмездия прошел без единого выстрела, без единого зажженного запала. Ни один из нас не освободился, однако ни один белый не считал теперь нас безобидными.
Я не знала, кого арестовали. Не ведала, удалось ли Денмарку спастись. Сара говорила, что лучше не появляться на улицах, но к среде мое терпение лопнуло. Я разыскала Нину и сказала, что мне нужен пропуск для выхода на рынок за патокой. Она написала его, но предупредила:
– Будь осторожна.
В спальне своего дома Денмарк заталкивал в вещевой мешок одежду и деньги. Меня привела туда Сьюзен, глаза ее покраснели от слез. Стоя на пороге и вдыхая спертый воздух, я думала: «Все кончено, но он еще здесь».
У стены стояла железная кровать, покрытая лоскутным одеялом, которое я сшила, чтобы спрятать список имен. Черные треугольники сидели на красных квадратах в идеальном порядке, но сейчас они не радовали глаз. Как на птичьих похоронах.
– Куда вы идете? – спросила я Денмарка.
Сьюзен заплакала.
– Женщина, если ты собираешься и дальше шуметь, делай это в другом месте, – сказал он ей.
Она протиснулась мимо меня к двери и, шмыгая носом, сказала:
– Тогда отправляйся к другой жене.
– Вы идете к другой жене? – уточнила я.
Окно было плотно занавешено шторой, но с одной стороны сквозь щель пробивалась полоска яркого света, указывая на Денмарка, как стрелка солнечных часов.
– В любое время за мной могут прийти, – объяснил он. – Вчера забрали Неда, Роллу и Питера. Все трое уже в работном доме. Я не сомневаюсь в их стойкости, но их будут пытать, пока они не назовут все имена. Если мы надеемся выжить, мне надо уходить.
От ужаса у меня по спине забегали мурашки.
– А мое имя? Назовут ли они мое имя, ведь я выкрала формы для отливки пуль?
Он сел на кровать, на крылья мертвого черного дрозда, свесив руки. Когда в этот дом приходили рекруты, он, бывало, возглашал: «Со мной говорил Господь». И выглядел суровым и величественным, как сам Господь, а сейчас совершенно поник.
– Не волнуйся, – сказал он. – Они охотятся за лидером, то есть за мной. Никто не назовет твоего имени.
Мне страшно было спрашивать, но я должна знать.
– Почему сорвался план мятежа?
Денмарк покачал головой:
– То, чего я опасался, – предательство домашних рабов, которые подчас считают себя единым целым с хозяевами. Один предал нас, и стража запустила шпионов. – Стиснув зубы, он рывком встал с кровати. – В день, когда мы должны были подняться, выставили плотное оцепление из войск, и наши курьеры не смогли выбраться из города, чтобы передать команду. Мы не сумели поджечь запалы и доставить оружие. – Денмарк схватил оловянную подставку со свечой и швырнул ее в стену. – Черт бы их побрал! Чтобы им всем пусто было! Господи…
Лицо его исказилось.
Я не шевелилась до тех пор, пока приступ ярости не угас. Потом сказала:
– Вы сделали все, что смогли. Никто этого не забудет.
– Да нет же, забудут. Забудут. – Стащив лоскутное одеяло с кровати, он передал его мне. – Возьми с собой и сожги список. У меня нет времени.
– Где вы будете?
– Я свободный чернокожий. Где буду, там и буду, – ответил он, соблюдая осторожность на случай, если Ролла и другие все-таки назовут мое имя и белые придут меня мучить.
Денмарк взял вещевой мешок и направился к двери. Я видела его не в последний раз. Но слова: «Где буду, там и буду» – оказались последними его словами, обращенными ко мне.
* * *
Я сожгла список имен в плите кухонного корпуса. И стала ждать.
Денмарка схватили через четыре дня в доме свободной мулатки. Его судили семь судей, и задолго до окончания судебного процесса каждый горожанин, белый или черный, знал его имя. Слухи из зала суда наводняли улицы и переулки, просачивались в гостиные и рабочие дворы. Рабы твердили, что Денмарк Визи – это Черный Христос, даже если его убьют, он воскреснет на третий день. Белые называли его змеем-искусителем, который коварно пригрелся на груди, а потом погубил своего хозяина. Говорили также, что он, как генерал, сбил с толку солдат, что у него никогда не было оружия, на которое рассчитывали рабы. Стража нашла несколько шпаг и пистолетов, а также две формы для отливки пуль, и больше ничего. Возможно, галла Джек, который оставался на свободе до августа, спрятал остальное оружие, но я начала подозревать, что Денмарк многое навыдумывал. Когда я достала из лоскутного одеяла список, то насчитала в нем двести восемьдесят три имени, а не шесть тысяч, как он говорил. Теперь я думаю, он хотел только высечь искру, надеясь вдохновить всех крепких мужчин присоединиться к борьбе.
В день, когда вынесли судебное решение, Сейб заставил меня, ползая на коленях, скатывать ковры и отмывать пол в центральном коридоре. Стояла такая жара, что пóтом, стекавшим с моего лица, можно было смывать мыло с пола. Я сказала Сейбу, что отмывание полов – зимняя работа, а он ответил: «Ладно, можешь зимой повторить». Клянусь, не знаю, что Минта в нем нашла.
Я выскользнула на веранду, чтобы глотнуть свежего воздуха, и увидела Сару.
– Я подумала, ты захочешь узнать, – сказала она. – Суд над Денмарком Визи закончился.
Конечно, свобода этому человеку не светила, но я в изнеможении прислонилась к перилам, все еще на что-то надеясь. Сара подошла ко мне, дотронулась до моего насквозь промокшего платья:
– Его признали виновным.
– Что с ним будет?
– Его казнят. Мне очень жаль.
Я старалась не утонуть в печали, чувствуя, как она захлестывает меня.
Только сейчас я задумалась: почему Сара хотела сообщить мне новость? Они с Ниной знали, что иногда я выходила за территорию усадьбы по своим делам, но понятия не имели, что я бывала у Денмарка. Не ведали, что он называл меня дочерью. Не догадывались, что он был для меня особым человеком.
– После вынесения приговора выпустили указ, – продолжила Сара. – Нечто вроде приказания от судей.
Я изучала ее лицо, рыжие веснушки сделались ярче от солнечного света, а в глазах читалась тревога. И я поняла, зачем она здесь: из-за указа.
– Любой чернокожий, мужчина или женщина, публично скорбящий по Денмарку Визи, будет арестован и наказан плетью.
Отвернувшись от нее, я уставилась на декоративный сад, где Гудис бросил грабли, мотыгу и кувшин с водой. Все растения склонились от жажды. Все засыхало на корню.
– Подарочек, пожалуйста, послушай меня. Согласно этому указу, тебе нельзя носить черное на улицах. Или плакать. Или называть его имя. Или делать что-либо, напоминающее о нем. Понимаешь?
– Нет, и никогда не пойму, – ответила я и вернулась в дом к своей щетке.
* * *
Второго июля перед рассветом я протиснулась через окно моей комнаты, уперлась спиной в стену дома, здоровую ногу поставила на ограду и привычно перемахнула через нее. К черту вымаливание пропуска с подписью белых, разрешающего ходить по улицам! К черту все это!
Под покровом темноты я спешно шла через город. Когда добралась до Мэгазин-стрит, уже рассвело. Рассматривая работный дом, я остановилась как вкопанная, на миг мне показалось, что я снова внутри. Я услышала скрип колеса, почуяла запах страха. Мысленным взором увидела, как плетка из бычьей кожи стегает ребенка, привязанного к спине матери. И почувствовала, как падаю с колеса. Только мысли о Денмарке и о том, что в любую минуту его с соратниками выведут из ворот работного дома, не давали повернуть обратно.
Суд назначил казнь на второе июля. Эта тайна была известна всему свету. Говорили, Денмарка и пятерых его соратников казнят рано утром на Блейкс-Лендс, болотистой пустоши, где росло несколько дубов, на которых вешали пиратов и преступников. Туда мог найти дорогу любой раб, да и белый тоже, но что-то подсказало мне сначала прийти к работному дому и последовать за Денмарком на Блейкс-Лендс. Может, он заметит меня и поймет, что не в одиночку проходит последнюю милю своей жизни.
Я спряталась у сарая вблизи ворот, и вскоре из них выехали четыре запряженные лошадьми повозки, в задней части которых на своих гробах сидели обреченные на казнь люди. В первой повозке оказались побитые, распухшие Ролла и Нед, во второй – Питер, а в третьей – двое незнакомых мужчин. В последней был Денмарк. Он сидел выпрямившись, с сумрачным выражением лица. Он не заметил, как я поднялась на ноги и захромала по обочине дороги вслед за повозками. В них было много стражников, так что мне пришлось держаться на расстоянии.
Лошади медленно тащились по дороге. Я шла за ними довольно долго, у меня разболелась нога, но я старалась сильно не отставать, мечтая, чтобы он взглянул на меня. И тут случилось странное. Три первые повозки свернули на дорогу, ведущую к Блейкс-Лендс, а четвертая, с Денмарком, повернула в противоположном направлении. Денмарк встревожился и попытался встать, но стражник заставил его сесть.
Он видел, как его помощников увозят, и закричал:
– Умрите как мужчины!
Повозки отдалялись друг от друга, а он все кричал. От колес поднималась пыль, и Ролла с Питером ответили:
– Умрите как мужчины! Умрите как мужчины.
Я не знала, куда везут Денмарка, но поспешила за повозкой, а в воздухе звучали их крики. Потом он заметил меня и замолчал. Оставшуюся часть пути он смотрел, как я иду за ним чуть поодаль.
Его повесили на дубе, росшем на пустоши, которая протянулась вдоль Эшли-роуд. Там не было никого, кроме четырех стражников, лошади и меня. Мне оставалось лишь скрючиться в зарослях карликовых пальм и ждать. Денмарк спокойно поднялся на высокую скамейку и не двигался, пока у него над головой завязывали петлю. Он умер так, как завещал остальным, как мужчина. Пока у него из-под ног не вышибли скамью, он всматривался в пальмовые листья, среди которых я притаилась.
Когда его тело повисло в воздухе, я отвернулась. Смотрела в землю, прислушиваясь к хрипам, доносившимся от дерева. Вокруг меня сновали раки-отшельники, мелькали в углублениях в черной земле и поглядывали на меня крошечными глупыми глазками.
Подняв глаза, я увидела, что Денмарк качается на ветке, с которой свисает мох.
Стражники сняли его, положили в деревянный гроб и забили крышку гвоздями. Когда повозка уехала, я выбралась из укрытия и подошла к дереву. В его тени все казалось таким мирным. Будто ничего не произошло. Остались только вмятины в земле, куда упала скамья.
Поблизости было поле. Я знала, что его похоронят там и никто не узнает места упокоения Денмарка Визи. Судейский указ запрещал нам плакать, произносить его имя или делать что-либо, напоминающее о нем, но я вынула из мешочка на шее красную нитку и обвязала ее вокруг маленького прутика на низкой ветви дерева, чтобы отметить это место. Потом выплакала накопившиеся слезы и произнесла его имя.
Часть пятая Ноябрь 1826 – ноябрь 1829
Подарочек
Гудис сильно кашлял. Я несла ему в конюшню жженый сахар для горла, думая, что сегодня еще один обыкновенный день. Очередной стежок на платье.
В доме ругались госпожа с Ниной. Все привыкли к тому, как госпожа обращалась с нами, рабами, но совсем другое дело – как она восприняла отказ Нины вернуться в общество. Без Сары некому было примирить мать и дочь, и они весь день бранились. Фиби готовила на кухне мясное жаркое, а Тетка донимала ее советами. Минта где-то пряталась, возможно в прачечной, а Сейб, думаю, сидел в погребе и курил трубку господина Гримке. Теперь, когда выпивка закончилась, я все время чуяла запах трубочного дыма.
Я остановилась у огорода посмотреть, засадил ли его Гудис на зиму. Увидела только комья земли. Декоративный сад тоже в запустении – плети роз душили олеандр, мирт сильно разросся. Госпожа обозвала Гудиса тунеядцем, но он вовсе не ленился, а подорвал здоровье в неустанных заботах о ее кабачках и цветах.
Я смотрела на землю, переживала за Гудиса и вдруг почувствовала, что кто-то за мной наблюдает. Взглянула на окно госпожи, но там никого не было. Дверь в конюшню отворена, но Гудис стоял спиной ко мне и скреб лошадь. Потом краем глаза я заметила у задних ворот две фигуры. Я посмотрела в их сторону, они не пошевелились, стояли в резком свете – старая рабыня и чернокожая девочка. Что им нужно? У въездных ворот часто крутились рабы, желающие что-то продать, но я никогда не видела, чтобы они толкались у задних ворот. Мне не хотелось прогонять их. Согбенная старуха еле держалась на ногах. Девочка сжимала ее руку.
Я подошла к ним, опираясь на трость и чувствуя под пальцами гладкую отполированную кроличью головку. Женщина и девочка не отрываясь смотрели на меня. Подойдя ближе, я заметила, что их головные платки одинакового вылинявшего красного цвета. У женщины была желтовато-коричневая кожа. Вдруг ее глаза широко распахнулись, и задрожал подбородок.
– Подарочек, – произнесла она.
Я остановилась, внезапно исчезли все звуки. Выронив трость, я бросилась к пришедшим. Увидев это, старуха села на землю. У меня не было ключа от ворот, и я перелетела через них, словно у меня выросли крылья. Опустившись на колени, я прижала женщину к груди.
Должно быть, я закричала, потому что прибежал Гудис, а за ним Минта, Фиби, Тетка и Сейб. Помню, как они смотрели на нас через решетку ворот. Помню, как незнакомая девочка спросила:
– Ты – Подарочек?
Я сидела на земле и качала женщину, как младенца.
– Сладчайший Иисусе, – выдохнула Тетка. – Это Шарлотта.
* * *
Гудис перенес матушку в комнату в подвале и положил на кровать. Все столпились вокруг, глазея на нее, как на призрак. Мы застыли на месте, боясь пошевелиться. Меня бросило в жар, дыхание сперло. Глаза ее закатились, белки глаз слегка пожелтели. Худая как щепка, все лицо в морщинах, седые волосы. Она пропала четырнадцать лет назад, а состарилась лет на тридцать.
Девочка присела рядом с ней на кровать, переводя взгляд с одного лица на другое. С очень темной кожей, ширококостная, с большими руками и ступнями и крутым лбом, она была очень похожа на отца. Дочь Денмарка.
Я велела Минте принести мокрую тряпку. Пока я вытирала матушке лицо, она стонала и вертела шеей. Сейб побежал за госпожой и Ниной. Когда они пришли, матушка открыла глаза.
Над кроватью повис запах немытых тел, и госпожа отодвинулась и закрыла нос рукой.
– Шарлотта, – удивилась она, встав поодаль. – Это ты? Я думала, мы больше тебя не увидим. Где ты пропадала, черт возьми?
Матушка открыла рот, пытаясь ответить, но получалось что-то нечленораздельное.
– Мы рады, что ты вернулась, Шарлотта, – сказала Нина.
Матушка замигала, не понимая, кто говорит. Когда она исчезла, Нине было шесть или семь.
– Она в здравом уме? – спросила госпожа.
Тетка уперла руки в бока:
– Она измотана. Ей нужно поесть и хорошенько отдохнуть. – И послала Фиби за бульоном.
Госпожа пристально разглядывала девочку:
– Кто это?
Вопрос интересовал всех. Девочка выпрямилась и одарила госпожу пронзительным взглядом.
– Она моя сестра, – объяснила я.
В комнате повисла тишина.
– Твоя сестра? – переспросила госпожа. – Силы небесные! Что же мне с ней делать? Я с трудом могу прокормить и остальных.
Нина подтолкнула мать к двери:
– Шарлотте нужно отдохнуть. О ней позаботятся.
Когда за ними закрылась дверь, матушка посмотрела на меня с прежней улыбкой. На месте двух передних зубов зияла большая некрасивая дыра.
– Подарочек, ты только взгляни на себя. Посмотри. Моя девочка, такая большая.
– Мне тридцать три, мама.
– Все это время…
Ее глаза наполнились слезами. Это были первые слезы, которые я видела у нее за всю жизнь. Я наклонилась к ней и прижалась лицом к ее лицу.
Она тихо спросила:
– Что с твоей ногой?
– Неудачно упала, – прошептала я.
Сейб распорядился, чтобы каждый занялся своим делом. Я же стала кормить матушку бульоном с ложечки, а девочка выпила свой бульон из миски. Они проспали рядышком весь день. Время от времени Тетка просовывала в дверь голову и интересовалась:
– Как вы там?
Она принесла хлеба, касторового масла, прокипяченного с молоком, и одеяла, на которых я должна была спать ночью на полу. Помогла мне снять с несчастных обувь, не разбудив, а увидев болячки на их ступнях, оставила у двери мыло и ведро с водой.
Девочка один раз проснулась и попросила ночной горшок. Я отвела ее в уборную и, пока ждала, смотрела, как опадают с дуба листья, плавно кружа по воздуху. «Матушка вернулась». Я еще не вполне осознала случившееся чудо, иначе горячо бы благодарила Господа. В то же время я не могла прийти в себя от того, как она изменилась. И еще тревожилась, как бы госпожа чего не учинила. Она смотрела на мать и дочь, словно на двух пиявок, которых поскорей хочется стряхнуть.
Девочка босиком вышла из уборной.
– Надо вымыть тебе ноги, – заметила я.
Она воззрилась на свои ступни с полуоткрытым ртом, высунув розовый кончик языка. Ей, должно быть, тринадцать. Моя сестра.
Я усадила ее на трехногий табурет в той части двора, куда проникал еще солнечный свет. Потом вынесла во двор ведро и мыло и засунула ее ноги в воду.
– Сколько дней вы с матушкой шли сюда?
С их утреннего возвращения девочка не проронила ни звука, но сейчас с ее губ полился неудержимый поток слов.
– Точно не знаю. Три недели, а может, больше. Мы прошли весь путь от Бофорта. Это усадьба массы Уилкокса. Шли ночью. Шли по тропам купцов вдоль речек. Днем прятались в полях и канавах. Это наш четвертый побег, и мы знали, какой путь выбрать. Чтобы сбить со следа собак, мама натирала ботинки и ноги кожурой от перца и лука. Она сказала, что в этот раз мы не вернемся, лучше умрем.
– Погоди. Вы с мамой убегали уже три раза и всякий раз вас ловили?
Кивнув, она посмотрела на облака:
– Один раз дошли до реки Комбахи. Другой – до Эдисто.
Я вынула ее ноги из ведра и натерла мылом, а она все говорила:
– Мы взяли с собой кукурузы и сухого ямса, когда все это закончилось, ели съедобные листья и ягоды. Все, что находили. Если мама не могла идти, я брала ее на спину и несла. Она говорила: если со мной что-то случится, продолжай путь, пока не найдешь Подарочка.
Сестра многое мне рассказала. Как они пили из луж и слизывали капли росы с листьев сассафраса, как забирались на деревья на болоте и привязывали себя к веткам, чтобы поспать, как, сбившись с пути, плутали под луной и звездами. Поведала, как однажды мимо них проехал в повозке бакраб и не заметил их, хотя они лежали в канаве совсем рядом. Оказалось, она говорит на языке галла, рабов с островов. Научилась ему от женщин на плантациях. Увидев птицу, она говорила биди. Черепаха у нее была кутер. Белый человек – бакраб.
Я хорошенько вытерла ей ноги:
– Ты не назвала своего имени.
– Человек, который присматривал за нами на рисовом поле, называл меня Дженни. Мама говорила, это никакое не имя. Она рассказывала, что наши люди летали, как дрозды. В день, когда я родилась, она посмотрела на небо и назвала меня Скай.
Имя девочке совсем не подходило. В ней было что-то от ствола дерева, камня на поле, который приходится обходить плугу, но я была рада, что матушка назвала ее именно так. В конюшне кашлял Гудис, тихо ржала лошадь. Я поднялась на ноги, а девочка посмотрела на меня и сообщила:
– Когда мы сбивались с пути, она рассказывала мне историю про дроздов – не знаю даже, сколько раз.
– Мне тоже рассказывала, – улыбнулась я.
Моя сестра не отличалась красотой, а послушать ее – так простушка простушкой, но с самого начала я ощутила в ней матушкино упрямство.
* * *
Ночью я проснулась на подстилке на полу и увидела, что матушка стоит посередине комнаты ко мне спиной и, не шевелясь, смотрит на высокое оконце. Было темно, но у нее с головы соскользнул платок, и волосы сияли, как отполированное серебро. На кровати громко и мирно посапывала Скай. Услышав меня, матушка обернулась и развела руки. Не издав ни звука, я встала и подошла к ней, сразу оказавшись в ее объятиях. В этот момент я осознала, что мама дома.
* * *
В следующий раз я проснулась на рассвете, матушка сидела на кровати, глядя на лоскутное одеяло с историей нашего рода. Она не знала, что спала под ним.
Я подошла и похлопала ее по руке:
– Я соединила лоскуты.
В последний раз мама видела лишь стопку квадратов. Кое-где цвет вылинял, но вся история была представлена здесь, на одном лоскутном одеяле.
– Ты пришила каждый лоскут на нужное место, – сказала она. – Не знаю, как тебе удалось.
– Просто расположила их в том порядке, как все происходило.
Когда Фиби и Тетка принесли завтрак, матушка по-прежнему сидела, согнувшись над одеялом, и изучала каждый стежок. Она прикоснулась к фигурке на последнем квадрате, как я знала, изображавшей Денмарка. Меня мучила мысль о том, что придется рассказать ей о его участи.
За ночь в комнате похолодало. Я принесла из прачечной горячей воды, которая всегда была у Фиби наготове. Скай в углу отмывала свое коренастое тело, пока я расстегивала пуговицы на мамином платье.
– Придется его сжечь, – сказала я.
Матушка от души рассмеялась.
Мешочек, который я в свое время сшила для нее, свисал с шеи на новой бечевке из воловьей кожи. Матушка сняла его через голову и вручила мне:
– Не много в нем теперь осталось.
Из мешочка пахнуло плесенью. Я запустила в него пальцы и нащупала порошок, в который превратились старые листья.
Матушка сидела на низкой скамейке, а я вытаскивала ее руки из рукавов платья. Верхняя его часть спустилась до талии, обнажив борозды между ребрами и сморщенные отвислые груди. Я намочила в тазу тряпку и подошла к ней сзади, чтобы вымыть спину, а мама вся сжалась. Спина сверху до талии была изборождена шрамами от кнута, извивающимися наподобие древесных корней. На правом плече стояло клеймо в виде буквы «У». Я не сразу смогла прикоснуться к этим меткам страданий.
Поставив ее ноги в тазик, я спросила:
– А где же твои зубы?
– Выпали в один прекрасный день, – ответила она.
Скай пробурчала что-то невнятное, а потом уточнила:
– Лучше сказать – их выбили.
– Помолчала бы ты, чересчур много небылиц выдумываешь, – отрезала матушка.
Дело в том, что Скай по части историй опередила матушку. К концу недели сестра поведала мне, как мама при каждом удобном случае занималась на плантации вредительством. Чем больше ее наказывали кнутом, тем больше дырок она прорезала в мешках с рисом. Матушка ломала вещи, крала вещи, прятала вещи. Бросала в лесу серпы, портила заборы, один раз подожгла флигель надсмотрщика.
Скай все же не выдержала и рассказала про мамины зубы:
– Это случилось, когда мы сбежали во второй раз. Надсмотрщик сказал, если удерет снова, ее легко будет найти по отсутствующим зубам. Взял молоток…
– Замолчи! – прокричала матушка.
Я наклонилась и заглянула ей в глаза:
– Не надо меня жалеть. Мне тоже досталось. Я знаю, каков этот мир.
Сара
Израэль пришел навестить меня. Мы сидели на диване в гостиной Моттов и говорили об оптовой торговле шерстью и дивной погоде, он постоянно поглаживал бакенбарды. Недавно он отпустил короткую квакерскую бородку, густую, бархатистую, с проседью, и теперь казался мне более красивым и глубокомысленным, новым воплощением себя самого.
После неудавшейся попытки вернуться в Чарльстон я уехала в Филадельфию и сняла комнату в доме Лукреции Мотт, намереваясь устроить свою жизнь. Думаю, мне это удалось. Дважды в неделю я ездила в Грин-Хилл на занятия с Бекки, несмотря на заявление моего давнишнего недруга Кэтрин, что в будущем году моя маленькая протеже пойдет в школу и с начала лета наши занятия прекратятся. В таком случае мне придется искать другую квакерскую семью, нуждающуюся в гувернантке, но пока я об этом не думала. Теперь Кэтрин относилась ко мне мягче, хотя по-прежнему вся подбиралась, заметив, что Израэль улыбается мне на собраниях. Этого он не забывал делать, как не забывал и навещать меня дважды в месяц в гостиной Моттов.
И вот я смотрела на него в недоумении: почему мы так долго тащимся по бесконечной равнине дружеских отношений? На эту тему гуляли всевозможные сплетни. Что якобы два старших сына Израэля против его повторного брака, но не вообще, а именно со мной. Что он обещал умирающей Ребекке любить только ее. Что некоторые старейшины отсоветовали ему жениться, поскольку он не готов к моему, с точки зрения квакеров, сомнительному происхождению. Ведь я не была наследственной квакершей. В Чарльстоне высшей кастой считались люди, рожденные в семье плантаторов, здесь – в семье квакеров. Некоторые вещи одинаковы повсюду.
– Вы самая терпеливая из женщин, – сказал мне однажды Израэль.
Сомнительный комплимент.
Сегодня, если не считать новизну бороды, визит Израэля походил на все остальные. Я вертела в руках салфетку, пока он говорил о фермах с мериносовыми овцами и красителях для шерсти. Потом он умолк, слышался только звон чайных чашек да сверху доносились детские голоса вперемешку с шумом беготни по скрипучим половицам. И вдруг Израэль без предисловия объявил:
– Мой сын Израэль собирается жениться.
Меня смутил его тихий извиняющийся тон.
– Израэль?.. Маленький Израэль?
– Он уже не маленький. Ему двадцать два.
Он вздохнул, словно упустил что-то важное, и мне в голову пришла абсурдная мысль: а нет ли у квакеров закона, по которому отцу запрещается жениться после сына? Еще я подумала, что борода – это скорее не новое воплощение, а уступка.
Когда пришло время прощаться, Израэль взял мою руку и прижал ее к темным завиткам волос на щеке. Потом закрыл глаза, а когда открыл их, я почувствовала: он хочет что-то сказать. Я подняла брови. Но он отпустил мою руку, встал с дивана, и мимолетная мысль, мелькнувшая у него в голове, так и осталась невысказанной.
Потом неуверенной походкой он направился к двери и вышел вон, а я осталась сидеть, осознав с пугающей отчетливостью всю пассивность, сомнения по поводу будущего. Но не сомнения Израэля, а собственные.
* * *
Мы с Лукрецией сидели в крошечной комнатке, которую она называла студией, а в окно барабанил ледяной зимний дождь. Мы подвинули кресла ближе к камину, в котором трещали дрова и, как струны арфы, пело пламя. Лукреция открыла небольшой пакет с почтой, прибывшей днем. Я читала роман Вальтера Скотта, запрещенный у квакеров, отчего он казался еще более захватывающим. Но в тот момент, осовев от жары, я отложила книгу и уставилась на огонь.
Это было мое любимое время суток – детей уже уложили спать, а муж Лукреции Джеймс пошел в свой кабинет. В маленькой комнатушке остались только мы с ней. Студия. Два кресла, большой раскладной стол, камин, навесные полки и широкое окно, выходящее на рощицу красных шелковиц и черных дубов, росших за домом. Комната эта не предназначалась для готовки, шитья, занятий с детьми или игр. В ней повсюду разбросаны бумаги, книги и корреспонденция, палитры для живописи и кусочки бархата, на которые Лукреция пришпиливала ярких ночных мотыльков, найденных в саду. Эта комната – только для нее.
Не знаю, сколько вечеров мы провели здесь за разговорами или просто сидя в молчании подобно двум отшельницам, как сегодня. Нас с Лукрецией связывало нечто большее, чем дружба. И все же я чувствовала разницу между нами. Особенно она бросалась в глаза на собраниях, когда Лукреция сидела на скамье перед прихожанами – единственная женщина-пастор среди мужчин. Она поднималась со скамьи и говорила выразительно и смело. А каждое утро в гостиной я встречалась с ее детьми, перепачканными овсяной кашей. У меня внутри что-то обрывалось, но не от зависти к ее профессии или к тому, что у нее есть эти малыши или даже Джеймс, непохожий на других мужчин, человек неизвестной мне породы – муж, который гордился профессией жены и сам варил детям кашу. Нет, дело было не в этом. Я завидовала ее предназначению. Она его нашла.
– Письмо для тебя, – сообщила Лукреция, пододвигая ко мне конверт.
Конверт был Нинин, но почерк не ее – детский и неумелый. «Мисс Саре Гримке».
Дорогая Сара!
Моя матушка вернулась. Нина сказала, я сама могу сообщить тебе новость. Она сбежала с плантации, где ее держали все это время. Тебе надо с ней увидеться. Она вся в шрамах, с седой головой и на вид стара, как Мафусаил, но в душе все та же. Она привела с собой мою сестру, которую зовут Скай. Имя то еще. Это все матушка с ее мечтами. Она всегда говорила, что когда-нибудь мы взлетим, как дрозды.
Госпожа без конца злится на Нину. Нина натворила что-то в пресвитерианской церкви. На прошлой неделе приходил человек и ругал ее за то, что она там наговорила. У меня надежда только на матушку и Скай.
Долго я писала это письмо. Прости за ошибки. Я больше не читаю и не работаю над словами. Но когда-нибудь займусь этим.
Подарочек.– Надеюсь, новость хорошая? – спросила Лукреция, она пристально всматривалась в мое лицо, выражавшее смесь восторга и душевной муки.
Я прочитала письмо вслух. Много не распространялась о рабах нашей семьи, но рассказывала про Подарочка. Лукреция потянулась ко мне и похлопала меня по руке.
Мы умолкли, а за окном лились темные потоки дождя. Закрыв глаза, я попыталась представить встречу Подарочка с матерью. И с сестрой по имени Скай. Шрамы Шарлотты и седые волосы.
– Почему Господь вкладывает в нас столь сильные стремления… если они ни к чему не приводят?
Это был скорее вздох, чем вопрос. Я думала о Шарлотте и ее упорной мечте о свободе, но, произнеся эти слова, поняла, что они – и обо мне тоже.
Я не ожидала ответа от Лукреции, но через секунду она заговорила:
– Бог наполняет нас всевозможными желаниями, идущими вразрез с миропорядком, исполняется не все, но не думаю, что это по воле Господа. – Она с улыбкой взглянула на меня. – Полагаю, причина в людских деяниях. – Она подалась ко мне. – Жизнь трудна, Сара. И по-настоящему жестока к Подарочку, ее матери и сестре. Все мы силимся увидеть клочок неба, правда? Подозреваю, что Господь вкладывает в нас эти стремления для того, чтобы мы, по крайней мере, пытались изменить порядок вещей. И мы должны пытаться, вот и все.
Я чувствовала, что ее слова пробивают брешь в жизни, которую я себе придумала. Неустранимую брешь.
Я рассказала Лукреции, что ребенком стремилась обрести всю вселенную. Получить профессию, совершенно не принятую среди женщин. Хотелось признаться, что я не так уж довольна работой гувернантки, к которой у меня не лежала душа, но сдержалась. Даже Нина не знала о моем желании стать юристом, о том, каких унижений мне это стоило.
– Но ты сделала все возможное, чтобы стать священником… Довела дело до конца… Я часто думала о том, что для осуществления подобного человек должен услышать особый призыв от Господа.
Квакерские священники не имели ничего общего с англиканскими или пресвитерианскими клерикалами, к которым я привыкла. Они не стояли за кафедрой и не произносили проповеди – они говорили во время Молчания по вдохновению от Бога. Разумеется, высказаться мог любой, но священники были наиболее красноречивы, умели выстраивать богослужения, и их голоса отличались один от другого.
Лукреция поправила растрепавшиеся волосы:
– Не думаю, что услышанный мной призыв был особенным. Мне хотелось сказать свое слово, поделиться сокровенными мыслями с людьми. Безусловно, Господь призывает нас всех к этому.
– Думаешь, я могла бы стать квакерским пастором?
Эта мысль давно сидела у меня в голове. Может, с момента, когда я впервые увидела Израэля на корабле и он сообщил мне, что существуют женщины-священники.
– Сара Гримке, ты самая умная из известных мне людей. Конечно могла бы.
* * *
Забравшись в кровать в теплой шерстяной ночной рубашке, с распущенными волосами, я склонилась над прикроватным столиком с новенькой оловянной чернильницей и принялась за письмо Подарочку.
19 января 1827 года
Дорогая Подарочек!
Какие радостные новости! Вернулась Шарлотта! У тебя есть сестра!
Отложив перо, я уставилась на процессию из восклицательных знаков. Птичий щебет, да и только. Это была моя пятая попытка начать письмо.
На кровати валялись скомканные листки бумаги. Сначала я написала: «Как ты, должно быть, счастлива сейчас!» – но это звучало так, будто я решила, что все ее горести позади. Следующий вариант: «Узнав от тебя новости, я впала в состояние эйфории». А вдруг она не знает, что такое «эйфория»? Боясь показаться нечуткой или снисходительной, чересчур отстраненной или фамильярной, я не могла написать ни строчки. Как всегда, я вспомнила наше чаепитие на крыше, но оно осталось в далеком прошлом, а сейчас оставались лишь скомканные листки бумаги.
Лист с восклицательными предложениями я смяла тоже. На ладони осталось чернильное пятно. Стараясь не испачкать белую наволочку Лукреции, я подошла к умывальному тазу. Мыло не помогло, и я принялась рыться в ящике комода в поисках винного камня. Рядом с пузырьком лежала черная лавовая шкатулка с моей серебряной пуговицей с ирисом. Я открыла шкатулку и уставилась на пуговицу. Потемневшее серебро мерцало, как жемчужина из-под воды.
Эта пуговица сопровождала меня в течение всей сознательной жизни. Когда-то я выбросила ее, но она вновь вернулась ко мне. Благодаря Подарочку.
Нырнув в тепло постели, я положила пуговицу на столик, залюбовалась падающим на нее светом от лампы. Я откинулась на подушку и предалась воспоминаниям о праздновании своего одиннадцатилетия, когда мне вручили Подарочка, и о том всепоглощающем чувстве, с которым я проснулась на следующий день. Казалось, я должна совершить в жизни нечто важное и значительное. Я погладила пуговицу пальцем. Она не позволяла мне забыть об этом.
Все вокруг вдруг стало отчетливым: мерцание тлеющих углей в камине, чуть слышное царапанье под полом, запах чернил, выгравированный на пуговице ирис.
Я взяла новый лист бумаги.
19 января 1827 года
Дорогая Подарочек!
Сердце мое переполнено нежностью. Пытаюсь представить тебя с Шарлоттой и новой сестрой и не могу вообразить твои чувства. Я рада за тебя. В то же время грустно при мысли о шрамах твоей матушки и обо всех ужасах, которые ей довелось пережить. Но не будем думать об этом, а лишь о том, что вы теперь вместе.
А знаешь, однажды, когда мы были детьми, Шарлотта заставила меня поклясться, что когда-нибудь я сделаю все от меня зависящее, чтобы освободить тебя? Мы стояли около поленницы дров, в которой жил совенок. Помню все, словно это было вчера. Могу сейчас признаться, что именно поэтому научила тебя читать. Я говорила себе: чтение – та свобода, которую я могу тебе дать. Прости меня, Подарочек. Жаль, я не смогла лучшим образом выполнить клятву.
Я по-прежнему храню серебряную пуговицу, которую выбросила, а ты подобрала. Пишу тебе, а она лежит рядом с чернильницей, напоминая о моей судьбе, которая, как я считала, ждет меня. Как объяснить подобную уверенность? Я просто знаю это так же, как и то, что внутри каждого желудя скрывается дуб. Всю жизнь меня одолевает желание вырастить семечко. Я приучила себя к мысли, что стану юристом, – может, потому, что вдохновилась примером отца и Томаса, но этого не произошло. А теперь я мечтаю стать квакерским пастором. Надеюсь, это даст мне возможность совершить то, что я пыталась сделать в день своего одиннадцатилетия, когда тебя столь бесчеловечно подарили мне как вещь. Это позволило бы мне заявить всем, кто захочет слушать, что я не могу принять… что мы не можем принять рабства, с ним пора покончить. Вот для чего я родилась – не для священства, не для юриспруденции, а для отмены рабства. Я осознала это лишь сейчас, но именно это дерево заключается в желуде.
Передай своей матушке: я рада, что она наконец тебя нашла. Привет от меня твоей сестре.
Я потерпела неудачу во многих вещах, даже в любви к тебе, но я по-прежнему считаю тебя другом.
Сара.Подарочек
Всю зиму матушка просидела у камина на кухне, ничего не делая. Она немного поправилась, но у нее случались приступы тошноты, и приходилось начинать все сначала. Матушка говорила, что я всегда подхожу к ней с куском лепешки.
У нас было много свободных помещений для рабов, но мы трое оставались вместе в подвальной комнате. Гудис принес из детской маленькую кровать, мы втиснули ее рядом с большой и спали под рамой для лоскутных одеял как три горошинки в стручке. Скай как-то спросила, что это за деревяшка, прибитая гвоздями к потолку?
– Ты никогда не видела раму для лоскутного одеяла? – удивилась я.
– А ты никогда не видела рисового поля, – ответила мне матушка.
Она по-прежнему не хотела рассказывать о том, что с ней случилось.
– Что прошло, то прошло, – говорила.
Но почти каждую ночь она просыпалась и бродила по комнате, и тогда не было похоже, что «все прошло». Я поняла, что лучшим лекарством для нее станет иголка, нитка и кусок ткани. Однажды сказала ей, что мне нужна помощь, и вручила рабочую корзинку. Когда я вернулась, иголка так и сновала у нее в руках.
Труднее всего оказалось найти работу для Скай. За стирку она не взялась бы даже под страхом смерти. Я попросила Сейба приставить сестру к уборке дома и сервировке чая вместе со мной и Минтой, но госпожа заявила, что с ее внешностью только гостей отпугивать. После этого Скай отправили на кухню, но она доводила Тетку до умопомешательства бесконечными рассказами о кроликах, которые могли перехитрить лисиц и медведей. В конце она обычно садилась на крыльцо и пела на языке галла одну и ту же песню, бесконечно повторяя ее: «Если не знаешь, куда идешь, должен знать, откуда пришел».
Однажды на исходе зимы в парадную дверь постучали и вошел адвокат мистер Хьюджер, от холода отбивая дробь ногами. Он вручил мне шляпу, а Сейб пошел за госпожой.
Я бросилась в комнату Нины, она готовилась к занятиям, которые проводила в церкви.
– Скорей, иди посмотри, зачем позвали твою матушку, – попросила я. – Пришел мистер Хьюджер…
Не дослушав, она вылетела из комнаты.
Я притаилась за закрытой дверью гостиной, но разговора не разобрала, лишь отдельные слова. Пенсия… Банк… Банкротство на рынке хлопка… Пожертвовать. Часы пробили десять. Их бой заполнил весь дом, и, когда он утих, я услышала, как госпожа произносит слово «небо» («скай»). Конечно, она могла говорить о голубом небесном своде, но я чувствовала: речь о моей сестре.
Я прижалась ухом к двери. Пускай Сейб застукает меня и прогонит. Мне наплевать.
– Ей тринадцать, у нее нет никаких навыков ведения домашнего хозяйства, но она сильная, – говорила госпожа.
Мистер Хьюджер бубнил что-то о повышении цен, о продаже весной, когда на плантациях начинаются посадки.
– Нельзя отрывать Скай от матери! – прокричала Нина. – Это бесчеловечно!
– Мне это тоже не нравится, – согласилась госпожа. – Но надо реально смотреть на вещи.
У меня перехватило дыхание. Я закрыла глаза, не желая смотреть на этот жестокий мир.
Матушка сидела в кухонном корпусе одна с корзинкой на коленях. Я опустилась на корточки рядом с ней:
– Госпожа собирается весной продать Скай. Надо найти любой способ оставить ее здесь.
– Продать? – Она ошеломленно взглянула на меня, потом зажмурилась. – Мы проделали такой долгий путь не для того, чтобы продали мою девочку. Чтоб мне провалиться на месте.
– Должна же Скай хоть что-то хорошо делать!
Из моих слов выходило, что Скай туповата, и матушка рассердилась:
– Не смей так говорить! У твоей сестры ум Денмарка. – Она покачала головой. – Он ее отец, и полагаю, ты это сообразила.
– Угу, сообразила. – Мне показалось, настал подходящий момент, чтобы сказать ей. – Денмарк, он…
– Нет ни одного раба, который не знал бы, что с ним случилось. Мы услышали об этом по пути в Бофорт.
Я промолчала о том, что видела, как его повесили на дереве, но рассказала все остальное. Начала с церкви, где мы пели «Иерихон». Поведала матушке о работном доме, о моем падении с колеса и об искалеченной ноге. А также о том, что Денмарк опекал меня и называл дочерью.
– Я выкрала для этого человека форму для отливки пуль, – завершила я свой рассказ.
Матушка крепко прижала пальцы к векам, чтобы остановить слезы. Когда открыла глаза, я увидела, что они покрыты сеточкой красных линий.
– Один раз Скай спросила меня, кто ее папа, – призналась матушка. – Я сказала, что он был свободным чернокожим из Чарльстона, но уже умер. Это все, что она знает.
– Почему же не сказала правду?
– У Скай детская привычка все выбалтывать. Стоит поведать ей про Денмарка, и она расскажет о нем всему свету. И это вряд ли пойдет ей на пользу.
– Ей необходимо узнать.
– Ей необходимо, чтобы ее не продали. Лучше всего она разбирается в рисовых полях. Пусть ее определят на работу во дворе.
* * *
Скай взялась за декоративный сад и привела его в порядок. Она будто с самого начала знала, на какую глубину сажать луковицы нарциссов и когда обрезать розы, а как подстригать изгороди, выяснила по рисункам из книги, которую показала ей Нина. Сажая овощи, Скай приносила из конюшни конский навоз и смешивала его с землей. Она намечала ровные борозды для семян и потом притаптывала их босыми ногами, как делала это с рисом. Окучивая растения, пела им песни на языке галла. Когда появлялись жуки, собирала их.
Можете себе представить: тыквы выросли размером с поросячью голову. А розовые головки пионов – с суповую тарелку. Госпожа даже пришла специально взглянуть на них. Когда распустились нарциссы, наполнив воздух благоуханием, она устроила для знакомых чаепитие в саду, и те позеленели от зависти.
Наступило лето, и Скай была по-прежнему с нами.
* * *
– Где ты хранишь лоскутки? – спросила матушка.
Она рылась в полированном столе для шитья в углу подвальной комнаты. На полу у ее ног стояла корзинка с мотками ниток, иголками, булавками, ножницами и измерительной лентой.
– Лоскутки? Там, где и всегда. В мешке.
Она потянулась за мешком:
– Есть красные и коричневые из хлопка?
– Конечно.
Я пошла вслед за ней к дереву душ, в ветвях которого прятались вороны. Матушка уселась на старый табурет спиной к стволу и принялась за работу. Она вырезала красный квадрат, затем прошлась ножницами по коричневой ткани, сделав повозку.
– Это повозка, в которую тебя бросили стражники в день, когда ты пропала? – спросила я.
Матушка улыбнулась.
Она принялась за продолжение своей истории. И собиралась рассказывать ее не словами, а с помощью лоскутов.
Сара
В начале осени мы с Лукрецией начали посещать собрания женщин на Арч-стрит. Однажды в людном вестибюле я заметила, что Джейн Бетлман пристально рассматривает пуговицу с ирисом на вороте моего серого платья. И неудивительно – богато украшенная дорогая пуговица была размером с брошь. Недавно я отполировала серебро, и в ярко освещенном вестибюле она сияла, как маленькое солнце.
Я прикоснулась к выгравированному ирису и прошептала Лукреции:
– Моя пуговица оскорбила миссис Бетлман.
– Ты почти постоянно шокируешь мистера Бетлмана, неудивительно, что и на его жену действуешь так же.
Я удержалась от улыбки.
Будучи, возможно, самой заметной фигурой на Арч-стрит, Сэмюэл Бетлман каждую неделю критиковал нас с Лукрецией. Последние несколько месяцев мы с ней часто выступали на собраниях за отмену рабства, и он каждый раз напускался на нас, говоря, что подобные высказывания сеют рознь. Разумеется, никто из нашей секты не одобрял рабства, но многие держались в стороне от открытой борьбы. Кроме того, разнились мнения по поводу того, насколько быстро следует освобождать рабов. Даже Израэль был градуалистом, считая, что рабство нужно отменять постепенно. Но больше всего мистера Бетлмана и других участников собраний раздражало то, что об этом говорили женщины.
– Пока мы рассуждаем, как стать добрыми спутницами жизни для наших мужей, все прекрасно, – как-то сказала мне Лукреция, – но стоит влезть в социальные проблемы или, упаси Господь, в политику, и они шикают на нас, как на детей!
Лукреция, безусловно, придавала мне уверенности.
– Мисс Гримке, миссис Мотт, как поживаете? – Рядом с нами возникла миссис Бетлман, скосив глаза на мою экстравагантную пуговицу.
Ответить на ее приветствие мы не успели.
– Какое необычайно вычурное украшение на вашем воротнике.
– Вам нравится?
Думаю, она ждала оправданий, не дождавшись, поджала бледные губы, которые стали похожи на изогнутые края лилии.
– Что ж, оно определенно подходит к вашему новому имиджу. В последнее время ваши выступления на собраниях отличались откровенностью.
– Я лишь пытаюсь высказать то, что внушает мне Бог, – не без лукавства ответила я.
– Немного странно, правда, что Бог так часто внушает вам высказывания против рабства. Надеюсь, вы правильно поймете мою озабоченность, но многим из нас кажется, что вы чрезмерно поглощены этой идеей. – Не убоявшись даже Лукреции, придвинувшейся ко мне, миссис Бетлман продолжила: – Некоторые считают, что время действий еще не наступило.
Я задохнулась от гнева:
– Вы, ничего не зная о рабстве… совсем ничего, осмеливаетесь говорить, что время действий еще не наступило? – Мой голос звенел на весь вестибюль, женщины прервали разговоры и повернулись в нашу сторону. У миссис Бетлман перехватило дыхание, но я продолжала: – Если бы вы, как рабыня, гнули спину на плантациях Каролины… полагаю, тогда вы считали бы, что время давно пришло.
Повернувшись на каблуках, она удалилась. На нас с Лукрецией обратились возмущенные немые взоры.
– Мне нужно на свежий воздух, – спокойно произнесла я.
Мы вышли из молитвенного дома и пошли мимо скромных кирпичных строений, продавцов угля и разносчиков фруктов до самого спуска к паромной переправе Камден. Миновав павильон, мы очутились на пристани, кишевшей пассажирами, которые прибывали из Нью-Джерси. В дальнем конце пристани на истертых досках, повернувшись к ветру, застыли белые чайки. Мы остановились неподалеку от них и, придерживая капоры, стали смотреть на реку Делавэр.
У меня дрожали руки, это не укрылось от Лукреции.
– Ты не собираешься сворачивать с пути, правда? – спросила она.
Она имела в виду происшедшую стычку и обычное желание женщины сдать назад в целях безопасности.
– Нет, – ответила я. – Ни в коем случае.
* * *
16 февраля 1828 года
Дорогая и любимая сестра!
Ты узнаешь об этом первая и единственная – мое сердце отдано его преподобию Уильяму Макдауэллу из Третьей пресвитерианской церкви. В Чарльстоне его называют «молодым красивым священником из Нью-Джерси». Ему тридцать с небольшим, и лицом он очень похож на Аполлона с маленькой картины, висевшей в твоей комнате. Он приехал из Морристауна в поисках более мягкого климата для здоровья. Ах, сестра, у него самые решительные представления по поводу рабства!
Прошедшим летом он привлек меня к обучению детей в воскресной школе, чем я с радостью занимаюсь каждую неделю. Однажды на занятии я вскользь упомянула о пагубности рабства, после чего на моем уроке побывал директор доктор Макинтайер. Ты бы видела, как Уильям защищал меня. После посоветовал ждать и молиться. Мне не удается ни то ни другое.
Он навещает меня каждую неделю, и мы обсуждаем вопросы теологии, Церкви и положения в мире. Перед тем как уйти, он всегда берет меня за руку и молится. Я открываю глаза и смотрю, как он морщит брови и возносит выразительные мольбы. Если Бог имеет хотя бы малейшее представление о том, что значит быть влюбленным, Он простит меня.
Пока я не знаю намерений Уильяма в отношении меня, но надеюсь, он разделяет мои чувства. Пожелай мне счастья.
Твоя Нина.Я прошла с письмом Нины к скамейке под поздним ильмом, растущим на крошечном заднем дворе Моттов. День для марта выдался теплым. Сквозь промерзшую землю пробивались крокусы, кузнечики и птицы начали веселую весеннюю суету.
Закрыв колени пледом, я водрузила на кончик носа очки. В последнее время при чтении слова превращались в расплывающиеся закорючки. Я думала, что испортила зрение частым чтением – в прошедшем году я упорно готовилась к должности священнослужителя, – однако врач приписал эту проблему среднему возрасту. Разрезая конверт, я думала: «Нина, если бы ты сейчас увидела меня с этим старушечьим пледом и очками, подумала бы, что мне семьдесят, а не вдвое меньше».
Про преподобного Макдауэлла я читала с материнским удовлетворением и беспокойством. Спрашивала себя, достоин ли он ее. Интересно, что о нем думает наша мать и приеду ли я в Чарльстон на свадьбу? И еще любопытно, как Нина справится с ролью жены духовного лица. Подозревал ли его преподобие о том, какого рода ящик Пандоры ему предстояло открыть?
То, что Израэль появился именно в этот момент, иначе как причудой судьбы не назовешь. Я собиралась положить письмо в карман, подняла взгляд и увидела, что он, без пальто и шляпы, направляется ко мне. Был ранний вечер.
Он ни разу не упомянул эпизод с Джейн Бетлман, хотя, без сомнения, знал о нем. Все на Арч-стрит знали о нем. Одна часть прихожан считала меня высокомерной и дерзкой, другая – просто эмоциональной и безрассудной. Думаю, Израэль относился ко вторым.
Он уселся рядом, прижался коленом к моей ноге, отчего в груди у меня стало жарко. Он по-прежнему носил хорошо подстриженную бороду, в которой появилось больше седых волос. Уже много недель я видела его только на собраниях. Он никак не объяснял своего отсутствия. Я старалась не удивляться.
– Израэль… это так неожиданно. – Я сняла очки.
Он весь был в напряжении. Казалось, даже в воздухе разлита тревога.
– Я уже давно хочу побеседовать с вами, но сдерживаюсь. Беспокоюсь, как вы воспримете мои слова.
Вряд ли он собирался говорить о размолвке с миссис Бетлман, которая произошла несколько месяцев тому назад.
– Есть плохие новости?
– Полагаю, это может показаться неожиданным, Сара, но я намерен высказаться, и будь что будет. Уже пять лет я борюсь с чувствами к вам.
Я почувствовала, что задыхаюсь. Он уставился на голые ветви деревьев, растущих вдоль двора.
– Наверное, я слишком долго оплакивал Ребекку, привык к этому. Верный памяти о ней, я лишил себя слишком многих вещей. – Он склонил голову. Я хотела ответить, что все в порядке, но, подумав, промолчала. – Я пришел попросить прощения. Мне казалось нечестным просить вашей руки, пока я был сильно привязан к ней.
Так это было извинение, а не предложение.
– Не стоит извиняться.
Словно не слыша меня, он продолжал:
– Несколько недель назад мне приснилась Ребекка. Она подошла ко мне с медальоном в руке – тем самым, который Бекки заставила вас носить. И вложила его в мою ладонь. Проснувшись, я почувствовал, что она отпустила меня.
Я уныло рассматривала свои руки, а сейчас подняла на него глаза, ощутив в его голосе весь смысл слова «отпустила» и поняв, что ситуация меняется.
– Вам следует знать, что я сильно к вам привязан, – сказал он. – Мужчина не должен оставаться в одиночестве. Дети вырастают, но младшие по-прежнему нуждаются в матери, а Грин-Хиллу нужна хозяйка. Кэтрин изъявила желание переехать в свой городской дом. Я плохо говорю. Прошу вас, надеюсь, вы станете моей женой.
Я воображала себе этот момент и радость, которая меня охватит. Я закрою глаза и почувствую, что моя жизнь только начинается по-настоящему. Скажу: «Милый Израэль, да, я согласна». Все в этом мире будет означать «да».
Но вышло иначе. Чувства мои были спокойны и странны – радость с привкусом страха. На долгую минуту я лишилась дара речи.
Молчание обескуражило его.
– Сара? – позвал он.
– Хочу ответить «да»… Но все же, как вы знаете, я намерена следовать своему призванию. Принять духовный сан…То есть… могу я стать вашей женой и пастырем?
Он широко раскрыл глаза:
– Не представлял, что вы захотите исполнить свои амбиции после замужества. Вы действительно этого хотите?
– Да. Всем сердцем.
– Простите, – нахмурился он, – но я подумал, вы избрали этот путь, потому что поставили на мне крест.
Он думал, мои честолюбивые замыслы были утешением? Я порывисто поднялась и прошла несколько шагов.
Я размышляла об осознании своего предназначения, оно пришло ко мне в тот вечер, когда я писала Подарочку. Мои помыслы были чисты, как и голос, позвавший на Север. Я пришивала на платье пуговицу и знала, что отрывать ее нельзя.
Я повернулась к нему, он тоже встал и ждал.
– Я не могу быть Ребеккой, Израэль. Она посвятила вам и детям всю свою жизнь, и я стану любить вас не меньше, но я не похожа на нее. Есть вещи, которые я обязана сделать. Пожалуйста, Израэль, не заставляйте меня выбирать.
Он взял мои руки и поцеловал сначала одну, потом другую. Мне пришло в голову, что я призналась ему в любви, а он – нет. Он говорил о попечении, о своих потребностях, потребностях детей, о Грин-Хилле, которому нужна хозяйка.
– Неужели вам недостаточно будет меня, нас? – спросил он. – Вы могли бы стать прекрасной женой и лучшей из матерей. Мы постараемся, чтобы ваши амбиции не пропали втуне.
Он выразил свое мнение. Не получалось быть его женой и сохранить индивидуальность.
Подарочек
Я расстелила под деревом подстилку, поставила на нее рабочую корзинку. Госпожа решила, что для гостиной нужны новые шторы и покрывала; затея была пустая, зато у меня появился повод приходить сюда и шить вместе с матушкой.
Она каждый день сидела под деревом, воплощая в лоскутном одеяле историю своей жизни. Даже если моросил дождь, я не в силах была удержать ее – она, подобно Господу, совершенствовала мир. Вечером, ложась спать, она словно бы приносила дерево с собой. Запах коры и белых сморчков. Комочки земли.
Зима наконец миновала. На ветвях распускались листочки, на землю падали золотистые сережки, словно деревья линяли, сбрасывали мех. Сидя на коврике рядом с матушкой, я думала о Саре, которая, живя на Севере, не часто видит солнце. Недавно она написала мне первое в моей жизни письмо. Оно почти всегда было при мне в кармане платья.
Жена Томаса подарила госпоже латунную птичку, которая зажимала в клюве край ткани. Теперь я измеряла и выкраивала ткань с помощью этой птички. Матушка вырезала аппликацию мужчины, который держал над огнем клеймо.
– Кто это? – спросила я.
– Масса Уилкокс, – ответила она. – Он поставил мне клеймо после первого побега. Скай тогда было семь, надо было бы подождать, пока она подрастет и сможет путешествовать.
– Скай говорит, вы убегали четыре раза.
– Мы сбежали на следующий год, когда ей было восемь, потом, когда было девять, и в тот раз ее тоже били кнутом, так что я перестала пытаться.
– Как же вы решились на еще одну, последнюю попытку?
– Когда я впервые туда попала еще до рождения Скай, ко мне пришел масса Уилкокс. Все знали, чего ему надо. Он стал лапать меня, я выхватила из огня горящие угли и швырнула в него. Обожгла мужику руку через рубашку. Тогда меня впервые наказали кнутом, но он больше не подкатывал ко мне. В прошлом году Скай исполнилось тринадцать, и он начал увиваться вокруг нее. Я сказала ей, что мы уходим и на этот раз нас ничто не остановит, даже смерть.
Я не нашла что ответить. Пробормотала только:
– Что ж, вы это сделали, и теперь вы здесь.
И мы вновь заработали иглами. В саду Скай пела свою любимую песенку.
* * *
С момента появления у нас Скай ни разу не выходила за пределы усадьбы Гримке. У госпожи не было на нее бумаг собственника, и Нина сказала, что выходить опасно. После поимки Денмарка законы ужесточились и белые озлобились, но в следующий рыночный день я попросила Нину:
– Выпиши Скай пропуск, сделай это для меня. Я присмотрю за ней.
Я повязала на голову Скай новый шарф и надела на нее выглаженный фартук.
– Смотри, не болтай там слишком много, ладно? – предупредила я ее.
За воротами я показывала ей переулки, в которых можно спрятаться. Объясняла, что мимо стражников надо проходить с опущенными глазами, показывала, как уступать дорогу белым, как выживать в Чарльстоне.
На рынке кипела жизнь – мужчины несли деревянные подносы с рыбой, у женщин покачивались на голове корзины овощей размером с лохань для стирки. Маленькие девочки продавали в соломенных шляпках пирожные с арахисом. У прилавков мясников, на которых выстроились окровавленные бычьи головы, Скай от удивления вытаращила глаза:
– Откуда все это берется?
– Ты ведь в городе, – ответила я.
Я показала ей, как выбирать продукты, которые заказала Тетка, – кофе, чай, муку, кукурузу, кострец, свиное сало. Научила ее торговаться, подсчитывать сдачу. Эта девочка быстрее меня складывала в уме цифры.
– А теперь мы кое-куда пойдем, – сообщила я, покончив с покупками, – и я не хочу, чтобы ты говорила об этом маме, Гудису или кому-то еще.
У дома Денмарка мы остановились и стали смотреть на облупленную штукатурку. Я пришла сюда через несколько месяцев после линчевания Денмарка, дверь открыла незнакомая мне свободная чернокожая женщина. Она сказала, что дом купил ее муж у города, и добавила, что ничего не знает о судьбе Сьюзен Визи.
– Ты всегда поешь о том, что мы должны знать, откуда родом. – Я указала на дом. – Здесь жил твой папа. Его звали Денмарк Визи.
Пока я рассказывала о нем, Скай смотрела на крыльцо. Я сказала, что он был плотником, большим отважным человеком, умнее любого белого. Рассказала, что рабы Чарльстона называли его Моисеем и что он жил ради нашего освобождения. Поведала также о пролитой им крови, с чем уже давно примирилась.
– Я знаю о нем. Его повесили, – ответила Скай.
– Будь у него возможность, он называл бы тебя дочерью.
* * *
Мы только погасили свечку, и тут раздался матушкин шепот:
– Что стало с деньгами?
Я вытаращила глаза:
– С какими деньгами?
– Которые я скопила, чтобы купить нам свободу. Что с ними стало?
Скай уже крепко спала, посапывая во сне. Услышав наши голоса, она заворочалась и что-то забормотала. Опершись на локоть, я взглянула на матушку, лежащую между нами:
– Я думала, ты взяла их с собой.
– В тот день я продавала капоры. Зачем бы мне понадобилось таскать деньги в кармане?
– Не знаю, – прошептала я. – Но их нигде нет. Я повсюду искала.
– Они все время были у тебя под носом. Будь деньги змеей, укусили бы тебя. Где первое лоскутное одеяло, которое ты сшила, – с красными квадратами и черными треугольниками?
Могла бы и догадаться.
– Я храню его на раме с другими одеялами. Так ты спрятала деньги там?
Мама откинула одеяло и вылезла из кровати, я со свечкой заковыляла за ней. Скай села в кровати.
– Давай вставай, – велела ей матушка. – Мы собираемся опустить раму с одеялами.
Скай со смущенным видом приблизилась к нам, а я взялась за веревку и опустила раму под громкий скрип колесиков шкива.
Матушка рылась в стопке одеял, пока не нашла одно в самом низу. Встряхнула его, и комната наполнилась запахом старого тряпья. Потом залезла под подкладку, пошарила там рукой. И, ухмыляясь, вытащила тонкую пачку, затем еще пять – все они были завернуты в муслин и перевязаны полуистлевшими бечевками.
– Ну-ка посмотрите сюда!
– Что ты нашла? – спросила Скай.
И мы рассказали ей о матушкиной работе на стороне, а потом закружились по комнате. Внимательно рассмотрев наше сокровище, мы положили деньги на раму, и я подняла ее к потолку.
Скай снова уснула, а мы с матушкой лежали с широко открытыми глазами.
– Завтра прежде всего перевяжи пачки новой бечевкой и зашей в одеяло, – попросила мама.
– Но их не хватит, чтобы выкупить нас всех.
– Знаю, мы их пока придержим.
Наступила ночь, и я начала дремать. Но перед тем как отключиться, услышала мамины слова:
– Я не надеюсь освободиться. Для меня единственный способ стать свободной – освободить вас.
Сара
13 апреля 1828 года
Дорогая Нина,
в прошлом месяце Израэль после долгих раздумий сделал мне предложение. Ты удивишься, узнав, что я ему отказала. Он не поддержал меня в желании получить духовный сан, по крайней мере будучи его женой. Как могла я выбрать человека, требующего, чтобы я отказалась от стремления реализовать себя? Я решила остаться верной себе.
Видела бы ты его. Он не может примириться с тем, что увядающая женщина средних лет предпочла ему одиночество. Ему, уважаемому всеми, красивому Израэлю. Услышав ответ, он спросил, не больна ли я и в себе ли я. Пытался втолковать всю серьезность моей ошибки. Сказал, что мне следует хорошо подумать. Настаивал на том, чтобы я поговорила со старейшинами. Будто эти люди знают, что у меня на душе.
Люди с Арч-стрит, как и Израэль, не понимают причин моего отказа. Считают, что я эгоистична и веду себя неправильно. Разве это так, Нина? Неужели я глупа? За все эти недели он ни разу не навестил меня. Я безутешна. Боюсь, что совершила самую большую ошибку в своей жизни.
Хотелось бы уверить тебя в своей решительности и стойкости, но на самом деле мне страшно, тоскливо и одиноко. Такое чувство, будто он умер, и, думаю, в каком-то смысле это правда. У меня не осталось ничего, кроме странного трепета в сердце, который напоминает, что я пришла в этот мир ради некоего свершения. Не думаю, что мне стоит оправдываться за этот трепет или за то, что он так же дорог мне, как Израэль.
С надеждой и благословением думаю о тебе и твоем преподобном Макдауэлле.
Помолись за свою любящую сестру.
Сара.Я отложила перо и запечатала письмо. Было поздно, дом Моттов спал, догорала свеча, за окном царил непроницаемый мрак. Несколько недель подряд я сдерживалась и не писала Нине, но теперь дело сделано, и мне показалось, что настал некий поворотный момент, отказ от того, чем я всегда была для нее: матерью, спасительницей, образцом для подражания. Хватит с меня. Хочу быть самой собой – ее заблуждающейся сестрой.
* * *
Лукреция вручила мне письмо от Нины, когда я готовила на кухне пресные лепешки по рецепту Тетки – из пшеничной муки, масла и холодной воды с сахаром. У меня не было кулинарных талантов, но я старалась хоть иногда быть полезной. Стоя над миской с мукой, я распечатала письмо.
1 июня 1828 года
Милая сестра,
не падай духом. Значение брака преувеличено.
Моя новость хотя и не столь печальная, как твоя, но похожа. Несколько недель назад я зашла перед собранием в церковь и потребовала от старейшин отказаться от своих рабов и публично осудить рабство. Все, включая нашу мать, брата Томаса и даже преподобного Макдауэлла, отреагировали так, словно я совершила преступление. Я просила их отказаться от греха, а не от Христа и Библии!
Его преподобие Макдауэлл в душе согласен со мной, но, когда я попросила высказать в публичной молитве то, что он говорит лично мне, он отказался.
– Молись и жди, – повторил он.
– Молись и действуй! – выпалила я. – Молись и говори!
Как могу я выйти за человека, проявляющего подобную трусость?
Мне не остается ничего другого, как покинуть его церковь. Я решила пойти по твоим стопам и стать квакершей. Правда, с содроганием думаю об отвратительных платьях и убогих молитвенных домах, но свой выбор я сделала.
А Израэлю – скатертью дорога! Утешайся сознанием того, что мир держится на трепете твоего сердца.
Твоя Нина.Дочитав письмо, я отодвинула стул от соснового стола и села. В воздухе носилось мучное облачко. Нас с Ниной непостижимым образом сближало еще и то, что мы почти одновременно испытали одинаковую боль. «Скатертью дорога», – писала она про Израэля, но это было горько. Я боялась, что не разлюблю его до конца жизни, что всегда буду сожалеть о несостоявшейся жизни с ним в Грин-Хилле. Я мучительно тосковала по ней, это бывает, когда идеализируешь жизнь, от которой отказался. Но, размышляя, я понимала: прими я предложение Израэля, все равно пожалела бы. Просто я выбрала сожаление, с которым легче примириться. Я предпочла жизнь, которая оказалась мне ближе.
* * *
Почти два года я безуспешно боролась за признание себя пастырем. В итоге, устав, занялась благотворительностью в детском приюте, чтобы склонить на свою сторону квакерских женщин. Я проводила почти все вечера за чтением квакерских молитв и вся пропахла парафином. Но больше всего я страдала из-за своей подчас сбивчивой речи на собраниях. Волнение перед публичным выступлением всегда усугубляло заикание, и мистер Бетлман громко жаловался на мое «неразборчивое бормотание». Считалось, что священнику не обязательно в совершенстве владеть риторикой, однако все наши пастыри были потрясающе красноречивыми.
В конце концов я обратилась к врачу в надежде, что меня вылечат, но он напугал меня разговорами об операции, при которой подрезают корень языка и удаляют лишнюю ткань. Я ушла от него, решив никогда не возвращаться. Той ночью я не могла заснуть, сидела на кухне с чашкой теплого молока с мускатным орехом, снова и снова повторяя «Злой Уилли Уигл», короткую скороговорку, которую Нина заставляла меня талдычить в детстве.
* * *
8 октября 1828 года
Моя дорогая Сара!
Меня ждет публичное отлучение от Третьей пресвитерианской церкви. Похоже, меня осуждают за недавние посещения квакерских собраний. Мать возмущается. Считает, что мое падение началось в день, когда я отказалась от конфирмации в церкви Святого Филипа. Послушать ее, так в свои двенадцать я была марионеткой, за чьи ниточки ты тянула, а теперь я взрослая марионетка двадцати четырех лет, которой ты управляешь из Филадельфии. До чего же ты ловкая! Мама также не преминула заметить, что благодаря своей гордости и дерзкому языку я незамужняя марионетка.
Вчера меня навестил его преподобие Макдауэлл, увещевал вернуться к «пастве богоизбранных», или же, как он сказал, меня вызовут на церковное заседание, и я предстану перед судом по обвинению в нарушении клятвы и пренебрежении к богослужению. Что скажешь на это? Я ответила как можно спокойнее: «Пришлите повестку в ваш суд, я приду и буду защищаться». После чего предложила ему чая. Как говорит мама, я горда и горжусь даже своей гордостью. Но когда он ушел, я побежала к себе в комнату и дала волю слезам. Меня будут судить!
Мама говорит, я должна отказаться от квакерских глупостей и вернуться к пресвитерианам или Гримке не миновать публичного скандала. Это случалось с нами и прежде, верно? Импичмент отца, жалкий Берк Уильямс и твое внушающее благоговение бегство на Север. Теперь мой черед.
Остаюсь верной себе. Твоя сестра
Нина.* * *
В течение следующего года мои письма к Нине заменили дневник, который я вела со смерти отца. Я рассказывала ей, как практиковалась в произнесении «Злой Уилли Уигл», писала об опасении, что моя дикция помешает осуществить большую мечту. Рассказывала о мучении каждую неделю видеть на собраниях Израэля, о том, что он избегает меня, а его сестра Кэтрин заметно ко мне подобрела. Когда я вернулась сюда, не могла даже вообразить столь резкой перемены.
Я посылала Нине наброски студии и пересказывала наши с Лукрецией разговоры. Держала ее в курсе самых насущных предложений, витающих в Филадельфии: не допустить изгнания свободных негров из белых округов и упразднения в молитвенных домах «скамьи для цветных».
«Для меня стало большим откровением, – делилась я с ней, – что отмена рабства отличается от стремления к расовому равенству. В корне всего – расовые предрассудки. Если этого не исправить, бедственное положение негров не изменится и после отмены рабства».
В ответ Нина восклицала: «Хотелось бы мне приклеить твое письмо на афишную тумбу на Митинг-стрит!»
Эти строки я прочла с удовольствием.
Сестра писала о ссорах с матерью, унылых собраниях в молитвенном доме квакеров и откровенном остракизме, которому она подвергалась. «Сколько еще мне пребывать на этой земле рабства?» – недоумевала она.
Как-то в пасмурный летний день Лукреция вложила мне в руку письмо.
12 августа 1829 года
Дорогая Сара,
несколько дней назад я шла к больной из нашего собрания и на углу Мэгазин и Арчдейл-стрит увидела двух мальчишек – самых обычных, – которые вели в работный дом перепуганную рабыню. Она умоляла их не делать этого, а увидев меня, стала жалобно просить: «Пожалуйста, госпожа, помогите мне». Что я могла сделать?
Теперь я вижу, здесь я бессильна. Я приеду к тебе, сестра. Уеду из Чарльстона и поплыву в Филадельфию в конце октября, после штормов. Мы будем вместе, и нам ничего не будет страшно.
С неизменной любовью,
Нина.* * *
Я ждала Нину уже неделю, сидя у окна моей новой комнаты в доме Кэтрин. Коварная ноябрьская погода задерживала корабль сестры, но вчера тучи рассеялись.
Сегодня. Сегодня обязательно.
На коленях лежал тонкий сборник квакерских молитв, но я не могла сосредоточиться. Закрыла его и принялась вышагивать взад-вперед по узкой комнате, непритязательной маленькой келье, похожей на ту, что ожидала Нину на другой стороне коридора. Интересно, что она о ней подумает.
Тяжело было покидать Лукрецию, но в ее доме не нашлось комнаты для Нины. Хозяйкой Грин-Хилла стала невестка Израэля, что позволило Кэтрин вернуться в небольшой городской дом. И когда она предложила нам снимать комнаты у нее, я с облегчением согласилась.
Я вновь подошла к окну, вгляделась в клочки голубого неба над головой, потом перевела взгляд на заполненную желтыми листьями вязов улицу. И вдруг подивилась своей жизни. Какой странной она оказалась, как отличалась от того, что я себе представляла. Дочь судьи Джона Гримке – патриота Юга, рабовладельца, аристократа, – живущая в аскетическом доме на Севере, незамужняя аболиционистка.
В конце улицы показался экипаж. Я на миг оцепенела, завороженная цоканьем конских копыт и маленькими вихрями листьев, взметающихся от движения. Но в следующий миг сорвалась с места и побежала.
Нина открыла дверь экипажа и, увидев, как я мчусь к ней без шали, с растрепавшимися рыжими волосами, засмеялась. На ней была длинная черная накидка с капюшоном. Она откинула капюшон и, сияя, посмотрела на меня.
– Сестра! – воскликнула она, вышла из экипажа и бросилась ко мне в объятия.
Часть шестая Июль 1835 – июнь 1838
Подарочек
Утром я стояла у кровати и смотрела на маму, а она спала, как дитя, подложив ладони под щеку. Очень не хотелось будить, но все же я похлопала ее по ноге, и она открыла глаза.
– Можешь встать? – спросила я. – За тобой послала маленькая госпожа.
Маленькой госпожой мы называли Мэри, старшую дочь Гримке. В начале лета она овдовела и, едва похоронив мужа, передала чайную плантацию своим мальчикам, заявив, что слишком долго была отрезана от мира. И вот она появилась здесь с девятью рабами и таким ворохом одежды и мебели, который дом вместить не мог.
– Не обязательно было тащить за собой всю плантацию, – заявила ей госпожа.
– Может, мне и деньги стоило оставить? – парировала Мэри.
Именно теперь, когда госпожа с трудом размахивала тростью с золотым набалдашником, появилась маленькая госпожа, чтобы занять место старшей. У нее залегли темные круги под глазами, появились серебряные нити в волосах, но характер остался прежний. Со времен детства Мэри нам больше всего запомнилось ее ужасное обращение с горничной Люси – второй дочерью Бины. В день, когда сюда со всей свитой явилась Мэри, из кухни с криком выскочила Фиби.
– Люси, Люси! – Никто не ответил, и Фиби бросилась к маленькой госпоже. – Вы привезли мою сестру Люси?
Маленькая госпожа остолбенела на миг:
– Ах, ее. Она давно умерла. – Мэри не смотрела на потрясенное лицо Фиби, только на ее кухонный фартук. – Не знаю, когда вы подаете дневную еду, но с этого момента обедаем в два часа.
В комнатах рабов было не протолкнуться. Некоторые слуги спали на полу. Тетка и Фиби не знали, как накормить такую толпу, а маленькая госпожа заставила меня с матушкой сшить новые ливреи и домашние платья для всех. Добро пожаловать к Гримке! Она не взяла с собой швею, но привезла всех прочих, в том числе и троюродного брата. У нас появились новый дворецкий, прачка, персональная горничная маленькой госпожи, кучер, лакей, конюх, новый помощник по кухне, дому и двору. Сейба разжаловали в садовники, теперь он работал со Скай, а Гудис, бедный Гудис, целыми днями сидел в конюшне, обстругивая палки. Мы с ним потеряли даже ту каморку, где иногда занимались любовью.
Сейчас в подвальной комнате матушка даже не оторвала головы от подушки. Она не привыкла к маленькой госпоже.
– Что ей от меня надо?
– Сегодня у нас большой прием с чаем, и она хочет, чтобы ты пришила к салфеткам ленточки. Как будто, кроме тебя, некому! Меня она послала накрывать столы.
– Где Скай?
– Моет парадное крыльцо.
Матушка выглядела изможденной. У нее усилились боли в желудке, она всю неделю почти не притрагивалась к еде. Она медленно приподнялась, такая исхудавшая, словно стебель, растущий из кровати.
– Мама, ложись. Я сама пришью эти ленты.
– Ты хорошая девочка, Подарочек, и всегда была хорошей.
Лоскутное одеяло с семейными преданиями лежало в ногах постели, поближе к ней. Она расстелила его поверх ног. Стоял жаркий июльский день, и у меня мелькнула мысль: не потому ли мама мерзнет, что конец ее близок? Но она стала вертеть одеяло, пока не нашла первый квадрат.
– Вот моя бабушка, и падают звезды, в день, когда ее продали.
Я села рядом с мамой. Ей не холодно, она просто захотела снова рассказать семейную историю. Свою любимую.
Она уже забыла про ленточки, и меня отругают за задержку, но здесь была матушка и ее история. Она прошлась по всему одеялу, по всем лоскутам, задерживаясь на сшитых после возвращения. Вот стража увезла ее в повозке. Вот она работает на рисовых полях с младенцем за спиной. Вот мужчина левой рукой ставит ей клеймо, а молотком в правой руке выбивает зубы. Вот она бежит при свете луны. Наконец матушка дошла до последнего квадрата, пятнадцатого. На нем были мама, я и Скай с переплетенными руками.
Я поднялась:
– Поспи еще.
– Нет, сейчас встану. Скоро приду к вам.
Глаза ее сияли, как бумажные фонари, которые мы зажигали, принимая гостей в саду.
* * *
Я стояла в столовой у окна и выкладывала фрукты в хрустальные вазы, как вдруг заметила матушку, которая еле-еле тащилась к дереву душ на заднем дворе. На плечи она набросила семейное лоскутное одеяло.
Мои руки замерли – меня поразило, как она медленно переставляет одну ногу, отдыхает и переставляет другую. Дойдя до дерева, она уперлась рукой в ствол и опустилась на землю. Сердце мое тревожно забилось.
Даже не посмотрев, рядом ли маленькая госпожа, я выскочила в заднюю дверь и со всех ног помчалась к дереву:
– Мама!
Она подняла голову. Свет в ее глазах померк. Остались только черные фитильки.
Я опустилась на землю рядом с ней:
– Мама!
– Все хорошо. Я пришла, чтобы забрать свою душу. – Ее голос словно доносился издалека. – Я устала, Подарочек.
Я старалась не дать волю страху.
– Я буду заботиться о тебе. Не волнуйся, ты отдохнешь.
Она грустно улыбнулась, будто говоря, что обретет покой, но не тот, который имела в виду я. Я взяла ее руки. Они были холодными как лед. Птичьи косточки.
– Я устала, – повторила она.
Она хотела, чтобы я ответила, что все хорошо, что пора забрать свою душу и уйти, но я не могла этого произнести.
– Конечно, ты устала, – вместо этого сказала я. – Всю жизнь работала не покладая рук. Только и делала, что работала.
– Только не вспоминай меня такой. Не думай обо мне как о рабыне, которая всю жизнь трудилась. Рассказывая обо мне, скажи: она никогда не принадлежала этим людям. Не принадлежала никому, кроме себя. – Она закрыла глаза. – Помни об этом.
– Буду помнить, мама.
Я закутала ей плечи одеялом. Высоко в ветвях каркали вороны. Ворковали голуби. Ветер приник к земле, чтобы поднять ее в небо.
Сара
Душным августовским утром мы подошли к молитвенному дому с тем, чтобы войти и сесть на скамью для негров.
– А мы точно хотим этого? – спросила я Нину.
Сестра остановилась на пожухлой траве. Ее лицо осветили янтарные лучи, падающие с безоблачного неба.
– Но ты говорила, скамья для негров – это барьер, который необходимо сломать!
Действительно говорила, не далее как вчера вечером. Тогда эта мысль показалась справедливой, но теперь, при свете дня, представлялась скорее рискованной проказой. До сих пор прихожане с Арч-стрит мирились с моими антирабовладельческими выступлениями примерно так, как приходится мириться с роем насекомых в воздухе, которых либо прихлопываешь, либо не замечаешь. Но скамья – совсем другое дело. Это мятеж, и он вряд ли поможет в длительной борьбе за должность квакерского священника. Идея сесть на скамью для негров возникла после прочтения «Либерейтора», антирабовладельческой газеты, которую мы с Ниной тайком проносили домой. Ее выпускал мистер Уильям Ллойд Гаррисон, пожалуй самый радикальный в стране аболиционист. Найди Кэтрин хоть одну газету, немедленно выселила бы нас. Мы прятали экземпляры «Либерейтора» под матрасами, и я подумала, что стоит их сжечь.
Хранить небезопасно. Все лето сброд, поддерживающий рабовладельцев, запугивал несогласных – и не на Юге, а здесь, на Севере. Они сбрасывали в реки печатные станки аболиционистов, сжигали жилища свободных чернокожих и аболиционистов – в одной только Филадельфии спалили около пятидесяти домов. Такое насилие потрясало нас с Ниной. Оказалось, куда бы ты ни уехал, нигде не был в безопасности. На аболициониста могли напасть посреди улицы – обругать, избить, забить камнями, убить. Многим приходилось скрываться.
Увидев разочарование на лице Нины, я пожалела, что с нами нет Лукреции. Я представила, как она появляется здесь в капоре из белого органди, как бесстрашно глядит перед собой. Однако они с Джеймсом перешли в другой молитвенный дом, посчитав Арч-стрит чересчур консервативной. Я хотела последовать за ней, но Кэтрин дала понять, что в этом случае нам с Ниной придется искать другое жилье. Найти комнаты для двух незамужних сестер было непросто. Иногда я вспоминала, как стояла на берегу Делавэра и обещала Лукреции, что не стану оглядываться назад, и изо всех сил старалась сдержать слово. Но часто приходилось идти на компромисс, делать маленькие уступки.
– Ты ведь не струсила, правда? – забеспокоилась Нина. – Скажи, что нет.
Я услышала сквозь шум толпы голос Израэля, который звал Бекки, и, подняв взгляд, успела заметить его спину, прежде чем он вошел в молитвенный дом. На миг я замерла, ощущая жар от лошадиных седел и вонь лошадиной мочи от мостовой.
– Нет… Пошли, они меня не остановят.
Она взяла меня под руку и потащила к двери, дерзко вздернув подбородок, как делала в детстве, а мне вспомнилось, как в свои четырнадцать лет она сидела на желтом канапе перед преподобным Гадсденом, точно так же вздернув подбородок, и отказывалась от конфирмации в церкви Святого Филипа.
Вскоре после приезда Нины в Филадельфию квакеры определили ее воспитательницей в детский сад. Она презирала эту работу. Наши просьбы дать ей другую проигнорировали. Полагаю, они рассчитывали сбить с нее спесь, заставив пеленать младенцев. Соискатели ее руки, включая сына Джейн Бетлман, Эдварда, отталкивали друг друга, чтобы помочь ей выйти из экипажа, а потом тащились следом в надежде подобрать то, что она может обронить. Нина, однако, сочла всех их скучными. Прошлой зимой ей минуло тридцать, и я забеспокоилась, но не из-за того, что она, как и я, превратится в очередную тетушку Амелию Джейн. Более того, сама же говорила, что, если ее свекровью станет миссис Бетлман, нам обеим придется утопиться. Нет, беспокоило меня то, что сестра встретит свои сорок три года, как я, и будет по-прежнему возиться с младенцами квакеров.
Скамья для негров стояла у лестницы, ведущей на балкон. Как обычно, охраняющий ее человек следил, чтобы ни один белый не сел на нее по ошибке и ни один чернокожий не прошел мимо. Сегодня это был Эдвард Бетлман, я вздохнула. Похоже, мы обречены снова и снова конфликтовать с его семьей.
На скамье, в квакерских платьях и капорах, сидели Сара Мэпс Дуглас и ее мать Грейс. Среди нас только эти женщины и были чернокожими. Сара Мэпс, почти ровесница Нины, работала учительницей в школе для чернокожих детей, которую сама же и основала, а ее мать была модисткой. Обе известны аболиционистскими взглядами, но, подходя к ним, я впервые спросила себя, а не станут ли они возражать против нашего с Ниной поступка, не навредит ли он им.
Я заколебалась, Нина почувствовала мое замешательство и, решив, что я трушу, стремительно подошла к скамье и плюхнулась рядом со старшей женщиной.
Дальнейшее произошло одновременно: с губ миссис Дуглас слетает вздох удивления, Сара Мэпс оборачивается и непонимающе смотрит на меня, Эдвард Бетлман наклоняется к Нине, чересчур громко сообщая:
– Не здесь, здесь вам сидеть нельзя.
Не обращая на него внимания, Нина с дерзким видом уставилась перед собой, а я села рядом с Сарой Мэпс. Эдвард повернулся ко мне:
– Мисс Гримке, это скамья для негров, вам придется пересесть.
– Нам здесь удобно, – отрезала я.
Люди, сидевшие в ближайших рядах, вытягивали шею, чтобы узнать, в чем дело.
Эдвард ушел, и в наступившей тишине стало слышно, как женщины раскрывают веера, а мужчины откашливаются. Я надеялась, что инцидент утихнет сам собой, но со скамьи старейшин послышался громкий шепот, Эдвард вернулся с отцом.
Мы четверо на скамье инстинктивно придвинулись друг к другу.
– Прошу вас проявить уважение к святости и традициям нашего собрания и пересесть, – произнес мистер Бетлман.
Миссис Дуглас часто задышала, и я испугалась, что мы подвергли их опасности. С запозданием я припомнила свободную черную женщину, которая на свадьбе села на скамью для белых, и ее заставили потом подметать улицы. Я указала на двух женщин:
– Они не имеют отношения к… – чуть не сказала «к нашему протесту», но вовремя остановилась. – Они не имеют отношения к этому.
– Неправда, – возразила Сара Мэпс, взглянув на мать, а потом на мистера Бетлмана. – Мы имеем к этому самое прямое отношение. Мы сидим здесь вместе, разве нет?
Чтобы скрыть дрожь в руках, она засунула их в складки юбки. Глядя на них, я переполнилась любовью и печалью.
Мистер Бетлман ждал, но мы не двигались.
– Прошу вас в последний раз, – выдавил из себя он.
У него был недоумевающий разгневанный вид, полный сознания собственной правоты, но он вряд ли стал бы применять силу.
Нина выпрямилась, глаза ее горели.
– Мы не пересядем, сэр!
Он покраснел. Повернувшись ко мне, заговорил свистящим шепотом:
– Послушайтесь меня, мисс Гримке. Обуздайте сестру, а заодно и себя.
Когда он ушел, я бросила взгляд на Сару Мэпс и ее мать. Они с облегчением взялись за руки. Нина ликовала. Она всегда была храбрее меня. Я слишком беспокоилась из-за мнения окружающих, ее же оно совершенно не волновало. Я была осторожной, она – дерзкой. Я была мыслителем, она – созидателем. Я разжигала огонь, она поддерживала его. И тогда, и после я понимала, какими хитрыми были парки. Нина стала одним крылом, я – другим.
* * *
Сентябрьским днем Кэтрин вызвала нас из комнат колокольчиком, как мы полагали, на мирное чаепитие. Она часто звонила в колокольчик, когда получала письма, или подавала еду, или нуждалась в помощи по хозяйству. Ничего не подозревая, мы спустились вниз. В гостиной на стульях сидели, словно аршин проглотив, старейшины, некоторые стояли у стены, и среди них – Израэль. Кэтрин, единственная женщина, величественно восседала в старинном кресле с высокой спинкой, обитом бархатом. Мы попали на суд инквизиции.
Ни одна из нас не успела убрать волосы. Мои тонкие рыжие пряди свисали до талии, а волосы Нины, все в кудряшках, спускались волной на плечи. Для смешанного общества вид был неподобающий, но Кэтрин не отослала нас. Она сложила губы в кислую гримасу, заменяющую улыбку, и жестом пригласила в комнату.
С того дня, когда мы впервые уселись на скамью для негров и отказались пересесть, прошло три недели, и никто, кроме мистера Бетлмана, не сказал нам ни единого слова. На следующей неделе мы вновь сидели с Сарой Мэпс и Грейс и на следующей – тоже, и ни один человек не пытался остановить нас. Я успокоилась, решив, что старейшины примирились с нашим поступком. Очевидно, ошибалась.
Мы стояли рядом, ожидая, когда кто-нибудь заговорит. В оконные стекла били лучи солнца, превращая комнату в печь, я почувствовала, как у меня между грудями течет струйка холодного пота. Я пыталась встретиться взглядом с Израэлем, но он стоял в тени карниза. Повернувшись к Кэтрин, я увидела у нее на коленях номер «Либерейтора».
У меня свело живот.
Взяв за уголок двумя пальцами, она подняла газету, словно дохлую мышь за кончик хвоста.
– Наше внимание привлекло письмо на первой полосе самой скандальной антирабовладельческой газеты в стране. – Кэтрин поправила очки с толстыми, как дно бутылки, линзами. – Позвольте мне прочитать его вслух. «Тридцатое августа тысяча восемьсот тридцать пятого года. Уважаемый друг…»
Нина судорожно вздохнула:
– О Сара, я не думала, что его напечатают.
Я искоса посмотрела на ее встревоженное лицо, силясь понять, о чем она говорит. Наконец до меня дошло, я попыталась что-то сказать, но могла только хватать ртом воздух. Слова приходилось отдирать, как обои от стенок.
– …Ты… написала… мистеру Гаррисону?
Заскрипел стул – к нам направился мистер Бетлман:
– Хотите уверить нас, что вы, отпрыск рабовладельческой семьи, написали письмо подстрекателю вроде Уильяма Ллойда Гаррисона, полагая, что он его не опубликует? Именно такого рода материалы он и распространяет.
Нина не стала оправдываться, а дерзко ответила:
– Да, пожалуй, я рассчитывала, что он напечатает письмо! – Потом обратилась ко мне: – Люди рискуют жизнью ради освобождения рабов, а мы всего лишь сидим на скамье для чернокожих! Я сделала то, что должна была сделать.
Я вдруг осознала неотвратимость ее поступка. Наша жизнь никогда не вернется в прежнюю колею – сестра об этом позаботилась. С одной стороны, мне хотелось обнять ее и поблагодарить, а с другой – хорошенько встряхнуть.
Все старейшины смотрели на нас с одинаковым выражением, хмурым и осуждающим, – все, кроме одного, Израэля. Он опустил глаза в пол, будто хотел провалиться сквозь землю.
Кэтрин продолжила чтение, а Нина уперлась взглядом в стену над головами мужчин. Письмо было длинным, красноречивым и действительно весьма подстрекательским.
– «Если освобождение рабов будет сопровождаться гонениями, я скажу: „Пусть будет так“. Ибо искренне убеждена: дело стоит того, чтобы за него умереть. Ангелина Гримке». – Кэтрин свернула газету и положила ее на пол.
Новость о письме должна была, разумеется, дойти до Чарльстона. Мать, Томас, вся семья прочтут его с негодованием и отвращением. Нина никогда не вернется домой. Интересно, думала ли она, что эти слова захлопнут перед ней все двери.
С другого конца комнаты заговорил Израэль, и я закрыла глаза, различив в его голосе неожиданную мягкость и доброту.
– Вы обе наши сестры. Мы любим вас так же, как любит вас Христос. Мы пришли сюда только затем, чтобы помочь вам вновь обрести расположение квакерской братии. Вы еще можете вернуться к нам с покаянием, как блудный сын вернулся к отцу…
– Вы должны отказаться от письма, или вас исключат, – резко закончил мистер Бетлман.
Исключат. Слово повисло в воздухе маленьким лезвием, почти осязаемым в ярком свете. Этого не должно случиться. Я провела с квакерами тринадцать лет, шесть из них добивалась сана священнослужителя, единственной профессии, которая для меня оставалась. Ради нее я пожертвовала всем – замужеством, Израэлем, детьми.
Я торопилась высказаться раньше Нины. Я знала, что именно скажет она, и тогда лезвие опустится.
– Пожалуйста, я знаю, что вы милосердны.
– Постарайтесь понять, Сара. Когда вы садились на скамью для негров, мы делали вид, что ничего не замечаем, – заговорила Кэтрин. – Но сейчас все зашло слишком далеко. – Она сжала пальцы под подбородком, так что побелели костяшки. – И подумайте, куда вы подадитесь, если не отречетесь от письма. Я люблю вас обеих, но вы, естественно, не сможете здесь оставаться.
От волнения у меня перехватило дыхание.
– Неужели написать письмо – такой уж грех? Грех – торопить исполнение молитв?
– Подобные вещи не женское дело, – заявил Израэль, выступая из тени. – Вы, конечно, это понимаете.
В его голосе звучали боль и разочарование – их я уже слышала, когда отвергла его предложение, и понимала, что говорит он не только о письме.
– У нас не остается выбора. Подобные поступки выходят за рамки квакерства.
Я взяла Нину за влажную и горячую руку и посмотрела на Израэля, только на Израэля:
– Мы не можем отказаться от письма. Жаль, что я не подписала его.
Нина с силой сжала мою руку.
Подарочек
4 августа
Дорогая Сара.
В прошлом месяце умерла моя матушка. Заснула под дубом, да так и не проснулась. Шесть дней она спала, а потом умерла в своей постели. Мы со Скай были рядом. Твоя мать заплатила за сосновый гроб.
Ее похоронили на кладбище для рабов на Питт-стрит. Госпожа разрешила Гудису отвезти нас со Скай в экипаже к месту ее упокоения, чтобы попрощаться. Скай исполнилось двадцать два, и она высокая, как мужчина. Мы стояли у могилы, и я не доходила ей до плеча. Она пела песню, которую поют рабыни на плантации, когда толкут рис, чтобы оставить его на могилах. Сказала, рис оставляют, чтобы помочь мертвым найти путь в Африку. Скай взяла с собой горсть риса и рассыпáла его над мамой, пока пела.
Мне вспомнилась старая песенка, которую я сочинила в детстве. «Через воды и моря рыбы пусть везут меня». Везут домой. Спев ее, я взяла латунный наперсток – мою любимую с детства вещичку – и положила на могилу, чтобы у мамы осталась частичка меня.
Просто я хотела, чтобы ты знала. Пусть она упокоится с миром.
Надеюсь, письмо дойдет до тебя. Если захочешь ответить, остерегайся, потому что твоя сестра Мэри за всем следит. Теперь у нас дворецкий – чернокожий кучер с ее плантации по имени Гектор, и он за всеми шпионит.
Твоя подруга Подарочек.При свете свечи я написала на конверте имя Сары и адрес, стараясь получше скопировать почерк госпожи. Он настолько ухудшился, что можно было написать любые каракули, и они сошли бы за ее почерк. Я заклеила письмо каплей воска и запечатала печатью госпожи, которую стащила из ее комнаты – позаимствовала, скажем так, – и собиралась сразу положить назад. А перо с бумагой я просто стащила.
На кровати, разметавшись от жары, спала Скай. Я посмотрела, как она шарит руками по месту, где обычно лежала мама, потом задула свечу и глядела, как в темноте исчезает дымок. Завтра я должна незаметно положить письмо в пачку, которую отправят на почту, в надежде, что никто не станет его рассматривать.
Скай пела во сне на языке, напоминающем креольский диалект, и мне вспомнилась горсть риса, которую она рассыпала на могиле, чтобы дух матушки попал в Африку.
Африка. Это единственное место, где будет обретаться матушка, где бы ни жили мы со Скай.
Сара
Каждый день я просыпалась опустошенная и печальная. Кэтрин дала время на сборы до первого октября, но мы не нашли никого, кто бы принял двух сестер, изгнанных квакерами. В доме Лукреции теперь было полно детей. Улицы наводнили написанные от руки листовки, наклеенные на фонарные столбы и дома и валявшиеся на земле. Бросались в глаза вульгарные заголовки: «ВОЗМУТИТЕЛЬНЫЙ ПОСТУПОК: среди нас живет ярая аболиционистка». И ниже – письмо Нины в «Либерейтор» во всей красе. Нам не открыли бы двери даже самые дешевые пансионы.
Я была на грани отчаяния, когда пришло письмо без имени отправителя и адреса.
29 сентября 1835 года
Дорогие мисс Гримке,
если у вас хватает смелости сидеть на скамье для чернокожих, то, вероятно, пока не найдется более подходящего жилья, вы сочтете удобным разделить с нами кров. Мы с матерью не можем предложить вам ничего, кроме кое-как обставленной мансарды с окном и трубой для обогрева посредине. Так что добро пожаловать. Просим вас никому не рассказывать о нашей договоренности, в том числе и вашей нынешней хозяйке Кэтрин Моррис. Ждем вас на Ланкастер-роу, дом 5.
Искренне ваша,
Сара Мэпс Дуглас.На следующий день мы простились с прежней жизнью и, не оставив адреса и не попрощавшись, приехали в экипаже в крошечный кирпичный домик, в бедную округу, где жили в основном белые. Перед фасадом стоял покосившийся деревянный забор с цепью на воротах, и нам пришлось тащить чемоданы к задней двери.
Слабо освещенная мансарда заросла паутиной, когда внизу разожгли камин, в ней стало удушающе жарко и запахло древесным дымом, но мы не жаловались. У нас появилась крыша над головой, и мы вместе. У нас были друзья, Сара Мэпс и Грейс.
Сара Мэпс получила хорошее образование, возможно лучшее, чем я. Окончила городскую академию квакеров для свободных чернокожих. Потом она расскажет мне, что уже в детстве знала о своей единственной миссии – основать школу для чернокожих детей.
– Мало кто понимает, что можно так верить в свое призвание, – сказала она. – Большинство людей, даже моя мать, считают, что я принесла чересчур большую жертву, не выйдя замуж и не родив детей, но мои ученики – это и есть мои дети.
Я-то хорошо понимала. Как и я, она любила книги и хранила самые ценные тома на полке в маленькой гостиной. Каждый вечер прелестным певучим голосом читала вслух своей матери Мильтона, Байрона, Остен и продолжала читать даже после того, как Грейс засыпала в кресле.
Повсюду в доме на вешалках висели шляпы разной степени готовности, их наброски лежали на столах или торчали из рамы зеркала у входной двери. Грейс мастерила огромные шляпы, украшала перьями и продавала магазинам. Она сама, как квакерша, не могла носить подобные наряды. Нина считала, что Грейс занимается не своим делом, но я думаю, у той талант художника.
Первую неделю мы наводили порядок в мансарде. Вымели пыль и пауков, вымыли окно. Потом отполировали рамы двух узких кроватей, стол, стулья и скрипучее кресло-качалку. Сара Мэпс принесла нам домотканый коврик, яркие лоскутные одеяла, дополнительный стол, фонарь и маленькую книжную полку для наших книг и журналов. Под карнизы мы воткнули ветки вечнозеленых растений для свежести и развесили одежду на стенных крючках. На стол я поставила оловянную чернильницу.
К началу второй недели мы заскучали. Сара Мэпс сказала, что нам надо стараться уходить и приходить незаметно, ибо соседи не потерпят расового смешения. Однажды на выходе из дома нас встретила группа мальчишек-хулиганов, они бросались в нас камнями и обзывались: «Друзья негров, друзья негров!» На следующий день переднюю часть дома закидали тухлыми яйцами.
Начиная с третьей недели мы стали затворницами.
* * *
Наступил ноябрь, я занималась тем, что вышагивала по овальному коврику и на ходу перечитывала книги и старые письма. Так я спасалась от меланхолии, что преследовала меня с детства. Казалось, подобным образом я смогу удержать свои позиции, а сойдя с коврика, упаду в бездну.
До отъезда из дома Кэтрин пришло письмо от Подарочка с вестью о смерти Шарлотты. Каждый раз, читая его – так часто, что Нина грозилась спрятать письмо, – я думала об обещании освободить Подарочка. Оно терзало меня всю жизнь, и теперь смерть Шарлотты ужесточила обязательство. Я говорила себе, что старалась сделать это – да, старалась. Сколько раз писала матери, умоляя разрешить мне выкупить Подарочка, чтобы освободить! Она даже не рассматривала мои просьбы.
Как-то утром сестра пыталась с помощью остатков краски изобразить голую иву за окном, а я вышагивала по коврику проторенной тропой и вдруг остановилась, уставилась на чернильницу. Несколько мгновений я смотрела на нее. Кругом царил хаос, но здесь стояла чернильница.
– Нина! Помнишь, как мама заставляла нас часами писать извинения? Что ж, я собираюсь написать одно… настоящее извинение за антирабовладельческий курс. Ты тоже можешь написать… Мы обе можем.
Она смотрела с удивлением, а у меня уже сложился план.
– Надо обращаться к Югу, – продолжила я. – Мы южане… Мы знаем рабовладельцев, ты и я… Мы можем поговорить с ними… не отчитывать их, а взывать к ним.
Нина повернулась к окну и, казалось, стала рассматривать иву, но через секунду посмотрела на меня блестящими глазами:
– Мы напишем памфлет!
Сестра поднялась и вступила в четырехугольник света на полу, падающий от окна.
– Мистер Гаррисон напечатал мое письмо и, может быть, опубликует наш памфлет и разошлет его по всем городам Юга. Но не надо адресовать его рабовладельцам. Они не станут нас слушать.
– Тогда кому?
– Мы напишем южному духовенству и женщинам. Мы натравим на них проповедников, их жен, матерей и дочерей!
* * *
Я писала в постели, положив на колени доску и завернувшись в шерстяную шаль, а Нина в старом, отороченном мехом капоре склонилась над маленьким столом. В холодной мансарде скрипели перья, и в сгущающейся темноте перекликались козодои.
Всю зиму печная труба наполняла мансарду жаром, и Нина распахивала окно, впуская ледяной воздух. Мы писали, изнемогая от жары или дрожа от холода, но почти никогда не чувствуя себя комфортно. И вот памфлеты почти закончены. Мой – «Послание духовенству южных штатов» и Нинин – «Воззвание к христианкам Юга». Она занялась женщинами, а я – духовенством, что мне казалось парадоксальным, учитывая, как плохо ладила с мужчинами я и как хорошо – она. Нина уверила меня, что было бы еще более странно, напиши она о Боге, с которым ладила хуже, чем я – с мужчинами.
Мы раскритиковали все аргументы Юга в пользу рабства и решительно отвергли их. Я исписывала страницу за страницей. Так радостно было писать без колебаний, писать о том, что назрело, писать с дерзостью, обычно мне неприсущей. Иногда я думала об отце и горьком признании, которое он сделал в конце жизни. «Думаешь, мне не противно рабство, так же как и тебе? Или я не понимаю, что алчность помешала мне прислушаться к голосу совести?» Но в основном за этим сочинением меня преследовали мысли о Шарлотте.
Внизу на кухне Сара Мэпс и Грейс подбрасывали дрова в старую печь, изрыгающую клубы копоти. Вскоре мы почувствовали запах варившихся овощей – лука, пастернака, свекольной ботвы. Собрав дневную работу, мы спустились вниз.
Сара Мэпс повернулась к нам, вся в клубах дыма.
– У вас появились новые страницы? – спросила она, и ее мать, месившая тесто, прервалась на секунду, чтобы услышать ответ.
– Сара принесла последние страницы, – объяснила Нина. – Сегодня она дописала последнюю фразу, а я рассчитываю закончить свою работу завтра!
Сара Мэпс захлопала в ладоши, как она, наверное, делала в классе перед детьми. У нас вошло в привычку собираться после еды в гостиной, где мы с Ниной вслух читали наши последние пассажи. Иногда Грейс так впечатлялась рассказами очевидцев о проявлениях рабства, что прерывала нас восклицаниями: «Какая мерзость! Неужели они не понимают, что мы тоже люди? Да не оставит нас милость Господня!» В конце концов Сара протягивала матери рабочую корзинку, чтобы та могла заняться шляпой.
– Сегодня вам пришло письмо, Нина, – сообщила Грейс, стряхивая тесто с рук и фартука.
Очень немногие люди знали, где нас искать: мама и Томас в Чарльстоне. Я послала также наш адрес Подарочку, но пока не получила от нее ответа. Из квакеров в курсе была только Лукреция, остальным не сообщали, опасаясь, что Сара Мэпс и Грейс пострадают из-за нас. В почерке письма, однако, я не узнала никого из этих людей.
Нина разорвала конверт, а я заглянула к ней через плечо.
– Оно от мистера Гаррисона! – воскликнула сестра.
Я уже забыла, что несколько недель назад Нина написала ему о наших литературных начинаниях и он с энтузиазмом ответил, попросил по окончании показать, что получилось. Я не представляла, каковы его намерения.
21 марта 1836 года
Дорогая мисс Гримке.
Прилагаю письмо для вас от Элизара Райта из Нью-Йорка. Он не знал, как с вами связаться, и попросил меня передать письмо. Полагаю, вы найдете его необычайно важным.
Молю Бога, чтобы монографии, над которыми сейчас работаете вы с сестрой, скорей дошли до меня и чтобы обе вы с честью выдержали испытание, выпавшее на вашу долю.
Пусть Господь дарует вам отвагу.
Уильям Ллойд Гаррисон.Нина подняла на меня взгляд, счастливый и изумленный. Глубоко вздохнув, она прочитала прилагаемое письмо.
2 марта 1836 года
Уважаемая мисс Гримке,
пишу от имени Американского общества борьбы с рабством, которое в скором времени намерено уполномочить сорок своих представителей для выступлений на собраниях в свободных штатах, чтобы привлечь на нашу сторону неофитов и обрести поддержку народа. Изучив ваше яркое письмо в «Либерейторе», которое вызвало и протест, и благоговение, исполнительный комитет единодушно решил, что достоверное освещение вами ужасов рабства на Юге и ваш страстный голос будут для нас неоценимы.
Приглашаем вас присоединиться к нам в этом великом духовном начинании, а также вашу сестру Сару, поскольку нам стало известно о ее жертвенности и стойких аболиционистских взглядах. Полагаем, вам легче будет выполнять вашу миссию в компании сестры. Если вы согласитесь стать нашими единственными представителями-женщинами, мы поручим вам беседовать с женщинами в частных салонах Нью-Йорка.
Ожидаем вас к шестнадцатому сентября, когда начнется серьезная двухмесячная подготовка наших представителей под руководством Теодора Уэлда, великого оратора-аболициониста. Цикл ваших лекций начнется в декабре.
Просим внимательно обдумать наше предложение и дать ответ.
Искренне ваш,
Элизар Райт, секретарь ААО.Какое-то время все четверо с недоумением и изумлением взирали друг на друга, а потом Нина сжала меня в объятиях:
– Сара, мы не могли даже на такое надеяться.
Она обнимала меня, а я стояла в оцепенении. Сара Мэпс зачерпнула из миски горсть муки и швырнула в нас, как бросают лепестки цветов на свадьбе, и в душной кухне зазвенел женский смех.
– Подумай только, нас будет обучать Теодор Уэлд, – выдохнула Нина.
Этот человек пропагандировал идеи аболиционизма в Огайо. Говорили, что он требователен, необычайно принципиален и бескомпромиссен.
Я кое-как поела, немного почитала и, когда мы улеглись в кровати, обрадовалась темноте. Лежала тихо, чтобы Нина подумала, что я сплю, но вот с ее кровати совсем рядом со мной послышался голос:
– Я не поеду в Нью-Йорк без тебя.
– Я… я и не отказывалась. Конечно поеду.
– Ты так тихо себя вела, я не знала, что и подумать.
– Я вне себя от радости. Я… Нина… Это просто… Мне придется публично выступать… перед незнакомыми людьми… Надо будет говорить, а не писать.
Весь вечер я представляла этот ужас: я без конца запинаюсь и женщины в салоне Нью-Йорка скрипят стульями и опускают глаза.
– На собраниях ты вставала и говорила, – парировала Нина. – И твое заикание не помешало тебе в стремлении стать священнослужителем.
Я остановила взор на почерневшей балке над головой, осознавая правду и логичность этих слов. И вдруг поняла, что боюсь не публичных выступлений. Это старый знакомый страх. А боялась я безмерности происходящего – представительница аболиционистов путешествует по стране с национальным мандатом. Мне хотелось сказать: «Кто я такая, чтобы делать это, – я, женщина?» Но голос принадлежал не мне. Это был голос отца. Голос Томаса. Он принадлежал Израэлю, Кэтрин и моей матери. Он принадлежал церковникам из Чарльстона и квакерам из Филадельфии. И этот голос не должен, если я постараюсь, стать моим.
Подарочек
Я отправилась в город с поручением от Мэри. Когда проходила близ пристани Эджерс, из гавани отчалил пароход. Это было нечто необыкновенное! Грохотало гребное колесо, из трубы поднимался дым, на верхней палубе выстроились люди и махали носовыми платками. Я смотрела до тех пор, пока на воде не осела пена и пароход не пропал за горизонтом.
Маленькая госпожа послала меня за двумя бутылками привозного виски, и я заспешила, чтобы не опоздать. В последнее время закупками занималась в основном я. Когда она отправляла в город своих рабов с плантации, те возвращались с пустыми корзинами, сжимая в руке записку, которую надо было доставить. Они не знали, где находится Бэттери, а где Рэгг-сквер. Если им везло, они оставались без ужина, если не везло – получали пять плетей от Гектора.
На прошлой неделе Скай сочинила песенку и распевала ее в саду. «Госпожа наша Мэри очень злая кошелка. Эх, огреть бы ее хорошенько метелкой». Я просила: «Не пой, у Гектора есть уши». Но Скай никак не могла отделаться от песенки. Кончилось все железным намордником. Его надевали на раба за воровство еды, но и за болтовню тоже, как выяснилось. Скай держали четыре мужика, в рот ей засунули зубцы, а потом застегнули приспособление на затылке. Она так громко кричала, что я прикусила щеку и рот наполнился медным вкусом крови. Два дня она не могла говорить и есть. Спала сидя, чтобы железо не порезало лицо, а когда со стоном просыпалась, я подкладывала под край затычки мокрую тряпку, чтобы Скай смочила губы.
Я вышла из винного магазина, перед глазами стояли ранки на губах сестры – после этого происшествия она перестала петь. От тяжелых воспоминаний меня отвлекли крики и запах гари.
Над старой биржей поднимался столб черного дыма. Первое, о чем я подумала: «Денмарк. Город наконец загорелся, как он хотел». Я подобрала юбку и, отталкиваясь тростью с кроликом от булыжников, заспешила вперед. В корзинке звенели бутылки с виски. Боль отдавалась в бедре.
На углу Брод-стрит я остановилась. То, что я приняла за пожар, оказалось огромным костром перед биржей. Вокруг него толпился народ, а на ступенях биржи стоял почтовый служащий и швырял в пламя пачки бумаг. Каждый раз, когда падала пачка, взметался ввысь пепел и ревела толпа.
Я не понимала, чем толпа так взбудоражена, и мне очень хотелось это выяснить, но я вспомнила, что маленькая госпожа наказывает кнутом опоздавшего раба точно так же, как и заблудившегося.
Я плелась с опущенной головой и заметила на земле листовку, подпаленную и растоптанную. Наклонилась и подняла ее.
«Послание духовенству южных штатов. Сара М. Гримке».
Я остановилась как вкопанная. Сара. «Сара М. Гримке».
– Отдай листовку, черномазая! – рявкнул старый лысый мужик, от которого несло кислятиной. – Дай сюда!
Взглянув в его красные слезящиеся глаза, я сунула находку в карман. На ней было имя Сары, ее слова. Пусть сжигают остальные бумаги, эту они не получат.
В тот вечер Скай и Гудис подойдут к моей кровати и скажут: «Подарочек, о чем ты думала? Надо было отдать ему листовку». Но что сделано, то сделано.
Я не обратила на мужика внимания, повернулась и пошла прочь, подальше от его вони и загребущих лап.
Он ухватился за ручку корзины, дернул. Я потянула ее к себе, но он не отпускал.
– И что ты вообразила? – покачиваясь, спросил он. – Что я отпущу тебя с этим?
И тут полупьяный идиот заметил в корзине бутылки виски, лучшего в Чарльстоне. Он облизнулся.
– Вот, возьми выпивку, – предложила я, – а я заберу книжечку.
И отдала ему корзину. А потом, прихрамывая, пошла прочь вместе с моим хитрым кроликом и смешалась с толпой.
Маркет-стрит осталась позади. Солнце разливало по гавани оранжевые отблески, ограда сада отбрасывала зеленоватые тени. Взад-вперед по улице мчались пролетки, запряженные лошадьми.
Я не торопилась. Я знала, что меня ожидает.
Недалеко от усадьбы Гримке я увидела пароходную пристань и белое оштукатуренное здание с вывеской над дверью «Пароходная компания Чарльстона». Мужчина с карманными часами в руке запирал дверь. Когда он ушел, я спустилась на пристань и села, укрывшись за деревянными ящиками, понаблюдала за ныряющими пеликанами. Затем вынула книжечку из кармана, с ладони слетели хлопья сажи. Над некоторыми фразами пришлось потрудиться. Спотыкаясь на том или ином слове, я пристально всматривалась в буквы, пока не проявлялся смысл. Это напоминало поиск картинок в облаках.
Достопочтенные друзья!
Обращаюсь к вам как раскаивающаяся рабовладелица с Юга, безоговорочно признающая тот факт, что негр не раб, которым можно владеть, а человек милостью Божьей…
* * *
Маленькая госпожа приказала высечь меня кнутом при свете луны.
Когда поздно вечером я появилась у ворот без привозного виски и денег, она велела Гектору позаботиться обо мне. Было темно, на черном небе проступали яркие, словно вырезанные из олова, звезды, и светила полная луна. Фигура Гектора отбрасывала на земле четкую тень. Он снял с пояса кнут из бычьей кожи.
Я всегда черпала силы у матушки, а она умерла.
Гектор привязал меня за кисти рук к столбу крыльца кухонного корпуса. Последний раз меня секли за то, что я училась читать, – одна плеть, на сладкое, как говорили у нас, – и Томфри привязывал меня к этому самому столбу.
На этот раз десять плетей. Цена за то, что читала написанное Сарой.
Я ждала, повиснув спиной к Гектору. Мне было видно, как Гудис скрючился в тени у ограды огорода, а Скай притаилась около кухни. Глаза ее сверкали, как у ночного зверька.
Я зажмурилась, чтобы отгородиться от этого мира. Зачем он нужен? Зачем вообще все это?
Первый удар обжег, словно в спину вогнали раскаленный штырь. Я услышала, как трещит хлопок платья, и почувствовала, как разрывается кожа. Земля ушла из-под ног.
Я не удержалась и завопила. Я закричала, чтобы разбудить Господа.
Мне ясно вспомнились слова из Сариной книжечки. «Человек милостью Божьей».
Я представила себе пароход. Увидела, как поворачивается его колесо.
* * *
На следующий день я снимала с маленькой госпожи мерки для нового платья, прогулочного костюма из шелковой тафты – нужной каждому вещи. Она сделала вид, что ничего не случилось, и обращалась со мной непривычно ласково.
– Подарочек, что скажешь об этом золотистом цвете, не слишком он бледный?.. Нет другой такой швеи, как ты, Подарочек.
Когда я измеряла сантиметром длину юбки, разорванная кожа на спине натянулась и я стиснула зубы от боли. Еще вчера Фиби и Скай положили мне на спину компресс из черной патоки для обработки ранок, но легче от этого не стало. Каждый шаг причинял боль. Я шаркала по полу, не поднимая ног.
Маленькая госпожа, стоя на примерочном ящике, повернулась вокруг себя. Она напомнила мне старый глобус из кабинета господина Гримке и то, как он вращался.
В парадную дверь постучали, следом послышался топот Гектора по коридору к гостиной, где госпожа пила чай.
– Госпожа, приехал мэр, – позвал он. – Просит вас выйти к двери.
Мэри сошла с ящика и высунула голову в коридор. Госпожа состарилась, волосы у нее стали как лунь белые, но по дому она ходила. Раздался быстрый стук ее трости, потом до нас донесся льстивый голос:
– Мистер Хэйн! Это честь для нас. Входите, пожалуйста, выпейте с нами чая.
Маленькая госпожа суетливо надевала туфли. Они с госпожой всегда заискивали перед мэром. Мистер Роберт Хэйн был тем, кого называют сторонником нуллификации.
– Боюсь, это не светский визит, миссис Гримке. Я здесь по официальному делу в отношении ваших дочерей Сары и Ангелины.
Маленькая госпожа затихла, попятилась к двери с туфлей на одной ноге. Я тоже осталась в комнате.
– С сожалением сообщаю вам, что Сару и Ангелину больше не ждут в нашем городе. Передайте им, что в случае визита их арестуют и препроводят в тюрьму, где они станут ожидать, пока следующий пароход не доставит их на Север. Это делается для их же блага и для блага города. В настоящее время в Чарльстоне настолько озлоблены против них, что, без сомнения, они встретятся с насилием, покажись на публике.
Наступила тишина. Лишь поскрипывали старые «кости» дома.
– Вы меня понимаете, мадам? – спросил мэр.
– Прекрасно понимаю, а теперь поймите и вы меня. У моих дочерей могут быть нечестивые взгляды, но никому не позволено обращаться с ними столь оскорбительно и высокомерно.
Хлопнула входная дверь, а госпожа застыла на пороге с трясущимися губами.
Из моих рук выскользнула измерительная лента и свернулась на полу у ног. Непохоже было, что я когда-нибудь увижу Сару.
Сара
Я сидела на возвышении и наблюдала за лицами слушателей, поглощенных выступлением Нины. Казалось, воздух над головами потрескивает от бурлящей энергии. Мы читали нашу первую лекцию – и не где-нибудь в скромной гостиной перед двадцатью дамами с пяльцами, как мы представляли себе заседания Американского общества борьбы с рабством. Мы выступали в грандиозном зале Нью-Йорка, украшенном резными балконами, с рядами стульев с красной бархатной обивкой, и он был заполнен до отказа.
Всю неделю газеты поносили вредоносные высказывания двух сестер, высокомерно разглагольствовавших наподобие Фанни Райтс. Улицы пестрели листками, призывавшими женщин оставаться дома, и даже Американское общество борьбы с рабством засомневалось в целесообразности лекций в публичных залах. Едва не дошло до отмены мероприятия.
Но выступил Теодор Уэлд, осуждая Общество за трусость. Его называли Львом племени аболиционистов, и недаром: когда требовало дело, он становился весьма напористым.
– Я защищаю право этих женщин выступать против рабства где угодно. Крайне нелепо с вашей стороны мешать им в великом деле!
Он выручил нас.
Нина расхаживала взад-вперед по сцене, энергично жестикулируя. Ее звонкий голос долетал до балконов:
– Мы, уроженки Юга, пришли сюда, чтобы поведать вам ужасную правду о рабстве…
Она выступала в модном платье темно-синего цвета, оттенявшего ее волосы. Интересно, что подумал бы мистер Уэлд, если бы сейчас увидел ее?
Он проводил занятия по ораторскому искусству с нами и другими агентами, но предпочитал не давать жестких рекомендаций. Стоять ли нам на сцене неподвижно и говорить тихо, как положено женщине, или жестикулировать и актерствовать, как мужчина?
– Оставляю это на ваше усмотрение, – говорил он.
Он проявлял к нам братский, по его словам, интерес и часто навещал нас. Разумеется, интерес он проявлял к Нине, и далеко не братский. Она бы в этом не призналась, но ее тоже влекло к нему. До приезда в Нью-Йорк я представляла себе мистера Уэлда суровым стариком, но он оказался молодым человеком, столь же добрым, как и строгим. Холостяк тридцати трех лет, он был поразительно красив – густые вьющиеся каштановые волосы и пронзительные голубые глаза. Будучи дальтоником, носил одежду несочетающихся цветов. Нам это казалось очаровательным. Однако ни одно из этих качеств не привлекало сестру так сильно, как пять простых слов: «Оставляю это на ваше усмотрение».
– Рабыни – наши сестры! – воскликнула Нина и раскинула руки, словно нас окружала толпа рабынь. – Мы не должны покидать их в беде.
Это были заключительные слова речи, их встретили громом аплодисментов, слушательницы поднялись с мест.
Аплодисменты продолжались, а у меня пылали щеки. Настал мой черед. Прослушав мои репетиции, в Обществе решили, что Нина выступит первой, а я – за ней, опасались, что в противном случае лишь немногие слушатели, выдержав мое выступление, захотят послушать что-то еще. Поднявшись на ноги, я спросила себя, смогу ли произнести заготовленные слова.
Я подошла к кафедре на ватных ногах. Переполненная сознанием того, что стою здесь, я на миг ухватилась за края кафедры. Я смотрела на море лиц, и мне пришло в голову, что по сравнению с высокой ослепительной сестрой выгляжу бледно. Невысокая некрасивая женщина средних лет, с малюсенькими очками на кончике носа, в прежнем квакерском одеянии. Я привыкла к своей одежде. «Какая есть, такая есть». От этой мысли я улыбнулась, женщины в зале тоже заулыбались, будто прочитав мои мысли.
Я открыла рот, и слова полились. Проговорив несколько минут, я взглянула на Нину: «Я не запинаюсь!» Она кивнула, ее глаза сияли.
В детстве мое заикание таинственно начиналось и прекращалось, как и сейчас, но оно было со мной так долго, что казалось постоянным. А я все говорила и говорила. Негромко рассказывала об ужасах рабства, которые видела собственными глазами. Поведала слушателям о Подарочке, о ее матери и сестре. Я ничего от них не утаила.
В конце я посмотрела поверх очков, став на миг одним целым с залом:
– Мы больше не будем молчать. Мы, женщины, заявим рабам о себе и не замолчим, пока не освободим их.
Потом повернулась и пошла к своему месту, а женщины встали, взорвав зал аплодисментами.
* * *
Несколько недель мы выступали перед аудиториями в Нью-Йорке, а затем продолжили кампанию в Нью-Джерси, путешествовали по городам на берегах Гудзона. Женщины приходили на лекции толпами, разрастающимися, словно хлеба и рыбы из Библии. В церкви города Покипси собралась такая толпа, что обрушилась галерея и людей пришлось эвакуировать. Мы вынуждены были выступать на улице в февральском холоде и сумраке, но никто не ушел. В каждом городе мы призывали женщин создавать собственные антирабовладельческие общества и собирать подписи под петициями. Мое заикание иногда появлялось, потом пропадало, но, к счастью, большинство выступлений обходилось без него.
Мы обретали скромную славу и скандальную известность. Всю зиму и весну практически все газеты страны сообщали о наших деяниях. В антирабовладельческих изданиях публиковались наши речи, печати ожидали десятки тысяч наших памфлетов. С нами даже согласился встретиться Джон Куинси Адамс. Бывший президент обещал представить конгрессу петиции, собранные женщинами. Наряду с этим в некоторых городах Юга рядом с чучелом мистера Гаррисона вывесили наши чучела. Мать прислала записку с предупреждением о том, что, если мы появимся в Чарльстоне, нас посадят в тюрьму.
Нашей опорой стал мистер Уэлд. Он присылал письма, в которых хвалил за усилия. Называл нас смелыми, доблестными и упорными. Время от времени прилагал постскриптум для Нины. «Ангелина, люди говорят, вы покоряете аудиторию. Как ваш наставник, я хотел бы приписать эту заслугу себе, но она – полностью ваша».
Однажды теплым апрельским днем он появился без предупреждения в сельском доме Джеррита Смита в Питерборо, штат Нью-Йорк, где мы с Ниной остановились на несколько дней – на время последнего цикла лекций. По его словам, он приехал, чтобы обсудить финансы Общества с мистером Смитом, крупнейшим благотворителем нашей организации, но в истинной цели визита сомневаться не приходилось. Каждое утро они с Ниной гуляли по тропе во фруктовых садах. Он приглашал и меня, но я, мельком взглянув на Нину, отказалась. Он провожал нас на дневные лекции, ожидал окончания, а по вечерам мы трое сидели в гостиной с мистером и миссис Смит, обсуждая стратегию наших действий и рассказывая о своих приключениях. Когда миссис Смит сообщала, что женщинам пора желать спокойной ночи, Теодор и Нина обменивались выразительными взглядами, не желая расставаться.
– Что ж… Вам пора отдыхать, – вздыхал Теодор.
И Нина с мучительной медлительностью выходила из комнаты.
В день его отъезда я наблюдала из окна, как пара возвращается с прогулки. Пока они гуляли, начался дождь – внезапный ливень, которому даже солнце не помеха, – и он держал над их головами свое пальто. Они шли, нисколько не торопясь. И смеялись.
Затем поднялись на крыльцо и отряхнулись от водяных брызг, он наклонился и поцеловал мою сестру в щеку.
* * *
В июне мы прибыли в Эймсбери, штат Массачусетс, чтобы передохнуть пару недель, и поселились в обшитом вагонкой коттедже некой миссис Уитьер. Нам предстояло продолжить крестовый поход против рабства в Новой Англии, он должен был продлиться всю осень, но мы сильно устали, а я стала покашливать и никак не могла излечиться. Кроме того, нам нужна была одежда по сезону. Миссис Уитьер, краснощекая и пухлая, кормила нас густыми супами с тресковой печенью, отказывала всем посетителям и заставляла нас ложиться спать до восхода луны.
Только через несколько дней мы узнали, что она мать Джона Гринлифа Уитьера, близкого друга Теодора. Мы сидели в гостиной и пили чай, а она заговорила о сыне и его долгой дружбе с Теодором. Тогда мы поняли, почему она взяла нас на постой.
– Наверное, вы хорошо знаете Теодора, – поинтересовалась Нина.
– Тедди? Ах, он для меня как сын, а для Джона словно брат. – Женщина покачала головой. – Полагаю, вы слышали об их ужасной клятве.
– Клятве? – переспросила Нина. – Нет, ничего не слышали.
– Я этого не одобряю. Это уж чересчур. В конце концов, женщине моего возраста хочется внуков. Но эти двое такие принципиальные, не слушают разумных доводов.
Нина, побледнев, выпрямилась на краю стула:
– В чем они поклялись?
– Что ни один из них не женится, пока не будет отменено рабство. По правде сказать, это вряд ли произойдет при их жизни!
В ту ночь после восхода луны меня разбудил стук в дверь. На пороге стояла хмурая, несчастная Нина.
– Я этого не вынесу. – Она уткнулась в мое плечо.
* * *
Летом 1837 года жители Новой Англии тысячами приходили слушать нас, и впервые среди публики появились мужчины. Поначалу горстка, потом человек пятьдесят, потом сотни. Наши публичные разговоры с женщинами бросали вызов обществу, но беседы с мужчинами переворачивали пуританский мир вверх дном.
– Они зажгут погребальный костер, – сказала я Нине при первом появлении мужчин.
Мы рассмеялись, но это было совсем не смешно.
«Учить жене не позволяю, ни властвовать над мужем, но быть в безмолвии». Есть ли в Библии более раздражающий стих? В то лето он звучал с каждой кафедры в Новой Англии с намеком на сестер Гримке. Церкви конгрегации приняли резолюцию об осуждении нас и призвали к бойкотированию наших лекций, и для нас закрыли ряд церквей и публичных залов. В Пепперелле мы вынуждены были читать лекцию в амбаре, рядом с лошадьми и коровами.
– Как видите, на постоялом дворе места не оказалось, – заметила Нина. – Но мудрецы все же пришли.
Мы старались быть храбрыми, доблестными и упорными, как написал о нас в письме Теодор. Мы использовали отрывки из наших лекций, чтобы защитить наше право на выступления. «То, чего мы требуем для себя, мы требуем для каждой женщины!»
Эти слова стали объединяющим девизом в Лоуэлле, Ворстере и Даксбери – повсюду, куда мы приезжали. Вы бы видели этих женщин, как они толпой стекались к нам, а некоторые, как те отважные леди из Андовера, писали публичные письма в нашу защиту. Моя старая подруга Лукреция отправила из Филадельфии послание из трех слов: «Так держать, сестры!»
Сами того не желая, мы вызвали в стране волнение. Тема обретения женщинами определенных прав была новой, странной и подвергалась порицанию, но ее вдруг стали обсуждать по всей стране вплоть до Огайо. Мою сестру вместо Ангелины назвали Девилиной, поминая дьявола. Нас окрестили «поджигательницами». И действительно, нам каким-то образом удалось поджечь запал.
В последнюю неделю августа мы вернулись в коттедж миссис Уитьер как после битвы. Я чувствовала себя изможденной и загнанной в угол и сомневалась, смогу ли продолжить лекции осенью. Остатки боевого духа испарились. Последнее летнее выступление закончилось тем, что дюжины рассерженных мужчин взобрались на повозки у дверей зала и с криками «Девилина!» забросали нас камнями. Один угодил мне в нижнюю губу, превратив ее в толстую красную сосиску. Вид у меня был тот еще. Я не знала, что скажет на это миссис Уитьер и не откажет ли нам в приюте – мы ведь превратились в парий, – но она притянула нас к себе и поцеловала каждую в лоб.
На третий день нашего затворничества, вернувшись с прогулки вдоль берега реки Мерримак, я застала Нину стоящей у окна. Она прислонилась к стеклу, закрыла глаза, руки висели вдоль тела. Сестра стала похожа на остановившийся волчок.
Услышав мои шаги, она обернулась и указала на чайный столик, где лежала раскрытая газета «Бостон морнинг пост». Миссис Уитьер старалась прятать от нас периодику, но Нина нашла газету в хлебнице.
«25 августа
Девицы Гримке уже давно произносят речи, пишут памфлеты и ведут себя на публике так, как не подобает женщине, но они до сих пор не замужем. Почему все старые курицы – аболиционистки? Потому что, не имея возможности найти мужей, они надеются заполучить негра, если только смешанные браки войдут в моду…»
Я не смогла дочитать статью.
– И это еще не все. Сегодня днем приезжает Теодор с Элизаром Райтом и сыном миссис Уитьер Джоном. Пока тебя не было, пришло письмо. Миссис Уитьер печет сладкие пирожки.
Нина все лето ничего не говорила о Теодоре, но по ее лицу было видно, что она тоскует.
* * *
Мужчины приехали в три часа. Моя губа почти зажила, но еще побаливала, поэтому я молчала, ожидая, когда гости расскажут о цели визита. Вспомнились слова, которыми Теодор защищал нас раньше: «Крайне нелепо с вашей стороны мешать им в великом деле».
Сегодня он был в одежде зеленых оттенков. Подойдя к каминной полке, он взял какую-то безделушку, повертел в руках. Потом посмотрел на Нину:
– Сестры Гримке, как никто другой, внесли в борьбу против рабства ощутимый и важный вклад.
– Правильно, правильно! – воскликнула милейшая миссис Уитьер, но ее сын опустил глаза, и я поняла, зачем они приехали.
– Для этого мы вас и рекомендовали, – продолжал Теодор. – И все же, поощряя мужчин присоединиться к вашей аудитории, вы втянули нас в дебаты, которые отвлекают внимание от отмены рабства. Мы приехали в надежде убедить вас…
Нина прервала его:
– В надежде убедить нас вести себя как послушные комнатные собачки, терпеливо ждущие под столом объедков? На это вы надеетесь?
Я посчитала эту внезапную вспышку ответом на его обет безбрачия.
– Ангелина, прошу вас, поймите нас, – попросил он. – Мы целиком и полностью на вашей стороне. Уж кто-кто, а я-то поддерживаю ваше право на высказывание. Совершенно бессмысленно не пускать мужчин на лекции.
– Тогда почему вы придираетесь? – вмешалась я.
– Потому что мы послали вас сюда из-за отмены рабства, а не из-за прав женщин.
Он взглянул на Джона, чьи нависшие брови и худощавое лицо навели меня на мысль о том, что эти двое и правда могли быть братьями.
– Теодор лишь хочет сказать, что проблема рабства для нас важнее, – добавил Джон. – Я тоже поддерживаю борьбу за права женщин, но, разумеется, нельзя принижать проблему рабства из-за эгоистичного желания справиться с собственными пустяковыми обидами.
– Пустяковыми?! – воскликнула Нина. – Разве наше право свободно высказываться – пустяковое?
– По сравнению с общим делом отмены рабства? Да.
Миссис Уитьер выпрямилась в кресле:
– Право, Джон! Я, как женщина, не обижалась, пока ты не заговорил!
– Почему должно быть что-то одно? – спросила Нина. – Мы с Сарой не перестали работать над отменой рабства. Выступаем в защиту как рабов, так и женщин. Разве вы не понимаете, что, не будь мы такими скованными в действиях, сделали бы для рабов в сотни раз больше? – Повернувшись к Теодору, она бросила на него умоляющий взгляд. – Разве вы не можете стоять бок о бок со мной? С нами?
Он глубоко вздохнул, и его лицо, отразив любовь и муку, выдало его. Но Теодор прибыл сюда с определенной целью, а как говорила миссис Уитьер, он человек принципиальный – и не важно, прав он или нет.
– Ангелина, я считаю вас самым близким другом, и мне трудно идти против вас, но сейчас пришло время поддерживать рабов. Придет время заняться и вопросом прав женщин, но чуть позже.
– Право нужно отстаивать, когда оно отрицается!
– Мне жаль, – откликнулся он.
За окном сильный порыв ветра вспенил листву на березе. Звуки и запахи донеслись до меня сквозь открытое окно, и мне вдруг вспомнилось, как я играла под дубом на заднем дворе нашей усадьбы, складывая из шариков брата слова: «Сара беги». И как из коровника выволокли рабыню и отстегали кнутом. Я не кричала, не издала ни звука. Не сказала ничего.
Потом о главной проблеме заговорил пожилой мистер Райт:
– Меня огорчает, что ажиотаж вокруг женского вопроса вредит нашему делу. Он грозит расколом движения за аболиционизм. Не думаю, что вы этого хотите. Мы лишь просим вас ограничить свою аудиторию женщинами и в дальнейшем воздерживаться от разговоров о реформе в женском вопросе.
Затыкать рот сестрам Гримке – неужели это никогда не прекратится? Я посмотрела на мистера Райта, потирающего подагрические пальцы, потом на Джона и Теодора – хороших парней, которые хотели сдержать нас, разумеется, деликатно, по-доброму, во благо отмены рабства, ради нашего собственного блага, ради их блага, во имя всеобщего блага. Все это было так знакомо. На нас хотели надеть намордник.
За время беседы я вставила только одну реплику, и теперь мне казалось, вся моя жизнь прошла в попытках извлечь голос, который изменил мне в тот далекий день под дубом. Взбешенная Нина перестала спорить и взглянула на меня, словно умоляя сказать что-нибудь. Я поднесла палец ко рту, дотронулась до чуть припухшей губы и почувствовала, как кипевшее во мне все лето, да, пожалуй, всю мою жизнь, негодование выливается в жесткие округлые слова.
– Как вы можете просить нас идти на попятную? – начала я, поднимаясь на ноги. – Повернуться спиной к себе самим и своему полу? Разумеется, мы не хотим раскола движения – одна мысль об этом огорчает, – но, пока мы под пятой у мужчин, мы мало чем можем помочь рабам. Делайте, что считаете нужным, – контролируйте нас, лишайте поддержки, – мы все равно продолжим работу. А теперь прошу, господа, освободить нас от вашего присутствия.
* * *
В ту ночь я начала сочинять свой второй памфлет «Письма о равенстве полов», работала до рассвета. Первая строчка сложилась у меня в голове, пока мужчины пытались разубедить нас. «Каким бы ни было моральное право мужчины на поступок, таково же моральное право женщины. Она облечена Создателем теми же правами, теми же обязанностями».
Подарочек
Весной в доме затеяли большую уборку и проветривание. Каждый вечер мы возвращались в нашу комнату в подвале, проработав весь день со щеткой и метлой, и падали в постель. Первое, что я видела, – рама с лоскутными одеялами, единственная надежная крыша над головой. Я думала о вещах, спрятанных там, – мамином одеяле с историей семьи, деньгах, книжечках Сары, ее письме, в котором она обещает освободить меня, – и засыпала, счастливая, при мысли, что мои сокровища со мной.
Однажды в воскресенье утром я опустила раму. Скай молча наблюдала, как я провожу рукой по красному одеялу с черными треугольниками, нащупываю зашитые внутри деньги. Я развернула муслиновую тряпочку, в которой хранилась брошюрка Сары, рассмотрела ее, потом снова завернула. После чего расстелила одеяло преданий на раме, и мы со Скай стояли и рассматривали историю матушки. Я положила ладонь на второй квадрат, что изображал женщину в поле и летящих у нее над головой рабов. Ветер нес с собой надежду.
Мы не услышали за дверью маленькую госпожу. Замок, который был на двери при маме, давно сняли, а маленькая госпожа не постучала. Она влетела в комнату:
– Я иду в церковь Святого Филипа, и мне нужна бордовая накидка. Ты должна была починить ее. – Она перевела взгляд на раму. – Что это такое?
Я попыталась загородить раму.
– Верно, я и забыла про вашу накидку.
Я старалась отогнать мотылька от пламени, но Мэри оттолкнула меня и принялась рассматривать розовые, красные, оранжевые, фиолетовые и черные цвета на одеяле. Матушкины цвета.
– Займусь вашей накидкой прямо сейчас. – Я сняла веревку с крюка, чтобы поднять раму, пока хозяйка не догадалась, что перед ней.
Но она подняла руку:
– Подожди. Ты так спешишь спрятать это от меня.
Я прикрепила веревку на место, и сердце у меня затрепетало. Скай еле слышно напевала тонким голосом. Я хотела приложить палец к губам, но после истории с намордником не хватило духу шикнуть на нее. Пока маленькая госпожа, прищурившись, рассматривала один квадрат за другим, словно читала книгу, мы со Скай переглядывались. Там была вся жизнь матушки. Наказание стоянием на одной ноге, порки, клеймение, выбивание зубов молотком. Тело матушки, расчлененное на раме на куски.
Муслиновая тряпочка с книжкой Сары лежала на виду, к тому же можно было различить очертания пачек денег под подкладкой. Мне хотелось убрать все, но я не пошевелилась.
Мэри повернулась ко мне, ее лицо осветилось утренним светом, и черные зрачки превратились в точки.
– Кто это сшил?
– Матушка. Шарлотта.
– Но это ужасно!
В тот момент мне, как никогда, захотелось пронзительно закричать.
– Эти ужасные вещи произошли с ней.
Щеки Мэри залил румянец.
– Ради всего святого, можно подумать, с ней за всю жизнь случалось только жестокое и ужасное. Я хочу сказать, здесь не показано, чем она заслужила эти наказания. – Хозяйка вновь посмотрела на одеяло, переводя взгляд с одной аппликации на другую. – Мы обращались с ней хорошо, с этим не поспоришь. Не знаю, что с ней случилось, когда она убежала и была вне нашей опеки.
Теперь маленькая госпожа потирала руки, будто мыла их над умывальным тазом.
Наше одеяло пристыдило ее. Мэри подошла к двери, оглянулась на него, и я поняла, что она ни за что не оставит его на месте. Стоит нам выйти из комнаты, она пошлет за ним Гектора. И он сожжет мамино семейное предание.
Я дождалась, пока шаги маленькой госпожи не затихнут, потом посмотрела на одеяло, на летящих по небу рабов. Мысль о рабском положении была нестерпимей, чем мысль о смерти. Ненависть обожгла меня, и я опустилась на пол рядом с одеялом.
Скай участливо склонилась надо мной, концы ее роскошных волос ткнулись мне в лицо. Волосы пахли метлой.
– С тобой все хорошо? – спросила она.
Я подняла на нее взгляд:
– Мы уйдем отсюда.
Она услышала, но засомневалась:
– Что ты сказала?
– Уйдем, даже ценой жизни.
Скай подняла меня на ноги, словно цветок сорвала, и посмотрела на меня так же, как Денмарк в день, когда он, сидя на гробу, ехал навстречу смерти. Я всегда стремилась к свободе, но не находилось места, куда пойти, и не было нужного пути. Теперь это не имело значения. Свобода стала важнее воздуха. Мы уйдем и, если понадобится, поедем на собственных гробах. Именно так жила матушка. Она говорила: «Выбери, каким концом иголки хочешь быть – тем, в который продевается нитка, или тем, который прокалывает ткань».
Я сняла одеяло с рамы, свернула, подумав, что перья внутри – это память о небе.
– Вот, – вручила я одеяло Скай. – Мне нужно починить накидку этой женщины. Положи одеяло в мешок из рогожи, отнеси Гудису и вели спрятать среди конских попон. И чтобы никого рядом не было.
* * *
Я не только починила накидку. Я взяла с письменного стола Мэри печатку и положила в карман. А дождавшись темноты, написала письмо.
23 апреля 1838 года
Дорогая Сара,
надеюсь, ты получишь это письмо. Мы со Скай уйдем отсюда, пусть даже ценой жизни. Так мы решили. Не знаю, как именно, но у нас есть матушкины деньги. Все, что нам надо, – место, где нас примут. У меня есть адрес на конверте. Надеюсь, что когда-нибудь увижусь с тобой.
Твоя подруга Подарочек.Сара
Свадьба состоялась 14 мая в два часа пополудни в доме на Спрус-стрит в Филадельфии. Ярко светило солнце, по небу проплывали голубоватые облака. Этот день казался таким настоящим и в то же время совершенно нереальным. Помню, я стояла в столовой и наблюдала, словно издалека, как он разворачивается, будто выбираясь из глубины сна, вставая с прохладных простыней навстречу новому дню, где кончается одна жизнь и начинается другая.
Наша мать прислала поздравительную открытку, чего мы не ожидали, и умоляла прислать письмо с подробным описанием свадьбы. «Что Нина наденет? – спрашивала она. – О, вот бы увидеть ее!» Казалось, мать вздохнула с облегчением от мысли, что у Нины появился муж, и надеялась, что мы обе откажемся от ненормальной жизни. Несмотря на это, письмо было проникнуто любовью стареющей матери. Она называла нас «своими дорогими доченьками» и сокрушалась о том, что мы далеко друг от друга. «Увижу ли я вас снова?» – переживала она. Этот вопрос долго преследовал меня.
Я смотрела на Нину и Теодора, стоящих у окна и готовящихся принести клятвы, или, как выразилась Нина, произнести слова, которые подскажет им сердце. И я подумала: хорошо, что мамы здесь нет. Она захотела бы увидеть Нину в кружевном платье цвета слоновой кости или в наряде из голубого полотна, с розами и лилиями в руках, но Нина отбросила банальности и устроила свадьбу, шокирующую публику.
На ней было коричневое платье из хлопка, созданного свободными людьми, с широким белым кушаком и белые перчатки. Ее наряд гармонировал с одеждой Теодора: коричневым сюртуком, белым жилетом и бежевыми панталонами. Невеста держала охапку белых свежесрезанных рододендронов. Нина воткнула веточку в петлю сюртука Теодора. Мать не допустила бы коричневое платье, а тем паче вступительную молитву от священника-негра.
Когда в филадельфийской газете объявили о свадьбе с гостями смешанного происхождения, мы испугались, что случится демонстрация – с бранью, криками и камнями, – но, к счастью, пришли только приглашенные люди. Там были Сара Мэпс и Грейс и еще несколько знакомых освобожденных негров. Мы приурочили свадьбу к антирабовладельческому съезду, и на церемонии присутствовали самые выдающиеся аболиционисты страны: мистер Гаррисон, мистер и миссис Джеррит Смит, Генри Стэнтон, Мотты, Тэппаны, Уэстоны, Чэпманы.
Это событие назовут аболиционистской свадьбой.
Повернувшись к Теодору, Нина заговорила, а я вдруг вспомнила об Израэле и загрустила. Каждый раз, когда это случалось, возникало ощущение, будто я натыкаюсь на пустую комнату, о существовании которой не знала, и, войдя, встречаюсь с призраком человека, который когда-то обитал в ней. Я давно не была в этой комнате, но, когда попадала в нее, душа моя опустошалась.
Глядя на сияющую Нину, я представляла себя на ее месте, и Израэля рядом с собой, и наши клятвы. Мысль об этом исцеляла меня. Я всегда возвращалась к простой истине: «Не хочу больше Израэля, не хочу выходить замуж». И все же меня пленяло видение того, что могло бы случиться.
Я закрыла глаза и тряхнула головой, прогоняя остатки тоски. Снова взглянув на невесту с женихом, я увидела за окном стремительных зеленых стрекоз.
Нина дала обещания любить и почитать супруга, тщательно избегая слова «подчиняться». Теодор же произнес нудный монолог, осудил закон, который предоставлял мужу право распоряжаться собственностью жены, отказался от притязаний на собственность Нины, а потом смущенно кашлянул, обрывая себя, и объявил о своей любви.
Конфронтация, имевшая место в коттедже миссис Уитьер, осталась в прошлом. Теодор не отказался от своих взглядов, но после свадьбы умерил ораторский пыл, как сделал бы любой влюбленный мужчина. Движение за отмену рабства все-таки раскололось на два лагеря, как и предсказывали мужчины, и мы с Ниной подверглись еще большим гонениям, зато началось движение за права женщин.
Нина распечатывала письмо с предложением руки и сердца от Теодора на моих глазах. Оно пришло в конце прошлой зимы во время долгой передышки в Филадельфии в доме Сары Мэпс и Грейс, где мы готовились к циклу лекций в бостонском «Одеоне». Прочитав письмо, Нина уронила листки на колени и разрыдалась. Когда она зачитала его мне, я тоже расплакалась, но к моей радости примешивались тоска и страх. Я хотела для нее этого брака, желала ее счастья не меньше, чем своего. Но куда деваться мне? Несколько дней кряду я не могла сосредоточиться на лекции, которую готовила, или скрыть страх одиночества. Нестерпимо было думать о жизни без нее, жизни в изоляции, но я не хотела также стать приживалкой, ютиться в задней комнате и путаться под ногами. Мне казалось, Теодор вряд ли захочет, чтобы я поселилась у них.
Однажды ко мне подошла Нина и уселась на скамеечку около моего кресла в гостиной Сары Мэпс. Она молча раскрыла Библию и прочитала отрывок, в котором Руфь говорит с Наоми:
– «Молю тебя – не покидай меня и позволь мне следовать за тобой, ибо куда пойдешь ты, туда пойду и я; где поселишься ты, там поселюсь и я; твой народ станет моим народом; твой Бог моим Богом. Где умрешь ты, там умру и я, и там меня похоронят. Пусть Господь свершит это для меня, и пусть только смерть разлучит нас с тобой». – Нина закрыла Библию. – Нам нельзя расставаться, это невозможно. После моей свадьбы тебе надо жить у нас. Теодор попросил передать, что мое желание – это и его желание тоже.
Теодор купил небольшую ферму в Форт-Ли, Нью-Джерси. Из нас получилась бы странная троица, но Нина по-прежнему была бы рядом. Мы продолжили бы работу над проблемой отмены рабства и женским вопросом. Я помогала бы по хозяйству, а с появлением детей стала бы тетушкой. «Одна жизнь закончилась, другая начинается».
В столовой священник произносил молитву, но я не закрыла глаза, как делала всегда, а засмотрелась на Нину, которая держала Теодора за руку. Мы договорились, что я на две недели оставлю молодоженов, а затем приеду к ним в Форт-Ли, но сейчас вспомнила о матери и ее вопросе: «Увижу ли я вас снова?» Пожалуй, это не просто грустные раздумья старой женщины, и я подумала: не сделать ли перерыв в работе и не навестить ли ее?
– Теперь мы муж и жена, – объявила Нина, когда молитва окончилась.
* * *
В саду накрыли обеденный стол. На белой полотняной скатерти стояли блюда со сладостями и лепестками только что сорванных цветов – наперстянки и розовой азалии. Кондитер украсил свадебный торт взбитыми белками и прослоил черной патокой, чтобы подчеркнуть Нинин мотив коричневого с белым. Там же стоял большой кувшин подслащенного малиново-смородинового сока, к которому выстраивались в очередь непьющие аболиционисты, делая вид, что он не забродил. Я быстро выпила изрядный стакан, и мир вокруг слегка поплыл.
Я прохаживалась среди гостей, которых было около полусотни, выискивая Лукрецию, Сару Мэпс и Грейс и думая: «Вот наши друзья, наши люди, и, слава богу, никто не говорит сегодня о жестокости этого мира». Мне повстречался сын миссис Уитьер, Джон, я не видела его со дня стычки в августе прошлого года. Он развлекал публику стихотворением собственного сочинения, в котором высмеивал Теодора за то, что тот нарушил клятву безбрачия. Джон сравнивал друга с Бенедиктом Арнолдом. Меня он приветствовал как сестру.
Лукреция сама нашла меня. Мы не виделись много лет. Сияя от счастья, она затащила меня в уголок сада с цветущими рододендронами, где никто не мог помешать нам.
– Моя дорогая Сара, даже не верится, как многого вам удалось достичь!
Я покраснела от смущения.
– Но это правда, – сказала она. – Вы с Ангелиной самые известные женщины Америки.
– Скандально известные, хочешь сказать.
– И это тоже, – улыбнулась она.
Я вспомнила, как мы с Лукрецией беседовали вечера напролет в ее маленькой студии. Нетерпеливая молодая женщина, какой я была тогда, очень волновалась, что так и не найдет цель своей жизни. Жаль, нельзя вернуться в прошлое и сказать ей, что все сложится хорошо.
Подняв глаза, я заметила в конце сада Сару Мэпс и Грейс, они шли к нам. Последние полтора года мы с Ниной почти постоянно были в разъездах и, не считая визита прошлой зимой, редко виделись с этими женщинами. Я заключила в объятия их и Лукрецию, которая знала мать и дочь со времен Арч-стрит.
Сара Мэпс вынула из сумочки письмо, и я сразу же узнала почерк Подарочка, хотя на конверте красовалась печать моей сестры Мэри. Не в силах ждать, я разорвала конверт и с упавшим сердцем прочитала короткое послание Подарочка. До нас и раньше доходили сообщения о беглых рабах, переправляющихся из Кентукки через реку Огайо или в Филадельфию и Нью-Йорк из Мэриленда, но редко когда из отдаленных районов Юга. «Мы уйдем отсюда, пусть даже ценой жизни».
– Что случилось? – спросила Лукреция. – На тебе лица нет.
Я прочитала им письмо, потом сложила его дрожащими руками.
– Их поймают. Или убьют, – подытожила я.
Сара Мэпс нахмурилась:
– Они знают, на что идут. Они же не дети.
Эта женщина не бывала в Чарльстоне. И не имела понятия о законах и указах, контролирующих каждое мгновение жизни раба, не знала о городской страже, комендантском часе, пропусках, погонях, ночном карауле, комитетах бдительности, работном доме, о крайних проявлениях жестокости.
– Они приедут к нам, – сказала Грейс.
– И мы их приютим, – добавила Сара Мэпс. – Они поселятся в вашей старой комнате в мансарде. И станут помогать в школе.
– Так далеко им не добраться, – покачала я головой.
Мне пришло в голову, что Подарочек и Скай уже могли уйти, и я вновь развернула письмо, посмотрела на дату: 23 апреля.
– Письмо написано всего три недели назад, – пробормотала я скорей себе, чем им. – Сомневаюсь, что они ушли. Еще, возможно, есть время что-то предпринять.
– Но что ты можешь сделать? – спросила Лукреция.
– Не знаю, смогу ли я помочь, но я не в силах сидеть здесь сложа руки… Я возвращаюсь в Чарльстон. Могу хотя бы попытаться уговорить мать продать их мне, чтобы освободить.
Я и раньше просила ее об этом, но на этот раз буду умолять лично.
Она ведь назвала меня «своей дорогой доченькой».
Подарочек
Я стояла в эркере и смотрела из окна на гавань, вспоминая, как десяти лет от роду впервые увидела воду, какой она мне казалась бесконечной и неутомимой, как я сочинила песенку и, кружась, пела ее. Теперь мне почти сорок пять, и мои ноги больше не плясали. Они лишь хотели убраться отсюда. После наказания кнутом маленькая госпожа не выпускала меня на улицу, но при каждой возможности я забиралась сюда. Иногда, как сегодня, я приносила с собой шитье и все утро сидела на подоконнике с иглой. Маленькой госпоже и дела до меня не было, лишь бы я выполняла работу, держала язык за зубами, кланялась и повторяла: «Да, мэм, да, мэм, да, мэм».
Стояла жара, солнце било в глаза. Я открыла окно, и ворвавшийся свежий ветер донес запах прилива. С моего насеста было видно, как к Ист-Бей причаливает пароход. Наблюдая за пристанью, я много узнала. Пароход приходил почти каждый день. Я смотрю, бывало, как перед ним, расчищая путь, маневрирует судно для очистки воды от топляка, потом слышу рев колеса, пыхтение буксиров и перекличку рабов, что спешат привязать канаты и опустить сходни.
Когда пароход готовился к отплытию, я наблюдала, как к белому зданию с вывеской пароходной компании подъезжают экипажи, люди входят внутрь и ждут отправления. На пристани рабы грузят на борт чемоданы, товары и мешки с почтой. В десять часов пассажиры переходили улицу, и рабы помогали дамам взойти по сходням. Пароход отплывал только после досмотра стражи. Двое или трое служак осматривали весь корабль – первую палубу, вторую, рулевую рубку – снизу доверху. Одно время открывали перед погрузкой каждый дорожный кофр. Тогда я узнала, что они ищут безбилетных пассажиров, рабов.
Пароход, отходивший в четверг, шел до Нью-Йорка, где можно было пересесть на другой – до Филадельфии. Я узнала об этом из газет «Чарльстон пост» и «Курьер», которые стащила в гостиной. Они напечатали расписание и цену билета – пятьдесят пять долларов.
Сегодня причалил пустой пароход, но я пришла в эркер не для того, чтобы глазеть на судно, а чтобы придумать, как на него попасть. Все эти недели я была терпеливой. Осторожной. «Да, мэм, да, мэм». Я сидела, слушая, как гремят на ветру листья пальм, и думала о девочке, которая купалась в медной ванне. Думала о женщине, выкравшей форму для отливки пуль. Мне нравились та девочка и та женщина.
Я перебирала в уме все, что довелось увидеть в гавани, все, о чем узнала. Сидела, сложив руки, закрыв глаза, и мысленно летала с чайками, и мир кренился подо мной, как под птичьим крылом.
Когда я встала, у меня дрожали руки и ноги.
* * *
На следующей неделе Гектор, распределяя обязанности на день, велел Минте снять постельное белье и отнести в прачечную. У меня мгновенно созрел план действий.
– О, я сделаю это за нее, у бедной Минты болит спина.
Она посмотрела на меня с удивлением, но возражать не стала. Каждый рад получить передышку.
В тот день в эркере меня осенило: платья! Я видела черные платья, которые надевали дамы, оплакивая мужей. Видела их капоры с густыми черными вуалями и черные перчатки. Представила их ясно как божий день.
В комнате госпожи я сняла постельное белье, прислушалась, нет ли шагов на лестнице, нет ли стука трости, потом выдвинула нижний ящик бельевого шкафа. Много лет назад я сама убрала в шкаф траурное платье госпожи, ее капор и перчатки. Завернула в полотно с камфарными шариками для отпугивания моли и положила в нижний ящик. Теперь, доставая сверток, я волновалась, что все давно испортилось, а то, что отпугивало моль, привлекло крыс.
Я заглянула внутрь свертка. Это было по-прежнему самое потрясающее из сшитых мной платьев – черный бархат, украшенный сотнями черных стеклянных бусин. Некоторые оторвались и перекатывались в складках полотна. Вуаль на капоре в двух местах разорвали пауки, надо починить. Кроме того, я забыла, что перчатки были без пальцев, придется пришивать. Я засунула все это в простыни, завязала узлом, оставила за дверью и поспешила в комнату маленькой госпожи.
Ее траурный наряд хранился также в комоде, но с кедровой стружкой вместо камфары. Непонятно было, как выветрить эти резкие запахи. Закатав ее платье, шляпу и перчатки в простыни, я закинула оба узла за спину и спустилась к себе в подвал.
В тот вечер, во избежание нежданных гостей, мы со Скай подтащили к двери кровать, и сестра примерила черное платье госпожи. Пуговицы не застегивались. Хоть госпожа была широка в талии, для Скай пришлось все же выпустить лиф, удлинить юбку на шесть дюймов, а рукава на два. Да уж, она – истинная дочка своего папочки.
Маленькая госпожа была нормальных габаритов, но в ее платье поместились бы две меня.
Единственное, чего у нас не было, – туфель, подходящих туфель. Только обувь для рабов, и ею придется ограничиться.
В ту же ночь я принялась за работу. Скай подавала мне нитки и ножницы, следила за каждым стежком. Она пела на языке галла свою любимую песню: «Если не знаешь, куда идешь, следует знать, откуда пришел».
– Теперь мы знаем, куда идем, – ответила я.
– Угу.
– Мы будем готовы к четвергу, ко дню, когда пароход отчалит, через восемь суток.
Она взяла свой передник с кресла-качалки, порылась в карманах и вытащила две склянки вроде тех, в которых Тетка хранила настойки.
– Я приготовила настойку из белого олеандра.
У меня мороз пошел по коже. Белый олеандр – самое ядовитое на свете растение. Как-то на Хейсел-стрит загорелся куст олеандра, и какой-то мужчина, надышавшись дыма, упал замертво. Выпив коричневой жидкости из склянки Скай, мы будем корчиться на полу до последнего вздоха, но недолго.
– Мы уйдем отсюда, даже ценой жизни, – отрезала Скай.
Сара
Чарльстон встретил меня грозой. Пароход со скрипом вошел в гавань, и небо прорезала вспышка молнии, полил косой дождь, но я все же вышла под навес верхней палубы полюбоваться видом на город. Я не видела его шестнадцать лет.
Вспенивая воду, пароход прошел в устье гавани мимо форта Самтер, выглядел тот по-старому. Вдали знакомым миражом вырисовывался полуостров, белые дома на Бэттери казались размытыми серым дождем. В груди защемило, как обычно при возвращении в родные места, но тут же пришла боль неприятия. Да, город красив, но в то же время беспощаден. Он поглощал человека, делая его частью себя, а кого трудно переварить, выплевывал, как косточку от сливы.
Я уехала отсюда по собственной воле, и все же создавалось ощущение, что город отторгнул меня так же, как я его. Увидев его теперь, после долгого отсутствия, увидев болотную траву, буйно разросшуюся по окраинам, сбившиеся в кучу крыши с наблюдательными площадками, а за всем этим – колокольни Святого Филипа и Святого Михаила, торчащие темными пальцами, я не жалела ни о своей любви к Чарльстону, ни о том, что покинула его. Тем, кем я стала, меня сделали места, где я жила.
Ветер сорвал с затылка капор, и шарф обвился вокруг шеи. Повернувшись, чтобы размотать его, я увидела в окне салона недружелюбного вида пару. Погостив в Ньюпорте, они возвращались домой и приметили меня сразу после отправления из Нью-Йорка. Я старалась держаться особняком, но женщина рассматривала меня с нескрываемым любопытством.
– Вы дочь Гримке, так ведь? – полюбопытствовала она. – Та самая, которая…
Договорить она не успела, муж взял ее за руку и отвел в сторону. Она, видимо, хотела сказать: «Та самая, которая предала нас».
А сейчас они осуждающе смотрели на меня, на мою мокрую юбку и развевающийся капор. Я не сомневалась, что, как только мы причалим, мужчина сдаст меня властям. Кто знает, может, вернувшись, я совершила ужасную ошибку. Я отошла на нос парохода, и тут же прогремели раскаты грома и потонули в шуме двигателя. Чарльстон простил бы своим чадам многое, но не предательство.
* * *
Через час после прибытия я отыскала Подарочка. Она шила наверху в эркере, своем любимом месте. Увидев меня, она вздрогнула и, оступившись больной ногой, уронила на пол рабочую рубашку с иголкой и ниткой. Я бросилась вперед, чтобы поймать ее, но Подарочек выпрямилась, и мы оказались в объятиях друг друга.
– Я получила твое письмо, – тихо сказала я на случай, если кто-то подслушивал.
Она покачала головой:
– Но ты вернулась не из-за него, а из-за меня.
– Конечно.
Я подняла рубашку, и мы уселись на диванчик у окна.
На ней был привычный красный шарф. Мне показалось, она почти не изменилась. Те же огромные глаза, только золотистый оттенок слегка потемнел. Такая же миниатюрная. Не хрупкая или бестелесная, а просветленная и сосредоточенная.
Между нами лежала трость с занятной головой кролика, вырезанной на ручке. Она отодвинула ее в сторону:
– Ты ведь приехала не для того, чтобы отговорить нас, правда?
– Это опасно, Подарочек… Я боюсь за тебя.
– А я больше боюсь, что придется остаток дней кланяться твоей матери и расшаркиваться перед ней.
Я громким шепотом изложила ей свой план: уговорить мать продать мне их обеих.
Она горько рассмеялась:
– Угу.
Я не ожидала такой реакции. Вдали, в гавани, маячил пароход, умытый дождем.
Она заерзала на подушке и сказала, чуть дыша:
– Не припомню, чтобы госпожа сделала для меня что-то хорошее, вот и все. А ты приехала издалека – никто другой не сделал бы для меня этого. Так что можно попытаться, и, если она продаст нас, я отдам тебе все, что у меня есть, – четыреста долларов.
– Этого не понадобится…
– Нет, по-другому я не хочу.
Мы замолчали, к лестнице с моим чемоданом подошел Гектор, дворецкий, назначенный Мэри. Он уставился на нас долгим взглядом, от которого мне стало не по себе. Я встала:
– Мне надо устроиться.
– Хорошо, а потом поговори с ней, – прошептала Подарочек. – Но не тяни слишком долго.
* * *
Я выжидала четыре дня. Высказывать свою просьбу раньше было бы опрометчиво. Хотелось, чтобы мама считала, будто я вернулась с единственной целью – повидаться с ней.
Я заговорила о своем деле во вторник днем, когда мы с матерью и Мэри сидели в столовой и обмахивались веерами во влажной жаре. Никто из нас, казалось, не торопился прервать затянувшееся молчание. Были исчерпаны все безобидные темы разговора: дождливая погода, впечатляющая железная дорога, проложенная от Чарльстона до Саванны, приглаженная версия Нининой свадьбы, новости про моих родственников, племянников и племянниц, которых я никогда не видела. В надежде на шанс получить свободу для Подарочка и Скай, я не стала рассказывать о своих скандальных приключениях, описанных во всех газетах. Нельзя было говорить и об отмене рабства, Севере, Юге, религии, политике или о том, что прошлым летом город объявил меня вне закона.
– Люди поговаривают, Сара… – нарушила дремоту Мэри.
Она переглянулась с матерью, и я поразилась их сходству. До меня словно докатилось эхо детского одиночества, и я вновь почувствовала себя не такой, как все. В памяти зазвучал голос Бины: «Бедная мисс Сара». Откуда вдруг взялись абсурдные детские переживания?
– Уже вовсю ходят слухи о твоем возвращении, – продолжила Мэри. – Шериф может появиться в любой момент, и, если ты останешься здесь, не знаю, чем мы сумеем помочь. Едва ли сможем прятать тебя как человека, укрывающегося от правосудия.
Я повернулась к матери, она смотрела в сторону веранды. Окна были открыты, и сквозь них донесся тошнотворно густой шоколадный аромат олеандра.
– Вы хотите, чтобы я уехала?
– Дело не в нашем желании, – сказала мама. – Если придут представители властей, я не выдам тебя, нет, конечно. Ты моя дочь. Ты по-прежнему Гримке. Мы только считаем, что всем будет легче, если ты надолго не задержишься.
К моему удивлению, в ее глазах заблестели слезы. Мать располнела, седые волосы поредели, лицо избороздили морщины. Она взглянула на меня и заплакала. Я встала со стула, подошла к ней, наклонилась и неловко обняла.
Она на миг приникла ко мне, потом выпрямилась. Я не вернулась на место, а набираясь храбрости, начала расхаживать от окна к столу и обратно.
– Не буду подвергать вас опасности, уеду на следующем пароходе, но перед отъездом хочу попросить тебя вот о чем. Я бы хотела купить Хетти и ее сестру Скай.
– Купить их? – удивилась Мэри. – Но зачем? Ты ведь не торгуешь рабами.
– Мэри, ради Бога, она хочет их освободить, – пояснила мама.
– Предлагаю тебе любую сумму. – Я подошла к матери. – Пожалуйста. Ты меня этим очень обяжешь.
Мэри встала у кресла матери с другой стороны.
– Мы не сможем обойтись без Хетти, – возразила она. – В Чарльстоне едва ли найдется равная ей швея. Она незаменима. Вторую можно заменить, но не Хетти.
Мама опустила взгляд на свои руки. Ее плечи двигались в такт дыханию, и в душе у меня затеплилась надежда.
– По закону это сделать не так-то просто, – сказала она. – Для освобождения потребуется специальный акт законодательного органа.
– Да, это трудно, но выполнимо, – ответила я.
Казалось, что-то в матери подалось, повернулось ко мне. Мэри тоже это почувствовала. Она накрыла своей ладонью руки матери, наводя между ними мост.
– Мы не сможем обойтись без Хетти. Но надо также и о ней подумать. Куда она пойдет? Кто будет о ней заботиться? У нее здесь дом.
– Это не дом для нее, а тюрьма! – выпалила я.
Мэри сжалась:
– Нам ни к чему, чтобы ты являлась сюда и читала лекции о рабстве. И я не собираюсь оправдываться перед тобой. Это наш образ жизни.
Ее слова разозлили меня. На миг я подумала, что надо бы придержать язык. Но неужели необходимо жертвовать правдой ради целесообразности? Мать поступит так, как посчитает нужным. Почему я находила слова для мира, но теряюсь в родном доме?
Меня словно прорвало – в один миг навалились все годы жизни здесь, сосуществования с несостоятельностью их принципов.
– Ваш образ? Что он оправдывает? Рабство – адская система, его нельзя защищать!
На шее Мэри проступили красные пятна.
– Господь предписал нам заботиться о них, – нервно проговорила она, брызжа слюной.
Не скрывая негодования, я шагнула к ней:
– Ты говоришь так, словно Бог – белый человек с Юга. Как если бы мы присвоили себе Его образ. Ты просто идиотка. Негры ничем не отличаются от нас. Белизна кожи не священна, Мэри! И она не определяет всего.
Сомневаюсь, что кто-нибудь разговаривал с ней подобным образом, и она с ошеломленным видом отвернулась от меня.
Я не в силах была объяснить, откуда взялось это вдохновение и почему я окончательно встряхнулась, обрела отвагу и власть. Ощущение крыльев за спиной меня ошеломило, и, закрыв глаза, я благословила его. Я словно оказалась в месте, которое когда-то оставила, и осознала, что никогда больше не буду изгнанницей.
Мать подняла руку:
– Я устала. – Она с трудом поднялась, опираясь на старую трость. Дойдя до двери, она обернулась и встретилась со мной взглядом. – Я не продам тебе Хетти или Скай, Сара. Жаль тебя разочаровывать, но я подумаю о компромиссе.
* * *
Казалось, мой стук в дверь утонул в темноте подвала. Было за полночь. Чтобы встретиться с Подарочком, я дождалась, пока весь дом не заснет, и проскользнула вниз в ночной рубашке. Я вновь постучала, фонарь в моей руке закачался, а по стене заплясали причудливые тени. «Давай, Подарочек, просыпайся».
– Кто там? – прозвучал из-за двери приглушенный встревоженный голос.
– Все в порядке. Это я, Сара.
Она приоткрыла дверь и впустила меня в комнату, держа под подбородком мерцающую свечу. Глаза ее словно светились изнутри.
– Извини, что разбудила, но нам надо поговорить.
В другом конце комнаты на кровати сидела Скай в ореоле пышных, как опахало, темных волос. Я поставила фонарь и кивнула ей. Вскоре после возвращения я увидела ее в декоративном саду, где она, стоя на коленях, копалась в земле. Этот сад превратился в уголок чудес с живописными цветами, ухоженными кустарниками и извилистыми дорожками. Я вышла туда якобы прогуляться. Скай не стала ждать, пока я приближусь, а поднялась и сама пошла ко мне, источая запахи земли и зеленых растений. Не похожая ни на Подарочка, ни на Шарлотту, с крепким телосложением. Мне она показалась грубоватой и хитрой.
– Вы Сара? – спросила Скай и, услышав ответ, ухмыльнулась. – Подарочек говорит, вы лучшая из Гримке.
– Не уверена, что она права, – улыбнулась я.
– Может, и нет, – сказала она, чем сразу вызвала мою симпатию.
Я оглядела подвальную комнату, в которой стало меньше места, потому что под окном стояли две сдвинутые кровати.
– Что такое? – спросила Подарочек, но я не успела ответить. – Твоя матушка не хочет продавать нас, верно?
– Да, мне жаль. Она отказалась, но…
– Но что?
– Она согласилась освободить вас после своей смерти. Сказала, что составит документ и приложит его к завещанию.
Подарочек стояла среди пляшущих теней и пристально смотрела на меня. Не этого мы добивались, но это лучше, чем ничего.
– Ей семьдесят четыре, – добавила я.
– Она переживет последнего таракана, – фыркнула Подарочек, потом взглянула на Скай. – Уезжаем отсюда послезавтра.
В один миг я испытала облегчение и ужас, увидев во всей красе то сдержанное неповиновение, которое стало теперь ее сущностью.
– Скажи, чем я могу помочь, – попросила я.
Подарочек
В ночь перед отъездом мы со Скай суетились в темноте, собирали вещи. Прокравшись под светом звезд через задний двор на конюшню, достали из груды конских попон матушкино лоскутное одеяло. Мы три раза поднимались из нашего подвала в комнату Сары на втором этаже, тащили одеяла, черные платья, шляпы, вуали, перчатки и носовые платки. Вверх и вниз я хромала мимо господских дверей. Осторожно, словно пол мог провалиться, ступала в одних носках.
После последней вылазки Сара заперла за нами дверь, и я припомнила, как она закрывала замочную скважину, когда учила меня читать, и как мы шептались при свете лампы – совсем как сейчас. Я повесила в ее шкаф черные платья, которые подогнала по фигуре. Вуали я тщательно отутюжила, бархат и креп сбрызнула хозяйкиной лавандовой водой, чтобы они пахли как у белой леди. К платьям пришила внутренние карманы для денег, Сариной брошюры и маминого красного шарфа, а также адреса в Филадельфии, куда мы надеялись попасть.
Скай сказала, что кролик перехитрит лису.
Сара открыла дорожный чемодан и положила на дно мамино одеяло с семейной историей. Я приготовила также одеяло с красными квадратами и черными треугольниками в надежде взять и его – первые крылья дрозда, сшитые мной, – но теперь увидела, насколько мал чемодан, и мне стало стыдно занимать драгоценное место.
– Можно оставить его здесь, – предложила я.
Сара забрала у меня одеяло и сунула в чемодан.
– Скорей я оставлю свои платья – они немногого стоят.
Я понимала, какой опасности она себя подвергает, понимала это и сама Сара. Газеты я читала. Двадцать лет тюрьмы за публикации бунтарского содержания. Двадцать лет – за содействие рабу в побеге.
Я смотрела, как она складывает поверх одеял немногие свои вещи, и думала: «Это не та Сара, которая уехала отсюда. У этой твердый взгляд и голос не дрожит, как у прежней. Хороший получился боец».
Волосы ее были распущены и обрамляли лицо, как шелковистые лозы, как красные нити, которыми я, помню, обвивала дерево душ. И тогда я поняла, что между нами существует особенная связь. «Не любовь, нет? Что же?» У меня в груди словно жила подушечка для булавок, которые покалывали и не позволяли забыть о… О тех девчонках на крыше с остывшим чаем!
Сара опустила крышку чемодана.
Я сказала Скай, чтобы шла вниз и ложилась, а я скоро приду. У меня оставалось еще одно дело. Я спустилась по лестнице, вышла на задний двор и поковыляла с тростью к дереву душ.
Сквозь ветви на меня ложились пятна лунного света. Я ощущала вокруг мигающие глаза сов и дыхание ветра. Взглянула на дом и увидела в окне второго этажа матушку, готовую бросить мне ириску. А вот она стоит в колее от экипажа с заведенной за спину ногой, к которой привязана удавка. А вот – тихо сидит под деревом с шитьем на коленях.
Я наклонилась и подняла с земли горсть желудей, веточек и листьев и засунула их в мешочек на шее. Потом забрала свою душу.
* * *
На следующее утро мы вели себя как обычно. Скай пошла с корзиной в огород и нарвала спелых томатов и салата. Госпожа заставила меня шкуркой почистить ее веера из слоновой кости, чтобы снять желтоватый налет. Я сидела в эркере с обрывком шкурки и наблюдала за пароходом. Рябь на воде гавани напоминала оборки на платье.
Внизу в гостиной Сара прощалась с госпожой. Она больше не увидит мать. Она это понимала, госпожа тоже. В доме словно звучала не переставая долгая нота на клавесине. Внизу у входной двери стоял запертый чемодан Сары со всем содержимым – матушкиной историей, стайкой дроздов.
Часы пробили девять, и из гостиной вышла Сара, глаза ее пронзительно сияли. Я положила веера, оставила трость с кроликом и, опираясь на подоконник, пошла за ней в ее комнату.
На Саре было светло-серое платье с большой серебряной пуговицей на воротнике – той самой, из детства, вместившей в себя все ее надежды. Выйдя через потайную дверь на веранду, Сара увидела Скай в саду и махнула ей рукой. Это означало: «Оставь цветы и иди в дом. Пройди мимо прислуги. Если остановит маленькая госпожа, скажи, что тебя позвала Сара».
Когда в дверь постучала Скай, я уже надела платье и обмазала лицо мучной клейковиной. Скай улыбнулась.
– Там был кто-нибудь? – спросила Сара.
– Только Гектор. Просил передать, что Гудис готовит экипаж.
Я застегнула платье на спине Скай и помогла ей намазать лицо. Никто не произнес ни слова. Сара хмурила брови. Ходила взад-вперед по комнате, на руке у нее раскачивалась сумочка на шнуре.
Мы натянули перчатки, надели шляпы, опустили вуали до пояса. Крошечные склянки с настойкой из олеандра засунули в рукава. Саре о них знать не обязательно.
Сквозь вуаль комната выглядела нечетко, как в сумерках перед наступлением ночи.
Раздался цокот копыт лошади, которую вели с заднего двора вдоль дома. У меня засосало под ложечкой. Я старалась не поддаваться грезам, не думать о двух свободных черных женщинах там, на Севере, которые захотели принять нас, о мансарде с трубой посредине, но не могла сдерживаться. Мы бы помогали со школьными делами и с шитьем шляп. Я бы мастерила на продажу лоскутные одеяла. Скай бы ухаживала за садом.
Сара вручила мне хозяйкину трость с золотым набалдашником. Потом оглядела нас:
– Я бы не узнала вас на улице.
Мы быстро спустились по лестнице. Если появится маленькая госпожа, значит так тому и быть. Главное – продолжать идти. Ни за что не останавливаться. Дойдя до последней ступеньки, я увидела, что дорожного чемодана на месте нет. У двери стоял Гектор и сверлил нас взглядом.
С ним заговорила Сара:
– Мама попросила отвезти ее гостей домой. Нам поможет Гудис.
Гектор удалился по коридору. «Как он смотрел на нас. Неужели догадался?» Маленькой госпожи нигде не было видно.
Мы вышли во двор, и мир рванулся нам навстречу. Я оглянулась на Скай и различила за вуалью бледный контур лица.
* * *
Когда Гудис подогнал экипаж к вывеске пароходной компании, мы уже задыхались от жары под вуалью. По шее струился пот. Скай приподняла складки платья, чтобы проветриться, и на меня повеяло смесью лаванды со смрадом потного тела.
Помогая мне сойти с экипажа, Гудис прошептал:
– Господи, Подарочек, что ты делаешь?
Нам не удалось его одурачить, и с большой вероятностью Гектор тоже обо всем догадался. Я то и дело оглядывалась: не скачет ли он по Ист-Бей в двуколке с маленькой госпожой.
– Гудис, прости, но мы уезжаем. Не выдавай нас.
Он сжал губы, и я словно ощутила, как они ко мне прикасаются. Он был лучшим мужчиной из всех, кого я знала. Сама того не желая, я привязалась к нему всем сердцем.
Я смотрела на него сквозь темную вуаль, а он сжал мою руку:
– Береги себя, девочка.
Мы купили билеты, дождались, пока не загрузится пароход.
Когда поднимались по сходням, налетел порыв ветра, и пароход закачался. Я припомнила госпожу с ее молитвами. С этой женщиной мы прошли Библию вдоль и поперек. А теперь, как Иисус, шествовали по волнам.
Мы протиснулись мимо чемоданов, бочек, кип товаров и ящиков, мимо парового котла на вторую палубу и сели на скамью в салоне в ожидании досмотра стражи. Здесь были белые стены, вдоль окон – приколоченные к полу столы. Нарядные люди стояли по двое и трое в клубах табачного дыма, время от времени они поглядывали в нашу сторону, заинтригованные трауром. Сара сидела чуть поодаль от нас, низко опустив голову.
Когда ввалились два стражника, Скай часто-часто задышала. Один стражник проверял левую сторону, другой правую. Они кивали людям, то и дело заводя разговор. Опустив глаза, я заметила носки бедняцких туфель Скай, которые высовывались из-под дорогого платья. Потертые коричневые туфли.
Перед нами остановился стражник и обратился ко мне:
– Куда вы плывете?
Как и туфли Скай, меня тотчас же выдал бы рабий выговор. Подняв голову, я посмотрела на него. Белокурые усы и зеленые глаза, кепи, сдвинутое набок. За его спиной я различила сквозь закопченное окно сверкающую воду.
– Мэм? – переспросил он.
Сара заерзала на скамье. Я испугалась, что она сейчас что-то скажет, или Скай начнет напевать, или затаившийся во мне страх вырвется наружу. Но тут я вспомнила про вдовий наряд. Я издала звук, словно собиралась ответить, но захлебнулась от горя словами. И не так уж сильно мне пришлось притворяться. Я горевала над своей жизнью, над тем, что пришлось пережить, увидеть и узнать, над тем, что потеряла. Я заплакала по-настоящему.
И стражник отступил от меня на шаг:
– Соболезную вашей утрате, мэм.
Когда он отошел, с подбородка на юбку упала белая капля.
Заработал двигатель, и скамья задрожала, до нас донесся запах масла и вырывающегося из трубы дыма. Пассажиры вышли из салона на палубу, чтобы помахать на прощание платками. Мы тоже встали напротив рабов, кидающих тяжелые причальные концы. Где-то далеко звонили колокола Святого Михаила.
Крепко ухватившись за поручни в ожидании неизведанного, мы втроем стояли на носу корабля. Над нами кружили чайки, пароход вспенивал воду, вздымался на волнах и шел вперед. Когда заработали гребные колеса, Сара положила ладонь мне на плечо и не снимала ее, пока город не скрылся из виду. Таким был последний фрагмент моего лоскутного одеяла.
Я подумала о матушке и о том, что ее косточки навсегда останутся в Чарльстоне. Люди говорят: не оглядывайся, пусть прошлое останется в прошлом, но я всегда буду оглядываться.
Я смотрела, как Чарльстон исчезает в утреннем свете.
Когда пароход вышел из гавани, ветер усилился, вокруг нас затрепетали вуали, и я услышала свист крыльев дроздов. Кругом, насколько хватало глаз, простиралась сверкающая вода.
Комментарии автора
В 2007 году я съездила в Нью-Йорк посмотреть на работу Джуди Чикаго «Званый обед» в Бруклинском музее. В то время я с дочерью Энн Кидд Тейлор писала мемуары «Путешествие с гранатом» и не помышляла о следующем романе. Не представляла, о чем он может быть, только испытывала смутное желание написать о двух сестрах. Я еще не придумала, кто эти сестры, когда и где жили, какова будет их история.
«Званый обед» – монументальное произведение искусства, воспевающее достижения женщин в западной цивилизации. Чикагский банкетный стол с роскошными столовыми приборами, накрытый в честь тридцати девяти почетных гостей, стоит на полу, выложенном фарфоровыми плитками, на которых начертаны имена девятисот девяноста девяти других женщин, внесших важный вклад в историю. И вот, изучая стенды в Галерее биографий, я наткнулась на имена Сары и Ангелины Гримке, сестер из Чарльстона, Южная Каролина, где я в то время жила. Как я могла о них не слышать?
Уходя в тот день из музея, я спрашивала себя: те ли это сестры, о которых я хочу писать? Дома, в Чарльстоне, принявшись за изучение истории их жизни, я стала их пылкой поклонницей.
Как оказалось, на протяжении более чем десяти лет я проезжала мимо ничем не отмеченного дома сестер Гримке, не имея представления, что они были первыми женщинами-аболиционистками, а также входили в число первых и главных теоретиков американского феминизма. Сара – первая женщина в Соединенных Штатах, написавшая исчерпывающий манифест феминизма, а Ангелина – первая дама, выступавшая в законодательном органе. В конце 1830-х годов они, вероятно, были самыми известными в Америке женщинами, в то же время имели самую дурную репутацию. И тем не менее даже в родном городе о них знали, пожалуй, немного. Мое неведение я объясняю собственным упущением, а также подтверждением мнения о том, что достижения женщин нередко предаются забвению в истории.
Сара и Ангелина родились в среде влиятельной и богатой аристократии Чарльстона, в классе общества, восходящем к английским концепциям землевладения. Были они набожными и родовитыми дамами, входили в высшее общество, но тем не менее мало кто из женщин девятнадцатого века вел себя столь «неподобающим образом». Их взгляды претерпели длительные и мучительные метаморфозы, они порвали с семьей, отказались от своей религии, от родных мест и традиций, стали изгнанницами и в конечном счете – париями в Чарльстоне. Сестры Гримке начали выступать за пятнадцать лет до того, как Гарриет Бичер-Стоу написала «Хижину дяди Тома» под влиянием «Американского рабства как оно есть», памфлета, сочиненного Сарой, Ангелиной и мужем Ангелины Теодором Уэлдом и опубликованного в 1839 году. Выступали они не только за немедленное освобождение рабов, но и за расовое равноправие, идея о котором считалась радикальной даже среди аболиционистов. А за десять лет до конференции в Сенека-Фоллс, организованной Лукрецией Мотт и Элизабет Кэди Стэнтон, сестры Гримке яростно сражались за права женщин, принимая на себя первые удары реакционно настроенной публики.
Я читала о сестрах, и меня все больше притягивала Сара и перипетии ее жизни. Прежде чем оказаться на публичных подмостках, она искренне стремилась получить профессию, столкнулась с крушением надежд, предательством, испытала безответную любовь, одиночество, сомнения, ее подвергали остракизму и бойкотировали. Мне казалось, она обрела крылья скорее не вопреки этим вещам, а благодаря им. Не меньше, чем ее жизнь реформатора, меня покорила ее женская участь. Каким образом она стала тем, кем стала?
Я решила писать не художественную версию истории Сары Гримке, а сочинить воображаемую историю, вдохновившись ее жизнью. Продолжая исследования, роясь в дневниках, письмах, речах, газетных статьях и собственных сочинениях Сары, а также в обширном биографическом материале, я сформировала свое понимание ее желаний, побуждений и поступков. Речь и духовная жизнь Сары – моя интерпретация.
Я старалась не искажать исторический фон жизни Сары. На страницах книги вы могли найти описание самых важных событий ее жизни и формирующего опыта, а также огромный объем фактических деталей. Время от времени я пользовалась оригинальными словами Сары из ее сочинений. Однако ее письма в моем романе придуманы мной.
Больше всего я отошла от биографии Сары в описании ее воображаемых отношений с вымышленным персонажем Хетти Подарочком. Решив написать о Саре Гримке, я также загорелась желанием придумать историю о рабыне, жизнь и голос которой тесно переплелись бы с жизнью Сары. Я чувствовала, что не смогу написать роман по-другому, в нем должны быть представлены оба мира. Потом натолкнулась на провоцирующую деталь. В детстве Саре подарили в качестве горничной маленькую рабыню по имени Хетти. Если верить Саре, они сблизились. Проигнорировав законы Южной Каролины и мнение отца-юриста, помогавшего писать эти законы, Сара научила Хетти читать, за что обе были сурово наказаны. На этом, однако, короткое повествование о Хетти заканчивается. О ней известно лишь то, что вскоре она умерла от неизвестной болезни. Я сразу поняла, что ей должна принадлежать вторая половина моей истории. И попыталась вернуть Хетти к жизни, сочинить для нее жизнь.
Помимо этого, для пользы романа переплетая вымысел с правдой, я придумала другие многочисленные события в жизни Сары. Например, из источников хорошо известно, что Сара была неважным оратором и с трудом изъяснялась вербально, однако нигде нет указаний на то, что она заикалась, как это описано у меня. Сара действительно вернулась в Чарльстон за несколько месяцев до попытки мятежа Денмарка Визи, как писала и я, очевидно желая справиться с чувствами к Израэлю Моррису, и, находясь там, не стеснялась высказывать антирабовладельческие взгляды, что спровоцировало конфронтацию. Однако ее мимолетная встреча на улице с офицером милиции Южной Каролины – полностью моя придумка. И несмотря на то что Сара знала Лукрецию Мотт, посещала с ней собрания молитвенного дома на Арч-стрит и восхищалась ее служением в качестве квакерского священника, она никогда не останавливалась в доме Мотт. То же самое относится к Саре Мэпс Дуглас, которая посещала собрания молитвенного дома на Арч-стрит. Две Сары надолго стали подругами, но Сара и Ангелина не находили прибежища в мансарде Сары Мэпс после публикации в «Либерейторе» провокационного письма Ангелины. Когда им отказали в комнате в доме Кэтрин Моррис, они нашли себе место у друзей на Род-Айленде и где-то еще. Я придумала мансарду в основном в качестве будущего убежища для Подарочка и Скай. Вот лишь несколько способов, с помощью которых я переплетала факты с вымыслом.
То и дело я допускала некоторые вольности со временем. Колесо-топчак из работного дома, на котором, согласно моей фантазии, покалечилась Подарочек, существовало на самом деле, однако я предвосхитила его появление на семь лет. Налет на африканскую церковь в Чарльстоне, сделавший Денмарка Визи радикалом, произошел в июне 1818 года, на год раньше, чем я описала. Я также предвосхитила песенку про алфавит, которую Сара, по моему описанию, пела детям в воскресной школе для цветных, где она преподавала на самом деле. Письмо Ангелины в аболиционистскую газету в действительности послужило рычагом, который подтолкнул сестер к публичным подмосткам, но Сара, вопреки моей версии, не сразу согласилась с заявлениями сестры. Сара часто медлила в решающие моменты, что обычно не нравится романисту. Ей понадобился год, чтобы наконец уступить и отдаться революционной работе, ставшей для нее высшим достижением. Должна также признаться, что Сару с Ангелиной не сразу исключили из консервативной квакерской организации, но письмо Ангелины действительно вызвало осуждение и угрозы со стороны комитета по надзору. Сестер фактически исключили тремя годами позднее – Ангелину за брак с не-квакером, а Сару – за присутствие на свадьбе.
Необычный и трогательный симбиоз, начавшийся с того, что Сара в двенадцать лет стала крестной матерью сестры, позволяет думать, что они не возражали бы против моих вольностей: время от времени я передавала некоторые слова и поступки Ангелины Саре. Яркий пример – антирабовладельческие памфлеты к женщинам и духовенству Юга, которые написали сестры. Первой высказала эту идею Ангелина, а не Сара, и она написала памфлет на год раньше Сары. Тем не менее Сара, погрузившись в сочинение эссе, стала совершенным теоретиком и писателем, в то время как Ангелина превратилась в самого блестящего и убедительного оратора своего времени. Дерзкие феминистические аргументы Сары в «Письмах о равенстве полов», опубликованных в 1837 году, вдохновили таких женщин, как Люси Стоун, Эбби Келли, Элизабет Кэди Стэнтон, Лукреция Мотт, и заметно повлияли на них. В дальнейшем именно памфлеты Ангелины публично сожгли в Чарльстоне, что заставило миссис Гримке предупредить дочь не возвращаться в город под угрозой ареста. Следует отметить, правда, что Сару тоже не жаловали в городе.
Я сократила и объединила некоторые события публичных выступлений сестер, происходивших с декабря 1836-го по май 1838-го, сжато описав нападки, осуждение, враждебность и насилие – все то, с чем они сталкивались в ответ на выступления. Они сотрясали и наконец разрушили гендерный барьер, лишавший американских женщин права на голосование и участие в политических и социальных сферах. Ангелина однажды высказалась: «Мы, аболиционистки, переворачиваем мир вверх тормашками». Колкость Сары, которую я включила в роман, была более язвительной: «Единственное, чего я прошу у наших братьев: слезьте с нашей шеи».
Что касается судеб сестер после событий, описанных в моей книге, то вскоре после свадьбы Ангелины они распрощались с тяготами публичной жизни – отчасти из-за слабого здоровья Ангелины. Они вместе воспитывали троих детей Ангелины и Теодора, продолжали активную деятельность в антирабовладельческих и суфражистских организациях, неустанно собирали петиции и оказывали помощь нескольким рабам семьи Гримке, которым помогли освободиться. Их убедительный документ «Американское рабство как оно есть» разошелся в количестве экземпляров, превышающих любой антирабовладельческий памфлет, написанный до «Хижины дяди Тома». Сара продолжала писать до конца жизни, и меня подкупает тот факт, что она в конечном счете напечатала свой перевод биографии Жанны д’Арк в изложении Ламартина. Этой отважной женщиной Сара искренне восхищалась. Сестры основали не один пансион, где обучали детей многих ведущих аболиционистов. Преподавая в школе Союза Раритан-Бей, кооперативной утопической общины в Нью-Джерси, они познакомились с реформаторами и интеллектуалами Ральфом Уолдо Эмерсоном, Бронсоном Олкоттом и Генри Дэвидом Торо. Занятно было читать о том, что Торо находил странным вид седовласой Сары, разгуливающей в феминистском костюме с блумерсами.
Больше всего мне нравится событие, происшедшее в жизни Сары в 1870-м, за несколько лет до ее смерти в Хайд-Парке, Массачусетс. Они с Ангелиной возглавляли процессию из сорока двух женщин, направляющуюся к избирательному участку во время муниципальных выборов. Прошествовали под сильным снегопадом, потом опустили свои незаконные избирательные бюллетени в символическую избирательную урну. Это был последний публичный акт неповиновения сестер. Сара дожила до восьмидесяти одного года, Ангелина до семидесяти четырех. Редкие ссоры между сестрами не нарушили эту необычную связь. Они никогда не расставались.
Помимо Сары и Ангелины, я включила в книгу других исторических персонажей, давая их жизненным историям собственное толкование. Это: Теодор Уэлд, известный аболиционист, за которого вышла Ангелина; Лукреция Мотт, известная аболиционистка и борец за права женщин; Сара Мэпс Дуглас, свободная чернокожая аболиционистка и преподавательница; Израэль Моррис, зажиточный бизнесмен-квакер и вдовец, который дважды делал Саре предложение. (Из ее дневника следует, что она искренне его любила и все же отказала ему, поскольку хотела следовать своему призванию стать священнослужителем у квакеров и считала, что не сможет быть в браке независимой.) Есть также Кэтрин Моррис, сестра Израэля и консервативная квакерская старейшина, у которой Сара и Ангелина снимали жилье; Уильям Ллойд Гаррисон, издатель радикальной аболиционистской газеты «Либерейтор»; Элизар Райт, секретарь Американского общества борьбы с рабством. Поэт Джон Гринлиф Уитьер, друг Теодора Уэлда, давший вместе с Теодором клятву не жениться до отмены рабства – клятву, которую Теодор нарушил. Могу добавить, что оба мужчины поддерживали борьбу за права женщин, но все же в письмах к Саре и Ангелине настойчиво уговаривали сестер воздерживаться от борьбы за права женщин, опасаясь, что эта борьба приведет к расколу движения за отмену рабства. Некоторые наиболее яркие слова, написанные Ангелиной Теодору, включены в воображаемую сцену, когда мужчины приезжают в коттедж миссис Уитьер с указанием прекратить борьбу за права женщин. Сара и Ангелина не поддались на это. Действительно, по свидетельству историка Герды Лернер, именно они связали курс на борьбу за права женщин с делом отмены рабства, создав, по мнению одних, опасный раскол, а по мнению других, великолепный альянс. Как бы то ни было, их отказ подчиниться сыграл важную роль в борьбе за права женщин в Америке.
Я попыталась как можно более точно изобразить членов семьи Гримке. Мать Сары, Мэри Гримке, была во всех отношениях гордой и трудной женщиной. Если верить Кэтрин Берни, самому раннему биографу Сары, миссис Гримке была набожной, ограниченной, скупой в проявлении материнских чувств к детям и зачастую жестокой в отношении рабов, применяя к ним суровые наказания. Насколько мне известно, она не налагала на своих рабов наказания с удавкой, но такое наказание в то время существовало, и Сара подробно описывала его, говоря, что оно применялось в «одном из первых семейств Чарльстона». Мое описание отца Сары, судьи Джона Гримке, как и событий его жизни, довольно близко к его биографии. Это же относится и к описанию любимого брата Сары – Томаса. Без сомнения, я много насочиняла о старшей сестре Сары, Мэри (маленькой госпоже), биография которой в основном неизвестна. Несмотря на то что в одном источнике ее называли незамужней, а в других супруг был неизвестен, я выдала ее за плантатора, а позже вернула домой вдовой. Она оставалась привержена рабству до самой смерти в 1865 году.
Я с глубоким волнением посетила дом Гримке на Ист-Бей-стрит. Дом датируется приблизительно 1789 годом, но мог стать собственностью Джона Гримке в год его женитьбы, в 1784-м. Дом оставался в собственности семьи до смерти миссис Гримке в 1839 году. Он хорошо сохранился до нашего времени, и сейчас в нем размещается юридическая фирма. Не исключено, что сохранилась первоначальная планировка дома и некоторые элементы интерьера: камины, кипарисовые панели, дельфтские изразцы, сосновые полы и лепные украшения. Бродя по дому, я представляла, как Подарочек сидит в эркере второго этажа и смотрит вдаль на гавань или как ночью Сара спускается по лестнице в библиотеку отца, а рабы в это время спят на полу у дверей спален. Меня пустили даже в мансарду, где я заметила лесенку, ведущую к люку в крыше. Не знаю, всегда ли там был этот люк, но я представила, как девочки Сара и Подарочек пролезают в него. Эта мысль подтолкнет меня к написанию сцены чаепития на крыше, где они делились секретами.
Исторический фонд Чарльстона оказал мне большую помощь, снабдив документом с описью и оценкой всех «вещей и движимого имущества», находившихся в доме Джона Гримке вскоре после его смерти в 1819 году. Изучая длинный и подробный перечень, я с изумлением натолкнулась на имена, возраст, обязанности и оценочную стоимость семнадцати рабов. Запись эта размещалась между брюссельским ковром и одиннадцатью ярдами хлопка и льна. Это открытие преследовало меня и в конечном итоге нашло дорогу в историю, где Подарочек раскапывает в библиотеке опись и находит там свое имя и имя Шарлотты, а также их предполагаемую цену.
Все персонажи-рабы в романе – плод моего воображения, за исключением заместителей Денмарка Визи. Это галла Джек, Манди Джелл, Питер Пойас, Ролла и Нед Беннетты. Всех, кроме Джелла, повесили за участие в подготовке мятежа. Сам Визи был свободным чернокожим плотником, чью жизнь, заговор, арест, суд и казнь я старалась изобразить приближенными к историческим источникам. Я не сочиняла удивительную историю его освобождения. Визи действительно выиграл в лотерею по билету с номером 1884, а потом купил себе свободу и дом на Булл-стрит. Честно говоря, у меня вряд ли хватило бы смелости сочинить такую вещь. В печати сообщалось, что Визи повесили в Блейкс-Лендс вместе с пятью сообщниками, но я предпочла отразить устную традицию, сохранившуюся у части чернокожих жителей Чарльстона с 1820-х и утверждающую, что Визи повесили в одиночестве на дубе, чтобы скрыть его казнь. Про Визи говорили, что у него по городу было несколько жен и что они прижили от него детей, поэтому я взяла на себя смелость сделать мать Подарочка одной из этих жен, а Скай – его дочерью.
Некоторые историки высказывают сомнение по поводу того, существовал ли на самом деле спланированный Визи мятеж рабов. Я, однако, придерживаюсь мнения, что Визи был не только способен разработать подобный план, но и попытался его реализовать. Я хотела с помощью этого романа выразить признательность многим рабам и свободным чернокожим американцам, которые боролись, сопротивлялись и погибли во имя свободы. Познакомившись из книг с протестом и побегами реальных рабынь, я смогла вылепить характеры и придумать истории Шарлотты и Подарочка.
На лоскутное одеяло семейной истории меня вдохновили великолепные одеяла Гарриет Пауэрс, рабыни из Джорджии, которая с помощью техники африканской аппликации передавала библейские предания и исторические легенды. Два ее лоскутных одеяла хранятся в Национальном музее американской истории в Вашингтоне, округ Колумбия, и в бостонском Музее изящных искусств. Чтобы увидеть одеяла Пауэрс, я совершила паломничество в Вашингтон, после чего убедилась, что рабыни, которым запрещалось читать и писать, находили окольные пути самовыражения, позволявшие им оживлять воспоминания и сохранять наследие африканских традиций. Я представляла, как Шарлотта, используя ткань и иглу там, где другие обходятся бумагой и ручкой, создает визуальное воспоминание в попытке уместить свою жизнь в одном лоскутном одеяле. Я провела захватывающие часы, читая о лоскутных одеялах рабов, о символах и художественных приемах в африканском текстиле. Черные треугольники, в частности, изображали крылья черных дроздов.
Если вы намерены ближе познакомиться с исторической подоплекой этого романа или узнать о лоскутных одеялах Гарриет Пауэрс, предлагаю вам подборку вполне читабельных книг.
The Grimké Sisters from South Carolina: Pioneers for Women’s Rights and Abolition, by Gerda Lerner.
The Feminist Thought of Sarah Grimké, by Gerda Lerner.
Lift Up Thy Voice: The Grimké Family’s Journey from Slaveholders to Civil Rights Leaders, by Mark Perry.
The Politics of Taste in Antebellum Charleston, by Maurie D. McInnis.
Denmark Vesey: The Buried Story of America’s Largest Slave Rebellion and the Man Who Led It, by David Robertson.
Africans in America: America’s Journey Through Slavery, by Charles Johnson, Patricia Smith, and the WGBH Series Research Team.
To Be a Slave, by Julius Lester, with illustrations by Tom Feelings (Newberry Honor book).
Stitching Stars: The Story Quilts of Harriet Powers, by Mary Lyons (ALA Notable Book for Children).
Signs & Symbols: African Images in African American Quilts, by Maude Southwell Wahlman.
Работая над «Обретением крыльев», я черпала вдохновение из высказываний профессора Джулиуса Лестера, листок с которыми был приколот к моему письменному столу: «История не просто факты и события. История также и душевная боль, и мы будем повторять историю, пока не сможем сделать чужую душевную боль своей».
Благодарности
Моя глубочайшая благодарность…
Энн Кидд Тейлор, чрезвычайно одаренной писательнице, которая читала и перечитывала данную рукопись в процессе работы, делая бесценные комментарии и веря в меня.
Дженнифер Рудолф Уолш, моему чудесному агенту и дорогой подруге.
Моим потрясающим редакторам Полу Словаку и Клер Ферраро, а также необыкновенной команде «Viking» за их безграничную поддержку.
Валери Перри, директору Дома-музея Эйкен-Ретт при Историческом фонде Чарльстона, которая уделяла мне уйму времени и оказала громадную помощь в исследовании.
Картеру Хадженсу, директору отдела охраны и образования в Дрейтон-Холле, Чарльстон, за то, что посвятил меня в жизнь и историю рабов.
Следующим учреждениям: Музею Чарльстона, Библиотечному обществу Чарльстона, Колледжу при библиотеке Эдлстон и исследовательском центре Эвери, Публичной библиотеке округа Чарльстон, библиотеке Южной Каролины, Дому-музею Эйкен-Ретт, Дому-музею Натаниэла Рассела, Дому Чарльза Пинкни, музеям «Старый невольничий рынок», «Плантация и сады „Магнолия“», «Плантация „Бун-Холл“», «Мидлтон-Плейс», а также Проекту по изучению генеалогии и истории афроамериканцев в районе Лоукантри, Южная Каролина.
Компании «Pierce, Herns Sloan & Wilson, LLC Chalestone», которая разрешила мне детально осмотреть историческое здание, некогда принадлежавшее семье Гримке.
Жаклин Колберн, служащей отдела редких книг в Библиотеке Конгресса в Вашингтоне, округ Колумбия, за ее огромную помощь в предоставлении мне ценных писем, газет, трудов конвенции Американского общества борьбы с рабством и других документов, имеющих отношение к Саре и Ангелине Гримке.
Дорис Боумен, куратору и специалисту по коллекции текстиля из Национального музея американской истории в Вашингтоне, округ Колумбия, за возможность попасть в Смитсоновские архивы, рассмотреть «Библейское лоскутное одеяло» Гарриет Пауэрс и получить о нем ценную информацию.
Нью-Йоркскому историческому обществу за предоставление доступа к документам о сестрах Гримке и Денмарке Визи, включая официальные отчеты о заговоре Визи и суде над ним.
Национальному центру железных дорог и метро в Цинциннати, давшему мне возможность изучить экспонаты и интерактивные объекты по теме рабства и его отмены.
Мэрили Берчфилд, библиотекарю из Университета Южной Каролины, за содействие в исследованиях.
Роберту Кидду и Келли Бейзик Кидд за помощь в исследованиях.
Скотту Тейлору за оказание терпеливой квалифицированной технической помощи, в особенности когда мой компьютер сломался.
Я безмерно благодарна замечательным друзьям, которые выслушивали мои сетования, проблемы и восторги по поводу написания этого романа и не переставали подбадривать меня: Терри Хелвиг, Трише Синнотт, Керли Кларк, Каролине Риверс, Сьюзан Халл Уокер и Молли Леман. Я благодарна также Джиму и Мэнди Хелвиг, которые вместе с Терри надолго стали моей большой семьей.
Каждый день я ощущала поддержку и любовь моих близких: родителей Ли и Ридли Монк, моего сына Боба Кидда и его жены Келли, моей дочери Энн Кидд Тейлор и ее мужа Скотта, моих внуков Рокси, Бена и Макса и моего мужа Сэнди, который со мной со времен колледжа, его мужество вдохновляло меня весь последний год. Никакими словами не выразить мою благодарность каждому из них.
Примечания
1
Денмарк (Denmark) – Дания (англ.).
(обратно)







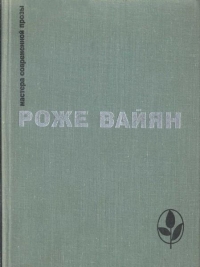
Комментарии к книге «Обретение крыльев», Сью Монк Кид
Всего 0 комментариев