Поль де Крюи (де Крайф)
Борьба с безумием
Paul de Kruif
A Man Against Insanity
Издательство иностранной литературы
Москва 1960
Предисловие
Имя Поля де Крюи (де Крайфа) хорошо знакомо советским читателям. Одна из его первых книг «Охотники за микробами» была переведена и выпущена у нас в 1927 году. С тех пор она переиздавалась тринадцать раз, и можно с полным правом сказать, что ею зачитывались поколения. Ее можно найти и на полке у каждого школьника и на рабочем столе ученого-биолога. Столь же тепло были приняты последующие его книги: «Борцы с голодом», «Борьба со смертью», «Стоит ли им жить» и другие.
В своих произведениях Поль де Крюи проявляет неподражаемое умение так рассказать о жизни и деятельности своих героев, чтобы вызвать у читателя сердечное понимание и сочувствие им.
Книгу «Борьба с безумием» писатель закончил в 1957 году, посвятив ее судьбе американского врача-психиатра, который взялся за разрешение одной из самых жутких проблем человечества.
Особенно остро проблема борьбы с психозами стоит в современной Америке, где, несмотря на новейшие методы лечения и строительство новых больниц, количество душевнобольных продолжает неуклонно возрастать.
Джек Фергюсон - главный герой повести - не относится к числу ведущих деятелей медицинской науки в США.
Он всего лишь рядовой врач, ординатор захолустной психиатрической больницы. Он не ученый, не сделал никаких особых открытий в психиатрии, не придумал новых, не известных до него лекарств.
«Он - незаметный труженик на своем посту и, уж конечно, не владелец психиатрического дворца, - говорит о нем де Крюи. - Он скромный труженик за медицинским верстаком и таковым навсегда останется. В нем чувствуется искреннее и безмятежное равнодушие к научной известности; в нем есть какая-то неуклюжая самобытность, редкая в наше время; он обладает даром Достоевского - проникать в глубины человеческого сердца. Он - человек...»
Джек Фергюсон показался де Крюи примечательным не только своей энергией и инициативностью, но прежде всего тем, что сам перенес длительное и серьезное психическое заболевание, воспоминание о котором побудило его свою дальнейшую деятельность посвятить борьбе с этим недугом. В эту работу он вложил не только свои знания и свой незаурядный ум, но и редкий в условиях «американского образа жизни» гуманизм. Он искренне и глубоко любит находящихся на его попечении душевнобольных. Когда Джек Фергюсон сам сидел в палате психиатрической больницы, врачи уже были готовы применить к нему «лоботомию» (рассечение лобных долей мозга), которая хотя и успокаивает больных, но лишает их навсегда энергии, инициативности, заботы о будущем и интеллектуальной одаренности. Как раз эти качества больше всего понадобились Фергюсону в его работе. Они сделали из него ту зна* чительную разностороннюю и творчески одаренную личность, о подвигах которой с такой любовью и восхищением рассказывает де Крюи.
Самым новым и оригинальным в работе Фергюсона была его смелая попытка «по-настоящему» излечивать «неизлечимых» хроников, обреченных на многолетнее прозябание в стенах таких кладбищ человеческих душ, каким было до Фергюсона его отделение. Если учесть, что он был единственным врачом на тысячу таких безнадежных хроников, то его успехи в лечении покажутся подлинным чудом.
Де Крюи правильно определил основу его лечебного метода. Это - химия в сочетании с тонкой клинической интуицией и с любовью. Под словом «любовь» надо понимать высокогуманное отношение к больным, когда в них видят не только сумасшедших, но и живых людей. У каждого из них под внешней оболочкой тупости или дикого буйства скрывается своя особая психическая жизнь. Пусть она темная, причудливая и запутанная, но при внимательном и чутком подходе к больным ее можно как-то понять и воздействовать на нее в желательном направлении.
Думается, что, подобно «Охотникам за микробами» и другим произведениям Поля де Крюи, эта книга найдет в советских читателях добрых друзей, которые с интересом и живым участием отнесутся к необычной судьбе американского психиатра, отдающего всего себя на борьбу с «безумием».
П. М. Зиновьев, старший научный сотрудник Института психиатрии Академии медицинских наук СССР
Посвящается Рии де Крюи
Благодарю вас, Джек, Мэри, и Билл Лорени, и Говард Фабинг, и Кен Пэйн
Глава 1
По профессии Джек Фергюсон - врач, а его специальность - лечение сумасшедших. Однако себя он считает обыкновенным практикующим врачом, домашним доктором, каким он и был шесть лет тому назад. В 1950 году Фергюсон сам сидел под замком в психиатрической больнице, и казалось, что его песенка уже спета. Но затем - и я по сей день затрудняюсь объяснить происшедшее с точки зрения формальной медицины... он выздоровел. Он вышел оттуда не то чтобы абсолютно нормальным, а каким-то обновленным: он стал бесстрашен, настойчив, хладнокровен - таким он раньше никогда не был. Испытав на самом себе все «прелести» жизни психически больного, он ринулся на борьбу с безумием у других. С помощью новых нейрохимических средств он берется лечить больных, которые признаны уже безнадежно сумасшедшими, и добивается поразительных результатов. Некоторые, быть может, причислят Фергюсона к тому новому типу клиницистов-химиков, врачей-футуристов, которые верят, что психическая болезнь-это химический сдвиг, до известной степени поддающийся изменению, исправлению и, быть может, излечению. Но врач-химик - это только одна сторона этого человека. Свою клиническую интуицию - очень тонкую - он комбинирует с другим совершенно ненаучным лечебным приемом - с любовью. Он - жрец нежной, любовной заботы. Щедро и без разбора изливает он свою любовь на того, кто не может ужиться сам с собой или с другими, на грешников и преступников, на буйных и тихо скорбящих. Плохих людей для него не существует - все они прежде всего больные.
Итак, Джек Фергюсон - доктор нового образца, домашний врач-химик.
Учтите, что он отнюдь не видный психиатр, вроде братьев Меннингер, которые в настоящее время занимают в психиатрии то же положение, какое занимают в хирургии братья Мэйо. Он - незаметный труженик на своем посту и, конечно, не владелец психиатрического дворца. Он скромный труженик за медицинским верстаком и таковым навсегда останется. В нем чувствуется искреннее и безмятежное равнодушие к научной известности; в нем есть какая-то неуклюжая самобытность, редкая в наше время; он обладает даром Достоевского - проникать в глубины человеческого сердца. Он - человек...
И я не встречал еще более смелой и красивой мечты, чем мысль Фергюсона о том, как можно помочь сумасшедшим людям. Возможно, это неосуществимо. Это может оказаться непрактичным. Но мы ведь ценим своих пророков главным образом за мечты, а не за дела. Лично мне метод Фергюсона представляется своеобразной смесью научной и духовной истины; это и толкает меня на попытку рассказать о нем, пока он еще жив и сможет помочь мне рассказать все точно и правдиво.
Есть и другая, глубоко личная причина, которая заставляет меня углубиться в темную и причудливую историю его жизни. Когда я начал понимать, что именно является его движущей силой, на меня нахлынула волна тоски по ушедшему прошлому. С грустью вспомнил я первых своих героев - старых охотников за микробами, суровых гениев-одиночек, таких, как Антоний ван Левенгук, торговец мануфактурой, или Роберт Кох, бесстрашный маленький сельский врач. Оба они с предельной честностью сообщали только о том, что видели в природе собственными глазами.
В этом смысле Фергюсон похож на них.
Я уж начал было думать, что эта порода людей совсем исчезла. Все реже и реже встречаются подобные исследователи в наши дни, когда лабораторные помещения становятся и все шире и богаче; когда все выше и щедрее оплачиваются труды ученых, работающих над открытиями, которые им заказаны; когда каждая проблема приобретает так много аспектов, что одному человеку не под силу с нею справиться, а требуется для этого целый коллектив (которым, естественно, кто-то должен руководить); когда научные журналы становятся все толще и толще, но их необходимо читать, чтобы держаться на уровне современных знаний, и ваши глаза уже утомлены, прежде чем вы соберетесь оглянуться на собственную работу.
Это говорится не в порядке критики; таковы методы современной науки. Но эти методы, конечно, не для Фергюсона. Он и не думает погружаться в глубины научных тайн. Он остается на мелководье, на поверхности, присматриваясь к тому, как новые лекарственные средства влияют на человеческие причуды и капризы; он вооружен только острым глазом и ясной головой,
У Фергюсона есть еще и другая черта, влекущая мою мысль в прошлое, к моим старым охотникам: он - мечтатель. Он верит, что ему удастся создать иной мир, новый мир, чудесный мир для всех нас. Этим он напоминает Пас-. тера, который сказал: «Во власти человека стереть с лица земли все паразитарные болезни». Это - более, чем наука. Это - сам Бетховен, это - трубный звук надежды.
Поскольку сам Фергюсон старомоден, постольку же его экспериментальная база кажется мало вдохновляющей. Одни лишь печальные, зловещие, наглухо запертые палаты больницы на три тысячи коек составляют его лабораторию. Его аппаратура? Только собственные глаза и руки плюс глаза и руки сотни с лишним сестер-надзирательниц, которые великолепно ему помогают, потому что, как он с гордостью говорит, «все они имеют высшее образование или равноценное ему».
Каковы же его опыты? Они - скромнее скромного; они состоят лишь в том, что Фергюсон и его сестры внимательно следят за малейшим, иной раз жутким, часто изумительным, иногда фантастическим действием нейрофармакологических средств, фабрикуемых сотнями химиков в десятках лабораторий по обе стороны Атлантического океана.
Фергюсон со своими остроглазыми леди тщательно регистрируют действие этих новых лекарств: возбуждают или успокаивают они сотни слабоумных, подозрительных, боязливых, несущих вздор, дико завывающих, иногда опасно буйствующих созданий, потерявших человеческий облик и признанных неизлечимыми. А результаты?
- Мы настолько изучили эти новые лекарства, - говорит Фергюсон, - что для нас не существует ненормального поведения, которое не поддалось бы контролю или исправлению.
- И только благодаря вашему хорошему знанию новых лекарств? - спросил я.
Круглое, красное лицо Джека Фергюсона запылало огнем. Ему стало стыдно, что я так поддел его.
- Нет, конечно, - согласился он. - Эти новые химикалии только начинают оттеснять больных к реальному миру. Нежная, любовная забота наших сестер, убеждающих их в возможности снова стать людьми, возвращает им разум - многим из них полностью.
Читая странную историю, которая последует ниже, читателю следует учесть (и самому себе я должен об этом напоминать), что секрет работы Фергюсона только частично можно считать научным.
Это - химия плюс Фергюсон.
Ученые-критики, может быть, встретят улыбкой его кажущуюся наивность, его веру в то, что помешательство, правонарушения, неприличные поступки и приличные злодейства надо рассматривать только как «ненормальное поведение». Однако у него есть предшественники. Освободить общество от людей дурного поведения - это, конечно, одно из древнейших человеческих побуждений. В этом Фергюсон не одинок.
С доисторических времен медики пытались вытравить ненормальное поведение из человеческого быта. Тюремщики старались изгнать его с помощью пыток и смерти. Святые, проповедники религии и пророки личным примером и своими учениями стремились добиться успеха в борьбе с ненормальным поведением. Психиатры хотели убеждениями изменить ненормальное поведение умалишенных.
Врачи с помощью химии или электричества вколачивают в больных нормальное поведение, вызывая у них припадки ужасающих судорог. Нейрохирургам удается успокаивать психически больных рассечением нервных связей в мозгу - для этого больным просверливают черепа или проникают через глазные впадины инструментом, похожим на маленький ледоруб.
Что же является показателем эффективности лечения у этих больных? Только лучшее поведение. Это как раз то, чего добивается Фергюсон.
Но Фергюсон отличается от своих предшественников глубоким чувством внутренней неудовлетворенности. Сельский врач в нем протестует против ужаса шокового лечения и калечащего действия ледового топорика, который, словно тараном, пробивает ткань над глазным яблоком, чтобы ворваться в мозг больного. Фергюсон знает, что все это вызвано необходимостью. Он знает, что жестокость этой науки свидетельствует лишь об отчаянии людей, которые борются с тяжелыми формами психозов. Но Джек Фергюсон знает также, что эти жестокие методы лечения не могут быть ответом на задачу борьбы с безумием, борьбы, в которой должны участвовать не только психиатры и хирурги, но и все врачи без исключения. В свое время он сам применял эти методы и установил при этом одну простую и глубокую истину.
Поскольку это лечение помогает некоторым, казалось бы, совершенно безнадежным больным, значит, нет такого поведения, которое нельзя было бы изменить. Как за соломинку, хватался он за каждый случай излечения психозов более мягкими способами. Так, например, женщина, окончательно сошедшая с ума, погибавшая от пеллагрического слабоумия, получила несколько массивных впрыскиваний никотиновой кислоты и через неделю выписалась из больницы с совершенно ясной головой. Ее помешательство было вызвано отсутствием или недостачей определенного химического вещества.
Но ведь не со всеми психозами дело обстоит так просто. Если кривая заболеваемости инфекционными болезнями систематически понижается, то с психозами дело обстоит как раз наоборот - она неуклонно ползет вверх. И, однако, Джек Фергюсон настроен оптимистично. Не слишком ли оптимистично?
- Если бы химики смогли дать Фергюсону лекарства, которые разгрузят больницу в течение недели, - говорит директор больницы доктор М. М. Никельс, - то через пару месяцев у нас вновь будет полно больных.
Никельс подчеркивает, что за стенами больницы находится ужасающее количество душевнобольных. Но Фергюсон посмеивается над пессимизмом своего шефа. Он тянет все ту же немудреную песенку:
- Нет ненормального поведения, которое мы не могли бы взять под контроль или исправить.
Доктор Ник чрезвычайно гордится Фергюсоном. Он знает, что сотни больных, признанных раньше неизлечимыми, выписаны и отправлены домой. Он знает, что больше половины из тысячи больных фергюсоновского отделения не могут уйти из больницы только потому, что у них или нет дома, или их там не ждут.
- Я знаю, конечно, что за стенами психиатрических больниц больше сумасшедших, чем в самих больницах, - соглашается Фергюсон. - Но ничего! Скоро, очень скоро простые домашние врачи сами смогут остановить приток больных в наши больницы.
Мурашки забегали у меня по спине. Тень старика Пас-тера! Тени старых охотников за микробами! Вот еще человек, одержимый иллюзиями, несбыточными мечтами. И мне почему-то стало больно за Фергюсона. Домашние врачи должны остановить разгорающуюся в стране эпидемию безумия, погасить этот страшный пожар, выполнить задачу, над которой безуспешно бьются крупнейшие психиатры. Я смотрел на Фергюсона и поражался.
По пути домой я спрашивал себя, кто такой, собственно говоря, этот Фергюсон? Никто. Признаюсь, что я несколько заражен благоговейным трепетом перед учеными-медиками, имеющими право представлять старую школу. Кто слышал когда-нибудь об этом человеке, который не имеет даже диплома как специалист-психиатр. Сам Фергюсон говорит, что он только домашний врач. И этот никому не ведомый врач-практик беззастенчиво уверяет, что рядовые врачи-практики должны разрешить одну из самых жутких проблем медицины.
Фергюсон стал раздражать меня. Он казался мне неотесанным, малокультурным парнем, явившимся прямо с фермы. Я разбирал его по косточкам. Говорит он неважно. Его грамматика оставляет желать много лучшего. Для человека в сорок семь лет его положение в научном мире мало внушительно. Он всего лишь рядовой врач психиатрической больницы в Траверз-Сити, штат Мичиган, а кому эта больница известна?
В его биографии тоже мало утешительного. До последнего времени он был, что называется, перекати-поле. Если бы Who is Who вздумал его зарегистрировать, чего, разумеется, не случилось, он мог бы рассказать, что работал шлаковщиком на сталелитейном заводе, паровозным кочегаром на железной дороге Монон, буфетчиком, страховым агентом, разносчиком виски и не раз был на лечении в психиатрической больнице.
Среди 160000 безвестных американцев он тоже получил диплом врача, но добился: этого только на сороковом году жизни после восемнадцатилетних тяжелых трудов. Затем он год проходил обязательную интернатуру в больнице и полтора года с феноменальным успехом подвизался в роли сельского врача. Но вдруг Фергюсон сорвался и попал под замок в изолированную палату дома умалишенных.
И вот теперь, в сорок семь лет, он перешагнул уже за тот возраст, когда человек способен сделать крупное научное открытие, - так по крайней мере говорят психологи.
И все же Фергюсон интересовал меня. Не только как врач, но и как человек. Он - сама откровенность.
- Если вы собираетесь писать о моей работе, - сказал он, - то вам надо бы прежде всего узнать мои плохие стороны. Помимо всего прочего, я был наркоманом-барбитуркстом.
Он сказал это таким тоном, будто речь шла о другом человеке.
- Меня засадили в больницу, потому что я был в агрессивном состоянии, - объяснял Фергюсон. - Я пытался убить самого себя, потом свою жену Мэри. Надо же быть таким идиотом! У меня были зрительные галлюцинации.
Я внимательно посмотрел на Фергюсона, сидевшего передо мной с тихим, безмятежным выражением лица. Он и не подозревал, что один знакомый доктор предупредил меня, что Фергюсон не только в прошлом, но и сейчас увлекается барбитуратами. Поблагодарив Джека за рассказ о своей жизни, я сообщил ему об этом предупреждении.
Фергюсон нисколько не возмутился этой сплетней.
- Доктор, очевидно, не знает, что я бросил это дело уже пять лет назад, -- сказал он с понимающей, доверительной улыбкой.
Не хотите ли познакомиться с Джеком Фергюсоном? Могу вам его представить: большой, плотный, широкоплечий, тип портового грузчика, очень моложавый для своего возраста, с тихой, размеренной речью, с красной кожей, обветренной на свежем воздухе Северного Мичигана; темные, блестящие глаза на широком открытом лице смотрят на вас прямо и честно - глаза незлобивого и уравновешенного человека. Фергюсон мог бы сойти за простого домашнего врача со стоптанными подошвами, который любит людей такими, как они есть. Говорит он нараспев, немного гнусавит.
- Ваш знакомый знает обо мне только наполовину, - сказал Фергюсон. - Я был настоящим ублюдком, - так образно он выразился. И. чтобы доказать это, он продержал меня однажды целый вечер, рассказывая ошеломляющую историю своей жизни. Но об этом ниже - когда буду говорить об его образовании. Тогда же, слушая его, я подумал о том, какое важное значение для его работы могло иметь это бурное прошлое. И вот сидит передо мной Джек Фергюсон, спокойный, но активный, эмоционально выдержанный. Имел ли этот человек хоть какое-нибудь основание, чтобы затеять свою химическую войну против ненормального поведения?
Пожалуй, имел. Ведь он на собственной шкуре испытал, что значит быть безнадежным сумасшедшим и потом выздороветь.
У Фергюсона, как психиатра-исследователя, есть еще одно преимущество. Больница в Траверз-Сити как раз подходящее место для такой работы. Это закрытая больница, совершенно не предназначенная для научных исследований. А крупные медицинские открытия редко выходят из больниц, специально намеченных и оборудованных для такой цели, подобно тому как крупные медицинские открытия редко выходят из рук ученых, намеревающихся их сделать. Работая в закрытой больнице, незаметный Фергюсон обладал в борьбе с дурным человеческим поведением не меньшими возможностями, чем всякий другой. А может быть, и большими.
Прошлой осенью (1955 г.) он начал мне показывать, как он атакует проблему, сводя все психические болезни к вопросу о ненормальном поведении. Он напомнил мне моего шефа Босса Кэттеринга, который утверждал: «Когда проблема разрешена, она кажется простой». Тот же Кэттеринг, смеясь, говорил: «Нет ничего более загадочного, чем очевидное». Фергюсон не старается проникнуть взглядом сквозь очевидное. Он интуитивно останавливается на его вершине.
Как медик-преподаватель, Фергюсон не заставляет меня заучивать мудреные медицинские термины. Много лет подряд, причисляя себя к большому и печальному контингенту американцев, еще не запертых в дома умалишенных, я пытался изучать фундаментальные труды по психиатрии, отыскивая в них хоть тень надежды на то, что мне удастся отсрочить день, когда санитары придут и заберут меня. Но страшные психиатрические термины, определяющие различные виды поведения, сильно травмировали мою психику. Я бросил это дело.
Джек Фергюсон отлично знает все, что касается шизофрении и разных ее форм - кататонии, гебефрении, расщепления личности и параноидной формы. Он может объяснить вам разницу между реактивной и эндогенной депрессией и рассказать, чем они отличаются от настоящей инволюционной меланхолии и депрессивной фазы подлинного маниакально-депрессивного психоза.
Но в своей работе Джек как бы хочет пробиться сквозь туман этого жаргона, который сам по себе едва ли многим вернул психическое здоровье, и открыть путь своей собственной идее о сущности психических заболеваний. В чем же эта сущность?
В ненормальном поведении. Из-за этого и только из-за этого больных забирают в дома умалишенных. Ребенок может заметить это в своем отце или матери, в брате или сестре. Это то, что приводит в отчаяние домашних врачей, когда они замечают это в своих пациентах.
Ввязаться в борьбу с подобным злом - при всей мягкости речи и ангельской улыбке Фергюсона - было с его стороны отчаянной смелостью. В качестве экспериментальной базы для всего Северного Мичигана он приспособил самые отдаленные, наглухо запертые, специально оборудованные палаты своей больницы. Здесь прозябали - слово «жили» для них не подходит - обломки человечества, по больничному прозвищу «коты да собаки», хронические больные, не поддававшиеся никаким видам лечения, печальный арьергард людей без надежды. Легкие или ранние случаи психозов Фергюсону не годились.
В этом отношении он напомнил мне доктора Джулиуса Вагнер-Яурегга, который в 1917 году, как и Фергюсон, отбирал для лечения только тех больных, которым грозила неизбежная, стопроцентная смерть от прогрессивного паралича. Он выжигал сифилис из их мозга огнем малярии и впервые в истории медицины вернул горсточку обреченных паралитиков к нормальному поведению, к семье и работе.
Свой знаменитый опыт австриец поставил над больны-г.:и, обреченными на верную смерть, ибо такова неотвратимая природа общего паралича слабоумных. А у Фергюсона? Среди тысячи с лишним больных в его отделении было некоторое количество душевнобольных с начальной формой заболевания - те случаи, которые успешно излечиваются инсулином или электрошоком. Поскольку Фергюсон задумал пустить в ход новые успокоительные и возбуждающие лекарства, почему он не попробовал сначала испытать их действие на больных с ранней формой болезни? Почему он не дал возможности этим новым средствам быстро завоевать признание и успех?
Причиной того, что он этого не сделал и отбирал для опыта только неизлечимых, является честность и крайняя научная щепетильность Джека Фергюсона.
Многие больные с начальной формой часто дают ремиссии или выздоравливают без всякого лечения. А уж эти несчастные из отдаленных палат не позволят новым лекарствам обмануть Фергюсона. Если безнадежные больные будут излечены, то уж наверно можно считать, что лекарства действуют. То, что стало затем происходить с этими жалкими созданиями, и является темой моего рассказа.
Но это еще не вся тема. Мы знаем, что и в других больницах после применения новых лекарственных средств отпускают под наблюдение семьи многих душевнобольных в разных стадиях болезни, и Фергюсон отнюдь не является единственным наблюдателем удивительного действия новых лекарств. Почему же тогда я выделяю именно его, как человека, поднявшегося на борьбу с безумием? Вот что он видит в моменты вдохновения, которое скорее можно назвать поэтическим, нежели научным.
Он видит скопище людей в стенах своей больницы; он видит беспокойных, сварливых, обозленных, угрюмых, подозрительных, глупых, порочных, неопрйтных, непристойных, склонных к самоубийству, одержимых мыслью об убийстве... Он видит дурное поведение своих больных и рассматривает это только как преувеличение, карикатуру на ненормальное поведение здоровых людей, находящихся вне больницы, на свободе.
Он знает, что новые лекарства плюс нежная любовная забота могут изменить судьбу его больных, которые считались безнадежными. Он предвидит, что может дать - подчеркиваю, может дать - любовь плюс химикалии еще не запертым в больницу психически больным. Он хочет передать этот метод в руки домашних врачей.
Поскольку я уже старик и порядочный скептик, не берусь предсказывать, доживет ли Джек до осуществления своей мечты. Может быть, медицинская профессия окажется неспособной держать шаг наравне с ним. Но возможно, что врачи все же поймут животворность идей Фергюсона. Если его химикалии плюс любовь смогут превращать ненормальное поведение в нормальное, это будет означать, что не помещенный в больницу психотик сможет_лучше уживаться с другими и самим собой (так Фергюсон опрделяет слово) «нормальный»). А способность уживаться с другими и самим собой сделает людей более счастливыми. Но слова «счастье» в науке не существует, Вы не найдете его в медицинском словаре Дорлэнда. Когда человек чувствует себя удовлетворенным и живет мирно с самим собой и с другими, это еще не значит, что он счастлив. На медицинском языке таких людей не называют счастливыми, их считают «эйфоричными», что в вольном переводе означает «якобы счастливые».
Но его мечта о верном рецепте для человеческого счастья гонит Фергюсона вперед. Он знает, что рядовые врачи в массе своей не строго научны и не узко материалистичны; в глубине души они сознают, что удалить аппендикс, или вылечить от пневмонии, или показать другие удивительные трюки, припрятанные в их портфелях, кабинетах и больницах, - этого еще недостаточно, чтобы сделать больных и их семьи по-настоящему здоровыми. Я чуть было не сказал - счастливыми.
Глава 2
К концу моего первого визита в больницу Траверз-Сити Фергюсон спросил меня:
- Как попали сюда все эти больные? Почему их, по-вашему, к нам прислали?
- Как почему? Потому что они психически больны, - ответил я. - Потому что они параноики, или маниакально-депрессивные, или меланхолики...
- Полегче с умными словами, - прервал меня Фергюсон, улыбнувшись на мой залп психиатрических терминов. Он швырнул на конторку пачку исписанных под копирку карточек с теми жалобами, по которым больные были стационированы.
- Взгляните вот на это, - сказал он, - и увидите, как вы ошибаетесь.
Я перелистал эти выразительные свидетельства семейных трагедий: «Она срывает с себя одежду», «Приходится кормить ее с ложечки», «Она не знает, где находится умывальник», «Мы всячески стараемся, но не можем содержать ее в чистоте», «Опасаемся, как бы она не подожгла дом», «Она непрерывно плачет и молится», «Она стала невыносимой. Ругает нас. Бросается на нас. Мы боимся, как бы она нас не убила».
Фергюсон сказал:
- Вы видите, что их привело сюда только ненормальное поведение.
- Но в их карточках ведь сказано, что они шизофреники, параноики и прочее, - возражал я.
- Это для отчетов, для статистики, - сказал Фергюсон с таким видом, будто это предназначалось для птиц небесных. - Наклеить на больного ярлык с мудреным диагнозом - это мне ничуть не помогает их лечить.
Это было вызывающим пренебрежением - и в не очень грамотной форме - к первому и обязательному закону научной медицины, который гласит, что вы должны назвать болезнь латинским или греческим термином, чтобы лечить ее согласно требованиям науки. Меня начинала раздражать эта сверхпростота Фергюсона, а он, как бы читая мои мысли, сказал:
- Может быть, мы здесь и не очень ученые люди. Мы, конечно, не похожи на тех, которые сидят в больших научных учреждениях. Но мы ведь лечим не болезни - мы стараемся лечить больных людей.
Затем, как бы извиняясь за свою психиатрическую малограмотность, Фергюсон сказал самым примирительным тоном:
- И вы и я, мы оба понимаем, что психическая болезнь - это нечто гораздо большее, чем ненормальное поведение, которое мы пытаемся здесь лечить.
По пути домой из Траверз-Сити - от Джека Фергюсона и его излеченных пациентов, еще недавно считавшихся безнадежно сумасшедшими, - возвращаясь в тишину Уэйк-Робина, я не переставал раздумывать над этим признанием Фергюсона: «Психическая болезнь - это нечто гораздо большее, чем ненормальное поведение, которое мы пытаемся здесь лечить». Да, но насколько большее? Насколько больше того, что можно установить как факт, признаваемый всеми честными и аккуратными людьми? Насколько больше того, что можно взять в руки, обхватить - вот как я могу обхватить большой стол, за которым пишу? Эти размышления увели меня на сорок лет назад, к 1916 году, когда был установлен один маленький факт, вернее сказать обрывок факта. Этот факт, насколько мне известно, был первым проблеском надежды в печальной науке о лечении психозов, причины которых никому не были известны и вплоть до сегодняшнего дня остаются глубокой тайной.
Установил этот факт доктор Вильгельм Ф. Лоренц, сильный и мудрый доктор, ныне здравствующий и деятельный, уединившийся в лесной глуши Северного Висконсина. В те дни, сорок лет назад, Лоренц был профессором нейропсихиатрии в Висконсинском университете. Билл Лоренц_- бруклинский немец с чуть заметным бруклинским акцентом, с квадратной челюстью, квадратной головой и острыми, холодными глазами генерала танковых войск. В психиатрии Лоренц - органик; это значит, что он охотится только за осязаемыми фактами, только за вещами, которые можно взять в руки, а не за громкими словами, которые могут иметь пятьдесят значений для пятидесяти человек. Лоренц, солидный, флегматичный немец, совершенно не походит на пылкого, впечатлительного ирландца Фергюсона. И все же у Лоренца манера атаковать тайну психозов та же, что у Фергюсона. Я никогда не думаю об одном, чтобы не вспомнить другого. Лоренц - определенно предтеча Фергюсона, хотя они и не встречались.
Лоренц - откровеннейший человек без претензий на какую-то особую научную прозорливость. Он со смехом рассказывает, как его удивило собственное открытие. Он скромно называет его не открытием, а наблюдением - случайным и совершенно непреднамеренным. Но вам уж хочется поскорее узнать, в чем заключался этот маленький лоренцовский фактик, или, вернее, случай, который еще никогда не встречался в человеческой истории.
Что за случай?
Внезапно наступивший период ясного сознания у безнадежного сумасшедшего.
Друг Лоренца, ныне покойный фармаколог доктор Артур С. Лёвенгарт, попросил дать ему психотика, который настолько потерял разум, что живет уже чисто растительной жизнью. Лёвенгарт изучал действие различных химикалиев, возбуждающих дыхательный центр при введении их в кровь. Лёвенгарту нужен был совершенно тупой и слабоумный субъект, который не дал бы так называемого психологического эффекта, то есть не стал бы дышать глубже в тот момент, когда игла входит в вену и химическое вещество еще не попало в кровь.
И вот в распоряжении доктора оказалось как раз то, что ему требовалось, - человек, долгие годы страдавший «ранним слабоумием», - устарелое название для целой группы психозов, ныне известной под новомодным словом «шизофрения». Больной, предоставленный Лоренцом Лёвенгарту, был безмолвным, неподвижным человеком с глазами, либо закрытыми, либо бессмысленно вытаращенными. У него не было никакого контакта с реальным миром. Это был яркий пример умственного распада, образец далеко зашедшей непоправимой дегенерации. Короче говоря, несчастный потерял разум окончательно и бесповоротно.
В вену на руке этого экс-человеческого существа ввели небольшое количество совершенно безвредного раствора цианистого натрия. Все протекало так, как требовалось доктору: больной и глазом не моргнул, ни один мускул на его лице не дрогнул. Он был в состоянии полного оцепенения. Вы же понимаете - за долгие годы он не произнес ни слова.
И вот, когда цианистый натрий достиг дыхательного центра в мозгу этого человека, он стал дышать полнее и глубже, глубже и быстрее, и доктор Лёвенгарт с довольным видом погрузился в измерение глубины дыхания. Стоявший тут же Лоренц радовался, что смог угодить Лёвенгарту...
И вдруг больной сказал: «Алло».
Когда этот тупой, годами молчавший человек стал дышать глубже, он вышел из своего кажущегося слабоумия. По мере того как он дышал глубже и глубже, глаза его открывались шире, он посмотрел на Билля Лоренца, и тот увидел луч света в этих глазах, так долго остававшихся пустыми и мертвыми. Лоренц заметил проблеск разума на лице этого человека, который казался конченным навсегда.
Человек улыбнулся Лоренцу и на заданный ему вопрос внятно произнес свое имя.
- Где вы находитесь? - спросил Лоренц.
- В Висконсинском институте психиатрии, - ответил человек, который молчал много лет подряд.
Три, четыре, пять минут этот немой человек разговаривал совершенно нормально, будто никогда и не был умалишенным. Затем, по мере того, как действие цианида ослабевало и дыхание становилось спокойнее, разговор его стал переходить в невнятное бормотание. Глаза снова стали мертвыми. Таким образом, ничего, в сущности, не произошло. В лучшем случае можно было говорить о пятиминутном излечении неизлечимого безумия. Но для Лоренца это открыло новый мир.
Он увидел, как с помощью химического вмешательства поднялась завеса и восстановилось здоровье, все время скрывавшееся в мозгу, который, по всем клиническим данным, считался мертвым и погибшим.
То, что Лоренц увидел сорок лет назад, не было простой случайностью. Ибо он снова и снова повторял свой эксперимент на том же больном и на других безнадежных шизофрениках. Вводился цианистый натрий - и дыхание сразу становилось глубже. Глубокое, ускоренное дыхание влекло за собой рассвет, а потом яркий полдень светлого сознания. Затем снова сумерки и черная ночь, когда глубокое дыхание замирало. Миллионам психически больных это, конечно, ничего не давало. Нельзя же держать людей в нормальном состоянии на уколах цианида.
Этот забытый эксперимент давал Лоренцу возможность заглянуть в приоткрытую дверь на то, что так привлекало своей неожиданностью. Затем дверь захлопывалась перед носом исследователя. Это было издевательством; это было жестоко; это были муки Тантала. Лучше уж было совсем не натыкаться на это глупое открытие. Из милосердия к несчастным больным Лоренцу следовало бы забыть о своем открытии. Ни то, ни другое для Лоренца было не приемлемо. Он был пророком...
У Лоренца сорок лет тому назад крепко засела в голове мысль о том, что легкий сдвиг окислительной реакции в мозговых клетках, химический сдвиг, вызванный глубоким дыханием, может навести временный порядок в разлаженном химическом хозяйстве больного мозга. Что такое безумие? Это нарушение химизма нормального, здорового мозга. В мозгу у самого тяжелого психотика сидит здоровье, но в замаскированном виде. Безумие - это химическая проблема.
Эта теория завладела Лоренцом на всю жизнь. Больше того, она послужила толчком для планомерной химической войны с безумием. Именно это подразумевал Джек Фергюсон, когда сказал, что в психическом заболевании есть нечто большее, чем ненормальное поведение.
Вскоре после своего малопрактичного открытия, которое давало возможность получать пятиминутное просветление у человека, годами болевшего неизлечимым психозом, Билль Лоренц был втянут в повальное безумие первой мировой войны со всеми ее последствиями. Пришлось на годы оставить свои научные опыты. Кроме того, как врач-органик, веривший только в факты, а не в слова, он оказался идущим не в ногу с новым направлением в психиатрии. Во многих медицинских школах все больше и больше распространялось убеждение, что безумие - это не химическая, а психическая проблема. Какова причина шизофрении? Причина, утверждали Великие Моголы психиатрии, чисто психическая. На языке громких слов это означало, что причина мозгового заболевания коренится только в сознании. Но что такое сознание? Это нечто совершенно не осязаемое. Его нельзя ни услышать, ни увидеть, ни понюхать, ни прикоснуться к нему. Это не химическое, и не физическое, и уж, во всяком случае, не материальное понятие. Оно не имеет твердой локализации в организме. Сознание - это неясный, неустойчивый, вечно меняющийся итог деятельности головного мозга.
Вот почему учение о том, что мозговое заболевание существует только в сознании, было пустой фантазией для реалиста в науке, искателя твердых фактов Билла Лоренца.
Несколько лет Билл возился в одиночку, размышляя о факте пятиминутного просветления у обреченных, неизлечимых больных. Но вот Артур Лёвенгарт, старый его партнер в эксперименте с цианистым натрием, пришел к Биллу на выручку.
- А что, если другие вещества, стимулирующие дыхание, дадут тот же, может быть, даже лучший эффект, чем наш цианид? - сказал Лёвенгарт.
В 1928 году Лоренц и Лёвенгарт открыли, что простая дыхательная смесь углекислоты с кислородом, вводимая через наркотическую маску, вызывает эффект просветления у целой группы отупевших, глубоко депрессированных психически больных и у немых, остолбеневших кататоников (ученое слово, определяющее одну из форм шизофрении). Особенно же взволновало Лоренца то обстоятельство, что период просветления тянулся гораздо дольше, чем после введения цианистого натрия.
На некоторых - но, конечно, не на всех - кататоников ингаляция углекислоты с кислородом оказывала прямо-таки волшебное действие. Они оживали, начинали ходить. Они распрямлялись, разминали онемевшие конечности. Их бледные, землистые лица приобретали здоровый, розовый цвет. Их глаза, скрытые судорожно сомкнутыми веками широко открывались и светлели, словно они видели, как темный мир безумия преображался в светлый, яркий мир здоровья Они становились оживленными. Они подмигивали Биллу Лоренцу, как бы говоря ему:
- А вы считали меня сумасшедшим!
Они оставались здоровыми целых тридцать минут.
«Психопатические реакции будто полностью исчезают, - писал Лоренц. - Мысли и интересы больных кажутся поразительно нормальными».
Это чудо Лоренц и Лёвенгарт совершили в двадцатых годах и я опять-таки вспоминаю слова Джека Фергюсона, сказанные позавчера: «Психическая болезнь - это нечто большее, чем ненормальное поведение, которое мы пытаемся лечить в Траверз-Сити».
Изменяя окислительные процессы в нейронах, мозговых клетках, можно вернуть здоровье ненормальному мозгу.
Иногда это удается. Но, увы, на чрезвычайно ограниченный срок.
В 1928 году Лоренц установил, что при помощи этих ингаляций можно просветить сознание некоторых сумасшедших примерно на тридцать минут, И вот он задумал один внушавший надежду и, по его мнению, очень разумный эксперимент, хотя, как мы уже знаем, этот человек весьма скептически относился ко всяким экспериментам, кажущимся1 разумными. Вот как он рассуждал: ингаляции делают этих людей здоровыми, понятливыми, способными воспринять наставление и ответить на вопрос, что именно в самом начале взволновало и свело их с ума.
- Больные ведь сами рассказывают о прошлых переживаниях, которые могли стать предпосылкой для глубокой депрессии, - рассуждал Лоренц.
Так почему бы не обратиться к их сознанию в эти драгоценные минуты просветления? Почему не испробовать психотерапию? Почему бы не расшевелить психику больного, чтобы убедить временно прояснившийся мозг остаться здоровым навсегда? Это должно удаться, это так логично и разумно. И вот во время светлых промежутков Билль Лоренц изо всех сил убеждал больных не приходить в остолбенение и не предаваться глубокому унынию; он пытался вымести обволакивавшую их мозги паутину щеткой ласковых и ободряющих слов.
Ингаляции углекислоты с кислородом давали ему время для тридцатиминутной проповеди о том, как неразумно поддаваться на крючок мозгового заболевания. Глубокс дышавшие больные были абсолютно согласны, что с их стороны глупо сходить с ума. Потом дыхание затихало. Ощад начинали невнятно бормотать. Лица их мрачнели и бледнели. Глаза принимали бессмысленное выражение, и Лоренцу начинало казаться, что их просветленное сознание только плод его больного воображения.
«Психотерапия? Ее терапевтический эффект был ничтожным, - писал Лоренц. - Конкретных результатов мы не наблюдали».
И опять-таки для миллионных масс психически больных эти светлые промежутки, хотя и более длительные, ничего не значили. Нельзя же круглый год поддерживать психотиков в нормальном состоянии, вводя в них каждые полчаса ингаляцию углекислоты с кислородом.
Оглядываясь назад, в прошлое, я понимаю, почему столь скромное открытие Лоренца вселяет в меня такую уверенность и надежду. С помощью химии он сумел сделать - пусть на минуты - то, чего не могли сделать слова. Как выражается Джек Фергюсон, это открыло дверь в реальный мир. И все, что Лоренц, мой учитель, сделал для меня когда-то, позволяет мне поверить Джеку Фергюсону теперь. Лоренц - тяжелодум и скептик. Фергюсон - энтузиаст. Но как исследователи они - две горошины из одного стручка. Фергюсон не перестает напоминать мне, что психическая болезнь - это нечто большее, чем ненормальное поведение, которое он лечит, но Лоренц уже тогда понимал, что это «большее» есть тайный химизм больного мозга, и он пытался проникнуть в эту тайну, приглядываясь к простым поверхностным фактам ненормального поведения больных.
В 1929 году один из ассистентов Лоренца выудил еще одну тайну психической болезни, глубоко скрытую под поверхностью ненормального поведения. В Висконсинском институте психиатрии находилась на лечении женщина, безгласная и оцепенелая. Сиделки не могли пробиться сквозь туман ее больного мозга; чтобы она не умерла с голоду ее приходилось кормить через трубку; она не могла аккуратно отправлять естественные нужды и лежала вся окаменевшая, свернувшись калачиком. Ассистент Лоренца доктор Вильям Блекуэнн псякими способами пытался снять эту ужасную напряженность.
Доктор Блекуэнн не задавался какой-либо особенной целью - ему только хотелось немного облегчить ее состояние.
Блекуэнну удалось одолеть ее скованность впрыскиванием большой дозы амиталнатрия; она расслабла и погрузилась в нечто более глубокое, чем сон, настолько глубокое, что все рефлексы у нее исчезли и единственными признаками жизни были едва заметное дыхание и слабое биение сердца. Так она пролежала несколько часов и наконец стала шевелиться. Блекуэнн внимательно следил за ней, интересуясь, вернется ли к ней прежняя напряженность. Женщина открыла глаза, посмотрела на Блекузнна и спросила:
- Доктор, какой у них счет? Вспомните, что она умалишенная.
- Счет чего? - спросил Блекуэнн.
- Футбольного состязания Пардью - Висконсин, - сказала женщина. - Они ведь сейчас играют. Вы же знаете, доктор. Кто из них ведет?
Блекуэнн был потрясен, да и было чем, и немедленно доложил о странном эпизоде своему шефу Лоренцу. Эта женщина, слабоумная и совсем вычеркнутая из жизни, услышала и поняла разговор о футболе, который они вели сегодня утром, подготавливая ее к впрыскиванию амиталнатрия. Она совершенно не умела говорить, не умела общаться с окружающим миром; она ничего не могла сообщить о себе самой. И однако ее мозг не потерял способности регистрировать происходящие вокруг нее события, хотя внешне она казалась безнадежной тупицей. Это был новый существенный факт, касающийся психозов: внешне эта женщина выглядела абсолютно сумасшедшей; ее мозг подспудно оставался здоровым и нормальным - но не способным сообщить об этом во внешний мир.
Очнувшись от своего глубокого амиталового наркоза, больная села без всякой посторонней помощи, с аппетитом поела и сама пошла в ванную комнату и выкурила сигарету.
- Не принесут ли ко мне моего ребенка? - спросила она. - Его отняли у меня, прежде чем я могла взять его на руки.
И вот в течение двух лет - это был поистине один из самых странных опытов в истории медицины - эта умалишенная ежедневно просыпалась после амиталового сна и оставалась здоровой и разумной. На восемь часов ежедневно в продолжение двух лет. Она часто играла со своим ребенком. Она оживленно разговаривала со стариками - отцом и матерью, которые плакали от радости, видя такое преображение. Семь-восемь часов в день она была вполне здоровым человеком и вела себя во всех отношениях нормально. Потом она ежедневно стала впадать в естественный сон, после которого просыпалась скованной и безумной. Два года продолжался этот жуткий распорядок дня, и наконец она умерла.
Лоренц и Блекуэнн занялись большой группой других больных, которые были настолько остолбеневшими и онемевшими, настолько бесчувственными, что их приходилось кормить через трубку. Каждый день, пробудившись от своего амиталового сна, эти больные сидели, как настоящие леди и джентльмены, за обеденным столом. После учтивой послеобеденной беседы они отправлялись спать. Наутро они все до одного просыпались сумасшедшими.
В широком практическом смысле это тоже не давало никаких перспектив. Едва ли Лоренц мог предложить амитализировать миллионы душевнобольных-хроников, чтобы вернуть им рассудок на восемь часов в день.
Какое действие оказывал этот барбитурат, амиталнатрий, на внутренний обмен мозговых клеток, снимая с них химическую блокаду - эту затычку, которая не давала развернуться полному здоровью, сидевшему в их мозгу и никогда его не покидавшему? Лоренц этого не знал. Он знал только, что ответ, когда он придет, будет химическим. Но Лоренц был сама честность. Перед ним были сумасшедшие люди, которым он мог вернуть разум на восемь часов в день. Это давало ему возможность проверить ходовую психиатрическую теорию относительно того, что причина тяжелых психозов не химическая, а психогенная, что она не связана с химией, а коренится только в сознании больного.
Лоренц и Блекуэнн проводили многие часы со своими странными пациентами, которые раньше были крайне неподатливы. Разговор с ними протекал удовлетворительно и внушал надежду. Больные рассказывали докторам о своей прошлой жизни. Были у них серьезные неудачи? Определенно были. Переживали они крушение надежд? Конечно. Вникая в сущность мучивших их умственных и моральных проблем Лоренц терпеливо старался изгнать их из психики разумными доводами. Больные прислушивались. Они соглашались, что глупо так сильно расстраиваться, падать духом и прятаться в свой внутренний мир. Под влиянием дружеского разговора больные становились веселыми и счастливыми.
С населением вечера они погружались в естественный сон А наутро вновь просыпались сумасшедшими.
У Лоренца было одно маленькое утешение: эти восьмичасовые светлые периоды, вне всякого сомнения, доказывали что многие безнадежные психозы химически обратимы. Но увы, эти светлые периоды были только интервалами; чудесную химическую обратимость психозов невозможно было удержать; психическая болезнь оставалась... неизлечимой.
Была здесь и хорошая сторона, но не для Лоренца, а для жалких созданий - его пациентов. В периоды просветления они радовались выздоровлению; снова сойдя с ума, они забывали о светлых промежутках. Темная же сторона оставалась для Лоренца. Он отыскал здоровье, скрытое в хаосе беспорядочного действия больного мозга. Он походил на научного пророка Моисея, которому не дано было войти в землю обетованную.
О крушении надежд Билла Лоренца, реально увидевшего скрытое здоровье в мозгу безнадежных больных и добившегося возможности восстанавливать это здоровье химическим способом на минуты, на полчаса, на целую треть суток- только для того, чтобы эксперименты кончались провалом, всегда провалом, - об этой трагедии Лоренца, исследователя тридцатых годов, Джек Фергюсон не знал ничего. В те годы он был еще сам перекати-поле, и его надежды сделаться врачом потерпели крушение. Он был то паровозным кочегаром на железной дороге Монон, то буфетчиком, то разносчиком виски, то студентом-медиком, проявлявшим блестящие способности в занятиях, но не сумевшим почему-то отдаться им полностью. Казалось, это человек без будущего. Живой, смышленый, чудаковатый парень, он своими ненормальными выходками внушал мысль о близости к умственному расстройству. Если бы Лоренц, зачинатель, стал искать себе научного наследника Иисуса, способного достичь земли обетованной, которую он открыл, человека, который смог бы превратить в реальность гипотезу о химической основе умственного здоровья, то к Джеку Фергюсону Лоренц обратился бы в самую последнюю очередь.
Таким образом, в тридцатых годах перспективы на успех казались Лоренцу очень печальными. Что хорошего для убитых горем отцов, матерей, жен и мужей давала возможность чуть-чуть приподнять завесу безумия у близкого им человека, если не было никакой надежды сорвать ее окончательно и навсегда? К счастью для умалишенных, для их родных, для Билла Лоренца и, уж конечно, для Джека Фергюсона, еще один исследователь-одиночка занимался вопросом лечения психозов. Эти дни середины тридцатых годов войдут в историю как дни рождения чудес в медицине. Появились сообщения о новом факте, который действительно можно было назвать чудесным, потому что он не укладывался ни в какие законы природы и физического мира или, во всяком случае, выходил за пределы существовавших тогда понятий об этих законах.
В середине тридцатых годов Манфред Закель из Вены и Берлина опубликовал сообщение об излечении группы совершенно безнадежных психически больных. Не о временном просветлении сознания, а о полном излечении.
Доктор Закель не был пустым мечтателем. Вернее будет назвать его научным сорвиголовой. Он вынужден был стать им, чтобы превратить короткие светлые промежутки Лоренца в длительные периоды психического здоровья, которые привели бы к окончательному выздоровлению. Подобно Лоренцу, Закель не ставил перед собой больших научных задач. Первоначально его скромной целью было успокоить наркоманов, которые приходили в дикое возбуждение, когда их лишали морфия. Он углубился в туманные теоретические рассуждения о том, какие химические процессы происходят в мозговых клетках наркоманов, когда их лишают опиатов. По его теории выходило, что необходимо снизить содержание сахара в мозговых клетках этих несчастных.
Поэтому он начал осторожно впрыскивать им инсулин. И вот однажды один из его пациентов после впрыскивания этого могучего антидиабетического средства стал извиваться в судорогах тяжелого инсулинового шока, а затем погрузился в глубокую инсулиновую кому. Закель спас его своевременным впрыскиванием сахара.
Когда же этот больной пришел в сознание, он поразительно изменил свое поведение - он стал тихим, он стал спокойным, он стал вполне разумным человеком.
Это не было случайностью. Глубокий инсулиновый шок снова и снова прекращал дикое буйство наркоманов, лишенных морфия. Закель вел свою игру у порога смерти. Ввергая своих пациентов во все более и более глубокий инсулиновый шок, он все больше и больше лишал сахара их мозговые клетки. А из всех клеток человеческого тела клетки мозга наиболее чувствительны к сахарному голоданию; они не выдерживают отсутствия сахара, основного их питания, более нескольких минут. Сахар - это важнейшее топливо, поддерживающее огонь жизни в мозговых клетках, а инсулин, сжигающий это топливо, не оставляет кислороду достаточно сахара для окислительных реакций,
Манфред Закель понял, что ужасное испытание инсулинового шока - это не простое успокоение буйных наркоманов. У некоторых из них оно вызывало глубокое изменение психики к лучшему. К счастью для человечества, Закель, экспериментатор, сорвиголова, не испытывал особого почтения к сложной и громоздкой классификации психических болезней. И если инсулиновый шок, державший морфинистов на грани смерти, оказывал на них хорошее действие, почему бы не испробовать его на жертвах раннего слабоумия, именуемого теперь шизофренией или, вернее, «шизофрениями», ибо никто не знает, сколько разных форм этого психоза существует в действительности.
Манфреду Закелю это казалось вполне логичным. Умопомешательство тяжелого шизофреника - это отчаянная вещь, и не говорит ли это о том, что требуются какие-то отчаянные химические средства для больных клеток мозга? А разве острое сахарное голодание, вызванное инсулиновым шоком, не ставит все вверх дном внутри мозговых клеток, не является для них генеральной чисткой? Не может ли это вмешательство выжечь из них всю их больную химию?
Конечно, может, и тогда они обзаведутся новым, чистеньким химическим хозяйством.
Конечно, может, если только мозговые клетки не будут убиты в процессе очистки. Такова была странная наука Закеля.
В Германии в ту пору - это было перед второй мировой войной - считалось убийством, если врач терял больного, который не случайно, а преднамеренно был ввергнут в инсулиновый шок. Поэтому Закель день и ночь держал при себе сотню долларов и соответственно оформленный паспорт, чтобы при малейшей тревоге удрать за границу. Это был типичный врач-теоретик с голубыми кроткими глазами, но взгляд их был какой-то рассеянный и отсутствующий. И вот он занялся «шокированием» человеческих существ, потерявших разум, все более и более сильными дозами инсулина. Он вызывал у них отчаянные судороги и глубочайшие комы, какие только можно было совместить с сохранением жизни.
Преднамеренно и с явным умыслом он делал то, чего к и один врач на свете не посмел бы сделать.
Итак, Макфред Закель взял на себя определенно рискованную задачу - продлить, насколько возможно, светлые промежутки Билля Лоренца. Изо дня в день он повышал дозы инсулина. Надо же было основательно прощупать новый метод. Как досадно, что никто не знает, сколько требуется единиц инсулина, чтобы получить у данного больного шок, легко устранимый соответствующей дозой сахара. Это ведь совсем не похоже на лечение диабета определенным количеством инсулиновых единиц. Точной шо-ксзой дозы вообще не существует. Закелю не оставалось ничего другого, как вводить инсулин и уповать на благополучный исход. Иной раз - к счастью очень редко - больной впадал в такой глубокий шок, что ни сахаром, ни адреналином невозможно было вывести его из этого состояния. Это был шок, из которого нет возврата. Или бывало - тоже не часто, - что больной выходил из такого шокового состояния совершенно тупоумным, диким животным. А иногда случалось, что несчастная жертва, преодолев все опасности неуправляемого шока, выходила новым человеком. Это уж были не временные светлые промежутки, так долго мучившие Билля Лоренца. Можно было подумать, что при этом совершалось полное возрождение личности и как будто весьма стойкое.
Однако для большинства пациентов Закеля возвращение в реальный мир протекало не столь эффектно. Довольно нудная возня с ежедневным инсулиновым шоком продолжалась неделями, даже месяцами. Поразительно, как ежедневное лечение шоком постепенно снимало какую-то ничтожно малую частицу безумия. Это казалось невероятным, почти сверхъестественным.
На первых порах результаты шокового лечения напоминали лоренцовские светлые промежутки - одна-две минуты здравого разговора мелькали среди бессвязного бормотания. Эти минуты просветления обычно наступали через пару часов после впрыскивания инсулина, как раз тогда, когда больной начинал погружаться в коматозное состояние или в судороги. Закель наблюдал, как эти моменты нормальной психики постепенно удлинялись, день за днем, неделя за неделей, по мере того, как он угощал своих безумцев судорогами и комами.
Минуты просветления, удлиняясь, переходили в часы, потом в дни. Закель был не только экспериментатором, но и поэтом. Его волновало это зрелище. Казалось, разум и безумие борются между собой в сознании этих мужчин и женщин. И это не покажется странным, если вспомнить, как Билль Лоренц всегда обнаруживал присутствие здорового ума даже у самых слабоумных больных. Закелю казалось, что он командует сражением, где здоровое «я» пытается изгнать больное, ненормальное. Легко понять, думал Закель, почему в библейские времена говорили об «одержимых» людях.
Закель наблюдал, как жутко вели себя некоторые больные во время последних сеансов инсулинового шока, когда их, как «нормальных», уже готовили к выписке из больницы. При погружении в шоковое состояние они иногда давали последний острый припадок сумасшествия. Как будто сидевший в них последний дьявол еще оказывал сопротивление.
Химический дьявол, изгоняемый химическим оружием...
Закель был человек основательный. Он не прекращал лечения до тех пор, пока последние следы сумасшествия не исчезали. Он видел, как его пациенты выходили из унылого мрака больницы, возвращаясь к своим семьям, к своей работе. Многие из них демонстрировали последний восхитительный признак своего воскрешения из живой смерти безумия. Они проявляли то, что называется человеческой чуткостью. Улыбаясь, они говорили Закелю, что знают о своем бывшем сумасшествии.
Манфред Закель показал себя одним из самых смелых людей в истории медицины.
Инсулиновый шок никоим образом нельзя рассматривать как полноценный метод лечения. Нельзя впрыскивать инсулин и уповить на благополучный исход. Вы должны знать по опыту - и какому опыту! - как долго можно держать больного в коматозном состоянии перед тем, как разбудить его впрыскиванием сахара. Вы должны успеть ввести больному адреналин, когда ему угрожает смерть от конвульсий.
Закель совершенно спокойно говорит, что лучшие результаты в смысле восстановления здоровой психики он получал тогда, когда приближался к опасной зоне. Закель хладнокровно заявляет, что, если врачи будут слишком беспокоиться об угрожающей опасности, они забудут о цели лечения.
А в данном случае целью была попытка облегчить страдания людей, ставших жертвой одного из самых печальных бедствий человечества.
И вот, возвращаясь в наш 1956 год, мы должны признать, что исход смелой и жестокой битвы Манфреда Закеля с печальнейшим из бедствий человечества, увы, оказался не очень удачным. Я вспоминаю, как много велось разговоров о странной игре Закеля у порога смерти; вспоминаю широко опубликованные отчеты клиник, говорившие о том, что если лечение инсулиновым шоком начиналось в первые шесть месяцев психической болезни, то 70 процентов больных выздоравливали, осознав свое безумие.
Озадаченный этим, я задал вопрос Джеку Фергюсону: - Если бы эти цифры держались на той же высоте, не должно ли было население психиатрических больниц заметно уменьшиться уже много лет назад? Если бы, конечно, лечение инсулиновым шоком протекало достаточно безопасно, чтобы получить широкое применение.
- Инсулиновый шок не достаточно безопасен, чтобы получить широкое применение, - сказал Фергюсон. - И государственные больницы очень редко получают тяжелобольных в первые шесть месяцев болезни. Но если даже допустить, что инсулиновый шок в ранних, сравнительно благоприятных случаях дает хорошие результаты, то цифра рецидивов еще очень высока.
- А что вы скажете об электрошоке? Говорят, он безопаснее, чем инсулин.
- Я не применяю его в своем отделении - он слишком пугает больных.
Это одна из аксиом медицины: чем раньше вы приступаете к лечению болезни, тем больше шансов на выздоровление больного. Почему же Фергюсон испытывает свои новые лекарства на самых запущенных, самых безнадежных больных в отдаленных палатах больницы? В этом отношении Джек Фергюсон представляется мне более строгим исследователем, чем Манфред Закель.
Глава 3
Называя Джека Фергюсона строгим, я употребляю это слово не совсем в обычном смысле: он строг к себе, а не к другим. Таким он кажется мне теперь. В его прошлой жизни дело обстояло наоборот: стараясь облегчить собственное положение, он проявлял строгость к другим. Его пренебрежительное и грубое отношение к людям станет вполне очевидным, когда мы расскажем (а это необходимо сделать, чтобы понять его) о диких событиях, предшествовавших его психической катастрофе. Но из этого ужаса он вышел новым человеком. Теперь он исключительно чуток к людям и особенно к своим несчастным пациентам.
- Электрошоковая терапия? - говорит он. - Я, конечно, применял ее много раз. Она часто дает хороший эффект.
- Почему же вы от нее отказались?
- Посудите сами, как можно назначать ее беднягам, которые, узнав о предстоящей процедуре, забиваются под кровать, выдергивают пружины и пытаются среди них спрятаться?
- Но электрошок принес уже немало пользы, - возражал я. - Он помог даже выписать из больниц многих больных с ранней формой заболевания.
- Да, но они боятся его, - сказал Фергюсон. - Он порождает смятение в их головах. Как только я убедился, что новые нейрохимические средства действуют лучше, я тотчас же перестал его применять.
Я говорю о строгости Фергюсона к себе только потому, что он сознательно берет на себя самые запущенные случаи психических болезней. Он это делает потому, что не хочет обманывать самого себя - вернее верного должно быть то средство, которое он собирается предложить. И лучший путь к уверенности - наблюдать лечебный эффект этого средства на самых безнадежных, самых запущенных больных.
Короче говоря, если средство окажется результативным для самых тяжелых, считавшихся неизлечимыми больных, то можно быть уверенным в его действии на более слабые, начальные формы болезни. Фергюсон не хочет сеять ложные надежды среди домашних врачей, что они смогут при помощи его метода предупреждать отправку пациентов в больницы. Фергюсон не хочет разочаровывать родных этой армии не устроенных еще в больницы душевнобольных, родных, которые уже прослышали, как он при помощи своего нового лечения выпустил из сумасшедшего дома многих тяжелейших больных-хроников.
Вот каким здравым рассуждением руководствовался Фергюсон, когда отбирал для лечения наиболее запущенные случаи. Когда одна из его химических комбинаций покажет свое действие на больных, считавшихся до этого безнадежными, и когда они поправятся настолько, что можно будет отпустить их с нормальным поведением домой, тогда и только тогда он будет знать, что метод его достаточно солиден и ему не придется обманывать себя и разочаровывать других.
Нелегка жизнь Фергюсона-экспериментатора - уж можете мне поверить! Сравните его работу ну хотя бы с работой Джорджа Майнота, удостоенного Нобелевской премии. Майнот спасал людей от неизлечимого злокачественного малокровия, но все пациенты Майнота были на пороге смерти. Майноту было легко выбирать. Деятельность Фергюсона-экспериментатора гораздо сложнее, чем у Лео Леви. Когда Лео приступил к осуществлению своего метода лечения подострого инфекционного эндокардита непомерными дозами пенициллина, все его пациенты были обречены на смерть. И когда Лео впервые спас пол-Дюжины больных, он знал, что совершил нечто небывалое. о работа Фергюсона-экспериментатора совсем другая, ^на полна искушений и соблазнов. Вот что я хочу сказать:
В своем отделении в больнице Траверз-Сити он мог бы найти и отобрать из тысячи больных любые формы болезни - от начальных до самых запущенных, от умеренно слабоумных до совершенно сумасшедших. Так почему бы не включить в эксперимент несколько легких случаев, чтобы подправить себе статистику? Нет. Джек упорно цеплялся за самых безнадежных.
И в другом отношении экспериментальная работа Фергюсона исключительно трудна. Тяжелые психические болезни неизвестного происхождения - шизофрения, паранойя, меланхолия - резко отличаются от злокачественного малокровия, бактериального эндокардита, рака или сердечных болезней. Для всех этих болезней существуют определенные физические симптомы и лабораторные анализы, которые точно указывают, с чем надо бороться и как протекает лечение. Но для того, чтобы диагностировать тяжелое безумие неизвестного происхождения, Джеку Фергюсону и его коллегам-психиатрам приходится иметь дело с самой калейдоскопической, переменчивой кучей симптомов. Я все приставал к Фергюсону.
- Послушайте, Джек, - сказал я, - вот вы говорите, что психическая болезнь - это нечто большее, чем ненормальное поведение, которое вы здесь лечите. Но что же такое это «гораздо большее», о котором вы постоянно толкуете?
- Хорошо, посмотрим на это дело так... - начал он. Потом вдруг остановился, потупил глаза и не знал, что ответить дальше.
Я продолжал его подзадоривать.
- Что же такое психическая болезнь? - спросил я. - Поскольку вам, специалистам, приходится иметь дело с такой беспорядочной кучей симптомов, не думаете ли вы, что все мы по временам бываем сумасшедшими?
- Что вы этим хотите сказать? - спросил Фергюсон.
Тут я открыл ему, что беспокоит лично меня уже в течение многих лет. Пожаловался на свое собственное психическое состояние, которое никогда не считал устойчивым. Объяснил ему, что, на мой взгляд, я выказываю иногда явные признаки психоза неизвестного происхождения.
Гебефрения. Гебефреник глупо и бессмысленно смеется. Я часто замечал у себя приступы неудержимого хихиканья. Кататония. Кататоник сидит застывшим, безмолвным, безжизненным истуканом, как будто чем-то глубоко обижен. У меня тоже бывало такое состояние, и это внушало мне беспокойство. Паранойя. Параноик одержим мыслью, что весь мир против него. Как часто возникали у меня смутные подозрения, что кто-то против меня интригует. Еще паранойя: параноик страдает манией величия. Как часто я чувствовал, что весь мир для меня - это только жалкая устрица, а после этого переживал жгучее чувство стыда. Меланхолия. Когда на меланхолика находит приступ тоски, он становится безутешным. Я проводил долгие часы, смотря сквозь темные очки на мир, который в конце концов оказывался не таким уж плохим. Мания. Маньяки набрасываются с дикой, расточительной энергией на осуществление своей цели. Все мои друзья наблюдали у меня вспышку такой безрассудной активности. Они вежливо называли меня гипоманьяком, то есть маньяком на свободе, еще не запертым в обитую войлоком палату. Галлюцинативный психоз. Галлюцинанты слышат колокольный звон или видят мальчиков, проходящих мимо их кровати военным строем. Находясь среди уличной толпы, я не раз слышал, как меня окликают по имени, хотя никто этого не делал, или видел друзей, которых там не было.
- Если эти симптомы считаются признаками умственного расстройства, то не бываем ли мы, большинство из нас, по временам сумасшедшими? - спросил я Фергю-сона. - Какая разница между нами и вашими запертыми пациентами?
- Разница лишь в том, что мои пациенты делают из этого «карьеру», - сказал он.
- Но в чем причина, что они берут эти симптомы за основу своей жизни? - наседал я на него. - А нас эти симптомы беспокоят только временно, потом исчезают? Может быть, безумие вызывается вирусом или вирусами? Какая биология скрывается за картиной безумия? Какая химия? Знаете вы это?
- Нет, не знаю, - сказал Фергюсон.
- А кто же знает?
- Никто. Насколько мне известно, никто этого не знает.
- Тогда чего стоят ваши рассуждения, что психическая болезнь - это нечто большее, чем ненормальное поведение? - допекал я его.
На этот вопрос у Джека ответа не было.
Под маской многих серьезных психозов неизвестного происхождения - шизофрении, паранойи, меланхолии, - быть может, скрывается одна-две «болезни», которые когда-нибудь будут точно распознаваться химическим способом. А может быть, их окажется дюжина или целая сотня? Как же можно эффективно с ними бороться, если ни одна из них еще не выявлена?
Вот какие препятствия лежат на тернистом пути Фергюсона-экспериментатора.
В обманчивом мире психиатрии есть одна еще более странная вещь.
- Представьте себе, - сказал Джек, - мы здесь имеем массу психических заболеваний, причины которых доподлинно известны. Они составляют, пожалуй, 50 процентов всех наших больных.
Фергюсон привел мне внушительный перечень этих случаев. Прогрессивный паралич, вызываемый спирохетой сифилиса; до появления пенициллина эти случаи составляли около 30 процентов всех наших больных мужчин. А доктор Вальтер Л. Брюич из Индианополиса установил, что 4-5 процентов больных в его доме умалишенных страдает одновременно ревматической болезнью сердца; слабоумие вызвано, очевидно, своеобразным ревматическим заболеванием мозга. Недостаток в пище витамина В_- ниацина часто являлся причиной отправки больных в психиатрические больницы Юга, пока д-р Том Д. Спайс со своими помощниками не показали, как ниацин быстро излечивает пеллагру. Бывают также чисто химические психозы, вызванные отравлением металлами - свинцом, мышьяком, ртутью; все они могут незаметно привести человека к тяжелому мозговому заболеванию. Опиаты, кокаин, бромиды и даже некоторые антигиста-мины могут вызвать картину помешательства. Опухоли - менингиомы, захватывающие лобные доли мозга, - часто начинаются явлениями умственного расстройства. Даже простой удар лошади или грузовой машины может оставить после себя такое повреждение мозга, которое спутает сознание человека на всю жизнь.
- Это уже шаг вперед, - сказал я. - Зная причину, можно предупредить - даже вылечить - тот или иной вид мозгового заболевания.
- Да, конечно, можно, - ответил Фергюсон. - Но тут вот какая загвоздка. Эти органические заболевания мозга поступают к нам с явлениями, напоминающими шизофрению. И это вводит нас в заблуждение.
Я рассмеялся.
- Хороша же ваша психиатрическая наука. Если вы не можете определить точную причину умопомешательства, вы наклеиваете ярлык шизофрении.
Джек ответил грустным голосом:
- Шизофрения - это не болезнь и даже не болезни; это мусорная корзина для различных мозговых симптомов.
- Что за сумасшедшая наука, - сказал я.
Но Джек не унывал.
- Некоторые органические повреждения и отравления вызывают симптомы психической болезни; а у шизофрении те же самые симптомы.
И он закончил упрямым тоном:
- Мы выясним также и их причину; не сегодня-завтра мы это сделаем. Можете не волноваться.
Сам Фергюсон, конечно, не был человеком, способным волноваться из-за этой путаницы в неполноценной науке о психических болезнях. Он с гордостью продемонстрировал мне одну из своих «призовых» пациенток. Она находилась в больнице Траверз-Сити пятьдесят один год; последние тридцать лет ее поведение все ухудшалось; она непрерывно срывала с себя одежду; ее заперли в изолированную комнату, где она лежала на полу немая, окаменевшая, голая - хуже животного.
И вот она сидит перед нами - чистенькая старушка, за семьдесят лет, сдержанная, спокойная и приятная в разговоре. (Более подробно о ней будет рассказано дальше.) Я хотел только показать, что Фергюсон вылечил ее, не имея представления, в чем корень ее болезни.
- Пожалуйста, выбросьте из головы пугающее слово «шизофрения», - мягким тоном увещевал меня Фергюсон - Пусть оно вас не беспокоит.
Затем он угостил меня порцией психиатрической проповеди:
- Больных не считают шизофрениками до того момента, пока ненормальное поведение не приведет их на прием к ученому светилу. А так как светилам неизвестна причина ненормального поведения, они придумали грандиозную классификацию разных форм шизофрении, основанную на разнообразных симптомах.
Поскольку двум ученым трудно прийти к одному и тому же диагнозу относительно формы шизофрении, получается нечто поистине смехотворное.
Меня коробило такое отношение Джека к шизофрении. Как это могло быть? Такое звучное, значительное, широко распространенное, высокоученое слово вдруг оказывается пустым и вводящим в заблуждение. Я самым добросовестным образом со своей особой голландской усидчивостью читал в толстых ученых книгах о шизофрении, и выяснилось, что Джек Фергюсон был не одинок в своем пренебрежении к той неразберихе, которая с нею связана.
«Шизофрения - великая загадка психиатрии», - писал доктор Вальтер Л. Брюич, учитель Фергюсона в медицинской школе Индианского университета. Доктор Брюич показывает, как шизофреники могут проявлять любую форму умственного расстройства...
Они могут быть восторженными или, наоборот, склонными к уединению, лживыми, тупыми, агрессивными или галлюцинирующими, могут вести себя параноиками или меланхоликами. Можно ли отличить один тип безумия от другого, если все эти симптомы быстро переходят от больного к больному или в течение одного дня сменяют друг друга у одного и того же больного?
Фергюсон наградил меня благостной улыбкой краснолицего Будды, которого он мне иногда напоминает.
- Да, это верно, - сказал он. - У меня были больные, которые сегодня глупо хохотали, как гебефреники, а назавтра сидели окаменевшие и немые, как кататоники.
Пытаясь найти то «нечто большее в психической болезни», которое Фергюсон так и не мог мне объяснить, я зарылся в изучение «Биологии психического здоровья и психической болезни». Это был сборник статей, считавшихся последним словом науки, принадлежавших перу 107 выдающихся биологов, физиологов, психологов, нейрохирургов, химиков и психиатров. Здесь я, конечно, нашел ряд фактов, говоривших о нарушении и извращении химических процессов у шизофреников по сравнению с умственно нормальными людьми.
Постойте, вот как будто бы ценное сообщение доктора Гудсона Гоглэнда из Ворсестера, штат Массачусетс, об особенностях надпочечных желез у шизофреников. Кора - наружный слой клеток надпочечных желез - выделяет гормоны, которые оказывают важное нормализующее действие на все органы человеческого тела, в том числе на головной мозг. Когда человеческое тело подвергается какому-нибудь сильному физическому воздействию, надпочечные железы усиливают выработку гормонов, чтобы помочь организму устоять против вредного воздействия. И когда доктор Гоглэнд тем или иным способом вызывал сильное физическое напряжение у шизофреников, то у двух третей из них надпочечные железы не выделяли достаточного количества гормонов. Их надпочечники функционировали слабо.
Это был уже обнадеживающий факт. Ведь если вникнуть, что собой представляют шизофреники... Доктор Гоглэнд говорит, что это группа человеческих существ, не способных вынести напряжение повседневной жизни и постепенно развивающих такие причудливые формы поведения, что их приходится помещать в больницы. Может быть, действительно их мозг заболевает от недостатка гормонов, вырабатываемых надпочечниками?
Увы! Доктор Марк Д. Альтшуле из Ваверли, в Массачусетсе, не менее видный исследователь, чем Гоглэнд, высказывается на страницах того же сборника. Он тоже изучал функцию надпочечников у шизофреников. В противоположность Гоглэнду он установил, что надпочечники показывают не пониженную, а повышенную деятельность. Доктор Альтшуле не без ехидства замечает, что шизофрения в больнице Ваверли, вероятно, значительно отличается от шизофрении в больнице Гоглэнда, отстоящей всего на тридцать пять миль от Ваверли.
Но вот для того, чтобы окончательно запутать вопрос, на страницах того же сборника выступает доктор Эдвин Ф. Гильдеа из Сан-Франциско. Он сообщает, что, когда он ставил свои опыты на шизофрениках, их надпочечники функционировали совершенно так же, как у нормальных людей.
Окончательно сбитый с толку, я на момент оторвался от книги, сосредоточившей в себе премудрость 107 отборных ученых, специалистов в области биологии психического здоровья и психической болезни. Кто такие доктор Гогланд, доктор Альтшуле и доктор Гильдеа, как не почтенные, точные, серьезные наблюдатели и исследователи? И однако же они пришли к трем различным выводам относительно физиологии надпочечных желез у шизофреников. Платите деньги - и можете выбирать. Что бы такое выбрать? Но тут у меня мелькнула догадка о причине такой разноголосицы в науке.
Поскольку существует много типов шизофрении и нет еще способа свести их к единому типу болезни, может быть, каждый из докторов действительно работал со своей формой шизофрении, как шутливо заметил доктор Альтшуле.
Изучение высоконаучного сборника ободрило меня в отношении того простого метода, которым в настоящее время пользуется Фергюсон. Ободрило меня одно слово, которое в этом сборнике употребляют известные профессора для обозначения тяжести психической болезни.
Доктор Джордж Г. Бишоп, электрофизиолог Вашингтонского университета в Сент-Луисе, ставит вопрос о конкретном и единственном методе, при помощи которого можно изучить деятельность нервных клеток мозга.
«Они действуют группами и притом настолько комплексно, - говорит профессор Бишоп, - что нарушение их функции невозможно установить никакими другими способами, кроме наблюдения за общим поведением больных».
Это как раз то, чем занимается в настоящее время Фергюсон в больнице Траверз-Сити.
Доктор Карни Лэндис из Колумбийского университета в том же сборнике говорит о замечательных результат тах мозговой операции - лоботомии.
«Наступает разительная перемена в... эмоциональной жизни больных, - говорит Лэндис. - Психохирургия освобождает больных от невыносимых страданий... Как от упорных физических болей, так и от тяжелых моральных переживаний... Когда наступает перемена, это ясно видят сами больные, видят доктора, видят медсестры, видят семьи больных. В ней нельзя сомневаться. Не требуется никаких тонких опытов, чтобы ее доказать. Она настолько очевидна, что ее даже не замечают».
Что именно, по мнению прославленного профессора, не замечают? Прежде всего поразительную перемену в эмоциональной сфере, то есть перемену в поведении больных.
Ничего не зная о знаменитом сборнике, только что опомнившись от ужаса собственного умственного помрачения, Джек Фергюсон в начале пятидесятых годов превратился в нейрохирурга, вступив в бригаду, которая вонзалась копьями и энергично орудовала в лобных долях мозга буйных сумасшедших. Тут-то Джек и понял, что независимо от диагноза болезни единственное, к чему они стремились, - это изменить поведение больных.
Этого и только этого хочет добиться Джек в Траверз-Сити, когда лечит своих тяжелейших больных новыми лекарствами, регулирующими поведение, плюс нежная любовная забота.
Что такое безумие? В словаре говорится, что это не столько медицинский, сколько социальный и юридический термин, означающий такое положение, когда больные не могут пользоваться свободой действий из-за ненадежности их поведения. Что представляют собой такие психозы, как шизофрения, дающие картину полного безумия? ' В медицинском словаре говорится, что это особенно глубокие, далеко зашедшие и затянувшиеся расстройства поведения.
Знаменитый научный сборник представляет ясное доказательство того, что, несмотря на добросовестную работу многих умных и проницательных людей, их наука еще не совершенна и не может объяснить, что лежит в основе ненормальной умственной деятельности. Если психическая болезнь - это нечто большее, чем ненормальное поведение, вся беда в том, что это «большее» остается пока неизвестным.
Насколько просто представление Джека о психической болезни как о расстройстве поведения, настолько же проста его лечебная тактика. Нужно только уговорить этих несчастных, жалких, больных людей восстановить нормальное поведение. А что значит «нормальное»? Словарь объясняет, что это поведение, не внушаемое умственным расстройством, не являющееся безрассудным или невротическим. Фергюсон определяет это более ясно. Быть нормальным - значит держать в порядке свое умственное и моральное хозяйство, чтобы легко и счастливо жить с самим собой и с другими людьми. Тут-то он меня и поддел. Как раз на это я лично был не способен.
Если бы мне предложили подытожить в одном слове весь ход моей умственной и эмоциональной жизни, мне было бы легко ответить. Кипение - вот ответ. Друзья называют это энергией, но они неправы. Если даже это энергия, то она нехорошего свойства. Это - нетерпеливость, вечное возбуждение, смятение чувств; это - постоянное беспокойство, постоянное внутреннее волнение. Когда оно во мне закипает, едва ли можно назвать его неврозом; тогда оно протекало бы мягче и слабее. В основе своей это одно из «глубоких и далеко зашедших расстройств». Это - психоз. В моменты худшего своего проявления он выражался в дикой, неуправляемой чувственности, сменявшейся приступами пламенной, ненасытной умственной активности. В начале тридцатых годов, чувствуя себя припертым к стене, я вынужден был обратиться за консультацией к умному и чуткому психиатру, доктору Джорджу Карби из Нью-Йорка. Этот приятный и корректный врач вытянул из меня все, что грызло меня внутри, что делало меня подчас дикарем, пренебрегающим правилами общественного приличия, стоящим на грани социальной безответственности. Доктор Карби записывал, а я сидел и думал, не послужит ли моя откровенная исповедь основанием для отправки меня в сумасшедший дом. Нет, пилюль от моего буйства он не мог мне предложить. Но он помог мне заглянуть в самого себя со стороны. Он показал мне, что единственной надеждой, единственным моим лекарством является любовь, мудрость, терпение и преданность моей жены и друга Рии.
«Как вы его выносите, как вам удается справляться с ним?» - вечно спрашивали Рию ее друзья.
Это одному богу известно. Но Рия вырвала меня из большого мира и поселила у голубых вод озера Мичиган, и здесь в продолжение двадцати четырех лет она заведовала тем, что может быть названо больницей для одного человека. Здесь началось мое медленное, постепенное, а подчас и бурно протекавшее выздоровление. Рия - любящая нежная, обаятельная - наблюдала за ним. Тяжелая физическая работа в лесу с поперечной пилой и обоюдоострым топором, длительные прогулки в дюнах и на побережье, жгучая ласка холодного прибоя мичиганских вод - все это помогало лечению. Конечно, тут играло роль и естественное остывание пыла у стареющего человека. Доброе внимание моих научных и медицинских друзей - лучших людей, чем я, - веривших в ценность моей работы, способствовало выздоровлению.
Но угольки зла, хотя и заглушённые, продолжали тлеть. В особенности беспокойство и возбужденное состояние психики - это еще оставалось.
В начале пятидесятых годов начала развертываться цепь событий, которая неизбежно должна была привести меня к встрече с Джеком Фергюсоном. По линии своей репортерской работы я заинтересовался появлением в США нового лекарственного вещества. Это измельченный корень индийского кустарника с ярко-зелеными листьями и бледно-розовыми цветами. Его ботаническое название - Rauwolfiaserpentia. Индусы называют его пагаль-ка-дава. Сотни лет уже этот корень свободно продается на базарах, как лекарство против умственного расстройства. Нечто совершенно ненаучное. Настоящее народное средство. Но, по-видимому, не без каких-то особых свойств.
Сообщают, например, что Ганди - святой Махатма - постоянным жеванием корня раувольфии обрел нужное ему спокойствие, после чего турнул британцев с такой неистовой силой, что они ушли без боя, вернув Индию индусам.
В 1950 году доктору Роберту У. Уилкинсу из Бостона, штат Массачусетс, попалась на глаза статья врача-парса доктора Рустам Джаль Вакила, указавшего, что корень раувольфии в порошкообразном виде хорошо действует при повышенном кровяном давлении. Уилкинс, блестящий и тонкий клинический исследователь, не проявил в данном случае обычного американского снобизма в науке и не отнесся пренебрежительно к доброму совету с «невежественного» Востока. В своей клинике, в бостонской больнице имени Эванса, Боб Уилкинс подтвердил солидность открытия врача-парса. Это вызвало целую революцию в лечении угрожающей формы гипертонии. Это послужило основой для медицинской славы скромного Боба.
Помимо снижения кровяного давления, Уилкинс установил, что раувольфия обладает еще другим целебным качеством. Для гипертоников считается характерным, что повышенному кровяному давлению обычно сопутствует и психическое возбуждение. Действие раувольфии на бурные эмоции у некоторых больных привело в изумление Боба Уилкинса, консервативного исследователя Гарвардской школы.
«Всестороннее улучшение их состояния было настолько заметным, что, слушая их, я, как лечащий врач, даже смущался, - рассказывал Боб. - Они в лирических тонах говорили мне о чувстве полного внутреннего покоя после приема раувольфии».
В современной медицине слово «лирический» звучит противоположностью слову «научный», и это, естественно, беспокоило Боба. Но все же раувольфия была интереснейшим лекарством.
- Что же, к примеру, говорили вам больные? - спросил я.
- Чего только они мне не говорили, - со вздохом ответил Боб. - Вот что они непрерывно повторяли: «Никогда я не чувствовал себя так хорошо»... «Я годами не испытывал такого блаженного состояния»... «Это то, о чем я мог только мечтать»... «Я никогда не смогу вас отблагодарить за это»... «Меня больше ничто не беспокоит»... «Теперь мне на все наплевать».
Но это чудесное самочувствие больных сразу исчезало, как только он отменял раувольфию, и настолько эффектно возвращалось, когда он возобновлял ее, что Боб в конце концов вынужден был им поверить. И это успокоительное действие раувольфии отмечалось не только у гипертоников, но и у других чувствительных и беспокойных больных, у которых кровяное давление не было повышено.
Хотя это и выходило за рамки его научной специальности, Боб Уилкинс проявил подлинное профессиональное мужество и обстоятельной научной статьей завоевал вто-оичное признание своей медицинской славы.
«Я сообщил многим психиатрам и другим специалистам интересующимся психотерапией, что раувольфия в форме пилюль является хорошим психотерапевтическим средством», - писал Уилкинс.
Это придвинуло меня еще на шаг к моменту встречи с Джеком Фергюсоном. Джек прочитал статью Уилкинса. Это было в 1954 году - до Траверз-Сити, - когда Фергюсон увлекался еще операциями лоботомии, врываясь инструментом вроде ледового топорика в мозги неистовствовавших больных в Логэнспортской больнице, штат Индиана. Джек чувствовал отвращение к этой свирепой операции. На одной группе буйных сумасшедших Фергюсон попробовал пилюли раувольфии, оставленные в больнице как образцы агентом фармацевтической фирмы.
К удивлению и удовольствию Джека, пилюли подействовали не хуже ледового топорика. Они успокоили даже нескольких безумцев, которым не смог помочь и ледовый топорик.
Как раз в это время мой друг доктор Фредерик Ф. Ионкман, вице-президент фармацевтической фирмы Сиба в Саммите, штат Нью-Джерси, рассказал мне, что химикам Сибы удалось выделить чистый кристаллический продукт из желтого порошка раувольфии, пагаль-ка-дава, индийского снадобья против безумия. Фриц был взволнован. Это кристаллическое вещество можно было без всякого риска вводить людям внутривенно или внутримышечно. Создавалось впечатление, что в этих кристаллах действительно таится какая-то специфическая сила против безумия. Ни Фриц, ни я ничего еще не слыхали о Джеке Фергюсоне, но Фриц рассказал, что поразительное действие раувольфии было установлено докторами Робертом Г. Носэ, Давидом Б. Уильямсом и Вальтером Рапа-портом из больницы Модесто в Калифорнии. Это было подтверждено также доктором Натаном Клайном в Рок-лэндской больнице в Нью-Йорке.
Чистый алкалоид раувольфии получил химическое название «резерпин». Он имеется уже на рынке под торговой маркой «серпазид» рассказывал Фриц.
- Отличительным свойством серпазила является его успокоительное действие на возбужденных больных, - объяснял Фриц. - Но в противоположность барбитуратам, как, например, фенобарбиталу, он не погружает их в сонливое состояние.
Я подходил все ближе и ближе к Джеку Фергюсону, хотя никто из нас этого еще не знал.
- Не пришлете ли мне немножко этого серпазила? Я хочу испробовать его на самом себе, - сказал я Фрицу Ионкману.
Зная меня как неисправимого «самоэкспериментатора», пробующего на самом себе каждый новый витамин, гормон или антибиотик, Фриц улыбнулся.
- Разве вы ко всем вашим прочим немощам еще и сумасшедший? - спросил он.
- Если мое сумасшествие еще официально не зарегистрировано, то вы ведь знаете, что я человек неспокойный, - сказал я.
Таким образом, благодаря любезности Фрица Ионк-мана, который был так снисходителен к моим псевдонаучным затеям, в 1954 году я начал благоговейно принимать серпазил в крошечных дозах, считавшихся тогда безопасными, по одной десятой миллиграмма в день. Эффект этого эксперимента можно было назвать медленной революцией. Казалось, действительно подходит конец моему вечному неспокойствию. Исчезла вспыльчивость и нетерпеливость. Через несколько месяцев Рия и мои близкие друзья стали поговаривать об изменении личности. Они уже не слышат моего прежнего дикого «го-го-го». Я сам чувствовал, как мой внутренний враг - беспокойство постепенно затихает и уступает место тому, что больные Уилкинса определяют словами: «Теперь мне на все наплевать». По истечении нескольких месяцев, строго придерживаясь все той же маленькой дозы серпазила - по одной десятой миллиграмма в день, я пришел к новому со-« стоянию, которого за шестьдесят четыре года жизни никогда не испытывал, и это состояние не сулило мне ничего хорошего...
Это была летаргия. Меня перестали волновать не только маленькие неприятности и неудачи. Я стал безразлично относиться ко всему на свете. Я стоял на грани того, что индусские мистики называют нирваной. Но, интересно отметить, это отнюдь не было сонливостью. Я отлично сознавал, что со мной происходит, но меня это не трогало. Затем летаргическое состояние перешло в настроение, которого, откровенно сказать, я испугался. Я становился угрюмым.
Это была серпазиловая депрессия.
Когда я сообщил об этом Фрицу Ионкману, он был озадачен и расстроен.
- Мы иногда наблюдали серпазиловые депрессии, но не от таких маленьких доз, какими вы пользуетесь.
Я бросил принимать серпазил, и в течение нескольких дней моя угрюмость, и летаргия, и безразличие ко всему на свете, и удивительное спокойствие духа исчезли, а через пару недель стали появляться признаки моего старого беспокойства. Я вернулся к тем же маленьким дозам серпазила - и весь этот печальный цикл повторился в том же порядке. Это означало конец всяким надеждам. Я не мог получить успокоения и одновременно оставаться активным. А мне уже стукнуло шестьдесят пять, и по ночам меня одолевал страх, что моя вечная возбужденность - которая, во всяком случае, подхлестывала мою энергию - постепенно перерождается в нудную, беспричинную старческую брюзгливость.
Но тут пришла помощь. Это опять была химия. Я навеки сохраню уверенность, что это была рука судьбы, и никогда не перестану ее благодарить. Ко мне заехал Фриц Ионкман. Это было летом 1955 года, к концу моей второй серпазиловой депрессии.
- В больнице Траверз-Сити работает один парень, у которого есть чем вам помочь, - сказал Фриц.
- Что вы этим хотите сказать? - спросил я скептическим тоном.
- Несколько месяцев назад мы послали ему новое лекарственное средство, аналептическое.
- Что именно?
- Это стимулятор, - ответил Фриц. - Действует, как бензедрин или декседрин, только мягче. Это будильник, - продолжал Фриц. - Он будит физическую и умственную энергию, но не бросает вас в нервную дрожь.
- Это только усилит мое неспокойствие, - протестовал я.
- Да нет же, нет, - сказал Фриц с широкой улыбкой. - Доктор Джон Фергюсон - этот парень в Траверз-Сити - считает, что новое средство противодействует серпазиловым депрессиям. Но оно не снижает успокоительного действия серпазила. Он и вправду кое-чего добился. Вы бы посмотрели, как эта новая комбинация преображает умалишенных-хроников.
- А безвредно оно? - спросил я.
- Вот то-то и удивительно, - сказал Фриц.
- Могу я попробовать это на себе?
- Почему же нет?
Так я пришел к встрече с Джеком Фергюсоном.
Глава 4
Его метод - любовь.
Доктор объясняет, как лечить сумасшедших.
Под этим заголовком круглое лицо Джека Фергюсона невинно улыбалось на первой странице детройтской газеты «Фри пресс», выпущенной в воскресенье 11 марта 1956 года. Ну, теперь он пропал, подумал я. Как врач он погиб окончательно. Среди докторов считается грубым нарушением этики, если их товарищ по работе - особенно такой незаметный врач, как Фергюсон, - занимается саморекламой. Я уже представлял себе, как врачи с ним здороваются:
- Доброе утро, доктор. Мы видели ваше объявление в газете.
Это грозило ему полным крахом.
Два дня назад Джек сообщил аудитории из трехсот мичиганских врачей, что они в своей частной практике могут отныне применять комбинацию новых лекарств в сочетании с нежной любовной заботой для лечения больных с ненормальным поведением. В больнице Траверз-Сити, где больные находились под строгим надзором его остроглазых сестер-надзирательниц, он изо дня в день развивал и совершенствовал свой метод лечения. Но здесь, на собрании, он говорил домашним врачам лишь о том, что если они будут лечить психически больных в своих частных кабинетах, то смогут наполовину сократить число направлений в больницу.
Я наблюдал за его аудиторией. Создавалось впечатление, что Джек завоевывает симпатию и признание. Слушатели сидели тихо. Такое пророчество об открывающихся для них новых возможностях было чем-то неслыханным в анналах медицины. Любопытно, что на лицах слушателей не было и тени недоверия. Это пророчество нисколько не ущемляло их интересы. Они внимательно слушали.
Фергюсон открыто признавал, что бывают и неудачи с новыми нейрохимическими средствами; сами по себе они не показывают таких чудес, как уколы пенициллина при воспалении легких. Новый вид лечения, который он предлагает им испробовать на своих ненормальных пациентах, настолько прост, что не требует даже объяснений. Это тоже расположило к нему врачей, потому что они привыкли слушать такие вещи, которые самим докладчикам часто бывали непонятны.
- Новый метод лечения заключается не в одних только лекарствах, - спокойно продолжал Фергюсон, - его невозможно уложить в точную диаграмму. В придачу к медикаментам - в этом вся суть - надо дать чуточку ласки, порцию любви к человеку - все это смешивается и поручается заботам самого лучшего персонала в мире.
Так он охарактеризовал своих надзирательниц в больнице Траверз-Сити; они работают совершенно так же, как и все домашние врачи, а присутствующие знают, что это значит.
Новый вид лечения? Это похоже на рецепт, как свао-ганить бабушкин пирог. Может быть, это и практично, но как трудно передать это искусство другим. Атмосферу собрания можно было охарактеризовать как озадаченное внимание. Джек предлагал нечто совсем новое; это была смесь химии с моралью. Это было так легко и в то же время так трудно для них, простых домашних врачей, взяться за грандиозную задачу избавления своих умалишенных от сумасшедшего дома. Этот вопрос висел в атмосфере собра- • ния. Если план практически осуществим, он означает потрясающий успех для частнопрактикующих врачей. Когда собрание кончилось, доктора столпились вокруг Джека и благодарили за интересный доклад.
Но через два дня все пошло прахом; во всяком случае, так мне показалось, когда я прочел заголовок статьи, крикливо рекламировавший любовь как средство против безумия. Озабоченный этим, я позвонил по телефону умудренному опытом секретарю мичиганского медицинского общества доктору Л. Фернальду Фостеру.
- А что эта публикация не уничтожит Фергюсона как врача?
- Глупости говорите, - сказал Фостер. - выступление Фергюсона имело большой успех. Попасть на первую страницу газеты - это лестно и для медицинского общества.
Научный обозреватель газеты Джин Пирсон под лирическим заголовком в детройтской газете «Фри пресс» написала не просто хвалебный, а весьма обстоятельный очерк о клинических исследованиях Джека.
«На прошлой неделе, - так начинался очерк, - доктор Джон Т. Фергюсон сделал одной из тысячи его умалишенных пациенток подарок стоимостью в 23 цента.
Когда она осторожно взяла в руки небольшую стеклянную баночку с двумя золотыми рыбками, разноцветными ракушками и веточкой водоросли, лицо ее залилось румянцем.
- Спасибо, доктор, - тихо сказала она.
Это были ее первые слова за четырнадцать лет молчания».
Конечно, замечательно, что медицинская наука смогла заставить немую сумасшедшую даму заговорить после многих лет молчания. Но не в этом, по-моему, соль эпизода; меня больше заинтересовала роль Джека Фергюсона в этом деле. Как сумел он почувствовать, что парочка жалких двадцатитрехцентовых золотых рыбок поможет вывести эту женщину из-за психического занавеса, за которым она прозябала вне контакта с человеческой гуманностью и добротой? Где Джек обрел свою интуицию, подсказавшую ему, что эти потерянные существа, как будто совсем конченные, остаются все же людьми. На каких путях жизни он познал старую незыблемую истину, что доброта - это могучее лекарство.
Чтобы объяснить внутренний мир Джека Фергюсона, я попрошу вас последовать за мной в его прошлое, сквозь бурные годы его несуразной жизни, когда он узнал то, чему не учат в медицинских колледжах и чего не найдешь в учебниках психиатрии. Процесс подготовки Джека к роли врача для душевнобольных похож на судьбу Эрнста Хемингуэя, который сказал, что лучшая школа для писателя - это несчастливое детство.
Школьные годы Джека напоминают мне обложки журнала «Сэтердэй ивнинг пост», на которых изображаются очень забавные, всегда веселенькие и хорошенькие американские мальчики и девочки. Однако школьные годы Джека напоминают мне эти картинки лишь потому, что совершенно на них непохожи.
Отец его был католиком, а мать методисткой, и каждый из них тянул его по своему пути. Отец служил составителем поездов на железной дороге Монон и чертовски хотел сделать сына паровозным машинистом; и Джек полюбил копоть и грязь железнодорожного депо и шипение пара. Мать мечтала о том, чтобы сын имел более высокую профессию, чем отец, и стал доктором; и Джек разъезжал на старом форде с их домашним доктором, наблюдая, как настоящий домашний врач лечит не только болезнь, но и человека.
В этом заключалось первое серьезное жизненное затруднение Джека: он хотел, чтобы его любили и отец и мать, и всячески старался угодить им обоим. Но разве можно работать на паровозе и в то же время изучать медицину? Этот практический вопрос не волновал Джека. Он воображал, что сможет это делать, потому что с самых ранних лет, когда он носил еще коротенькие штанишки, у него было чувство, что все, за что он ни возьмется, должно ему удаваться.
Джек был, как говорится, парень-непромах. Одиннадцатилетним мальчиком он нанялся рулевым на рыбацкое судно на озере Мичиган. Он заявил капитану, что будет работать без всякого жалованья, если к концу дня ему позволят забирать всю рыбу, которая застряла в петлях сети. Затем с большими корзинами рыбы в обеих руках он возвращался домой и, проходя по улице, непрерывно голосил: «Свежая рыба, свежая рыба». Он приносил домой во много раз больше денег, чем получал бы за свою работу на судне.
В мальчишеские годы Джек обладал не только острым умом, но и дикой энергией. Мать должна еще больше его полюбить - такую задачу он себе поставил. Она должна полюбить его сильнее, чем младшего брата, который был болезненным мальчиком и мочился в постель. Чтобы еще больше подкузьмить брата, Джек два раза в день, утром и вечером, бегал разносчиком газет, а после возвращения из школы работал в аптекарском магазине. Ко всему этому он ухитрялся хорошо учиться в школе.
- Я готов был растоптать кого угодно, чтобы добиться любви к себе, - вспоминал Джек. - Это был первый признак созревавшего во мне сумасшедшего зверя.
Его система воздействовать на мать и завоевывать ее любовь работала, увы, в обратном направлении. В семнадцать лет, получив аттестат об окончании школы, он ушел из родительского дома. На сталелитейном заводе в Гари, скрыв свой возраст -Джек был крупным и плотным мальчишкой, - он ухитрился получить работу подсобного рабочего, надеясь скопить деньги и поступить на подготовительные медицинские курсы Индианского университета. Туго приходилось мальчишке на тяжелой работе с тяжелыми людьми в тяжелом виде промышленности. Но Джек и тут показал свою ловкость. Ничто не могло его остановить.
Начав (это было в 1925 году) с четырех с половиной долларов в день за десятичасовой труд, он, среди бушующей, адской жары мастерских, быстро пробивал себе дорогу; подсобный рабочий, отбойщик, шлаковщик, надсмотрщик, второй помощник, первый помощник. - он достиг наконец своей цели у огня открытых топок: к концу первого года он зарабатывал уже 14 долларов за восьмичасовой рабочий день.
Он научился ругаться на польском, немецком, испанском и литовском языках. Он научился жевать табак, несмотря на то, что это вызывало у него тошноту. Он упражнялся в искусстве глотать сандвичи - ломтик кровяной колбасы с острым желтым перцем - так, чтобы они не лишали его голоса и не вызывали слез на глазах. Он обучал неграмотного поляка основам английского языка, рисуя обломком доломита на полу мастерской короткие слова гигантскими буквами. Люди звали его «козликом» и любили за то, что он не отказывался ни от какой неприятной работы и не переставал улыбаться, когда над ним подтрунивали.
Джек вглядывался в измазанные сажей лица своих товарищей. Хотя большинству из них не было еще и тридцати лет, многие из них к концу смены выглядели шестидесяти-семидесятилетними. А Джек был неглупым парнем. В 1926 году он любовно с ними распрощался и поступил на подготовительные медицинские курсы Индианского университета. Что могло его остановить?
Потребовалось целых четыре года, чтобы пройти двухлетнюю программу обучения на подготовительных курсах. Работая на заводе, он скопил приличную сумму денег, но оказалось, что денег нужно гораздо больше - на всякие лабораторные занятия и дорогие учебники. Отец мог помочь ему только тем, что устроил его кочегаром на железную дорогу Монон. И Джеку пришлось совмещать работу на паровозе с университетскими занятиями. В 1929 году он был готов для поступления в университет. Теперь ему уж ничто не может помешать.
Он не собирался жениться до получения врачебного диплома, но женился, и это было неплохо, потому что жена его тоже работала. Через год у них родилась девочка. Он взял сверхурочную работу на железной дороге, пытаясь в то же время закончить первый курс медицинского факультета. Но тут он вывихнул себе колено и с ногою в гипсе не мог уже работать на паровозе.
Ему пришлось оставить университет, не закончив даже первого курса обучения.
- Энергии у меня было больше чем достаточно, - вспоминает Джек. - Я был напористым парнем. Но если я наталкивался на препятствие, я не стремился прорваться сквозь него или обойти его. Я поворачивал обратно и брался за что-нибудь новое.
Наступили годы большой депрессии в стране, и, несмотря на помощь отца, Джек был уже не способен проработать в должности кочегара достаточный срок, чтобы сделаться паровозным машинистом. И тут все пошло к чертовой бабушке, как выразился Джек.
Кто мог хоть на дайм заключить пари, что Джек когда-нибудь станет доктором? Он остался на мели с женою, с ребенком, и все его мечты...
А какой пример показал ему их домашний врач, тот самый «док», который возил его с собой на стареньком форде! Как он был чуток к каждому больному, видя в нем не только пациента, но и живого человека. Однако доктор и сам был человеком и попал в какую-то очень серьезную беду. Решив покончить жизнь самоубийством, он самым тщательным образом анестезировал себе оба запястья впрыскиванием новокаина. Затем стал у ванны, наполненной водой и вскрыл себе кровеносные сосуды на обеих руках лезвием безопасной бритвы. Немного хлопот причинил он людям, убиравшим за ним. Вот это человек, мрачно раздумывал про себя Джек.
Последующие десять лет Джек Фергюсон, экс-студент медицинских наук, проходил школу нравственного падения человека.
По сути говоря, он был самоучкой. Все его активы сводились к личной энергии и умению привлекать к себе людей. Он испробовал целый ряд профессий, так как не выносил рутины.
Он сделался страховым агентом и добился высоких показателей в работе, но вскоре оставил эту должность. Вечная погоня за рекордами надоела ему. Он опускался все ниже по социальной лестнице и стал буфетчиком в баре, незаконно торговавшем спиртными напитками; здесь он хорошо познакомился с картиной алкогольного психоза. Сам он пил мало. К концу «сухого закона» он использовал свою подготовку в колледже и стал лаборантом по перегонке виски. Он спустился еще ниже по социальной лестнице и поступил буфетчиком в гостиницу «Охотник» в Лафайетте, штат Индиана. Здесь ему повезло.
Один винокур прослышал о том, как он свободно разбирается в качествах разных сортов виски, и Джек даже не помнит, как он оказался торговцем спиртными напитками в отдаленных общинах Западного Висконсина.
Наконец-то он хорошо устроился. Ему не удалось стать доктором, чтобы угодить матери; он потерпел фиаско в своем стремлении сделаться паровозным машинистом, чтобы отец мог им гордиться, так вот он стал крупным дельцом, чтобы порадовать свою жену. Его энергия и личное обаяние вынесли его на большую волну, как это было когда-то на сталелитейном заводе. Он торговал водкой в кабаках и притонах, он продавал виски оптовикам, он познакомился с Ральфом и Аль-Капонэ и вскоре завел себе агентов, продававших его жидкий товар вагонами. Он стал крупным предпринимателем, и это ему было противно...
Медицина по-прежнему манила и звала его к себе. В конце тридцатых годов в химии разразилась революция; засыпав докторов своими дарами в виде сульфамидов, витаминов и гормонов, она сулила новое жизнеспасительное оружие простым, скромным домашним врачам. Именно таким врачом Джек всегда мечтал быть. Он годами наблюдал пагубное действие алкоголя на человеческое поведение, а тут стали поступать научные сообщения доктора Спайса о витаминных экстрактах, излечивающих алкоголизм.
Тлевшая в нем тоска по медицине вспыхнула с новой силой. Он сказал жене, что собирается бросить коммерческие дела с виски и поехать в Индиану, чтобы снова попытаться устроиться на медицинский факультет. Он припас некоторую сумму денег, но далеко не достаточную. Огорченная жена стала донимать его бесконечными вопросами. Когда же он получит возможность содержать жену и ребенка, если займется сейчас изучением медицины? И сколько еще времени пройдет, пока он обеспечит себя практикой? Ему, несомненно, придется уделять часть времени на Моаон. Пройдет, должно быть, десять лет, пока он станет практикующим врачом и сможет кормить семью. Да и хватит ли у него сил продолжать свои медицинские занятия после такого долгого перерыва? Примут ли его обратно на медицинский факультет и что он тогда будет делать?
Джек пошел на развал семьи с суровой решимостью.
- Оставались еще кой-какие вопросы - о моей способности учиться, о содержании семьи и прочее. Подытожив все это, я вернулся к медицине, потеряв одну жену и одну дочь.
Он аккуратно посылал деньги на содержание дочери. Жена его вторично вышла замуж.
Ему исполнилось 33 года.
В Индианском университете ученый совет медицинского факультета не очень высоко оценил его воскресший пыл к медицине. Один из профессоров, вручив ему карандаш, предложил удалиться в соседнюю комнату и написать небольшой очерк об этом карандаше.
Литературное произведение Джека оказалось не блестящим. Он путался в глаголах. Ему не хватало элементарной культуры речи: нетрудно растерять культуру, торгуя водкой. И вообще говоря, являются ли торговцы водкой подходящим человеческим материалом для высшего медицинского образования? На комиссию не произвели особого впечатления уверения Джека, что он все это быстро наверстает. Ему не верили, что он почти закончил первый год медицинского обучения с хорошими оценками десять лет назад. Хотя он и превосходно занимался два года на подготовительных курсах, комиссия предъявила ему требование, которое остановило бы девять человек из десяти.
Джек должен был вернуться на подготовительные курсы и снова пройти целый год обучения. В 1941 году Джек оказался на год дальше от своей мечты сделаться домашним врачом, чем десять лет назад.
Почему так не везло Джеку Фергюсону? Не обладая психологическим чутьем Достоевского, я затрудняюсь это объяснить. Почему он растрачивался по мелочам все эти годы? Что делало до сих пор его карьеру такой печальной цепью блистательных неудач? Джек объясняет это тем, что ему претило однообразие и не хватало настойчивости в преодолении препятствий - таких, например, как безденежье. Но, по-моему, это не объяснение. Масса юношей осиливает курс медицины - масса молодых парней, далеко уступающих Джеку в энергии, сообразительности, фотографической памяти, не обладающих его способностью привлекать к себе людей и так хорошо улыбаться. Они легко преодолевают трудности одной из самых строгих научных дисциплин - медицины и получают врачебные дипломы.
Все неудачи Джека я могу приписать только отсутствию у него одного качества, определение которого не найти ни в научном, ни в психологическом, ни в солидном толковом словаре. Это качество известно среди призовых борцов, футболистов и солдат-пехотинцев; некоторые из них проявляют его в моменты наивысшего напряжения, и называется это качество «мокси». Джек обладал многосторонними способностями, имел почти все, что требовалось от него в то время, за исключением мокси.
Мокси означает умение брать мертвой хваткой, иметь сердце бойца. Не должен ли каждый стремящийся к соперничеству в любой области родиться с мокси? Или, быть может, мокси глубоко скрыто и остается до поры до времени незаметным, а потом, в момент наивысшего накала, когда напряжение становится невыносимым, оно себя проявляет? Такие примеры известны; они бывают полны истинного драматизма и часто кончаются трагически. Держала ли судьба его в запасе для Джека? - Ответ на этот вопрос выявится в последующие десять лет его бурной жизни, начиная с 1941 года, когда он снова начал добиваться врачебного диплома, чтобы стать рядовым практикующим врачом, умеющим лечить больных и грешников, заблудших и убитых горем людей.
Глава 5
В начале сороковых годов Джек Фергюсон был совсем одинок. Отец его умер. Мать находилась в таком нервном состоянии, что трудно было к ней подступиться. Жена и дочь жили в Калифорнии. Не было никого, кто нуждался бы в его любви, и он остался один-одинешенек со своей мечтой стать доктором. Быстро пролетел год подготовительных занятий. После уплаты за обучение и лабораторные занятия на первом курсе весь его капитал составлял девяносто восемь центов; но он устроился буфетчиком на. вечерние часы и после занятий работал до 12 часов ночи. Не одну ночь просидел он напролет, чтобы выполнить школьные задания к завтрашнему дню. Теперь уж ничто не могло его остановить. Зачеты он сдал блестяще. Доктор Одвин Кайм устроил его на факультете - преподавать анатомию своим товарищам, студентам-медикам. Он ничего не предпринимал, чтобы уклониться от военной службы, и, когда призвали его возраст, был зачислен в армию. Казалось, вновь начинается старая жизнь - жизнь «перекати-поле». Но вот - вероятно, потому, что в военное время стране нужны хорошие студенты-медики, а может быть, и потому, что Джек был непомерно тяжелого веса, - армия вернула его в медицинскую школу.
Наботая по вечерам буфетчиком, Джек встретил девушку по имени Мэри, служившую кассиршей в таверне. Она была итальянкой. Ее серьезное, печальное лицо, говорившее о не очень счастливом прошлом, имело характерную особенность - неожиданно озаряться тихой улыбкой, и глаза у нее были серые, ласковые.
- Когда мы впервые с ним встретились, Джек был ужасно толстым, - вспоминает Мэри. - Это был настоящий боров. Он весил 260 фунтов. Он был таким жирным и противным, что сначала я даже смотреть на него не хотела, - серьезно объясняла Мэри.
Мэри посадила его на диету, в результате которой оп снизил вес до 210 фунтов. Джек получил развод, и в 1944 году они с Мэри поженились. Вот почему Джек так сильно к ней привязался: живя с Мэри, ему не приходилось отвлекаться от своей работы или распинаться перед нею, чтобы заслужить ее любовь. Она и сама зверски работала - убирала, стряпала, стирала и по многу часов сидела за кассой в таверне, чтобы помочь ему продержаться в университете. Мэри вспоминает, как успешно она повышала свой умственный уровень. Прямо удивительно, как быстро Джек посвятил ее в тонкости своей работы и разговаривал с нею, как с равной, о своих медицинских занятиях. Их жизнь обещала стать идиллией.
- Джек был так добр и благороден. Он с такой терпимостью относился к моему невежеству, - рассказывает Мэри.
Горячая любовь к, Джеку сделала Мэри его личным врачом. Во-первых, она помогла ему сбросить пятьдесят фунтов веса; потом ее стало тревожить, что он слишком щедро расходует свою энергию. Он проводил сутки без сна, работая в лабораториях, обучая студентов, не отказываясь от случайной работы в университетском дворе, просиживая за книгами большую часть ночи - ночь за ночью без перерыва.
- Он не спал и трех часов в сутки. Я боялась, что это подорвет его здоровье, - рассказывает Мэри. - Но никак не могла укротить его.
Джек обучался тогда в Индиакском университете, в Блумингтоне. Это было в начале сороковых годов, незадолго до того, как находившие на него приступы возбуждения стали по-настоящему беспокоить Мэри. Джек начал проявлять странности в поведении. Он забывал являться к обеду, а потом звонил по телефону из Индиансполиса, что очень, мол, извиняется и спешит вернуться домой ближайшим автобусом.
- Когда я спрашивала его, в чем дело, - рассказывает Мэри, - он только говорил: «Потому, что я проклятый дурак, - и все». Однко он не терял своего добродушия и всегда был ласков со мной. Тогда он еще умел держать себя в руках и не раздражался.
Весной 1945 года Джек заканчивал уже второй курс университета, занимаясь одновременно и преподаванием, и изучением медицины. Он так носился, как будто дом го-оел и ничто не могло охладить его пыл. Он занимался теперь в Индианополисе и лишь в конце недели приезжал в Блумингтон побыть с Мэри, потому что они никак не могли найти квартиру в перенаселенном военизированном городе. В мае 1945 года у него случился тяжелый приступ грудной жабы. Врачи и Мэри ждали его смерти.
После семинедельного пребывания в больнице Джека перевезли в Блумингтон и отдали на попечение Мэри.
- Единственным моим утешением, - вспоминает Джек, - была Мэри. Ее любовь и забота пробудили во мне желание жить дальше.
Но, находясь один в больнице, взволнованный мыслями о близкой смерти и о потере целого семестра, Джек нашел себе другое утешение, и оно не предвещало ничего хорошего. Во время сердечного приступа врачи давали ему барбитураты, чтобы он спал и не так сильно нервничал. А Джек, с его диким, почти маниакальным темпераментом, особенно нуждался в барбитуратах. На его взгляд, это было удивительное лекарство.
В Блумингтоне под неусыпной заботой Мэри он стал быстро поправляться.
- Все было прекрасно, - вспоминает Джек, - за исключением того, что я пристрастился к барбитуратам.
Джек стал принимать их даже без особой нужды и все больше и больше втягивался в эту привычку.
Я сознавал, что это нехорошо, но все же продолжал их принимать, - рассказывал Джек. - Они как-то затуманивали мои представления о действительности.
Возвращаясь в мир действительности, Джек стал бо-ятася повторения сердечного приступа, от которого он должен умереть или по меньшей мере распроститься с мечтою когда-нибудь сделаться доктором. Барбитураты стали для него заменителями мужества, мокси.
У Джека не было особенных оснований тревожиться за свое сердце - клиническая проверка в Индианополисе показала, что его сердце работало отлично. Но, когда он после этого осмотра шел к автобусной станции, чтобы ехать к Мэри в Блумингтон, многолюдие и толкучка на улице так на него подействовали, что он стал дрожать от страха; он не сомневался, что сейчас начнется новый сердечный приступ, а у него не было с собой успокоительных пилюль. Он не решился сесть в переполненный автобус и договорился с попуткой машиной о доставке его в Блумингтон. Но любезный шофер, согласившийся взять его в машину, оказался пьяным...
- Я никогда не забуду выражения лица у врача скорой помощи, когда он помог меня поднять, стер кровь с лица и узнал меня, - рассказывает Джек. - «Боже мой, Фергюсон, вы-то как сюда попали?»
Какой-нибудь час назад Джек беседовал с этим врачом в больнице. И Джека повезли обратно в больницу с вывихом плеча, отрывом ключицы, тремя сломанными ребрами и пятидюймовой раной на лбу.
Можно ли упрекать Джека за попытку самоутешения? В больнице у него было достаточно времени, чтобы отдохнуть, погоревать о своей судьбе и утешиться маленькими желтыми капсулами, которые так хорошо помогали забывать о страшной действительности. Капсулы стали его друзьями. Тем временем Мэри удалось выпросить для них обоих маленькую хижину на территории незаконченного строительства Дома ветеранов, и, чтобы им как-нибудь прокормиться, она устроилась на должность кассирши в медицинском отделении университета.
Профессора очень сочувственно отнеслись к Джеку. Несмотря на то, что он пропустил целый семестр второго курса, они снова поручили ему преподавать студентам хирургическую анатомию и заведовать биохимической лабораторией. Он обладал живым «химическим» воображением. Он способен был видеть теоретические шестиугольники и пятиугольники и боковые цепи сложных химических формул в трех измерениях, как будто они существовали в действительности.
Не могло быть никаких сомнений в умственной одаренности Джека; но его поведение стало серьезно беспокоить жену, по мере того, как он все больше подпадал под власть маленьких желтых капсул.
До этого времени Джек всегда был ласков и добр со мной - рассказывает Мэри, оглядываясь на прошлое. Но теперь на него находили припадки и он становился ужасно грубым. Он говорил: «Убирайся отсюда к черту! Не пойму, как я мог жениться на тебе»
- Но я не уходила, - продолжает Мэри. - Я упорно оставалась возле него.
Когда вспышка кончалась, Джек плакал и говорил Мэри: «Я же знаю, что ты все для меня в жизни».
Он снова начал бешено работать, хотя и не совсем поправился после автомобильной катастрофы. С рукою на подвеске он занялся преподаванием хирургической анатомии и биохимии. Он поглощал и переваривал горы всяких сложных знаний, и это вносило еще больше путаницы в его мозговую деятельность, и без того слишком активную. Он стал боязлив. Вся ата химия, которая так ему пригодится, когда он станет врачом, - что в ней толку, если его сердце может каждую минуту остановиться. И он снова хватался за маленькие желтые капсулы и забывался в тяжелом двухчасовом сне.
- Они действовали очень хорошо, - вспоминает Джек, - но их требовалось все больше и больше, чтобы заглушить страх и успокоить нервы.
Мэри была его врачом. Видя, что Джек едва ли сможет справиться с очередной барбитуратовой депрессией, Мэри настойчиво уговаривала его бросить свои капсулы. Она всячески выставляла перед ним его главную цель - добиться врачебного диплома. Отказавшись наконец от своей пагубной привычки, Джек стал тихим, мягким, с ясной головой и еще сильнее впрягся в работу. Но спал он все меньше и меньше, пока совсем не потерял сна. И вот...
Но случилось с Джеком Фергюсоном? Он почувствовал, что его мозг, сверхактивно работавший в течение многих лет, начал быстро утомляться. В своем стремлении химически приглушить работу мозга с помощью маленьких желтых капсул Джек сделал его из высокоактивного слабоактивным. Вместо того чтобы дать Джеку отдых, капсулы отравили его и привели к отупению и депрессии всячески старался победить ее и восстановить нормальную работу мозга с помощью кофе и бензедрина.
Джек и Мэри старались держать в секрете, что он стоял на пороге тяжелого нервного расстройства.
- Как вам удавалось скрывать от товарищей, что вы увлекаетесь барбитуратами? - спросил я недавно Джека.
Он усмехнулся:
- Обычно я развивал такую бешеную энергию, что когда стал слабоактивным, меня можно было принять за нормального человека.
В общем жизнь Джека и Мэри в те дни еще не представляла ничего трагического. Доктор Гэрольд Е. Бауман, близкий их приятель, вспоминает о лачужке Фергюсона в Грэвел Гольч, как о широко открытом доме. Случайно заглянувшим посетителям сразу давали понять, что Джек и Мэри будут обижены, если незваные гости не останутся ужинать. Фергюсоны были бедны, как церковные мыши, но Джек как-то ухитрялся наскрести от пятидесяти центов до пяти долларов, чтоб выручать нуждавшихся товарищей. А Мэри внимательно следила за тем, чтобы вовремя были посланы деньги дочери Джека.
Джек был большой выдумщик. Без гроша в кармане он устраивал товарищеские вечеринки, на которых разыгрывал из себя богатого лорда. Он предлагал гостям на выбор старое шотландское, контрабандное виски или импортный джин - все это подавалось в соответствующей посуде; происхождение содержимого не подлежит оглашению, синтезировал его сам отставной буфетчик Фергюсон из обыкновенного этилового спирта, которому он придавал соответствующий цвет и аромат.
Джек хорошо умел торговать - особенно самим собой. В один из редких вечеров, когда он позволял себе выйти из дому, Джек, Бауман и еще один студент зашли в таверну посидеть за кружкой пива, а в кармане у всех троих было не более тридцати центов. Джек быстро набросал черным карандашом на белой бумаге штриховой портрет хозяина бара. «Стоит это по кружке пива на троих?» - спросил он, улыбаясь. В этот вечер он нарисовал карикатуры на всех посетителей бара и обеспечил себя и товарищей таким количеством пива, какое они, не теряя достоинства, могли в себя вместить. Они просидели до закрытия заведения, и содержатель бара выпроводил их домой с тридцатью центами, которые остались нетронутыми в их карманах.
Несмотря на то, что Джек приближался уже к сорока годам, казалось, что энергия неисчерпаема. Делая отличные успехи в изучении медицинских наук и преподавании биохимии, Джек умудрялся еще подрабатывать - там доллар , а тут дайм, - подготавливая студентам трупы для занятий по анатомии, или, поднявшись чуть свет, он бежал в больницу для выполнения врачебных назначении, разнося больным кислород.
- Джек часто брал меня с собой посмотреть, как он препарирует трупы для студентов, - вспоминает Мэри. - Он так трогательно старался меня чему-нибудь научить а я была дура-дурой. Он водил меня и в детское отделение. Я очень гордилась, что ребята его так любят.
В 1946 году Мэри вдохнула в сердце Джека решимость сжечь за собой корабли, пожертвовав двадцатилетним стажем кочегара на Монон, и прямым путем идти к докторскому диплому. Бросив завод и вступив на этот путь восемнадцатилетним юношей, он через пять лет потерял все следы...
И вот в июне 1948 года наступил желанный день, которого он ждал двадцать два года. Наконец-то, в 40 лет он - врач, доктор Джон Т. Фергюсон. Он добился своего. Нет, неверно - этого добилась Мэри. Спасибо тебе, Мэри. Теперь путь для него открыт.
И тут началась полоса тяжелых испытаний. Джек вспоминает радостный день, когда он получил свой диплом. У него было такое чувство, что, если он сможет самостоятельно принять хоть одного больного в своем кабинете сельского врача, больше ему в жизни ничего не нужно. Лишь один год интернатуры отделяет его от этого дня из дней.
- Я был так бесконечно благодарен Мэри, - вспоминает Джек. - И еще больше повысил дозу барбитуратов, - добавляет он с горечью.
Я все больше недоумевал и не мог понять, что творилось с Джеком в те дни. Какое еще оправдание было у него для приема маленьких желтых капсул? Может ли он сам припомнить это? Конечно, он хорошо помнит дни получения диплома в 1948 году - торжественные и зловещие. Он все это записал. Вот дословный текст его записи:
«В последние годы медицинской школы я потерял Фергюсона, который мечтал сделаться сельским врачом, чтобы облегчать страдания людям. Я стал жертвой самозародившеися мании величия. Я - доктор, я стою выше толпы... Пусть они идут ко мне за помощью. Всякий раз, как подавала голос моя совесть, я начинал глушить себя барбитуратами, чтобы не слышать этого голоса... Хотя меня и волновала гуманная сторона медицинской профессии, деньги и власть стали моими путеводными огнями».
Вот как он толкует тот критический момент в его жизни. Но текущие проблемы дня он воспринимал вполне реально. Однажды вечером (это было в год его интернатуры) Джек, одурманенный капсулами, пробирался в ванную комнату, споткнулся, упал и разорвал себе связки ключицы. Он был слишком одурманен, чтобы вызвать врача. Мзри не было дома. Пытаясь унять боль, он принял добавочную порцию барбитуратов, а потом еще полграмма кодеина, и, когда утром пошел в больницу, он уже витал в облаках. Он выпросил у товарища еще двадцать пять таблеток барбамила, но этого хватило ненадолго, и, так как не мог больше их достать, впал в буйное состояние.
Начались галлюцинации. В соседней комнате врачи оперируют Мэри, и он слышит их разговор о том, что она безнадежна. Появились параноидальные идеи. Он горько жаловался, что врачи (его же товарищи) не обращают внимания на его разбитое плечо. Появились бредовые представления. Вот он летит на самолете с Джеком Бенни и доктором Ричи, и Джек объясняет им детали разработанного им плана, как подчинить себе весь Индиано-полис. И снова параноидальные идеи. «Куда ты девала свои бриллиантовые кольца и браслеты?» - кричал он на Мэри, у которой никогда и не было никаких драгоценностей. Его стали преследовать мысли об убийстве. Он грозился убить интерна, приставленного для наблюдения за ним.
- Они ничего не могли со мной сделать пока я шумел и буянил, -вспоминает Джек. - Я так бушевал, что человек не решался подойти ко мне, несмотря на то, что у меня было разбито плечо.
Диагноз: острый психоз на базе лишения барбитуратов Он стал «опасным» больным. Когда он в исступлении набросился на интерна, его наконец схватили и перетащили в палату для беспокойных больных, что был загон для скота, змеиная яма. Он слышал, как загремела железная дверь, и вот наш Джек под замком. Здесь он уже больше не был Джоном Т. Фергюсоном, доктором медицины, интерном и преподавателем в клинике медицинской школы Индианского университета. Здесь он был только Фергом - грязным, небритым, жалким и опасным дикарем среди сборища таких же диких, шумливых и буйных товарищей по несчастью. Он ничем не отличался от худшего из них и ел те же помои, сидя с ними за одним длинным столом.
Доктора совсем лишили его барбитуратов, и первое время это вызывало у него припадки остервенения. Но день за днем яд маленьких желтых капсул улетучивался из нейронов его больного мозга - и наконец Джек с просветленным сознанием мог сам поставить себе диагноз: психоз на почве лишения барбитуратов.
Химизм его мозга еще не так глубоко пострадал, и через две недели сознание совершенно прояснилось; врачи выпустили его из скотского загона.
- Если вы когда-нибудь слышали, как за вами захлопывается железная дверь, - говорит Джек, вспоминая, - то дальнейший ваш путь будет усеян жгучими укорами совести.
Эти укоры пошли Джеку на пользу. Он, конечно, опозорил медицинскую профессию. Но неужели они лишат его врачебного звания, зная, как долго он работал, чтобы добиться диплома? Он понимал, что не заслуживает их доверия, но кто мог устоять перед его простодушием, его улыбкой? Джек хорошо умел торговать - особенно самим собой.
Врачебная коллегия больницы проявила великодушие. Она смотрела на Джека не как на дегенерата или наркомана, а как на больного, выздоровевшего после острого заболевания. Ну, конечно, он может продолжать работу интерна, но при условии, что бросит свои наркотики. Доктора взяли на себя большую ответственность, допустив Джека к обслуживанию самых тяжелых больных и даже тех, кто был под угрозой смерти. Надо простить человеку первую ошибку - разве Фергюсон не зарекомендовал себя исключительно аккуратным и трудолюбивым студентом? Его умственные способности после болезни не пострадали, и он так чутко и внимательно относится к больным.
Возможно, что у них было еще одно основание допустить Джека к дальнейшей медицинской практике: доктор Фергюсон изучил основы психиатрии, так сказать, изнутри. Джек, как врач, знал теперь то, что невозможно понять ни из какой научной книги, как бы ясно она ни была написана. Он был в одно и то же время причиной, экспериментальным животным, пациентом и клиницистом-наблюдателем своего собственного острого психоза. И теперь, будучи в нормальном состоянии, он так живо об этом вспоминает и рассказывает очень точно и ясно. Может быть, это а известной степени и предопределило его будущий успех в роли сельского врача. Разве психические болезни не являются только образцами преувеличенных особенностей человеческого характера?
Бедный Джек! Он не понимал своего психоза. Для него осталось неясным, в чем заключается дефект его умственного и эмоционального механизма. Он не имел ни малейшего представления о том, какое нарушение химизма в его мозгу требовало приема маленьких желтых капсул. Его объяснения на этот счет абсолютно не научны; они совершенно голословны. Сначала он обратился к барбитуратам, потому что был до смерти напуган возможностью повторения сердечного приступа. Он было бросил их принимать, а потом снова начал, так как его мучила совесть, что он осквернил свой юношеский идеал настоящего сельского врача. Потом, желая унять боль в поврежденном плече, он повысил дозу барбитуратов сверх меры и... спятил.
Не являются ли все эти доводы просто желанием оправдать нехватку мокси, нехватку уверенности? Такова моя теория, но, может быть, она тоже ненаучна и голословна.
И вот он снова работает интерном на последнем этапе своего двадцатилетнего марафонского бега к званию сельского врача. Теперь вопрос стоял так: или - или, победить или умереть. Ему представлялся прекрасный случаи совершенно излечиться. Угрызения совести подкрепляли его. Яд барбитуратов из него выветрился. Мэри, которую он прогонял от себя и грозился убить, снова была c ним и простила его. Старшие доктора всячески его выдвигали. Все складывалось благоприятно для его возрожения.
Предоставим Джеку самому высказаться, как он реагировал на оказанное ему доверие:
- Я стал до того нервным, что мне трудно было зажечь сигаретку. Я всей душой готов был вернуться к работе, но не мог обойтись без капсул...
Джек был хитрым наркоманом. Он научился тайком принимать капсулы, чтобы никто об этом не догадывался, и так регулировать их дозу, что даже врачи ничего не замечали. Он старался перехитрить и врачей, и барбитураты. Он глубоко таил свой личный секрет и гордился этим. Обладая огромным избытком энергии, он мог при помощи тщательной дозировки несколько ослаблять сверхактивность поведения и казаться нормальным человеком, но лишь до тех пор, пока резко не повышал дозу наркотика. Он придумал еще одно извинение для своей наркомании: его волновал вопрос, как он справится с самостоятельной работой в качестве сельского врача. В июне 1949 года наступил наконец долгожданный день: он получил право врачебной практики в штате Индиана. Но доктор медицины Джон Т. Фергюсон был все-таки... ненадежным человеком.
Выслушав всю эту историю, я был в недоумении, и до сих пор недоумеваю, как умудрился Джек получить свой диплом. Странным казалось уже то, что доктора допустили его в интернатуру, но как могли они взять на себя такую ответственность - разрешить ему самостоятельную практику в Индиане? Я недавно спросил об этом Джека. Джек ответил, что он сам задавал этот вопрос доктору Давиду Мак-Кинли, директору медицинской школы Индианского университета.
Почему Мак-Кинли, Ричи, Кайм - опытнейшие медики и учителя, знавшие о несчастье Джека, - почему они дали ему закончить образование и получить право врачебной практики? Джек рассказывает, как ответил ему Мак-Кинли:
- Мы верим в вас и знаем, что вы своего добьетесь. Не знаем только когда. Вы не представляете, как все мы рады за вас.
В маленькой деревушке под названием Гэмлет с населением около 500 человек, совершенно лишенных медицинской помощи, Джон Т. Фергюсон с большим успехом проработал лето 1949 года. Жители Гэмлета и окружающих ферм наметили собрать 5000 долларов, чтобы оборудовать ему кабинет, но Джек им так полюбился, что оказалось нетрудным собрать 12 000 долларов - под 6% годовых. Они выстроили ему кабинет и купили автомобиль.
Начинающему доктору Фергюсону не пришлось дожидаться пациентов; с самого начала им пришлось его дожидаться, а почему бы и нет?
Вина он не пил; ему шел уже сорок первый год. В нем было много личного обаяния. Он пробивал себе дорогу в жизни неустанным трудом: был сталеваром, буфетчиком, кочегаром на Монон, преподавал студентам анатомию и двадцать лет упорно работал, чтобы завоевать диплом врача. Он, конечно, знал жизнь, а такому человеку нетрудно разобраться, болен ты или здоров. Уж одна его улыбка, не говоря о лекарствах, внушала больному такое чувство, что он непременно должен поправиться. С самого начала практика захлестнула его.
Доктор и миссис Джон Т. Фергюсон - какая чудная пара, какое приобретение для общины! Мэри была у Джека управляющей кабинетом, рецептором и бухгалтером. А сколько искусства она проявляла как медсестра, кухарка и домашняя хозяйка!
Какую же гору работы сворачивал доктор Фергюсон! Ранним утром он выезжал по делам в близлежащий городок Ла-Порт, оттуда спешил вернуться к своему утреннему приему, в полдень проглатывал бутерброд, не вставая из-за рабочего стола, потом мчался по вызовам в район и кончал свой дневной труд хорошо если к четырем часам утра. Когда же доктор Фергюсон спал?
Если его вызывали к больному на дом, то, как бы ни был утомлен, он никогда не отказывал. Джек был честным врачом. Если человек страдал ревматизмом и Джек назначал ему новое средство - глюконат кальция, он никогда не давал ручательства, что лекарство обязательно его вылечит. «Возможно, это принесет вам пользу», - говорил он. Он действовал на больного своим личным обаянием. Он облегчал состояние больного, когда лекарства отказывались помочь. Он добивался этого взглядом своих темных глаз, теплым вниманием к больному и чудесной улыбкой, которая не сходила с его лица.
Приемная Джека в деревушке Гэмлет становилась иногда похожей на сельскую ярмарку: народ стекался к нему из всего района за тридцать, сорок, пятьдесят миль, словно он был великим чудотворцем. Казалось, ему суждена большая медицинская карьера; но он неизменно показывал жителям Гэмлета, что намерен у них остаться. Он расходовал взятые у них взаймы деньги не только на постройку медицинского пункта, но и тратил их на приобретение ультрасовременного рентгеновского аппарата, лабораторного оборудования, самых модных антибиотиков и других фармацевтических средств. Чтобы обеспечить Гэм-лет всем лучшим, что есть в медицине, доктор Фергюсон залез в долги на 50 000 долларов - такие, по крайней мере, ходили слухи. Он ничего не жалел для своего Гэмлета. А жители Гэмлета и окружающих ферм ничего не жалели для доктора Джека Фергюсона. Он любил летом полакомиться свежими овощами, которые оставляли ему благодарные пациенты, а осенью отборные мясные продукты с окружающих ферм переполняли кладовую Фергюсонов.
Незадолго до окончания интернатуры его друг и товарищ по курсу доктор Гэрольд Бауман предсказывал, что, когда Джек займется практикой на селе, его будут страшно любить, он сделает людям много добра и соберет бочку золота. Не прошло и года работы в Гэмлете, как Джек уже обменял свой Плимут на Линкольн, выплатил долг за постройку медицинского пункта и окупил все свои затраты на оборудование и лекарственные средства. Но когда же Джек спал?
- Первые признаки, по которым я узнала, что Джек опять взялся за барбитураты, - говорит Мэри, вспоминая лихорадочные дни в Гэмлете, - это заплетающийся язык и спотыкающаяся походка.
Мэри боялась, что пациенты тоже это замечают. Но нет, они нисколько не подозревают, что доктор Фергюсон выпил, они не слышат от него никакого запаха - значит, он не пьян - должно быть, просто переутомился. Он ведь спит не больше двух часов в сутки, говорили они.
Вся беда заключалась в том, что Джек никому не умел отказать в помощи - ни больному, ни здоровому, вообразившему себя больным, ни человеку, просто желавшему получить «наложение рук» этого чудесного доктора, который, несмотря на высокое образование, так добр, и так ободряет своей улыбкой, и так благороден, что не может никому отказать.
Настоящие больные и просто любопытные ежедневно стекались в Гэмлет, и перед приемной Джека можно бы увидеть автомобили с номерами из Огайо, Мичигана и Иллинойса.
Но в глубине души Джек сознавал, что он вовсе уж ке так добр.
- Я не мог никому сказать «нет» - в этом главная причина моего падения, - вспоминает Джек. - Я мучился, я терзался, я напичкивал себя пилюлями и капсулами, чтобы заснуть, чтобы уйти от всей этой нелепицы, я стал глотать их просто так, без всякого повода - все больше и больше...
Мэри помогала ему - она, как всегда, была его доктором, Джек несколько раз бросал свои капсулы. Он выходил на время из своего химического тумана, и голова его прояснялась.
Зачем же он снова возвращался к этому дурману, если дела у них шли так успешно? Джек искал какого-то оправдания. Он нашел его. Он получал слишком много денег за оказываемую людям помощь. Конечно, он спас жизнь нескольким больным, но ведь это сделали антибиотики, а не сам Фергюсон. В своей большой практике он назначал слишком много лекарств, уколов и пилюль, между тем как нежная любовная забота могла бы дать гораздо лучшие результаты. Он выписывал пилюли и делал уколы, не установив еще точного диагноза болезни. Он тратил слишком много времени на выслушивание женщин, которые совсем не были больны, а пришли только за его улыбкой.
Почему он не мог подыскать что-нибудь получше, чем глюконат кальция, для своих ревматиков, несчастных мучеников, которые, уходя из его кабинета, забывали о своих болях, согретые обаянием его личности? Будь она проклята его личность!
Он хотел по-настоящему помогать людям, а не только выколачивать из них деньги, и все-таки выколачивал слишком много денег. Его терзал обличающий голос совести, и он глушил его барбитуратами...
Почему Джек не мог сказать людям «нет»? Объясняется это не только его благородством, не только его великодушием, подобно актеру,или популярному романисту, или кинозвезде он начинал верить в свою собственную рекламу. Только что сойдя со студенческой скамьи, после одного лишь года интернатуры он ведь не мог быть идеальным сельским врачом. Неужели успех так испортил доктора Фергюсона? Да, надо признать, он таки порядочно сбивал его с толку.
Джек лежал в постели в тяжелом барбитуратовом дурмане. Пациент, приехавший издалека, просил, чтобы доктор его принял. Мэри, взяв телефонную трубку, что-то врала, хотя терпеть этого не могла. Телефон не переставал звонить. «Перебори себя. Не обращай внимания. Пошли его к черту», - подсказывали Джеку его утешители - маленькие желтые капсулы... В июле 1950 года, после десятимесячного шумного успеха в роли сельского врача, Джек Фергюсон был водворен в «буйную» палату Больницы ветеранов в Индианополисе.
За тринадцать месяцев, с июля 1950 по август 1951 года, Джек Фергюсон три раза побывал в больнице из-за барбитуратового психоза и каждый раз слышал, как за ним захлопывается железная дверь; и каждый раз доктору Бернарду Фрэзину и его персоналу требовалось все больше времени, чтобы выветрить из Джека яд желтых капсул: первый раз - четырнадцать дней, потом - тридцать девять, а в третий раз - два месяца и тринадцать дней. И всякий раз требовалось все больше времени, чтобы Джек мог восстановить свою психику и вернуться к врачебной практике. Доктор Фрэзин упрашивал его остаться в больнице, чтобы с помощью психотерапии вырвать его болезнь с корнем. Но Джек всячески уклонялся от этого. Он, мол, сам с нею справится.
Доктор Фрэзин, милый и чуткий человек, советовал Джеку продать свою практику и устроиться «на более спокойную работу». «Да, в какой-нибудь каменный мешек для сумасшедших», - думал Джек. Ни за что. Он должен во что бы то ни стало стать прославленным сельским доктором; он еще им всем покажет.
Мэри гордилась Джеком, который с таким блеском начал свою врачебную деятельность. Если бы только существовало звание «лучший начинающий врач года», высшая медицинская коллегия должна была бы признать его таковым.
И вот однажды ночью его вызвали к больному куда-то далеко в район. Да, да, хорошо, он будет готов через полчаса, промямлил Джек заплетающимся языком. Он кое-как напялил на себя новый костюм, спотыкающейся походкой дошел до своего автомобиля, открыл дверцу и шлепнулся прямо в грязь.
Мэри безуспешно уговаривала его встать, пыталгсь сама его поднять - ничего не получалось; она вынуждена была позвать двух мужчин соседей, чтобы перенести его в дом.
- Мне было ужасно стыдно, - вспоминает Мэри, - но гамлетовские жители проявили столько внимания к нему. Они любили Джека, считали его больным и все ему прощали.
В отплату за добрые чувства граждан Джек стал обвинять их во всех своих несчастьях. Он уже не корил самого себя за неумение сказать «нет». Он не ругал себя за приступы барбитуратовой депрессии, которую он старался прогнать с помощью кофе и кофеина.
Он ругал Мэри. Она казалась причиной всех бед, он был в этом уверен.
Однажды ночью он выгнал ее из дому. Ей стыдно было идти к соседям, и она всю ночь просидела в машине, накинув пальто на ночную сорочку. А на другой день он плакал и умолял простить его. Он обещал окончательно бросить свои капсулы и вернуться к работе... Потом он задумал убить ее.
- Вы должны как следует оценить преданность Мэри, ее святое смирение перед злою судьбой, - вспоминает Джек, пытаясь мне это объяснить. - Я отблагодарил ее тем, что стал подсыпать ей в пищу барбитураты... Все больше и больше... Когда она была уже на пороге смерти, вдруг опомнился и в первый раз за много месяцев стал настоящим врачом.
Метод борьбы Джека с собственным психозом был не только грубоват в отношении Мэри, но на какой-то момент он снова сделался доктором; он давал ей возбуждающие средства, делал внутривенные вливания, кормил ее и ухаживал за ней... и спас ей жизнь. Ясность сознания у Джека продолжалась до момента выздоровления Мэри.
Потом угрызения совести - так определяет Джек свою меланхолию - вынудили его опять взяться за капсулы. У него начались зрительные галлюцинации. Он упал на пол, и Мэри не в состоянии была его поднять и уложить в постель. Все перед ним двигалось, как в калейдоскопе. Малейший поворот головы - и картина менялась. Какие-то ярко раскрашенные узоры вдруг покрывались волосами. Он кое-как поднялся на ноги, но вся комната была полна стульев, и он не мог сквозь них пройти. Он стал звать Мэри, но не мог до нее добраться, и ее голос раздавался откуда-то издалека.
Наконец она уложила его в постель. Но едва он закрывал глаза, перед ним снова начинал вертеться вихрь узоров, потом появлялись волосы, и стулья обступали его со всех сторон.
Джек вспоминает, что он поглощал невероятное количество барбитуратов, от которых по двое суток валялся в постели, но он и мысли не допускал, что это может свести его в могилу. Во всем мире не хватило бы барбитуратов, чтобы убить его. Он замышлял покончить жизнь самоубийством, если его лишат звания сельского доктора.
Первого декабря 1951 года Джон Т. Фергюсон бросил свою практику в Гэмлете. Он просто повесил замок на Дверь своего кабинета и уехал. Он держал себя в руках ровно столько времени, сколько требовалось для поступления в Больницу ветеранов в Марионе, штат Индиана, но через две недели, когда выяснилось, что он тайный барби-турист, его уволили. Мэри не отходила от него. Мэри - это все, что у него оставалось. Она была ему верной н Доброй женой, но потерпела крах в роли его врача. Джека выгнали. Ему больше некуда было сунуться с предложением работы. И наша бесприютная парочка, Джек и Мэри, отправилась к доктору Бернарду Фрэзину в Больницу ветеранов в Индианополисе - к тому самому доктору Фрэзину, которого Джек в своей самонадеянности не захотел слушать.
- Мы еще раз попробуем им заняться, если вы нам поможете, - сказал Мэри доктор Фрэзин. - Вы не должны с ним видеться, не должны говорить по телефону и даже писать ему в продолжение шести месяцев.
Мэри сказала доктору Фрэзину, что он может на нее вполне положиться (и можно ли было усомниться в Мэри Фергюсон?).
- И еще одна просьба, - сказал доктор. - Надеюсь, вы не откажетесь пройти проверку у психиатра?
- Вы думаете, это я во всем виновата? - спросила Мэри, широко открыв свои серые глаза. - Разве я больна? Вы меня тоже считаете сумасшедшей?
Доктор Фрэзин поспешил ее успокоить - нет, нет, он только хочет дать ей понять, что именно они собираются сделать для Джека.
Сидя под замком в закрытой палате Больницы ветеранов, Джек чувствовал, что это уже конец и возврата для него нет. Лишенный барбитуратов, он в этот раз не дал обратной реакции. Теперь это был уже не острый барбиту-ратовый психоз; это была глубокая меланхолия. Это была низшая фаза «качания на доске», когда он смутно чувствовал, что вся его жизнь, кипевшая энергией за трех человек, теперь затухает и сходит на нет. Однако у него хватило еще внутренней силы, чтобы сделаться злым и агрессивным.
Куда девалась сообразительность Джека, которой он втайне так гордился?
- Я надолго потерял веру в свои способности, - вспоминает Джек. - Я обладал индивидуальностью дохлой рыбы.
На сеансах групповой терапии Джек, чуть только на него кто взглянет, разражался слезами. Он никак не мог объяснить доктору Фрэзину причину своего тоскливого настроения. Персонал больницы считал Джека подходящим кандидатом для лечения электрошоком, но доктор Фрэзин возражал. Он говорил своим помощникам, что если бы он сам был психотиком, то не желал бы для себя такого лечения. Доктор Фрэзин был добрейшим человеком, и это как-то дошло до сознания Джека - вот доктор, который не станет его мучить. Он смутно стал реагировать на это оригинальное лекарство... В больнице был надзиратель негр, по имени Грифф, и другой рослый парень, по имени Терри, которые, помогая ему мыться и одеваться, обращались с ним не как с безмозглым идиотом, а как с человеческим существом. Они проявляли к нему нежную, любовную заботу. Сконденсируем это понятие в одно слово из четырех букв - «Love» («любовь») - вот это новое лекарство...
Я внимательно просматривал в медицинском словаре букву L и дошел до слова «Lovade» Оно определялось как корень зонтичного растения, экстракт которого стимулирует менструации, а также приносит облегчение при вздутии живота... Но слова «Love» я не нашел в медицинском словаре Дорлэнда.
Доктор Фрэзин дал понять Джеку, что его глубокую меланхолию может облегчить беседа о пережитом прошлом с симпатичным психиатром. Во время предыдущих своих «визитов» в запертую палату Джек отвергал этот совет.
- На этот раз я чувствовал себя загнанным в тупик, - рассказывает Джек. - Практику я потерял. Сидел под замком в больнице. У меня ничего не оставалось, кроме Мэри, да и ей уже, очевидно, надоело терпеть мое дикое поведение. Путь вверх был для меня отрезан, а пасть ниже я уже не мог.
И вот благодаря любезности доктора Фрэзина Элвуд Фиппс и ныне покойный доктор Пэлмер Гэллоп сделались учителями Джека в «институте высшей психиатрии для одного человека», и по сравнению с этим испытанием скотский загон, в который он попал в период интернатуры, казался ему детским садиком.
Доктор Фиппс и доктор Гэллоп не говорили Джеку о том, как он плохо себя вел в прошлом и как ему надлежит вести себя в будущем, если он хочет стать порядочным и нормальным человеком. Доктор Фиппс и доктор Гэллоп попросили Джека изложить в письменном виде свои мысли и переживания.
- Я чувствовал, что, если меня что-нибудь мучает и я это записываю, беспокойство на некоторое время затихает, - сказал Джек, объясняя мне этот метод лечения.
Затем доктор Гэллоп читал Джеку его собственную запись. Вместо того чтобы ругать его за такое прискорбное поведение, доктор Гэллоп просто спрашивал: «Почему вы так поступили, Джек?.. Почему, почему, почему?» Зто была простая исповедь, но Джек стал чувствовать, что, осознав тот или иной свой скотский поступок, он никогда больше не будет вести себя таким мерзавцем. Это была суровая школа...
К концу шестимесячного пребывания в больнице, непрерывно копаясь в темных глубинах своего «я», Джек изменил свое представление о самом себе. Он уже не смотрел на себя как на доктора-самоучку, обладавшего динамической энергией; он уже не придавал цены своей обаятельной улыбке, способной приманивать птиц с деревьев. С мальчишеских лет у него была своя тайная цель. Эта цель была узко эгоистична. Он готов был растоптать кого угодно, мог наступить на самого близкого человека, готов был задушить Мэри, лишь бы добиться своей цели: возвеличения Джека Фергюсона.
Доктор Гэллоп дал Джеку почитать книгу швейцарского ученого Карла Густава Юнга, психолога, утверждавшего, что современный человек безнадежно заблудился, и умственно, и морально, в бесплодных поисках своей души.
Душа? Что это еще за новый термин для практикующего врача? Когда Джек пытался объяснить мне, чему научил его Юнг, я попросил объяснить мне значение слоза «душа», но Джек не смог этого сделать. Тогда я опять обратился за авторитетным разъяснением к медицинскому словарю Дорлэнда. «Soul» - душа. Вот есть «Souffle», означающее легкий звук дуновения, слышимый через стетоскоп. А вот «Suolal», означающее тяжелую форму чесотки, наблюдаемой у беднейшего населения арабских стран.
Но «Soul»? - такого слова я не нашел в медицинском словаре.
- К концу шестимесячного лечения, - рассказывает Мэри, - Джек пытался дозвониться мне в Марион, в Индиане, где я тогда жила. У него совсем не было денег, и он пытался устроить телефонный разговор в складчину.
У меня буквально сердце разрывалось, но я хранила молчание.
Джек хотел только сказать Мэри, что он наконец выбрался из дебрей, что в голове у него светлый день и он теперь знает, как начать новую жизнь. Джек глубоко осознал, сколько горя он причинил людям, сколько друзей растоптал на своем пути. Он смотрел на свою прошлую жизнь, как на жизнь другого, давно умершего человека. И он был беспощаден к покойному Джеку Фергюсону.
- Было необходимо для моего излечения признать, что я вел жизнь типичного ублюдка: ведь факты же нельзя ни изменить, ни уничтожить.
Незадолго до выхода из больницы Джек написал Мэри письмо, а потом как-то дозвонился по телефону и сказал, чтобы она письмо не читала. Мэри прочла его. В письме он смиренно спрашивал ее, не думает ли она, что после всего, что было, ей лучше развестись с ним. Тогда каждый из них сможет начать жизнь сначала.
Доктор Фрэзин сообщил Мэри по телефону, что он все больше и больше доволен состоянием Джека. Потом она сама позвонила доктору, спрашивая, не лучше ли ей действительно разойтись с Джеком.
Тихий и деликатный доктор Фрэзин вспылил:
- Да вы что, черт побери, хотите убить его? Он сам себя убьет, если вы его бросите. Он только и думает, только и говорит о вас. Я надеюсь, что теперь он уж по-настоящему выздоровел. Не падайте духом, Мэри.
Это было наградой Мэри Фергюсон.
Казалось прямо-таки странным, насколько этот швейцарец. доктор Юнг, своей книгой «Психологические типы» - очень сложной и трудно понимаемой, - насколько он воодушевил и подбодрил Джека. Доктор Юнг в этой книге часто цитирует мудрые изречения одного доминиканского монаха, жившего в тринадцатом веке. Его имя Мэистер Эккегарт, и о жизни его почти ничего неизвестно, за исключением разве того, что можно найти в его сочинениях. Вот что писал старый Мэйстер Эккегарт: «И раньше и теперь редко случается, чтобы человек совершал великие деяния без того, чтобы сначала не пройти через полосу заблуждений».
После выхода из больницы первым пациентом Джека была Мэри, страдавшая сердечными спазмами. Когда он к ней вернулся, Мэри сразу поняла, что он выздоровел. Почему она была так уверена в этом, спросил я ее недавно.
- Я знала, я видела это, я чувствовала, что это так... Я просто поверила - вот и все.
Что же это была за вера (faith), на которой Мэри основывала свой прогноз?
Давайте еще разок заглянем в медицинский словарь. На том месте, где должно бы стоять слово «faith», стоит слово «falcadina», означающее «болезнь в Истрии, характеризующаяся образованием папилемы».
Что касается Мэри, она вполне удовлетворяется толкованием своей библии, в которой сказано:
«Вера есть сущность того, на что мы надеемся, очевидность того, чего мы не можем видеть».
Глава 6
В мае 1952 года Джек Фергюсон (ему было уже 44) начал новую жизнь. Он устроился на работу резидентом - психиатром в больницу штата Индиана в Логзнснорте. Должность эта не такая уж солидная, какой кажется по названию. А для Джека как раз было важно нырнуть поглубже и начать новую жизнь врача, начинающего с самых азов. В психиатрических больницах существуют два типа резидентов. Есть молодые, подающие надежду доктора, которые должны прослужить несколько лет в штате больницы, приобрести специальность; только после этого они получают право заниматься частной практикой. Джек Фергюсон был резидентом другого типа. При его отвратительном прошлом он едва ли мог надеяться на блестящую карьеру в роли врача-психиатра - ни в финансовом, ни в академическом плане. Для него, бывшего наркомана-барбитуриста, работа в сумасшедшем доме могла быть только пристанищем, не более того.
Единственное, на что годится доктор медицины Джон Т. Фергюсон, - это на роль врача-надзирателя в Логэнспортской больнице. Разве не был он психотиком, отпущенным под честное слово, способным лишь охранять и сторожить душевнобольных, в большинстве своем безнадежных?
Палатный надзиратель - если только он опять не собьется с пути - вот, казалось, единственная медицинская карьера, на которую мог рассчитывать Джек Фергюсон.
Но вскоре после поступления в Логэнспортскую больницу Джек опять начал заниматься по ночам. Он решил освежить свои знания по анатомии нервной системы, хотя сам когда-то преподавал ее студентам в медицинской школе. Джек углубился в сложнейшие детали топографической анатомии головы, начав со скальпа и проникая все дальше сквозь кости черепа в тайные глубины человеческого мозга. После унылой дневной работы в роли палатного врача-надзирателя Джек по ночам практиковался в мозговых операциях на головах умерших пациентов больницы.
Никто ему не мешал. Всегда найдется широкое поле для работы - и внизу, и наверху. Работая в полном одиночестве, Джек занялся изучением новой, причудливой ветви психиатрической науки. Из ночи в ночь он зарывался с головой в научные труды смелого и блестящего невропатолога доктора Уолтера Фримэна, американского пионера психохирургии, оператора на больном мозгу. Но как можно оперировать на умственных способностях человека?
Романтика новой отрасли хирургии очаровала Джека. Операции с просверливанием черепа и рассечением мозга впервые были осуществлены португальцем со странным именем Эгас Мониц, малоизвестным ученым, хотя и нобелевским лауреатом. А усовершенствовал и ввел в обиход моницевские операции Уолтер Фримэн, который до того их упростил, что сам же называл «малыми операциями». Можно ли придумать что-нибудь более фантастическое? Отнимая у сумасшедших часть мозга, Уолтер Фримэн добавлял им умственных способностей...
Но обратите внимание на Джека Фэргюсона. Едва пробившись сквозь грозовые годы собственного безумия, как смог он достичь такой ясности сознания и такой усидчивости, чтобы самому заняться этой работой? Не успел он под руководством доктора Гэллопа вытряхнуть остатки собственного слабоумия, как был уже полон стремления не только изучить, но поднять еще выше сверхсовременное искусство психохирургии.
Не потребовалось ни шокового лечения, ни ножей, чтобы выкорчевать безумие из мозга Джека. Какой волшебный эликсир применял доктор Гэллоп? Что именно так эффектно преобразило жалкого, небритого, обливающегося слезами, угрюмого отщепенца Джека Фергюсона в энтузиаста-исследователя, стремящегося лечить безнадежных психотиков?
Я неоднократно спрашивал Джека, в чем заключался секрет доктора Гэллопа. Он всегда отвечал, что доктор Фрэзин и доктор Фиппс, особенно же доктор Гэллоп, заставили его глубоко заглянуть в самого себя и увидеть все, что он натворил.
- Я стараюсь забыть об этих скверных делах, потому что они причиняют мне боль, - объясняет Джек. - Помнить о них значило бы подорвать мою веру в самого себя.
В Джеке Фергюсоне есть много от Достоевского.
- Я посмотрел в лицо «дикому зверю», сидящему во мне, и это прояснило мой ум, очистило мозг, - говорит Джек.
Он сравнивает свои грозовые годы с борьбой Голиафа с Давидом.
- По библии выходит, что, если бы Давид не победил Голиафа, мог наступить конец человечеству.
Он посмотрел на дикое чудовище в себе, и это был его Голиаф.
- А что же было вашим Давидом? - спросил я.
- Давидом было маленькое, слабое внутреннее «я» во мне...
- Вы хотите сказать - ваша совесть?
- Да, пожалуй, можно и так назвать, - согласился Джек.
Это было не столь научно, как поэтично. Поскольку нет строгой анатомической локализации для того, что мы называем «совестью», едва ли можно отыскать определение этого слова в Дорлэндовском медицинском словаре, Да я и не пытался это делать. Но, поскольку совесть сказалась таким мощным лекарством для Джека, я отыскал ЗТ0„слово в новом академическом словаре Вебстера, который дает общепонятные ответы невежественным людям, задающим элементарные вопросы...
«Совесть - это чувство или сознание добрых или злых побуждений в вашем поведении, намерениях или характере, одновременно обязывающее поступать правильно или быть добродетельным».
В нашем исследовании умственных и эмоциональных факторов, приведших Джека к столь быстрому восстановлению своего умственного здоровья, это определение слова «совесть» звучало скорее прописью для воскресной школы, чем научным понятием. Рассуждая на эту тему с Джеком, я старался подыскать какое-нибудь слово, не столь сладкоречивое, как совесть.
Я спросил его:
- Скажите, трудная ли это задача разобрать по косточкам собственную жизнь. Проанализировать ее от начала до конца... признать, вспомнить и постоянно не забывать то, что было в ней плохого... не было ли важным результатом всего этого то, что вы научились быть честным?
- Точно, - сказал Джек Фергюсон.
И тут же продемонстрировал это мощное лекарство в действии.
- Мне так легко и просто говорить с вами о себе самом, - сказал Джек. - Выкладывать вам и Рии все подробности своего сумасшедшего и запутанного прошлого. Говоря об этом, я поражаюсь, как мог человек так крепко себя закрутить и остаться в живых, чтобы рассказать об этом.
Честность - таков был эликсир доктора Гэллопа.
Джек всегда обладал большим умом, и, несмотря на позорный крах в Гэмлете, у него оказалось достаточно ума, чтобы выбраться из пучины безумия под руководством доктора Гэллопа. Но разве высокий ум не идет часто в ногу с умственной неустойчивостью? Джон Драйден, который был только поэтом, а не психиатром, думал именно так, когда писал более двухсот лет назад:
Высокий ум безумию сосед,
Границы твердой между ними нет.
Но если принять во внимание глубину психоза Джека, когда он старался выкарабкаться из мрака безумия, как мог сохранить он столько ума, чтобы поддаться влиянию докторов Фрэзина, Фиппса и Гэллопа? Почему он оказался доступным для психотерапии доктора Гэллопа? Пытаясь объяснить это мне, он не переставал проклинать себя за свой барбитуризм.
- Я был слаб, безволен и витал в облаках, когда последний раз пришел в Больницу ветеранов, - говорит Джек.
Однако он был далек от тупого оцепенения, как это обычно бывает с тяжелыми психотиками, попадающими в больницу.
Чем же можно объяснить, что Джек, будучи сумасшедшим, смог все-таки воспринять мудрость доктора Гэллопа?
Не у самого Джека, а из другого источника я нашел ключ к решению этой загадки. Думаю, что это и есть правильный ответ на вопрос. Я не психиатр и даже не психолог-любитель, и моя теория может показаться несколько притянутой за уши, но я расскажу о ней, потому что она объясняет факт возрождения Джека и его последующие большие успехи. Прошу все же помнить, что моя догадка при всей своей оригинальности не имеет под собой никакой научной основы.
Впрочем, источник моей теории заслуживает всяческого уважения. Эта мысль осенила меня при чтении «Психохирургии» Уолтера Фримэна и Джемса У. Уоттса, которая представляет собой удивительную смесь неврологии, психиатрии и хирургии. Она очень просто объясняет, как используются эти научные дисциплины, чтобы выследить и поразить невидимых врагов умственного здоровья, коверкающих наш мозг.
В этой книге доктор Фримэн показывает, как человек со странностями (шизоидная личность), вроде Джека, превращается в подлинного шизофреника, потерявшего контакт с действительностью. Когда я читал эту грустную историю, меня вдруг озарила мысль, что если бы Джек не стал наркоманом-барбитуристом, психотерапия доктора Гэллопа не могла бы на него подействовать.
Не поймите меня превратно. Это вовсе не значит, что я рекомендую барбитуратовую наркоманию в качестве профилактического средства против безумия.
Высказывание Фримэна о том, как странности в характере человека могут перейти в настоящее сумасшествие, взволновало меня - описание этого процесса в точности соответствовало жизненной истории Джека Фергюсона. Странная личность, как доктор Карл Меннингер определяет шизоида, стремится к самосовершенствованию для того, чтобы завоевать кажущееся ему великое будущее. Внешне Джек Фергюсон был, как говорится, рубахой-парнем. Но внутри Джека сидел фримэновский шизоид, стремившийся к идеалу совершенного сельского врача, который лечит не болезни, а больного человека и наблюдает своих пациентов от колыбели до могилы.
Это была эгоцентричная, глубоко вкоренившаяся идея Джека. Это была его честолюбивая мечта, тайная его цель, как он сам это называет. И как модель будущего идеального сельского врача все должны были любить его - и мать, и отец, и жена, и дочь, - и, чтобы добиться этого, он должен угождать им всем, работая то железнодорожным машинистом, то крупным торговцем виски, а к тому еще и доктором. Вы все это помните. Столь широко разбросавшись, он при всем своем уме и энергии потерпел неудачу, и неудача ошеломила Джека Фергюсона.
Доктор Фримэн хорошо объясняет в своей книге, что может произойти с таким эгоцентричным человеком. Он стремится к самосовершенствованию. Он старается заглянуть в свое будущее. Мечты о будущем завладевают им полностью. Он становится одержимым этими мечтами и все больше и больше сосредоточивает внимание на самом себе, отворачиваясь от окружающего мира. Он непрерывно пережевывает жвачку своих фантазий, чтобы еще и еще раз проверить, обсудить и обдумать их. Они все глубже и глубже закрепляются в его сознании, становятся навязчивой идеей, подавляющей весь механизм его мышления, тормозящей нормальную работу мозга.
Так это и было у Джека Фергюсона, когда в медицинской школе у него произошел приступ грудной жабы. Это несчастье грозило разрушить все его планы сделаться когда-нибудь сельским врачом. «Когда нормальный человек встречается в жизни с такими проблемами, - пишет Уолтер Фримэн, - он может сказать себе «ну и черт с ним» и вернуться к чтению юмористического журнала».
Но странная личность, будучи не в силах разрешить проблему, становится еще более одержимой своими мыслями. Это как раз и случилось с Джеком.
Он никак не мог отделаться от желания заглянуть в неведомое, непостижимое будущее. Развившийся в нем в неведомое, него паническому настроению. «Аутичное (эгоцентрическое) мышление порождает страх, - говорит Фримэн, - а страх - это изводящее переживание...» При всей своей неимоверной усталости Джек Фэргюсон как раз тогда затеял свой первый эксперимент. Он делал первые робкие шаги к тому, чтобы стать уверенным в себе клиническим исследователем. В его первом научном опыте им руководил не трезвый ум, а отчаяние. Его сумасшедший опыт отдавал тем, что Босс Кэттеринг сказал о научном исследовании: «Что ж нам делать, когда мы не можем больше делать то, что мы делаем?»
Джек не спал по целым ночам, удрученный, изнуренный, измученный страхом. Наблюдалось парадоксальное явление: его усталый мозг работал еще острее - очевидно, в результате переутомления и бессонницы. Что ж ему было делать, если он уже не мог делать того, что делал? Необходимо было дать отдых своему сверхактивному мозгу...
И Джек начал глушить себя маленькими желтыми пилюлями. Они успокаивали его - не вполне, конечно, но настолько, чтобы справляться с сельской практикой в Гэмлете.
В Гэмлете он не только старался лучше лечить людей, но одновременно разжигал в себе стремление скорее показать миру, что он может быть идеальным сельским врачом. Да, да, через какой-нибудь год он добьется этого. Он быстро сколачивал свою бочку денег. Больные его полюбили. И все же... он потерпел крах. Он сознавал, что не дает своим пациентам всего того, что должен давать идеальный сельский врач. Фальшивый Джек завязал борьбу с Джеком, стремившимся к совершенству.
Снова и снова старался он охладить эту горячую внутреннюю войну барбитуратами. Но они давали ему только временное успокоение, а в промежутках он, как вы знаете, пытался убить себя, убить Мэри, видел цветные галлюцинации, видел комнату, забитую стульями и зарастающую волосами; и ему не переставал мерещиться человек, гонявшимся за ним по кругу в железнодорожном дворе, чтобы убить его; и когда он почти уже задыхался от бега, железная дверь буйной палаты в Больнице ветеранов захлопнулась за ним в последний раз. Джек Фергюсон был уже полным психотиком. Вот тут-то и оказалось, что его увлечение барбитуратами - это и есть моя догадка - пошло ему во спасение. Но каким образом?
В своей «Психохирургии» Уолтер Фримэн объясняет, что происходит с психотиками, когда они попадают под наблюдение психиатров. Они создают себе собственный нереальный мир, в котором их прежнее эгоцентрическое мышление совершенно теряется; оно растворяется в сумбуре иллюзий и галлюцинаций, и больные уже не соображают, что, где, как и когда. Они слишком травмированы жестокостью внешнего мира, чтобы к нему вернуться. И они уходят в свой тайный психотический мир, они нежатся в его уюте, избегая контакта с кем бы то ни было, даже с врачами, пытающимися им помочь.
«Такие больные относительно недоступны для психотерапии», - пишет Фримэн.
Однако до Джека, хотя и сумасшедшего и сидевшего в запертой палате, доходили тихие вопросы доктора Фиппса. Он был доступен, хоть и безумен. Какой же из этого вывод? Не могли ли барбитураты, отравляя его, в то же время охранять его психику? Это, конечно, совсем неподходящее лекарство. Но не могли ли барбитураты, причиняя ему вред, в то же время успокоить его мозг настолько, что по просьбе доктора Гэллопэ он написал, например, записку о своих сумасшедших фантазииях? Я ставлю этот вопрос робко и неуверенно. Психолог Дональд О. Гебб из Макгильского университета говорит, что нет статистических данных, доказывающих действие психотерапии при тяжелых психических болезнях. Джек уверен, что психотерапия спасла ему жизнь. Не могли ли упражнения Джека с барбитуратами настолько его успокоить, что для доктора Фиппса и доктора Гэллопа дверь осталась приоткрытой?
Когда Джек Фергюсон вышел из больницы, казалось, что в огне испытаний прежний Джек погиб. Новый Джек покинул больницу с ясной головой и новыми устремлениями.
- Я ушел из больницы, решив заняться психиатрией, - говорит Джек. - Я чувствовал, что для меня это единственный путь к спасению,
Внутреннее чутье ему подсказывало, что только таким способом он может спасти себе остаток жизни. Лечение, которое он себе назначил; было абсолютно ненаучным; ничего общего оно не имело с химией; это было только искупление. Однако оно имело прецедент в психиатрии. Ч общества «Анонимные алкоголики» тоже спасали себГискуплением, взяв на себя труд по спасению других жертв алкогольного психоза.
Итак прежнего Джека не стало. Старый эгоцентричный дикий зверь, по имени Джек, исчез, как вымершая птица дронт.
- Поскольку в тяжелую минуту люди протянули мне руку помощи, - говорит он, - я должен в свою очередь послужить людям.
Они, эти другие люди, его замечательные доктора и надзирательницы, - они спасли его.
- Они спасли меня, а я должен помогать всем.
Джек никогда не слышал об Эрнесте Ренане, но в Данном случае он следовал учению великого француза.
«Чтобы вы могли действовать в мире, ваше собственное «я» должно умереть».
Джек начал действовать. Они помогли ему, он должен помогать всем.
«Мы все ответственны за общую вину», - писал Достоевский. Джек знал, что он виноват. Он не стал определять границу между своей болезнью и грехом. Он сумел правильно разобраться в этом деле. Не осталось никаких сомнений в его тяжелой психической болезни. Но результаты этой болезни - его жестокость к Мэри, его бегство от больных в Гэмлете, которые нуждались в нем, верили в него, - эти результаты были его грехом. Это было преступлением против человечества.
То, что Джек не захотел воспользоваться своей болезнью в качестве оправдания, безусловно, является великолепным, мужественным поступком со стороны нового Джека.
Но сейчас, когда он начинал новую жизнь в Логэнспортской больнице, мог ли Джек приступить к осуществлению своей идеи - помогать всем? Ведь психотерапия, которую, применяли к нему доктора, - это большая роскошь. Докторам пришлось затратить сотни часов напряженной работы, чтобы вернуть одного только Джека к нормальной психике. Где же взять докторов, чтобы обслужить психотерапией сумасшедших Логэнспортской больницы, пока еще способных воспринимать слова убеждения. Смешно даже помышлять об этом - ведь докторов в больнице жалкая горстка. Интенсивная психотерапия - это чертовски дорогое лечение.
- Вы можете агитировать их ежедневно несколько месяцев подряд, - говорит Джек, - а к концу этого срока они по-прежнему будут смотреть на вас все тем же бессмысленным взглядом; счастье, если вам удается «вытянуть» из них некое подобие ответа.
Но для Джека они оставались живыми человеческими существами. Это не было простой научной любознательностью, это не было экономическим мероприятием с целью облегчить бремя налогоплательщиков; жажда искупления - вот что руководило Джеком в его стараниях вернуть этих несчастных, потерянных людей в мир действительности. И он стал помогать нейрохирургу доктору Джону А. Гисерингтону из Индианополиса, практиковавшему иногда префронтальную лоботомию на больных Логэнспортской больницы.
Джек погрузился в изучение психохирургических трудов Уолтера Фримэна. Что за мечтатель этот Фримэн! Фримэн задался целью сделать лоботомию такой точной, такой практичной и ходовой операцией, чтобы успокаивать бушующий бедлам в «беспокойных» палатах психиатрических больниц и все большее и большее количество больных отправлять домой в здравом уме и ясной памяти.
И какой он смелый, этот Фримэн! Он обратился к знаменитому психиатру доктору Уильяму А. Уайту за разрешением произвести несколько префронтальных лоботомий на больных всемирно известной больницы св. Елизаветы в Вашингтоне.
- Скорее мир перевернется вверх ногами, чем я позволю вам оперировать хотя бы одного из моих больных, - загремел на него доктор Уайт.
Казалось, не о чем больше говорить.
Однако, несмотря на негодующий запрет доктора Уайта, был составлен длинный список душевнобольных, стоявших на очереди для лоботомии у доктора Фримэна, - в той же больнице св. Елизаветы.
Еще в 1936 году Фримэн одобрительно высказался о методе безвестного тогда португальского врача Эгаса Моница. Рассуждения, толкнувшие Моница на попытку всадить нож в мозг сумасшедшего человека, - эти рассуждения казались несколько странными и притянутыми за уши.
В 1935 году на научном конгрессе в Лондоне Эгас Мониц услышал сообщение профессора Джона Фултона, Физиолога Иэльского университета, о том, как он с целью эксперимента изувечил мозги нескольким дрессированным шимпанзе. До этого они были очень грустными, а после операции сделались вдруг веселыми. Это был чисто научный эксперимент. Профессор Фултон отнюдь не ратовал за счастливую жизнь для обезьян шимпанзе. Эти грустящие обезьяны становились обычно жалкими, удрученными, малодоступными - становились настоящими невротиками, если им не удавалось выполнить заданные уроки. Профессор Фултон со своим ассистентом доктором Якобсеном иссекали из их мозгов лобные доли, которые считаются местонахождением высших психических центров - того, что называют интеллектом. Как ни странно, оперированные шимпанзе не показывали признаков отупения.
- Они вели себя так, - говорил профессор Фултон, - как будто присоединились к культу радости Мишо старшего и все свои жизненные невзгоды возложили на всевышнего.
Это было неслыханно. Когда эти обезьяны, лишенные лобных долей мозга, не могли выполнить какое-нибудь задание, они нисколько не огорчались, не становились мрачными или сварливыми; казалось, им это совершенно безразлично. Они только усердно приглаживали свои меха или затевали веселые игры. Они вполне сохранили свой ум. Они стали обезьянами с совершенно новыми повадками, изменившимися к лучшему. Они были забавными лабораторными диковинками.
Уолтер Фримэн рассказывает, что Эгасу Моницу эти счастливые обезьяны отнюдь не казались лабораторными диковинками. Они воспламенили его. Мониц разыскал в кулуарах конгресса профессора Фултона и спросил выдающегося ученого, нельзя ли применить эту операцию Душевнобольным людям. Мониц сравнил озлобленных, буйных, одержимых бредовыми идеями сумасшедших в психиатрических больницах с обезьянами, которые стали веселыми и спокойными после потери лобных долей мозга. «Но суждение о проекте Моница оказалось непосильным для Фултона», - пишет доктор Фримэн. Это выходило за пределы его академической сферы. Да и не хватил ли Мониц через край? Не чересчур ли смелая затея? Если удалить человеку важную часть мозга, то ведь назад ее не поставишь. И если эта операция действительно может сделать удрученного психотика веселым, то что за будущее его ожидает?
Джон Фергюсон был взволнован моницевской верой в чистую науку профессора Фултона и тем восхищением, с которым Фримэн описывал первые результаты, полученные на кучке безумцев, которых оперировали доктор Алмейда Лима и доктор Эгас Мониц в Лиссабоне.
Эти португальские пионеры просверлили дырки по обе стороны лба в черепах двадцати душевнобольных. При помощи хитроумно устроенного ножа, лейкотома, они рассекли пучки нервных волокон, идущие от лобных долей мозга к загадочному бугру в середине мозга - таламусу. Предполагается, что в лобных долях помещаются центры мышления, а таламус считается центральной силовой станцией для эмоций; и до сих пор идет еще глубокий спор - слишком глубокий для меня - о значении нервной связи между лобными долями и таламусом.
Как бы там ни было, после операций, разрушивших эту связь, Мониц и Лима счастливы были сообщить, что семеро из двадцати душевнобольных стали вполне нормальными людьми, а у других семи наступило значительное улучшение; и ни один больной не умер от операции.
Но еще больше взволновало Джека Фергюсона то, с каким блеском Уолтер Фримэн продолжил работу своего предшественника Моница. Фримэн указывает, что, поскольку лоботомия не безопасная операция, чрезвычайно важно проследить ее отдаленные последствия. Он всячески поддерживал контакт с оперированными больными и их семьями; пациенты систематически приезжали к нему на осмотр; Фримэн и сам навещал их на дому, разъезжая по всей стране, от берега до берега... Со скромной гордостью он сообщает о результатах своего десятилетнего наблюдения за судьбой первых двадцати больных, подгшихся лоботомии в 1936 году.
По истечении десяти лет осталось в живых четырнадцать человек. Четыре из них работали; четыре занимались домашним хозяйством; четыре жили дома, но не работали; только двое находились в психиатрической 6ольнице. И обратите при этом внимание, что до операции ни шоковое, ни какое-либо другое лечение этим больным не помогало; все до одного считались безнадежными; все были обречены на вечную инвалидность.
Можно возразить: что значат двадцать больных для Америки, где в психиатрических больницах находится более 500 000 умалишенных? Однако же начиная с 1936 года Фримэн и сотрудничавший с ним доктор Уаттс оперировали сотни тяжелых невротиков и психотиков. Общий итог - 75 процентов из них ушли из больницы и жили дома.
Фергюсон изучал труды других нейрохирургов, проверявших на своих больных выводы Фримэна. По данным департамента здравоохранения США, отражающим общие результаты 10 000 лоботомии, хорошие результаты получены в одной трети случаев; удовлетворительные - тоже в одной трети случаев; остальные безрезультатны. Операционная смертность - не более 3 процентов.
Разве это не прогресс в лечении психических болезней, думал Фергюсон. В конце концов, это ковыряние вслепую в лобных долях мозга хирургами разной подготовки было риском... только для неизлечимых сумасшедших.
Хотя они никогда друг с другом не встречались, Уолтер Фримэн был руководителем Джека. И крепкий же человек этот Фримэн, думал Джек, читая истории болезни пациентов, родные которых приходили к Фримэну, умоляя о помощи. В жизни, писал Фримэн, эти пациенты были страдальцами. Их одолевали сомнения, страхи, приступы депрессии, мысли о самоубийстве; их терзали страшные галлюцинации... Дрожь пробегала по спине Джека. Он ведь сам был кандидатом для префронтальной лоботомии в Больнице ветеранов. Страшно!
Но почему же страшно, если операция могла бы быстро восстановить его умственные способности?
Уолтер Фримэн был честным человеком. Джек читал бесхитростный рассказ Фримэна о темной стороне префронтальной лоботомии. Он не стеснялся говорить об этом откровенно: те, кого она спасает, расплачиваются чем-то очень ценным за облегчение своих душевных мук. - Операция, - как цветисто выражается Фримэн, - ампутирует эмоциональный компонент болезни.
Но она оставляет после себя еще кое-что, и то, что она оставляет, как будто не очень хорошо. «С устранением эмоций, - пишет Фримэн, - одновременно исчезает забота о будущем... У больного хватает еще предусмотрительности, чтобы выполнять какую-то работу, но его ничуть не беспокоят неудачи, болезни, смерть и вечное проклятие...»
Ампутируя эмоции, она убивает также инициативу и умственные способности, необходимые для творческой работы. Лоботомия вернула к труду сотни механиков, клерков и других рядовых работников, но ни разу она не вернула доктора к практике, писателя к искусству или ученого к его исследованиям.
Джек Фергюсон читал и думал: «Вот чего я избежал, увернувшись от лоботомии. А только богу известно, как я в ней нуждался...»
Доктор Фримэн никогда не прибегал к мозговой операции, если пациент не был под угрозой вечной инвалидности или самоубийства, да и то только в тех случаях, когда ни инсулин, ни электрошоковое лечение не давали успешных результатов. «Префронтальная лоботомия, - писал Фримэн, - это последнее средство, предел всякого лечения».
На операционном столе больной. Фримэн оперирует его под местной анестезией. Больной возбужден, мечется, мышцы у него напряжены, ладони потные, пульс учащен; во время просверливания отверстий в черепе кровяное давление резко повышается. После надреза мозга с правой стороны напряжение мышц становится ужасающим. Больной напуган. Мысли его, очевидно, разбегаются. Надсечка с левой стороны, и через пять секунд...
Полное расслабление. Все ужасы позади. Фримэн смотрит на своего безумного больного, который под его ножом стал нормальным.
- Ну, как ваши тяжелые страдания? - спрашивает Фримен.
-Какие страдания? - спрашивает больной и улыбается.
И какой он настойчивый, этот Фримэн, думает Джек. При всем своем спасительном действии на тяжелых больных стандартная префронтальная лоботомия имеет еще и другие отрицательные свойства. Глубокие разрезы лобных долей мозга иногда на годы оставляют у больных напряженное состояние и тяжкое уныние. Часто бывает и так: через некоторое время после операции пациент, хотя и в своем уме, становится похожим на большого, шумного, озорного ребенка. Жутко наблюдать, как медленно эти люди вырастают из своего второго - хирургическим путем полученного - детства, И Фримэн честно признает, что никакие другие физиологические процессы не требуют так много времени, как выздоровление после префронтальной лоботомии.
Уолтер Фримэн никогда не назначает больному операцию, не предупредив родных, как много времени и труда им придется потратить на воспитание и вторичное выращивание из него взрослого человека, - вплоть до применения наказаний и побоев. Психохирургия не излечивает безумие; она лишь открывает дверь в реальный мир. Нежная, любовная забота довершает процесс выздоровления. Эта мысль крепко запала в голову Джека.
А как он остроумен, этот доктор Фримэн! Операция отнимает слишком много времени; где же взять столько нейрохирургов, чтобы при помощи лоботомии сократить население психиатрических больниц? Фримэн разработал новый способ рассечения мозга, на который требовались минуты, тогда как прежняя операция требовала часов. Он усовершенствовал операцию итальянского хирурга А. М. Фиамберти. Вместо утомительного сверления отверстий в костях черепа Фримэн быстро и чисто рассекал мозговую ткань при помощи ледового топорика, введенного внутрь черепа под костным сводом глазных впадин. Это так называемая трансорбитальная лоботомия, ко-тсрая требует так мало времени, что Фримэн называет ее «малой операцией». Она не вызывает шумного детского поведения в период выздоровления. Она заканчивается раньше, чем присутствующий на операции человек может подумать, что она только начинается. Так почему же психохирурги с чисто американской энергией и деловитостью не приступают к разгрузке психиатрических больниц?
Джек Фергюсон был добросовестным и пылким учеником. Наконец-то здесь, в Логэнспорте, он снова попал в свою колею, хотя не прошло и года, как он был выпущен из запертой палаты Больницы ветеранов. Вызубрив анатомию мозга так, что с закрытыми глазами мог представить себе его внутреннюю топографию, проверив эти книжные знания операциями на трупах, упражняясь в разрезах все более и более смелых, Джек Фергюсон усовершенствовал операцию трансорбитальной лоботомии, сделав ее еще более стремительной и верной.
А может быть, ему это только кажется? И он представил свою идею на суд заведующего Логэнспортской больницей и консультанта по нейрохирургии доктора Гетерингтона.
«Техника операции сводится к следующему, - писал Джек. - После обычной подготовки веки одного глаза захватываются векодержателем. Острие инструмента приставляется к орбитальному своду (верхний край глазной впадины) и в положении, параллельном носу, проталкивается внутрь, пока пятисантиметровая отметка на инструменте не станет против верхнего века...»
Джек, начинающий психохирург, точно установил, на сколько сантиметров в глубь мозговой ткани должно проникнуть острие инструмента. Надрез внутрь, надрез кнаружи, удар вверх, удар к основанию лобных долей, причем во время надрезов инструмент надо ориентировать на соответствующие отметки на поверхности головы.
«После вышеописанных маневров трансорбитальную лоботомию можно считать законченной и получить те же результаты, что от стандартной операции».
Так писал в своей первой научной статье доктор медицины Джек Т. Фергюсон, гордый своим сотрудничеством с тремя другими докторами - Джоном А. Гетерингтоном, Е. Роджерсом Смитом и Джоном А. Лоусоном - в «Журнале Медицинской ассоциации штата Индиана» в 1954 году По существующим в медицинской прессе тра-. дициям его коллеги делили с ним честь авторства. Но из уважения к Джеку три его соавтора отказались от этой чести. Вопреки общепринятой практике в заголовке статьи было дано примечание:
«Основная заслуга принадлежит доктору Джону Фергюсону из Логэнспортской больницы, разработавшему новую технику трансорбитальной лоботомии».
Фримэновская трансорбитальная лоботомия в модификации Фергюсона может быть выполнена за три минуты. По сравнению с обычной префронтальной лоботомией, дающей 2-3 процента операционной смертности, трансорбитальная операция гораздо безопаснее. Джек и его товарищи сообщают, что в последних 162 операциях они не имели ни одного смертного случая.
Отношение Джека к жестокому, но эффектному искусству психохирургии носило отпечаток радикализма. Он не гнался за хорошей статистикой. Он не отбирал «наиболее подходящие случаи». Уолтер Фримэн предупреждал, что случаи запущенной шизофрении не поддаются лечению префронтальной лоботомией. Джек оперировал самых безнадежных. Он стремился вылечить всех.
В августе 1953 года (еще до того, как он усовершенствовал трансорбитальную операцию) в Логэнспортскую больницу доставили опасного шизофреника. Он был в состоянии маниакального возбуждения после убийства больного в Эвансвильской больнице, откуда был переведен в Институт судебной психиатрии в Мичиган-Сити, штат Индиана. С дикими воплями «Смерть тебе!» он бросался на каждого встречного, и с ним не могли справиться даже в Мичиган-Сити. Поэтому его переправили в Логэнспортскую больницу с отметкой: «Больной одержим мыслью об убийстве».
Стандартная префронтальная лоботомия. Через несколько минут после операции больной успокоился. Через несколько часов стал кротким, как ягненок. Через несколько недель его перевели обратно в Эвансвильскую больницу, чтобы жившая поблизости мать могла навещать его.
Согласно последней справке, полученной Джеком, он работал на свободе в сельском хозяйстве больницы и стал тихим, славным человеком.
По своему успокаивающему действию на больных разработанная Джеком трансорбитальная операция, казалось, имела некоторые преимущества перед стандартной префронтальной лоботомией Фримэна. Как и Фримэн, он должен был признать, что, если больные ведут себя гораздо лучше после операции, все же большие надрезы мозговой ткани делают их неполноценными.
- Это было прямо удивительно, - объяснял Джек. - Они теряли всякую сообразительность; они не могли планировать вперед.
Это казалось общим правилом для лоботомий, но были отдельные исключения, которые приводили Джека в восторг. Такой именно случай произошел с одной шизофреничкой тридцати девяти лет, которая поступила в Логэнспорт в дико параноидном состоянии и не показала никакого улучшения после шестидесяти сеансов инсулинового шока. В марте 1952 года - лоботомия; состояние больной стало быстро улучшаться, и в августе того же года она была выписана из больницы.
Когда в июне 1953 года эта женщина явилась на проверочный осмотр, она очень просила дать ей выписку из истории болезни. Заключительная запись гласила: «Деверь больной сообщает, что она привела в блестящее состояние его ферму и считается одной из самых ревностных работниц в хозяйстве».
Наступил наконец день, когда Джек встретился с доктором Фримэном на конференции неврологического общества в Чикаго.
- Уолтер Фримэн был очень любезен со мной, - вспоминает Джек. - Это был человек высокого роста, с усами и маленькой эспаньолкой. Он курил трубку, держался с достоинством, разговаривал спокойно и сдержанно. Надо было умело подойти к нему, - сказал Джек. - Но он легко улыбался и интересовался тем, как я модернизировал его трансорбитальную операцию. Он только предостерегал меня от излишнего оптимизма, от поспешных выводов.
Я спросил Джека, что же именно посоветовал ему доктор Фримэн.
- Фримэн сказал мне: «Приходи, сынок, поговорим, когда догонишь до тысячи», - ответил Джек с довольной улыбкой.
Мне трудно судить, насколько смелая операция Джека продвинула вперед трансорбитальную лоботомию Уолтера Фримена. Но для меня совершенно ясно одно: Джек превзошел Фримена, доказав, что лоботомия - это последнее средство, предел всякого лечения. Средняя длительность болезни у шизофреников, которых он отбирал для операции была одиннадцать лет. Его целью было вырвать их из беличьего колеса и вернуть в окружающий реальный мир Они были неспокойными, вечно встревоженными или, наоборот, апатичными, до степени остолбенения Они всегда ходили испачканными, постоянно рвали и портили свою одежду. Некоторые были драчливыми, агрессивными.
Многие из них непрерывно кричали и совершенно не выносили покоя; они боялись, что их пища отравлена; некоторые были склонны к самоубийству, уклонялись от всякой деятельности или были «хроническими беглецами».
О полном восстановлении психики у этого последнего арьергарда человечества не могло быть и речи. Цель Джека была более скромной: улучшить их поведение настолько, чтобы можно было выписать их домой на попечение родных, или добиться хотя бы того, чтобы легче было справляться с ними в больнице. О таком же подходе к этому делу Джек мог узнать из работ других исследователей. При помощи массовых лоботомий доктор Р. Дж. Шрейдер внес покой в «буйные» палаты Фармингтонской больницы, штат Миссури, и в результате треть всех обитателей больницы была выписана домой.
Однако Джек внес в это дело и кое-что оригинальное. Он стал, если можно так выразиться, настоящим психохирургическим головорезом. Вот пример: у некоторых запущенных больных фримэновская трансорбитальная лобото-мия не давала успеха; тогда Джек со своими коллегами просверливали им черепа и производили первичную мо-ниц-фримэновскую операцию. Пациенты продолжали сумасшествовать. Но Джек наваливался на них с трансорбитальной лоботомией, разработанной в Логэнспорте, проникая в их черепа через свод глазных впадин.
И некоторые из этих мучеников уходили домой с ясным сознанием...
Надо сказать, что Джек несилен в искусстве статистики. Статистика, конечно, играет известную роль в медицине, но часто она становится инструментом для распространения медицинской, как и всякой другой, лжи. Для Фергюсона без всякой статистики было ясно, что если одни методы лечения не помогают, надо испробовать силу других. Этим соображением он и руководствовался в подходе к безнадежным, неизлечимым хроникам, которым до этого никакое лечение не шло впрок. Такова была его простая философия, так рассуждал сидевший в нем сельский врач, так подсказывала ему его честность.
К 1954 году более четырехсот лоботомий было проделано в Логэнспортской больнице, и психохирургическая бригада в составе Джона А. Гетерингтона, Е. Роджерса Смита, Джона А. Лоусона и Джона Т. Фергюсона орудовала с таким рвением, как будто земля горела у них под ногами. Выздоровление Джека от его собственного психоза казалось абсолютным.
Но этот успех вовлек его в неприятности другого рода.
Глава 7
«Для хорошего человека всякая неприятность - это расплата за собственный грех». Так говорит Эрнст Хемингуэй.
Джек Фергюсон, очевидно, был очень хорошим человеком, если с ним могла произойти такая оказия в Логэнспортской больнице. Эта история вовлекла его не просто в неприятность, а в двойную неприятность. Первая (меньшая) заключалась в том, что Джек оказался центральной фигурой в этом деле. Успешное внедрение в практику новой, быстрой и безопасной техники трансорбитальной лоботомий привело к тому, что он стал главным козлом отпущения.
Если бы Джек проявил тогда больше сообразительности, он смог бы предвидеть надвигавшуюся беду. Не успела психохирургическая бригада, усмирявшая неистовых безумцев, безнадежных шизофреников, возвратившая многих в семью, а у некоторых восстановившая способность зарабатывать на жизнь, наладить как следует свою кипучую деятельность, не успела она основательно поставить это дело, как свыше раздался голос: «Тпру-у!»
Это был голос директора больницы, вызвавшего к себе Джека Фергюсона. Строгим, начальническим тоном директор сказал Джеку, что они делают слишком много лоботомий; кандидатов на операцию следует отбирать более тщательно; число лоботомий необходимо сократить. Так что не усердствуйте особенно, доктор Фергюсон...
Но почему? Потому ли, что директор, как администратор, боялся, что они могут быстро очистить больницу от пациентов и ему грозит потеря должности? Нет, не так-то все это просто. Джек был буквально ошеломлен, когда узнал, почему он не должен усердствовать. В то время как Джек Фергюсон работал на одном жалованье, нисколько не обогащаясь за счет растущего числа операций, образовалась еще одна психохирургическая бригада из небольничных специалистов, которых такие условия работы не устраивали.
Эти высококвалифицированные врачи имели собственную частную практику. Но вдобавок к своим заработкам они получали еще особую плату за психохирургическую работу в Логэнспортской больнице с каждой лоботомии поштучно. Это считалось вполне легальным. Это соответствовало законам штата. Это делалось совершенно открыто. А при таком большом количестве лоботомии доходы вне-больничных консультантов превышали сумму годового заработка директора больницы. Это было уже чересчур.
Доктор Элмер Л. Гендерсон точно определил, что именно лежало в корне неприятностей Джека в Логэнспорте.
- Профессиональная зависть - вот главная беда американской медицины, - сказал Элмер.
Зависть рождает ненависть. А медицина - это любовь, или она ничего не стоит. Сможет ли Джек перенести эту зуботычину, полученную за его старания помочь людям?
Мэри Фергюсон не сомневалась в полном выздоровлении Джека, но как на него подействует этот новый удар? Что бы он делал, если бы около него не было Мэри? Они жили в крошечной комнатушке при административном корпусе больницы. Хозяйство не отнимало у Мэри много времени. Вся ее бесцветная жизнь была наполнена ожиданием его прихода, но и по вечерам он не мог уделять ей много внимания. Он сидел рядом с нею, но был далек от нее, погруженный в писание отчетов и историй болезни.
Вплоть до того момента, как потерпел крушение его план с лоботомиями, Джек твердо верил, так же как и Мэри, что он перешел рубикон своей психической болезни. Психиатр Юнг говорил, что больной переходит рубикон, когда сам осознает, что не нуждается больше в лечении, К° да не уклоняется от борьбы за честность перед самим собой, когда активно к этому стремится.
Джек до сих пор еще ездил раз в неделю в Индианополис для беседы с доктором Пэлмером Гэллопом.
- Вы сами поймете, когда я буду вам больше не нужен, - подбадривал его Гэллоп.
Но Мэри, которая была врачом на передовой, не спускала с него глаз.
Не пошатнется ли Джек под влиянием катастрофы с лоботомиями? Не вступит ли он снова в полосу грозы и бури? Его успех с трансорбитальной операцией, оказавшей помощь сотням несчастных отверженцев, сильно поднял его в собственном мнении. А когда у человека растет уверенность в себе, для него создается опасность заважничать и стать слишком самонадеянным. Тут-то он и может забыть о предписанном ему лечении - смотреть в лицо своему темному прошлому.
Чтобы отвлечь его от мрачных мыслей, Мэри иногда осторожно и не грубо шлепала его по спине. В то же время ей надо было внимательно следить, чтобы он не изменил честного отношения к самому себе. Смотреть в лицо своему плохому прошлому - это единственное, что дает человеку мужество в борьбе с трудностями жизни... Усвоить себе тот факт, что, если вы хороший человек, всякая неприятность для вас только расплата за собственный грех.
Обязанностью Мэри, как врача на передовой, было все время напоминать ему о самом плохом в его жизни; и она делала это, потому что любила его. Мэри заменяла ему и аудиторию. Она всегда готова была слушать его рассказы о том, как трансорбитальная операция прерывает безумие у все большего и большего числа шизофреников. Благоговейный ужас в ее серых глазах придавал ему бодрость и энергию.
- Мэри вела себя удивительно, - говорит Джек, - когда я начал снова увязать и жалеть самого себя в Логэнспорте.
Мэри была для него не только аудиторией, доктором и женой. Она в некотором смысле была для него и матерью. Когда Джек боролся с собственным безумием, он, как вы помните, представлял себя Давидом, поражающим Голиафа. Он походил тогда на маленького мальчика, и это вызывало материнскую улыбку на лице Мэри. Теперь это был не Давид его совести, убивающий Голиафа, дикого зверя, раздутое «я» в нем самом, а Давид-психохирург, убивающий Голиафа повального безумия.
Могла ли Мэри оставаться спокойной? Конечно, это был всего-навсего маленький мальчик в Джеке, но не носило ли это несколько маниакальный характер? И Мэри, с одной стороны, старалась поддерживать в нем бодрость, а с другой - охлаждать его чрезмерную самонадеянность и честолюбивые замыслы. Она это делала невзирая на то, что в глубине души считала его самым великим человеком на свете.
Джек не вернулся к барбитуратам.
Чему же научился Джек за два года работы в Логэнспорте?
Не одурманенный барбитуратами, вполне сознавая, что только его горячность, его дикий психохирургический энтузиазм вовлек его в неприятности, ругая за это себя и только себя, Джек в умственном отношении был здоров, как никогда. То, чему он за это время научился, было так скромно, так просто, что едва ли имело что-нибудь общее с наукой.
Просиживая ночи в своей новой, уже более благоустроенной квартире, он с головой уходил в отчеты и истории болезни сотен больных. 25 процентов из них находились на излечении; 20 процентов были выписаны домой, и еще больше больных подготовлено к выписке; в общем итоге 75 процентов всех больных, признанных неизлечимыми, явно поправились благодаря лоботомии.
Какие же напрашивались выводы? О чем говорили эти цифры? Чему они научили Джека?
Был тут один вопрос, который заставил Джека призадуматься. Его двухлетний опыт вкалывания ледового топорика в больной мозг говорил ему о том, что операция применялась при шестнадцати различных психических болезнях - при шестнадцати диагностических классификациях. Но эти классификации не помогали Джеку отбирать подходящих кандидатов для лоботомии. Только по их маниакальному буйству, меланхолической депрессии, животной нечистоплотности, стереотипному бормотанию, гебефреническому хихиканью, кататонической оцепенелости, дикой агрессивности Джек пытался отсортировать кандидатов на операцию.
Среди психиатров было много разговоров о том, что лоботомия мол хорошо помогает при кататоническом состоянии и маниакально-депрессивном психозе, но менее эффективна в случаях хронической шизофрении и т. д. Джек размышлял. Когда лоботомия оказывает действие на больных независимо от названия их психоза, в чем выражается это действие?
Каков бы ни был диагноз болезни, лоботомия всегда называет одинаковое действие - она успокаивает больных снижает их сверхактивность, помогает им жить с самими собой и другими.
Лоботомия изменяет их поведение к лучшему. Для ученых-психиатров это звучало слишком просто. Для Джека это открывало новый мир.
Так воевал Фергюсон против ненормального поведения душевнобольных в 1954 году в Логэнспорте. Как всякий добропорядочный врач, он старался помочь им, как мог.
- В те дни, - говорит Джек, - я готов был считать победой лоботомии, если больной мог изжарить яйцо, не повредив желтка.
Лучшее поведение? В больших медицинских учреждениях это считалось по меньшей мере весьма туманным критерием для оценки того или иного метода лечения. Это напоминало хвастливое заявление доктора старых времен: «Ну, вот мы и поставили больного на ноги. Теперь он может снова работать и кормить семью».
Но что же такое, в конце концов, ненормальное поведение, к которому Фергюсон сводил шизофрению и все прочие душевные болезни неизвестного происхождения? Что такое «поведение» вообще?
«Можно считать доказанным, - пишет доктор Д. Д. Гэбб из Мак-Гильского университета, - что задача психолога, задача понять сущность человеческого поведения и свести причудливые изгибы человеческой мысли к механическому процессу причины и следствия, - эта, задача намного труднее, чем всякая иная научная задача»,
Джек Фергюсон и не претендовал на понимание сущности человеческого поведения, а в вопросах психологии он был всего лишь сельским врачом.
«Чтобы в наше время заниматься вопросами поведения, - признает доктор Гэбб в своей книге «Организация поведения», - необходимо прибегать к упрощениям».
Как раз этим Джек и занимался вовсю. Ночь за ночью он внимательно изучал результаты сотен проделанных лоботомий. Он не задумывался над вопросами о сущности поведения. Он непосредственно наблюдал его на сотнях слабоумных, безрассудных, одичавших людей. Он просто следил за их поведением и при помощи лоботомий старался его улучшить.
В результате такого анализа складывалось то, что Джек называл «профилем поведения». О чем говорил анализ тех случаев, где операция принесла пользу? Сообразительный двенадцатилетний мальчик мог это понять.
Вот записи: «Она уже не рвет на себе платье... Ест без посторонней помощи... Сама ходит умываться... Стала чистоплотной... Больше не покушается на поджог... Перестала хохотать и плакать... Не покушается на убийство... Проявляет заботу о других больных... Ей нравится трудовая терапия... Старается вложить смысл в свои слова... Проявляет сообразительность...»
Когда Джек сравнивал эти записи о послеоперационном поведении больных с записями о их поведении до операции, он принимал к сведению, каким именно больньтм лоботомия помогает. При всей своей примитивности «профиль поведения» был для него более точным показателем, чем латинские названия шестнадцати различных психических болезней. Это делало его более добросовестным врачом. Он мог ориентироваться на данный профиль.
Если какая-либо черта поведения не показывала признаков улучшения, он еще раз оперировал этих больных, еще и еще раз, до тех пор, пока не добивался достаточной ясности сознания - нормального поведения, которое позволяло отпустить больного домой.
Джеку требовалось лишь примерно определить интенсивность и возможную обратимость данного случая безумия.
«Профили поведения» подсказали ему следующий вывод: лоботомия более полезна для больных, ведущих себя сверхактивно. Это было не ново. Фримэн и другие психохирурги уже знали об этом. Для Джека это было целым событием. Для него этот факт совершенно непредвиденным и поразительным образом послужил сигналом... кончать свою психохирургическую карьеру.
Исполнилось два года с тех пор, как Джек вышел из запертой палаты Больницы ветеранов. Он расстался со своей паранойей. Его не огорчала перспектива покончить с лоботомиями (никогда уж ему не придется показать доктору Уолтеру Фримэну великолепную серию из 1000 трансорбитальных!); он не тешил себя иллюзиями; он не чувствовал никакой обиды на то, что его осадили как раз в тот момент, когда он начал показывать крупные успехи в психохирургии.
Куда же девалось это большое заносчивое «Я» в Джеке Фергюсоне? Ему и в голову не приходило заняться частной практикой, хотя он мог бы заработать бочку золота в качестве лоботомиста для психоневротиков из состоятельного класса, которым грозило заточение в сумасшедший дом.
Доктор Гэллоп и Мэри убили в нем прежнего нечестного Джека Фергюсона с его самооправданиями. Довольно странно, когда человек начинает ругать самого себя за все плохое, что с ним приключилось; прямо невероятно, до чего это саморазоблачение очищает мозг и процесс мышления становится быстрым, ясным и простым. Казалось, Джек постиг наконец истину, высказанную Боссом Кэттерингом о границах исследовательской работы:
«Что же нам делать, когда мы не можем больше делать то, что мы делаем?»
Шел 1954 год, когда, поставив перед собой этот вопрос, Джек углубился в длинный, трудный и трезвый анализ вопроса о лоботомиях.
Для безумных человеческих существ, принадлежавших До заболевания к определенной группе общества, лоботомия может стать чудодейственным средством. По всей стране тысячи этих больных показали такое улучшение, что, по справедливости, их уже нельзя было назвать сумасшедшими. Они жили дома со своими семьями. Лоботомированные женщины могли с успехом заниматься домашним хозяйством. Многие из лоботомированных мужчин трудились и зарабатывали себе на жизнь. Но у экс-сумасшедших людей другого круга операция что-то отнимала, хоть и протекала успешно.
Фримэн объясняет это в своей замечательной книге «Психохирургия». Мораль - вот что вы выдалбливаете и отнимаете у больного взмахами ледового топорика, который так чудесно успокаивает его измученный мозг. Да, именно мораль.
Это высочайшее качество человеческого существа, пишет Фримэн.
«У ребенка ее нет. Нет и у старика. Нет у больного. Нет у скучающего человека. Мораль - это самая возвышенная функция человеческой личности».
Затем Уолтер Фримэн, который своей операцией вырвал так много безумцев из ужасающих глубин деморализации, с грустью заканчивает: «Лоботомия приостанавливает у психотиков процесс деморализации, но не восстанавливает у них мораль».
Коротко говоря, по Уолтеру Фримэну, мораль - это способность ставить интересы коллектива выше своих личных интересов, и это стало религией Джека Фергюсона. Именно это давало ему теперь силу жить и дейcтвовать.
Отношение Джека к лоботомии после взвешивания всех «за» и «против» стало более трезвым и более критическим. Лоботомия может застопорить хронический, запущенный процесс умственного расстройства. Но в то же время она безвозвратно разрушает самое высокое, что есть в человеке... Величайший в мире психохирург, сам Уолтер Фримэн, не в состоянии вернуть человеку то, что у него унес милосердный ледовый топорик. Роковой удар ледового топорика рассекает нервные волокна, связывающие лобные доли мозга с таламусом. Это ведет к перерождению ядер мозговых клеток в так называемой центральной силовой станции эмоций, в таламусе. Процесс вырождения идет перманентно. Стремительный взмах ледового топорика причиняет немалый вред и лобным долям мозга, которые считаются носителями центров воображения, предусмотрительности, предвидения.
Учтя эти суровые факты, Джек Фергюсон произнес маленькую благодарственную молитву судьбе. Два года я он сам был вполне созревшим объектом для ледового топорика.
Если бы он мог соединить во времени старого и нового Джека Фергюсона, то ныне здравствующий доктор Фергюсон наверняка располосовал бы мозг старому слабодушному доктору Фергюсону. Этим навсегда была бы убита надежда на развитие творческого воображения у ныне живущего доктора Фергюсона. Это заглушило бы также эмоциональный подъем, так разжигавший его воображение. Потому что у лоботомированных эти таинственные силовые нейроны в таламусе увядают безвозвратно.
Погибшей надеждой - вот чем стала для него лоботомия. Восстановив хорошее поведение у старого жалкого Джека Фергюсона, она убила бы нового Джека, борца с безумием. Джек спросил себя:
«Хотел бы я прожить всю свою жизнь спокойным, довольным лоботомированным буйволом? Нет. Тогда какое же имею право я, доктор Фергюсон, обрекать на это других?»
Только отчаянно тяжелое зрелище неизлечимого безумия, которое хуже смерти, - только оно может оправдать это грубое вторжение в мозг живого человека. Но доброму сельскому доктору, жившему в Джеке, была ненавистна эта операция.
- Кажется, сам господь бог положил тогда руку мне на плечо, - говорит Джек, вспоминая волнующие дни сомнений в Логэнспорте. - Как раз в то время до нас дошли разговоры о новом лекарственном средстве - раувольфии. Я прочитал о том, что доктор Уилкинс из Бостона называет это средство «психотерапией в форме пилюль».
Джек имел особые причины заинтересоваться этим делом. «Профили поведения» лоботомированных больных говорили о том, что операция давала наилучшие результаты у пациентов со сверхактивным поведением.
Раувольфия не была снотворным средством, как барбитураты. Успокоительное действие раувольфии не сводилось к дремотному состоянию. Раувольфия (хотя и давно известная в Индии) была новинкой в фармакологии. Она Давала только спокойствие. Пилюли раувольфии действовали на таламус. Они снижали число киловатт энергии, вырабатываемой центральной силовой станцией мозга - таламусом. Действие раувольфии в некотором смысле можно было назвать «химической лоботомией». Только с колоссальной разницей: пилюли раувольфии производили лишь временную лоботомию без ее неизбежных разрушительных последствий. Если пилюли и оказывали какое-нибудь вредное действие, то, во всяком случае, это поддавалось исправлению. Пилюли раувольфии не калечили мозговой ткани. Они не несли в себе опасность вызвать конвульсии, или бесстыдную ругань, или неудержимое половое возбуждение, или противную манерность, или беспросветное погружение в растительную жизнь - все эти возможные последствия лоботомии. Оказывая действие на таламус, эти пилюли только ослабляли силу эмоций, но не разрушали их безвозвратно...
- Но тут всевышний опять положил руку мне на плечо, - говорит Джек. - В Логэнспортской больнице был фармацевт, большой мой приятель. Он приобрел 15 000 пилюль раувольфии у агента фармацевтической фирмы Сиба.
Пилюли содержали в себе чистый алкалоид раувольфии и носили химическое название «резерпин», а выпускались под торговой маркой «серпазил».
- Мы выяснили, что серпазил действует на беспокойных больных лучше, чем лоботомия, - рассказывает Джек, - и мы стали накачивать больных серпазилом.
- Как вы могли так быстро узнать, что серпазил действует лучше, чем лоботомия? - спросил я.
Джек не мог осуществить полноценный эксперимент, потому что директор больницы запретил ему делать много лоботомии. Он не мог поставить строго научный опыт, который удовлетворил бы ученую профессуру колледжей, а именно: сделать определенное количество лоботомии, выставить параллельно такое же количество больных, леченных серпазилом, и взять третью группу больных, оставленных без всякого лечения (для контроля); тогда эти «экспериментальные животные человеческого вида» во всех трех категориях могли бы показать некую сравнимую форму сумасшествия. Это было бы научно, академично.
Джек Фергюсон внимательно выслушал мои научные возражения.
- Видите ли, как у нас обстояло дело, - сказал он. - В больнице было порядочное число пациентов, которые не показали улучшения после лоботомии. Мы перевели этих больных с неудавшейся лоботомией на лечение серпазилом, который быстро их успокоил, и черт меня дери, если некоторые из них не поправились настолько, что мы смогли отпустить их домой.
Но тут Джек снова попал в беду.
- Образовалась уже довольно большая группа больных, хорошо поправлявшихся на комбинированном лоботомия-серпазиловом лечении, - говорит Джек, - и я почувствовал вдруг, что мы должны сделать что-то большее для этих больных. Мы должны обращаться с ними как-то более по-человечески.
Это, казалось бы незначительное, замечание будет понятно только тем читателям, которые знают, что творится в старомодных домах для умалишенных...
К этому времени под наблюдением Джека, кроме сотен лоботомированных больных, состояли также палаты беспокойных хроников, включая две «буйные» женские палаты с таким тяжелым составом больных, что Джек называл их «отбросами человечества». Эти палаты были построены в форме буквы Т с толстыми железными решетками, которые отгораживали концы этого Т от его центральной части.
- Я чувствовал, что с этими больными тоже надо обращаться по-человечески, - сказал Джек, - поэтому я снял решетки.
И тут словно потолок обрушился на голову Джека Фергюсона.
- Я столкнулся с такой бурной вспышкой человеческой боязливости (вежливая замена слова «страх»), какой никогда не видал, - продолжал Джек. - Надзиратели побежали с жалобой к директору больницы и заявили, что все они уйдут, если меня не отстранят от работы и не поставят решетки на место.
Директор больницы вызвал Джека и предложил ему прежде всего извиниться перед надзирателями, в противном случае...
- Я был уверен в своей правоте. Нужно было во что бы то ни стало улучшить отношение к этим больным, - рассказывал Джек. - Но бросить сейчас эту работу было для меня равносильно смерти. И я смирился...
Но тут вступает в игру Джек-соблазнитель, Джек-Златоуст.
- Да, смирился, - продолжал он. - Я принес извинение каждому надзирателю, но в то же время уговорил каждого из них согласиться со мной в отношении решеток... Давайте сделаем это только так, в виде небольшого опыта...
Удвоив человеческое внимание к несчастным узницам этих страшных палат, они в скором времени могли уже приводить целую палату в обеденный зал к общему столу. Некоторые больные выходили в столовую впервые за много лет. Это было нечто неслыханное. Фергюсон со своими надзирателями противопоставляли себя всей больнице.
- Когда в первый раз наступило время вести больных к обеду, я увидел чудесное зрелище, - вспоминает Джек. - Те самые надзиратели, которые требовали моего увольнения, выстроились на всем пути от палаты до столовой. Тут решался вопрос жизни и смерти идей Фергюсона.
- В обеденном зале наши пациентки вели себя как знатные леди. А девчонки из открытых палат, наоборот, затевали ссоры и драки.
Джек весь сиял, вспоминая этот день.
- Это был первый знак начинавшегося прогресса, - сказал Джек. - Это укрепило мою уверенность в том, что безнадежным психически больным тоже можно помочь. Но как? Я сам выбрался из-за таких же железных дверей. Я знал, что они тоже могут это сделать с такой же помощью, какую получил я.
Но тут стряслась уж настоящая беда. Кончился серпазил - не было никаких средств на покупку серпазила. Из самых тяжелых больных он мог отбирать только единицы для нескольких дозволенных еще лоботомий. Полный крах...
Но Джек не вспомнил о барбитуратах. Он начал высматривать себе новое место, где б он мог работать, мог делать лоботомий, комбинировать их с раувольфией и присоединять к этому лечение нежной, любовной заботой. Он поехал в Траверз-Сити, где находилась окружная психиатрическая больница штата Мичиган, и предложил свои услуги. Без особых трудностей он получил место врача-резидента в больнице Траверз-Сити.
И вот наступило последнее испытание для таламуса самого Джека, для проверки его эмоциональной устойчивости.
Подошел срок его месячного отпуска, и перед тем, как навсегда расстаться с Логэнспортом, Джек подал просьбу 06 увольнении, а сам вместе с Мэри отправился порыбачить в Северную Канаду. По возвращении в Логэнспорт Джек и Мэри обнаружили, что все замки на их квартире сменены и они не могут взять даже свои вещи. Грузовик, который должен был отвезти их на следующий день, почему-то не явился. В то же время контора больницы настойчиво теребила Джека с отъездом, поскольку директор распорядился, чтобы преемник Джека был водворен в его квартиру немедленно. В конторе больницы Джек обнаружил, что все его личные записи и отчеты исчезли.
Он не стал скандалить.
У Джека крепко засела в голове мысль о том, что следует делать, если не можешь больше делать то, что делаешь. Все, что ему теперь было нужно, - это свобода исследования. Когда он рассказывал мне эту маленькую грустную историю последних дней в Логэнспорте, его голос звучал тихо, твердо и совершенно бесстрастно. Вообще при наших многочисленных встречах поведение Джека всегда было корректным, разумным и спокойным - выше всяких похвал.
Личные обиды уж не могли вывести его из равновесия. Начав свою новую жизнь, он стал исключительно любезным и внимательным ко всем. Наконец-то Джек Фергюсон нашел свое мокси. А ему понадобится, как вы увидите, большой запас мокси для новой работы в больнице Траверз-Сити.
Глава 8
Меня несколько смущает то признание, которое я должен сделать, повествуя об этом критическом моменте в жизни Джека Фергюсона. Прошел всего год со времени его прибытия в больницу Траверз-Сити, а газеты уже превозносили его имя, создавая ему солидное положение в науке. Я задумываюсь над тем, как мне все это рассказать, чтобы вы мне поверили. События, о которых пойдет речь, правдивы и точны, как сама истина. Но, помня все ужасы прошлой жизни Джека, вспоминая о его слабости и неустойчивости, вы вправе спросить, как мог человек, так низко павший всего четыре года назад, - как мог он так высоко подняться? Как мог Джек так быстро и так успешно исправить свое умственное здоровье? Должен признаться, что временами я и сам только наполовину верю в те необычайные дела, которые творятся в сумасшедшем доме Траверз-Сити, не говоря уж об их грандиозных планах на будущее. И все же описываемые события ни на шаг не отступают от истины, а те надежды, которые они несут с собой темным и слабоумным представителям человечества, - абсолютно верные надежды. Но где же тогда мое собственное мокси, если я так нерешительно приступаю к рассказу о том, что происходит в действительности?
Почему мне трудно писать с такой же правдивостью и убежденностью о хорошем Джеке Фергюсоне, как я писал о дурном?
Конечно, Джек Фергюсон не первый боец из тех, которые, получив нокаут, вскакивают на ноги при счете «девять», снова бросаются в бой и побеждают. И я снова вспоминаю старого средневекового Мейстера Экхарта, который редко встречал людей, совершавших великие дела без того, чтобы сперва не сбиться с пути и не наделать глупостей. Был также поэт Джон Драйден, который сказал, что «высокий ум безумию сосед». А разве Ван-Гог не создал свои бессмертные полотна, будучи сумасшедшим? С Фергюсоном произошло как раз обратное: он сейчас работает с неожиданной для него, новой, трезвой и здоровой психикой. Но и это не так уж редко встречается.
В сточной канаве, куда попал Джек, он пережил глубокий духовный сдвиг, и в этом он нисколько не отличается от многих тысяч членов общества «Анонимные алкоголики», которые выбирались из канавы с более сильным характером, чем у многих так называемых нормальных людей.
Вспомним также Федора Достоевского. Ему, как и Джеку Фергюсону, определенно повезло. У Достоевского была своя Анна, которая вырвала его из темных глубин игорного дома, чтобы он мог дописать свое великое произведение «Братья Карамазовы». У Джека Фергюсона была своя Мэри.
- Когда мы с Мэри приехали знакомиться с больницей Траверз-Сити, - рассказывает Джек, - мы первым делом пошли осматривать ее территорию. Повсюду была чистота, больничные корпуса были выкрашены и, видимо, хорошо содержались.
Поднявшись на холм, они увидели перед собой серо-голубые волны большого канала Траверз, катившиеся в синий простор озера Мичиган.
- Вот где неплохо порыбачить, - сказал Джек. - Обязательно поедем, как только немного разгружусь.
Старые чистые кирпичные здания с остроконечными крышами обступали их со всех сторон. В них помещалось более 3000 обиженных судьбою душевнобольных людей.
- Кучка больных работала на лужайке, - рассказывал Джек, - мы наблюдали за ними из-за кустов. То один, то другой из них делал что-нибудь не так или не делал того, что нужно. Интересно было видеть, как надзиратель подходил к каждому в отдельности, но не ругался и не кричал, а только молча помогал ему. Надзиратель не знал, что за ним наблюдают, - подчеркнул Джек, - так что это была, очевидно, обычная манера обращения с больными.
В корпусах, которые они осматривали, была исключительная чистота.
- Всего восемь часов назад, - сказал Джек, - мы уехали из обстановки, которая была полной противоположностью тому, что мы увидели здесь.
Джек сказал, что их решение остаться в Траверз-Сити сразу определилось, как только они вступили на территорию больницы. Они осматривали палаты для самых беспокойных, палаты, которым полагается быть грязными, но они не были грязными. Пациенты выглядели опрятными и чистыми, и все они были одеты по-разному. А в Логэнспорте Джек видел только монотонную картину больничных палат, где все пациенты были одеты в одинаковую форменную одежду, как каторжники.
Беседуя с директором больницы доктором Шитсом, Джек чувствовал, что попал в совершенно новый мир. Он видел, что доктор Шитс переживает за своих больных, включая и самых тяжелых, как будто это были не безумцы, а только несчастные люди, сбившиеся с пути. В нем совершенно не чувствовалось того раздражения, которое часто внушают нам сумасшедшие, опустившиеся до положения животных, - раздражения, которое естественно возникает из-за их ужасного поведения. Доктор Шитс извиняющимся тоном сказал, что в его больнице не применяется большая терапия, которая могла бы разгрузить учреждение или хотя бы основательно сократить его населенность. Он сказал Джеку, что, к сожалению, бюджет больницы не позволяет пользоваться новыми успокоительными лекарствами, как тиразин и серпазил, которые тогда только начинали будоражить умы психиатров. Но Джек может сколько угодно заниматься лоботомиями - тут есть сотни хроников, возбужденных и безнадежных, среди которых он найдет немало больных для оперативного лечения.
- Доктор Шитс - это доктор для докторов, - говорит Джек, - благороднейший джентльмен. После беседы с ним мы с Мэри почувствовали, что наполовину уже устроены в Траверз-Сити.
Что-то особое было в атмосфере этой больницы, что отличало ее от других психиатрических больниц, в которых Джек бывал как наблюдатель или как пациент. Безумие бушевало в каждом ее уголке, но обитатели выглядели такими опрятными, такими чистыми.
Каким же способом это достигалось? Джек настойчиво расспрашивал об этом сестер-надзирательниц, и они сами по себе могли быть ответом на вопрос. Это была их личная мораль. Они не применяли никаких чудодейственных лекарств. То, что они давали этим диким, грязным, опасным несчастливцам, не было наукой. То, что они могли им дать, было какой-то отрицательной величиной. Они не злились и не проклинали судьбу, когда больные становились агрессивными; они не сердились, когда больные обгаживались еще и еще раз; они не раздражались оттого, что снова и снова приходилось одевать больных, срывавших с себя одежду. Их терпение было «не от мира сего».
Вот что лежало в основе поведения сестер-надзирательниц: они всегда помнили, что имеют дело не со здоровыми, а с больными людьми. «Может быть, эти сестры тоже искупают свои грехи?» - думал Джек.
Сестры-надзирательницы следили за Джеком, когда он обходил больницу; каким-то путем до них дошли сведения, что Джек известный психохирург, с корнем удаляющий безумие у больных, которые до этого считались безнадежными.
- У меня было такое чувство, что сестры молчаливо просят, умоляют нас приехать в Траверз-Сити и поскорее взяться за дело, - сказал Джек.
Итак, в благоприятной атмосфере желтых кирпичных зданий, расположенных на живописных холмах и обращенных фасадами к чистым синим водам озера Мичиган, все было подготовлено для Джека-Давида, чтобы тот мог начать боевые действия против Голиафа-безумия. И тут же с первого шага перед ним встала дилемма. Она была рождена его честностью.
С одной стороны, он стоял на верном пути, когда последовал совету видного Гарвардского нейропсихиатра доктора Гарвея Кушинг, который сказал: «Задача психиатров - вернуться в дома умалишенных и в лаборатории, которые они гордо называют пройденным для себя этапом». Совершенно верно. Эта больница и есть его лаборатория. У многих тяжелых психотиков он может за пять минут иссечь безумие, которое годами не удавалось ликвидировать путем уговоров на кушетке докторского кабинета.
С другой стороны, существовало зловещее мнение, высказанное столь же крупным чикагским нейропсихиатром доктором Персиваль Бэйли: «Великая нейрохирургическая революция (лоботомия) оказалась безрезультатной: она не разгрузила больниц нашего штата».
Опять-таки верно. Еще в Логэнспорте, как вы припоминаете, у Джека зародилось сомнение, что у ледового топорика нет будущего в лечении шизофрении. Крошечные пилюли серпазила обладали силой прояснять головы, которые после лоботомии оставались туманными. Это был как бы особый вид химической лоботомии, временного вмешательства, тогда как операция ледовым топориком навсегда разрушала мозговую ткань, которую уж невозможно восстановить.
Вот какая дилемма встала перед Джеком: специалист по лоботомии, он в душе стал уже химиком-клиницистом. А тут пришли вести из Франции о новом, еще более сильном успокоительном средстве, чем серпазил, с которым Джек работал.
Химическая его формула звучит страшновато: «10-(3-диметил-аминопропил)-2-хлорфенотиазин». Это вещество было синтезировано мудрыми химиками фирмы Рона-Пу-лэнк в Париже. Профессор Дж. Е. Стеглин из Базельской психиатрической клиники в Швейцарии сообщил, что с помощью этого средства удалось выписать из больницы половину больных. С применением правил химической стенографии оно было названо хлорпромазином. Средство это было освоено и выпущено в Америке под торговой маркой «торазин» фармацевтической фирмой Смит-Клайн-Фрэнч.
Как раз в то время сотни канадских и американских врачей проводили клинические испытания серпазила и торазина в надежде, что то или другое из чудодейственных снадобий - а еще лучше при совместном их употреблении - начнет опустошать наши сумасшедшие дома.
Но Джеку Фергюсону, уединившемуся на берегу большого канала Траверз, - где ему было достать серпазил, где достать торазин? Кто из фармацевтической фирмы Сиба, выпускающей серпазил, или из фирмы Смит-Клайн-Фрэнч, вырабатывающей торазин, - кто слышал когда-нибудь о докторе медицины Джоне Т. Фергюсоне, замкнувшемся и своей далекой северной крепости? Никто.
И где взять денег на покупку пилюль для психобольницы Траверз-Сити? Их не было совсем. Как же нашему химику-клиницисту Джеку Фергюсону приступить к испытанию этих могучих пилюль, которых он не имел?
- Занимаясь отбором больных для лоботомии, в ожидании заказанного оборудования и инструментов для производства лоботомии, - рассказывает Джек, - я случайно разыскал в больничной аптеке небольшой запас серпазила и торазина.
Флаконы с таблетками лежали, обрастая пылью, на аптечной полке; Джек, конечно, немедленно их реквизировал и пустил в ход.
- Затем я узнал, что у каждого из больничных врачей хранился небольшой запас образцов. Их мне тоже удалось выманить. А тут стали поступать пополнения от агентов Сиба и Смит-Клайн-Фрэнч. И дело закипело, - продолжает Джек, улыбаясь.
Джек не рассказывал мне, приглашал ли он кого-либо из товарищей врачей принять участие в его сомнительной затее с химическим лечением. Возможно, что и нет, может быть, следовало это сделать, но Джек был ученым-одиночкой. Работая один, он по крайней мере был избавлен от необходимости отстаивать свой метод. Его химическая затея действительно выглядела сомнительно, потому что он начал испытывать новые успокоительные лекарства только на самых тяжелых, самых безнадежных, окончательно потерявших разум больных. Наперекор всякому здравому смыслу он пытался именно их вернуть к ясному сознанию. Но почему же?
Пусть Джек сам ответит на этот вопрос. Вот его рассуждения. Ранние, мягко протекающие формы сумасшествия - неподходящий материал для лечебных опытов. Они не дают достаточно сильного контраста между «до» и «после». Этот контраст будет малозаметен, если у человека со слабо расстроенной психикой вы добьетесь некоторого улучшения. Эффект лечения определится гораздо вернее у тяжелого хроника, если вам удастся вывести его из глубокого психотического состояния и добиться явного улучшения. Вот почему так легко обмануться при лечении ранних, не запущенных случаев болезни. Давайте послушаем, что говорит по этому поводу не менее ярый критик доктор Д. О. Гебб из Монреаля. Он ставит вопрос о том, как определить результативность лечения. Дело это нелегкое. «Потому что, - пишет доктор Гебб, - среднее число психических больных, выздоравливающих без всякого лечения, составляет 30, 35 и до 40 -процентов всех больных... Эти цифры широко варьируются от одной серии пациентов к другой».
Откуда же вы узнаете, что данный случай выздоровления после пилюль - не более как простая случайность? Вы можете это узнать с большей достоверностью - к этому-то и сводится теория Джека, - если будете испытывать новое лечение только на самых тяжелых, самых безнадежных хрониках, потому что эти больные никогда не выздоравливают самостоятельно.
Так рассуждал Джек, а, кроме того, я подозреваю, у него где-то еще таилась мысль, что люди, считая его затею заранее обреченной на неудачу, оставят его в покое с этими «дурацкими выдумками». Это было похоже на Джека, одинокого волка.
И вот осенью 1954 года доктор Джон Т. Фергюсон начал испытывать действие серпазила и торазина на плохое поведение самых тяжелых, самых неисправимых хроников из 1003 умалишенных женщин, находившихся под его наблюдением в больнице Траверз-Сити. Не было у него ни резидента, ни интерна, никакого другого врача, чтобы помочь ему в этом деле. Он имел только 107 сестер-надзирательниц, которые были его руками, его ушами, его глазами. Они работали изумительно, говорит Джек, потому что, не будучи ни врачами, ни психологами, ни психиатрами, «все они имели высшее образование или равноценное ему».
И они действительно прекрасно работали - эти сестры, потому что годами жили со своими больными, заботились о них и, несмотря ни на что, нежно любили их - вопящих, грязных, удрученных горем, оцепенелых или внезапно разбушевавшихся, замышлявших покончить жизнь самоубийством или убить кого-нибудь. Эти 107 женщин-надзирательниц знали все повадки и причуды, страхи и внутренние муки своих больных, когда их ненормальное поведение разгоралось или ослабевало день ото дня, с часу на час.
Все это они отмечали на картах «профиля поведения», когда-то придуманных Джеком для лоботомированных больных в Логэнспорте. Три раза в день сестры-надзирательницы давали больным глотать в своем присутствии назначенные лекарства и отмечали принятые ими дозы с точностью до одного миллиграмма. Три раза в день они клали лекарства в пищу больным, которые отказывались глотать пилюли, и следили за тем, чтобы пища была съедена.
А Джек Фергюсон очарованным взглядом наблюдал мягкое, успокаивающее (чуть-чуть угнетающее) действие серпазила и торазина, которые его остроглазые и преданные сестры-надзирательницы раздавали все новым и новым сотням неизлечимых больных. На этой стадии своего эксперимента Джек придерживался больше серпазила, чем торазина. Сельский доктор в Джеке боялся, может быть, и без особых оснований, вредного побочного действия торазина.
Ну конечно же, оба эти лекарства - прекрасные успокоители, действующие мягко и верно. Особенно хорошо усмиряют они больных, которые ведут себя сверхактивно, буйно, злобно, агрессивно. Они успокаивают даже худших из них - тех, чье неистовое поведение вынуждает иногда прибегать к помощи специально вызванного отряда надзирателей-мужчин.
Под влиянием лекарств многие из них делаются кроткими ягнятами, и буйные палаты больницы иногда кажутся спокойными, как церковь, и тихими, как собрания квакеров. Все это, конечно, было не новостью, поскольку о действии серпазила сообщил уже доктор А. А. Саинз из Иова-Сити и доктор Натан С. Клайн из Роклэндской больницы в Нью-Йорке и доктора Ноце, Уильяме и Рапопорт из Модесто в Калифорнии; а действие торазина было уже отмечено многими европейскими психиатрами, а также американцами, начиная с доктора Г. Е. Лэмана в Монреале.
Но вот, когда лечение успокоительными средствами так заметно изменило атмосферу в больнице Траверз-Сити, что-то зловещее, что-то печальное стало проявляться в действии серпазила (и торазина тоже), вызывая беспокойство у Джека Фергюсона и его сестер-надзирательниц.
Серпазил был безвредным средством, - во всяком случае, казался таким. Джек убедился, что его можно применять в огромных дозах без какой-либо серьезной реакции для успокоения самых буйных, самых неукротимых психотиков. Но по мере того, как Джек все более и более удлинял периоды лечения, серпазил стал уж не только успокаивать больных, а проявлять более глубокое действие.
Многих он погружал в дремотное, летаргическое состояние. Это был не тот негативизм у некоторых психотиков, которые «отшатываются» от всякого лечения. Интересную форму сна вызывает длительное употребление серпазила. Это достаточно глубокий сон. Однако больных легко разбудить и привлечь их внимание. Но если их оставить в покое, они вновь засыпают. Джек был в отчаянии. Пока не наступала эта сонливость, серпазил и торазин так хорошо рассеивали фантазии и галлюцинации больных, так хорошо их успокаивали. Когда Джек прекращал лечение, больные быстро просыпались, но тут же возвращалось их безумие.
Однако это было еще не самое худшее. Некоторым больным Джек продолжал давать серпазил, невзирая на летаргию, в надежде, что это временное явление, которое само собой пройдет.
Вскоре эти чрезмерно успокоенные страдальцы погрузились в черную депрессию, в меланхолию. У них появилось дрожание головы и рук, как при болезни Паркинсона, потом они совсем оцепенели, стали пускать слюну и нести всякий вздор.
И еще одно неприятное явление заметил Джек при испытании серпазила и торазина: они давали успокоительный эффект только у возбужденных, агрессивных, сверхактивных психотиков, но нисколько не помогали больным, которые находились в депрессивном, меланхолическом состоянии; наоборот, они еще глубже погружали их в унылое настроение.
Джек и его сестры-надзирательницы совсем пали духом, когда через пару месяцев сонливость и уныние стали широко распространяться среди пятисот больных, которых они начали было успокаивать с такими добрыми надеждами.
Что же это за лекарства против безумия, если они внутренне опустошают людей при попытках смягчить их безмерное возбуждение, и чем же они лучше бромидов или фенобарбитала? Неужели для того, чтобы сделать больницу Траверз-Сити приятным и тихим учреждением, надо превратить ее в дом летаргии? Нет, это не те лекарства которые можно давать больным в больших дозах, а потом предоставить их самим себе. Они довели уж этим угнетающим лечением некоторых несчастных до попыток самоубийства...
И еще один вывод сделал Джек: эти лекарства отнюдь не излечивали хроников с далеко зашедшими формами безумия. Унылое настроение, наступавшее вслед за периодом удивительного спокойствия, - эти явления депрессии почти всегда исчезали с прекращением лекарств.
После этого больные испытывали блаженное спокойствие, а их ясное сознание, казалось, одерживало верх. Но часто случалось, что после отмены успокоительных средств больные впадали в дикое и буйное состояние. Они били стекла и ломали мебель. Они пытались убивать друг друга или сестер-надзирательниц.
Не лучше ли Джеку поторопить начальство с получением лоботомического оборудования и зарядиться энергией для производства пятисот операций?
Все эти неприятности и огорчения только еще начинались, когда доктор Франк Моор, клинический консультант фармацевтической фирмы Сиба, прибыл в больницу Траверз-Сити, но вовсе не для того, чтобы повидаться с доктором Джоном Т. Фергюсоном. Он никогда и не слышал о Фергюсоне. Он приехал к ученому фармакологу больницы доктору Уильяму Г. Фандербарку, который любезно пригласил Джека познакомиться с доктором Моором. Это была рука судьбы. Или, как любит выражаться Джек, «должно быть, всевышний опять положил руку мне на плечо».
Доктор Моор показал Фандербарку и Фергюсону кинофильм, заснятый парочкой невоспетых киногениев, доктором Эрлем и мистером Вольфом из лабораторий Сиба в Соммите. В фильме была показана обезьяна макакус резус, одно из самых злых лабораторных животных. Служитель осторожно держал ее в длинных, толстых, укусо-устойчивых и когтеустойчивых рукавицах. В вену этого опасного зверька вводится один шприц серпазила. Менее чем через час наступает трансформация, полная метаморфоза в поведении животного. На глазах у зрителя происходит коренное изменение врожденных инстинктов обезьяны. Она становится кроткой и смирной. Она ласкается к служителю и прижимается к нему, как щенок. Она похожа на милого ребенка. Она совершенно спокойна, но в то же время быстро реагирует на окружающую обстановку. Это было бы очаровательное комнатное животное, если бы можно было все время держать его под серпазилом. К сожалению, это невозможно. Но как бы то ни было, обезьянка своим поведением вызывает представление о грядущем золотом веке, когда, символически выражаясь, лев будет лежать рядом с ягненком. Хорошо было бы разработать технику введения этого умиротворяющего средства гнусной кучке агрессоров в нашем мире...
Этот фильм, который я смотрел с восхищением несколько лет назад, на Джека Фергюсона произвел иное впечатление. Не то чтобы Джек не оценил по достоинству его замечательную научную ценность. Фильм, конечно, поможет фирме продать гору серпазила. Но что касается самого Джека Фергюсона, то ведь он уж наблюдал действие этих успокоителей на собственной орде опасных больных. Все ли показал доктор Моор в своем обезьяньем представлении? В палатах больницы это чудесное снадобье чересчур уж успокаивало больных, вплоть до жестокой хандры, до пар-кинсоновской тряски, до попыток самоубийства.
Где же тот фильм, который покажет ему, как в таких случаях нужно поступать?
И неожиданно громко для его низкого, ровного голоса, с извиняющейся улыбкой Джек рассказал доктору Моору о своих огорчениях с серпазилом.
Вот «профили поведения» его больных. Когда серпазил делает их спокойными, близкими к выздоровлению, а затем погружает в глубочайшую депрессию, что может сделать здесь доктор Фергюсон? Что может предложить ему Сиба?
Джек объяснил доктору Моору, что он пытался победить серпазиловую депрессию крепким кофе, чистым кофеином, амфетаминами - бензедрином и бекседрином, - ксиэфедрином и другими известными ему лекарствам», которые без вреда для больного могут стимулировать ослабевший мозг. Но действие этих лекарств оказывалось либо чересчур грубым, либо слишком слабым, чтобы вывести больных из серпазиловой меланхолии и вернуть к активному но спокойному уравновешенному поведению.
Франк Моор молча и внимательно слушал, не спуская глаз со скромного больничного врача. Под внешним обликом краснощекого, круглолицего, добродушного и улыбающегося Джека Фергюсона Франк Моор угадал яростный порыв к действию, неугасимое желание найти что-нибудь такое, что могло бы сделать прекрасное успокоительное средство действительно практичным, получить химический стимулятор, который мог бы взаимодействовать с серпазилом. Чтобы больные не оставались глупо, печально спокойными. Чтобы возбудитель и серпазил, работая совместно, могли сделать больных активно-спокойными, может быть, даже вернуть им человеческий облик и ясное сознание, с которым большинство из них сможет уйти домой, в свою семью. Если только семья захочет их принять...
«Что ж мы можем ему предложить?» - думал про себя строгий и спокойный доктор Франк Моор.
Так-то и случилось, что поздней осенью 1954 года доктор Джон Т. Фергюсон начал работать в содружестве с фирмой Сиба. Теперь он мог иметь сколько угодно серпазила для укрощения своих сверхактивных пациентов. И теперь он стал настоящим клиницистом-химиком. Сиба прислала ему два химических препарата, и ему, Джеку Фергюсону, предстояло быть первым в мире исследователем, испытывающим действие этих возбудителей на мозг умалишенных, и проверить, не облегчают ли эти средства меланхолическое состояние. И особенно важно было выяснить, смогут ли они противодействовать серпазиловой депрессии.
Джек приступил к своим клиническим исследованиям и начал с неудачи. Препарат БА-14469 был синтезирован большими учеными фирмы Сиба в Базеле, в Швейцарии. Он показал сильное стимулирующее действие, напоминающее действие декседрина, может быть, еще более сильное на лабораторных животных. БА-14469 должен был так же действовать на людей. Очень осторожно Джек стал скармливать его нескольким шизофреникам, находившимся в кататоническом оцепенении. Эффект был потрясающий! Казалось прямо сверхъестественным, как быстро пробуждал он этих несчастных, проводивших свои дни лежа на полу.
- БА-14469 действительно поднимал их с пола, это верно, - рассказывал Джек, - но, увы, скоро нам пришлось стаскивать их с потолка.
Через неделю они стали, правда, весело попрыгивать. А через девять дней после того, как Джек отменил БА-14469, двое больных, которые показывали такое приятное оживление, начали дергаться в зловещем танце, напоминавшем пляску св. Витта. Таково было боевое крещение Джека, клинициста-химика.
- По-человечески я был очень встревожен, - сказал Джек. - Я уже видел перед собой неизбежную смерть больных, унижение, судебный процесс...
Но оставался еще химический компаньон БА-14469 - препарат БА-4311, значительно менее активный возбудитель мозговой деятельности у животных. Он был обладателем громкого химического названия «фенил (альфа-пиперидил) уксуснокислый метиловый эфир», а для краткости его называли «метилфенидилацетат». Хоть он не завоевал еще себе популярности в клинической практике, фирма Сиба присвоила ему торговую марку «риталин». Стимулирующее действие риталина оказалось настолько слабым по сравнению с БА-14469, что ученые фирмы Сиба вообще не возлагали на него особых надежд. Такого же мнения придерживался и Джек, который с осторожностью сельского врача, боящегося причинить вред самому скромному пациенту, все же приступил к испытанию нового препарата на группе вялых и подавленных больных. По правде говоря, напуганный неприятностями с БА-14469, Джек почти и забыл о том, что начал испытание риталина.
Риталин имел свою любопытную лабораторную предысторию. Он был синтезирован доктором Чарльзом Гофманом в Базеле лет шесть назад. Ученые фирмы Сиба Р. Мейер, Ф. Гросс и Дж. Трипод сообщили, что риталин оказывает возбуждающее действие на собак, крыс, мышей и даже на кроликов и после некоторого периода метания по клетке они становятся как бы утомленными. В общем же риталин - исключительно безвредное средство.
Действие огромных доз риталина сказывается лишь в том, что, попрыгав как следует, животные кажутся приятно расслабленными и усталыми.
Джек нашел в литературе только одно сообщение об опыте с риталином на людях, не психотиках, а нормальных людях. Ученые фирмы Сиба А. Драссдо и М. Шмидт устроили занятный эксперимент с риталином. Они накачали группу добровольцев фенобарбиталом до такой степени, что те потеряли способность производить простые арифметические вычисления. Но через несколько дней, когда им стали давать фенобарбитал вместе с риталином, они поразительно быстро и точно производили свои математические расчеты.
Это был единственный опубликованный опыт с действием риталина на человеке, и в этом сообщении еще указывалось, что у 70% из шестидесяти подопытных людей наблюдалось чувство «приятного возбуждения». Важно было то, что риталин не вызывал у этих людей «перевозбуждения». «Что ж это за опыт? - думал Джек Фергюсон. - Накачать людей барбитуратом только для того, чтобы при помощи риталина восстановить их математические способности». Джек улыбнулся. До чего академично мыслят эти лабораторные ученые! Однако постойте...
Надо все же посмотреть на своих риталинированных психотиков, хотя сестры ему еще ничего не сообщили. Лучше уж самому взглянуть на них, думал Джек, вспоминая страшные времена в Гэмлете, когда он, оглушенный барбитуратами, опрокинул на себя кастрюлю с горячим кофе - крепким кофе, которым он пытался вывести себя из барбитуратовой депрессии.
Так Джек Фергюсон пришел к своему дню из дней, первому дню открытия, хотя открытый им факт казался чрезвычайно скромным и малозначащим.
Сестра-надзирательница, дежурившая у риталинированных больных, пришла к д-ру Фергюсону с рапортом. Вот больная, которая годами завязывала свою одежду в узлы. Она перестала зто делать. Вот другая, никогда самостоятельно не встававшая со стула; теперь она сама встает и идет к умывальнику. А вот и третья, которую всегда приходилось вталкивать в шеренгу больных, шедших в столовую обедать. Теперь она занимает свое место в строю совершенно добровольно.
Все эти перемены в поведении были незначительны, но весьма знаменательны. Джек стал присматриваться к тем десяти кататоничкам, которых он первыми посадил на риталин. Любопытно было наблюдать: все они стали как будто немного живее. Некоторые проявляли желание поздороваться за руку с доктором Фергюсоном - до риталина они смотрели на него мертвенно-тусклым взглядом.
Но стимулирующее действие риталина по сравнению с БА-14469 было настолько мягким, что трудно было его сразу заметить. Нет, не то ему требуется. Надо найти такой препарат, который мог бы основательно подхлестнуть мозговую деятельность, вроде БА-14469, только менее вредный.
Для борьбы с серпазиловой депрессией надо иметь что-нибудь более ударное, чем слабенький риталин.
- Посмотрите на миссис Бланк, - сказала Джеку дежурная сестра. - С тех пор как мы посадили ее на риталин, она сильно переменилась. Подумать только - пришлось глушить ее электрошоком, чтобы с нею можно было жить.
Джек все больше и больше усиливал дозу риталина для наиболее угнетенных больных - для больных с глубокой серпазиловой депрессией, и действие риталина на этих людей было медленным чудом. Когда Джек заводил с ними разговор, то вместо прежнего упорного молчания некоторое подобие улыбки появлялось у них на лице, глаза становились светлее и взгляд их был живым, а не мертвенно-тусклым. Джек продолжал осторожно повышать их трехразовую дневную дозу риталина. Вот сидит больная и улыбается.
- Я с трудом мог поверить. Она сидит на стуле, - рассказывал Джек. - Ведь это что-то значит - сидеть на стуле после того, как человек годами лежал на полу.
По прошествии двух месяцев эта женщина могла уже сама есть, сама ходить к умывальнику, могла с небольшой помощью одеться и раздеться, ходила на прогулки и в кино. Из «ничего» она стала человеком...
Не прекращая давать серпазил больным с серпазиловой депрессией, Джек добавлял к нему риталин, и у большинства больных эта комбинация изгоняла хандру, не снимая в то же время приятного серпазилового спокойствия. Вот небольшая сводка, собранная из «профилей поведения»:
«38 больных были недвижимы. Теперь 14 из них разгуливают вполне самостоятельно; 14 - сидят, но объем движений у них гораздо больше; 10 из 38 ходят, но нуждаются в некотором подталкивании».
Оставалось только признать, что этот мало популярный, мягкий и слабенький препарат определенно обладает положительными свойствами. Риталин оказался приятным сюрпризом. Получить столь явный эффект на безнадежных хрониках и вырожденцах - это граничило с чудом. Что из того, если приходилось систематически повышать дозу лекарства? Ведь оно было так сверхъестественно безвредно. И с самого первого самостоятельного движения, с первого слабого блеска в глазах надо было запастись терпением и ждать, пока больные не начнут ходить, не научатся координировать свои движения... Встают тени прошлого - далекие воспоминания об экспериментах Уильяма Лоренца, который впервые смог добиться светлого интервала, впервые установил, что химическими средствами можно сдвинуть маску безумия и открыть глубоко спрятанное под нею ясное сознание - на какие-то минуты, в лучшем случае на пару часов. Но вот перед Джеком его умиротворенные больные, сначала погруженные в депрессию серпази-лом, а потом возвращенные к активной деятельности риталином.
Им уже не приходится показывать дорогу к умывальнику, или учить их есть, или одеваться без посторонней помощи. Они сами восстанавливают у себя эти привычки. Многие даже без тренировки. Много лет они задерживали, прятали в себе эти культурные навыки, которым их обучали в детстве, хотя в эти долгие сумасшедшие годы они вели себя более беспомощно, более бесстыдно, чем животные.
- Это похоже на умственное пробуждение, - сказал Джек, - пробуждение к окружающей действительности.
Казалось, что эта действительность росла и расширялась для них, пока их держали на комбинации серпазила с риталином, от которой они становились спокойными и в то же время активными.
И вот какая мысль осенила Джека. Эту мысль внушил ему факт совместного действия серпазила и риталина. Безумие - это нечто большее, чем ненормальное поведение. Безумие может проявиться в сверхактивном поведении - и серпазил или торазин успокаивает больного. Оно может также выразиться в слабоактивном поведении - и риталин активирует его, возвращает к норме. Что же такое безумие? Не есть ли это только преувеличение обычных норм поведения у всех нас, которые не сидят еще в сумасшедшем доме?
- Ведь наш разум не кипит ключом все время, и мы не заглушаем свою умственную деятельность на долгое время. Мы являемся существами переменчивых настроений - сверхактивного, потом слабоактивного.
Но у своих запущенных сумасшедших-хроников, возвращавшихся к действительности под действием серпазила и риталина, Джек, наблюдая их острым глазом сельского доктора, заметил, что их безумие - это нечто еще большее, чем простое чередование сверхактивного и слабоактивного поведения. Собственное бурное прошлое Джека многому его научило, помогло понять страдания своих больных.
Колебания настроения вверх и вниз - это уже плохо. Но когда ваш разум кипит ключом, а настроение у вас подавленное - это уж совсем плохо. Вот женщина, неподвижно лежащая на полу в своей палате. Внешне ее ненормальное поведение кажется слабоактивным. Но она не спит. Она просто упрямствует, как ребенок в припадке раздражения. Вся она напряжена, как туго натя- нутая пружина. Она сверхактивна, хотя неподвижно лежит на полу и внешне кажется слабоактивной. Ненор- мальное поведение - это смесь слабой и повышенной активности.
И во.т серпазил с риталином дали Джеку возможность проверить это наблюдение. Больше того, они позволили ему измерить степень повышенной и ослабленной активности. Вот женщина, ведущая себя сверхактивно: она беспокойна и агрессивна. Серпазил или торазин превосходно ее успокаивает; но серпазил или торазин в своем успокоительном действии довел ее до хандры, до глубокой депрессии. Вот другая больная - тупая, вялая, хмурая, неподвижная; риталин прекрасно активирует ее поведение. Но один риталин при длительном употреблении приводит ее в буйное, маниакальное состояние. Что же делать?
Внутреннее чутье, добытое нелегким путем - может из собственного маниакального прошлого, - подсказало Джеку, как в этих случаях поступать. Столкновение слабо- и сверхактивного ненормального поведения подобно качанию на доске. Что тут можно сделать? Джеку теперь это было ясно. Когда больной ведет себя сверхактивно и агрессивно, надо начинать лечение с серпазила; а когда наступит успокоение, тогда добавлять риталин, чтобы низкий конец доски не опустился слишком низко. А когда поведение больного упадочное и негативное, надо начинать с риталина; и когда проявится его стимулирующее действие, тогда добавлять серпазил, чтобы маниакальный конец доски не поднялся слишком высоко.
Таким-то способом Джек начал приводить своих буйных и угнетенных больных к уравновешенному поведению. Все это звучит вполне убедительно, если стать на точку зрения Джека и понимать шизофрению как столкновение повышенной и пониженной активности. Все это звучит довольно просто. Может быть, даже слишком просто. Без своих 107 сестер-надзирательниц, отмечавших малейшие сдвиги в поведении каждого больного после каждого приема серпазила и риталина, повышавших или снижавших дозировку того или другого лекарства, чтобы сделать устойчивой доску их поведения, - без этих 107 помощниц Джек не смог бы даже приступить к своему эксперименту.
Когда Джек в первый раз объяснял мне, как он пришел к мысли об эксперименте «качающейся доски», это звучало чересчур просто, чтобы произвести большое впечатление. Но в то же время меня взволновала мысль о сходстве этого опыта с выдающимся научным достижением великого исследователя прошлых лет. Я глубоко изучил его замечательную работу. Кто же он? Ученый, которого напомнил мне Джек, - это Чарльз Ф. Кэттеринг. Босс Кэт начал эту работу с такого же простого эксперимента, но закончил ее получением чудовищной энергии от самых слабых машин внутреннего сгорания и при помощи такого горючего, которое в настоящее время дает им столь мощную силу.
В грязном сарае в Дэйтоне в 1912 году Босс Кэттеринг начал возиться с маленькой одноцилиндровой машиной; он называл ее своей морской свинкой. Чем больше повышал он внутреннее давление, тем большую мощность развивала машина, но, когда он слишком сильно повышал давление, машина начинала стучать, начинала гудеть. Это было признаком ее ненормального поведения.
С единственным своим помощником Томом Мидгли Босс Кэттеринг стал добавлять к бензину то одно, то другое химическое вещество, чтобы устранить это гудение. Специалисты по горючему, инженеры, профессора химии считали, что Кэт и Мидг спятили. Для Кэттеринга машина была единственным авторитетным критиком. Давая научную оценку тому или другому химическому веществу, он руководствовался лишь одним простым вопросом: «Нравится это машине или нет?» И ответом машины было гудение или негудение.
Этот простой опыт закончился этиленовым бензином и высокооктановым горючим. Он дал стране авиационные моторы высокого давления, которые помогли горсточке смелых людей одержать победу в битве за Британию и спасти нас от Гитлера. Он дал нам транспортные самолеты, которые сделали мир таким маленьким.
Беседуя недавно с Боссом Кэттерингом, я сравнил его химические попытки преодолеть гудение маленькой машины со стараниями Джека Фергюсона найти лекарства, способные приостановить гудение - ненормальное поведение в больном мозгу.
- Да, похоже, - сказал Босс, посмеиваясь, - теперь, когда этот доктор докопался до своей смеси сверхактивного со слабоактивным, важно, чтобы он научился измерять их.
Из первых двадцати пяти хронических, запущенных, безнадежных больных, на которых Джек испытывал действие серпазила с риталином, двадцать два показали улучшение: некоторые - весьма значительное; некоторые - настолько хорошее, что могли уже вернуться домой. Труднее было активировать слабоактивных, чем успокоить сверхактивных.
- И все же, - сказал Джек, - результаты превзошли все наши ожидания.
- Я не прекращал переписки с учеными-исследователями фирмы Сиба, - рассказывает Джек, - я не переставал указывать им на то, что их успокоительные снадобья имеют некоторые дефекты.
Он продолжал досаждать им критикой знаменитого серпазила, который прославлялся учеными всей страны как средство, способное принести в сумасшедшие дома мир и покой воскресных школ и которое действительно помогло выписать из больницы некоторое количество больных в более или менее нормальном состоянии. Правда, Джек манипулировал преимущественно с серпазилом, потому что врач-практик, сельский доктор в нем воздерживался от применения более эффективно действующего торази-на; он боязливо косился на вредное побочное действие торазина. Может быть, Джек был и чересчур боязлив, но об этом позже. Так или иначе, серпазил не удовлетворял его.
- Я не переставал им указывать, что серпазил имеет кучу дефектов, - повторил Джек. - Я сообщил также ученым товарищам Сибы, что риталин устраняет многие из этих дефектов.
В глазах ученых фирмы Сиба риталин обладал только одним оригинальным свойством. Когда, вы помните, психически нормальные люди, добровольцы, были экспериментально одурманены фенобарбиталом, они потеряли способность считать. А риталин возвратил их математические способности к норме. Что же в нем особенного? Но Джек продолжал надоедать авторитетным людям из Сибы До тех пор, пока наконец не наступил новый великий день Для Джека.
Он был приглашен на конференцию в Нью-Йоркскую академию наук. На повестке дня стоял вопрос: «Резерпин (серпазил) в лечении нейропсихиатрических, нейрологиче-ских и смежных клинических форм». Мэри была приглашена вместе с ним, и их обоих напугало и взволновало это новое путешествие в большой город.
Накануне конференции Джек, сидевший весь день в институте Сиба, был сравнительно спокоен.
- Весь день перед конференцией, - рассказывает Джек, - мне учиняли строгий допрос доктор Фриц Йонк-ман и его персонал. Я показал им наши выводы. Факты были таковы - риталин снимает подавленное настроение, и капризы, и дрожание, и глубокую меланхолию, вызванную серпазилом.
А риталин в больших дозах совершенно безвреден - в этом его главное достоинство, - и - что особенно замечательно - риталин вышибает из больного только плохие последствия серпазила, а успокоительное его действие остается.
- Чего они вообще ждут от серпазила?- налетал Джек на доктора Йонкмана. - Предназначают ли они его для кучки экспериментирующих психиатров в психиатрических больницах и медицинских школах? Если так, то дефекты серпазила, может быть, и не имеют большого значения. Но если Сиба выпускает серпазил для сотни тысяч домашних врачей, которые будут прописывать его своим пациентам с надломленной нервной системой...
Если Сиба этого ждет от серпазила, тогда серпазило-вая депрессия и серпазиловая тряска приведут к тому, что снадобье будут ругать самыми последними словами. Им придется краснеть за него.
- Они, конечно, тоже задали мне перцу, - сказал Джек.
Он стойко выдержал все их нападки, а к концу дня доктор Йонкман спросил Джека, не будет ли он любезен выступить по этому вопросу на конференции и рассказать о своей работе.
- Он не ставил мне никаких ограничений, - сказал Джек, - и я только удивлялся смелости доктора Йонкмана, сделавшего мне такое предложение.
В последующие два дня среди хора похвал по адресу серпазила на конференции прозвучали также скептические голоса некоторых ученых-медиков - участников конференции. Но из этих тридцати критиков один только доктор Джон Т. Фергюсон из Траверз-Сити в штате Мичиган - кто он такой, этот Фергюсон, и где находится Траверз-Сити? - по-настоящему изложил все плохие и даже опасные последствия серпазила в практической работе с ним.
Доктор Фергюсон лично наблюдал вызванную серпазилом депрессию на серии в пятьсот больных, получавших серпазил в продолжение шести месяцев. Но когда он стал добавлять к серпазилу риталин, дефекты серпазила в большинстве случаев перестали быть проблемой. Джек был зеленым новичком на научных конференциях. Когда у него попросили рукопись для опубликования в анналах Нью-Йоркской академии наук за апрель, он сказзал, что у него нет никакой рукописи. Все, что он мог предложить, - это черновые клинические заметки и кучу идей, объяснил Джек с извиняющейся улыбкой. Но он улыбался и про себя, потому что его ведь пригласили на конференцию только послушать. Сначала его попросили неофициально выступить в дискуссии. А теперь с него требуют надлежаще оформленный научный труд.
- Вечером на банкете мистер Гаррис из Сибы и я совместными усилиями состряпали доклад, - сказал Джек. - Мы сидели с ним в комнатке, примыкающей к залу для банкета. Я рад вам сказать, что не пропустил обеда, - добавил Джек, великолепный едок. - Хотя, пожалуй, было бы лучше, если бы я его пропустил. Как неопытный провинциал, я навалился на турмадор из крабов, и, боже, как я потом страдал! Когда я уверял Мэри, что проклятый турмадор был не свежий, она это оспаривала - ведь другие не заболели. Мэри придерживалась мнения, что всему виною были кобыльи яичники, которыми я закусывал за коктейлем перед началом банкета.
Осенью 1955 года Джек Фергюсон сделал еще шаг вперед. На Среднезападной научной конференции Американской психиатрической ассоциации он прочитал доклад «Об улучшении поведения психически больных в условиях стационара после лечения комбинацией серпазила с риталином». Приведенные им данные не только взволновали психиатров, но дали даже материал для газетной статьи.
И не столько сообщенный им новый метод лечения заставил собравшихся психиатров сидеть на краешке стула. Их поразил состав больных, которых Джек отбирал для своего эксперимента. Он брал на лечение абсолютно безнадежные случаи - это и заставляло почтенных делегатов привставать со стульев и внимательно прислушиваться.
Ведь серпазил считается таким мягким, таким медлительным успокоителем, а риталин - таким слабым стимулятором, что его вообще нельзя считать возбуждающим средством, как, например, декседрин.
Но вот врач Фергюсон из северных мичиганских лесов сообщает о том, какое действие оказали эти мягкие средства на самых тяжелых больных в его больнице, на 225 человек разного возраста, которые уже много лет содержатся в больнице,, которых после тщетного лечения и инсулином, и электрошоком заперли под замок, которых уже сбросили со счетов... Все они поджидали только черную карету, чтобы совершить последнюю прогулку.
Но вот этот круглолицый, улыбающийся человек с располагающей внешностью рассказывает тихим ровным голосом о том, что во всех категориях их «профилей поведения» процент явного улучшения «был впечатляющим».
Драчливость и разрушительные наклонности исчезли у 80 процентов больных; умение самостоятельно есть восстановилось у 71 процента; блуждание по ночам прекратилось у 70 процентов; 72 процента больных начали принимать участие в прогулках и развлечениях и 74 процента усердно занимались трудовыми процессами.
Джек рассказывал, какой беспорядок раньше царил в его палатах. Он казался ему и трогательным, и грустным. С тех пор как он начал свою серпазил-риталиновую кампанию, косметичка, обслуживавшая персонал больницы, была буквально завалена заказами на перманент - заказами от неопрятных женщин, которые годами не обращали внимания на свою наружность. Тогда Джек и его сестры развернули целую «программу красоты» - название шикарное, стоило только посмотреть на его больных! - и выздоравливающие женщины с детской суетливостью стали обучаться искусству косметики, что входило в новую программу трудотерапии.
Джек, улыбаясь, рассказывал, с каким энтузиазмом воспринимали гигиену рта его леди, которые годами не чистили зубов. Теперь они с гордостью разгуливали по больнице, подвесив на шею свои зубные щетки.
Что особенно приковывало внимание психиатров, психологов и газетных репортеров к докладу Джека - это смелость его затеи вернуть рассудок именно тем больным, которые перешагнули за черту излечимости. Вот это действительно человек, не желавший себя обманывать, действительно требовательный к себе. Его метод был полной противоположностью другим методам лечения - инсулинотерапии, электрошоку и лоботомии, которые, как известно, дают тем лучшие результаты, чем раньше больные поступают на лечение.
Джек сообщил, что с тех пор, как он стал применять новый метод лечения, ни одна больная не получила сеанса электрошока. И ни одну из них не пришлось лоботомировать. Затем он попытался заглянуть в будущее и - по мнению осторожных ученых, сидевших на конференции, - в чересчур далекое будущее. «Комбинированное лечение серпазилом и риталином вдохнуло новую жизнь в наше учреждение и в дальнейшем может стать средством для преобразования больницы из дома заключения в «общественный лечебный центр».
Затем Джек отвлекся от своих вдохновенных мечтаний и привел собравшимся психиатрам кое-какие реальные факты. Он рад был сообщить им, что в настоящее время в результате нового метода лечения в больнице Траверз-Сити имеется более ста свободных мест, пустуют более ста коек. И это в больнице на 3000 коек с длинным списком больных, стоявших в очереди на госпитализацию.
Но то, чего Джек не сказал на конференции, было предметом наивысшей его гордости: его оригинальные наблюдения относительно стимулирующего действия рита-лина были подтверждены шестнадцатью исследователями-клиницистами.
Джек Фергюсон, всего лишь три года назад выпущенный из буйной палаты Больницы ветеранов в Индианополисе, быстро шел в гору, чувствовал себя превосходно и, конечно, снова попал в неприятности. Среди его товарищей - врачей больницы Траверз-Сити - были такие, которые не вводили у себя нового лечения по методу доктора Джона Т. Фергюсона, и не потому, что они это лечение проверили и разочаровались в нем, а совершенно сознательно не назначали его в своих отделениях. И едва ли их можно было упрекать за это. Быстро освобождавшиеся койки причиняли им массу хлопот. Новые больные, присылавшиеся в Траверз-Сити из других мичиганских больниц, требовали широкого физического, медицинского, психиатрического и лабораторного исследования в приемном отделении, и это очень затрудняло и раздражало врачей. Джек смеялся, когда рассказывал мне об этом, но все же он определенно лез на рожон. Может быть, и прав профессоА Найт Олдрич из Чикагского университета, который, познакомившись с массой задач, стоящих перед больничными врачами, сказал: «Такой врач не был бы человеком, если бы не проявлял иногда сверхэнтузиазма к новым методам лечения». Может быть, Джек был действительно сверхэнтузиастом?
Чувствуя потребность опровергнуть сомнения своих коллег в действенности новых методов лечения, Джек прошлой осенью 1955 года показал мне одну из своих пациенток, Гэдрум. Это была приятная старая леди, с хорошими манерами, принимавшая участие во всех общественных делах больницы. Ей шел уже семьдесят второй год, и было удовольствием с нею познакомиться.
Гэдрум находилась в больнице Траверз-Сити пятьдесят два года. Еще два года назад она была безнадежной негативисткой. Она не могла самостоятельно питаться, умываться и вообще заботиться о себе. Она была безгласна. Она была неприступна. Она не прекращала рвать на себе одежду и белье. В продолжение многих лет она большую часть времени лежала полуголая или совсем голая в изоляторе, который на больничном жаргоне именовался спецкамерой. В ней содержатся больные, опустившиеся до положения животных.
Джек показал мне историю болезни Гэдрум, детализированную и тщательно разработанную. Она пришла в больницу восторженной, галлюцинирующей психотичкой, всегда улыбавшейся, игривой, но совершенно не контактной. Она была полна бредовых идей и приставала к врачам с просьбой жениться на ней.
В больнице Гэдрум была обеспечена прекрасным уходом и медицинским обслуживанием. Она перенесла жестокий грипп и тифозную лихорадку. Ей успешно были сделаны также две большие операции. Ее больничная карта свидетельствует о постепенно прогрессировавшем вырождении, и запись 1921 года характеризует ее как «опустившуюся, оголяющуюся, невоздержанную, внеконтактную, требующую специального кормления и сложного ухода». Никаких особых лекарств она не получала, потому что для таких деградированных шизофреников лекарств тогда не существовало. Ее успокаивали, насколько удавалось, снотворными средствами и большую часть времени держали в спецкамере.
Пока в ней теплилась жизнь, оставалась и какая-то надежда. В 1942 году Гэдрум получила двадцать сеансов метразилового шока - надо бы вам поглядеть на это! - тот же тяжелый эпилептический припадок, только похуже. Никаких стойких результатов. В 1943 году несчастная Гэдрум - прямо невероятно, что могут вытерпеть эти неисправимые хроники! - была подвергнута лечению мокрыми простынями. Человека крепко обвязывают, как мумию, и погружают в холодную воду. После 420 сеансов это лечение было прекращено, как безрезультатное.
В том же году она получила полный курс электрошокового лечения, входившего тогда в моду, в общем итоге - шестьдесят восемь сеансов судорог. К концу лечения Гэдрум была еще жива, и это все, что можно было о ней сказать.
Больничная карта рассказывает, что ее агрессивность и разрушительные наклонности не прекращались. Она по-прежнему валялась голой и вела себя, как дикое животное. Кто скажет, почему она оставалась живой или, вернее, почему о Гэдрум так трогательно заботились и поддерживали в ней жизнь?
Ее поведение оставалось неизменным с 1943 до 1954 года... Вплоть до рождественского дня 1954 года, когда доктор Джон Т. Фергюсон начал лечение Гэдрум серпази-лом - по полмиллиграмма три раза в день. К 13 января 1955 года она была уже совсем спокойна и весь день оставалась одетой - впервые за последние тридцать лет. Непрекращавшееся лечение привело ее к серпазиловой меланхолии, и дальнейшая судьба Гэдрум - это история, рассказанная капсулами, - история открытия Джека о сбалансированном действии серпазила и риталина на причудливых качелях сверхактивного и слабоактивного поведения.
Не стану утомлять вас цифрами, рассказывая, сколько миллиграммов лекарств - успокоителя и возбудителя - было скормлено или раскрошено в пищу Гэдрум в течение 1У55 года. Риталин снимал серпазиловую депрессию, после чего она становилась сверхактивной и агрессивной. Прекращали риталин и повышали дозу серпазила. Ее настроение начинало постепенно падать - ниже и ниже, чересчур низко - и возвращалось к первоначальной серпа-зиловой хандре и подавленности. Тогда Джек впервые испробовал новый механизм лечения...
После того как, отменив серпазил, перешли на риталин и депрессия стала проходить, но до того, как чистый риталин грозил довести ее до исступления, Джек прибавил небольшую дозу серпазила, чтобы удержать возбуждающее действие риталина в определенных границах. И наконец в апреле 1955 года качели поведения Гэдрум относительно уравновесились - на трех миллиграммах серпазила плюс пятнадцать миллиграммов риталина - то и другое по три раза в день.
«С этого дня - 16 апреля 1955 года - началось планомерное выздоровление», - лаконично отмечает карта. Создавалось впечатление, что она медленно просыпается. В начале лета она могла уже гулять за больничной стеной, наслаждаясь мягким северным бризом с большого канала Траверза. Она могла одна пойти в больничную лавку за мелкими покупками. В июле Гэдрум была переведена в полуоткрытую палату, где она самостоятельно питалась за общим обеденным столом.
- Теперь Гэдрум не нуждается ни в какой помощи. Единственное, о чем приходится ей напоминать, - это о надевании ботинок, - говорит приставленная к ней сестра-надзирательница. Это нарушение этикета надо ей простить. Ведь это был первый год ее жизни вне буйной палаты, где она провела более тридцати лет, и ботинки она тоже надевала в первый раз за тридцать лет. Выздоровление Гэдрум было настолько демонстративным, что Джек отменил ей серпазил-риталин.
- Пришлось, однако, их снова назначить в уменьшенных дозах, чтобы оборвать начинавшуюся нехорошую вспышку, - объяснил Джек.
Когда я познакомился с маленькой старой леди, она была настроена очень дружественно и, как выражается Джек, «социабельно». Говорила она мало, но в том, что она говорила, был ясный смысл. Джек объяснил мне, что Гэдрум любит, чтобы доктор крепко ее обнял, и выражает при этом свое удовольствие улыбкой и веселым подмигиванием.
- Гэдрум нельзя назвать умственно здоровой, - сказал Джек. - Но мы знаем, что она познала радость жизни впервые за много лет,.
Она вполне подготовлена для отправки домой, - и разве уж это одно не удивительно? - но у Гэдрум нет родного дома и, по-видимому, вообще нет родных. Последнее письмо от какой-то родственницы было получено в 1907 году. У Гэдрум нет никаких связей и знакомств - я хочу сказать, нет за пределами больницы Траверз-Сити.
Может быть, Гэдрум в своей маленькой, безвестной жизни послужит ответом на сомнения профессора Найта Олдрич, который после выступления Джека в Галесбурге сказал, что больничные психиатры вообще склонны к переоценке новых лекарственных средств. Может быть, изучив по больничной карте грустную сагу о Гэдрум, профессор изменит свое мнение о сверхэнтузиазме некоторых больничных врачей.
Хотя отчасти я и согласен с профессором Олдрич: Джек, несомненно, энтузиаст, пожалуй, даже сверхэнтузиаст. Но можно ли быть одновременно энтузиастом и холодным ученым? Впрочем, Джек Фергюсон и не считает себя ученым - он ведь всего-навсего сельский врач.
Глава 9
Затаенная гордость слышится в голосе Джека Фергюсона, когда он говорит о своих больных:
- Мы их лечим, любим и уверены, что поступаем правильно.
Как же воспринимают эти джековские разговоры его коллеги по больнице? Ведь сверхэнтузиазм при определенном освещении тоже может быть истолкован как высокомерие.
- Вы лечите их и по-своему любите, но лишь у себя в отделении, - сказал Я" Джеку. - Пытались ли вы привлечь к работе других врачей, чтобы они испробовали ваш метод на своих больных?
- Нет, не пытался.
- Разве не интересует, не волнует их то обстоятельство, что вы отправляете старых шизофреников домой?
- Похоже, что нет, - сказал Джек с безразличным видом, но взгляд его говорил о многом. - Единственная их реакция заключалась в том, что кто-то из них написал в крупную детройтскую газету о моем неблаговидном поведении и безграмотности в психиатрии, - Джек улыбнулся. - Тот доктор, член Мичиганского медицинского общества, который сказал вам о моей наркомании, узнал эту историю от одного из моих коллег.
Что было особенно примечательно в Джеке Фергюсоне, рассказавшем мне все это спокойным, бесстрастным тоном, - это полное отсутствие тех настроений, которые три года назад, в трудные для него времена, определялись как паранойя. Сейчас его абсолютно не трогало, что кто-то подкапывается под него, травит его или угрожает ему.
- Но разве растущее число пустующих коек в вашем отделении не бросает тень на работу других отделений?
- Можете не волноваться, в конце концов все они придут знакомиться с работой моего персонала.
Его беспечность могла довести до белого каления.
- Вы спросите у мисс Оркэт, правильно мы работаем или нет, - упрямствовал Джек, - вы только спросите ее.
Берта Е. Оркэт, старшая сестра больницы Траверз-Сити, занимает эту должность уже тридцать лет. Внешне она выглядит строгой и чинной новоангличанкой; она не курит; алкогольные напитки никогда не касались ее губ, улыбка ее особенно пленительна потому, что появляется так редко. Она видела, как разные методы лечения душевнобольных рождались и сходили на нет, и это отражалось на ее строгом, аскетическом лице, омраченном тридцатью годами разочарований.
- За один год, - говорит мисс Оркэт, - произошла разительная перемена в обслуживании беспокойных больных в отделении доктора Фергюсона.
Что поражает мисс Оркэт - которая вообще не легко поражается, - это видеть нечто более странное, чем действие новых лекарств на безнадежных больных. Ее изумляет то горячее воодушевление, которым заражены ее сестры-надзирательницы.
- Вы не можете себе представить, как радостно трепещет сердце, - говорит мисс Оркэт, которая не очень-то склонна к сердечному трепету, - когда безгласная, замкнутая в себе больная неожиданно говорит своей надзирательнице... «Сколько сейчас времени?», или «Мне хотелось бы надеть голубое платье», или «Пожалуйста, помогите мне пройти на кухню».
Мисс Оркэт смотрит на это, как на первые проблески утренней зари после многолетней черной ночи. Она говорит, что именно сестры-надзирательницы - а не доктор Фергюсон - первые слышат этот тихий шепот, доносящийся из мира кошмаров.
- Эти первые робкие слова, - говорит Берта Оркэт, - похожи на дверь, открывающуюся в сознание, через которую умелая сестра может вытащить больного к восприятию действительности.
Это явилось своего рода открытием, когда Джек понял, что должен дать своим 107 сестрам-надзирательницам обязанности, достоинство и ответственность докторов. Ведь не мог. же Джек Фергюсон быть и доктором, и клиническим исследователем одновременно, и в единственном числе обслуживать тысячу больных - беспокойных и слабоумных, бушующих и подавленных, агрессивных и тоскующих. Не существует никаких микроскопических, графических или химических проб для определения подъема пли затихания этих трагедий, для предсказания, в какую сторону идет психотический процесс у каждого из этой причудливой армии потерянных людей. Есть одна-единственная проба - наблюдать за их поведением.
Кто же может подмечать и улавливать все эти тонкие, непрерывно меняющиеся сдвиги в их поведении, наблюдать за ними зорким, ястребиным глазом днем и ночью? Только сестры-надзирательницы. Джек проявил в данном случае глубокое внутреннее чутье, размножив самого себя более чем в сто раз. Вместо одного доктора - 108 докторов, работающих, как один.
Характерно для Джека, что он считает себя ничуть не выше своих 107 сестер. Он говорит так, словно он тут вообще ни при чем и без него вполне можно обойтись.
- Если бы не эти леди, моя работа с новыми средствами свелась бы к нулю, - говорит Джек. - Вы понимаете, ведь это только полдела проверять действие новых лекарств, как многие теперь делают, - назначить, скажем, новое лечение половине больных, а остальных оставить для контроля. Контроль только тогда является настоящим контролем, если болезнь у леченых и нелеченых одна и та же.
Джек всячески старался втолковать мне, что у каждого из его тысячи пациентов различная болезнь. Поэтому каждого из них нужно наблюдать постоянно и близко. Вот почему он рассматривает своих сестер как врачей и абсолютно доверяет им.
- Дело ведь не только в новых лекарствах, - говорит Джек. - Они играют очень скромную роль. Они дают только толчок к умственному пробуждению. Но сами по себе они не могут излечить больного. Сестры должны войти в доверие к больным, должны подавить в них чувство страха.
- Страха чего?
- Страха попасть в новые условия. Годами им приказывали и помогали вставать, идти умываться, одеваться и есть. Образовался глубокий условный рефлекс. Они страшатся того момента, когда им придется самим делать эти простейшие вещи.
Я понял. Сестры-надзирательницы должны снять у них чувство страха. Джек объяснил мне, что это еще не все - сестры должны сделать гораздо больше. Разве я не помню, как Берта Оркэт рассказывала о больной, которая показала свое пробуждение просьбой надеть ей голубое платье? Прекрасно. Ей дают голубое платье. Но она тут же срывает с себя новое платье и рвет его в мелкие куски. Затем она начинает поедать его. Чего же испугалась эта несчастная женщина? Строгого окрика. Возвращения в запертую палату. И что же делает сестра? Она ласково успокаивает рыдающую женщину, старается объяснить ей, что та ни в чем не виновата, - это только ее болезнь... и приносит ей другое голубое платье.
Это и есть лекарство против страха. Нежная, любовная забота, несущая с собой давно забытое чувство безопасности.
- Сестры-надзирательницы обращаются с больными так, как будто они их младшие сестры, - продолжает Джек явно не научным языком и в сугубо сентиментальном тоне.
Он говорит, что, действуя только таким образом, сестры могут уловить у больных признаки возрождающегося сознания. Когда под действием лекарств их сознание становится несколько яснее, они начинают доверять своим сестрам. «Да, да, принесите мне другое голубое платье, я вам очень благодарна» или «Нет, нет, лучше заприте меня в закрытую палату - я еще не готова».
Джек уверен, что его сестры-надзирательницы сделали фундаментальное открытие. «Пробуждающиеся больные знают о своей болезни больше, чем знаем мы». Вот пример:
- Симпатичная девушка стала поправляться под действием новых лекарств плюс нежная, любовная забота, - рассказывал Джек, - но она никак не могла избавиться от скверной привычки загонять иглы себе в бедра и в живот. Иглы приходилось извлекать хирургическим путем. Наконец она бросила эту привычку. Тогда ее перевели в полуоткрытую палату. Можно уже было отпустить ее домой под наблюдение родных...
- И она ушла домой?- перебил я его. Джек улыбнулся.
- Постойте, дайте кончить. Она не ушла домой, нет еще. Несколько дней назад она сказала своей сестре-надзирательнице, что боится, как бы снова не начала загонять в себя иглы. Она чувствовала, что это на нее надвигается. Она просила разрешения вернуться в полуоткрытую палату.
Джек говорит о глубокой технике этого открытия простым языком сельского врача.
- Это не сестры-надзирательницы первыми сообщают мне, поправляется больной или нет. Сами больные сообщают это сестрам, а сестры уже передают мне.
Не кажется ли странным, что Фергюсон так доверяет своим больным? Но он ведь хорошо знает, что значит быть сумасшедшим.
Вера Джека в своих 107 леди доходит до того, что многие врачи сочли бы недопустимой крайностью. Сестры отмечают «профили поведения» всех больных с начала до конца лечения; они ежедневно записывают дозировку лекарств и все изменения в дозах. Больше того - и это уж совсем неслыханно: когда сестра видит, что больному стало лучше или хуже, она сообщает об этом своей старшей сестре, которая сама регулирует дозировку или совсем отменяет лекарство под свою ответственность. И только потом она докладывает об этом Фергюсону.
- Редко приходится исправлять их назначения, - говорит Джек.
Миссис Донна Пилларс - ветеран больницы Траверз-Сити, работает она там уже двадцать лет. Спокойная, черноволосая, крепкая женщина с проницательным и в то же время ласковым взглядом темных глаз. Она тоже хочет рассказать мне, какие перемены произошли в женском отделении больницы Траверз-Сити с приходом доктора Фер-гюсона и применением новых лекарств. Ее манера рассказывать наводит на мысль, что Донна Пилларс могла бы, пожалуй, иметь успех в качестве драматурга. Знаю ли я старинную народную песню «Видали ль вы, как пляшут привиденья?» Да, припоминаю. Так вот, несколько лет назад женское отделение больницы напоминало эту песню, только вместо «привидения» следовало бы сказать «страшилища». Она рассказала, как несколько лет назад, ночью, во время ужасной грозы, в больнице погасло электричество. В эту ночь она была старшей дежурной по больнице. Она подумала о том, что у дежурной сестры буйного отделения, должно быть, много хлопот, что она может испугаться или попасть в опасное положение. Донна Пилларс пошла в отделение, и здесь, при ярких вспышках молнии, она увидела страшную картину. В кромешной тьме длинного холла вдоль стен стояли, как статуи, белые фигуры голых женщин, оцепеневших от страха. Другие ходили в темноте крадущейся походкой, нагие и мертвенно-бледные при вспышках молнии. Некоторые бросались на Донну с дикими воплями. Нет, это были не пляшущие призраки, о которых поется в старой песне; это были жуткие страшилища, то появлявшиеся при свете молнии, то пропадавшие в непроглядной тьме, чтобы снова появиться при новой вспышке молнии...
- Вот в чем разница между тем, что было и что есть теперь, когда доктор Фергюсон пустил в ход новые средства, - сказала Донна. - Если бы сегодня ночью разразилась гроза и потухло электричество, то больные продолжали бы спать крепким сном. А проснувшиеся оставались бы в своих ночных сорочках и лежали, притаившись, на своих кроватях.
Но тут Донна Пилларс меня озадачила. Начала она простодушным тоном с общего заявления - его можно сейчас слышать почти в каждом психиатрическом учреждении, - что после введения новых лекарств началась совершенно новая жизнь для персонала больницы. Больные, ползавшие по полу и завывавшие не своим голосом, перестали ползать и завывать. Замечательно. Вырывание волос, стукотня головой о стену, драки, проклятия, непристойные слова - все это прекратилось. Прежнего бедлама уже нет. Великолепно.
- Но вот старшие надзиратели поговаривают, что они не знают, стоит ли этому радоваться, - сказала Донна. - Больные что-то уж слишком спокойны.
Серпазил приостановил кусанье, толканье, свирепые драки и заставил несчастных больных сесть и сидеть. А сами больные? Они великолепно поправлялись и превращались в «зомби». Что такое зомби? По старому определению это значило: «умирает, а ходит». Но это новый вид зомбификации: «умирает, а сидит». Зомби уселись, но при этом они нисколько не похожи на умирающих.
- Что дал серпазил сестрам-надзирательницам?- спрашивает Донна Пилларс. Тут Донна проявила особое психологическое чутье. Серпазил отнял у сестер-надзирательниц цель жизни. Сестра, которая умела лучше Других управляться со шваброй, была окружена ореолом славы. В лучшем случае сестер-надзирательниц рассматривали как ударную команду, которая умеет поддерживать чистоту в помещениях, несмотря на беспрерывное загрязнение и вечный беспорядок. А теперь, с появлением серпа-зила? Ударной команде остается только мыть совершенно чистые стены, скрести полы, которые больше не загрязняются, успокаивать буйных больных, которые стали спокойными и малоподвижными.
- И помог нам в этом доктор Фергюсон, - сказала Донна Пилларс. - Он, очевидно, знает, что больных надо сначала успокоить, а потом уже сделать разумно активными.
Донна продолжала рассказывать о том, как Джек оживлял этот мрачный дом спокойного безразличия, как он стал изгонять серпазиловую депрессию другим лекарством, риталином.
- Вы должны внести немного шума и движения в наши палаты, - говорит им Фергюсон. - Заставьте больных помогать вам в работе. Что из того, что работа будет неполноценной? Это полезно для больного, а больной важнее, чем работа.
- Доктор Фергюсон спрашивал нас, что мы знаем о своих больных, как о людях, - рассказывает Донна Пилларс. - Кто эта женщина, что лежит весь день в холле на полу, или та, другая, которая сидит с безмятежным видом и жует свой чулок? Мы ведь ничего о них не знали.
Донна и остальные надзирательницы вынуждены были осознать этот скандальный факт. Мать, тоскующая по детям, помешавшаяся бабушка, девушка-подросток с измученным лицом не были для них живыми людьми. Это были неизвестные существа женского пола, затерянные среди 3000 больных и не представлявшие особой важности по сравнению с сорока больничными помещениями, которые нужно держать в чистоте.
- Заставлять больных складывать белье или подметать полы - это еще не все. Вы должны придумать что-то большее, - говорил Джек сестрам. - Вы должны пробуждать в этих несчастных потерянную веселость; должны научить их радоваться. Почему бы вам не сделать палаты красивыми? Почему бы самим больным не заняться вместе с вами украшением палат?
Старое положение о работе сестер-надзирательниц обязывало их прежде всего заботиться о чистоте стен, чистоте полов, чистоте постелей и чистоте больных; выполнение этих работ оставляло дежурным один какой-нибудь свободный час из двадцати четырех. Донна Пилларс возглавила движение за новый вид обслуживания психически больных, основным назначением которого была «радость». Джек подзадоривал их...
- Ну, теперь, когда мы оттащили больных от ваших волос, у вас найдется чуть больше времени, чтобы помочь им по-настоящему.
В психиатрической практике применяются различные меры воздействия на больных: психотерапевтические проповеди, попытки успокоить буйствующих струями холодной воды под высоким давлением, погружение беспокойных больных в длительный сон с помощью барбитуратов, надевание смирительной рубахи, судорожная терапия при помощи электрошока, свирепые метразиловые шоки, опасное лечение инсулиновой комой, рассечение мозговой ткани лоботомией и другие причудливые меры воздействия.
Но кто в суровой и однообразной психиатрической практике применял учение о веселье?
Вечером после обеда - вполне приличного обеда, во время которого никто ни в кого ничем не швыряет и никто не ставит под стол тарелку с едой, - двенадцать пожилых леди садятся в кружок. Все смеются. Они затевают игру в кити-кити-мяу. Старая леди, изображающая котенка, ползает на четвереньках внутри круга. Она останавливается перед одной из играющих и мяукает. Та, перед которой она остановилась, забывает правила игры и, заливаясь смехом, ласкает котенка. В наказание смеющаяся старушка, потеряв всякое достоинство, должна сама стать ползающим и мяукающим котенком. Тут все сидящие в кружке старые леди начинают страшно хохотать, забывая, что их жизнь так печальна.
- Это поразительно действует на моральное состояние персонала, - говорит Донна Пилларс, организатор этой простенькой с виду науки о веселье. - Надзирательница, принимавшая участие в игре, пришла в дежурку, продолжая смеяться, и высказала мнение, что веселье замечательно усиливает действие новых лекарств.
- Нагружайте их каким-нибудь делом, если даже они делают его не очень хорошо, - поучает Джек своих 107 «докторов».
За столом сидит леди, рисуя картину цветными карандашами на ватманской бумаге. Ее начали лечить серпазилом и риталином всего два месяца назад, когда главным ее занятием было бегать но палате взад и вперед с дикими завываниями и главным развлечением было налетать на сестру-надзирательницу, когда та отворачивалась. А теперь она учтиво говорит надзирательнице: «Не хотите ли посмотреть, как у меня получается?» - и благодарит ее за карандаши и бумагу. Больные очень самобытны и вовсе не злы.
Вот другая больная, для которой рисование стало большим делом. Два года назад она развлекалась несколько своеобразно. Она не могла тогда ходить и даже стоять. Сидя в своем кресле-каталке, она получала дьявольское удовольствие, подстрекая других больных на всякие пакости, и радовалась, если ей удавалось вызывать ссоры, драки, скандалы, бунты. Это был Гитлер в образе женщины. Но вот под влиянием новых лекарств и таинственной силы любви, проявляемой надзирательницами, эта бесноватая интриганка постепенно перешла от цветных карандашей к живописи масляными красками. Ее картины настолько хороши, что она продает их, зарабатывая себе на повседневные расходы и даже больше.
- Что я собой представляю по сравнению с сестрами-надзирательницами?- говорит Джек Фергюсон. - Ничто. Вся моя роль сводится к тому, что я отпускаю им лекарства для раздачи больным. Но они, кроме того, дают больным свою любовь, без которой лекарства ничего не стоят.
С сияюшеи улыбкой Джек говорит о том, как вознаграждены сейчас его 107 «докторов». Годами им приходилось выполнять самые унизительные, самые грязные и противные обязанности в уходе за этими жалкими, отверженными, бестолковыми людьми, не способными даже произнести слово благодарности. Но вот эти воскресшие пациентки стали отвечать им любовью на любовь. «Семь лет я здесь нахожусь и впервые вижу, что кто-то старается мне помочь», - говорит женщина, пробивающаяся к свету из многолетнего черного кошмара. Надзирательница мягко ее поправляет: «Это ваше здоровье улучшилось настолько, что вы стали понимать наши старания вам помочь».
Молодая женщина Мэри Элин спасена новыми лекарствами от полного умственного распада. Она уже подготовлена к выписке. Она счастлива в этот день и собирает цветы в лесу на большом канале 1 раверз вместе с миссис Эвелиной Дрэйк, старшей надзирательницой двадцать пятого корпуса.
- Миссис Дрэйк, я знаю, что в основном мне помогли новые лекарства, - говорит Мэри Элин. - Но вы и ваши девушки внушили мне чувство доверия, вы оторвали меня от самой себя и научили интересоваться жизнью других людей, и это помогло мне снова найти себя. Вы ведь всегда верили, миссис Дрэйк, что я поправлюсь, правда? Даже До этих новых лекарств?
Мэри Элин была отъявленной хулиганкой, настолько злой и опасной, что ее приходилось держать вне контакта с другими больными. И вот ее выписывают из больницы; она прекрасно будет жить на попечении семьи. Она снова расцвела и превратилась в милую девушку, какой была до своего помешательства.
Эвелина Дрэйк рассказала мне много историй о больных вроде Мэри Элин. Поздний вечер жизни миссис Дрэйк дышит радостью. Это тип спокойной, улыбающейся, ласковой женщины, очень подходящей для роли любимой тетушки, понимающей вас с полуслова. Она подводит итог переменам, которые произошли в больнице Траверз-Сити за последние два года; она рассказывает об этом лучше, чем сам Джек...
- Когда я пришла сюда молодой женщиной, я испытывала чувство безнадежной тоски и тяжелого раскаяния - в чем, она не говорит - и чувство глубокой симпатии к этим несчастным созданиям.
- А теперь? - спросил я ее.
- Теперь я уж старуха. Пришло время передавать свою работу молодым.
И Эвелина Дрэйк подводит краткий итог:
- Чувство симпатии у меня сохранилось и по сей день. А чувство безнадежной тоски прошло совсем.
Все, должно быть, согласятся с тем, что нежная, любовная забота - похвальная вещь. Но сама по себе любовная забота не может вернуть к ясному сознаниюбольных с далеко зашедшими формами слабоумия. И уж, конечно, не тех жалких, потерявших человеческий образ «кошек и собак», которых Джек настойчиво отбирал для лечения. Но вот что остается для меня загадкой: почему сестры-надзирательницы так щедро расточали нежную, любовную заботу и в прошлые годы - до того, как Фергюсон ввел в практику новые лекарства? Почему они не отдавали свою ласку и заботу только больным с ранней формой безумия, которые имели некоторые шансы на самоисцеление? Почему они расходовали свои нежные чувства на безнадежных больных с запущенной, непобедимой формой безумия? Почему не сажали этих потерянных людей в «змеиную яму»? Почему в больнице Траверз-Сити вообще не было «змеиной ямы»?
Сара Дауни, заместительница начальницы среднего персонала Берты Оркэт, пытается мне это растолковать: - До прошлого года мы любовно относились ко всем нашим больным, но у нас было мало веры, мало надежды. Мы не верили, что какое-нибудь лечение может восстановить сознание у этих хроников. У нас почти не было надежды, что они станут когда-нибудь полноценными членами общества.
Но Сара не смогла объяснить мне, почему сестры-надзирательницы выбивались из сил, заботясь о своих больных. Почему большинство этих добрых и чутких женщин таких искусных в уходе за больными - что не часто бывает среди обслуживающего персонала, - почему они не ушли на другую работу, менее грязную, менее унизительную, менее неблагодарную. Может быть, у каждой из них тоже есть тайное стремление что-то искупить, как Джек, я знаю, искупает свое прошлое.
Может быть, Эвелина Дрэик отчасти ответила на этот вопрос, сказав, что пришла в больницу с чувством «тяжелого раскаяния»? У меня не хватило духу спросить, в чем она так мучительно раскаивается.
В одиннадцатом корпусе больницы Траверз-Сити больные гордятся двумя красивыми попугаями. Их зовут Ферджи и Фрэнси: Ферджи в честь Фергюсона, а Фрэнси - в честь их любимой старшей сестры, миссис Фрэнсис Бэйр. Два года назад в одиннадцатом корпусе не было бы ни Ферджи, ни Фрэнси: проказливые пациентки давно бы их выпустили, отдали коту или просто убили. В одиннадцатом корпусе больше половины больных находилось под замком, в изолированных помещениях. В те дофергюсоновские дни из всех беспокойных отделений одиннадцатый корпус был самым буйным. Это страшное место населяли дикие существа - грязные, возбужденные и злобные, - их нельзя было держать ни в одном отделении больницы.
Миссис Фрэнсис Бэйр, старшая надзирательница одиннадцатого корпуса, работает в больнице свыше четырнадцати лет; она знает, что представлял собой этот корпус в прошлом и каков он в настоящее время. Фрэнсис Бэйр - сероглазая дама с суровым лицом, которое, однако, легко озаряется улыбкой; в ней чувствуется запас чистого мокси - воинствующее сердце.
Десять лет Фрэнсис Бэйр воюет с тяжелым безумием, но особенно допекает ее кучка сущих дьяволов во главе с величественной женщиной - будем называть ее Долорес, подлинным сеятелем горя и зла. Долорес окончила колледж с отличием и занимала ответственный пост в одном из учреждений среднезападной области; она потеряла рассудок десять лет назад, и настолько основательно, что рофессора-психиатры ставили ей диагнозы всех психозов, какие указаны в их руководствах, и вынуждены были придумывать все новые латинские термины для описания многообразных симптомов ее помешательства.
Долорес, женщина атлетического телосложения, могла бы смело работать цирковой акробаткой. Она выставила все фрамуги в окнах одиннадцатого корпуса и совершенно голая, с одним только полотенцем вокруг бедер, перелетала, как обезьяна, от окна к окну, к удовольствию темных, пустоголовых зрителей, наблюдавших эту картину. Она была хорошо знакома с электротехникой; с помощью искусно скрываемых инструментов она тайком снимала колпачки с выключателей и заявляла, что электропроводка никуда не годится. Долорес придерживалась особого мнения о применявшемся к ней лечении. При попытке успокоить ее электрошоком она сшибла с ног доктора и разбила электрошоковый аппарат вдребезги. Однажды она сорвала халат с надзирательницы и отняла у нее ключи, но тут же отдала все это другой надзирательнице, заявив, что та надзирательница слишком глупа и не умеет обращаться с сумасшедшими людьми. Долорес была крепко убеждена в своих правах на личную свободу, и, когда в поисках драгоценного камня нефрита, в краже которого она подозревалась, врач и надзирательницы попытались сделать интимное внутреннее исследование ее персоны, Долорес запросто отшвырнула доктора в один конец комнаты, а надзирательниц - в другой. Она вышла победительницей: обыск так и не состойся. Она отказалась носить больничное платье и, будучи хорошей швеей, сама смастерила себе шаровары и куртку из старых, списанных на ветошь больничных одеял. Она охраняла безопасность всего населения одиннадцатого корпуса; объявив, что курительная комната - это место размножения крокодилов, она загородила собой дверь в курительную и никого туда не впускала. Долорес была бесстрашна. Когда она видела приближавшуюся к ней кучку мужчин, специально вызванных, чтобы запереть ее, Долорес кричала не своим голосом: «Вот идет миссис Пилларс со своими палачами из Чикаго!» - и, когда она врывалась в их боевое построение, разыгрывалась сцена, которую стоило посмотреть.
В конце концов Долорес была переведена в закрытую заднюю палату, как совершенно безнадежная. Фрэнсис Бэйр оставалась при ней, всячески успокаивала, никогда не ругала, терпеливыми уговорами старалась отгонять ее ругала, фантазии и стойко защищала ее от нападок сумасшедших больных и ворчливых надзирательниц. Фрэнсис научилась ловко увертываться от неожиданных «боковх ударов» слева и от прямых «свингов», наносимых не чем иным, как мощными кулаками неисправимой Долорес.
И вот на сцену появился Джек Фергюсон с серпазилом и своей обаятельной улыбкой, но Долорес не желала принимать никаких лекарств. Тоогда Фрэнсис Бэйр стала подмешивать химикалии - к счастью, они были безвкусны - в каждое блюдо, подававшееся Долорес, и следила за тем, чтобы та все съедала. Вскоре Долорес успокоилась.
- Я тут совершенно ни при чем, - сказал Джек, - это все миссис Бэйр. Она девять лет подготавливала Долорес к тому, чтобы лекарства возымели действие.
- Приходя в одиннадцатый корпус, доктор Фергюсон всегда беседовал с Долорес, - рассказывала миссис Бэйр. - Было на что посмотреть, когда она в разговоре проявляла не только спокойствие, но и совершенно ясное сознание, воскресшее в ее замечательном мозгу.
Вся больница была поражена смелостью Фергюсона, когда он отпустил Долорес на сельскохозяйственные работы. У нее появлялись еще навязчивые мысли о перепланировке больницы; иногда она затыкала канализационные трубы и строила плотину на ручье. Но доктор Фергюсон только улыбался и, грозя пальцем, говорил:
- Долорес! Смотри у меня!
Теперь уж не приходилось давать ей лекарства с пищей - она сама глотала таблетки. Она сбросила самодельное фантастическое одеяние. И, наконец, она стала одна уходить из больницы три раза в неделю, чтобы помогать своей матери по хозяйству. Она самостоятельно делала все закупки для семьи.
Красивая, статная, белокурая, с умными серыми глазами, Долорес выглядит обычной служащей женщиной, какой она была до своего сумасшествия десять лет назад.
- Если бы вы встретили ее в городе, вы не могли бы ее отличить от совершенно нормальных людей, - говорит Фрэнсис Бэйр.
Недавно Долорес явилась в кабинет Фергюсона.
Доктор Фергюсон, мне предлагают работу по сбору вишни. Я лично согласилась - даете ли вы на это свое разрешение?- спросила Долорес почти робким тоном.
- Да, я даю вам разрешение!- сказал Джек.
- Это только одна из больных Фрэнсис Бэйр, - сказал Джек. - Все ее больные выплывают с самого дна на поверхность и самостоятельно устраиваются на работу. Фрзнсис Бэйр выполняет свои обязанности, как самый лучший домашний врач. Она сама дает больным лекарства и назначает их pro re hata - как того требуют обстоятельства.
Затем в живой, яркой форме - совсем не по-английски - Джек объясняет, что значит для него Фрэнсис:
- Она мои глаза, мои уши и все мои научные наблюдения. Эти наблюдения показывают, как мы изменяем поведение самых трудных, так называемых безнадежных психотиков.
До появления новых лекарств в отделении Джека было четыре запертые палаты для беспокойных больных. Теперь осталась только одна - одиннадцатый корпус. Такая палата необходима для приема неисправимых, буйствующих, опасных больных, переводимых из других палат или из других больниц, для проблемных случаев из психиатрической клиники Мичиганского университета и Института судебной психиатрии в Ионии - одержимых мыслями об убийстве, которым требуется «максимальная изоляция».
- Вы говорите, что одиннадцатый корпус мало напоминает своей обстановкой сумасшедший дом? - говорит Фрэнсис Бэйр. - Вы бы посмотрели, чем он был два года назад, тогда смогли бы по-настоящему оценить, чем он стал теперь.
В одиннадцатом корпусе висят гардины и драпри, и редко случается, чтобы больной пытался их сорвать. В одиннадцатом корпусе имеется радиола, и больные танцуют под ее музыку - не прежнюю дикую пляску; есть телевизор, осаждаемый больными, которые, не отрываясь, смотрят и слушают. Есть пианино, и есть больные, которые неплохо на нем играют. Есть книги, которые никто не бросает в чужие головы, а читают. Получаются популярные журналы, и никто их больше не использует для затыкания водопроводных труб.
- Как вам удается все это сохранять? - спросил я Фрэнсис Бэйр. - Ведь поступают же к вам хулиганы, разрушители, остервенелые...
- Да, - сказала Фрэнсис, - но теперь, когда у нас есть новые лекарства, они недолго остаются в таком состоянии.
Френсис, казалось, была огорчена, что в своем восхищении сестрами-надзирательницами я забываю о докторе Фергюсоне. В конце заметки с описанием ее работы Фрэнсис пишет:
«Если бы все работающие с душевнобольными придерживались философии доктора Фергюсона, а именно: «По милости провидения я вошел сюда добровольно и без помощи ключей», - они лучше могли бы помочь тем, кто так отчаянно нуждается в помощи».
Долорес вполне согласна с Фрэнсис Бэйр. Долорес внимательно рассматривает меня своими недавно ожившими серыми глазами и хочет дать мне небольшой отзыв о Джеке с точки зрения пациентки.
- Не забывайте, что доктора Фергюсона обожают в этой больнице.
- Нет, нет, я этого не забуду, не беспокойтесь, милая Долорес.
- Случалось ли вам задумываться над тем, каким образом пожелать тяжелобольному «веселого рождества»? - спрашивает меня старшая надзирательница Донна Пилларс. - Как можно это сделать без того, чтобы не вызвать у больного ассоциации с действительно веселым рождественским праздником прошлых лет? Как это сделать, чтобы больной не заплакал?
- Если вам не приходилось поздравлять с веселым рождеством безнадежного душевнобольного, - продолжает поучать меня Донна, - то попробуйте представить самого себя запертым в нашей больнице в продолжение долгих лет, оторванным от семьи и друзей. Один за другим перестают они писать вам. Открыток становится все меньше и меньше. И наконец вы совсем забыты, между тем как Другие весело справляют праздник. Веселое рождество означает для вас только новую волну тоски о пропавшей жизни.
Остро болея душой за своих заброшенных пациенток, любвеобильная Донна Пилларс сгущает краски.
- Бывает и похуже, - продолжает она. - Предположим, что вы параноик. Родные и друзья присылают вам к празднику пакет с подарками и продуктами. Болезнь внушает вам подозрение, что передачу прислали вовсе не родные. Здесь, несомненно, ловушка. Скорее всего, эти продукты отравлены...
Донна поворачивает острие своей ненависти к безумию в другом направлении.
- Искаженное мышление подсказывает вам, что родные делают только вид, что заботятся о вас. На самом же деле они сами предали вас в руки разбойников, которые держат вас здесь...
Как же можно говорить о веселом рождестве в сумасшедшем доме?
Так это было до появления новых лекарств и до Фергюсона. Теперь все иначе. Джек и 107 его сестер-надзирательниц вместе с больными начали подготовку к рождеству 1955 года за несколько недель до праздника. Сестры и больные украсили палаты, в том числе и одиннадцатый корпус, самодельными украшениями. В прежнее время больница устраивала празднование рождества только для больных, имевших право выхода из палат. Из запертых палат больных не выпускали, потому что они сразу расхватывали приготовленное угощение и срывали со стен украшения.
- В этом году при обходе палат, - сказала Донна Пилларс, - я не видела ни одной больной, которая плакала бы по случаю рождественского праздника.
Донна рассказывала, как эти буйные больные, которых раньше не допускали к праздничному столу, как эти самые дикарки сидели - страшно чинные, но веселые - за великолепно накрытыми столами...
- Они вели себя, как настоящие леди, - сказала Донна.
Мне очень не хочется, чтобы читатель составил себе ' ложное представление о Донне Пилларс, Берте Оркэт, I Саре Дауни, Эвелин Дрэйк, Фрэнсис Бэйр или о какой- I либо другой из 107 «докторов» Джека. Это вовсе не сентиментальные дамы. Может быть, только чуть-чуть, в самой глубине сердца, они растроганы волнующей картиной рождественского праздника. Они всегда стойки и решительны, потому что ему нужна особая закалка, чтобы бороться с безумием, самым жестоким, самым ужасным из несчастий человеческих. Они знают, что в других отделениях есть еще много больных, которым можно бы помочь новыми лекарствами, но они их не получают. Они знают, что в отделении Джека Фергюсона есть больные, для которых он не нащупал еще прямого пути к выздоровлению. Но их ободряет мысль, что у них есть теперь новые лекарства которые открыли для них новый мир.
Для Джека это уже не отдаленный, а действительный и важный факт, что 22 декабря 1955 года все весело убранные палаты его отделения были открыты для осмотра всем гражданам, живущим в районе большого канала Траверз. Что вызвало сияние и еще более широкую, чем всегда, улыбку на его круглом, румяном лице, так это рождественская открытка, полученная им от сестер-надзирательниц и больных, написанная рукою заместительницы начальницы сестринской службы Сарой Дуани:
Дорогой доктор Фергюсон, мы хотим только сказать Вам, что искренне ценим то, что Вы сделали для нас за этот год, особенно в дни рождественского праздника. Это -самый прекрасный, самый радостный праздник, какого здесь еще никогда не бывало. Благодарим Вас от всего сердца.
От надзирательниц, больных и от меня лично
миссис Дуани.
В первые месяцы 1956 года Джек Фергюсон мог наконец оглянуться назад и порадоваться. Доктор М. М. Никельс, заместитель директора, и Берта Оркэт, и Сара Дуани - все в один голос говорили, что такого чудесного рождества у них никогда не было. Из 1000 тяжелых, признанных безнадежными хроников-женщин удалось выписать домой или на патронаж в чужие семьи свыше 150 человек. И оставалось еще несколько сот больных, подготовленных для пробной выписки и лечения на дому.
«У нас большие планы на 1956 год», - писал мне Фергюсон.
И в те же первые месяцы 1956 года Джек столкнулся с новыми трудностями. Он создал себе ясную, хорошо обоснованную теорию, что с помощью новых лекарств и нежной любовной заботы сестер-надзирательниц, с помощью химии плюс любовь он сможет выписать добрую половину своих неизлечимых больных.
Но из всех его больных не больше трехсот человек имели свой дом. И для половины этих счастливчиков лучше б не было ни дома, ни родных: несчастные были там нежеланными гостями.
Он гордился сотней освобожденных коек в его отделении, где до этого имелся длинный список ожидавших очереди. Но список начал снова расти со зловещей быстротой. Как мог он фактически освободить эти койки и увеличить число свободных мест в отделении, если у больных, получивших чудесное исцеление, не оказалось пристанища? Неужели штат Мичиган не в силах для них ничего сделать?
И почему коллеги-врачи не хотят проверить на своих больных его опыт с химией плюс любовь? Почему они не проявляют никакой заинтересованности в этом? В больнице Траверз-Сити есть отделения - такие, например, как приемное отделение, - где имеется большой процент больных с ранними формами психоза, а число больных, которым есть куда уйти из больницы, доходит до 90 процентов. Перспектива быстрого излечения у этих ранних психотиков - при новом способе лечения - гораздо благоприятнее, чем у запущенных хроников Джека.
Если начать новое лечение этих незапущенных больных и быстро выписывать их домой, то численность пациентов в больнице Траверз-Сити снизилась бы очень заметно. Но вот на заседании врачебной конференции некоторые из коллег Джека обрушились на него с нападками. Разве он не видит, сколько хлопот он им причиняет? Больница прославилась на весь штат как спасительница безнадежных хроников, и в результате со всех сторон стали присылать к ним тяжелейших больных. Вы представляете, сколько работы прибавилось в приемном отделении? Джеку следовало бы не очень торопиться с выпиской своих больных... А не то...
Какими глупыми мечтами тешит себя Джек Фергюсон! Он похож в этом отношении на Ральфа Уальдо Эмерсона, который сказал, что если человек предложит лучшую систему мышеловки, то люди протопчут широкую дорогу к его двери. Может быть, великий философ и прав в отношении изобретателей мышеловок, но его философию нельзя применить к изобретателям надежды для неизлечимых душевнобольных.
Джек был одинок со своими мечтами.
Не совсем одинок. С ним были больные, которые обожали его. Были сестры-надзирательницы, которые верили в него. Была начальница среднего персонала Берта Оркэт.
- Какие сестры! - сказал Джек. - это персональная победа мисс Оркэт. Это высшее достижение всей ее жизни, отданной другим людям.
Джек улыбнулся.
- С медицинской точки зрения Берта Оркэт - мой самый ценный помощник в этой борьбе. И она же мой самый беспощадный критик, если не считать мою Мэри. Стоит мне сделать малейшую попытку выдвинуть Фергю-сона впереди больных, как мисс Оркэт сразу же выливает мне на голову ушат холодной воды.
- Как это вы выдвигаете себя впереди больных? - спросил я.
- А вот как, - сказал Джек. - Мне следовало бы перестать похваляться своей работой, водя посетителей по больнице. Или я выпускаю на огородные работы не вполне подготовленных больных, чтобы приукрасить статистику.
Ох, и попадает мне от Оркэт!
Но не кто иной, как Берта Оркэт, которая за тридцать лет работы видела и подъем и угасание надежды для несчастных безумцев - чаще всего угасание, - именно Берта Оркэт с сиянием в глазах говорит Джеку Фергюсону:
- Если бы только нас оставили в покое, мы могли бы сейчас действительно что-то сделать. Теперь мы на верном пути.
С ним были все сестры-надзирательницы, и ожившие больные, и Берта Оркэт, и жена его Мэри. Так что Джек не так уж одинок.
- Насколько Джек изменился с момента его прихода в Траверз-Сити? - спросил я Мэри.
Мэри смутилась.
- Я должна вам кое в чем признаться, - сказала она. - Помните, когда Джек в последний раз вышел из Больницы ветеранов в Индианополисе, я сказала, что не сомневаюсь в полном выздоровлении Джека?
Да, я помнил это и даже приводил ее подлинные слова в своем рассказе.
- Я тогда солгала вам, - призналась честная Мэри. - Меня еще долго мучили приступы малодушия и страха за Джека. Нет, нет, Джек с тех пор совсем не изменился. Это я изменилась.
- В чем именно?
- Теперь я уже знаю, что нечего о нем беспокоиться, - сказала Мэри,
Глава 10
Сколько нужно нервов, чтобы писать очерк о том, что вы считаете подлинным открытием, - писать не после того, как открытие уже совершилось и прославилось, а в тот момент, когда оно еще разрабатывается и сам изобретатель в опасности. Я сознательно говорю, что Джек Фергюсон в опасности: из-за элементарной непорядочности, которая встречается в лучших научных кругах, всякое открытие вызывает пренебрежительное к себе отношение, пока специально назначенные и общепризнанные авторитеты не поставят ца нем штамп одобрения. Мэри Фергюсон не поняла, с какой целью я спросил ее, не изменился ли Джек с тех пор, как они переехали в Траверз-Сити. Мэри, готовая пойти за него на адские муки, думала лишь об одном:
Сможет ли он сохранить нормальную психику, которую чудом обрел в запертой палате пять лет назад?
Обратите внимание, что я говорю «обрел», а не «восстановил». До его последней прогулки в буйную палату Джек сам признавал, что начиная с мальчишеских лет он никогда не был психически здоровым. В нем всегда жил дикий зверь честолюбия, затаенное большое «Я», которое нашептывало ему мечты о будущем величии.
Что касается Мэри, она была вполне уверена, что бывший Джек, параноик, исчез навсегда. Посмотрите, как скромно он оценивает свою роль в открытии практического лечения для душевнобольных. Он отдает дань уважения химикам, снабдившим его новыми лекарственными средствами; он прославляет сестер-надзирательниц за их нежную, любовную заботу о больных. Поведение самого Джека полностью оправдывает мнение Мэри.
- Всякий раз, как я сдаю свою научную статью, меня мучает совесть. Ведь, по сути говоря, б заголовке должны стоять имена химиков и надзирательниц, а не мое имя, - говорит Джек.
И все же весь этот год я недосыпал по ночам, размышляя о том, когда же Джек - столь уверенный в себе и невозмутимый, как лунатик, - когда он наконец сдаст позиции и падет ниц. Но он крепко держался, и все мои опасения оказывались пустыми. Вы помните, как глупо я волновался, приняв равнодушие Джека к своим коллегам, не заинтересованным в лечении запущенных шизохроников, за высокомерие. Я беспокоился также о том, что Джек так одинок в своей работе, - ведь только Мэри, надзирательницы и больные радуют его бедное сердце.
Не глупо ли с моей стороны желать, чтобы Джек перестал быть одиноким «отщепенцем»? А как же было с Робертом Кохом, который выследил сибиреязвенного убийцу у себя на кухне? А Фредерик Бантинг, который открыл инсулин в своей душной мансарде, невзирая на усмешки профессоров? А Джордж Майнот, открывший противоядие против смертельной болезни - злокачественной анемии - в своей частной практике, а не в Гарварде? Кем же были эти ученые-оригиналы, как не отщепенцами, до того момента, пока Нобелевская премия или другая подобная безделушка не увенчивали их оригинальность?
Пожалуй, для творцов работать в одиночку - это только преимущество. Но появились другие минные ловушки на пути Джека Фергюсона, борца с безумием. Он добился ошеломляющего успеха в лечении безнадежных, хронических, запущенных случаев шизофрении. Не испортит ли это Джека? Я видел его сияющее круглое лицо и весело сверкающие карие глаза рядом с газетным заголовком, прославлявшим доктора из Траверз-Сити, который лечит безнадежное безумие химикалиями плюс любовь. Не обольстился ли Джек собственной рекламой? Не закружится ли его голова? Не возомнит ли он себя великим ученым и не затеет ли борьбу с еще более разрушительной, более загадочной и непобедимой формой безумия, чем шизофрения. Не воображает ли Джек, что его формула «любовь плюс химикалии» окажется столь же целительной при умственном расстройстве у стариков, которое неизбежно, как сама смерть? Это - заключительное слабоумие, наступающее в ту пору жизни, которая является такой жуткой противоположностью юности; это уже не жизнь, а жалкое прозябание, которое доктора называют одряхлением.
Фергюсону, конечно, лучше знать, стоит ли ввязываться в борьбу со старческим слабоумием. Ему ведь известно, что новые лекарства оживляют молодых шизофреников гораздо быстрее и что нежная, любовная забота приводит их к восстановлению психики гораздо успешнее, чем пожилых шизофреников. Джек, конечно, это знает. Он все это признает, и тем не менее глаза его загораются под стеклами очков, как бы спрашивая: ну, и что из этого следует?
- Я самым серьезным образом спрашиваю, - говорит Джек, - что можем мы сделать для бабушки и дедушки и для бедной старенькой тетки Мэри?
Такова его манера так формулировать проблему умственного расстройства у стариков. Джек не тратит времени на грустные размышления о том, что антибиотики, побеждая пневмонию, являются друзьями старости, или о том, что эти замечательные снадобья спасают стариков не для здоровой и мудрой жизни, а для печального прозябания в сумасшедших домах. Доктор Остин Смит, блестящий и дальновидный редактор журнала Американской медицинской ассоциации, так резюмирует этот вопрос. Люди стали теперь здоровее и живут лучше и дольше - живут так долго, говорит Остин, «что перед обществом встает необходимость разрешения новой социально-медицинской проблемы».
Согласно статистике, эта «проблема» охватывает сотни тысяч слабоумных стариков, представляющих тяжелое бремя как внутри психиатрических больниц, так и вне их. - человеческой точки зрения каждый из этих стариков является объектом жестокого благодеяния со стороны современной медицины, которая сделала их долгожителями, но не смогла дать им настоящей жизни и здоровья. Для бедных стариков медицинская наука - это сплошное издевательство. Она спасает их от смерти, причиняемой микробами, и обрекает на прогрессирующее слабоумие. Доктор Остин Смит заглядывает в будущее и предостерегает нас: «По мере того как современная медицина все больше и больше удлиняет наш век, число людей, обреченных на старческое слабоумие, будет расти астрономически».
- Что ж нам делать с дедушкой и бабушкой и старенькой теткой Мэри? - спрашивает Джек.
Что тут можно сделать? Мы можем настроить побольше просторных кирпичных бараков, собрать туда зажившихся стариков и постараться забыть о них.
Доктор Уолтер Л. Брюич приводит цифры роста этой печальной армии. Число стариков, поступивших в психиатрические больницы в 1920 году, составляло 5 процентов; 11 процентов в 1930 году; эта цифра выросла до 21 процента в 1940 году; а в 1950 году было уже около 38 процентов поступлений с диагнозом «старческий психоз» или «психоз на почве артериосклероза» (предполагаемая причина старческого слабоумия).
Такова статистика, но за нею живые люди. В сотнях тысяч домов от одного побережья и до другого живут старые мужчины и старые женщины. Иногда у них проясняется сознание, но потом снова становится смутным и туманным. В моменты просветления их охватывает страх. Они спрашивают своих сыновей и дочерей: «Ты не собираешься меня куда-нибудь отправить?»
- Много ли стариков, страдающих старческим слабоумием, в Траверз-Сити?- спросил я Джека. - Действительно ли их число растет, как утверждает Брюич?
- Да, растет и даже больше, чем у него, - сказал Джек. - В настоящее время мы содержим свыше 40 процентов таких больных, и число их растет скачкообразно. Дело обстоит так, - объясняет Джек. - Бедных стариков направляют к нам семьи, где их поведение становится нетерпимым. Поступают они также из частных лечебниц. Иногда их присылают районные богадельни, которые не могут справиться с их плохим поведением.
Это может превратиться, если уже не превратилось, в первостепенную медицинскую проблему национального масштаба.
Джек Фергюсон готов вывернуться наизнанку, чтобы как-нибудь задержать процесс умственного распада у стариков Но как он смеет даже подумать об этом? Что может более неизбежным, чем старость? Что может быть быть более необратимым, чем старческое слабоумие? И что может быть более неисправимым, чем рассудок дементного старика, если вспомнить, что слово «дементный» означает полное отсутствие рассудка?
Как можно восстановить то, что уже не существует?
- Каким же я был тупицей!- говорит Джек, вспоминая первоначальные свои представления о возможности помочь несчастным старикам. - Более четырех лет я искал общий лечебный фактор для всех видов безумия...
Он продолжает искать ошибку, вкравшуюся в его рассуждения. Почему он отделил старческое слабоумие от шизофрении и других функциональных психозов? Зачем он обманывал себя, считая, что у стариков какая-то особая форма безумия? Для этого были, конечно, некоторые основания: когда патологоанатомы исследуют мозг умерших сумасшедших стариков, то у многих из них они находят признаки перерождения. Артериосклероз. Совершенно правильно. Старческий возраст. Неизбежно. Но когда те же патологоанатомы осматривают мозг у других умерших стариков, с теми же симптомами психической болезни, они не находят в них ничего. Никакого перерождения...
Джек не переставал обдумывать эту тайну старческого слабоумия в. длинные бессонные ночи, а бессонных ночей у него было достаточно. Надо, конечно, признать, что при старческом слабоумии симптомы несколько отличаются от других видов безумия. У бедных стариков наблюдается преимущественно спутанность сознания. Они не знают, где находятся, и часто не разбираются в категориях времени: сегодня ли, вчера, завтра или десять лет назад. Они могут живо вспомнить то, что произошло пятьдесят лет назад, и совершенно забыть то, что случилось сегодня, в Десять часов утра.
Но бывают и другие виды безумия у стариков, когда симптомы болезни в точности совпадают с признаками той или иной формы шизофрении или всех ее форм, взятых вместе, что встречается часто у молодых людей.
Когда Джек не может уснуть, он уж больше не хватается за барбитураты.
- Я просто сажусь работать, - говорит он. - Работа - это мой конек. Так как я всю ночь мотаюсь взад и вперед, то не могу спать в одной комнате с Мэри.
Ночь за ночью он просыпается после трех-четырехчасового сна и в тиши ночной набрасывает черновики научных статей своим наклонным, разборчивым и неуклюжим почерком. Или же рисует шестиугольники и пятиугольники химических формул несуществующих органических соединений, не ясных никому, кроме Фергюсона.
- Потом я начинаю чувствовать утомление и иду спать, - говорит Джек.
- И вот - может быть, в одну из этих бессонных ночей - Джек нашел способ, как помочь бедным сумасшедшим старикам. Это не новое лекарство. Это только то, что он называет «общим целебным фактором». И вовсе не старческий склероз мозга он должен лечить. Для этой болезни пока не существует лечения. И не симптомы болезни - спутанность сознания, потеря ориентировки, забывчивость - должен он взять под обстрел. Нет...
Джек проделывает полный круг в обратном направлении - к лоботомическому периоду в Логэнспорте и серпазил-риталиновому лечению в Траверз-Сити. Он должен лечить то, что служит основанием для отправки и молодых и старых в психиатрические больницы. Это их поведение, которое доходит до такой степени ненормальности, что больной становится нетерпим в общежитии даже для самых близких и любящих его людей.
Он должен лечить ненормальное поведение.
И если ненормальное поведение - это сверхактивность, или слабоактивность, или смесь того и другого, то почему не применить для лечения стариков те же лекарства, которыми он нормализует поведение шизофреников?
Это будет, конечно, нелегко. Это прибавит еще сотни больных к той многосотенной массе, которую уже лечат и наблюдают его сестры-надзирательницы. Это сотни новых «профилей поведения», представляемых ему для анализа. Но что поделаешь! Придется еще подсократить часы сна...
Создавалось впечатление, что все пережитое в бурные дни Гэмлета и в закрытой палате развязало в нем неудержимый прилив энергии. Это был уже не водоворот, а скорее стремительная полноводная река. Известно, что люди, в которых бушует дикая энергия под спокойной внешностью отличаются бесстрашием.
То же происходило теперь с Джеком. Ему было на все наплевать.
- Больные, которых мы охотно берем из приемного отделения, - сказал Джек, весело подмигивая, - это те, у которых на картах стоят пометки: прогноз плохой... необходим специальный дежурный пост... типичная старческая дегенерация... Вот на таких-то мы и пробуем свои зубы. Нам не нравится слово «неизлечимый».
Сэлли Энн семьдесят лет, и диагноз у нее - старческий психоз. Она требует постоянной помощи для удовлетворения элементарных потребностей жизни. По ночам она бродит. Больные выталкивают ее и бьют. Одна палата за другой обращается - и вполне основательно - с требованием о ее переводе. Это такой абсолютный идиотизм, что самой доброй и заботливой надзирательница не под силу с ней справиться. Она стала ничьей Сэлли Энн.
Серпазил, которым начали ее угощать, лишает ее жизнедеятельности и страшно угнетает. К серпазилу добавляют риталин - и Сэлли Энн лезет на стену. Но сознание ее чуть-чуть пробуждается, хотя и с большими колебаниями. Сестры-надзирательницы непрерывно жонглируют дозами успокоительного серпазила и стимулирующего ри-талина, и постепенно - через несколько месяцев - ее поведение колеблется меньше и она становится доступной для обслуживающего персонала. Удается даже подсмотреть, как она глядится в зеркало.
Члены семьи приходят навестить ее. «Первый раз за много лет она узнает меня», - говорит один из них.
И вот наступает великий день. Сэлли Энн делает перманент.
- Это было поворотным пунктом, - говорит Джек. - С Детской радостью она принимала всеобщие комплименты.
По истечении восьми месяцев родные выразили желание взять ее домой. Теперь она - полноценный работник в хозяйстве; три раза в день она принимает маленькие дозы серпазила с риталином, и семья любовно о ней заботится. Сестры и лекарства вернули ей то, что ушло, казалось, безвозвратно.
На очередном заседании Американской медицинской ассоциации в декабре 1955 года - это был конгресс молодых американских врачей для повышения квалификации - доктор Дж. Т._Фергюсон из Траверз-Сити, штат Мичиган, сообщил, как можно улучшать поведение стариков сер-пазилом и риталином. Газеты почтительно предоставили ему свои первые страницы. Доктор Говард Рзск поместил в «Нью-Йорк тайме» восторженную статью о Джеке Фергюсоне, восстанавливающем сознание у слабоумных стариков.
Из доклада выяснилось, что Сэлли Энн отнюдь не оказалась малоутешительной «серией из одного случая». Из 215 старух в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти четырех лет с ясной картиной старческого психоза, - из 215, казалось бы, безнадежных старух - 171 показала явное .улучшение, и большинство из них - весьма значительное. Фактически половина из этих 215 больных, семьи которых и не ждали, что они когда-нибудь вернутся, были готовы для отправки домой.
Несмотря на столь замечательные результаты, некоторые из коллег Джека, работавшие в других отделениях больницы, пренебрежительно относились к фергюссоновскому методу лечения. Это враждебное отношение как раз помогло Джеку провести изящную демонстрацию. Оно дало ему возможность поставить контрольный опыт без предварительного планирования. Эти 215 старух, о которых доложил Джек, составляли примерно треть всех больных этой возрастной группы в больнице Траверз-Сити. Как же обстояло дело с остальными двумя третями больных в возрасте от шестидесяти до восьмидесяти четырех лет в других отделениях больницы?
Начальница среднего персонала Берта Оркэт сообщила доктору Фергюсону, что среди этих двух третей за те же одиннадцать месяцев не отмечено никаких перемен к лучшему.
Что же произошло за одиннадцать месяцев лечения новыми лекарствами - всегда в комбинации с нежной, заботой. У фергюсоновскои трети больных с их ужасным образом жизни, с их одряхлением? У многих дрожание рук. Признаки дряхлости или совсем прошли или заметно смягчились. За этими 171 больными, показавшими улучшение - Джек называет их «мои бабушки» - он не прекращает пристального наблюдения. На врачебных конференциях некоторые из товарищей высмеивали его, говоря, что улучшение у бабушек - чистая случайность, но Джек и к этому подготовлен.
Отдельным группам бабушек - по 50 человек в группе он отменил на несколько дней выдачу лекарств. Их поведение сползло назад - к тусклой старости. Выдача лекарств была возобновлена, и поведение их снова улучшилось в сроки от сорока восьми до семидесяти двух часов. Но, может быть, это больные, которым безразлично, что им дают, лишь бы пилюли, - такой психологический эффект может проявляться даже у престарелых больных.
Джек прекратил выдачу лекарств в форме таблеток и стал подмешивать их в пищу, о чем больные, конечно, не знали. Их поведение продолжало оставаться на хорошем уровне.
Джек, неисправимый оптимист, обольстился надеждой, что у понравившихся бабушек прошла спутанность сознания, восстановилась память и хорошая ориентация, что они смогут теперь обходиться без лекарств. Но с прекращением лекарств, несмотря на самую нежную, любовную заботу сестер, у большинства из них возобновились признаки одряхления. Дело обстояло так же, как с инсулином при тяжелой форме диабета. Эти старушки не были вылечены. Их просто взяли под контроль. Смогут ли их домашние врачи регулировать дозировку лекарств, смогут ли это делать родные под наблюдением врачей?
Это требует еще проверки.
- Каждый день я просыпаюсь с таким чувством, что живу в мире чудес, - говорит Джек.
Если вы суеверны - а я определенно суеверен, - то подойдете с опаской к этому чувству вечной восторженности. Меня раздражала в Джеке его манера так жадно набрасываться на хорошие новости. Удачный эксперимент, каким действительно является опыт с несчастными старушками, делает его счастливейшим из смертных.
- Каждый день - это день благодарения для меня, - говорит Джек.
И тут как раз начались у него неприятности.
После одиннадцати месяцев лечения любовью и лекарствами пропорция бабушек, достаточно здоровых, чтобы идти домой, составляла 50 процентов. У половины из них не нашлось пристанища. А 50 процентов из тех, что имели родных, стали уже нежеланными гостями в своих семьях.
Появились слухи о новой неприятности, более важной и зловещей, чем сомнения коллег в солидности его метода лечения сумасшедших старушек. Помимо фирмы Сиба (которая бесплатно снабжала его всеми лекарствами, какие только требовались), Джек получал еще от других фирм некоторые лекарства и деньги на исследовательскую работу. На имя директора больницы доктора М. М. Никельса пришел запрос от департамента здравоохранения штата Мичиган о том, как доктор Фергюсон распоряжается этими исследовательскими деньгами.
До сведения департамента дошло, что в отделении Джека молодые и старые психотики развлекаются попугаями, что там заведены кружевные гардины и дорогие ковры, устраиваются веселые чаепития. Было также установлено, что Джек имеет обыкновение дарить каждой больной баночку с золотой рыбкой. Раньше сестры-надзирательницы приносили свои собственные проигрыватели, чтобы больные могли танцевать на этих жалких вечеринках. А теперь Джек на исследовательские деньги накупил проигрывателей, телевизоров и электрических приборов для каждой палаты. Включая даже буйную палату в одиннадцатом корпусе.
Это было неправильным расходованием средств, предназначенных для научных исследований.
А кроме того, доктор Фергюсон самовольно удлиняет рабочий день своих надзирательниц. Они не только работают до пота, ухаживая за беспокойными больными, но должны еще приходить по вечерам проводить с больными вечеринки. Рассказывают, что одна сестра-надзирательница испекла шесть яблочных пирогов, другая - шесть дюжин пирожных, а еще одна три торта - и все это в свои свободные часы и из собственных продуктов.
Правда, скромные суммы исследовательских денег предоставлялись доктору Фергюсону фармацевтическими фирмами без каких-либо специальных условий, и медицинские директора всех фирм регулярно получали от Джека отчет о расходовании этих средств. Но что скажет комиссия из выдающихся ученых, так называемый Научный совет департамента здравоохранения, что скажет Национальное бюро открытий и сами жертвователи денег, что скажут они о золотых рыбках и яблочных пирогах как лечебных средствах против безумия?
Донна Пилларс, старшая надзирательница, придерживается особого мнения на этот счет.
- Сестры-надзирательницы, работающие с душой и не считающиеся со своим временем, - это наиболее эффективная комбинация с новыми лекарствами.
А что касается внепланового расходования исследовательских денег на баночки с золотыми рыбками, то золотая рыбка, несомненно, является тоже своего рода лекарством. Выше я рассказывал о женщине-кататоничке, ( которая после того, как Джек подарил ей прелестную крошечную рыбку, открыла рот впервые за четырнадцать лет, чтобы сказать: «Благодарю вас, доктор».
Возможно, вы помните также мой рассказ о другой безгласной кататоничке, пациентке докторов Блэкуена и Лоренца в Висконсине. Когда примененное ими химическое средство на короткий срок прояснило ее сознание, она спросила: «Какой счет, доктор, в игре Пэрдью - Висконсин?» Вы вспоминаете, что означал для них этот неожиданный вопрос?
Он означал, что немое безумие только маскировало ее скрытое психическое здоровье.
Джек Фергюсон придавал огромное терапевтическое значение сверхурочной работе своих сестер-надзирательниц... Их нежность проникала вглубь, сквозь наружную маску безумия. Их сердечное отношение побеждало внутренний страх у больных.
Джека не покидает чувство печали, когда он видит перед собой такие ободряющие случаи, как история с Сэлли Энн, которая, как вы помните, была уже подготовлена к отправке домой. Джек всматривается в ее карту. Вводная часть этой карты представляет сгусток всей ее биографии, короткую и простую летопись ее жизни.
Сэлли Энн. № 25707. Дата рождения 17.V.85. Поступила в больницу: 19.XI.53. Сколько времени находится в больнице: 2 года.
Джек обращается мыслью к моменту рождения Сэлли Энн в 1885 году. Это был радостный день для ее отца и матери. Затем СэЛли Энн сама становится матерью и ненарадуется на своих детей. Дети становятся взрослыми, а Сэлли Энн идет к одряхлению - память ее слабеет, сознание затуманивается, поведение становится неприятным, и наконец наступает страшный день 19.XI. 53, когда собственные дети решают от нее избавиться. И она катится по наклонной плоскости к тому, что хуже смерти, - к своей живой смерти.
Но вот лекарство и заботливый уход воскрешают ее; она снова дома со своей семьей, и это тоже день радости, хотя и не такой бурной. Что же вызывает у Джека чувство печали? Почему так много бабушек, нормализованных новым методом лечения, не находит себе пристанища? Почему их дети, большинство из них, не желают больше их принимать? Джек думает, думает и не находит ответа. Он только спрашивает, что же нам делать с дедушками и бабушками и с бедной старой тетушкой Мэри?
Конечно, снимать у бабушек явления старческого психоза - не бог весть какое достижение. Лекарства и любовная забота не могут дать несчастным старушкам интеллект ученых-атомников или умственные способности членов ученого совета больших благотворительных фондов. Или хотя бы восстановить у них живость мысли молодого или среднего возраста. Жизненная роль бабушки, которая может быть отпущена домой, которая ведет себя нормально, уживается сама с собой и своими близкими, - роль эта малозаметная.
Но они все же могут быть полезны в доме. Они могут возиться с внучатами, убирать со стола, помогать на кухне. Они могут штопать чулки, может быть, даже вязать новые. Они могут накрыть на стол, рассказать внучатам о стародавних временах и о большой больнице, где сестры так добры, так удивительно заботливы. Они в состоянии держать себя вполне достойно. Они могут гордиться своим новым перманентом и содержать свою одежду чистой и аккуратной. Их дочерям уж не нужно беспокоиться, что Ини ночью уйдут и где-нибудь затеряются. Они могут ходить в церковь и, может быть, посидеть за чашкой кофе со старыми приятельницами.
Почему Джек так усердно работает для этих жалких старушек? Почему он так сильно увлекается этим делом? Почему старушки имеют для него какое-то особое значение? Ведь, по сути говоря, они возвращают себе нормальное поведение только для того, чтобы вскоре умереть.
У Джека есть на это ответ:
- Я верю, что теперь, когда мы нашли способ лечить и восстанавливать рассудок у этих несчастных, заброшенных человеческих существ, - теперь мы можем наконец начать...
- Начать? - грубо перебил я Джека. - Какая может быть речь о начале, если, по существу, они идут уже к концу?
- Позвольте на это вам возразить, - отвечает Джек. - Мы пренебрегли всякими учеными ярлыками, которые затуманивают мозги врачам-психиатрам. А разве мы не добыли несколько твердых фактов, позволяющих практически использовать химикалии, чтобы сделать тяжелых психотиков доступными для заботы, для нежной, любовной заботы?
В январе 1956 года журнал Американской медицинской ассоциации опубликовал статью докторов Джона Т. Фергюсона и Уильяма Г. Фэндербарка об улучшении поведения стариков. Для Джека это было событием величайшей важности. Он не придавал никакого значения тому, что редакторам этого крупнейшего американского журнала пришлось сделать свыше двухсот грамматических и стилистических исправлений на семнадцати страницах рукописи. Джеку это было совершенно безразлично.
- Ведь доктор Остин Смит опубликовал нашу статью, неправда ли? - сказал Джек. - И он не поставил под сомнение ни один из наших фактов или толкование фактов.
Доктор Остин Смит так сформулировал основное положение статьи Фэндербарка и Фергюсона:
«Врачебная профилактика и контроль над ненормальным поведением стариков, осуществляемые ближайшими к ним наблюдателями - домашними врачами, должны стать отправным пунктом в этой борьбе».
Джек сиял от удовольствия: свыше 15 000 оттисков статьи было разослано врачам, слушавшим его доклад на конференции Американской медицинской ассоциации в Бостоне, Мичиганскому клиническому институту в Детройте и годовому собранию (1956) Американской медицинской ассоциации в Чикаго.
Джек бросает вызов своим коллегам.
- Вы помните, я рассказывал о несчастных старушках, которых врачи приемного отделения посылают к нам с отметкой на картах: «Типичная старческая дегенерация»? Я еще говорил вам, что это как раз те случаи, на которых мы любим пробовать свои силы.
Конечно, я это помнил.
- Знаете, как мы теперь поступаем? - продолжал Джек. - Мы не задумываемся над тем, излечимы они или нет. Мы их быстро лечим и выпускаем гулять и нарочно водим их перед окнами приемного отделения, чтобы врачи могли их видеть...
Но вот что больше всего мучает Джека. Смогут ли домашние врачи лечить бедных стариков на дому до их отправки в больницу, когда они еще на пороге того состояния, которое нетерпимо в домашней обстановке? Тогда было бы гораздо меньше разбитых сердец, а у общества - меньше расходов на престарелых психотиков. Джеку это кажется самым простым делом.
Не слишком ли простым? Смогут ли домашние врачи этим заниматься? А если смогут, то захотят ли? Ведь они, в конце концов, страшно перегружены.
Глава 11
«Психическая болезнь - это нечто большее, чем ненормальное поведение, которое мы стараемся лечить».
Эти слова Джека преследуют меня. Они не выходили у меня из головы ни днем, ни ночью весь этот год, пока я копался в биографии Джека, стараясь постичь, что же представляет собой Джек Фергюсон. Он совсем маленький человек, почти незаметный боец в теперешней большой и шумной биохимической войне за миллионы людей с больным, запуганным и спутанным состоянием ума. Задача Джека чрезвычайно скромна. Он стремится только как можно больше приблизить ненормальное поведение к нормальному, чтобы человек мог уживаться сам с собой и с другими.
Но в теперешней грандиозной (и довольно путаной) биохимической борьбе с безумием добиться нормального поведения - это еще далеко не все.
Предположим, вам удалось восстановить у больного нормальное поведение. Но это нисколько не объясняет химическую тайну, лежащую в основе безумия. Джек об этом ровно ничего не знает. И, что еще хуже для Джека, нормальное поведение может оказаться лишь поверхностным выздоровлением. Правда, у многих пациенток Джека, выписанных из больницы, психическое выздоровление кажется окончательным. Но иногда случается, что такая пациентка, кажущаяся вполне здоровой, вдруг сообщает вам, что она воскресшая из мертвых Жанна д'Арк или архангел Гавриил, сошедший на землю. А возможен и такой случай. Пациентка, выпущенная из больницы под расписку, находится в прекрасном, спокойном состоянии. Она сама нашла себе работу официантки. Она обслуживает вас за столом весело и проворно. Но в один прекрасный день она выливает вам за шиворот тарелку горячего супа и начинает дико хохотать.
Такие заскоки и эксцентричное поведение не внушают, конечно, особой веры в окончательность выздоровления больных. Но что меня поражает в Джеке Фергюсоне, - такие неудачи не обескураживают его. Он смотрит на меня со своей обычной безмятежной улыбкой, признавая, что устраняет только внешний, поверхностный слой безумия. А что это дает? Какое это имеет значение, если остается нетронутым глубокий и более неподатливый пласт безумия? Что ж, тогда он постарается выкорчевать и следующий пласт сумасшествия каким-нибудь новым лекарством плюс его неизменная любовная забота.
Фергюсон все больше и больше убеждался в том, что овладел искусством укрощать своих буйных, сверхактивных пациентов; он может также повышать настроение у слабоактивных, депрессированных больных; он может уравновешивать бурно качающуюся доску сверхактивно-слабоактивных настроений и приводить больных к устойчивому, почти нормальному поведению. И все же, несмотря на многомесячное лечение, галлюцинации и нелепые фантазии - этот глубокий пласт безумия - исчезали очень медленно, а иногда и вовсе не прекращались.
Но вот пришла химическая помощь от знаменитого невролога и психиатра доктора Говарда Д. Фабинга из Цинциннати. Говард впервые дал Джеку возможность начать химическую атаку против диких фантазий и галлюцинаций. Говард Фабинг щедро расточает свои открытия и очень скромен. Себя он считает рядовым практикующим врачом по нервным и психическим заболеваниям.
- Я всегда готов испытать любое средство, если оно обещает успех без каких-либо вредных последствий для больного, - говорит Фабинг. - Десятки литров всяких отваров и микстур я уже забраковал и отбросил.
Говард Фабинг как будто сошел с картины Фрэнса Гэлса. Плотный, румяный, с умным, веселым и недоверчивым взглядом синих глаз, всем своим обликом он напоминает жизнерадостного сельского врача (каков он и есть в действительности). Но, кроме того, он хорошо изучил человеческий мозг и испытывает к нему благоговейное уважение. Говард полон любознательности.
В 1954 году он натолкнулся на препарат Френкель, считавшийся врагом всяких фантазий и галлюцинаций. Как раз в тот день, когда Фабинг получил от химиков фирмы У. С. Меррэл первую порцию не проверенного еще клинически препарата Френкель, в Христианскую больницу Цинциннати поступила девушка-студентка. Фабинг описывает ее как златокудрую Юнону. Она буйствовала в урагане острой шизофрении.
Шумлива, с наклонностью к разрушению, полностью оторванная от восприятия реального мира, она пыталась убежать на улицу совсем голая. Была она подозрительна, сверхактивна, озлоблена, неконтактна, полна страхов. Инсулиновая кома и электрошок не подействовали.
Фабинг стал давать ей Френкель, сначала осторожно, маленькими дозами, в таблетках. Потом повысил дозу, и это вывело златокудрую Юнону из ада, в котором она находилась. Быстро выздоравливая, прелестная молодая девушка рассказывала доктору Фабингу о своих ужасных галлюцинациях: она гуляла под руку с мертвецами, у которых черви выползали из провалившихся щек; она слышала чудную музыку и стихи, в которые врывались голоса, звавшие ее к веселью и распутству.
Под действием френкеля страшные видения и звуки исчезли. Она снова стала милой, разумной девушкой, живет с родными и успешно занимается. Она аккуратно принимает небольшие дозы френкеля, который даже в огромных дозах безопасен и безвреден. Френкель стоит стеною между нею и ее былыми страданиями. Это могучее средство против галлюцинаций. Химическая его формула: «альфа (4-пиперидил) бензгидрольгидрохлорид».
Говард Фабинг с сожалением отмечает, что Френкель слишком быстро улетучивается из организма. Средняя Цифра улучшений в серии из 115 случаев, сообщает Фабинг, составляет около 40 процентов. Не так уж плохо, если принять во внимание непобедимый ужас галлюцинаторного психоза.
«На шизохроников френкель действует не так хорошо, - отмечает Фабинг. - Острые случаи лучше поддаются его действию»,
У Фергюсона не оказалось острых случаев; он решил испытать Френкель на хрониках с относительно нормальным поведением. Была у него больная, которая при общем прекрасном поведении утверждала, что она возглавляет предстоящую экспедицию адмирала Бэрда на Южный полюс; она вела также переговоры о местоположении планируемой ракетной базы в Северном Мичигане. Она изводила стопы бумаги, составляя планы - для представления властям штата и федерации - реорганизации больницы Траверз-Сити. Она стряпала сразу на всех горелках...
Джек Фергюсон установил, что таблетки Френкеля не только сняли у нее умственную сверхактивность, но и убедили больную в абсурдности ее фантазий. Джек установил на многих пациентках, что Френкель действительно рассеивает галлюцинации, не поддающиеся действию серпазила с риталином. Какая же химическая реакция происходит где-то там внутри черепа среди десяти биллионов мозговых нейронов?
Этот вопрос поставил перед собой не Джек, а Фабинг. Джек занимался лишь поверхностным пластом безумия, ненормальным поведением. Говард задался целью при помощи Френкеля разведать, какой дефект имеется в обменном механизме больного мозга. Какие химические винтики ослабели, где произошло короткое замыкание, какие химические подшипники сгорели в этой машине, какой химический дефект мозга приводит к галлюцинаторному помешательству?
Говард Фабинг является энциклопедистом в многосложной и противоречивой литературе о химических реакциях, якобы определяющих наше поведение как нормальное или ненормальное. Случилось так, что еще задолго до появления Френкеля Говард Фабинг заинтересовался любопытным свойством химическдхо_препарата LSD-25 - II сокращенное название для лизергиновой кислоты_диэтиламида.
Открытие LSD -25 можно объяснить только шутлив! вмешательством господа бога в дела его детей.
Доктор А. Гофман из лаборатории Сандос в Базеле, Швейцария, переносил стеклянной пипеткой несколько капель производного спорыньи из одной колбы в другую. Случайно он втянул чуточку этой жидкости в рот. Не прошло и часа, как доктор Гофман сошел с ума; появилась путанность сознания, бессвязность речи, боязливость, галлюцинации. Потребовалось несколько дней, чтобы одолеть этот приступ искусственной шизофрении. Доктор Гофман был храбрый человек. Чтобы выяснить научное значение этого факта, он уже сознательно проглотил несколько капель того же снадобья и снова спятил, ненадолго, но в довольно острой форме.
Новый нашумевший препарат LSD-25, вызывающий экспериментальное безумие, родился в начале сороковых годов. Было установлено, что одна семисотмиллионная часть веса человека - такое бесконечно малое количество LSD-25 - ввергает полного сил юношу в состояние безумия на срок от пяти до десяти часов. Сделано крепко. С академической точки зрения замечательное открытие. Но что это давало? Ничего не давало...
Абсолютно ничего вплоть до 1954 года, когда Фабинг начал возню с Френкелем. Как философ-биохимик, он поставил перед собой такой вопрос: LSD-25 - галлюциноген, химический производитель галлюцинации, френкель, наоборот, снимает галлюцинации.1 А галлюцинации у шизофреников в точности похожи на те, что вызываются препаратом LSD-25. Подействует ли Френкель на молодых людей-добровольцев, сведенных с ума препаратом LSD-25? Как по мановению волшебного жезла, Френкель погасил у них галлюцинации, страхи и спутанность мыслей.
Этим опытом Говард Фабинг поставил новую веху в психиатрии. Он научился химическим способом открывать и закрывать экспериментальное безумие, словно воду в кране. И замечательно то, что ему удавалось прекращать галлюцинации и при других формах экспериментального безумия, вызванных, например, химическим производным кактуса мескалином. И опять-таки какой во всем этом толк? Сделано, конечно, блестяще; это очень занимательно; это может быть увлекательной темой для кинокартины, показывающей, как производители галлюцинаций сводят человека с ума и как Френкель возвращает им здоровую психику. Это интересная абракадабра. Ну а где же ответ на главный вопрос: какой химический дефект мозга лежит в основе галлюцинаций у шизофреников?
Но тут случайное стечение обстоятельств превратило Говарда Фабинга из философа-биохимика в сельского врача.
Доктор Фабинг сидел в больничной палате у своего тестя через сорок восемь часов после того, как старому джентльмену (тоже врачу) была сделана операция на предстательной железе. Фабинг только что спустился из своей лаборатории, где он смотрел молодого добровольца с экспериментальным сумасшествием, вызванным галлюциногеном мескалином. Сидя у постели больного, он вдруг заметил странную перемену в поведении своего тестя. Тот начал болтать всякий вздор, потерял ориентировку, чего-то боялся, галлюцинировал. Нередкое явление после операции на предстательной железе, подумал Говард. «Послеоперационный психоз» - так это называют.
Но постановка диагноза нисколько не улучшила состояния его тестя. Ему становилось все хуже. Он начал ; буянить. Он пытался соскочить с постели и выдернуть вставленный ему катетер, и бог знает, что могло случиться, если бы тут не было Говарда, который удержал его.
- И вдруг, - рассказывает Говард, - меня осенила мысль, что больной ведет себя совершенно так же, как мой «мескалиновый» доброволец там, наверху в лаборатории.
Почему бы не испробовать френкель?
«Я дал ему внутривенно пятьдесят граммов снадобья, - пишет Фабинг, - и мог наблюдать, как явления психоза стали улетучиваться и окончательно исчезли в течение получаса». Френкель подавил начинавшуюся атаку шизофрении.
Это было ценным вкладом Фабинга в разрешение проблемы острого безумия, известного под названием «послеоперационного психоза», и Фабинг сообщает, что Френкель почти одинаково хорошо подействовал в семидесяти пяти случаях этого внезапного, загадочного хирургического слабоумия.
Джек впервые начал испытывать Френкель на маниакальных и галлюцинирующих больных, он применял его как единственное лекарство. Снял этих больных с серпазила и риталина; он всем им давал только френкель. Вместе со своими 107 надзирательницами Джек едил за результатами. Сначала с обычным своим оптимизмом Джек только восхищался. Казалось, что френкель обладает двумя прекрасными свойствами. Некоторым больным, молчаливым и замкнутым, целыми днями что-то бормотавшим себе под нос, он придавал активность и значительно улучшал их поведение. В то же время Френкель показывал чудеса на одичалых женщинах, которые постоянно отгоняли от себя кошмары и весь день кричали: «Уходи от меня, не трогай меня!»; они набрасывались с кулаками на все, что казалось им демоном-мучителем; они в отчаянии бились головой об стену, чтобы избавиться от страшных видений.
Джек был на седьмом небе от успехов. Но тут пошли неприятности. Улучшение психики достигало своей жалкой вершины через две-три недели - повторяю, жалкой, потому что у 90 процентов этих, казалось бы, выздоровевших больных ужасные кошмары и ложные представления взрывались с новой силой. У некоторых это протекало даже хуже, чем до френкеля. Какая неудача, какой удар!
Но не для Джека Фергюсона. Джек упрямо гнул свою линию. Он продолжал то же лечение, невзирая на рецидивы болезни, уговаривая сестер-надзирательниц любым способом вводить френкель самым буйным и самым замкнутым больным. И совершенно неожиданно у многих из них снова прояснилось сознание... Это вторичное просветление не будет, конечно, долго продолжаться, думал Джек. Это было бы слишком хорошо, чтобы поверить этому. И просяетление действительно не продолжалось.
- Френкель, только френкель, - понукал Джек своих сестер-надзирательниц.
И тут произошло то, что оказалось не только закономерным, но и удачным. Первоначально полученная вершина улучшения снова была достигнута. И гораздо быстрее, чем в первый раз. Приступы безумия с каждым разом становились короче.
- Продолжайте френкель, - командовал Джек сестрам-надзирательницам.
А затем, когда у сверхактивной больной начинали появляться признаки возврата галлюцинаций, Джек стал добавлять к Френкелю серпазил. Малоактивным же больным Джек добавлял риталин.
На это стоило посмотреть. Это было ново и беспрецедентно. Риталин, добавленный для слабоактивных, и серпазил, добавленный для сверхактивных, имели одну и ту же цель: вернуть и поддержать первоначальное действие френкеля на глубинные пласты безумия, на галлюцинации и ложные представления.
90 процентов больных при лечении их одним Френкелем неизменно показывали циклические подъемы и падения от здоровья к безумию. Но 60 процентов этих расстройств были взяты под контроль при добавлении к Френкелю серпазила или риталина.
Джек Фергюсон не очень гоняется за статистикой.
- Беда в том, - говорит Джек, - что мы ничего не знаем о химизме действия Френкеля на человеческое поведение. Это такое же темное дело, как химизм всех ненормальностей, создающих картину психической болезни.
И Джек спрашивает, какой смысл для больших специалистов - да и для него тоже - пытаться установить в точных цифрах сравнительный процент излеченных и не излеченных больных? Какая польза от громоздких статистических выкладок, доказывающих, что данное лекарство полезно при одном виде безумия и бесполезно при другом, если не существует никакой верной пробы, чтобы отличить одну форму безумия от другой?
Джек весело усмехается:
- Вы представляете, какая путаница получилась бы, если бы врачи стали лечить антибиотиками всех лихорадящих больных подряд, не зная еще, чем вызвана та или иная лихорадка?
Джек, как всегда, разрабатывал индивидуальный план лечения для каждого больного. И тут он натолкнулся на факт, который заставил его изменить первоначальную технику лечения. Он заметил, что, если при лечении френкелем к больному возвращались галлюцинации и ложные идеи, он мог за пару часов восстановить магическую силу френкеля, вводя серпазил и риталин не через рот, а внутривенным вливанием.
Говард Фабинг дал Джеку Френкель для борьбы с галлюцинациями и ложными идеями - более глубоким пластом безумия, чем ненормальное поведение. Каждый день серпазил, риталин и Френкель плюс нежная, любовная забота показывали Джеку, что эта комбинация восстанавливает крепкую и нормальную психику у все большего числа хроников.
- Каждый день - это день благодарения для нашей больницы, - лирически выражается Джек.
Любя Джека, я не переставал за него волноваться. Когда человек добивается успеха в работе, всегда есть опасность возникновения паранойи, независимо от того, насколько он разумен, насколько скромен и малозаметен. Джек показывает высокие стандарты разума, скромности и смирения, но все же он - человек, даже слишком человек. А безумие, злейший враг человечества, это гнусное дьявольское наваждение чаще всего проявляется у людей, которые слишком человечны. В мешке гадостей у этого дьявола есть кое-что похуже, чем ненормальное поведение, галлюцинации и ложные идеи. Джек совсем уж было поверил, что нашел действительное средство против безумия, совсем уж готовился перейти в опасное состояние вечного благодарения, как с треском был возвращен к реальной действительности.
Некоторые из его пациенток, чудесным образом вылеченные от безумия, стали показывать новую зловещую форму плохого поведения. Этого уж никак нельзя было предугадать.
Так, например, больная, настолько пришедшая в норму, что могла уже уйти из больницы, вдруг испустила дикий вой и выбросила стул в окно. Другая - своим примерным поведением она завоевала любовь всей палаты и всего персонала - вдруг жестоко исколотила сестру-надзирательницу.
Но «несчастной» случайности - так по крайней мере он сам считает - Джек набрел на лекарство против этой Углубленной формы безумия. Это было опять-таки химическое соединение- «2-[альфа-(2-диметил-амино-этокси) альфа-метил-бензил]-пиридин». Поскольку это нелегко запомнить и даже выговорить, химики назвали его «доксиламином».
Доксиламин вовсе не был предназначен для лечения душевных болезней. Это был антигистаминный препарат, сильное средство против сенной лихорадки и бронхиальной астмы. Но у него было одно неприятное свойство: помогая больным против аллергии, он в то же время оказывал на них усыпляющее действие. Во всех других отношениях доксиламин был совершенно безвреден. Можно было принимать его громадными дозами, и он не причинял никакого вреда, кроме непоборимой сонливости, из-за которой человек мог погибнуть на улице, попав под автомобиль.
Джек решил испробовать доксиламин на своих психотиках. Обладая усыпляющим действием, он должен был успокаивать буйных больных, не поддававшихся действию больших доз серпазила. Однако доксиламин оказался странным и капризным лекарством. На некоторых возбужденных больных он не оказывал усыпляющего действия. На разных больных он действовал по-разному. «Изучение доксиламина радует мое сердце», - писал мне Джек.
Этот препарат уничтожал непредвиденность поведения у многих хроников, которым серпазил, риталин и Френкель возвращали нормальную психику, оставив только непредугаданность поведения. Казалось, Джек достиг вер шины успеха в своем наступлении на хроническое безумие. В мае 1956 года он сделал доклад на заседании Общества психиатров-биологов о своем опыте лечения доксиламином...
Под наблюдением находилось шестьдесят больных, у которых серпазил-риталин не смогли искоренить галлюцинации и ложные представления. Доксиламин снял у них иепредугаданность поведения. Была еще другая группа в двадцать восемь человек. У Двадцати двух из них доксиламин уничтожил неприятные и опасные вспышки. Трое из этой группы, проявлявшие себя очень аккуратными, контактными и деятельными внутри больницы, в то же время были хроническими «беглецами». При малейшей возможности невзирая ни на какую погоду, они скрывались в неизвестном направлении. Под влиянием доксиламина все трое стали оседлыми, работали на огороде и вели себя прекрасно. Могли бы уйти домой, если бы у них был родной дом.
Вы помните девушку, которая при общем хорошем поедении вкалывала себе иглы в ноги и живот. Пройдя лечение доксиламином, она бросила это нелепое и опасное занятие.
Но, увы, доксиламин оказался не таким уж совершенным, «радующим сердце» лекарством. Он, правда, не причиняет особого вреда пациентам Джека. У некоторых он снимает непредугаданность поведения. Но у многих безумцев развивается загадочная сопротивляемость к доксиламину; у них то и дело повторяются неожиданные вспышки несмотря на то, что Джек повышает ежедневные дозы в три и даже в четыре раза.
- Ну, и вы решили бросить этот препарат? - спросил я Джека, беседуя с ним по междугородному телефону.
- О нет, - сказал Джек. - Мои сестры не позволяют мне прекратить эксперимент. У нас уже больше сотни больных на доксиламиновом лечении.
- Но вы признаете, что преждевременно восторгались им? - спросил я.
- Да, - сказал Джек. - Доксиламин - хорошая штука, но не такая уж замечательная, как я думал. Да, да, я немного поспешил со своим докладом, - признался Джек.
- Мы абсолютно доверяем доктору Фергюсону, - говорит директор фармацевтической фирмы. - Мы внимательно следим за его работой, его методами и тактикой лечения. То, что он признает хорошим, можно смело рекомендовать врачам. А если что-нибудь считает плохим - мы уж знаем, что это не годится.
Когда у Джека рушится надежда на какое-нибудь химическое вещество - как ато было со стимулирующим средством БА-14469, от которого, вы помните, больные лезли на стену, - он это честно признает и безжалостно критикует самого себя. Такая же история произошла с аналогом резерпина - гармонилом. Это химическое подобие серпазила, только у гармонила не хватает одной химической группы, состоящей из кислорода, углерода и трех атомов водорода; Джек испробовал гармонил на нескольких буйных больных. Под его успокоительным действием они стали тихими, как мельничная запруда.
- Но после этого, - рассказывает Джек, - оставаясь внешне спокойными, они стали показывать признаки легкомыслия. Они начинали смеяться и никак не могли остановиться - даже в церкви.
Но Джек - оптимист. Он дюжинами испытывает новые средства для многих фармацевтических фирм и первый стремится найти в каждом лекарстве что-нибудь хорошее. Он попросил фирму Апджон прислать ему для испытания антигистаминный препарат ролозот. И он установил, что это лекарство оказывает специфическое действие на спутанность сознания у его старушек. Но тут руководство фирмы Апджон сообщило, что розолот несет с собой опасность агранулоцитоза - серьезной болезни крови.
- Апджон не стала дожидаться, пока я зарегистрирую такой случай у себя, - сказал Джек. - Она сняла препарат с продажи немедленно. Мне очень повезло, что ни одна из моих пациенток не заболела ролозотовой болезнью крови.
Его молчаливая позиция в отношении прославленного успокоительного средства торазина показывает, насколько Джек боится причинить вред своим больным. Тысячи врачей во всем мире применяют торазин. Как успокоитель психических больных, говорят авторитеты, он обладает таким же или еще более сильным действием, чем серпазил. Джек и сам неоднократно применял торазин в Траверз-Сити. Я спросил его, почему он не опубликовал хорошие результаты, полученные от торазина.
- Торазин - хорошее средство, но лишь в условиях больницы, - сказал Джек. - Он тоже вызывает иногда агранулоцитоз, но в больнице можно это быстро определить.
- Но ведь такое осложнение встречается крайне редко, - возразил я.
- Может быть, и так, - согласился Джек. - Но позвольте вам это объяснить: я никогда не рекомендую лекарства, пока окончательно не убедился в его безопасности для больного. Так я всегда поступал в Гэмлете, работая за двадцать три мили от ближайшей больницы.
Такая установка Джека в отношении торазина является «спорной». Некоторые клиницисты высказывают такие же опасения в отношении серпазила. О сравнительных достоинствах и опасностях этих двух мощных успокоителей последнее слово в науке еще не сказано.
Боязнь Джека повредить больному, даже самому безнадежному хронику, кажется мне несколько преувеличенной. Не лишает ли она его смелости в работе. Подумать только, сколько неисчислимых, безвестных мучеников - не ученых, а самих больных - погибло во славу науки на трудных подступах к новым открытиям! Убивал их знаменитый эрлиховский целитель сифилиса - сальварсан; убивал рокфеллеровский институт, освоивший недавно вакцину против желтой лихорадки; погибали они от малярии, которой Вагнер-Яурегг пытался лечить прогрессивный паралич; убивал их Уильям Парк предохранительной дифтерийной вакциной; и немало людей, вероятно, пострадало от сульфамидов и якобы безвредных антибиотиков. Если подумать только о тысячах зарегистрированных (а сколько тысяч их не зарегистрировано) жертв отчаянных исследователей, которые с новыми лекарствами сознательно шли на риск...
Фергюсон вел осторожную борьбу против безумия. Его не покидало воспоминание о блестящем успокоителе - препарате НП-207.
- Как удачно избежал я опасности испробовать его на больных, - сказал Фергюсон.
Когда НП-207 впервые проходил клиническую проверку в Техасе, его действие оказалось поражающим. НП-207 успокаивал многих больных, у которых серпазил, торазин и френкель не дали результатов. Сами больные превозносили НП-207 как приятнейшее лекарство. Оно не несло с собой ни насморков, ни кишечных расстройств, ни крапивницы, и оно их совсем не угнетало. Оно не только успокаивало, но делало их живыми и активными. Оно прекращало всякие галлюцинации. Это было очень мягкое стимулирующее средство. Как будто в нем содержались торазин, серпазил, френкель и риталин, скатанные в одну пилюлю. Казалось, что найден наконец настоящий противобезумный эликсир...
Так это казалось до тех пор, пока больные не стали от него слепнуть. До тех пор, пока восемь из тридцати двух пациентов, получающих препарат НП-207, совершенно не ослепли. Потребовалось много месяцев, чтобы кое-как, очень медленно, восстановить им зрение.
Проявляя сугубую осторожность в своих клинических исследованиях, Джек в то же время свято верит в силу химии, как средства борьбы с безумием. Не за горами время, когда какой-нибудь химик создаст серпазил, не угнетающий человека, торазин, не вызывающий агранулоцитоза, гармонил, не превращающий больных в хихикающих идиотов, НП-207, универсальное лекарство, не ослепляющее больных. Такова вера Джека; она так же глубока, как его вера в нежную, любовную заботу. А новые эксперименты, которые градом сыплются из больниц и лабораторий, укрепляют его уверенность в том, что «психическая болезнь - это нечто большее, чем ненормальное поведение, которое мы стараемся лечить».
Да, психическая болезнь - это нечто большее, чем ненормальное, поведение, и природа этого «большего» чисто химическая. За последние двадцать лет немало душевнобольных в той или другой поликлинике, больнице, психолечебнице было эффективно излечено витаминами, необходимыми для здоровья всех клеток организма, но по какой-то загадочной причине отсутствовавшими в мозгу.
Не далее как в 1937 году доктор Том Д. Спайс со своими ассистентами в Институте питания при Бирмингемской больнице, штат Алабама, ввели громадную дозу никотиновой кислоты витамина В умиравшей пеллагричке, которая была совершенно безумной, и вылечили ее не только от пеллагры, но и от сумасшествия. Это был настоящий библейский Лазарь женского пола, восставший из гроба, и это блестяще подтверждало пророческие слова Билля Лоренца, сказанные в 1912 году, о том, что умственное расстройство пеллагриков, вероятно, химического происхождения.
Да, безумие, очевидно, имеет под собой чисто химическую основу. В Атланте, штат Джорджия, доктор В.М. Сайденстрикер и доктор Г. М. Клэкли большими дозами той же никотиновой кислоты излечили от безумия тридцать девять человек, «почти наверное не пеллагриков».
Даже тяжелое, кажущееся таким стойким затемнение сознания вызванное сильным ушибом головы, должно быть тоже связано с нарушением химизма мозговой ткани. Доктор Г. Леманн из Монреаля лечил большими дозами никотиновой кислоты больного с сотрясением мозга и явными признаками слабоумия, и через месяц этот человек вполне нормальный и здоровый, снова работал на своем месте в качестве бухгалтера.
Джек Фергюсон раздумывал о том, что же именно выяснили Том Спайс со своими помощниками. Они не только показали, что никотиновая кислота полностью излечивает и предупреждает определенный вид безумия; они установили также, что совершенно другой химический препарат, тиамин, излечивает и предупреждает мозговые симптомы бери-бери
- Все, что мы сейчас делаем, - сказал Джек, - это только первый шаг на пути к открытию специальных химических средств, исцеляющих и предупреждающих все виды психических болезней.
Джек Фергюсон задумался над тем, много ли больных, заболевших от недостачи каких-то химических веществ или извращения химического обмена в нейронах мозга, поступает в больницу Траверз-Сити. Том Спайс сообщил ему о случае с мужчиной, у которого глубокое умственное расстройство было полностью излечено впрыскиваниями витамина В12, и о случае с женщиной, у которой тяжелое слабоумие было излечено тиреоидином, экстрактом щитовидной железы. Доктор Спайс опубликовал сообщение о многих больных, которых удалось избавить от психических расстройств без помещения их в психиатрическую больницу.
И Джек, добавляя большие количества поливитаминов в пищу своим бабушкам, которые уже хорошо поправились на серпазиле, риталине и Френкеле, стал замечать у них бурный прилив физического и даже умственного здоровья. Джек наблюдает, выжидает и все больше нагружает их витаминами. То, что оздоровляет тело, прекрасно действует и на мозг.
Да, психическая болезнь - это нечто гораздо большее, чем ненормальное поведение, и это «большее» есть химия. Насколько тонким и неуловимым может быть этот извращенный химизм мозга, показывают удивительные опыты экспериментального безумия, поставленные докторами К. У. Мэрфи, Э. Карлентс, Р. А. Клекгорн и Дональдом О. Геббом в Монреале. Чтобы вызвать помешательство у своих «экспериментальных животных в человеческом образе», добровольно согласившихся на опыт, они не применяли никаких опасных химических препаратов, вроде ЛСД-25 или мескалина. Они не применяли... ничего.
Доктор Гебб и его коллеги установили, что можно вызвать картину химического безумия, не давая людям абсолютно никаких снадобий.
Они укладывали молодых, здоровых парней-добровольцев на кушетки в маленьких каморках с кондиционированным воздухом. Защитные очки на глазах загораживали от них свет. Перчатки и картонные трубы на руках лишали их чувства осязания. Лежа в своих конурах, они, насколько возможно, были лишены также чувства слуха и обоняния. Их выпускали из каморок только для того, чтобы поесть и умыться. Они лежали наедине со своими мыслями в психологическом вакууме. Такой сверхотдых должен был, конечно, здорово на них подействовать.
Он таки подействовал. Он привел их к умственному помешательству. Доктор Джульс Массерман из северо-западного университета дает описание того, что случилось с Геббовскими добровольцами. У них произошло расщепление личности. (Жутко, должно быть, думать что ты уже не ты, а два других человека). У них появились галлюцинации. Некоторые были уже на пороге кататонии, как при подлинной шизофрении.
«Состояние их было крайне неприятным», - подводит итог своим наблюдениям доктор Гебб.
И эти девять безвестных героев смогли выдержать такую психологическую изоляцию от полутора до десяти дней. А затем, выпущенные к неприятностям и заботам внешнего мира они быстро восстановили ясное сознание
Этот эксперимент хитроумных канадских психологов представляется мне важной вехой в психиатрии. Он показывает, что человеческий мозг вырабатывает свои собственные яды, когда его нейроны не подвергаются стимулирующему воздействию раздражении из внешней среды. Показывает, что мы носим в себе потенциальное безумие. Я высказал свои соображения Джеку Фергюсону, к моему разочарованию, это не произвело на него впечатления.
- Какие там яды вырабатывает мозг? - сказал он. - А много ли моих бабушек сошло с ума, живя в таком же психологическом вакууме?
Некоторые из коллег Фергюсона в больнице Траверз-Сити не признавали его метода лечения и не упускали случая посмеяться над его неудачами. Тогда он старался отразить их нападки не словесными доводами, а каким-нибудь простым экспериментом.
Во время врачебного совещания, на котором присутствуют обычно все врачи больницы, в зал заседания был доставлен больной-кататоник. Он три раза уже поступал и выписывался из больницы. Он получал инсулин, получал электрошок - в общем с ним достаточно повозились. Он очень плох. Совершенно не контактен, нем, туп, неподвижен. Даже торазин, этот мощный успокоитель психотиков, не смог его растормозить.
Джек Фергюсон берет слово:
- Этот больной не нуждается в успокоительных средствах. По крайней мере в данный момент. Сейчас он слишком спокоен. Почему бы не попытаться разбудить его ри-талином?
Один из врачей с насмешливой улыбкой говорит, что он не видел большого эффекта от таблеток риталина. Доктор Фергюсон, несомненно, переоценивает действие риталина.
Джентльмены, - сказал Фергюсон тихо и очень деликатным тоном, - не разрешите ли вы мне продемонстрировать здесь, на ваших глазах, что может дать риталин вот такому больному?
Медицинские джентльмены будут рады посмотреть, что им покажет доктор Фергюсон.
Джек обращается к одному из молодых резидентов, доктору Фрэнку Линну. Не соблаговолит ли доктор Линн принести шприц и одну ампулу риталина, десять миллиграммов, для внутривенного вливания.
Не прошло и пяти минут после того, как доктор Линн ввел риталин в вену на руке кататоника, как этот несчастный парень - такой остолбеневший, такой тупой и неподвижный в течение многих месяцев - вдруг пробуждается, испуганно озирается вокруг и вполне разумно отвечает на вопросы. Все присутствующие единогласно признают, что это результат действия риталина. Плохо только, что эта маленькая сценка не была запечатлена в цветном телевидении, чтобы показать, как покраснели лица у некоторых врачей, наблюдавших эту демонстрацию.
Вспоминается 1916 год, старый Билль Лоренц и светлые промежутки, наступившие, как вы помните, у кататоника после впрыскивания ему цианида натрия. Это было сорок лет назад. Как обрадуется старый благородный Билль, когда я расскажу ему о воскрешении кататоника не цианидом, а совершенно безвредным лекарством, которое при ежедневном употреблении в таблетках может растянуть светлый промежуток на весь срок жизни больного.
У Джека выработался определенный практический прием, которым он начинает лечение каждого больного. Прием этот основан на хорошо известном фармакологическом факте: всякое лекарство действует более показательно, более сильно и быстро, если вводить его больному не через рот, а посредством впрыскивания в вену или мышцу. Не Джек, конечно, изобрел этот способ - он применяет его только для того, чтобы ускорить начало лечения и показать врачам сущность действия этих лекарств на поведение больного. Не за несколько недель или месяцев, а за минуты.
- Внутривенное вливание риталина в течение нескольких минут пробуждает застывшего кататоника, лежащего на полу, спящего и храпящего, - говорит Джек.
- Серпазил в вену руки укрощает маньяка, а риталин в вену другой руки делает того же больного активным, но спокойным, - продолжает Джек.
- У какого количества шизофреников вы можете получить этот эффект? - спросил я Джека.
- У девяти из каждого десятка, независимо от длительности и тяжести болезни. А френкель внутривенно тремя дозами за восемь часов прекращает галлюцинации ложные представления у шести из десятка больных. Если эти галлюцинанты проявляют еще сверхактивность, их успокаивает внутривенное вливание серпазила; а если они депрессивны, слабоактивны, их стимулирует риталин.
- Было бы замечательно, если бы вы могли продемонстрировать все это мичиганским практикующим врачам, - сказал я.
- Вы понимаете, все эти клинические факты только показывают, как можно быстро приоткрыть дверь в реальный мир для этих жалких, потерянных человеческих существ, - ответил Джек.
- Но затем вы можете бросить этих разбуженных людей в объятия их домашних врачей. Чтобы те давали им лекарства через рот. Чтобы врачи научились комбинировать успокоительные и возбуждающие средства и определять индивидуальную дозу для каждого больного.
Джек посмотрел на меня сожалеющим взглядом.
- Я сначала попросил бы их отобрать самых худших, самых тяжелых психотиков из любой больницы штата Мичиган. Тогда бы я им показал, - закончил Джек, и его добрые карие глаза засверкали.
Наблюдая Джека на работе, я составил себе о нем такое представление. Он испытывает новые психолекарственные средства, хорошие и плохие. Он предвидит день, когда хорошие и безвредные войдут в арсенал практикующих домашних врачей. Он стоически придерживается главной своей цели - выписывать из больницы как можно больше излеченных больных. Он не теряет голову под огнем профессиональной зависти и непорядочности.
Глава 12
Когда коллега, не изучавший вашу работу с тем, чтобы одобрить или опровергнуть ее, оговаривает вас, - это отвратительно. На конференции больничных врачей Джек зачитывал свой доклад, который собирался представить на заседании Мичиганского клинического института, - тот самый доклад, который позднее был отражен в статье на первой странице детройтской газеты «Фри пресс». Он читал рукопись своим товарищам по больнице как бы для репетиции, чтобы с большей уверенностью выступить на заседании Детройтского клинического института.
Один солидный коллега с кислой миной заявил, что выводы Джека «слишком позитивны». Он, мол, отлично знает, что Джек не может выписать домой 50 процентов своих больных. Откуда он это знает, печально думал про себя Джек.
Никто из коллег не приходил к Джеку поинтересоваться техникой его лечения. Ни один из них никогда не приглашал его прийти посмотреть хроников в их отделении. Когда некоторые из его больных, отпущенных на попечение родных, повторно заболели и снова попали в больницу, врачи приемного отделения не направили их обратно к Джеку; они сами стали лечить их электрошоком. Хотя всем им было известно, что только в этом году 144 больных Джека - находившихся в больнице в среднем пять лет - были теперь дома, под присмотром родных, и вели себя вполне нормально.
Но Джек был спокоен.
- Эти ребята не могут отделаться от пережитков прошлого. Но рано или поздно они, как и я, придут к этому своим путем, - сказал он.
И вот наступил перелом. Его принес с собой один из резидентов, доктор Фрэнк Линн. Доктор Линн подготавливал впрыскивание риталина и сам вливал его в вену кататоника, который, как вы помните, демонстрировался на собрании врачей в Траверз-Сити.
У доктора Линна такое чувство, будто он и сам воскресил этого застывшего, безмолвного человека впрыскиванием риталина. И теперь, получая комбинацию психолекарств через рот, этот человек был уже на пути к выздоровлению. Это было поворотным пунктом для положения Джека в больнице Траверз-Сити. Доктор Фрэнк Линн и доктор Джек Шитс, эта парочка желторотых врачей, предоставили Джеку случай, которого он давно дожидался.
С разрешения больничного начальства они пригласили Джека прийти в отделение для хроников-мужчин.
Не может ли он им продемонстрировать, что новые лекарства так же быстро действуют на хронических, безнадежных, неизлечимых психотиков мужчин, как они показали себя на таких же больных - женщинах?
Джек Фергюсон усмехнулся при мысли о том, на чем хотят поймать его эти молодые врачи. - Тут уж я смогу показать им, как поднять валяющегося на полу шизофреника и заставить его лезть на потолок - внутривенным вливанием риталина, - рассказывал Джек. - А потом покажу, как взять витающего на потолке шизофреника и уложить его на пол внутривенным вливанием серпазила.
Теперь или никогда. Это было именно то, что Джек мечтал продемонстрировать группе ведущих мичиганских врачей-практиков, при условии, что они отберут самых худших психотиков, каких найдут в любой мичиганской больнице, ели я когда-нибудь соберусь бросить такой вызов, думал Джек так устрою сначала генеральную репетицию.
Джек отправился в отделение хроников-мужчин. Здесь мистер Честер Крам, начальник мужского медперсонала. Мистер Крам знает о методе лечения, применяемом в женских отделениях, и горит желанием убедиться в его эффективности. Вот и молодые врачи-резиденты Линн и Шитс с серпазилом и риталином. Все в порядке.
Мужчине-кататонику двадцати одного года доктор Линн делает внутривенное вливание риталина. Никакого действия. Через несколько минут - второе вливание риталина. Затем - третье. В промежутках между этими вливаниями производится вливание риталина другому неизлечимому, безнадежному кататонику семнадцати лет; затем ему же второе и третье вливание. Через несколько минут оба кататоника как бы проснулись. Они сели и стали улыбаться друг другу. Потом один из них оторвал клок ваты от повязки, которая была ему наложена на руку после вливания, и бросил его в другого воскресшего человека. Не переставая улыбаться, двое больных стали перебрасываться мячиком из ваты.
- Стойте, ребята! - закричал молодой доктор Линн. - Я сейчас принесу вам настоящий мяч.
На глазах у мистера Крама, молодых врачей и Джека происходило нечто странное. Они видели перед собой двух безнадежных кататоников живыми, проворными, играющими в мяч, внезапно развеселившимися после долгих лет живой смерти.
Кроме этих кататоников - игроков в мяч, впрыснутое в вену лекарство вывело одного злосчастного больного из состояния глубокой слезливой меланхолии; он попросил разрешения одеться и, забыв о своем прежнем тоскующем «я», надел пижаму и пошел в столовую ужинать. Молодые врачи-резиденты тоже «выиграли мяч» в этом соревновании. Если бы Лоренц мог это видеть, думал Джек.
Они могли бы теперь показать Лоренцу то, о чем он едва смел мечтать. Не больного с прояснившимся на несколько минут сознанием после впрыскивания цианида, или на полчаса после углекислоты, или на восемь часов после амиталового сна, а больных с перспективой полного просветления при помощи новых лекарств, если только их действие усилено любовной заботой.
О чем бы спросил Билль Лоренц, человек, впервые показавший, что под внешней оболочкой безумия скрывается нормальная психика, - о чем бы спросил Лоренц при виде этой маленькой клинической демонстрации? Вероятно, он спросил бы: если у запущенных хроников так легко пробудить сознание и держать его разбуженным при помощи лекарств и любви, то почему же мы не делаем попытки победить безумие до того, как больной попадет в больницу?
Просматривая бюллетень американской психиатрической ассоциации от 4 апреля 1956 года, Джек натолкнулся на статью доктора Поля Г. Гоча, заведующего отделом психического здоровья в штате Нью-Йорк. Доктор Гоч не просто администратор; он деятельный клиницист-экспериментатор в вопросах борьбы с безумием.
Доктор Гоч сильно поднял моральное состояние Джека, так как в своем труде он советовал именно то, что Джек делал совсем один, в провинциальной глуши Траверз-Сити.
С легкой иронией доктор Гоч отмечал как печальный факт слишком высокую цифру повторных психозов, «потому что случаи самоисцелений сильно мешают правильной оценке терапевтических методов».
Джек Фергюсон, принявший сначала это замечание всерьез, подумал о том, что к нему эта критика не относится, что он берет на лечение только запущенных хроников, у которых самоисцелений не бывает.
Доктор Гоч не думает, что все виды психических расстройств можно лечить одним и тем же лекарством, как это уже показано Фергюсоном на практике: сверхактивные больные требуют лечения серпазилом или торазином; слабоактивные нуждаются в риталине; галлюцинирующим следует давать Френкель или доксиламин.
Больше того, доктор Гоч подчеркивает, что одни лекарства еще не решают проблему борьбы с безумием и что взаимосвязь лекарств с психотерапией - это одна из крупнейших задач, стоящих перед психиатрией. Основой фер-гюсоновской психотерапии была его вера в то, что количество любовной заботы, добавленной к лекарствам, определяет надежность выздоровления больных. Позже, на заседании мичиганского общества борьбы за психическое здоровье, доктор Гоч встретился с Джеком. Он рад был узнать, что Джек придерживается того же мнения относительно неполноценности действия одних только лекарств.
- Я прямо поражен, как мы здесь в Нью-Йорке сошлись с вами во мнениях, - сказал заведующий отделом.
Дружеский шлепок по спине - это то, что дает полное удовлетворение честному одинокому волку вроде Джека. Пусть уж награды и премии остаются для ублажения тех, которые в глубине души вынашивают надежду сделаться «важными шишками».
В начале лета 1956 года пришли волнующие новости из Вермонта. Многие клинические исследователи теперь уже убедились в стимулирующем действии риталина на слабоактивных психотиков. Но никто еще не подтвердил открытия Джека, что риталин в комбинации с серпазилом уравновешивает колебания сверхактивного и слабоактивного элементов в поведении ненормальных людей. И вот в «Медицинском вестнике Новой Англии» за июнь 1956 года появилось это подтверждение.
Доктор Джордж У. Брукс из вермонтской больницы сообщил о некоторых интересных наблюдениях при лечении хронических шизофреников. На 386 шизофреничках в течение шестнадцати месяцев вермонтский доктор испытывал действие торазина, или торазина с серпазилом, или одного серпазила в больших дозах.
Эти лекарства принесли успокоение многим больным, но в конечном счете у большинства из них они вызывали глубокую, как выражается доктор Брукс, «экстрапирамидальную дисфункцию». Казалось, что они заболели ужасной паркинсоновой болезнью: их движения стали медленными, лица приобрели маскообразный вид, появилось напряжение мышц и беспрерывное дрожание рук. Общее же поведение больных показывало явное улучшение.
О свирепом бруксовском лечении успокоительными средствами ходили злые шутки. Чего стоит такое психическое здоровье, ради которого надо стать трясущимся паркинсоником?
Но вот этим жалким созданиям, немного поумневшим, но трясущимся, не снимая их с лечения успокоителями, доктор Брукс стал добавлять возбуждающие средства - артан или риталин.
Из 368 шизофреничек 151 была выписана из больницы и вернулась домой. Поразительно, как после этой комбинации успокоителей и возбудителей доктор Брукс получил возможность общаться, как он выражается, «непосредственно с человеческой личностью, перешагнувшей через шизофрению». У многих больных совершенно прекратились галлюцинации и стала развиваться такая сообразительность, какой он до этого у них никогда не видел. «Они говорили о своих странных переживаниях, как нормальные люди рассказывают о своих плохих снах».
Больные в очень живой форме объясняли доктору сущность исчезнувших теперь галлюцинаций.
- Трудно описать состояние сумасшедшего человека, - сказала одна из них, - как будто непрерывно находишься в тяжелом ночном кошмаре.
- Ну теперь все пойдет как по маслу. Его открытие относительно комбинированного действия серпазила с риталином подтверждено в Вермонте. И это открытие сделано там совершенно самостоятельно. Раз доктор Брукс не поминает Джека, значит, он ничего не знал о его экспериментах.
Лечение хроников-мужчин шло так же блестяще, как и женщин. Не за горами, когда ему дадут возможность начать лечение более ранних форм безумия в приемном отделении. Тогда цифра населенности больницы быстро покатится вниз! Девяносто процентов больных в приемном отделении еще имеют родных, к которым они могут уйти. Не подлежит сомнению, думал Джек, что начальство в отделе психического здоровья, в Лансинге, будет гордиться его работой и поспешит прийти ему на помощь.
Я не видел большего оптимиста, чем Джек Фергюсон.
Но почему бы отделу психического здоровья, в ведении которого находится больница, и не дать ему некоторого поощрения?
За два года работы Фергюсона в отделении хроников-женщин число больных, которым разрешено уходить на ночь домой, увеличилось вдвое. Число больных, выписанных на попечение родных и оставшихся жить дома, дошло до 600 процентов. Число безродных, отданных в чужие семьи на патронаж и оставшихся там, увеличилось до 220 процентов за два года работы Джека в Траверз-Сити.
Какого человека, наслаждающегося радостью жизни на земле, не взволнует освобождение столь многих больных от ужасных душевных мук? Какой чиновник из отдела психического здоровья может усомниться в желательности продолжать эту практику?
Но забудем о радостях человеческой жизни и обратимся к проблеме долларов и центов. Каждый чиновник в отделе психического здоровья знает, что государственная забота о психических больных ложится тяжелым финансовым бременем на налогоплательщиков. Но вот доктор Фергюсон со своими коллегами постоянным увеличением числа излеченных и отправленных домой пациентов, громадным уменьшением расходов на пополнение одежды, испорченной больными, сэкономили штату более пятисот тысяч долларов за два года, и все это благодаря новым лекарствам, бесплатно присылаемым Фергюсону фармацевтическими фирмами.
- Что говорят об этом в Лансинге?- спросил я.
- Ничего не говорят. От них ни привета, ни ответа, - сказал Джек.
Начиная с 1954 года поразительно выросло число выписанных больных, и главную долю в этом составляли больные из отделения Джека.
- Посмотрите, каких успехов вы добились, - сказал я, - а ведь вы, в сущности, работаете на гроши. Что значит ваш персонал по сравнению с персоналом Топека (знаменитый институт, считающийся лучшей государственной больницей в стране).
При упоминании о больнице Топека румяное лицо Джека засияло и улыбка сделалась шире. Сравнение прославленного института с захудалой больницей Траверз-Сити настолько взволновало его, что он почувствовал потребность излить душу:
-- Вы спрашиваете, что значит мой персонал по сравнению с персоналом Топека? А вот что. В Топеке 1400 больных, в моем отделении 1000 больных. Топека имеет сорок три врача. Я имею только самого себя. Топека имеет двенадцать патронажных работников для наблюдения за выписанными больными. Я имею всего четверть единицы патронажного работника. В Топеке работают шесть психологов. У меня - ни одного. Топека имеет 362 человека среднего персонала по сравнению с моими 107 надзирательницами. Бюджет Топека предусматривает больше шести долларов в день на человека; мой бюджет - меньше двух долларов.
-- Но какая великолепная статистика у Топека, - сказал я, - братья Меннингер приучили своих канзасцев забирать родственников домой. На каждую сотню поступающих больных ежегодно уходят домой восемьдесят два человека!
Тут глубоко затаенная гордость Джека Фергюсона вырвалась наружу.
- На каждую сотню больных, поступивших в этом году в больницу Траверз-Сити, сто один человек был выписан домой, - сказал Джек. - И учтите, что цифры Топека только первичных больных, а наши цифры выводятся из всего контингента поступающих больных, включая несчастных «кошек и собак», присылаемых сюда из других учреждений, с отдаленных ферм и из частных санаториев, включая алкоголиков и престарелых, которых Топека вообще не принимает.
И Джек закончил с гордостью:
- Больница Траверз-Сити принимает всех психически больных.
Я не знаю, было ли обращено внимание должностных лиц отдела психического здоровья штата Мичиган на достижения Джека, который с ничтожными средствами делает так много для тяжелых хроников. Если бы должностные лица знали об этом, они не запросили бы доктора Никельса, главного врача больницы Траверз-Сити, нужна ли ему небольшая финансовая поддержка.
- Хорошо, конечно, что ваша кривая отпущенных больных так быстро идет вверх, - сказал я. - Но не возвращаются ли многие из них обратно?
- Можете быть уверены, что возвращаются, - сказал Джек, не моргнув глазом. - Но число оставшихся дома в этом 1956 году втрое больше, чем в 1953 году, когда мы еще не приступили к новому методу лечения.
Джек сообщил мне, что 61 процент всех выписанных, в прошлом тяжелых хроников, показывают стойкое выздоровление. Затем он огорошил меня таким сообщением: - Мы знаем, почему девять из десяти повторно заболевших опять сходят с ума... Потому, что нет никакого наблюдения за тем, чтобы 'они дома принимали свои лекарства, и никто не регулирует дозы лекарств. Они заболевают вторично из-за плохих условий, в которые попадают многие больные, отданные на патронаж в чужие семьи. Штат не дает этим семьям достаточно средств, чтобы стоило проявлять особое внимание к своим подопечным гостям. Не хватает часто любовной заботы и со стороны родственников, перенесенное сумасшествие накладывает неизгладимое клеймо на человека, и окружающие не очень-то верят, что он действительно выздоровел.
Как тут не пожалеть Джека Фергюсона? Не успеет преодолеть одно препятствие, как тут же сталкивается с другим. Он напоминает персонаж древнегреческой мифологии, Сизифа, который был обречен на всю жизнь вкатывать на холм огромный камень, но едва достигнув вершины, камень тотчас же скатывался вниз. Однако Джек никогда и не слышал об этом незадачливом человеке.
- Когда они возвращаются к нам с рецидивом сумасшествия, - объяснял Джек восторженным тоном, - мы живо можем вернуть их обратно. Пользуясь внутривенным вливанием лекарств, мы через два дня можем выпустить их на огородные работы, а через неделю отправить домой или в чужую семью на патронаж. Вы бы только посмотрели, как этот мутный или испуганный взгляд дикого животного снова становится Ясным, честным и открытым.
С некоторой точки зрения, может быть, и не так печально вернуться обратно в сумасшедший дом, если только попасть в отделение доктора Фергюсона. Такой точки зрения придерживается, между прочим, доктор Раймонд К. Пэгги, научный руководитель фирмы Уилльям С. Мэррэл. Именно эта фирма впервые прислала Джеку на испытание препарат Френкель. Доктор Пэгги внимательно проверил работу Джека в Траверз-Сити, и вот отрывок из письма, которое он мне прислал:
«Я думаю, что большинство из нас - людей, интересующихся новыми методами лечения психических болезней, - более или менее знакомо с выдающимися достижениями доктора Фергюсона. Но одна вещь, которой я раньше недоучитывал, не имеет прямого касательства к лекарственному лечению.
Я говорю о том воодушевлении, которое изливается непосредственно от доктора Фергюсона на его больных и на весь персонал. Это воодушевление комбинируется со всей обстановкой больницы - прекрасными роялями, попугаями, светлыми чехлами на стульях, красивыми драпировками. Это самый приятный и веселый сумасшедший дом, какой я когда-либо видел», - пишет доктор Пэгги.
И когда Джек внутривенным вливанием возвращает повторных больных к реальной действительности, когда это состояние потом поддерживается искусным применением лекарств через рот и к этому присоединяется еще любовная забота надзирательниц, несчастные вновь выходят на гладкий путь жизни и быстро покидают больницу.
Один побочный вопрос. Действительно ли Джек делает доброе дело, отсылая больных обратно в широкий мир? Не предпочли бы некоторые из них красивую, веселую больницу атмосфере тех домов, в которых им приходится жиь? На этот вопрос пусть ответят те, кто берет на себя заботу о выздоровевших больных.
По каким-то загадочным причинам подлинно революционная система Джека, принесшая выздоровление такому громадному числу неизлечимых хроников, получила лишь одну ясную оценку в отделе психического здоровья, в Лансинге штат Мичиган. Работа Фергюсона там признана «дискуссионной».
Работник отдела психического здоровья был командирован из Лансинга в больницу Траверз-Сити, чтобы собрать цифровой материал о выписанных в этом году из больницы, а затем появилось печатное сообщение отдела психического здоровья об успешной работе «мичиганских больниц» без упоминания о Траверз-Сити. Ни один ответственный работник отдела психического здоровья никогда не приезжал познакомиться с работой Джека. Комиссия отдела психического здоровья каждое лето собирается на три дня в районе Траверз-Сити, чтобы на целительном воздухе под мягкими бризами с канала обсудить свои вопросы. Ни один член комиссии не вздумал прогуляться в отделение Джека. Никто ни о чем его не спросил.
Джек обратился в Лансинг с горячей просьбой дать ему канцелярского работника, чтобы привести в порядок скопившийся статистический материал об излеченных и выписанных больных. Он умолял дать ему небольшую сумму денег на патронажного работника, который следил бы за судьбой больных, отпущенных домой или отданных на попечение других семей. На эту просьбу он ответа не получил. Этот бездушный бюрократизм возмутил меня до глубины души. А Джек только улыбался.
Лансинговские работники отлично знают, как много ольных мы выписываем из больницы, - сказал Джек, - и отделили район Флинта от Понтиакской больницы и всех больных Флинта посылают теперь к нам. Это в некотором роде признание наших успехов.
Джек чрезвычайно снисходителен в оценке мотивов поведения других людей, и это показывает, насколько он одолел своего старого врага - паранойю.
- Знаете, в чем причина такого, как вы говорите, пренебрежения Лансинга к нашей работе? - продолжал Джек. - Лансингу нужно значительно усилить кадры своих научных работников. Очевидно, это и есть главное основание для крупных ассигнований Мичиганскому университету и новой Лафайеттовской клинике в Детройте. А что такое Траверз-Сити? Захолустная больница, не больше.
Скромность Джека выводит меня из себя. Приняв во внимание, что он и его коллеги в Траверз-Сити сэкономили для штата Мичиган только в этом году больше 400 тысяч долларов, что они избавили так много мичиганских жителей от тягчайших душевных мук, какое разумное основание имеется у чиновников Лансинга отказать больнице Траверз-Сити в ничтожной денежной поддержке для лучшего наблюдения за сотнями отпущенных больных и усиления домашнего патронажа больных, уже излеченных и подготовленных к выписке?
Какое основание? У Джека есть иронический ответ на этот вопрос:
- Возможно, что они тоже ставят большой эксперимент. С каким результатом для мичиганских безумцев университет и Лафайеттовская клиника используют свои крупные ассигнования по сравнению с тем, что делаем здесь мы совсем без денег?
Но есть у Джека и серьезный ответ на вопрос:
- Посмотрите на дело с точки зрения лансинговских работников. Если они отпустят деньги нам, они обидят этим другие больницы штата.
Возмутительная кротость!
- Но разве какая-нибудь другая больница штата выписывает неизлечимых хроников в таком же количестве, как вы? - спросил я.
- Нет, насколько я знаю, - ответил Джек. - Но право же, не судите слишком строго лансинговских работников.
- Имейте в виду, Джек, что они распустили уже в важных политических кругах слухи о вашей «дискуссионности», - сказал я. - Вы знаете, какая участь обычно постигает людей, обвиненных в дискуссионности?
Джек не ответил на этот зловещий вопрос.
-Ну что ж, они не мешают нам и не помогают нам. Разве это не замечательно? Я похож на того парня, который боролся с медведем, - сказал Джек с веселым смехом, -Парень молился: господи, не прошу у тебя никакой помощи только, пожалуйста, господи, не помогай медведю.
Нет пожалуй, я ошибся. Джек вовсе не кроткий человек. Он работает с уверенностью, настойчивостью и трезвой головой. Никакие силы на земле или под землей не может остановить Джека Фергюсона. У него нет чувства вражды ни к одному человеку. Он не понимает, что значит ненавидеть человеческое существо. Он ненавидит безумие. Он воюет только с фактами. Всякая неудача подстегивает его и толкает к новым исследованиям. В чем сейчас его задача? Задержать как можно больше своих бывших пациентов дома или на патронаже, вернуть их к работе, вернуть к полному выздоровлению.
Без всякой квалифицированной статистической помощи, каждый день и каждую ночь Джек пробивается сквозь растущую кору историй болезни. Что он там выискивает? Он отбирает карточки больных, которым пришлось вернуться в больницу после первичного выздоровления. В глазах его туман, руки сводит судорогой.
- Кажется, я никогда не кончу эту окаянную работу. Неужели они не могут хоть немного мне помочь? Я просто выбиваюсь из сил, - говорит он мне по телефону.
Через два дня он снова звонит, и голос его звучит уже выше его обычного низкого регистра. Он закончил наконец свою работу. Он переписал всех до одного злосчастных «рецидивистов», отметил их имена, номера карточек и те обстоятельства, которые привели их обратно в сумасшедший дом.
- Теперь дело пойдет, - говорит Джек. - Если они уж однажды поправились от новых лекарств плюс нлз (нежная, любовная забота), то мы не сомневаемся в их вторичном выздоровлении. Мы рассматриваем их как потенциально излечимых. - И в голосе его чувствуется эта вера.
Я попытался было умерить энтузиазм Джека. Это потребует, вероятно, адского труда - снова их вылечить. Джек громко рассмеялся.
- Теперь уж мы научились. Теперь мы быстро налаживаем их поведение внутривенным вливанием лекарств. Затем дня два уравновешиваем их психическое состояние лекарствами через рот и закрепляем их действие нежной любовью и заботой.
Джек Фергюсон - это танк, а не человек.
- А кто будет заниматься этим закреплением, когда они выйдут из больницы? - спросил я.
- Домашние врачи, частные практиканты, общественные работники, - сказал Джек.
Вот уже много месяцев наблюдает он больных, возвращающихся в больницу из-за неправильного пользования лекарствами. Давно уже льется к нему поток писем от родственников, которые рассказывают о состоянии выписанных больных и спрашивают, нужно ли продолжать лечение. Как всякий хороший врач, Джек не любит отвечать на такие вопросы, не посмотрев больного. Но он положительно приходит в ярость оттого, что часть его предписаний идет насмарку из-за отсутствия медицинского наблюдения.
Джек понимает, что связь больницы с домашними врачами - это главное. С каждым выписанным больным идет сопроводительная карта о назначенном ему лечении и указаниями домашнему врачу, как это лечение проводить.
- Если эта система наладится, мы основательно снизим число повторных больных, - говорит Джек. - Девять из десяти, дающих рецидивы, скисают в домашней обстановке из-за отсутствия надлежащего медицинского наблюдения.
Джек уверен, что каждый компетентный врач поймет смысл такого наблюдения. Недостаточно дать больному и его родным пузырек лекарства и уйти, как это часто теперь делается при лечении инфекций антибиотиками. Психотерапевтические средства - это лекарства другого типа. Они не лечат психическую болезнь, ведь инсулин, например, не лечебное средство против диабета.
- Возьмите диабетика, - сказал Джек. - Если он переел, доктор может повысить ему дозу инсулина. Если он недоел, доктор сокращает дозу инсулина. Это такая же качающаяся доска, как при душевных болезнях. Ни один хороший доктор не назначит больному уколы инсулина, не поинтересовавшись его диетой, - продолжает Джек. - То же самое при ненормальном поведении. Хороший доктор не станет накачивать больного новыми лекарствами, не убедившись в том, что больной получает дома надлежащую диету нежной, любовной заботы.
Джек говорит, что большинство врачей поймут это сравнение психической болезни с диабетом.
- Когда психически больной выходит из равновесия и переживает временную депрессию, - объясняет Джек, - то небольшая добавка успокоительного или стимулирующего средства поможет ему выдержать свою внутреннюю бурю.
Затем Джек открывает домашним врачам простой секрет, как держать под контролем состояние выздоровевшего больного. Доктор может объяснить сущность нового лечения самим больным и их домашним.
- Это большое достоинство домашних врачей, что они проявляют интерес к своим больным, как к людям, - говорит Джек. - Они охотно будут работать с пациентами и их семьями, обучая их пользоваться новыми лекарствами, чтобы качающаяся доска поведения всегда была в равновесии.
Перед Джеком ясная перспектива надежды, выросшая из той прозорливости, которую дал ему пережитый собственный опыт безумия.
Для врачей гораздо легче наблюдать выздоровевших психически больных, чем держать под контролем тяжелых сердечных больных с помощью наперстянки или поддерживать ровное состояние у диабетиков инсулином. Почему? Потому, что у сердечников или диабетиков разрушительный процесс может зайти очень далеко, прежде чем сами больные это почувствуют...
Малейшие признаки возврата психической болезни больной сразу чувствует е голове.
Как бы предвидя мой вопрос, Джек улыбнулся и сказал:
- Вы удивляетесь, почему мичиганские врачи уже сейчас не обслуживают выздоровевших психически больных? - он обезоружил меня своим ответом:
На данной стадии нельзя обвинять домашнего Рача, что он этим не занимается. Все это так ново. Но образец - вот он вам налицо. Ведь это как раз то, что они сделали в своей домашней заботе о больном, выписанном из Больницы ветеранов в Индианополисе...
«Я всячески старалась не брыкаться во время шокового лечения, - писала Елена Менцель. - После того как я начала принимать новые лекарства, последние два сеанса электрошока показались мне особенно ужасными».
Елена Менцель была выписана из больницы Траверз-Сити полтора года назад.
«Я кое-как еще сдерживалась на предпоследнем сеансе, но на последнем не выдержала и дико орала», - писала Елена.
Вскоре после того как шоковое лечение было заменено серпазилом, потом риталином, потом комбинацией серпазила с риталином, Елена вышла из своего дикого и страшного мира кошмаров и вернулась к реальной действительности. Потом она была отпущена на попечение своей сестры миссис Доротеи Шеффер, одной из надзирательниц Фергюсона - одной из его 107 «докторов».
«Дома я принимала сначала целую пилюлю, потом половинку, потом четвертинку, затем опять вернулась к половинке, тут мы с сестрой немного поспорили, - писала Елена. - Я чувствовала себя спокойнее на половинке».
Елена объясняет, почему пришлось немного повысить дозу во время рождественских праздников в 1955 году, - сказала Доротея Шеффер. - Предпраздничные хлопоты... подсчеты, сколько потратить на всяких родственников, немного расшатали нам нервы.
Доротея Шеффер рассказывает, что вскоре после возвращения из больницы Елена стала носить с собой маленькую коробочку с пилюлями.
- Когда Елена чувствует в этом потребность, она приходит и говорит мне, что увеличивает дозу серпазила или, наоборот, уменьшает ее.
Елена Менцель стала собственным врачом-психиатром на первой линии.
В записке, написанной для меня в очень разумной форме и прекрасным почерком, она выказывает большую сообразительность.
«Если я забыла принять свою пилюльку, - пишет Елена, - я чувствую как становлюсь болтливой, суматошной, и, как только я это почувствовала, тотчас же принимаю забытую пилюлю! »
Доротея говорит, что теперь она уж не беспокоится насчет лекарств для Елены. Елена очень осторожна с ними.
«Если я забыла принять пилюлю и пошла куда-нибудь, - пишет Елена, - у меня начинается внутреннее волнение и мне трудно оставаться на людях».
Доротея рассказывает, что первое время после возвращения из больницы Елена была несколько расслабленной ленивой. Но потом она словно проснулась и поняла, что не зарабатывает себе на содержание. Доротея пришла домой и увидела, что Елена возится, как крот, выскребая и наващивая полы.
- Видишь, как хорошо стало? - спросила Елена.
Она даже выключила холодильник и вычистила плиту:
«Каждый вечер я откладываю дозу лекарств на следующий день, - пишет Елена. - Я всегда говорю Доротее, когда чувствую, что надо увеличить дозу серпа... А также когда сокращаю дозу».
Доротея вспоминает, как летом 1955 года Елена сама пошла и нанялась на прежнюю работу - обирать вишню.
- Трудно было поверить, что человек может так перемениться, - такая она была веселая и чистенькая.
К сожалению, работа была сезонная.
«Я начала бегать по разным учреждениям в поисках постоянной работы, - пишет Елена. (Она отклонила предложение Доротеи обратиться к общественному работнику больницы с просьбой подыскать ей работу.) - И наконец в начале прошлого лета я устроилась на постоянную работу в прачечную».
- Елена очень гордится, что научилась сама себе делать перманент, - рассказывает Доротея. - Она прекрасно ухаживает за курами и лошадьми в нашей усадьбе. Она копит деньги, чтобы завести кроликов. Она очень любит животных.
- Когда же я получу справку о своем выздоровлении? - Елена неотступно пристает с этим вопросом к Доротее.
- Пока еще рано, Елена. Ты еще не совсем уравновешенна.
Елена очень тщательно подсчитывает расходы на свои нужды и на желательные покупки и копит для этого деньги; она добросовестно расплачивается с долгами и отдает свою долю для оплаты счетов, которые они получают.
- Елена любит иногда принарядиться и подкраситься, - говорит Доротея, - но каждому ведь надо погулять и отдохнуть в свободный день. Иногда Елена начинает уж слишком допекать меня, тогда мы немного ругаемся.
...Меня не покидало чувство, что Доротея в краткой форме описывает жизнь обыкновенной семьи...
Когда Доротея замечает в Елене что-нибудь не совсем ладное, она советуется с доктором Фергюсоном. Он говорит, что не мешает иногда попугать Елену перспективой возвращения в больницу, - если есть, конечно, к тому основания.
Этого Елена, гордая н счастливая своей работой в прачечной, весело управляющая собственными лошадьми на ферме, - этого она как огня боится.
Доротея говорит, что ей пришлось всего раза два в очень мягкой форме припугнуть Елену отправкой в больницу.
Елена, которая не знает, что я сам ежедневно глотаю небольшую дозу серпазила с риталином, в своей записке непроизвольно дает мне маленький медицинский совет. «Не слишком часто забывать о приеме лекарства», - пишет она самой себе
Да, да, я не забуду об этом, милая Елена, не беспокойся!
Доротея Шеффер, заканчивая свою памятную записку о том, как ее сестра вышла из мрака многолетнего ночного кошмара к яркому полдню реального мира, задает вопрос:
«Действительно ли это нежная, любовная забота, а не простое подстегивание заставляет Елену выполнять своя повседневные обязанности?»
Из всего этого, Доротея, должны сделать вывод все мы, все семьи выздоровевших душевнобольных, все домашние врачи - это притча, рассказывающая о том, как одна погибшая женщина воскресла для жизни с самой собой и другими людьми, как она стала сама зарабатывать себе на жизнь и обрела человеческое достоинство...
...Благодаря вам, Доротея, и новым лекарствам.
- Когда я занимался частной практикой в Гэмлете, - вспоминает Джек, - самым печальным делом для меня подписывать документы об отправке больного в больницу.
Это было всего шесть лет назад. А теперь Джек успешно лечит больных, у которых болезнь развивалась и углублялась значительно дольше, чем у любого психотика, попадающего на прием к частнопрактикующему врачу.
- Почему душевные болезни производят на нас какое-то особо тяжелое впечатление? - спросил я Джека Фергюсона.
Джек ответил грустной улыбкой на мои глупый вопрос.
- Когда Майнот спасал своих больных от злокачественного малокровия, когда Бантинг вытаскивал молодых диабетиков из когтей губительной комы, когда Лео Леви воскрешал больных с инфекционным эндокардитом, - сказал Джек и остановился, нахмурившись... - Все эти больные были обречены только на смерть, если бы их не спасли эти великие исследователи. Но с хроническими безнадежными психотиками дело обстоит гораздо печальнее. Им приходится жить годами в мире ужасных кошмаров, ожидая смерти и мечтая о смерти.
Эти мысли привели Джека Фергюсона к поворотному пункту в его жизни. Если домашние врачи могут добиться устойчивого поведения у вернувшихся из больницы психотиков, то почему бы не лечить дома ранние формы психозов, пока их еще не нужно отправлять в больницу? Ответ на этот вопрос либо оправдывает, либо сводит на нет всю работу Джека. Он твердит об этом и дома, и в разговорах со специалистами, и на собраниях психиатров, и в деревенском захолустье, и в медицинских обществах больших городов. Он приводит им собственные данные по больнице Траверз-Сити: триста пациентов, отпущенных домой, выздоровели основательно; более пятисот поправившихся больных ждут отправки домой или на домашний патронаж, - но, увы, им некуда идти.
Мы никогда не искореним хронические случаи безумия, пока не научимся их предупреждать, - говорит Джек врачам. - А на кого единственная надежда, кто положит начало этой профилактике? Только домашние врачи. Домашний врач - это отец психиатрии, - говорит Ажек Фергюсон. -Это человек, который видит начало психической болезни. Незаметно для себя он ежедневно примеяет психиатрические методы лечения у доброй половины их больных. Да и сама публика хочет, я уверен в этом, чтобы опытные частные врачи занялись умственными и эмоциональными проблемами в жизни семьи.
- А как вы думаете, почему люди хотят, чтобы этим занялись домашние врачи? Они предпочитают лечиться у домашних врачей, - говорит Джек с не очень веселой улыбкой, -потому что слово «психиатр» наводит на грустные мысли о больничных койках, о годах свиданий с близкими по часу в день, о больших счетах от докторов... и о выставлении себя на посмешище.
Джек одержим светлой мечтой. Но это не фантастическая мечта. Она вполне осуществима. В распоряжении домашнего врача имеются все новые психохимические лекарства. Эти лекарства недороги. Джек и его сестры-надзирательницы, поддерживая постоянную связь с домашними врачами, могли бы легко объяснить опытным врачам способ употребления новых лекарств и значение любовной заботы для успешного лечения. И когда частнопрактикующие врачи увидят больных, которые считались абсолютно неизлечимыми, - когда они увидят, что эти безнадежные больные снова заняли свои места в жизни общества, - они сами начнут применять эти лекарства, чтобы не отправлять в больницу других больных.
Осуществление этой мечты решает коренной для Джека вопрос: оправдается или потеряет смысл вся его работа?
- Единственный путь к разгрузке психиатрических больниц - это удерживать душевнобольных от поступления или возвращения к нам, - говорит Джек Фергюсон.
- Можем ли мы сами у себя поддерживать нормальное поведение, не обращаясь к врачу, а покупая эти чудесные пилюли счастья в аптечной лавке?
Это как раз то, что я попробовал сделать два года назад.
- Что же с вами было, когда вы пытались это сделать без совета врача?
- Я. устроил себе две тяжелые депрессии, - сказал я.
- Точно, - сказал Джек. - Зачем же вы задаете такой глупый вопрос? Врачи обязаны предостеречь пациентов против самолечения пилюлями.
Кто, как не доктор, может судить о том, эффективны или не эффективны данные лекарства против сверх- или слабоактивного поведения? Против галлюцинаций, или паранойи или меланхолии? Или вы хотите, чтобы звезды Голливуда – те, что так назойливо рекламируют эти пилюли счастья - хотите, чтобы они их вам выписывали?
Напуганный его предостережениями, я попросил Джека объяснить, как он понимает роль психиатра в этом деле.
- Я не считаю психиатром человека, который знает только ученые слова и бесцеремонно распоряжается судьбой других людей, - говорит Джек. - Психиатр - это человек, который понимает границы своих возможностей. Это человек умеющий смягчать свое суждение о плохом поступке из чувства жалости. Какой подход успокаивает больного и заглушает его страх. Я хотел бы стать таким психиатром.
Джек признает границы своих возможностей.
- У меня нет такого чувства, что мы владеем всеми средствами против безумия, собранными в один пакет, - говорит Джек. - Но в то же время я чувствую, что все доступные терапевтические мероприятия должны быть пущены в ход. Нельзя подходить с одинаковой меркой ко всем больным. Психическая болезнь - это как боль. Некоторые боли можно успокоить таблетками. Другие – предписанием отдыха для больного. Некоторые - словесным воздействием. Другие - удалением источника боли. То же самое с психической болезнью - это боль душевная.
Джек восхищается новыми лекарствами, но в то же время побаивается их.
- Лекарства могут заставить нас забыть, что пациенты- живые люди. Тот факт, что они выводят людей из мрака, может внушить мысль, что больной - это только химический комплекс.
Джек характеризует психиатра, каким он не хотел бы быть. Такой доктор сидит часами и формулирует диагноз, чтобы подогнать и надеть его на больного, как надевается Руль на велосипед. Его метод лечения - хорошая встряска электричеством, добрая доза инсулина, порция тирозина или серпазила, а все остальное, что есть в больном человеке, для него - закрытая книга. Джек не хотел бы быть доктором белоручкой. Для доктора, который боится испачкать руки, больной - это разновидность животного, в которое превратила его болезнь. Такого сорта доктор злоупотребляет тем, что он может рассуждать и делать выводы, а больной не может. Джек любит грязнить свои руки, так же как сестры-надзирательницы.
- Сестры - лучшие доктора, чем я, - говорит он - Иногда я отчаянно утомляюсь, - признается Джек. - Теперь, когда судьба наградила меня тем, что вы называете «мокси», я мог бы уйти и заняться большой и доходной частной практикой. Но я хорошо знаю, что бросить свою работу здесь было бы для меня гибелью, не говоря уже о том, что станется с моими больными и сестрами-надзирательницами.
У Джека нет стремления сделаться начальником, важным администратором психиатрической больницы, хотя он и одержим мечтою закрыть все сумасшедшие дома и превратить их в общественные лечебные центры для людей с ненормальным поведением.
- Я уверен, что это можно сделать. Меня убеждает в этом вера моих больных и сестер в ценность моей работы. Иногда мне кажется, что я смог бы это сделать.
Какая судьба ждет Джека Фергюсона? Возможно, что его тонкие приемы борьбы с безумием будут присвоены в замаскированном виде честолюбивыми профессорами. А может случиться, что его скромные открытия будут погребены в лавине новых средств, извергаемой химическими лабораториями. Его имя может раствориться и исчезнуть в шумном потоке психофармакологической науки из университетских медицинских школ.
Но я верю, что какой-нибудь честный борец с безумием раскопает немудреную науку Джека, похороненную из-за ее простоты.
Но что случится с Джеком Фергюсоном в ближайшем будущем?
Что, если Джек со своими методами станет нагромождать все большую и большую кучу человеческих существ, излеченных в больнице Траверз-Сити? Не грозит ли их существование стать уже теперь общественным скандалом?
Итак, мы покидаем доктора Джека Т. Фергюсона за его лабораторным прилавком - в палатах, коттеджах и холлах больницы Траверз-Сити. Мы оставляем его в заботах о своей большой семье, о хронически больных женщинах, стоящих на пути выздоровления. И его семья все увеличивается, потому что ему теперь позволено участвовать также в лечении сумасшедших мужчин. Помните тех двух безнадежных кататоников, которые после впрыскивания риталина пятнадцать минут играли в мяч и разговаривали, как нормальные люди? Мы оставляем Джека растущим. Растущим для того, чтобы стать еще более тонким экспериментатором, чтобы найти еще более безвредные и сильные лекарства.
Пора уж нам окончательно проститься с Джеком Фергюсоном, что мы и делаем, оставляя его сидящим на полу в палате № 1 I. рядом с несчастной женщиной, глухой к окружающему миру и тихо дремлющей. Он ее обнял и горячо что-то нашептывает, будто она в состоянии понять, что он говорит:
- Мне тоже пришлось выбираться из палаты вроде этой. Четыре раза я туда возвращался, пока не вышел окончательно. А возвращаться мне пришлось потому, что я не слушал докторов. Ну, пожалуйста, милая моя, откройте рот, проглотите это лекарство, которое дает вам сестра. Я до сих пор еще принимаю это лекарство. Вы знаете, что это такое, Джин?
...Джек всех своих больных называет по именам и помнит их...
- Вы знаете, что это за лекарство, Джин? Оно поможет вам вернуться домой так же, как я вернулся.
Джек обрабатывает таким способом каждую из своих больных независимо от того, насколько она маниакально возбуждена, или негативна, или замкнута; он действует так, словно она слышит и запоминает то, что он ей говорит. И впоследствии, когда лекарство возвращает их к действительности, больные показывают, что хорошо это запомнили. Они говорят:
- Доктор, вас никогда не запирали в такое местечко, как это?
- Да, пять раз я был в таком месте и даже похуже, - отвечает Джек.
Может быть, его выздоравливающие леди и понимают, зачем он их обнимает.
Одно похлопывание по спине обеспечивает прием шести пилюль, - говорит Джек. - Я ведь вижу в них только мучениц. Только жалких, больных людей, а не животных или лабораторную посуду.
В палатах больные толпятся вокруг Джека, и для каждой из них у него находится теплое словцо.
- Подожди чуточку, Элин, - отвечает он, - я с тобой поговорю - дай мне кончить с Джейн.
После того как он выслушал все их жалобы и рассказа им о своем бурном прошлом, они присоединяются к трогательной процессии, следующей за своим веселым, шутливым, меднолицым и кареглазым доктором. А у него полный карман новеньких блестящих даймов, и каждая получает свой дайм, каждая слышит ободряющее слово.
- Вы знаете, зачем я сидел на полу с этой оцепенелой дремлющей женщиной? - сказал Джек. - Я старался уловить первое слово, которое могло у нее неожиданно вырваться, когда я рассказывал о своем бывшем сумасшествия. Завтра или через неделю лекарства заставят ее заговорив со мной. У всех у них есть свой язык, который надо только понять. Это большое дело и большой секрет, как помочь душевнобольному человеку. Не так уж трудно понять даже самый сумасшедший разговор. Нужно только внимательно к нему прислушаться... Многих людей называют странными и даже слабоумными только потому, что не по нимают их языка, - произнес Джек. - В человеческой истории полным-полно таких людей, начиная с Иисуса до Билля Митчела.
Джек снова мысленно обращается к своему прошлому, к своим печальным дням в запертой палате Больницы ветеранов. Кто-то в эти темные дни понял его язык и помог ему.
- Так я смотрю на своих больных, - сказал Джек. - Я присматриваюсь к ним и думаю, что, если бы здесь передо мной стояла очень важная персона, способная мне помочь, я не пожалел бы потратить время на изучение его языка.
Но эта больная, эта бедная женщина ничем ведь не может мне помочь. Чего бы я у нее попросил, если бы мы с ней обменялись ролями?
И Джек не жалеет времени на изучение языка своих больных, возвращающихся в мир действительности, и какие мучительные часы проводит он, делая обход палат! Так что тайна наконец открыта. Снимем шапки перед химиками, создавшими удивительные психохимические лекарства! И люди из фармацевтических и химических фирм, сделавшие эти лекарства общедоступными, тоже должны получить наш тайна успехов Джека Фергюсона - это его персональная роль в медицине.
Мы послали рукопись этой книги доктору Уильяму Ф. Лоренцу - исследователю, который впервые сумел химическим путем получить светлые промежутки у хронических, безнадежных психотиков, - вы это помните. Когда он протелеграфировал, что книга прочитана и нравится ему, мы с Рией проделали семисотмильное путешествие среди волшебного очарования бабьего лета с его ярко-желтыми тополями и золотыми тамарисками, чтобы побеседовать с Лоренцом, поблагодарить его за воодушевляющий отзыв и получить его благословение.
Два часа, проведенные у Лоренца, навсегда останутся незабываемыми. Старый Билль с холодными серыми глазами и обветренным, худощавым лицом, изборожденным глубокими морщинами, еще больше был похож на генерала танковых войск, на вояку, но не с людьми, а со злейшим врагом человека - безумием. Билль сказал нам, что мы написали о медицинском приключении, которое еще только начинается, и что через десять лет наши теперешние победоносные лекарства станут, наверное, устарелыми.
- Передайте, пожалуйста, доктору Фергюсону мое восхищение его прозорливостью и его знаниями и тем мужеством, которое он проявил, доведя свою работу до ее теперешнего многообещающего состояния.
И когда мы уже простились с ним, Билль сказал напоследок:
- Скажите людям, пусть они не очень огорчаются, что есть пока только один Фергюсон. Посмотрите, сколько докторов создал Джек из своих 107 сестер-надзирательниц. Путем обучения мы можем подготовить тысячи бойцов против безумия из наших домашних врачей...
Таково было последнее слово Билля, когда он стоял у лесной избушки на берегу своего озера в Северном Висконсине.
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg

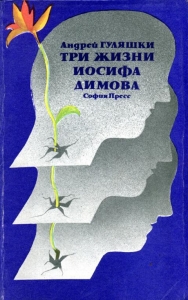









Комментарии к книге «Борьба с безумием», Поль де Крайф
Всего 0 комментариев