Сид Чаплин День сардины
О романе Сида Чаплина
I
В полный голос об английских тинэйджерах заговорили в 1957 году, когда над Западной Европой пронесся тайфун повального увлечения рок-н-роллом Вдруг все заметили, что с молодежью происходит что-то странное, тинэйджеры — так называют в Англии подростков и юношей в возрасте между 13 и 19 годами — совсем отбились от рук: не желают слушать старших, одеваются так, что рябит в глазах, танцуют разные новомодные танцы, а главное, ни в грош не ставят благие заповеди традиционной для Англии христианской морали. Возникла новая проблема — «проблема тинэйджеров».
Почтенные обыватели с редкостным единодушием окрестили все связанное с тинэйджерами «сумасшествием». Сами тинэйджеры и наиболее ревностные их защитники предпочитали говорить о «молодежной революции». Люди здравомыслящие взирали на чудачества подростков снисходительно, повторяя далеко не новые фразы: молодежь любит повеселиться и «перемелется — мука будет». Солидные бизнесмены — фабриканты одежды, обуви, владельцы телестанций и заводов, выпускающих грампластинки, кинобоссы — подошли к вопросу по-деловому: принялись выколачивать прибыль, во всем потакая вкусам тинэйджеров, а вкусы эти, увы, не всегда отличались разборчивостью.
Тинэйджеры, безусловно, привлекли к себе внимание английской общественности. В литературу пришел молодой герой. Наиболее значительные и интересные книги о тинэйджерах: «Абсолютные новички» Колина Макиннеса, «В моем одиночестве» Д. С. Лесли, «Что мир задолжал мне» Сильвестра Стайна, «Лгунишка Билли» Кийта Уотерхауза, автобиографическая повесть Рэя Гослинга «Общий итог». Эти произведения писались в конце 50-х — начале 60-х годов, когда бранные перепалки, анафемы и восхваления начали уступать место серьезному разговору, разговору по большому счёту. Люди как старшего (Макинес), так и молодого (Гослинг) поколения попытались выяснить, анализируя в своих статьях и книгах вкусы тинэйджеров, что же все-таки неладно с молодежью.
И стало очевидно, что вопрос совсем не так прост, как могло показаться на первый взгляд, что в поведении тинэйджеров много чисто мальчишеской позы, что в их «бунте» много страха, а в веселье — отчаяния. Не случайно любимцы тинэйджеров — молодые певцы Клифф Ричард, Томми Стил, Поль Анка, Томми Сэндс — завоевали любовь сверстников не столько модными «роками», сколько грустными песнями о печальном жребии подростка в жестоком и грубом западном мире.
Я брожу один, совсем один, Никому я не нужен, И нет у меня даже собачонки, С которой я мог бы поговорить. Так и брожу я один со своей тоской, —поет Клифф Ричард в «Печальной прогулке».
Откуда эта преждевременная горечь, это неверие в себя, искушенность и стремление идти наперекор всему?
В период послевоенной экономической стабилизации Англии подростки получили право свободно распоряжаться своим заработком (раньше они по закону должны были отдавать его родителям). Вместе с тем в глазах закона они все еще остаются «малолетними», которых нельзя призвать к ответу по всей строгости. В связи с этим у тинэйджера возникло обостренное чувство самостоятельности и в то же время почти полной безнаказанности. Но самостоятельность — понятие относительное: в конце концов живешь не на необитаемом острове, а в обществе, среди других. Здесь-то и подстерегло тинэйджера то самое большое зло, от которого пошли затем все прочие крупные и мелкие неприятности, и отчаяние, и беззащитный мальчишеский нигилизм, и вынужденное признание, что ты неудачник. Тинэйджер обнаружил, что обществу на него просто-напросто наплевать.
«Боже, до чего ужасна эта страна, до чего тосклива, до чего безжизненна, до чего слепа!» — с горечью восклицает Малыш, безыменный герой романа Макиннеса. Это не пустые слова: они объясняют суть шумного «бунта» тинэйджеров. В скучном и сером мире наживы и стандарта, где никому ни до кого нет дела, подростки стремятся любой ценой завоевать право на внимание, на признание, на собственное лицо. Пусть иной раз и непривлекательное, но зато свое.
Тлетворное влияние образа жизни «свободного мира» отчетливо сказывается на тинэйджерах. Но оно не успело атрофировать у многих из них способность видеть фальшь и обман. Разочаровавшиеся в «славных завоеваниях» буржуазной цивилизации, они довольно критически относятся к разного рода буржуазным «ценностям» и крайне непочтительно о них отзываются. Английское государство, эта «мелкобуржуазная подделка под социализм», по меткому определению Дж. Олдриджа, церковь, пресса, армия, богачи, политиканы, «средний класс», школа — все это в полном смысле осточертело тинэйджерам, всему этому, как замечает Алан из книги Д. С. Лесли, «так и хочется плюнуть в морду».
При всем этом тинэйджеры остаются англичанами. Им далеко не безразлично то, что происходит «дома». Они любят родину и хотят жить в своей стране по-человечески. Мысль о водородной бомбе не оставляет их ни на минуту, привнося в их часто детские суждения нотку совсем не детской горечи. Вот почему наиболее активным участником английских организаций, выступающих за мир, — «Комитета ста», «Движения за ядерное разоружение» и «Нью Лефт» — является молодежь, причем подчас совсем юная. Растерянные, дезориентированные реакционной пропагандой, тинэйджеры все же тянутся туда, где есть надежда увидеть какие-то новые горизонты, помочь делом — например, принять участие в марше протеста, пикетировании или манифестации.
Особую ненависть вызывает у тинэйджеров расизм. Когда в 1958 году по всей Англии прокатилась волна расистских погромов, дело доходило до уличных сражений между тинэйджерами и погромщиками — английскими стилягами, доморощенными фашистами и недалекими обывателями, пошедшими у них на поводу. Духом антирасизма проникнуты все книги о тинэйджерах, прежде всего романы Макиннеса, «необычные, горькие, человечные», по справедливым словам английского критика-коммуниста Арнольда Кеттла.
Но, рожденные буржуазным строем, тинэйджеры несут на себе его клеймо. Это особенно заметно на моральном кодексе тинэйджеров. Ведь они только начинают жить, и откуда им знать, что такое настоящая мораль! В буржуазном обществе Нет надежных моральных ценностей, могущих служить образцом.
Тинэйджер, получающий от общества одни затрещины, пытается ударить в ответ — любым путем. Но у него не получается. Где уж подростку угнаться за «акулами»! А общество, построенное на фальши, не прощает слабых: растлевает их, коверкает, бьет в самое больное место. И все же люди остаются людьми. Но происходит страшное: они оказываются в одиночестве. Выросший в такой атмосфере, подросток не умеет помочь ни людям, ни самому себе. Его счастье, если он встретит человека, который его этому научит. А если нет?
В 1960 году в одном из английских журналов была напечатана большая статья Рэя Гослинга «Парнишка из прекрасной мечты», посвященная молодежи. Ее автор приходит к выводу, что самое заветное желание английского подростка — жажда чего-то глубокого, искреннего и прекрасного — неосуществимо. Не только потому, что общество не в состоянии удовлетворить его, но и потому, что сам подросток, дитя этого общества, не знает, как бороться за свою мечту: «Он (тинэйджер. — В. С.) стоит на сцене, залитой голубым светом прожектора, стоит на углу улицы, залитой оранжевым светом рекламы, и просит настоящего, просит любви в искусственном веке… Он все время молит о любви, о том, чтобы его поняли, хотя сам он не сумеет ответить тем же».
II
Роман Сида Чаплина «День сардины» — одна из лучших книг о тинэйджерах. Впрочем, не только о них. Герой Чаплина — Артур Хэггерстон, сын поденщицы, безотцовщина, мальчишка, выросший в трущобах рабочего района в одном из промышленных городов на севере Англии. Взволнованность и теплота, с какими автор описывает жизнь простой рабочей семьи, рисует портреты людей труда, сближают Чаплина — автора «Дня сардины» — с такими английскими художниками, пишущими о рабочем классе своей страны, как Джек Линдсей, Алан Силлитоу, Дэвид Лэмберт и молодой прозаик Стэн Барстоу.
«День сардины» написан в форме своеобразной исповеди: Артур вспоминает события, происшедшие с ним в основном между пятнадцатью и семнадцатью годами. В своем рассказе Артур многое опускает как само собой очевидное: ведь он не писатель, откуда ему знать, как писать книги? Читателю приходится самому досказывать недосказанное. Огромную роль в романе играет подтекст — то глубокое, укрытое под внешним, поверхностным, без чего нельзя понять всю правду ни о самом Артуре, ни о людях, с которыми его сводит жизнь.
Будущий отчим Артура — рабочий Гарри — рассказывает подростку своего рода притчу о сардине — глупой мелкой рыбешке, плавающей косяками и бессмысленно лезущей прямо в сети, а также о людях-сардинах, не имеющих собственной воли и позволяющих навязать себе чужую Артур не желает быть сардиной, он решает плавать сам по себе.
Начинается его самостоятельное «плавание», а вернее, мытарства в поисках работы и своего места в жизни. Подручный угольщика, мальчишка на побегушках в пекарне, рабочий на прокладке канализации — эти «профессии» Артур меняет одну за другой, каждый раз бросая работу не по своей воле. Собственный опыт и опыт взрослых, с которыми встречается Артур, — Гарри, старика Джорджа, одноногого сержанта — убеждает юношу, что честному работяге приходится очень плохо: как ни старайся, а тебя все равно обманут, да еще и за человека не посчитают. Зато мошенники вроде дяди Джорджа и его помощника Спроггета живут припеваючи. А как же иначе: либо ты обманывай, либо тебя обведут.
Тупой, надутый, спесивый лейбористский выскочка дядя Джордж — великолепное сатирическое обобщение. Лейбористская партия неоднородна. Большинство рядовых членов партии и некоторые из лидеров — такие, как Казенс, — честно относятся к своим обязанностям и понимают интересы страны. Именно они провели в 1960 году на конференции в Скарборо резолюцию о ядерном разоружении Великобритании вопреки оппортунистическому правому крылу партии во главе с недавно умершим Гейтскеллом. Но для многих лейборизм — всего лишь средство протолкнуться к «кормушке». К таким и относится дядя Джордж, подлинный «раб демократии» по-западноевропейски.
Не мудрено, что в поисках работы по душе Артур снова и снова терпит неудачу. Но, может быть, он сумеет чего-нибудь добиться хотя бы в личной жизни?
Два года юности Артура — история бесконечных поисков чего-то надежного, верного, правдивого, такого, к чему можно было бы «прилепиться сердцем». А находит он только грязь, продажность и жестокость. Некому помочь Артуру: в жизни он встречает только таких же одиноких неудачников, как он сам. Долгая бессмысленная вражда двух молодежных компаний — Носаря, к которой принадлежит Артур, и портовых Мика Келли; побоища, едва не завершившиеся убийством; цинизм, моральная нечистоплотность — откуда пришло все это в мир подростков? Ответ прост: на это их толкает сама жизнь. Вот они и пытаются отомстить этой жизни, устраивая кровавые драки, дебоши, преследуя своего бывшего учителя, воруя, околачиваясь в старом кинотеатре и на танцплощадке, маленькие, злые, всегда готовые «дать сдачи», а если присмотреться, то просто несчастные, бессильные. Ведь никто ими не интересуется, разве что их домашние да время от времени полиция. Что их ждет? В лучшем случае работа «немногим хуже смерти», в худшем — Борстал или другая колония для трудновоспитуемых.
Артур многого еще не понимает. Но он безошибочно чует, кто должен нести ответ за все эти мерзости, когда с ненавистью вспоминает о богачах: «Этим-то начхать на трудных детей… им небось и в голову не приходит, что их барыши ничем не лучше краж у нас на окраинах».
Последняя надежда Артура — такие, казалось бы, ясные и простые человеческие отношения, как любовь и дружба. Слишком поздно узнает он, что век, страна и образ жизни, в которые он выброшен, не позволят ему наслаждаться подобной «роскошью». Все продается, и все покупается, а если найдутся гордые люди, не пожелавшие стать предметом грязной сделки, то общество живо с ними расправится — так же, как расправилось с братом Носаря Крабом Кэрроном. Закону нет дела до того, что Краб убил, стремясь вернуть себе утраченное достоинство человека, убил женщину, которая заставляла его брать деньги «за любовь». Закону вообще нет дела до человека. И Краба в обычном порядке отправляют на виселицу. А ведь он такая же жертва аморальных порядков, как и убитая им Милдред.
Артур долгое время считает, будто Носарь — его настоящий друг, а Дороти — девушка, которая может его полюбить. Но друг оказывается предателем, а любовь Дороти Артуру так и не удается заслужить. Да и могла ли девушка, получившая религиозное воспитание, полюбить юношу, поддерживающего связь с женщиной вдвое старше его? С точки зрения христианских заповедей отношения Артура и Стеллы выглядят грязными. Но в тысячу раз грязнее образ жизни, который портит подростков и растлевает взрослых, который чуть ли не насильно сводит этих двух одиноких и несчастных людей. Потребность тепла, человеческой ласки и участия — всего того, в чем жизнь отказывает Артуру, толкает его к Стелле. И в этом главное.
«День сардины» — книга мужественная, беспощадная и честная. Горький накал прозы Чаплина не оставляет места для презрительной брезгливости, ведущей к умолчанию о мерзостях жизни. Такова одна из особенностей Чаплина-художника. Большие писатели, однако, никогда не боялись во имя утверждения человечного в человеке открыто говорить о грязи существования. Ярчайший пример — творчество Максима Горького. Недаром в одном из писем к своим советским друзьям Чаплин пишет: «Горький всегда имел и имеет для меня огромное значение; я чувствую, что меня с ним многое роднит. День, когда я открыл его, был великим днем. Еще более памятным для меня был тот день, когда один критик, чье мнение я уважаю, назвал мое имя рядом с именем Горького».
Человечность. «А если, кто вздумает смеяться, я ему напомню, что золото чувства лежит под твердой породой, а не только под толщами, пропитанными пивом», — замечает Артур. В каждом из людей, появляющихся на страницах книги Чаплина, общество пыталось вытравить человеческое, превратить человека в «живого мертвеца». Одних это сломило, другие выдержали. Но даже в сломленных живы крупинки «золота чувства». Иначе зачем было бы старику Джорджу принимать участие в непутевом мальчишке-подмастерье, а Носарю идти в самую страшную ночь своей жизни за помощью к другу, которого он предал?
«Не такой уж я отпетый, как может показаться», — с печальной иронией произносит Артур. И в нем тоже жизнь глубоко загнала «золото чувства»: нерастраченную ласку, робкое благородство, беззащитную веру в людей. Так глубоко, что подчас он и сам не знает об этом. Но его до времени познакомили с «изнанкой» бытия, и ему стало «грустно, одиноко и страшно». Да, он постоянно на ножах со своей «старухой» — потому что «у меня, кроме нее, никого на свете не было» (его собственные слова). Да, он дерется, но не за себя, а за друга и дружбу: для друга Артур готов на все. Да, он все время убегает от людей, но это потому, что его терзает мысль об их разобщенности, потому что все как будто сговорились дать ему острее почувствовать собственное одиночество. Мальчишка, рисующий себя сверхчеловеком, миллионером или великим гением (дешевые мечты, навеянные киномакулатурой), беспощадным, жестоким и гордым, смотрит в зеркало: «…несмотря на шрам, лицо было самое безобидное… Сразу видать, что я никому зла не желаю».
Артур добр и доверчив. И в то же время слаб. Он тянется к людям, но люди подводят его: на работе — мошенники, религия — утешение рабов, «настоящие, крепкие веревки для уловления душ». Нужно стать «живым мертвецом», безоговорочно капитулировать, чтобы, как Носарь, обратиться в веру. Одиночество Артура не жизненная программа и даже не поза, свойственная юности, а тупик, из которого он безуспешно пытается выбраться. Как издевается Чаплин над избитыми «счастливыми концами» низкопробных романов! Зло наказано (Краба повесили), грешник раскаялся (обращение Носаря), добродетель торжествует (Артур получает хорошо оплачиваемую постоянную работу).
Собственно говоря, все обернулось к лучшему. Мальчишка «перебесился», «стал человеком», и если ему не дает жить щемящее чувство собственной несостоятельности, так в этом виноват он сам: никто не просит его терзаться из-за чепухи! Новый костюм, хрустящие фунтовые бумажки, приличная работа — чего еще требовать человеку от «государства всеобщего благосостояния», которое столь ревностно печется о благе своих подданных? А мальчишке почему-то страшно… «У меня есть проигрыватель, — пишет он, — но ведь с ним долго не просидишь — он не заменит друга».
III
Говоря о писателях, под чьим влиянием он формировался как художник, Сид Чаплин называет, помимо Горького, таких выдающихся гуманистов, как англичане Филдинг, Дефо, Диккенс и Томас Гарди, американцы Мелвилл, Уитмен, Фолкнер и Томас Вулф и, наконец, русский — Лев Толстой. Но с особой теплотой Чаплин вспоминает о рассказчиках из народа, истории которых он любил слушать в детстве: «Мои соотечественники — великие мастера по части всяких рассказов, и мне иногда кажется, что я пытаюсь соревноваться с ними — разумеется, только на бумаге, — пишет Чаплин. — Мне, конечно, никогда не стать таким же хорошим рассказчиком, как те шахтеры-самоучки, которых я знал еще мальчишкой. Но я стараюсь, как положено прилежному подмастерью, потому что эти люди были моими учителями задолго до великих писателей».
Сид Чаплин родился в 1916 году в городе Шилдоне, на северо-востоке Англии, в семье потомственного шахтера. Четырнадцати лет он оставил школу и пошел работать на шахту. Самым ярким воспоминанием его детских лет остается всеобщая забастовка английских трудящихся в 1926 году (этому событию Чаплин хочет посвятить одну из своих новых книг). Юность писателя прошла под знаком безработицы, гражданской войны 1937–1939 годов в Испании и антифашистских выступлений английских рабочих. В 1939 году он был избран председателем местной секции Национального союза шахтеров.
В 1950 году Чаплин становится сотрудником журнала «Уголь», а позже — работником Национального управления угольной промышленности двух крупных графств, Нортумберленд и Кумберленд. Этот пост он продолжает занимать в настоящее время.
Первая книга Чаплина — сборник рассказов из жизни шахтеров под заглавием «Парень, который прыгает» — принесла ему литературную премию журнала «Атлэнтик» за 1948 год. Первый роман — «Судьба моя плачет» (1951 г.) — был посвящен жизни рабочих свинцоводобывающей промышленности в XVIII веке.
Следующий роман Чаплина под названием «Большая комната» вышел из печати лишь в 1960 году: долгое время писатель работал над совершенствованием своего художественного мастерства. За этой книгой последовали «День сардины» (1961 г.) и «Стражники и заключенные» (1962 г.). Оба эти произведения получили высокую оценку в коммунистической прессе Великобритании.
IV
В «Дне сардины» первое решительное столкновение между Артуром и окружающей его действительностью закончилось поражением юноши: «Оглянуться не успеешь, а уж вся эта система навсегда наложила на тебя клеймо неудачника… А стоит войти в ворота гигантского завода, именуемого жизнью, и всем надеждам конец». Вот он и рассказывает о больших напастях своей короткой юности, рассказывает просто, честно и безжалостно по отношению к самому себе, а глаза у него «на мокром месте». И свой рассказ он заканчивает робкой просьбой о помощи: «Подойдите ко мне, люди!» — потому что это очень страшно — быть одиноким среди людей.
А сколько таких Артуров Хэггерстонов бродят по асфальтовым и булыжным мостовым Лондона, Шилдона и других городов «зеленой страны», ищут, кто бы их «приручил», как приручил Маленького принца умный Лис из сказки Сент-Экзюпери! О них поют Клифф Ричард и Томми Стил, пишут Сид Чаплин и Рэй Гослинг, Колин Макиннес, Д. С. Лесли и многие другие. Пишут, потому что нельзя не писать, потому что благородный долг художника-гуманиста — защитить и оградить человека, вступающего в жизнь.
В. Скороденко
I
1
Раньше, когда и был помоложе, мне казалось, что наш Жилец — псих, полоумный, чокнутый, да и только. А он просто-напросто был влюблен без памяти. Не то он бы меня живо обломал. Такого, как этот Гарри Паркер, днем с огнем поискать. Теперь, когда у меня, хочется верить, ума малость прибавилось, я прямо диву даюсь, как мог человек так терпеливо и добродушно, глазом не сморгнув, сносить все выходки бедового, своевольного сорванца, который спит и видит, как бы ему насолить. Тем более что он был влюблен в мою старуху, — он, взрослый мужчина, а на пути у него стоял всего-навсего сопливый, сумасбродный мальчишка. Привет! С вами говорю я, Артур Хэггерстон, и глаза у меня на мокром месте, хоть я уже взрослый, целый век работаю, пять не то шесть мест сменил и школу давно кончил, так давно, что она мне теперь совсем далекой кажется, будто в перевернутый бинокль глядишь, и до сих пор мне никак не забыть, каким способом я сам себя от тоски лечил.
А способ был простой: положим, хочется человеку чего-нибудь до смерти, а взять — руки коротки. А не то — другой уведет из-под самого носа. Скажем, нацелился человек выпить кружку пива после того, как целый день на работе вкалывал. Подносит кружку к губам. Пожирает ее глазами. У него уж слюнки текут. Но тут подходит какой-то гад и вышибает кружку из рук. Он — ноль внимания, заказывает как ни в чем не бывало еще кружку, но в последний миг этот гад по новой ее вышибает. И еще раз. Вот так и мы с Жильцом. Это я вышибал у него кружку из рук, да сколько раз. А причина всегда была одна — моя старуха. Вообще-то мы с ним ладили в лучшем виде, он у нас появился, когда ушел с траулера, сытый по горло работой на паровых лебедках и жратвой, сготовленной на камбузе, — кажется, это было года за два до того, как школу мне кончить. Он умел рассказывать всякие интересные истории, не забывал время от времени подкинуть мне сигаретку, терпеливо выслушивал мои дурацкие рассуждения и учил меня жить, учил потихоньку, помаленьку, наставления его проскальзывали в мои мозги незаметно, как хорошо смазанный поршень в цилиндр, — бывает, полчаса потом ломаешь себе голову, пока допрешь, откуда что взялось.
В общем самый что ни на есть подходящий человек в семье, где растет без отца своенравный и непослушный мальчишка. Таким он и был, покуда я школу не кончил. Всего две недели оставалось до выпуска. Помню, я тогда чуть со стыда не сгорел, но виду старался не показывать. В день окончания школы он первый меня поздравил. Было уже поздно, потому что я сводил старые счеты, а история вышла такого сорта, что от нее не отвяжешься, не отмахнешься, будто кто-то шагу тебе не дает ступить, как из-под земли вырастает, лезет к тебе не хуже того гада, который кружку вышибает из рук. Я тогда еле ноги унес и никак остановиться не мог, удирал, спроси чего — просто со страху, и домой прибежал взмыленный.
Гарри закурил новую сигарету от окурка и спросил, кто же за кем гоняется — я за работой или работа за мной. Это он, конечно, шутил. В тот год с работой было особенно туго, другого такого года никто и не упомнит; на верфях всем подчистую давали расчет, в литейных гасили печи, ворота фабрик запирали и для верности еще гвоздями заколачивали. А я, как нарочно, из современной школы[1], и в аттестате написано: рассеян, невнимателен; способный юноша, но не настолько блестящий, чтоб устроиться на какую-нибудь непыльную работенку вроде тех, про какие пишут: «За шесть уроков развиваем фотографическую память». Да еще и учился я плохо. В общем хуже некуда.
Но приходится шутить, покуда не станет ясно, что шутка-то вся вышла.
— Нет уж, к чертям свинячьим, — сказал я. — Дворниками и то пруд пруди, даже в армию берут с разбором.
— Брось, малыш, — сказал он. — Чего ты беспокоишься? Сил и здоровья тебе не занимать. Робинсону нужен подручный шофера. Голова у тебя на плечах есть, ты в два счета выучишься крутить баранку.
Этот Робинсон у нас в городе углем торговал, и я ответил с ходу, не задумываясь:
— Голова-то у меня есть, а только там на своем горбу придется переть стофунтовые мешки с углем в новые муниципальные квартиры. Да я после первой же получки в стельку надрызгаюсь.
— Тогда иди к дяде Джорджу.
— Охота была под открытым небом трубить, да еще чтоб дядя Джордж все время над душой стоял!
— Охота не охота — нашел время артачиться!
— Лучше уж уголь таскать.
— Ну, гляди сам, — сказал он. — Жить-то тебе… А что в агентстве по найму молодежи?
— Предложили служить рассыльным в мясной лавке, чинить пишущие машинки или работать на фабрике красителей.
— Ну и ты что предпочел — мясо?
— Нет уж, ищи дурака.
Он протянул мне сигарету. Я взял, сказал спасибо и стал пускать колечки.
— Пожалуй, пойду потолкую со стариком Робинсоном, покуда там не закрылось.
— По-моему, у дяди Джорджа тебе лучше будет, — сказал он, не глядя на меня. — Таскать мешки — тяжелая работа.
Он меня не принуждал, просто делился опытом, накопленным за четверть века работы в доках, на траулерах, на сейнерах, где он с таким трудом выкарабкался на мостик, выслужив капитанский диплом, а потом снова загремел оттуда на палубу и долго еще скитался по разным складам и фабрикам, не брезгуя самой трудной и черной работой. Он-то знал, каково это — мешки таскать. Но я хотел своим умом жить.
— Сойдет, — сказал я и рванул прямо к Робинсону.
Старик проверял счета и едва поднял голову от бумаг.
— Работа тяжелая, — сказал он. — Мал ты еще для этого.
— Справлюсь.
— Тогда купи себе кепку поплотнее, — сказал он. — Выйдешь с понедельника, в семь утра.
Я попрощался, но он уже снова уткнулся в свои бумаги. Да, брат, кто хоть немного знает угольщиков, меня поймет. Там, в конторе, я чувствовал себя униженным. Да, униженным! Для него я был только новый грузчик, новая вьючная скотинка, еще один, за которым нужно присматривать. Он таких новичков перевидал на своем веку чертову пропасть, видел их десятки, может, даже сотни. Но я по наивности обиделся. А все же работу я получил и побежал домой, ног под собой не чуя. Гарри сидел и читал, а моя старуха возилась на кухне, стряпала обед, и, как всегда, суетилась, спешила. У нее одно было на уме — как бы не подгорел бифштекс с луком. Она сказала только:
— Что ж, надо думать, ты знаешь, чего хочешь. Добивайся своего.
И добьюсь! Я разобиделся, что они не верят в меня. И начал прикидывать. Сегодня день короткий, уборку она кончила к шести; до дому ей пешком десять минут, если поторопиться, а она всегда торопилась вовремя обед сготовить. И вот пожалуйста: семь часов, а ничего не готово. Я поглядел на Жильца — теперь для меня это был уже не старина Гарри, а именно Жилец. Он развалился в кресле, похожий на большого кота, и каждые три или четыре минуты переворачивал страницу; читал он быстро и что-то мурлыкал про себя — видно, книга ему нравилась. А моя старуха уж и думать забыла про меня, она сновала взад-вперед то на кухню, то из кухни и что-то неслышно напевала, разевая рот, как рыба. Значит, опять они этим делом занимались. Или, скажем прямо, он занимался. Они часто ссорились и ругались, но он всегда брал верх. С траулера его поперли, и теперь он командовал ею; бывалый моряк, он всегда находил верный курс в тумане по карте или по компасу и бывал ласковый, как море в тихую погоду. Ему в жизни довелось хлебнуть горя, иначе он не затеял бы эту возню с котенком. Было это еще года за два до того, как я школу кончил…
2
Ладно, вообще-то я не против кошек. Мне даже нравятся такие дымчатые, с большими глазами, и еще другие, с обезьяньими мордами, какие гуляют в палисадниках около богатых домов. Протянешь руку, чтоб такую погладить, а она прыг в сторону и умчится, как клубок дыма. Но этот котенок был больной, тощий, кожа да кости, и глаза гнойные, слезящиеся — одним словом, шелудивый.
— Сейчас же вышвырни вон эту дрянь, — сказала моя старуха.
— Но ведь он больной, его лечить надо, — сказал Жилец.
— Тогда отнеси его к ветеринару.
— Пускай живет в моей комнате. Он тебе и на глаза не покажется. Ты его и не увидишь.
— А подтирать за ним кто будет?
— Я, конечно. Сама знаешь, я был на флоте санитаром.
— Нечего лечить его в моем доме!
— Брось, будь человеком, живи и давай жить другим. У тебя самой сердце порадуется, когда котенок станет гладкий и замурлыкает на весь дом.
— Больше будет гадить, чем мурлыкать, и не успеешь оглянуться, котят принесет. Не потерплю, и конец.
— Но ведь это кот, так что никаких осложнений не предвидится, — сказал Жилец.
— Это ты нарочно, чтоб соседей злить.
— Ладно, — сказал Жилец. — Я буду покупать ему молоко на свои деньги.
— Не смеши меня. Ты и так уже третью неделю за квартиру не платишь.
— Но за мной еще ни разу не пропадало, правда? Я буду платить за кота и за молоко.
— Ну ладно уж… только не смей приносить для него в дом всякую тухлятину, и в первый же раз, как он нагадит, — вон!
Жилец купил на толкучке у пристани старую бельевую корзину и половичок. За девять пенсов выторговал. Но вот была задача — чем кормить котенка. Просидев несколько дней на одном молоке, он задумал проломить дверь в кладовке, но только расшиб себе башку; тогда он махнул на задний двор, взобрался на крышу, а оттуда через окно пролез в кладовку, сожрал полбанки варенья и четверть большого пирога со свининой, оставленные Жильцу к чаю. Потом его стошнило, и он запакостил в кладовке весь пол. Жилец подтер за ним, сходил за новой банкой варенья и купил у живодера Доннели конины.
Этот кот был совсем как человек. Уставится на кастрюлю, в которой Жилец варит конину, и время от времени затягивает серенаду то ли Жильцу, то ли кастрюле, то ли им обоим.
Правда, он был совсем как человек. Знал, что Жилец его любит, и уважал его комнату. Зато гадил во всех остальных. Жилец не зевал, подтирал всюду. А только поспеть за котенком нипочем не мог.
В конце концов моя старуха заявила, что хватит ей быть бесплатной уборщицей, и Жилец унес котенка, захватив мешок и старый ржавый утюг.
— Что ты с ним сделал? — спросила она, когда Жилец вернулся часа через два. Он был сильно под мухой.
— А тебе-то что?
— Ты отдал его кому-нибудь?
— Швырнул с моста в реку.
— Врешь, бесстыжие твои глаза!
— Никогда не видел столько пузырей…
— Бросил его в эту лужу?.. Да кому ты голову морочишь?
— Слышно было, как он булькал… Здоровенные пузыри пошли. Я чуть не заплакал.
— Не знаю, где у тебя совесть — выкормил бедняжку, а потом швырнул в реку. Сердца у тебя нет, вот и все.
— Я был вынужден.
— Никакой нужды не было, добрые люди охотно взяли бы его.
— Ну да, вот ты, скажем, уж такой была доброй — дальше некуда.
— Зато ты больно жалостливый.
— Он был здесь лишний. А смерть легкая, он ничего и не почувствовал.
— Ну, могу только пожелать, чтоб тебя самого не швырнули в реку! — крикнула она и стала надевать пальто.
— Куда это ты?
— Пойду пройдусь, успокоюсь.
— Тогда купи рыбы с жареной картошкой, я проголодался.
— Ни за что, хоть сдохни! — огрызнулась она и хлопнула дверью.
Как только она вышла за дверь, я насел на Жильца.
— Успокойся, — сказал он. — Я отдал его сторожу у нас на фабрике и даже деньги получил. Ихнюю кошку задавил грузовик с пивоваренного завода. Так что, — продолжал он, разуваясь, — пивовары, можно сказать, вдвойне выгадали, задавив ту кошку. — Он подумал немного. — Вот умора, если она была матерью нашему котенку.
— Сколько ж вам дали?
— Десять шиллингов. Но учти, я буду скучать по ней.
— Помнится, моей матери вы сказали, что это кот.
Он подмигнул.
— Я хотел, чтоб, когда она окотится, это был сюрприз!
Моя старуха не разговаривала с Жильцом несколько дней, и, только когда я рассказал ей, что он продал котенка, она возобновила с ним прежние отношения, всыпав ему по первое число.
— Одно утешение — я все-таки не купила тебе рыбы с картошкой, — сказала она под конец.
— А у меня тоже есть утешение, — сказал он. — Вспоминать, как тебя за живое задело, когда я сказал про пузыри.
Но он и в самом деле скучал по котенку.
Как-то утром моя старуха застилала постель Жильца, а я завтракал. Она вышла, налила себе чаю, выключила радио и говорит:
— У нас мокрицы завелись.
— Мокрицы? — удивился я.
— Вот погляди сам. В комнате у Жильца.
Я поглядел. По всему ковру какие-то серебристые следы, но мокриц не видать.
— Наверно, разошлись по домам, — сказал я и снова включил радио.
— Я три месяца провозилась, чтоб от блох избавиться, — сказала она. — А теперь мокрицы… Да выключи ты приемник: тебе в школу пора.
— А тебе чем он мешает? — сказал я. — Мокриц не слышно?
Это продолжалось дня три — каждое утро оставались следы; моя старуха вытаскивала из комнаты кровать, закатывала ковер, выстукивала стены и тыкала шпилькой во все дырки. Но в один прекрасный день Гарри забыл запереть нижний ящик стола, и она нашла там картонную коробку со стружками, в которой дрыхли две здоровенные грязные улитки с красными полосами на раковинах.
— Вот чума! — крикнула она. — Артур, пойди сюда, полюбуйся!
Я пошел и полюбовался. Она хотела с ходу отправить улиток в плиту, но я уговорил ее сохранить их как вещественное доказательство — это был единственный способ их спасти.
Гарри и бровью не повел, когда я его предупредил. Он только хмыкнул и сказал:
— Ей же хуже, теперь стану самокрутки курить.
Я вылупил на него глаза.
— Сейчас я почти не курю, но ведь меня тут со свету сживают, да еще не кормят, этого никакие нервы не выдержат, — объяснил он.
Прибежала моя старуха и затопала ногами.
— Не потерплю, чтоб они мой лучший ковер пакостили! — крикнула она.
— Это мы уладим со временем, — сказал он решительно.
— Не со временем, а сию же минуту!
— Опять с моста в реку?
— С моста или откуда хочешь, но чтоб их духу здесь не было!
— Послушайте, мадам, — сказал Жилец. — Все несчастье в том, что вы никогда не дослушаете до конца. Я же сказал, что мы это уладим со временем.
— Каким это образом?
— Я приучаю их ползать гуськом.
— Господи, а я-то, идиотка, уши развесила! — крикнула она. — Ну, чего ты там еще ищешь?
— Мешок, — ответил он.
— Не валяй дурака. Можешь взять вот эту роскошную коробку из-под табака.
— Послушай, Пег, — сказал он. — Я привязался к этим двум улиткам. Позволь мне держать их на дворе. — Видя, что она только головой качает, он продолжал: — Я так одинок. За три фунта в неделю меня здесь кормят до отвала два раза в день и дают чистую постель. Но у меня нет друга. А эти улитки — мои друзья. Я думаю о них весь долгий рабочий день. Так приятно выпускать их каждое утро из коробки, кормить салатом, смотреть, как они ползут завтракать или просто гуляют — они ведь такие любознательные. Открывать коробку по вечерам, видеть, как их маленькие рожки высовываются и снова прячутся, будто крошечные перископы. Рожки они высовывают, когда узнают друга. Да, друга. Мы с ними подружились. Что тут плохого?
— Господи, почему потолок не обвалился мне на голову в тот день, когда я пустила тебя в дом! — сказала моя мать. — Сперва шелудивый котенок, теперь эти улитки… А в следующий раз ты, наверно, змей заведешь.
— Позволь мне оставить улиток, и я не заведу змей. Клянусь богом, провалиться мне на этом месте! Только не отнимай у меня друзей.
— Немедленно вышвырни этих друзей ко всем чертям! — сказала моя старуха. Губы у нее побелели, как молоко.
— Ладно, — сказал он. — Ты не женщина, Пег. И даже вполовину не женщина. У тебя каменное сердце.
Он ушел в свою комнату, которая, к слову сказать, когда-то была у нас гостиной, и вернулся с коробкой в руках.
— Что ты еще задумал?
— Не твое дело.
— Хозяином хочешь быть, — сказала она. — Над всем домом хозяином. И надо мной тоже.
— Замолчи, здесь мальчик.
— Сам замолчи! Ты меня совсем замучил своими глупостями и болтовней. А стоит мне уступить, и ты возьмешь свое. Вот тебе чего нужно.
— Разве я хоть раз оплошал? — спросил он. — Ну скажи сама.
— Это меня и беспокоит.
— Видела ли ты, чтоб я полез куда не надо или руки распускал?
— О нет. Никуда ты не входил и рукой не лез, да только вот эти глаза твои невинные…
— С ними сам черт не совпадает, — сказал Жилец и пошел к черному ходу. — С остальным я кое-как справляюсь. А уж на глаза, видно, шоры придется надеть, и тогда я со временем вовсе ослепну; это уж как пить дать. Язык мужчины еще может лгать, но глаза — никогда.
— Уйди ты от греха!
Она покраснела.
— Можно мне оставить улиток?
— Сказано тебе — вышвырни их вон. — И она снова сжала губы.
Тогда он уложил свой морской сундучок. Уходя, он пошатывался. Сундучок он нес на плече, а коробку с улитками подцепил за веревочку мизинцем. Я хотел ему помочь, но он не позволил.
— Это касается только меня и твоей матери, — объяснил он.
— Пускай уходит, — сказала моя старуха. — Не видишь разве, он просто играет на наших чувствах. Живо вернется, как только ему перестанут давать пиво в долг.
Но он не вернулся. Ни в тот день, ни на другой.
— И чего он добивается? — все бормотала она про себя. Я видел, что она расстроена. Но в то время мы шарили по чужим автомобилям, и домой я приходил поздно. Она меня поедом ела; знай она правду, мне бы совсем худо было. И без того она твердила все время:
— Дома ты только ночуешь, больше тебе ничего не нужно, а я для тебя просто прислуга.
Я сдерживался.
— Хочешь заставить меня сиднем здесь сидеть каждый вечер? — сказал я однажды. — Через несколько лет меня в армию заберут, может, придется драться с китайцами или с русскими, а может, я женюсь. Молодым только раз бываешь.
— Чего ж тебе надо, скажи на милость? — взвилась она. — Тебе охота шляться по ночам, а я сиди тут одна!
— Не надо было котенка выбрасывать, — сказал я.
— Молчал бы лучше!
— Я верно говорю. Оставила бы котенка, и дружок твой был бы при тебе.
Тут-то она и запустила в меня чайником. Пришлось ехать в поликлинику, и там мне наложили на щеку шесть скобок. Остался шрам. Оттого ребята в Старом городе и стали потом звать меня за глаза Красавчиком. Ну, она, конечно, плакала, раскаивалась. Упросила папашу Мышонка Хоула свезти меня в поликлинику на его старом таксомоторе и у двери дожидалась. И на ужин приготовила рубец. Она не переваривает рубец, запеченный в тесте, но на этот раз пришлось ей улыбаться и терпеть. А перед тем как ложиться спать, она сказала:
— Сходил бы ты завтра вечером к фабричным воротам. Только боже сохрани, чтоб он тебя увидел! Разузнай, где он теперь живет. Мне, конечно, наплевать, но не хотелось бы, чтоб он попал в лапы к этим тварям с Шэлли-стрит.
Шэлли-стрит — это улица дешевых меблирашек. Там в самых приличных домах квартирантам по утрам прислуживает мужчина; а где поплоше, и девчонки есть, по совместительству. Мою старуху смущало не грязное белье и всякая там шантрапа, а шлюхи. Я это сразу понял, когда она попросила меня выследить его. Она к нему всегда слабость питала. А тут дело пошло всерьез, и если раньше я, бывало, над этим посмеивался, то теперь мне было не до смеху. Я поглядел на нее. Она покраснела и говорит:
— Смотри же не забудь. Лучше всего пойди сразу после школы. Я дам тебе шесть пенсов на шоколадку.
На другое утро ей не пришлось напоминать про шесть пенсов. Она выдала их без звука, и я окончательно убедился, что она к нему привязана. Мне хотелось ее ударить. И чего я ревновал? Она уже давным-давно даже не целовала меня. И не в том дело, что я расчувствовался. У меня действительно, кроме нее, никого на свете не было, а если у нее что и бывало в прошлом, она никогда про это не говорила. У нее тоже, кроме меня, никого не было. Я так думаю, отсюда и ревность. Двое против всего мира — это в самый раз, а трое — как-то смешно или вовсе ни в дугу. Правда, иногда это выходит само собой, и в этом мне потом пришлось убедиться.
— Чего ты на меня так смотришь? — спросила она.
— Я смотрю?
— Таким взглядом убить можно… Ну, да ты знаешь, о чем я.
— Просто житья нет, — сказал я. — Вечно ты на меня шипишь. Вечно допытываешься, о чем я думаю, заставляешь делать вместо себя всякие гадости…
— Что значит гадости?
— Ах, мама, ты сама знаешь, — сказал я. — Брось девочкой прикидываться. Выгнала бедолагу Жильца из дому, а теперь хочешь его вернуть… Влипла ты в него, вот что.
Я думал, сейчас в меня опять чайник полетит. Она схватилась за него обеими руками, и ваш покорный слуга готов был уже отскочить. Но потом я увидел, что она просто придержала чайник, чтоб он не упал.
— А хоть бы и так? — сказала она. — Ведь он и тебе нравится, правда? Вас с ним водой не разольешь. Он скромный, хоть и болтает столько, что с ума можно сойти.
— Ну да, нравится, — сказал я.
— Вот видишь, — сказала она. — Ты сам это признаешь. При всех своих недостатках он смирный и безобидный.
— Уж куда смирней!
— Чего ж ты тогда споришь?
— Это ты споришь. А я сказал только, что ты в него влипла, это факт.
— А тебе не все ли равно?
— Я в чужие дела не лезу.
— Успокойся. Знаем, что не лезешь. Я просто хотела выяснить, что ты думаешь.
— Пора бы тебе, наконец, чему-нибудь научиться, — сказал я и снова приготовился отскочить. Но она не двигалась, и я успокоился. А она уронила голову прямо на чайник. Я видел, что она плачет. Знал, что ей тяжело, но и мне было не легче. Господи, как было погано.
Я, конечно, и не подумал бы следить за Жильцом, потому что после школы в животе у меня громко урчало, а шесть пенсов я поставил из ста против семи на одну лошадку, которая в это время и не думала скакать, а мирно дрыхла в своем стойле. Буллок, наш школьный букмекер, никогда столько не наживал, как в то утро, но радовался он недолго. Через несколько дней мальчик, который работал на Буллока, разругался с ним и все выболтал; мы поймали Буллока в уборной, накостыляли ему шею и отобрали все ставки за тот день — десять шиллингов серебром и медью, завернутые в носовой платок. Ну да ладно, не о том речь. Я хочу сказать, что, несмотря на голод, помнил про ее слезы и отправился исполнять поручение.
От школы к порту, где работал Жилец, трамвай не ходил, и на автобусе туда надо было ехать с пересадкой, так что, хотя это у черта на рогах, я решил гопать пешком. На мое счастье, какая-то божья старушка разложила на подоконнике студить горячие булочки; я по-быстрому умял одну, и мне полегчало; кроме шуток, я даже хотел вернуться поблагодарить ее. Хорошую стряпню нельзя оценить, пока не поживешь без горячего, как жили мы, когда у нас электрическая печь перегорела. А у той старухи, честное слово, золотые руки. Ее булочки можно есть даже без масла, а если их еще маслом намазать, сам шеф-повар зарыдает.
В общем в животе у меня поутихло, и я топал бодро. От школы до фабрики около мили, и можете спросить у кого хотите, вам всякий, если только он не слепой, скажет, что для прогулок там место мало подходящее. Наш директор Трёп говорил, что это остатки какого-то древнего поселения. Не знаю уж какого. Таких кварталов я нигде больше не видал — сплошь квадраты или треугольники, иногда будто в землю вросшие, а посередке старая арена. Время от времени сюда приходят какие-то полудохлые работяги, сорвут крышу с одного дома, с другого, и шабаш — покуривают или чаи гоняют, а бульдозер стоит себе отдыхает. Поэтому там всюду пустыри, некоторые величиной с футбольное поле, как нарочно приспособленные, чтоб сваливать старые кровати, продранные диваны, поломанные коляски, тазы, жестянки, мусорные ведра, а иногда и трупы. Факт — и трупы тоже. Некоторые из этих пустырей можно пройти сплошь по мусору, вовсе земли не касаясь.
Но мне это нравится: без мусора и развалин здесь было бы неуютно. А дальше — снова пустые дома и зубцами торчат недоломанные стены. Как только выедет из дома последний жилец, начинается потеха. С вечера набегают людишки и волокут отсюда застекленные двери или десяток-другой оконных стекол — лучшего материала для теплиц нет. Ох, и жуть: звенят пилы, стучат молотки и топоры, горят факелы, люди тащат на себе всякую всячину, иногда может почудиться, будто гроб несут, и, как похитители трупов, прячутся в темноте. Вот какой у нас район. А дальше — парк: грязный пустырь, весь замусоренный и голый, только качели торчат кое-где. Пройдешь через него к югу, нырнешь под виадук, потом под мост, и тут река опять появляется на свет божий из-под шестнадцати миллионов тонн грязи. Это «ничья земля». Здесь есть несколько домов, где живут лудильщики, уличные торговцы, старьевщики и всякая шушера и стоят два газовых фонаря. А что происходит по ночам на склонах холмов, сплошь изрытых ямами, где в те времена копали глину для фабрики, это тайна, покрытая мраком.
Еще шагов пятьсот по берегу, и вот уже устье реки, сюда прилив доходит. Раньше по реке корабли поднимались, и тут сохранились остатки причалов. В амбарах, где ссыпали зерно, теперь товарные склады, а в прибрежных домах — конторы и мелкие фабрички. Это место почему-то называется Венецианская лестница.
Ох, до чего ж тут интересно. После шести вечера вокруг ни души, можно свободно залезть в любой склад, только оттуда мало что уволокешь. Зато нет лучше места для драк или «молитвенных собраний» — это мы так говорим, когда собираемся с ребятами. Но до пристани я еще не дошел, так что не беспокойтесь. Прохожу мимо спортивного клуба, где стоят моторки, пересекаю главное береговое шоссе, потом спускаюсь к пристани, и тут снова развалины. А дальше кое-где видны большие, на совесть построенные здания; кое-где склады из рифленого железа; кое-где жилые дома, но жильцов что-то не видно; здесь же вонючие, но всегда битком набитые кабаки, да еще громады из стекла и бетона, с трубами, которые дымят вовсю или угрюмо торчат в небо. По воскресеньям.
Фабрика, где работал Гарри, стоит у самой пристани, и я еле добрался до причалов, увертываясь от маневровых паровозов и передвижных кранов, а там отвел уж душу — плюнул в реку. И плюнул ловко — тут весь фокус в том, чтобы на чистую воду попасть.
Через десять минут завыли гудки, и я по пристани напрямик двинул к воротам, откуда стал глядеть, как выходят рабочие. Все они шли быстро, даже старики, но, как ни спешили, в нос все равно ударял дивный запах сардин и салаки в томате. Каждый из них принял это крещение; но мне тогда и не снилось, что я сам когда-нибудь приму его и от меня тоже будет разить за целую милю. Гарри по обыкновению вышел последним — этот старый тихоход вечно плетется в хвосте, хоть до работы, хоть после. Ей же богу, кто увидит, как Гарри бежит со всех ног, может считать, что видел чудо. А человека, который плетется медленно, не спеша, выслеживать трудно. Разве угадаешь, когда ему взбредет в голову обернуться, чтобы погладить собаку или сбить головку с одуванчика, а ведь он это делал чуть ли не на каждом шагу. В общем то расстояние, что я один прошел за десять минут, мы тащились минут двадцать, да еще пять он покупал газету, банку консервов и пучок салата.
Наконец мы вышли к шоссе. Он перешел на другую сторону и зашагал по дорожке к спортклубу; я обождал немного, дал ему отойти подальше, а потом двинул следом. Но он уже исчез. Я туда, сюда — его и след простыл. Тут меня холодный пот прошиб. Я побежал прямо по дорожке, хоть и знал, что это зря: так далеко он уйти не мог.
А потом я вспомнил про спортклуб у Венецианской лестницы.
В клубе его не было. Не было и за кучей досок и на пустыре, где росли одуванчики и кипрей, и в реке он купаться не мог, потому что стоял отлив и там было воробью по колено. Старые лодчонки весело сновали по великолепной темно-вишневой грязи, накренясь, вихляя и подпрыгивая. Вот бы мне заиметь когда-нибудь собственную яхту. Стоял бы я у руля, небрежно заломив фуражку, в свитере, шелковом шарфе и безукоризненно отглаженных брюках, во рту — длиннющая трубка. Да еще, пожалуй, бороду отрастил бы. А пока что я шел по пристани и придумывал, что бы такое соврать моей старухе, потому что, если сказать ей правду, она умрет, а не поверит.
Слыхали вы когда-нибудь, чтобы грязный берег реки вдруг заговорил?
— Эй, кореш, местечка ищешь?
Я подскочил как ужаленный. Потом стал и стою как дурак.
Попался! Попался с поличным! Этот сучий дрессировщик улиток еще у фабрики меня заметил. А потом он чуть со смеху не лопнул, глядя, как я бегаю по камням взад-вперед, высекая искры, вроде новичка-почтальона, который не знает ни одной улицы, а из вывесок может прочесть только «Мужской туалет» да еще, пожалуй, «Бар». Мне хотелось провалиться сквозь землю. Но я с независимым видом спустился по лесенке к реке.
Будьте спокойны, старик Гарри умеет устраиваться. Катерок был довольно большой, и каюта, если сесть на пол, могла показаться даже просторной. В печке весело трещали дрова, на сковородке шипели мясные консервы, а чай был крепкий и черный-черный, так и хотелось долить туда молока. Сгущенного, понятное дело. У меня слюнки потекли. Гарри предложил мне закусить и сам уминал за обе щеки — набитый рот никогда не мешал ему разговаривать.
— Как дела?
— Хорошо.
— А как Пег?
— Тоже хорошо.
Потом наступила моя очередь спрашивать.
— Ну, а улитки как?
— Не могли привыкнуть к жизни на океанских волнах. Перестали есть салат, стали неразговорчивые, не выходили из своих раковин. Так что вчера вечером я их отпустил на волю.
— Для чего ж тогда салат?
— Я подумал: как знать, вдруг они заглянут меня навестить?
— А катерок у вас классный.
— Лучший в клубе. У них тут несколько штук увели. Угнали в другую гавань, перекрасили, сменили моторы и продали каким-то простакам. Вот мне и предложили место: десять шиллингов в неделю и харчи бесплатно.
— Но ведь одному здесь тоска смертная.
— Не так уж это страшно. Сюда приходят влюбленные. Иногда чайки прилетают за хлебными крошками — есть тут одноглазая птичка, очень способная. А еще я мышь приручил.
Он откинулся к стенке и дернул за веревочку. Вверху на полке с коробки соскочила крышка. Бурая мышь высунула оттуда мордочку, пошевелила усами, скользнула вниз, быстро, как молния, пробежала по голове Гарри; потом замерла у него на плече и, стоя на задних лапках, сожрала из его рук добрых четверть фунта сыра.
— Ну скажи, разве она не прелесть?
— Вы уверены, что это она, а не он?
— Кому ты это говоришь — мой старик по китайскому способу безошибочно отбирал цыплят — какие петушки, а какие курочки.
— Ошиблись же вы насчет котенка.
— Это была дипломатическая хитрость.
— Она не позволит вам держать мышь в доме.
— Артур, мой мальчик, у нас уже есть крыша над головой.
— Она хочет, чтоб вы вернулись.
— Вот как, теперь она этого хочет! А ты что скажешь?
— Дело тухлое, — честно признался я. — Главное, она все мечется, как кошка на горячей плите.
— Это она тебя послала?
Смешно, конечно, но меня взяла досада. Мы с моей старухой ладим — лучше не надо, но я люблю ее и Жильца порознь; а всего больше люблю, когда они в ссоре. И не терплю, когда кто-нибудь из них с ума сходит из-за другого. Не люблю быть на вторых ролях, сами увидите.
Так что я ему ничего не ответил. Уставился себе под ноги, потом завязал шнурок на ботинке, сделал дыхательное упражнение по системе йогов. Но все равно я даже вспотел и не мог взглянуть ему в глаза.
— Ну ладно, — сказал он. — Передай ей привет. Скажи, что я отлично устроился. Скажи, свобода — великолепная штука.
— Сами скажите. Ведь она с меня шкуру спустит, если узнает, что вы меня видели. Я скажу только, что вы здесь, и уж будьте другом, не говорите ей, как вы меня за нос провели.
— Идет, — сказал он. — Она небось сегодня же прибежит.
— С нее станется, — сказал я.
— Когда-то я работал помощником укротителя, — сказал он. — Входил в клетку к тигру. В одной руке револьвер, в другой хлыст. Тигры и тигрицы, все подряд, прыгали через обруч.
Он, конечно, шутил. Но я был тогда еще маленький.
— А револьвер был заряженный? — спросил я.
— Избави бог! Только эти бессловесные твари не понимали разницы.
Я подумал немного.
— Мою старуху вам не заставить прыгать через обруч.
— Если ты про золотой обруч, может, и так, — сказал Гарри. Он растянулся на койке. — Не разберешь эту женщину. Ей стоило только пальцем пошевелить, — так нет же. Это не для нее. Упряма, ох, до чего ж упряма! Хочет одна тянуть лямку, и чтоб только ты был рядом.
— Моя старуха хорошая, — сказал я.
— Она и впрямь будет старухой, когда ты удерешь от нее, — сказал он. — Она это знает и ни о чем другом думать не хочет.
— Кто это удерет? — Вместо ответа он только взглянул на меня. — Не будет этого.
— Ты уйдешь в море, — сказал он. — Когда я говорю — море, то имею в виду настоящую стихию, потому что не такой ты парень, чтоб плавать в какой-нибудь луже. Ей-богу, — добавил он, — если разобраться, ты очень похож на меня. Будешь долго бродить по свету, покуда осядешь где-нибудь. Увидишь много диковин, разные порты, людей. Может, даже полетишь в конце концов на Луну… Ты ведь не сардина.
Я не понял.
— Сардина?
— В Норвегии сардины миллионами приплывают из океана, — сказал он. — Валом валят в фиорды. Даже цвет воды меняется. Сперва она зеленая, как старая медь, потом становится светлой, будто литое серебро, и хоть криком кричи — ни слова не слышно, потому что остервенелые чайки накидываются на жратву. А сардины все плывут. Не знают зачем и знать не хотят. Может, им там надо икру метать. Они бьются в сетях, прут, как сотня локомотивов, — старые снасти так и гудят, судно кренится.
— Вы ловили сардин?
— Ловил! Это не ловля, а избиение; платят сдельно, так что их вылавливают грудами, они лавиной текут в трюм, трепыхаются и прыгают, покуда люк не задраят. А потом их набивают в бочки, везут сюда и здесь укладывают в жестяные гробики голова к хвосту и хвост к голове… Они знают одно — свою отмель. Их интересует только вовремя пожрать и вовремя выметать, икру. Вот они и попадают в сети, а потом в жестянки. Тут им и крышка.
— Вы маху дали, — сказал я. — По мне, лучше ловить сардин, чем работать на консервной фабрике.
— Ты, я вижу, не понял главного.
— Чего это?
— Не будь сардиной. Плавай сам по себе.
— Я хочу в люди выбиться.
— А именно?
— Разбогатеть, знаться с важными боссами, ездить в «ягуаре», иметь собственный бассейн для плавания.
— Это тоже разновидность сардины — только в жестянке с плюшевой подкладкой.
— Как-никак лучше быть первым среди сардин, чем последним.
— Так и знал, что ты это скажешь. Но ты не прав. Мне сардинная фабрика нужна для того же, для чего и траулер: человек должен есть, чтобы жить, но не жить, чтобы есть. Думаешь, я рвусь на отмель? Ошибаешься. Я плаваю сам по себе.
— Ну и шутник же вы!
— В таком случае я тебе преподнес величайшую шутку в мире, — сказал он.
— Как это?
— Объяснить — значит испортить шутку.
И больше я из него ни слова не вытянул.
С этого все и началось. Мне тогда шел четырнадцатый год, и я ничего не понял. Я мечтал только о новых костюмах да еще о «ягуаре». Девчонками я не увлекался, они для меня были чем-то вроде ходячей мебели. Раза два я лазил с ними в карьер, где добывали глину, или в какой-нибудь пустой дом, но они мало что смыслили в этих самых делах, а я — еще меньше, так что я махнул рукой. Так вот, говорю вам, я ничего не понял. Но если рассказываю я плохо, то память у меня хорошая и все входы-выходы в порядке. Что войдет в голову, рано или поздно вылазит наружу. Потеха! Я взбежал вверх по лесенке — она теперь стала короче, потому что начался прилив, — и оглянулся.
— Ты ей скажи, что я здесь, — напутствовал он меня. — А уж я тебя не выдам.
— Ладно, — сказал я. — Вы на мертвом якоре, и точка.
— Правильно, — сказал он.
Я воображал себя траулером, вышедшим на лов во фиорд; сардиной, которая плавает сама по себе; красивым мужчиной за рулем «ягуара». Я не знал, что еще придумать, но совсем ошалел, и мне стало весело. Я включил приемник на всю катушку, так что стены задрожали. Все равно я буду важной шишкой! Я поймал передачу для американских вооруженных сил и стал слушать Пи Уи Ханта. Он так лихо наяривал, что я даже стены оглядел, нет ли трещин. Под звуки «Когда святые маршируют» я накрыл на стол и поджарил селедку. Я уже умял свою долю с десятью ломтями хлеба, когда пришла моя старуха и сходу на меня напустилась, потому что ее селедка была пережарена и чай перестоялся — стал черным, как смола. Но она скоро утихла.
После ужина она вымыла посуду, а потом вымылась сама. То и другое — над раковиной, потому что ванной комнаты у нас не было, а ванну, похожую на цинковый гроб, только без крышки, весом в добрых полтонны, мы держали на дворе.
Снимая рабочую блузу и юбку, она напевала любимую свою песенку; слова там такие:
Все кругом счастливые, Влюбленные, красивые, А я, с разбитым сердцем, Живу в тоске…Напевая, она горой взбивала пену, а я с восхищением смотрел на ее красивые, с голубыми прожилками локти и белые плечи и думал, как жаль, что руки у нее совсем загрубели. От дешевого мыла и мытья полов они стали красные и морщинистые, как у новорожденного младенца.
— Уходишь? — спросил я.
— Не твое дело, — сказала она.
— Знаю, тебе не терпится этого полоумного Жильца увидеть.
— Да, пожалуй, прогуляюсь туда.
— Скоро темнеть начнет, — сказал я. — А там всякие бродяги так и шныряют; они могут обидеть девушку в два счета, ахнуть не успеешь.
— Я не девушка и ахать не собираюсь, — сказала она со смехом.
И надела платье с яркими цветами.
— Ты бы лучше, как балерина, одевалась, чтоб коленки было видно, — сказал я.
— Ты это о чем?
— Ни о чем, просто так, — сказал я. — Только смотри, будь осторожна на Венецианской лестнице.
Она взяла сумочку.
— Сегодня самый длинный день в году, так или нет? Чуть не до полуночи светло будет… И, кроме того, я на работе стала во какая сильная, могу и сдачи дать.
— Но эти бродяги такие силачи… Тебе с ними не справиться.
— Слишком много ты знаешь, Артур, — сказала она. — И откуда только набрался?
— Да про это каждый день в газетах пишут.
— Нельзя быть таким ревнивым. Вымойся и ложись спать вовремя. Да не сори в квартире.
— Дай мне шестипенсовик, я выпью с ребятами кофе у Марино.
— Нет, ты никуда не пойдешь; уже слишком поздно для мальчика в твоем возрасте.
— Но ты вот уходишь!
— Бога ради, довольно, — сказала она. — Ты готов меня в цепи заковать. Хуже ревнивого мужа.
— Я пойду с тобой.
— Нет, ты останешься дома, и кончено!
— Тогда дай шестипенсовик!
Она стояла у двери, перекинув сумку через плечо.
— Я вижу, ты решил пойти со мной во что бы то ни стало, — сказала она. — Глаза завидущие! Ну ладно, надевай пиджак.
— Вдвоем драться сподручней, мама, — сказал я, но она даже не улыбнулась. Всю дорогу до пристани мы чуть не бегом бежали — честно, я из сил выбился. Она молчала и открыла рот, только когда мы проходили мимо сторожа, который сидел у костра, покуривая короткую трубочку, и был рад развлечься.
— Самая подходящая ночь, чтоб крутить любовь, Пег, — сказал он, подмигивая, и сплюнул.
— Тем лучше для меня, — сказала она.
— А вот мальчишке давно спать пора, — заметил он.
— Если бы не старые мошенники вроде вас, меня бы здесь не было, — сказал я ему.
Он чуть не проглотил свою трубку.
А моя старуха подняла визг и долго еще нудила насчет того, что надо уважать старших.
— Вот зайди как-нибудь ночью к нему в палатку, узнаешь, какое бывает уважение.
— Ох, дождешься ты, получишь трепку, — сказала она. И как в воду глядела, сами увидите.
До пристани мы добрались в лучшем виде, нам только и попалось с десяток летучих мышей, которые устроили на Глассхауз-роуд, среди старых шестиэтажных пакгаузов, что-то вроде испытательного аэродрома. Когда пролетела первая, моя старуха даже подскочила. Вторая чуть не запуталась у нее в волосах, и она взвизгнула. А увидев третью, вцепилась мне в руку.
Как на грех, Жилец был не один. С ним была настоящая жар-птица, вся золотая — золотые волосы, золотое платье, золотые чулки; столько золота, что я подивился, почему при ней нет охраны.
— Это что такое? — спросила моя старуха.
— Платье как у балерины, я ж тебе говорил.
— Да я не про то, глупый. Кто это?
— Его подружка.
— Подружка! — воскликнула она.
Мы подошли.
— Ага! — только и сказал Гарри. Он сидел на крыше каюты, чтобы удобнее было разговаривать с этой девчонкой.
— Удобно же ты устроился, — сказала моя старуха. — Я уж не говорю о вежливости — заставляешь свою подружку стоять, а сам сидишь.
— Она шла мимо и остановилась только на минутку, — сказал Гарри кротко.
— Но, похоже, решила здесь заночевать.
— Это вы бросьте, — сказала девчонка. — Я просто жду своего дружка.
— Нашла место, где ждать дружка, — сказала моя старуха.
— А почему бы и нет, если он развлекается на моторке, — сказала девчонка, тряхнув головой. — Только лучше бы ему поторопиться, не то я ему башку оторву, пускай с ней тогда развлекается.
Но моя старуха уже была на взводе.
— Веселенькая, история, — сказала она.
— Ах, извиняюсь, раз такое дело, — сказала девчонка и отошла.
— Пег, ты ужасно невоспитанная, — сказал Гарри.
— А ты ужасно неразборчивый.
— Ты что, ссориться пришла?
— Пришла тебя проведать… Давно уж пора…
— Ну иди проведай меня здесь, на катере.
И он протянул ей руки.
— Нет уж, спасибо, я лучше по трапу.
— Но у меня нет трапа.
— Тогда я останусь здесь. — Она поглядела вслед девчонке. — Балерина!
— И очень миленькая, — сказал он. — Иди сюда, Пег.
На этом я их оставил. Явился дружок той девчонки, и она ему дала жару. А потом они ушли, и я тоже поплелся следом.
Сперва я шел за ними, но скоро отстал и вернулся по пристани назад. Катерок легонько покачивался, и я слышал, как плещет вода между бортом и пристанью, но в каюте было темно. Еще стоял прилив, и мне видна была палуба. Что-то юркнуло за ящик для рыболовных снастей… Мышь. Я чувствовал себя совсем одиноким, покинутым. Значит, они помирились и ушли домой. Будут смеяться, устроят на радостях пир, а мне не хотелось быть третьим лишним. Я решил погреться немного у печки и спрыгнул на палубу. Было прохладно, тихо, и я уже хотел открыть дверь, как вдруг услышал шепот:
— Дома удобнее.
— Но ведь никто не придет.
— Здесь тесно.
— Ничего, это не помеха.
Слышно было, как скрипят доски. Я замер, и сердце у меня отчаянно билось. Мне хотелось вбежать в каюту. Но я не смог пошевельнуться. Не помню, о чем я тогда думал. Кажется, о том, что пора бы уж мне поумнеть, ведь этим все занимаются, и моя старуха, конечно, тоже — я сам тому доказательство. Иначе как мог я появиться на свет?
— Встань с колен, глупый, — сказала она.
— Клянусь, я тебя обожаю. И готов стоять так хоть всю жизнь.
— Не надо, — сказала она до того нежно, что у меня кровь в жилах застыла.
— Господи, — сказал я.
Катерок покачивался, а я думал о сардинах, которые прут в сети, как сотня локомотивов. И мне показалось, что я услышал, как она и Жилец бросились друг к другу — это было как взрыв, и я взлетел по лесенке, будто ошалевший кот. Я хотел убежать от звука поцелуя, но он настиг меня на бегу, и это был уже не звук. Этот поцелуй обволок меня, как влажный целлофановый пакет, и бесполезно было бежать или отбиваться — все равно мне от него никогда не избавиться.
II
1
Не хотел бы я во второй раз пережить эти два года. Я и вообще-то не любитель повторений, но интересно, что именно эти два года, от пятнадцати до семнадцати лет, мне особенно неприятно вспоминать. Следующий год — бессмысленные дурацкие выходки, когда чуть не дошло до убийства, когда я мучил себя и других, видел смерть — все это еще куда ни шло, пережить можно. Но меня бросает в дрожь при мысли об этих двух годах, от пятнадцати до семнадцати, и о медленной пытке на работе — я сменил шесть мест, и всюду был тупик. Именно тупик, мертвая пустота. Все эти люди — кто грузил уголь и кто был на побегушках, разносил мясо, управлял машиной, просто сидел или слонялся без дела, все равно, — все они были или мертвые, или же умирающие. А если кто-нибудь вдруг переломает мастеру ребра или, наоборот, с улыбкой тянет лямку — так это не в счет, потому что все равно этих тоже топчут; подонки, пустое место — вот они кто; побежденные, которые даже не успели начать борьбу. Ведь образование не только открывает дорогу в жизни, оно еще и отсеивает людей, как мелкое сито.
Слабое утешение — видеть узкую дырочку, сквозь которую тебя просеяли. Ну ладно, выходит, остается одно — надо упорно гнуть свою линию? Но в таком случае кто кого обманывает? Когда учишься ловко взваливать мешок себе на плечи, а высыпая уголь, подкидывать лишний, пустой, как только хозяйка отвернется, чтобы просмотреть счет, упорство никак нельзя считать достоинством. Оправдания нет. Ты подонок; образованный, конечно, умеешь считать, помусолишь карандаш, прикинешь, подведешь итог — ловкость рук. Но главное — для этого надо быть подонком. В наше время нет природных алмазов, а есть одна полированная дрянь.
Я работал с шофером, по имени Чарли, который накачивался самым дешевым пивом в нашем городе и, наверно, во всем мире. Он единственный из моих знакомых обладал даром телепатии. Стоило кому-нибудь в городе обмолвиться, что есть клуб, где только дряхлый, глухонемой и подслеповатый швейцар стоит на пути к забористому дешевому пиву, как Чарли уже там. И едва только в любую из пивных на десять миль окрест привезут бочковое пиво по шесть пенсов за пинту, он уже стучится в дверь первый, раньше всех, кто живет по соседству. Он клялся пивными, примечал дорогу по пивным, жил ради пивных и вечно боялся опоздать к открытию, как добрые католики боятся смертного греха. У него была жена и пятеро детей, но дома он любовью не занимался, потому что разве это любовь: нырнул в постель, а потом — сами понимаете, раз-два, и готово, через пять минут уже захрапел.
Страсть к пиву заставляла его каждый божий день жульничать. Меня это не радовало — Робинсон был прожженный старик и знал дело до тонкостей, но понимал, что можно позволить и какие надо делать послабления. Меня пугал размах Чарли. Мы заворачивали так круто, что грузовик чуть не опрокидывался, и сваливали уголь, как в скоростном фильме, чтобы потом Чарли мог целый час спокойно распивать пиво. Я был рослый для своего возраста, да еще угольная пыль ложилась на лицо гримом, меня всюду пускали, и я шел с ним за компанию. Я пристрастился к пиву. Правда, глотать его было неприятно, зато потом становилось хорошо. Все утро таскаешь мешки по лестницам, по кривым коридорам, через узкие двери, глотка совсем пересохнет, а пропустишь пинты две, и готово дело — ходишь свеженький до самого вечера. А уж зимой каждая вывеска пивной сулила райское блаженство, это был единственный способ заглушить ломоту в пояснице, боль под обломанными ногтями и в застывших ногах. Мало-помалу оба мы совсем запутались в темных делишках, так же как молочник, бакалейщик, сборщик клубных взносов и страховой агент. Пиво шло за счет женщин. И какие же они были разные!
Высокие и низкие, толстые и худые, они почти все были озлоблены — редкая женщина, довольная жизнью и тем, что перепадало ей из получки, охотно делившая мужа с клубом, бадминтоном и местной футбольной командой, сияла, как звезда, на черном ночном небе. У большинства каждое пенни было на счету, что в муниципальных домах, что в отдельных домиках на две семьи, но во всяком деле можно словчить. Обычно стоило только пошутить и рассыпаться в комплиментах, пока пишешь счет. А Чарли, не теряя времени, ловко подбрасывал в кучу лишний пустой мешок.
Если верить Чарли, можно было ловчить и по-другому. Есть женщины, говорил он, которые, чтоб не отдавать последнее пенни, готовы заместо платы задрать юбку — и готово дело, в расчете. «Но ведь ты же весь черный!»-кричал я сквозь шум мотора, он живо поворачивался ко мне, сверкая зубами и облизывая языком розовые губы. Иногда, пошабашив, мы ставили грузовик где-нибудь под густым деревом и перемывали косточки скучающим и страждущим домохозяйкам. Вот, скажем, Полли, жена пропойцы, ярого любителя гольфа, которая и сама не прочь выпить, у нее дверь всегда открыта для мойщика окон, молочника и угольщика. Черноволосый кокни с длинными баками, который всюду таскал стремянку, был первым — стоял собачий холод, и с неба валили снежные хлопья величиной с полкроны. «Вымойте окна в спальне изнутри, — сказала она, — так вам будет удобнее». В два часа дня она была еще в ночном халатике, но и его скоро скинула; войдя в комнату, этот малый уронил ведро, ветошь и остолбенел от удивления и восторга, когда увидел высокую рыжеволосую красотку, которая стояла на стуле у шкафа и никак не могла открыть верхний ящик. «Как бы стул не упал, — сказала она, оглянувшись через плечо, как только он вошел. — Поддержите меня». Белая сборчатая ткань морщилась от ее движений, один высокий каблук подвернулся, и она, конечно, упала прямо к нему в объятия. Сколько раз, это мне Чарли рассказывал, она не отпускала его так долго, что он, наконец, убегал, забыв взять деньги за мытье окон, но всегда получал их на другой раз.
— Да ну! — говорил я, сверкая глазами, и у меня пересыхало во рту. — Враки! Он просто тебя морочил…
— Нет, шалишь! — возражал Чарли. — Этот кокни скоро всем разболтал, и тогда уж никто не отказывался в ее доме от чашки чаю, а она всякий раз придумывала новые штучки, чтоб добиться своего. — Он вздохнул. — С ней побыть хуже, чем полный день отработать, — наверно, поэтому ее муж и увлекся гольфом… Дня без гольфа не может прожить.
— Но если ты весь черный…
— Шалишь, брат. Подумаешь, дело какое. Не беспокойся, теплой воды у нее хватало… А все же жаль, что им пришлось уехать. Весь город про них говорил, и не удивительно. Талант!
Он подталкивал меня локтем.
— Ничего, брат. Ты еще свое возьмешь.
И обычно рассказывал любимую свою историю про то, как он, когда только еще начинал работать, познакомился с одной вдовой…
Вскоре я убедился, что это не враки. Сразу видно было, как женщины на нас смотрели, а иногда и шутили, что до нас, мол, лучше не дотрагиваться, ведь угольщик приносит счастье бездетным женщинам, но девять из десяти упали бы в обморок, будь в этом суеверии хоть доля правды. У этих скучающих женщин были голодные глаза, они запоем читали «Правдивые романы»[2] и мечтали встретить красавцев, каких показывают по телевизору.
— Ничего, брат, ты еще свое возьмешь.
И он был прав.
Но не думайте, что, развозя уголь, мы только и развлекались сплетнями да веселенькими приключениями. Это был тяжкий труд, от которого болели плечи, но еще хуже было то, что я не знал покоя. Я никогда не был слюнтяем, но даже отпетый мошенник и тот покой потеряет, если каждую неделю будет зарабатывать два фунта темными способами, и не только потому, что это нехорошо, а потому, что рано или поздно обязательно влипнешь. Уж будьте спокойны, эта старая лиса Робинсон каждую неделю принюхивался и, наконец, поймал Чарли с поличным. Деваться было некуда.
Я ненавидел Робинсона, и в ту пятницу, когда все это случилось, стоя у него в конторе, готов был огреть его по башке и запихнуть в какой-нибудь из его же мешков. Потому что он был прав. Но что поделаешь, если ладить с напарником можно, только надувая хозяина? И если даже на конфеты тебе и без того хватает, до чего ж соблазнительно иметь лишние деньги в кармане на пиво и на пластинки, какие тебе нравятся, не стрелять сигареты и не выпрашивать у хозяина на коленях в среду и в четверг лишний шиллинг. Это был самый неприятный разговор в моей жизни. Старик был маленький и сухой, как мумия, — только глаза живые. Они, будто головастики, шныряли под очками, жгли мне лицо, покрытое угольной пылью, и пот катился у меня по спине под кожаной курткой.
— Я мог бы отдать вас обоих под суд, — сказал он.
Я дрожал. Все у меня внутри колыхалось, как колосья на ветру, но я выдавил из себя:
— Это ваше право, мистер Робинсон.
— Значит, сознаешься?
Я кивнул.
— Что ж, ты хоть запираться не стал, как тот, второй.
Я представил себе, какое было лицо у бедняги Чарли, все в грязных полосах, так что не разобрать, пот это или слезы.
— Он больше теряет.
— Это верно — у него жена и пятеро душ детей. А ты свободен как ветер. Или, может быть, нет? — Старый плут выжимал из этой истории все до последней капли.
Я понурил голову и сказал:
— У меня мать есть.
— Ну так вот, — сказал он резко. — У него пятеро детей, а у тебя мать… Как по-твоему, насколько вы меня нагрели?
— Не вас — клиентов.
— Нет, не клиентов, — сказал он устало. — Они потеряли только деньги, а я — репутацию. Этого ни за какие деньги не купишь… Всю жизнь я был ее рабом. А ты еще просишь тебя простить.
— Я не прошу.
— Не просишь, вот как? Поглядел бы на себя в зеркало.
Он был прав. Если б я знал, что, ползая перед ним по полу, я могу хоть что-нибудь поправить, я не поколебался бы ни секунды. Я лизал бы ему ботинки, шнурки, подошвы. Но я знал, что это бесполезно. Он все решил еще до того, как я переступил порог.
— Ладно, — сказал он. — Я не стану с тебя ничего взыскивать — подсчет убытков обошелся бы в твой годовой заработок. Ей-богу, будь мне все ясно, я подал бы в суд. Но мне не все ясно, и я не хочу, чтоб на моей совести осталось, станут ли тебя судить как несовершеннолетнего или по какой другой статье. А теперь — вон.
Я бросился к двери, но он остановил меня на пороге.
— Всякому человеку должно повезти хоть раз. Считай, что тебе повезло. Помни это и будь благодарен той женщине, которая меня предупредила. Если у тебя есть голова на плечах, ты должен понимать, что она тебе благодеяние оказала.
На мое счастье, у нас в городе, когда берут на работу, рекомендаций не спрашивают. Моя старуха, конечно, была мрачнее тучи, а Гарри весь вечер просидел у камина, уставившись на огонь. Это было хуже всего. Я хотел, чтоб он убрался из нашего дома, но вот что удивительно — я уважал его и дорожил его уважением.
2
Я начал ходить в агентство по найму молодежи. Стояла зима, земля каждое утро замерзала, а когда не было мороза или дождя со снегом, дул восточный ветер, который деревья валит. Мне повезло. Я получил место ученика в пекарне. И не в какой-нибудь захудалой пекарне, а в большой, первоклассной, где, кроме мужчин, работали еще пятьдесят или шестьдесят девушек — все больше в ночную смену, булки в печах переворачивали. Я был на побегушках, носился от лифта, который по старинке приводили в действие веревками, в посудную, где меня ждала целая гора грязных форм для пирожных, испачканных вареньем ножей, подносов, жестянок и всякой всячины, а оттуда с лопатой — к печам, где струился горячий воздух и шипел пар. Или до утра выгребал шлак из топки позади печей, в настоящей преисподней, где трещали миллионы сверчков и шныряли мыши. Я ненавидел все это. Ненавидел всех женщин и девчонок, особенно девчонок. Надсмотрщицы почти сплошь были молодящиеся старухи и очень строгие — им за строгость и платили. Но у них хватало хлопот с девчонками, и на меня они не обращали внимания. Для них я был вроде ходячей мебели. Они кричали: «Артур!», как кричат собаке: «Фидо!» Только не так ласково. А девчонки дразнились. Я жил как среди заговорщиков. Все время вокруг шептались и хихикали. Иногда мне хотелось поймать какую-нибудь из девчонок в пекарне или наверху, в кладовке, и зажать в темном углу, на мешках с мукой. Но они были хитрые. Да и я не умел держать язык за зубами. Один раз, в перерыв, они толпой окружили меня, как стая волков, и стали дразнить, что я маленький, ничего не смыслю, и перешептывались, хихикали и глазами стреляли, а уж это совсем черт знает что. В конце концов я не выдержал. Взорвался, как вулкан. Лупить их я не стал, но дал понять, что мне на них наплевать, я видал кое-что получше. Но хоть я и не врал, а язык распускать все равно не стоило.
Я видел, что одна из надсмотрщиц стояла поблизости и все слышала. Она мне в матери годилась, и я покраснел. Потом все разошлись, но этот маленький случай не забылся — с того времени я прослыл грозой женщин, и девчонки с притворным страхом шарахались от меня, взвизгивали и жались по углам, хватая ножи, которыми резали тесто, как будто готовы были защищать свою невинность до конца. Невинность! Да среди них ни одной непорченой не было. Каждую пятницу я слышал, как они шепчутся в углу, судачат, как заставить «его» сделать то или это, со страхом рассказывают, что мама подозревает или уже застала их, и все такое. У них была одна цель — выйти замуж, они мечтали о легкой жизни, но потом попадали в рабство, заставлявшее их ненавидеть своих мужей. Я был слишком молод, чтобы меня можно было женить на себе, и они отстали. Но та надсмотрщица все поглядывала на меня и обращалась ко мне тихим, ласковым голосом. Она была замужняя женщина, не вдова и, кажется, была несчастна со своим мужем.
Как ни странно, я позабыл ее имя. Позабыл напрочь. Но не забыл ее отношения ко мне. Так вот, она все на меня поглядывала. Стоило мне выйти, она сразу замечала. А когда я входил, она и это замечала, не оборачиваясь, даже не поднимая головы. Не спрашивайте меня, откуда я это знаю, — бывало, я тихонько входил после получасового отсутствия, и она звала меня, не посмотрев, тут я или нет. И хотя ей было за тридцать, нас что-то связывало, будто у нас была общая тайна или только мы двое из всех понимали что к чему. Но мы ни разу не разговаривали. Я и не пробовал завести разговор, она тоже. А если в конце смены мы случайно сталкивались у двери, она робко сторонилась, пропуская меня вперед, или останавливалась и ждала, покуда я отойду подальше. Но несколько раз я чувствовал, что она вроде бы щупает меня глазами, и думал — неужто и женщин, как мужчин, интересует то, что под одеждой.
Я старался даже не думать о ней. Она была вдвое меня старше, и не стану врать, будто это была красавица, — недурная, милая, но не из тех, от каких дух захватывает.
Один раз, когда я подметал в кладовке, она вдруг появилась в дверях как призрак. Ну и везло же мне — ведь там было полно других женщин, которые мне куда больше нравились. Да и не подозревал я, к чему дело клонится. Кладовка была темная, с высоким потолком, все лампы мукой запорошены. Мой веник поднял с пола целое облако сухой грязной муки, и она словно летела сквозь это облако, как мотылек сквозь дым. Она прошла за мной в дальний угол. Я то и дело оглядывался через плечо, а она все шла неслышными шагами. Когда она приблизилась, я почувствовал запах духов. Он пронзил меня, как игла, пробившись сквозь тяжелый запах муки, миндаля, грецких орехов и всего остального. Наконец податься мне стало некуда — путь преградила баррикада из мешков.
— Ну? — сказала она.
— Вам что-нибудь нужно? — спросил я, как дурак.
— Нет, просто хочу с тобой поговорить.
Я сел, ухватившись за веник, как за якорь спасения. А она, скажу я вам, ничуть не была взволнована и не дышала тяжело; она была холодная, как родниковая вода, и очень уверенная в себе. Постояла, глядя на меня со странной улыбкой, потом погладила по голове. Кажется, я даже подскочил…
— Ты высокий для своего возраста, — сказала она. — Совсем уже взрослый. Откуда у тебя этот шрам? — Она провела по рубцу пальцами. Эти пальцы жгли меня, словно были намазаны бритвенным кремом. — Отчего ты дрожишь — тебе больно? — Не дожидаясь ответа, она продолжала: — Я слышала, как девчонки к тебе приставали, — вот суки! — В голосе ее было столько ненависти, что я вылупил на нее глаза. — Убери веник.
Как солдат, повинуясь приказу, я отставил веник в сторону и при этом задел рукой ее колено — так близко она стояла. Тут уж она вздрогнула.
— Я слышала, как ты сказал… сказал, что знаешь все про девушек. Наверное, ты просто хвастал? — И я понял, что сейчас произойдет. Я не мог этому поверить, мне хотелось уйти, убежать и в то же время хотелось остаться. Я покачал головой. — Значит, правда? — протянула она очень тихо. — Кто же она? — И все время она гладила меня по волосам. — Девушка твоего возраста или старше… как я?
— Как вы, — сказал я.
— Ах! — Она вздохнула с облегчением, будто выиграла спор у самой себя. — Я так и думала. — Голос у нее уже был не такой ласковый. — Знаешь, мне всегда ужасно хотелось знать, как это начинается. Вот так? — И она поцеловала меня в губы. Сразу все стало доступно, и это произошло слишком быстро, чтобы было хорошо. Я не успел даже сказать ей тогда, что это было вовсе не так, а уж потом — тем более. Тогда все было медленно, нежно, доверчиво. А тут — борьба, засада, как будто она меня убить хотела. Насколько я понимаю, она мстила. В той, другой, не было ненависти, а только какая-то печальная усталость, желание помочь и самоотвержение. Но эта была постарше.
Вечно все выходит не так, как хочется. Вместо красотки вроде Полли или вроде той, про которую говорил Чарли, когда ткнул меня в бок, мне досталась женщина, которая могла получить от жизни все, но не получила почти ничего и хотела отдавать, а не брать. В тот день, в кладовке, среди мешков с мукой, со мной была не одна из тех нахальных девчонок, которых я мечтал унизить, а женщина, которую унизили. И от этого была опасной. Это случалось еще несколько раз. Она вдруг ни с того ни с сего кидалась ко мне, и у меня всегда было такое чувство, будто она делает это не по своей воле, будто кто-то ее заставляет. Она не хотела со мной разговаривать. Виделись мы с ней только в пекарне. И в конце она была мне такой же чужой, как и вначале. В общем я не выдержал. Я должен был избавиться от этого. И не только потому, что она была замужем или забывала об осторожности, — просто стоило мне ее увидеть, как хотелось бежать без оглядки. Я не помню ее имени, но часто думаю о том, кто же она такая, какова она была на самом деле, зачем я ей понадобился и для чего она сделала это. Она — единственная женщина в моей жизни, в которой не было ни капли нежности. Я и сейчас не понимаю, что же так ожесточило ее. Правда, дочь старьевщика, Милдред, тоже была такой, но ту я видел только издали, так что она не в счет. И потом эта женщина никогда не пыталась меня оскорбить. А ведь ей даже не нужно было сказать или сделать что-нибудь оскорбительное. Просто ее прикосновения были оскорбительны.
И вот я снова ушел с работы, прослыв летуном, потому что нигде не мог удержаться. Я был словно траулер, который шторм треплет у самой гавани. Когда я видел в трамвае, как какой-нибудь малый в чистом воротничке и при галстуке читает газету или книгу в целлофановом переплете, то даже завидовал. Вот бы и мне стать таким — подающим надежды молодым человеком, который своего не упустит, работает как положено, шевелит мозгами и всего достиг. Тепло, светло, мухи не кусают, и рекомендательные письма ему ни к чему, потому что он себя уже зарекомендовал. Просто уму непостижимо, как таких земля носит — брр!
Все, что я пробовал делать, было просто и старо, как мир. Вот, скажем, ловчил, как ловчили лет пятьсот назад, а то и больше. Или таскал ящики с яблоками, мешки с картошкой и корзины с капустой на овощном рынке. Сегодня одно, завтра другое. А все потому, что работу давали только такую, которую нельзя механизировать, и на своем коротком веку я уже раз остался безработным, потому что меня заменили машиной и вместо деревянных бочек стали делать металлические. Так или иначе, сам ли я был виноват, или кто другой, не все ли равно, я прошел через это, как касторка через кишки. Моисей умер, когда увидел землю обетованную, но человек, выброшенный за борт, должен жить. И я любил жизнь. Только одно отравляло мне существование — отношения между моей старухой и Гарри. Я и сам не понимал, что это мне как нож острый, что я все еще не могу без нее обойтись, все еще, так сказать, держусь за ее юбку.
Теперь я могу смеяться над их романом, над котенком, улитками и ручной мышкой, которую он, дернув за веревочку, выпустил из коробки в тот вечер, — она сидела у него в каюте, неподвижная, как фарфоровая статуэтка, и вдруг, увидев розовый носик и глаза-бусинки, бросилась к нему в объятия. Но тогда мне было не до смеху. Забавно, как подумаешь, что именно мысль об этом была для меня всего мучительней, а сам я меж тем не терялся. Взять хоть ту женщину, о которой я уже упоминал. Дело шло к этому уже давно, но случилось все за две недели перед тем, как накрылась моя карьера угольщика. Когда Чарли сказал мне, к чему идет, я подумал, что он рехнулся, — ведь она была уже не девочка. Он покачал головой. «Есть такие, которые любят молоденьких, — сказал он. — Ну да ладно, сам увидишь». И вскоре я получил первое подтверждение его правоты. Она жила в шикарном районе, где все покупают оптом, но уголь заказывала по сто фунтов. Сперва-то она брала помногу, сотен по десять-двенадцать. Но потом сократилась до четырех или пяти и всегда предлагала мне выпить чаю. Шатенка, с карими глазами, не толстая, но плотненькая, она всегда смотрела на меня с грустью. Она была слишком порядочная, чтоб искать приключений, как та, которую звали Полли; и я уверен, что, если б не случайность, между нами ничего и не было бы. Но вышло так: раз вечером я от нечего делать слонялся возле Центрального вокзала и вдруг увидел ее — она вышла с тяжелыми чемоданами, усталая с дороги. Меня она не заметила.
Я подошел и сказал:
— Позвольте, помогу вам чемоданы снести.
Она обернулась. Она была смуглая, из тех, которые нелегко краснеют.
— Ну хорошо… Ты такой милый мальчик… Как ты переменился!
— Покультурнее малость стал, — сказал я. — Мне самому приятно. Вы меня всегда чаем поили, ну, я и не мог глядеть, как вы чемоданы тащите.
В такси она сказала:
— Подвезти тебя домой? Или нам по пути?
Меня тоска брала, когда я думал о том, что скоро опять семь утра, мысль о ворованном угле давила меня, и я соврал. По-моему, она поняла, что я вру. Такие здесь не живут. Шофер такси, наверно, принял нас за сумасшедших, — конечно, если вообще обратил на нас внимание, потому что мостовая была скользкая, как каток, и кругом полно машин и пьяных. А может, он подумал, что я ее сын, и тогда это самое смешное, потому что все десять минут, пока мы мчались сквозь ночь неизвестно куда, я не замечал ничего вокруг, кроме запаха ее духов и прикосновения женщины — тяжести, привалившейся ко мне. Я плохо видел ее лицо, но оно было нежное, хоть и не без морщинок; щеки, пожалуй, слишком пухлые, но уродливой ее не назовешь. Правда, красавицей — тоже, но в ней было какое-то подкупающее спокойствие. Я не знал, о чем разговаривать, и она пришла мне на помощь.
— Надеюсь, у меня там все в порядке, — сказала она. — Дом неделю стоял запертый, но в камине наготове дрова.
— И чайник тоже наготове? — спросил я.
Она взяла мою руку, сжала ее, положила к себе на колени, и я понял, что теперь все в порядке, а она сказала:
— Зови меня Стеллой.
Под конец она все же затопила камин, и мы выпили чаю, а домой я ушел в два часа ночи и от волнения не мог даже придумать никакого объяснения для моей старухи. Но — и это очень важное «но» — я думал о ней и о Гарри, когда был у этой доброй, ласковой женщины. И, верьте или нет, мне было больно. Можете этому поверить.
Я так часто менял работу, что ездил на всех трамваях в городе, но никогда не успевал познакомиться с кондуктором. И рабочая книжка у меня ни разу даже не истрепалась. Бывали случаи, что просто работы не оставалось, но чаще я имел счастье оставаться без работы. Я был уже взрослый и с норовом, чуть что — становился на дыбы. Да к тому же много воображал о себе. Меня прозвали Красавчиком, потому что шрам только оттенял мою гладкую кожу, блестящие голубые глаза и красивые, с золотистым отливом волосы, гладко зачесанные назад. Я отлично знал, какая у меня бывает злая улыбка и дьявольский взгляд — моя старуха не раз говорила мне про это, — и пускал в ход улыбку или же пускал в ход язык, а если языка было мало, на помощь приходил взгляд. Всякий раз это против меня же и оборачивалось, но я — хоть бы что и делал вид, будто мне наплевать. Честно говоря, мне вовсе не было наплевать. Мне было обидно, что я такой глупый, неопытный щенок, ничего не сумел добиться, и светлая мечта моей матери превратилась в черную тучу, омрачавшую ее жизнь.
3
Но если я и был щенком, то, во всяком случае, не в домашних делах. Моя старуха с Гарри не могли пожениться, потому что никто не знал, куда смылся мой старик; ее мучила совесть, и я сообразил, что могу этим пользоваться. При всяком случае я ее шпынял. И убеждал себя, будто из-за моего старика, но только это смех один. Он был для меня пустым местом, и, думая о нем, я только злился, и к тому же не на шутку. Нет, за всем этим стоял я сам. Я с большой буквы.
Но она все терпела и даже решилась ради меня помириться с дядей Джорджем — старый болтун Джордж, раздутый от важности, был великий мастер капать на мозги. Для нее, с ее характером, это была жертва. Она вошла, стягивая перчатки, готовая к бою, чувствуя и разделяя мою смертельную ненависть к этому человеку.
— Знаю я, что ты сейчас скажешь, и чего он потребует, тоже знаю не хуже твоего. Но эти твои прыжки с одной работы на другую у меня вот где сидят, дальше уж некуда, так что изволь пойти со мной, а гордость в карман спрячь.
— Я устрою его к нам на фабрику, — сказал Гарри.
— Многого он там достигнет!
— Заработает не меньше и никому не будет обязан.
— Вот еще — сардины! Да знаешь ли ты, кем он может стать, если будет держаться дяди Джорджа? Коммунальным инженером!
— Ну ладно, дело твое. А только будь у меня сын, я не захотел бы…
— Но он тебе не сын, так что помалкивай, — сказала она.
* * *
Великий паша пожирал ужин и пожирал глазами танцовщиц на экране телевизора.
— Садитесь, — повелел он.
— Садитесь же! — эхом повторила тетя Мэри.
Квартира обставлена была с таким расчетом, чтобы ослепить великолепием: кухня, она же столовая, телевизор, радиола, стиральная машина, электрический чайник, кухонный шкаф, плита и холодильник. Кроме того, стол, четыре стула да еще мебельный гарнитур из трех предметов, тут же латунное ведерко для угля, подставка для кочерги и каминных щипцов. На стенах — два здоровенных зеркала, на которых намалеваны олени, пьющие из озера, портрет папаши и мамаши дяди Джорджа и две цветные фотографии самого дяди Джорджа; на одной он с цепью — символом власти мэра, на другой — в рабочей обстановке — вы только подумайте! — стоит внутри одной из тех цементных канализационных труб, с которыми мне предстояло свести близкое знакомство, когда я буду под его руководством карьеру делать.
— Хорошая сегодня погода, — сказала моя старуха.
— Тсс! — шикнула на нее тетя Мэри. — Он смотрит телевизор.
Ей незачем было добавлять, что к тому же он наворачивает фунтов четырнадцать жареной картошки и полфунта свинины да еще яичницу из двух яиц. С одного боку от него стояло масло, с другого — хлеб, посреди стола — большая банка с маринованными луковицами. Он не сводил глаз с экрана — сразу видать любителя — и каждую секунду поддевал на вилку луковицу, что называется, «добавлял по вкусу».
Один раз он сказал:
— Мэри, ты плохо поджарила картошку.
— Но я старалась поджарить, как всегда.
Он что-то буркнул. И больше ни слова не было сказано, покуда девицы не исчезли с экрана. А когда он хотел еще чашку чаю, то делал вот что — если, конечно, вас это интересует: стучал ложечкой по блюдцу, покуда жена не прибегала сломя голову. Не удивительно, что она была такая тощая и жалкая. Под конец он похлопал себя по животу, рыгнул раз-другой и неприязненно посмотрел на меня.
— Ну-с, значит, ты пришел, — изрек он.
Я и бровью не повел, но видел, что мою старуху чуть не стошнило.
— Пришел, дядя Джордж, — сказал я смиренно.
— Ну, если у тебя голова не набита всякими глупостями, мы с тобой поладим, — сказал он. — Дорожи местом, делай что тебе велят, бери с меня пример, и, как знать, быть может, ты многого достигнешь.
— И будь уверен, не прогадаешь, — сказала тетя Мэри. — Дядя своими силами выбился… начальник на участке, большой человек в лейбористской партии, был судьей и даже мэром…
— Много соли пришлось съесть, — сказал дядя Джордж. — Но все, что у меня есть, я получил по заслугам. Да, по заслугам, мой мальчик; никогда дядя Джордж не шел кривыми путями, не лизал пятки, не искал протекции. Заслуги, только заслуги. И здравый смысл. Я вот и в жилищном комитете то же самое говорил — это проще, чем канализацию проложить: надо только не перекосить трубы, укладывать по отвесу и делать дело.
— Ты заслужил уважение, — с трудом выдавила из себя моя старуха.
— Да-да, меня уважают, очень даже уважают, — сказал он. — Я знавал самых высокопоставленных людей, но всегда брал только своими заслугами и достоинствами. Джордж всегда был честен. Я вам не рассказывал, что сказал мне один раз Эрни Бевин? Он сказал: «Я сразу приметил тебя с трибуны, приятель, — у тебя честное лицо, и ставлю фунт против пенни, что ты честный Джордж с берегов Тайна». Ну, что вы на это скажете, а? Правильно рассудил, как по-вашему? Ей же богу, сразу видно, что это был за человек.
— А кто он был, этот Эрни Бевин? — спросил я.
— Как, ты никогда не слышал об Эрни Бевине? Генеральном секретаре союза докеров? Да это величайший из лейбористских лидеров всех времен — человек, который сделал для победы над немцами больше Черчилля! Вот вам, пожалуйста, нынешняя молодежь… Мы спину гнули, не щадили себя, а они спрашивают, кто такой Эрни Бевин…
— Да ведь его всякий знает, — сказала тетя Мэри.
— Конечно, это как таблица умножения. Черт возьми, тебе еще многому нужно поучиться. Я знаю, ты современную школу кончил. Но это не оправдание…
Я решил закинуть удочку, и он сразу клюнул.
— А Бевин был вашим приятелем, дядя Джордж?
— Моим приятелем! Старина Эрни умел ценить людей по достоинствам. Говорю тебе, не раз он кивал мне или подзывал меня к себе в зале заседаний; не раз жал мне руку, поздравлял меня с удачной речью. Да, Эрни ценил людей по достоинствам.
— Наверно, это было очень давно.
— Да, стареем, стареем.
— Я всегда был слаб в древней истории, — пробормотал я.
Моя старуха бросила на меня убийственный взгляд, но до толстокожего дяди Джорджа насмешка не дошла.
— Да, он вошел в историю! Только благодаря этому человеку мы достигли таких грандиозных успехов.
— А мне нравится Казенс, — ввернул я, зная, что Казенса он терпеть не мог. — Вот человек, который имеет твердое мнение насчет этих вонючих водородных бомб и всего прочего.
Господи помилуй, он подскочил чуть не до потолка.
— Да это просто-напросто смутьян! Нос задрал, а ведь подумать только, был учеником Эрни! Он, конечно, из наших, но за ним глаз нужен. Из него никогда не выйдет настоящий толк.
— Так как же насчет работы, Джордж? — спросила моя старуха.
— Но, мама, мне очень интересно поговорить с дядей Джорджем, — сказал я. — А вдруг Фрэнк Казенс станет премьером?
— Никогда в жизни. Его не выберут.
— Бывали и не такие глупости, — сказал я. — А вдруг вы увидите его на Даунинг-стрит[3], что тогда, дядя Джордж?
— Нет, брат, это невозможно. Если б ты знал нашу партию так, как я, ты понимал бы, что Фрэнку Казенсу никогда не бывать премьер-министром. Никогда!
— А вдруг, ну, предположим на минутку, вдруг он все-таки стал бы премьером, тогда что? — настаивал я, притворяясь, будто не вижу, как моя старуха делает мне знаки.
— Тогда я сохранил бы верность нашему старому зеленому знамени! — сказал он. — Я отдал бы ему всю свою преданность, ибо в этом основа демократии и так велит мне совесть: всегда идти вместе с партией. Я создал партию, а партия создала меня; и я буду верен партии, потому что она открывает дорогу людям по достоинствам, невзирая на лица — вот что приятно!
Глаза у него вылезли на лоб, он весь вспотел.
Я вспомнил слово, которое меня как-то еще в школе заставили в наказание написать сто раз подряд, и быстро пустил его в ход:
— Значит, у вас лицеприятная партия, да?
Это так уважительно, скромно, лестно; тут я их всех купил.
— Ах, это оч-чень верно, — сказала моя старуха.
— Святая правда, — сказала тетя Мэри.
А дядя Джордж застегнул жилетку и пробурчал:
— Меня радует, что ты все же извлек из образования кое-какую пользу.
Они совсем растаяли, а я чуть со стула не свалился, так меня корчило от смеха. Между нами говоря, я знал, что дядя Джордж проходимец и повторяет чужие слова, но уж это было сверх ожиданий.
Он достал сверкающий портсигар и предложил мне сигарету.
— Нет, спасибо, дядя Джордж, — пробормотал я, чуть не лопаясь со смеху.
— Дар местного отделения нашей партии за двадцать лет безупречной работы, — сказал он. — Я рад, что ты не куришь, юноша. Я и сам никогда не курю днем.
Представился прекрасный случай сказать ему, что, поскольку я не курю ни днем ни ночью, выходит, я вдвое лучше его. Но я подавил в себе это желание и сказал только, что не хочу и начинать, поскольку потом бросить трудно. С моей старухой чуть истерика не приключилась.
— Ну, у меня-то есть сила воли, — сказал он. — Могу бросить когда угодно. В этом и заключается демократия — в самодисциплине. В этом сила старшего поколения. Оно прошло суровую школу. А молодежь, эти умники курят одну сигарету за другой и пьют запоем, не могут совладать с собой.
— Джордж им всегда это говорит, — сказала тетя Мэри. — Правда, Джордж?
— Прямо в глаза. Я стремлюсь к истине, а не к дешевой популярности, в этом мое достоинство.
Моя старуха опять делала мне знаки, но я не мог удержаться и вместе с ним повторял его любимый припев: «В этом мое достоинство».
— Я уверена, Джордж, что он попадет в хорошие руки, — сказала моя старуха.
— Конечно, — сказал дядя Джордж. — Пусть только будет достоин меня… Вообще-то я ничего не делаю по знакомству, но на этот раз, так и быть, в виде исключения. Помогу ему начать, а потом уж пускай сам пробивает себе дорогу. Но я должен поддерживать дисциплину, так что никаких поблажек: как только освоится, должен будет работать наравне с остальными.
— А сколько там платят? — спросил я.
— Ну вот! Сейчас он спросит, сколько часов в день работать, когда обеденный перерыв и какой отпуск. Пять фунтов двенадцать шиллингов шесть пенсов, и, если хочешь знать, нам порядком пришлось за это побороться. Если ты малый умный, будешь отдавать всю получку матери, как я свою — тете Мэри. Не транжирь деньги, откладывай.
— Он будет откладывать по два фунта в неделю, — сказала моя старуха, и глаза у нее заблестели. — Слышишь? — обратилась она ко мне. — В первую же получку пойдешь на почту и откроешь текущий счет.
Я решил после сказать ей, что сперва мы должны устроить кутеж, а уж потом начнем откладывать первую тысячу фунтов. Она знала не хуже моего, что этому старому мошеннику легко копить деньги, потому что профсоюзные дела, комитеты и всякие там разбирательства приносят ему побочные доходы… Но ладно уж, молчу, потому что всякому известно-в нашей стране на общественных должностях не разживешься. Ха-ха-ха!
— Когда начинать?
Но он увильнул от ответа, и сразу стало ясно, что это зависит не от него. Чтобы устроить меня на работу, он сам должен был унижаться перед кем-то, как мы сейчас перед ним. Я запросто послал бы его куда подальше — и делу конец, но надо было подумать о моей старухе. До чего ж они странные, эти женщины! Если им приспичит, унижаются до тех пор, покуда не добьются своего. Но задаром ломать комедию не согласны. К тому же, не скрою, на одну чашу весов с любовью к моей старухе были положены пять фунтов двенадцать шиллингов и шесть пенсов. Я потешился над старым мошенником и еще не так собирался потешиться по дороге домой. Но все-таки мне было противно.
Только мы вышли за дверь, как моя старуха с ходу на меня напустилась, но пыл у нее был уже не тот: я видел, что внутри она вся кипит, потому что ей пришлось ему поддакивать.
— Вот погоди, — сказала она. — Доиграешься ты со своими намеками! Ты не только с ним это проделываешь, а и со мной тоже. Думаешь, я не замечала?
— Ну уж, во всяком случае, не с ним, мама. Он слишком толстокожий.
— Это несправедливо и даже жестоко, ведь он, бедняга, жертвует своими принципами, чтобы тебе помочь, устроить тебя на работу, да еще какую!
— Не обманывай себя, мама. Просто для него это случай лишний раз разыграть из себя пашу. Подумаешь, волшебник какой, размахивает своей паскудной палочкой да выпендривается перед бедными родственниками!
— А я уверена, что душа у него добрая, — сказала она.
— Покуда не коснулись его кармана… или его гонора, — сказал я. — А не то сразу такая вонь пойдет!..
— Его достоинство… — начала она и запнулась. Мы переглянулись, и тут нас обоих одолел такой смех, что мы до самого дома не могли остановиться.
Мы напились чая и послушали по радио церковную службу; моя старуха ее любит за псалмы в джазовом исполнении. Но потом все удовольствие было испорчено, потому что они дождаться не могли, когда же я, наконец, уберусь. Я ушел, только когда мне велели. Лег у себя в комнате и стал слушать. Но они настроились на другую станцию и запустили приемник на всю катушку, так что в пору было заглушить самого дядю Джорджа — дураку ясно, чем они там занимались. Но тут уж никуда не денешься, и я лежал, глядел на звезды и думал о том, до чего ж собачий выдался день и каково это быть рабочим. Сразу видно, какая там работа, если платят за все про все пять фунтов двенадцать шиллингов и шесть пенсов, — как ни клади, выходило, что это немногим хуже смерти.
4
Недели две, а может днем меньше или больше, о дяде Джордже не было ни слуху ни духу: я так думаю, он выжидал, покуда соответственный человек будет в соответственном настроении. Моя старуха из кожи вон лезла, стараясь найти мне занятие, чтоб я чего не натворил. Для начала она велела мне побелить потолок в кухне, и я понял, что, если дело у меня пойдет, не миновать мне и всех остальных потолков в квартире. Поэтому я не спешил кончать работу, корпел, как художник над своей лучшей картиной. Гарри сказал, что в жизни не видел ничего более интересного.
— Я готов на него часами глядеть, — сказал он.
— К тому времени, как он кончит, ты на пенсию выйдешь, — кисло сказала моя старуха; ей до смерти надоело каждый день покрывать простынями стол, буфет и всю мебель, а потом стирать эти простыни, потому что основой моего художественного мастерства был смелый мазок, отчего известка брызгала с кисти во все стороны.
Когда потолок был закончен, у нее пропала охота красить или белить еще что-нибудь, и я решил насладиться последними деньками свободы. Была середина лета, и я целые часы проводил в овраге, неподалеку от спортклуба. Облюбовал там уютную ложбинку, взял у старого Чарли Неттлфолда серп, накосил травы и устроил себе лежанку, чтобы валяться на солнцепеке. Раздевшись до трусов, я стал помаленьку поджариваться. Лежал на спине и, прикрывая глаза растопыренными пальцами, смотрел, как по небу плывут облака. А когда облака мне надоедали, я поворачивался на бок, и мне был виден мост, по которому с грохотом неслись легковые автомобили, грузовики или автобусы, как муравьи, ползли люди и иногда мелькала какая-нибудь красотка в ярком платье; а не то поворачивался на другой бок и смотрел, как поезда с грохотом бегут по другому мосту. Иногда я шел прогуляться до спортклуба, но потрепаться мне было не с кем, потому что днем там все больше сидели заядлые рыболовы, которые любят одиночество и никого не замечают. Это был самый приятный отдых в моей жизни, и я жалел лишь об одном — что больше не встретил молчаливого человека, который однажды прокатил меня по реке. Он возил меня в Шилдс и обратно и за весь путь не сказал ни слова. Человека, который не хочет разговаривать, хоть тресни, и готов плыть на край света, стоит повстречать в жизни во второй раз.
Как-то раз на меня набрел один малый — Краб Кэррон. Я лежал ничком на сене, подставив солнцу спину, и предавался золотым мечтам о том, как славно я заживу, когда стану миллионером. Свой самолет, яхта, собственный живописный остров, целая армия рабов и рабынь. Единственной свободной женщиной в этих владениях будет моя старуха и при ней друг Гарри, наш Жилец, — конечно, только в том случае, если она будет очень настаивать. Мое воображение разыгралось, и я представил себе, как сам премьер прилетит на вертолете, чтобы посоветоваться со мной, но тут мне захотелось перевернуться на другой бок. И я увидел Краба Кэррона, но только не сразу его узнал, во-первых, потому, что он казался чуть не вдвое выше, а во-вторых, я смотрел на него против солнца.
— Эй, старик, здорово ты меня напугал, — сказал я.
— А ты что тут делаешь?
— Хочу загореть перед отъездом в свой ежегодный отпуск в Вест-Индию, — говорю.
— Да у тебя уже и так потрясный загар. Ты сюда каждый день ходишь?
— Смотря по погоде. Когда дождь или ветер, я, понятно, сижу дома и ковыряю в носу.
— Не остроумно, — сказал он. — Ты ничего такого не замечал? Я хочу сказать, здесь, поблизости?
— Я замечаю только, когда заходит солнце, Краб, — сказал я. — И тогда ползу домой. А в чем дело? Ты затеваешь что-нибудь?
С такими, как этот Краб Кэррон и его брат, мой ровесник, по прозвищу Носарь, надо напрямик, без церемоний — иначе с ними нельзя.
— Нет, просто так интересуюсь.
Он присел возле меня на корточки и стал жевать соломинку. Оба эти Кэррона — красивые ребята, но если просветить им головы рентгеном, так там сплошь слоновая кость окажется, и притом далеко не лучшего качества. В Крабе было росту без малого шесть футов — видный из себя.
Он был смуглый, черноволосый, лицо длинное, как у индейца. Глаза не то карие, не то черные — не разберешь, но в общем под цвет волос. Он носил красные джинсы, которые, наверно, мог натянуть только с помощью ботиночного рожка, и шерстяную спортивную рубашку. Говорят, его дед был испанским матросом. Может, это и правда. Во всяком случае, он сильно смахивал на тореадора, да и брат его тоже.
— Ты работаешь, Краб?
— Ага, работаю, торгую с тележки, когда найду, где ее поставить; словом, промышляю случайными заработками. — Он отвернулся. — Ты не видел сегодня старика Неттлфолда?
— Мельком. Он уехал на своей старой кляче. Брал у него серп дня четыре или пять назад. А на что он тебе?
— Да так просто, — сказал Краб. — Слышь… Есть у меня одно дельце в его доме. Все честно-благородно, но я не хочу, чтоб старик знал про это, да и другие тоже. Ничего особенного. Может, когда-нибудь приму тебя в игру. Молчать умеешь?
— Могила, — сказал я.
— Гляди, — сказал он, указывая соломинкой, — отсюда все видно. Всех, кто приходит и уходит. Хорошо, что я на тебя наткнулся.
— А если б я на тебя — какая разница, — сказал я. — Чужими делами не интересуюсь.
Но все же меня мучило любопытство.
— Подвинься, — сказал он. — Дай прилечь.
Мы с ним подремали немного. Во всяком случае, мне казалось, что он дремлет. А я не мог заснуть, все думал, что у него на уме. Наконец я сел. Давно пора было домой к чаю, да и солнце пекло уже не так сильно. Я увидел старика Чарли — он шагал к дому по ухабистой дороге рядом со своей клячей, поддерживая гору тряпья на тележке. На дворе он остановился, высокий, толстый, в пальто с меховым воротником столетней давности и в засаленном котелке, надвинутом по самые уши. Я слышал, как он крикнул что-то. Дверь отворилась, и на двор вышла женщина. Не молодая уже — ей было сильно за тридцать. Толстая или, во всяком случае, пухленькая. И черноволосая, как Краб.
Я ее часто видел — это была дочка старика Чарли. Я и не знал, как ее зовут, покуда про нее в газетах не напечатали, но для порядка скажу вам сразу ее имя — Милдред. Ее волосы блестели, как вороново крыло. Налетел ветерок и задрал ей юбку. Она не придержала ее, как обычно делают женщины. Юбка задралась высоко, а Милдред как ни в чем не бывало разговаривала со стариком, вороша тряпье на тележке. И вдруг мне взбрело в голову, что дело-то у Краба к ней.
Она была очень чистоплотная, хоть и дочь старьевщика. Никогда не красилась. И никогда не разговаривала ни с кем, не улыбалась, разгуливала себе по улицам с сумочкой, задрав нос.
— Ты не думай, она тут ни при чем, — сказал Краб.
— Ладно. Да чего ты мне в руку вцепился, пусти, не убегу.
Но хотя он улыбался, на лбу у него, возле самых волос, выступили капельки пота.
— Такой психованной еще свет не видал, — пробормотал он, кусая ногти. Ни у кого не увидишь таких длинных пальцев и коротких ногтей, как у Краба.
— Эти психованные старухи хуже динамита, — сказал я. Мне было не по себе и хотелось сказать хоть что-нибудь. А он засмеялся и говорит:
— Здесь, старик, у меня копилка: деньги на конфеты.
Я посмотрел на него с удивлением.
— Когда-нибудь объясню, — сказал он и вдруг опрокинул меня на сено. Я хотел крикнуть, но он зажал мне рот и прошептал: — Молчи, Чарли сюда смотрит.
Он отпустил меня как ни в чем не бывало, а ведь я от неожиданности чуть не откусил ему палец.
— Тут ничего плохого нет, — сказал он. — Я только не хочу, чтобы старик Чарли знал. Подумает еще, чего доброго, что мы тут разнюхиваем, как и что, обчистить его хотим, и оглянуться не успеешь, явится полиция… — Я кивнул, и он продолжал: — Тебе когда-нибудь хочется пить, когда ты здесь?
Я сказал, что иногда хочется.
— Сходи как-нибудь туда и попроси у нее напиться.
— Ну нет. Не стану я с этой психованной связываться.
— Да, может, и впрямь лучше оставить ее в покое, — сказал он. — Но тебе этого не понять, сопляк ты еще.
— Я все понимаю.
И если разобраться, это была правда.
— Ну нет, тебе и за сто лет не догадаться, — сказал он. — Не так это просто. Тут комедия. Полные штаны смеха.
— Ну-ка, выкладывай.
— В другой раз, — сказал он. — Не теперь. Но когда-нибудь я все тебе расскажу, тем более что ты можешь мне помочь.
Мы повалялись еще минут десять, потом вылезли из оврага и увидели, что старик ведет свою клячу в стойло. Женщина, широко расставив ноги и подбоченясь, глядела в нашу сторону.
— Что за черт! — сказал я.
— Ты о чем?
— Она смеется. Видишь?
Краб помолчал.
— Ладно, она у меня еще поплачет, — сказал он наконец. — Я ей не поддамся. Вот увидишь.
Я поглядел ему в лицо, и, честно говоря, оно мне не понравилось.
Когда он ушел, мне вдруг пришла в голову одна мысль. Я уже говорил, что часто видел эту Милдред в городе. У каждого есть свои уловки. Вот у нее лицо всегда было как каменное. А теперь она стояла и смеялась.
Лежать на солнце было приятно, а когда я вспоминал, что и в школу не надо ходить, то чуть не прыгал от радости. Бродя по городу, я часто вижу эти современные школы из красивого кирпича, добротного дерева и целых акров стекла, отражающего акры ярко-зеленой травы. Я не стану рассказывать вам всякие душещипательные истории. Хочу только рассказать чистую правду про то, как я получил образование, а это история забавная; тут уж хочешь не хочешь придется сказать, что учился я в двух школах и обе были старые-престарые. Первая, которую можно назвать исправилкой, была построена примерно в то же время, что и местная тюрьма, — ее старались сделать как можно темнее и чтоб поменьше затратить на вентиляцию. Печи дымили, всюду воняло, как в нужнике. Там я сделал важное открытие: учителя считали, что во мне нет задатков современного вундеркинда. И я совершил первую серьезную ошибку — признал этот подлый приговор.
Это не значит, что я был таким уж тупицей. Я плохо успевал, и хотя учителя считали меня безнадежным, — а это были неплохие люди, все больше женщины, — зато среди учеников я прославился, все знали, что я могу за себя постоять и за словом в карман не лезу. Я не рвался в драку, но, если уж приходилось, дрался всерьез, а это оказалось не лишним, потому что в школе были отчаянные головорезы. И все же драк я не любил и вскоре понял, что с некоторыми из ребят, да и с учителями, могу сводить счеты иначе, неприятными намеками. Издеваясь над ними, я, можно сказать, открыл в себе талант.
Я так думаю, тут и Жилец сыграл немалую роль, потому что примерно в это время он у нас поселился. Конечно, его чувства к моей старухе всегда меня бесили, но у него был острый язык, а я восхищался им и старался его переплюнуть.
Но я не успевал почти по всем предметам. Мягко говоря, ученье шло у меня со скрипом. Память у меня была никак не фотографическая. Всякая бесполезная дрянь застревала в голове — уж это будьте покойны. А то, что вдалбливали мне на уроках старушки, сразу улетучивалось. Я кончил начальную школу, надо было сдавать экзамены. Я, можно сказать, вышел, как лошадка, на старт, но не побежал. То утро было самым несчастным в моей жизни, потому что вот уж два месяца моя старуха сама проверяла, как я готовлю уроки, и я даже верил, что это поможет, и не хотел ее огорчать, но сказать ничего не мог, только самописку кусал. Целая гора вопросов, и все такая муть — хоть бы на один я мог ответить. Только и делал, что кляксы сажал на бумагу.
Так что в конце концов я угодил на «Свалку», как ее называли, потому что это было гиблое место, да, именно гиблое. Там учились пятьсот отпетых головорезов, на целые две сотни больше против положенного, и им с ходу внушали, что они «безнадежные». Подонки, одним словом. Директором был один тип по фамилии Трёп — можете себе представить, как мы его звали за спиной. И действительно, он поневоле был жестоким. Голос у него скрежетал, как напильник. Некоторые из ребят были чуть не вдвое выше его ростом, но он этим не смущался. Из него вышел бы лихой гангстер или укротитель львов — взгляд отлично заменял ему хлыст. Помощником у него был Кэрразерс-Смит, долговязый, седой, неуклюжий, как плюшевый медведь, истеричный, как баба, гад в замшевых ботинках.
Старый Кэрразерс-Смит обычно носился по классам и орал как полоумный, а рассвирепев всерьез, разбивал нам в кровь носы. Но всего страшнее он бывал, когда прикидывался тихим. Этот старый К.-С. больше всех изводил меня всякими способами, и из-за него мой последний день в школе превратился, можно сказать, в эпопею.
Про учителей и говорить не стоит; мало кому из них удавалось удержаться в школе и показать себя — наши мальчики об этом заботились. Учителя приходили бодрые, во всеоружии психологии, педагогики и всяких идей, а уходили на костылях. И я видел, как здоровые, сильные мужчины плакали навзрыд. Мы были подонками и поступали, как подонки, только железная рука безжалостного Трёпа удерживала нас в повиновении.
Больше всего неприятностей было из-за курения. В школе выкуривали в день тысяч пять сигарет. Ярый курильщик, у которого нет денег на сигареты, — жалкое зрелище. Он психует, злится и не может сосредоточиться ни на чем, думает только, как бы добыть курева; если он не может добыть пачку сигарет честным путем, то нанесет ночной визит в какой-нибудь магазин или на склад, прихватив приятеля и стальной ломик. Кроме того, мы играли в тотализатор, и в школе был свой букмекер, а у него на побегушках шесть или семь ребят. Он так и не заработал себе на мотоцикл, не говоря уж про автомобиль, но в накладе не оставался, уж это будьте покойны.
Редкую неделю легавые не заходили в школу, и в таком случае уже с четверга старый Трёп начинал беспокоиться; говорили, он даже звонил в полицию, удостоверялся, что он им действительно не нужен. Денег и сигарет вечно не хватало, и для многих единственным способом их добывать было взламывать лавки или обшаривать чужие автомобили. Инструмент делали в школьной мастерской; стоило старику Джонсу отвернуться, как ребята расхватывали дюймовую сталь; а к горну и наковальне и не подступиться было. Мастерская стала главным центром по производству ломиков, на которые был большой спрос, потому что таким ломиком пользовались только один раз. Были и другие способы. Ездить без билета на трамвае и в поезде стало обычным делом; и даже самый толстый из наших ребят ловко пролезал в кино через любую дыру. Скупщику железного лома продавали железо, у него же украденное, свободно определяли на глазок, сколько дадут за моток провода, медь или латунь, и хотя у слепых мы никогда не крали, зато находили поживу получше, таская спелые груши с тележек у мальчишек-фруктовщиков, а для этого надо действовать дружно.
Носарь, младший брат Краба Кэррона, раз потехи ради подхватил велосипед какого-то полисмена, по-быстрому сгонял в город, а вернувшись, спокойно поставил велосипед на место и с невинным видом ушел.
Я не участвовал во всех этих делах — может, потому, что не курил всерьез и всегда мог выпросить денег на пачку сигарет у своей старухи или у Гарри. Честное слово, если б не голубиный пикник, я бы, наверно, кончил школу с отличием; я уже был старостой класса и мог бы стать старостой школы, увенчанным лавровым венком и с похвальной грамотой под мышкой.
Старик Трёп питал ко мне слабость, и, так как плохие отметки я получал только за невнимание и дерзости, он решил привлечь меня на сторону закона и порядка. Мне всегда было жаль этого Трёпа, но теперь я его ни капли не жалею. Он стал жертвой своих заблуждений — сам воспитывался в те времена, когда шахтеры становились министрами, пахари — поэтами, а мусорщики — миллионерами, вот и думал, что это возможно и сейчас. Иногда мне хочется прийти на «Свалку», швырнуть ему в рожу свой аттестат, которого я не заслужил, и объяснить, много ли пользы от этой бумажки. Я знал нескольких ребят, которые всегда носили аттестат при себе, но очень скоро поняли, что от этой бумажонки один только вред. И забросили ее куда подальше. Если нужно таскать кирпичи или мешки, то интересуются мускулами, а не образованностью. Да, братцы, если человек, скажем, нанимается заваривать чай и предъявляет аттестат с отличием, его гонят в три шеи — раз, два, три — и готово, как Лон Рейнджер говорит Тонто[4]. Потому что у него не хватит ума хорошо заварить чай, если он думает, будто аттестат имеет какое-то значение. Понимаете?
Но, говорю вам, теперь я оставил бы старика Трёпа в покое. Он старался как мог, хоть и зазря. Я ему нравился, и он мне тоже, поэтому, повстречайся мы с ним завтра, я поставил бы ему пинту пива, чтоб поменьше было скрежета в его голосе. Подумайте только: я ему, а не он мне.
По правде говоря, это я придумал устроить голубиный пикник. Но не моя вина, что Носарь захотел еще и выпивон соорудить. Дело было так — раз вечером зашли мы в кино и увидели в цветном фильме традиционный английский пикник: бифштексы, отбивные, колбасы — в общем все, что только душе угодно. Я сказал — давайте и мы устроим такой пикник. Трое ребят, которые были со мной, согласились, и не успели мы оглянуться, как у нас уже была сумка с луком, которую кто-то увел с овощного рынка, а число желающих возросло до двух десятков, но бифштексами, отбивными и колбасами даже не пахло.
Не знаю, как мне в голову влетела эта шальная мысль, — наверно, прямо с неба, как большой жирный голубь.
— Голуби! У нас будет голубиный пикник!
В нашем городе без малого четверть миллиона жителей, и на каждого приходится не меньше десятка голубей. На месте старых кладбищ теперь разбиты скверики, где чувствительные старички и старушки часами кормят голубей. Голуби жиреют. Но поймать их не так-то просто.
Мы решили, что склад у нас будет в одном из пустующих домов, запасли проволоки, чтобы подвешивать птиц к потолку, сговорились, что сын третьего шефа из местного ресторанчика за ночь ощиплет и выпотрошит голубей. И, наконец, назначили вечер для пикника.
Оставалось только наловить голубей. Мы решили, что нужно по крайней мере по две штуки на брата; выходило штук шестьдесят с запасом на случай неожиданных гостей. Голубей не было, зато всяких предложений было до черта. Предлагали сети, духовые ружья, птичий клей, электрические силки, соколиную охоту — словом, чего только не предлагали. В конце концов договорились, кому где ловить, и решили действовать по двое, кто во что горазд.
Мне на пару с Носарем Кэрроном досталась стройплощадка за одним из кладбищ. Мы стали держать военный совет. Во-первых, мы решили прийти туда к пяти утра. В это время на улицах ни души, разве только пройдут шоферы автобусов или железнодорожники, а им некогда останавливаться, даже если они что заметят спросонок, но и это вряд ли. Конечно, полисмен будет делать обход, но стройплощадка в низине, так что опять же риск невелик.
Во-вторых, мы решили ловить голубей двумя способами, чтоб не спорить. Носарь хотел ловить на клей — ладно. Это был способ номер один. Способ номер два — силки из подручных материалов.
Мне нужно было решить еще одну задачу — как уйти из дому в половине пятого утра, но я помалкивал. Заикнись я об этом, Носарь засмеял бы меня. Насколько я знал, у них в доме была целая армия, и все промышляли именно в ту пору, когда магазины заперты. Но моя старуха, ясное дело, не пустила бы меня — у нее, наверно, во лбу фотоэлемент и, даже когда она спит, один глаз все равно не дремлет. В конце концов я придумал, что ей соврать. Моя старуха была тщеславна и клюнула на удочку.
В половине пятого я встал тихо, как призрак, — клянусь, ни одна половица не скрипнула, а это просто чудо, если учесть, сколько у нас скрипучих досок, которые оказались долговечней своих гвоздей. Я даже на пол сел, когда надевал носки, чтоб стул подо мной не затрещал. Но, видно, в чем-то я все же дал маху: она накинулась на меня, как волк на овечку.
Ну и вид у нее был: в папильотках, глаза круглые, глядит подозрительно.
— Куда это ты?
— Да ведь я ж тебе говорил, мама, мы тренируемся в бассейне перед соревнованиями с другой школой.
— Сейчас полпятого, а ты сам сказал, что бассейн открывается в семь.
— Я хотел пораньше позавтракать, чтоб не сразу после еды плавать.
— Что-то тут не чисто. Говори правду!
— Слушай, мама, просто я хочу быть к состязаниям в хорошей форме. Вот и все.
Тут под окном свистнул Носарь.
— А это что?
— Что?
— Кто-то свистнул. Надеюсь, ты не спутался с ворами? Ну-ка, посмотрим.
И она пошла к двери, как была в ночной рубашке и в папильотках. Мне ничего не оставалось, как пойти за ней.
— Эй, ты! — крикнула она Носарю, который гонял ногой камешек на другой стороне улицы. — Иди сюда.
Он подошел с самым невинным видом, и это была ошибка, потому что мою старуху именно это больше всего настораживает. Я же ее и приучил.
— Тебе чего здесь надо? — спросила она.
— Он, мама, вместе со мной учится плавать на спине и брассом…
Носарь подхватил:
— И прыгать с вышки.
— Но в такую рань… — Она сверлила нас глазами. Наверняка думала, что мы затеяли кражу со взломом или что-нибудь еще похуже. Может быть, поджог. — Зайди выпей чаю. Ты ел что-нибудь?
— Хлеб с маслом.
— Это ни на что не похоже. Заходи, позавтракаете по-человечески.
Наверное, Носарь Кэррон в жизни своей так не завтракал. Он привык ко всяким переделкам и был большой обжора, так что ни капли не огорчился. Когда она, наконец, отпустила нас, было уже половина седьмого, но не успели мы дойти до угла, как она меня окликнула.
Оказывается, я забыл плавки и полотенце.
— Хорош пловец! — сказала она. — Ну, а он как же?
— О чем это ты?
— Сам знаешь о чем — у него тоже плавок нет.
Я не растерялся и сказал, что Носарь надел плавки под трусы, а вытрется моим полотенцем. Теперь уж мне было безразлично, поверит она или нет. Все равно голуби накрылись.
Я нагнал Носаря злой как черт.
— Вот психованная! — сказал я. — Утро пропало. Что теперь делать?
— Жмем по-быстрому, — сказал он. И, помолчав, добавил: — А она молодчина.
— Кто?
— Твоя старуха, — сказал он, похлопывая себя по животу.
Пропустив это мимо ушей, я сказал:
— Нечего теперь и ходить — в семь часов на стройке работать начнут.
— Все равно идем.
И я пошел, потому что нужно было как-то убить время. Короче говоря, пришли мы на площадку, а там нас уже ждали шесть голубей, готовенькие. Оказывается, Носарь с вечера рассыпал там зерно и намазал землю клеем. Я стоял, как дурак, не зная, что делать, а он живо свернул птичкам шеи. Мне оставалось только отнести свою долю под рубашкой. Забавно было чувствовать их тяжесть, коготки и клювы царапали мне кожу, а ведь еще на восходе они были живы и летали как ни в чем не бывало. Я чувствовал себя живодером и дураком, потому что в конце концов оказался просто носильщиком. Мы добыли даже больше голубей, чем приходилось на нашу долю, но почти без моего участия. Да, мне было досадно.
Ловля голубей шла всю неделю. Сытые, доверчивые, уверенные в человеческой доброте, они попадались в силки, запутывались в сетках, их стреляли в упор. Уцелевших словно подменили. Друзья голубей вдруг обнаружили, что эти птицы до смерти боятся не только их, но даже статуй. Зато голубиный пикник удался на славу. Мы устроились под навесом старой литейной в дальнем конце оврага. Костер развели под стальной сеткой, которую уволокли со стройки. У нас не было древесного угля, но мы собрали на берегу реки сухие бревнышки, дали им хорошенько прогореть, а потом уж стали жарить голубей. Видели бы вы наших мальчиков, когда первые две птицы зашипели на углях. Несколько ребят сидели вокруг костра на старых опоках, остальные потрошили голубей. Самые отпетые резались в карты. Угли в костре сверкали, как в кузнечном горне. Никогда еще в старой темной литейной не было так весело. И вот наши птички запели на огне. Жир капал сквозь сетку, вздымая язычки пламени, распространяя вокруг райский запах. Сила!
А когда я стал переворачивать голубей — эх, красота. Они так пахли, что картежники бросили играть, а остальные — потрошить. Все стояли вокруг костра и нюхали. Правда, против запаха вкус у голубей оказался уже не тот.
А потом Носарь приволок здоровенный ящик пива. В таких случаях вопросы задавать не положено. Никто не стал допытываться, откуда ящик. Может, он упал с тележки; может, сам убежал с пивоваренного завода, а может, его просто купил в магазине какой-нибудь добрый дядя, которому захотелось угостить ватагу молодых тружеников. Какая разница? Пикник удался на славу, хоть мы забыли захватить соль.
Если б не пиво, это был бы самый счастливый день в моей жизни. Но из-за пива вышла неприятность. Его купили в открытую, целым ящиком, и это была ошибка.
Носарь отдал краденую сумку своему брату, тому самому, о котором я уже рассказывал, и попросил купить ящик пива.
Продавец взял деньги на заметку, и сыщики свалились Крабу на голову, как целая тонна кирпичей.
Краб, ясное дело, хотел выгородить брата, но легаши приперли его к стенке. Они знали больше, чем он, и взяли его врасплох, когда брат ничем не мог ему помочь. Так что в конце концов Носарь попал к ним в лапы, и вся история с пикником всплыла наружу. Оказывается, Носарь по дороге к нам увидел машину с открытой дверцей и спер оттуда дамскую сумочку, а это была машина легкомысленной жены богатого судовладельца — не спрашивайте, что она делала на Шэлли-стрит, может, со скуки суп разливала в меблирашках.
Там было двенадцать фунтов и куча дорогих безделушек. Носарь попал в исправительное заведение и чуть было не загремел в Борстал[5]. А через год он вернулся на «Свалку» героем и ходил с таким видом, будто в одиночку залез на Эверест.
Старый Кэрразерс-Смит выступил по этому случаю на школьном собрании; так и сказал прямо с кафедры:
— Тебе посчастливилось вернуться к нам, Кэррон. Смотри же, чтоб этого больше не было.
А войдя к нам в класс, он сказал очередному учителю, который был прямо из колледжа и на нас практиковался:
— Смотрите, Томсон, как бы вам стол не обчистили. Ни в чем нельзя быть уверенным, если в школе полно всяких птицеловов и взломщиков.
Ну, насчет птиц никто не спорил, но все, как один, кроме самого Носаря, возмутились, когда услышали про взломщиков. Конечно, старый Кэрразерс-Смит тут свалял дурака. Трёпа не было, он недавно схватил простуду, и Кэрразерс-Смит, наслаждаясь властью, не мог устоять перед искушением разыграть из себя частного сыщика. Ну и дуб! Он вызывал нас по одному, толкал речи, убеждал, что Кэррон — плохая компания, требовал, чтобы мы говорили правду, обещал все сохранить в тайне.
Ему повезло — он наслушался столько всяких россказней, что хватило бы на целый роман. Но про Носаря так ничего и не дознался, потому что Носарь был одинокий волк и всегда действовал один, как в той истории с ловлей голубей, так что если б кто даже захотел его продать, все равно ничего не вышло бы.
А я сказал напрямик:
— Кэррон не плохой. Если б не пикник, ему и в голову такое не пришло бы. У него только один недостаток — щедрость.
— Значит, это была его доля?
Широко раскрыв глаза, я ответил наивно:
— Да, сэр. Я же вам говорю, он щедрый.
— А ты знал, что он задумал? Скажи правду, и даю слово, это останется между нами. Никто не узнает.
— Да неужто? — сказал я. — А я-то думал, все давно знают. Да и заранее знали.
— Про то, что он хочет украсть сумку?
— Да нет же, сэр. Про племенных голубей его отца. Он принес трех самых лучших, потому что диких поймать не мог; один получил в прошлом году приз за перелет через Ла-Манш; только, пожалуйста, сэр, старику не говорите, а то он убьет Носаря.
— Пошел вон!
В жизни не видел, чтоб человек был в такой досаде.
Но он мне отомстил. У меня отобрали значок старосты, и все мои честолюбивые планы рухнули. С тех пор на меня махнули рукой, и даже старик Трёп больше в меня не верил. Встречаясь со мной в коридоре, он только головой качал. И твердил, что я самое большое его разочарование.
— Я-то, — добавлял он, — верил, что ты будешь на высоте.
А я все позабывал его спросить, что это за высота такая и где она.
III
1
Если выпьешь лишнего, погано только во рту и в брюхе, а от неудачи весь бываешь сам не свой. Особенно если ты тщеславен и много о себе воображаешь. Только я начинал думать о приятном, все мои проклятые неудачи сразу выплывали на поверхность. Не в том дело, что я оглядывался назад, перебирал все те места, где работал, и знал, что там и всюду какая-нибудь механическая тестомесилка, или конвейер, или кусок проволоки гораздо важнее меня. И не в уверенности, что любой старый бульдозер, бетономешалка или самосвал не только сами по себе выгодней и лучше меня, даже если я из кожи вон вылезу, но в них выгодней и лучше вкладывать деньги, и даже когда они пойдут на слом, то будут стоить больше, чем я, живой или мертвый. Оглянуться не успеешь, а уж вся эта система навсегда наложила на тебя клеймо неудачника.
Бывало, слушаешь на «Свалке», как какой-нибудь хмырь, только что из колледжа, говорит о создателях империи, промышленности, науки и всего прочего, и чувствуешь надежду. А стоит войти в ворота гигантского завода, именуемого жизнью, и всем надеждам конец.
Так что ни к чему вся эта трепотня насчет дальнейшего образования. Дальнейшее образование — на что оно и чего ради? Всякий проблеск мысли, всякий порыв обречен на медленную смерть в беспросветной и выматывающей тесноте «Свалки».
Иногда я вспоминал об этом, лежа в овраге. Не вспоминал только об одном, потому что это было еще слишком свежо, — о том, что мы сделали с беднягой Кэрразерсом-Смитом в судный день — последний день учебы.
Но в то утро, когда мы с Носарем и еще несколькими ребятами, которые имели на него зуб, шатались по школьному двору, нам казалось, что это будет блеск. В ту среду все, кто получил аттестат с отличием, ходили героями, а нам нечем было похвастать. Нам тоже хотелось отличиться. И вот в четверг у нас уже был полный порядок — боеприпасы наготове, оставалось только дать команду. Как водится, кто-то проговорился, и скоро вся школа знала, что приготовлен какой-то подарочек для нашего К.-С. В последний день учиться лень, и все делали, что хотели. Ребята в классе глядели на нас с восхищением и перешептывались; как только учитель вышел за дверь, они стали нас расспрашивать, подначивать, хорохориться раньше времени.
Да, мы были героями дня. Но я хоть и храбрился, а душа у меня была не на месте. Сам не знаю, как мне удалось это скрыть. И учителя чуяли неладное, но решили, что ребята просто радуются каникулам. Во всяком случае, доискиваться они не стали. Теперь я иногда жалею об этом.
В общем из-за того, что кто-то проговорился, дело чуть не сорвалось. Мы выскочили из школы и побежали к полуразрушенным домам, где у нас были спрятаны боеприпасы. Носарь на бегу обернулся через плечо и сказал:
— Вон сколько их собралось поглазеть!
Вся школа толпилась во дворе и за воротами. Это был номер!
— Дело дрянь, — сказал я. — Теперь он почует недоброе. Давай плюнем.
— Погоди, он у нас попляшет, — сказал Носарь. — Ты что, перетрухал, Красавчик?
Я чуть не дал ему в морду. Он единственный безнаказанно назвал меня Красавчиком. Но только один раз. Мне этот случай крепко запомнился. Я чувствовал, что мы поступаем нехорошо, и, может, именно оттого, что чувство это было так сильно, я не ударил его, а сказал только:
— Ну что ж, будет потеха.
И потеха была.
Когда я встал на свое место в подъезде, меня прошиб пот. Теперь я помню только, какое у него было лицо, когда мы открыли огонь. Я знал, что он не выдержит и побежит. А мне как раз это меньше всего хотелось видеть — его лицо, когда он побежит.
Один из наших стоял наверху у окна; и он потом рассказал мне, как все началось. Он видел, как Кэрразерс-Смит с портфелем бодренько вышел из школы, предвкушая долгие каникулы и не замечая, какая необычная тишина его окружает. Тот малый рассказывал, что он вышел за ворота и прошел шагов двадцать по улице, как вдруг что-то ударило его в спину. Он обернулся. Ученики как ни в чем не бывало гуляли по двору, только медленнее обычного. Несколько ребят, которые шли следом за ним, сразу повернули назад. И зря. Тут старый К.-С. понял, что дело не чисто.
Ему стало не по себе. Один раз он замедлил шаг — видно, опять хотел обернуться, но гонор ему не позволил. Тот малый рассказывал, что он весь съежился — видно, здорово сдрейфил. Пройдя половину улицы, он не выдержал. Тот малый рассказывал, что он обернулся и поднял портфель — наверно, хотел махнуть толпе учеников, чтобы они расходились по домам. Только они не разошлись. С ними что-то непонятное произошло. С тех пор я видел такое еще несколько раз и не хотел бы увидеть снова. Они рассвирепели и не знали пощады. Тот малый рассказывал, что, когда К.-С. пошел дальше, на нем лица не было. Он все озирался, глядел на пустые двери и окна, но не на таковских напал: ни один носа не высунул. Он не видел нас, но чувствовал наше присутствие. Если бы не проволочная загородка вдоль велосипедного трека, он рванул бы прочь от этих грозных домов. Но он должен был идти вперед, потому что другого пути не было.
Тяжко видеть, как взрослый человек пытается спастись бегством. Пусть даже он подлюга и ты его ненавидишь. Все равно это тяжко. Затеял все я, но не я бросил в него первый гнилой апельсин. А когда и я бросил, то не в Кэрразерса-Смита, а в себя, в свою выдумку. Но все-таки бросил.
И тут все будто с цепи сорвались. Теперь никто уж и не прятался. Ребята швыряли в него гнилые фрукты и что попало как одержимые и радовались. И я теперь не знаю, почему им от этого становилось легче, а только уверен, что старый К.-С. виноват в этом не больше, чем моя старуха.
Бросали метко. Через минуту он уже весь был забрызган желтым апельсиновым и красным помидорным соком. Он пустился бежать, но его встретил град ударов, и тогда он остановился, резко повернулся назад, хотел что-то сказать, потом уронил портфель и закрыл лицо руками. Теперь он уже не соображал, что делает. А на него так и сыпалась всякая дрянь.
Он упал на колени. Потом снова вскочил и побежал. Вся орава бросилась следом, и я тоже пошел за ними. Я надеялся, что никто, не подбежит к нему близко, и оказался прав. Он мчался, как ракета. Все улюлюкали. Подобрав полы пальто, он спрыгнул в глиняный карьер, оступился и кувырком полетел вниз. Стало тихо, все глядели на него. Он скатился на дно и лежал неподвижно. Потом зашевелился, подсунул руку под голову. Он не то дрожал, не то тяжело дышал, не то плакал. Не знаю. Я не видел его лица.
А потом подошла собака и стала его обнюхивать. Помесь терьера с дворнягой. Она обнюхала его всего и дошла до шеи. Потом стала его лизать. Наверно, была голодная.
Старик К.-С. лежал тихо и не отгонял ее.
И тогда всем стало стыдно или страшно.
— Ну вот, мы его проучили, — сказал Носарь.
— Будет знать, — сказал Мышонок Хоул.
Никто больше не смеялся.
— Ну ладно, ребята, вали отсюда, — сказал Носарь.
Просить не надо было. Только мы с Носарем и еще несколько человек присели на корточки и добрых минут пять смотрели на него, но он ни разу не пошевельнулся. А собака все лизала его и, наконец, добралась до лица. Тогда Кэрразерс-Смит встал и, хромая, заковылял к ближним домишкам. Собака пошла за ним. Оба не глядели на нас. Иначе я бы, наверное, не выдержал и убежал. Даже если бы на меня поглядела только эта дворняга.
Остальное мне рассказал Носарь. Когда старик К.-С. встал и пошел, мы решили, что больше нам тут делать нечего. Один только Носарь не хотел уходить. В конце концов мы ушли без него. Не знаю, чего он там увидеть надеялся. А было вот что: старый К.-С. постучался в первую же дверь и попросил напиться. Носарь говорил, что его впустила одна из тех старух, каких у нас в городе видимо-невидимо развелось. Восемнадцать стоунов[6] весу, туфли еле на ноги налезали, месяц, наверно, не мылась, в засаленном черном платье. Наверно, она его почистила и напоила чаем, а ему уж, наверно, было все едино, потому что Носарь не видел, чтоб он оттуда выходил.
Мы-то ушли, а Носарь остался. Я пошел было домой. И вдруг мне стало страшно. Бояться было нечего, мне ничто не грозило, но я побежал не домой, а совсем в другую сторону. Может быть, я не хотел идти опять по той улице, мимо пустых домов. А может — убегал от чего-то, что было сильнее меня. Только, братцы, я весь дрожал. Бежал я быстро и сделал порядочный круг: назад от Старого города, по краю оврага, а потом с ходу через мост. С моста я увидел Носаря — он все сидел на корточках. Я не стал на него глядеть и побежал дальше. У городской библиотеки я свернул и припустил к мебельному складу. Там я хотел остановиться и перевести дух, но что-то гнало меня вперед. Я знал, что мне ничего не будет. Знал, что старик К.-С. не донесет в полицию на меня одного, потому что нас было человек двадцать, но поделать ничего не мог. Когда я перебегал через дорогу, меня чуть не сшиб мотороллер.
На ругань водителя я обратил не больше внимания, чем на его шлем, как у космонавта, потому что, когда за тобой по пятам гонится тигр, тебя уж ничем не проймешь, особенно если не знаешь, что это за тигр и каков он из себя. Кажется, я отмахал без остановки мили три. Но и потом не сразу пошел домой, а свернул на окраинную улочку, чтобы отдышаться. Там я сел, прижав руки к груди, которая ходила ходуном под взмокшей от пота рубашкой, и стал сам с собой пререкаться:
«Какая муха тебя укусила?»
«Не знаю, старик, ума не приложу».
«Спроси, чего отмахал три мили, а говоришь — ума не приложу».
«Это просто инстинкт во мне заговорил».
«Ты уверен?»
«Я теперь ни в чем не уверен».
«Разве он не двуличный враль? Разве он не сам виноват? Чего ж ты беспокоишься?»
«Я не беспокоюсь. Просто не ожидал, что так выйдет. Вот и все. А пробежаться полезно, для здоровья».
«Послушай, старик, ты хочешь стать взрослым и ничего на свете не бояться. А что, если тебя огреют по башке бутылкой, или велосипедной цепью, или пырнут ножом?»
«Так то ж меня. Пожалуйста, сколько угодно».
«Ты трус. Ты сразу сдрейфишь. Выдержать удар всякий может, а вот нанести его — это потрудней. Надо быть решительней. Научись бить».
«Ну ладно, ладно. В следующий раз так и сделаю».
«Смотри же, старик, не то пропадешь. Об тебя будут ноги вытирать — так и останешься на всю жизнь Красавчиком, как назвал тебя сегодня Носарь».
«Ладно, полегче. Насчет Носаря знаю сам, этого я больше не позволю. Ни ему, ни другим. Морду разобью первому, кто меня так назовет».
«Вот и молодец».
Но я вовсе не думаю, что достаточно было мне потрепать самого себя по плечу, чтобы все забылось. И я не мог забыть об этом, когда валялся на солнышке в овраге, ожидая начала своей блестящей карьеры на поприще прокладки канализации.
Наконец явился дядя Джордж, и я понял, что больше уж мне не валяться на солнышке.
— Сапоги. Ему нужны крепкие сапоги, — сказал он моей старухе. Я сидел неподвижно, как манекен. — И кепка — терпеть не могу, когда рабочие ходят без кепок.
— Я куплю. А комбинезон тоже нужен? — спросила моя старуха.
— На моем участке — никаких комбинезонов. — Я думал, он сейчас скажет, что там, в канаве, нужно одно только голое достоинство. — Купи ему штаны покрепче — плисовые или молескиновые. Ему часто придется нагибаться или работать лежа, а я видеть не могу прорех.
— Куплю.
— Лучше молескиновые. Они, правда, тяжелые, зато прочные, и вид у него будет приличный… Придется ему там попотеть, мы ни для кого послаблений не делаем. Ты ведь не уронишь честь семьи, Артур?
Я что-то буркнул или, вернее, прорычал.
— Мы так тебе благодарны, Джордж! Поблагодари дядю Джорджа, Артур.
— Спасибо, дядя Джордж.
— Не подведи меня — вот лучшая благодарность. Не рассчитывай на то, что я твой дядя. Имей собственное достоинство.
Вот оно, начинается!
— Он не подведет, правда, Артур?
— И не подумаю.
— Ну то-то. Значит, скоро увидимся. Встань пораньше, ровно в семь будь на участке и, кстати, лучше приезжай на велосипеде.
— А трамвай чем плох? — спросил я.
— За проезд надо платить. И кроме того, может, придется съездить кое-куда по моему поручению — ясно?
Куда уж ясней! Братцы, я уже видел все с такой ясностью, словно глядел в сильный полевой бинокль. Раб, мальчик на побегушках, доверенный, лакей, пособник, рассыльный, козел отпущения, подхалим и все прочее. Не хватало еще только шлюх к нему приводить.
— Он возьмет велосипед, Джордж.
Мне вдруг пришло в голову, что моя старуха — идеальный образец женщины, которая не может сказать «нет», она готова наобещать золотые горы, как бойкий аукционист на торгах. Когда он сказал про велосипед, я взвился. Велосипед у меня был совсем новый, и я считал его самым ценным своим имуществом; красивый, яркий, низкий, сверхлегкий, он был моей гордостью, хотя я им почти не пользовался, потому что летом ездить на нем жарко, а зимой холодно. Но я не хотел, чтоб он валялся на участке или колесил по городу ради удовольствия и удобства дяди Джорджа. Не говоря уж о том, что я сам буду уставать и злиться, как собака.
— Мама, не поеду же я на гоночном велосипеде.
— Значит, у тебя гоночный? Что ж, мальчик, учись жертвовать все, что у тебя есть, на алтарь честного труда.
— Велосипед — ни за что, — сказал я. Моя старуха ошалело разинула рот и не могла слова вымолвить. — Придется ей купить мне какой-нибудь подержанный драндулет… Их сколько угодно…
— Ну, если хотите выбросить деньги… — начал дядя Джордж.
— Пускай возьмет мой, — сказал Гарри. Он только что вошел и с мрачным видом стоял в дверях. Паша оглядел его с головы до ног.
— Это тот молодой человек, который живет с тобой, Пег?
— Не живу, а снимаю комнату, — поправил его Гарри.
— Ну, понятно, — сказал дядя Джордж. — По-моему, теперь, когда мальчик устроен, нет надобности… Впрочем, это не мое дело. Ну, мне пора. Куча забот. Нет покоя честному человеку. Важное собрание, заседания двух комитетов, а потом — целая кипа писем… Мы — рабы демократии.
— Ну еще бы, столько дел, — сказала моя старуха. — Кстати, Мэри просила у меня швейную машину. Может, захватишь? Одну секунду, я сейчас вложу ее в ящик…
— У меня нет ни секунды, — сказал Великий Человек. — Нужно бежать. Знаешь что, пускай Артур ее принесет.
Наконец-то моя старуха не сказала ему «слушаю, сэр». В ней шла отчаянная внутренняя борьба. Да, братцы, у нее даже дух перехватило.
— Ладно, — сказала она наконец. — Я лучше ее сама принесу, а заодно подрублю для Мэри занавески.
Но ему это было, что слону дробина.
— Ей-богу, Мэри будет тебе очень признательна. Ну, до свидания.
И дальше, как пишут в пьесах: [Дядя Джордж выходит], — а мы с Жильцом получаем головомойку.
— Оба вы хороши! Одному поднесли работу на блюдечке, а он сидит и плетет какую-то чушь про паршивый велосипед, другой сует нос не в свое дело… За кого вы, черт возьми, себя считаете?
— За людей со здравым смыслом, — сказал Жилец. — Но незачем устраивать шум, я просто предложил мальчику свой велосипед.
— Ты потакаешь его капризам!
— Зато не стал бы потакать этому старому жулику, будь спокойна.
— Что это значит?
— А то, что ты готова была ему задницу лизать.
— Вот что, лучше перестань ухмыляться, не то плакать будешь, — сказала она мне. — А ты, капитан с разбитого корыта, оборванец несчастный, знай, что я готова один раз поступиться гордостью, чтобы вывести мальчика на хорошую дорогу…
— Всему есть предел.
— Он меня загоняет, как зайца, — сказал я.
— Тебе это не вредно. Поездишь, поработаешь — от этого никто еще не умирал.
Но она уже выдохлась. Верный признак: Жилец снял мокрые башмаки и поставил их на каминную решетку, а она будто и не заметила.
— А что делать? — сказала она, встряхивая скатерть над столом. — Ведь и у вас там приходится кланяться десятнику. Так лучше быть обязанным своему, чем чужому.
— Нет уж, спасибо, — тихо сказал Жилец.
— Ты здесь ни при чем. Я только говорю — прежде чем унижаться, нужно хорошенько подумать.
— Вот тут-то ты и промахнулась, — сказал он. — Мы только что видели женщину, которая так унижалась, что дальше некуда.
— Должен же кто-то делать необходимое.
— Ты сильно перестаралась, ей-богу, он упивался этим.
— Ну ладно, — сказала она. — Хватит. На будущее — слышишь, Артур? — пусть кто-нибудь другой отдувается в этом доме. А с меня хватит.
Прекрасная сцена, но толку от нее никакого. Единственное, что я из нее извлек, — это кое-какие намеки на прошлое Жильца, но если учесть, что он любитель приврать, они не очень-то заслуживали доверия. И его велосипед. Да еще самую жесткую пару молескиновых штанов, какие когда-либо сковывали человеку ноги. Я не шучу — настоящие доспехи цвета трухлявых грибов, а уж запах от них был и вовсе ни на что не похожий.
Я никогда не купил бы эти штаны, но моя старуха была в таком настроении, что я не рискнул спорить, боясь нового шума. Но когда утром я натянул их, то почувствовал, что сгорю со стыда, прежде чем первая морщина тронет их гладкую, девственную поверхность. Носить их было все равно, что ходить по пояс в воде.
Даже мою старуху взяло сомнение. Она была еще в халате, жарила яичницу с ветчиной и заливалась, как жаворонок.
— Гляди, Гарри! — крикнула она. — Вот рабочий человек в полном снаряжении… О господи, они похожи на крашеные канализационные трубы. Ну как, ничего?
Я кивнул — по неопытности не знал еще, что, идя на новую работу, нужно одеться так, чтобы поменьше бросаться в глаза; но если б я тогда знал все, что знаю теперь, то скорее пошел бы туда в коротких штанишках. Жилец, увидев меня, даже присвистнул; он вышел следом за мной на двор.
— Давай помогу надеть велосипедные зажимы, — сказал он. Хотел меня подбодрить. — Все будет хорошо. Главное, держи язык на привязи, крепко подумай, прежде чем что спросить, а если над тобой подшутят, смейся первый.
— Меня старыми шутками не купишь, — сказал я.
— А ты послушай меня: раз-другой дай себя купить, — сказал Жилец. — Ну, счастливо.
Моя старуха стояла в дверях черного хода.
— Ты не пожелаешь ему удачи? — спросил Жилец.
— Старайся, — сказала она. — Делай, что тебе велят. — И ушла в дом.
— Ей уж невмоготу, — сказал Жилец задумчиво. — Ну, вот и заложен краеугольный камень в твоей жизни.
— Как бы этот камень мне на шею не подвесили, — сказал я.
— Ну, ничего, захочешь — уйдешь, ты ведь свободен, — сказал он. И эти слова накрепко засели у меня в памяти.
Мне часто приходилось вставать рано, так что, встав в седьмом часу, я не увидел ничего нового. Вокруг все сплошь велосипеды, редкие машины и автобусы. Движутся медленно, тихо, и все будто очумелые. Как в телевизоре, когда звук выключен. Педали крутятся тяжелее свинца. Дым лениво ползет из труб. И ни одной улыбки. На всех лицах читаешь сладкие воспоминания о сне и твердое убеждение, что надо запретить работать как можно скорее. Седьмой час утра — самое лучшее время, чтоб начать революцию.
Нет ничего приятнее тишины, если отправляешься в путешествие. Но, братцы, честное слово, когда в первый раз едешь на работу и кругом тихо — это тоска. Лучше уж пусть оркестр гремит вовсю. А одинокая труба в седьмом часу утра — как вспомню, до сих пор мурашки по коже бегают. Колеса словно в вате увязали. Этот старый драндулет сразу дал мне жизни. Ехать на нем было все равно, что молоть железо в кофейной мельнице, только проворачивать еще потруднее. Строительный участок был на западной стороне, милях в трех от дома, и на полпути, когда мне предстояло еще одолеть подъем в добрую милю, спустила шина. Я открутил вентиль, и резинка лопнула у меня в пальцах. Сумки с инструментами, конечно, не было.
Когда я дотащился до участка, было десять минут восьмого. Для начала неплохо.
Это был пустырь шириной ярдов в пятьдесят, с пологим уклоном к реке. До реки оттуда было около мили. Через пустырь протекал ручеек. Параллельно ему шла канава, куда укладывали трубы. Я увидел бетономешалку, два бункера, здоровенный бульдозер, множество бетонных труб диаметром футов в шесть, компрессор и большой сарай. Если б не гул голосов, доносившийся из сарая, — полная картина тихого воскресного утра; не хватало только колокольного звона.
Я поставил велосипед у стенки и едва просунул голову в дверь — столько внутри набилось народу. Какие-то люди сидели по стенам и сладко дрыхли. А те, что не дрыхли, обступили стол, за которым сидел какой-то хмырь с жабьей мордой — видно, тамошний букмекер, — записывал ставки на клочке бумаги и считал мелочь, которая кучей лежала около него.
На меня никто не обратил внимания.
— Где мастер? — спросил я.
Человек, который сидел у двери и клал заплату на комбинезон, сказал:
— А тебе чего?
— Мне мастера.
— Эй, вы, потише! — сказал букмекер. И странное дело, в сарае впрямь стало тише. — Ну, что там?
— Мне мастера, — повторил я.
— Это еще что такое! — сказал он. — Погоди, я тебя научу разговаривать. Ты племянник начальника участка?
Я кивнул.
— Странно. Разве он не сказал тебе, чтоб ты обратился к старшему закоперщику?
— Нет. Велел быть здесь в семь, вот и все.
— А ты, малец, неплохо начал — сейчас уже десять минут восьмого.
— Я шину проколол.
— Ладно, — сказал он. — Подымись-ка вон на ту ступеньку, во-во, повыше. — Он засунул большие пальцы в карманы жилета и встал, чтобы лучше видеть. Все остальные тоже рассматривали меня. — Ну, брат, я уж лет двадцать не видал настоящих молескиновых штанов, — сказал он. — Взгляните только, ну и красота!
— Шик-блеск, — сказал человек с иголкой.
— А кобуры при нем почему нет?
— Так вот, — сказал букмекер. — Первым делом пойди окуни эти штаны в ручей и стань мужчиной.
— На себя бы лучше поглядели, — сказал я.
Длинноносый тихонько присвистнул. А я — ноль внимания. В общем начал с того, чем хотел кончить. Не позволю какому-то жулику себя грязью обливать.
— Ого! — сказал он. — Да ты, я вижу, остряк.
— Слушайте, — сказал я. — Я эти штаны снять могу, а вот вы свою рожу не снимете.
Ему это пришлось не по вкусу, но он громко захохотал.
— Нет, вы только послушайте, — сказал он остальным. — Язык-то у него неплохо подвешен, совсем как у дяди… Ладно, обожди минутку, сынок, я тут распоряжусь, и тогда потолкуем.
Он велел всем выйти, и сарай сразу опустел. Через две минуты я услышал, как заработал компрессор, загрохотали грузовики, и тогда мне стало ясно, почему он называл себя старшим закоперщиком.
Когда все вышли, он сосчитал денежки, собранные с этих простаков, и выписал несколько путевых листов. Мне надоело стоять, и я сел. Он кончил писать и сидел, с усмешечкой постукивая тупым концом карандаша по столу.
Наконец он сказал:
— Много о себе думаешь, сынок, а?
— Не люблю, когда из меня дурака делают.
— Тебя как звать-то?
— Артур.
— Так вот, Артур, я тебе сейчас все растолкую. Ты на дядю Джорджа не надейся. И ни на кого не надейся. Да на него и не очень-то можно надеяться, потому что он здесь почти не бывает. Он очень занятой человек, твой дядя Джордж, и во всем зависит от меня. Моя фамилия Спроггет — для тебя я мистер Спроггет.
— Хорошо, мистер Спроггет.
— Вот молодец. А теперь беги к бетономешалке и скажи Джорджу Бзэку, чтобы научил тебя работать лопатой.
— Кому-кому?
— Джорджу Бзэку. И вот еще что, сынок…
— Да?
— Насчет моей рожи ты лучше помалкивай.
Я промолчал. Бросил на него убийственный взгляд и вышел. Жалить, как змея, и виду не показывать — вот мой метод. Но внутри я весь дрожал. Не понравился мне этот старший закоперщик. Вот уж действительно змея.
Джордж Бзэк оказался тем самым длинноносым. Грузовики сваливали щебенку, и он лопатой кидал ее в железный грохот. А я должен был грузить щебенку на конвейер, который подавал ее в бункеры, а оттуда — в бетономешалку. Старик Джордж дал мне лопату и показал, что нужно делать, а потом стоял, глядя, как я орудую, с доброй улыбкой, от которой все лицо у него как-то смялось. Наконец он взял у меня лопату и показал, как ее держать. Я поблагодарил.
Он снова перешел на другую сторону грохота и почесал нос.
— А ты храбрый мальчуган, — сказал он. Лицо его сморщилось в улыбке. — Да, рожа у него и впрямь подгуляла, и ее не снимешь, деваться тут некуда.
Он усердно работал лопатой и каждые минут десять разражался трескучим, как пулеметная очередь, смехом. Но почти до девяти часов он не сказал больше ни слова.
— Завари-ка чайку, малыш, — сказал он наконец. — Чайник в сарае.
Я положил лопату, но от этого мне не полегчало. Правую руку мне как будто взрезали. Она вся болела.
— Ничего, научишься, тогда лопата сама работать будет, — сказал он. — И Спроггета обманывать тоже научишься. Дрянной он человек.
Во мне было без малого шесть футов росту да весу около ста семидесяти фунтов.
— Я могу за себя постоять, — сказал я.
— Ну, это уже скучно, — сказал он и снова взялся за лопату. Я заварил чай, рабочие обступили меня. И тут-то появился дядя Джордж. Подошел. Оглядел всех, а меня словно не заметил, потом сказал Спроггету:
— Ну как?
— Все в порядке, Джордж, — сказал букмекер. — Новенький опоздал, больше ничего.
Он только проворчал что-то себе под нос.
— Надо осмотреть крепления, — сказал он, и оба ушли.
Кажется, тогда только я по-настоящему понял, что он за человек. Он не взглянул на меня, не сказал ни слова, всем своим видом показывая, что я дерьмо или еще что похуже. Представьте себе, как я стоял там со здоровенным чайником в руке, оскалившись, сверкая глазами. Кто-то сказал:
— Выпьем, что ли, чайку, Ковбой?
Чайник был большой, тяжелый и горячий. Старик Джордж сразу понял, что у меня на уме.
— Налей-ка мне, сынок, — сказал он, протягивая кружку. Я взглянул на него. Он покачал головой. Так что чайник остался у меня в руке и не пришлось вызывать скорую помощь. Было девять часов, всего два часа прошло, но, братцы, мне они показались долгими, как два года.
IV
1
А потом смены уже не так тянулись и стали спокойней. Я раз сказал про это Жильцу, а он говорит:
— Каждый день какая-то частица в тебе умирает, и от этого ты все меньше чувствуешь.
По мне, это слишком мудрено, но, может, тут что-то есть. Крошечные лампочки мерцают, потом гаснут. Коптишь небо без пользы, а эти самые частицы в тебе умирают и умирают. В общем получаешь мало, а отдаешь еще меньше.
Вот и работа тоже — от нее не только руки устают. Если будешь все принимать близко к сердцу, свихнуться можно. Надо ожесточить себя. Но вот обида — тогда времени не замечаешь. Неделя мелькает за неделей, будто карты, когда колоду тасуют. Иногда хочется крикнуть:
— Да остановитесь же, гады!
Но что толку.
Может, вы надо мной смеяться станете, но в первый день мне было тяжко, будто горы пришлось ворочать. Казалось, этот день никогда не кончится. Незачем было меня и к ядру приковывать: лопата вполне его заменяла. И все же не лопата главное. Главное — солнце, прекрасное солнце, а оно палило нещадно, и я знал, что оно будет палить весь этот долгий пропащий день. Но все-таки и солнце было здесь ни при чем. Просто я был закован в цепи, закован на всю жизнь.
Вот когда я понял тех, кто, вроде Спроггета или дяди Джорджа, продает душу, чтобы только иметь возможность ошиваться без дела. Они тоже были закованы, но могли хоть прикидываться свободными. А другие вкалывали до посинения пупка, чтобы выкроить хоть минутку на перекур. Все, кроме старика Джорджа. Этот человек с лопатой был настоящее чудо. Он просто расхаживал с этой лопатой, будто по бульвару гулял. Никогда не ворчал и не надрывался. Просто ходил с лопатой, и лопата работала сама собой, словно в черенке у нее был моторчик.
Время от времени он останавливался и поднимал кусок щебня. Вертел его в пальцах и качал головой. Потом бросал и снова брался за работу. Бог знает о чем он думал. Это был жилистый длинноносый старик, и могло показаться, что живет он единственно ради шотландского эля. Мне по крайней мере так казалось. Но когда я узнал его получше, то убедился, что он кое-что повидал за свои семьдесят лет и с его участием на войне убили целую кучу людей. А еще он потерял жену и многим пожертвовал для одного из своих племянников. Свято верил в образование.
— Читай книги, — говорил он. — Учись, человеком будешь. — И, перехватив мой недоуменный взгляд, добавлял: — Самому мне не довелось выучиться, зато я помог племяннику, сыну сестры. И горжусь этим.
За этот день я словно прочитал целую главу из учебника истории. А после работы подрядчик подвез меня на грузовике, высадил на мосту, и я не спеша пошел через древнюю арену, как будто времени впереди была целая вечность. Руки у меня ныли — одной я держал за руль велосипед, другую сунул в карман. На душе полегчало, потому что хоть на сегодня все кончилось, но грустно было думать о завтрашнем дне и всех других завтрашних днях, которые еще впереди.
— Ну как? — спросила моя старуха.
— Отлично, — ответил я. — Отлично.
Я разделся и хорошенько вымылся. Она сидела за столом и не сводила с меня глаз.
— Трудно пришлось?
— Да нет, не очень.
— А доехал благополучно?
— Шину проколол, пришлось пешком идти.
Видя, в каком я настроении, она не стала меня попрекать, что я взял этот старый драндулет вместо новехонького велосипеда. Я был так голоден, что умял кучу еды: мясо с овощами, йоркширский пудинг, чай с домашним имбирным печеньем. Жилец все это время сидел в кресле, курил и читал книгу. Дойдя до чая, я вдруг заподозрил неладное.
— Послушай, — сказал я. — А ты чего не на работе?
— Пойду попозже. Сготовила тебе горячий обед, думала, ты проголодаешься.
— Правильно думала.
— Ешь, ешь, — сказала она, надевая пальто. — Я предупредила, что задержусь. Надеюсь, тут у вас все будет в порядке.
— Все будет в порядке, — сказал Гарри, протягивая мне зеленую пачку сигарет. Я взял сигарету, косясь на мою старуху, и подумал: интересно, что она теперь запоет. Я все косился на нее, когда сунул сигарету в рот и наклонился к Жильцу, чтобы прикурить. Но она ничего. Кажется, она даже посмеивалась украдкой, когда выходила из дому.
2
Знаете, как это бывает: после тяжких трудов хочется себя вознаградить. Денег у меня было не густо, и я не придумал ничего лучшего, кроме как сходить в кино. Я сказал об этом Гарри.
— Отлично, — сказал он. — Отдых измученному телу за шиллинг и девять пенсов. Денег хватит?
— Вполне, — сказал я. — Только вот что — нужно заклеить прокол.
— Предоставь это мне.
И я решил, что в конце концов старик Гарри не так уж плох. Переоделся, вытер вместо него посуду и ушел очень довольный. Дневная жара спала, и я чувствовал себя недурно: в конце концов могло подвернуться что-нибудь поинтересней кино. Радуясь вечерней прохладе, я раздумывал о том, что сказал мне старик Джордж, и решил почитать кое-что, главным образом по электричеству, а еще, пожалуй, изобрести сверхкосмический корабль. Начну откладывать карманные деньги, выстрою мастерскую, добуду кое-какие запчасти и сделаюсь экспериментатором. Буду ученым-одиночкой, работать стану по ночам и в конце концов выстрою настоящую мастерскую, самое большое здание в городе. Может, на нашем доме даже прибьют мемориальную доску: «Артур Хэггерстон, изобретатель антигравитационного двигателя; исследователь Луны; родился в 1942 г., умер в…» Как вы легко можете догадаться, про дату смерти я не решил — не хотел, чтоб моей славе пришел конец.
А потом я перестал мечтать. И в самое время, потому что теперь я шел через «поле брани». Маленькие ребятишки весело играли в войну. Перебегая от одного укрытия к другому, они стреляли друг в друга из деревянных пистолетов, обернутых фольгой, очень похоже подражая свисту пуль. Один ловко изображал рикошеты. Каждая его пуля давала рикошет. Девочки устроили парад манекенщиц — они двигались торжественно, вытянув руки и растопырив пальцы, в своих выцветших старых платьях, которые были им длинны без малого на целую милю. Голодные ковбои жарили картошку без соли на походных кострах и весело орали.
В конце бывшей улицы стоял дом. По-моему, когда-то, давным-давно, это был трактир. На заднем дворе торчала полуразвалившаяся арка ворот. От фасада ничего не осталось, кроме куска стены на уровне нижнего этажа. Можно было заглянуть в подвал и в комнаты, потому что стена развалилась ко всем чертям.
В комнате на четвертом этаже стоял Носарь Кэррон — ни дать ни взять обезьяна в большой клетке. Я его не видел и уже хотел пройти под аркой, как вдруг услышал его голос:
— Куда топаешь?
Мне показалось, что голос доносится ниоткуда. Я вернулся назад и увидел его при полном параде — узкие джинсы, ярко-синий пиджак, широкополая соломенная шляпа, во рту сигарета, которую он перекидывал языком из угла в угол.
— Ползи сюда, Артур, — сказал он.
— Я в кино иду.
— Там сегодня дрянь крутят. Лезь сюда, увидишь интересную штуку.
— Ну ладно, только я на минутку.
Я перешагнул через стенку и поднялся по бывшей лестнице. Видно, кто-то выехал отсюда в спешке: осталась целая железная кровать. Она была пружинная, но латунные шары исчезли.
Кэррон подпрыгнул на кровати.
— Ну что?
— Кровать.
— Здесь металлолома на пять шиллингов.
— Значит, считай, пять шиллингов у тебя в кармане.
— Помоги мне ее разобрать — загоним железо старому Неттлфолду.
— Возьми гаечный ключ да разбери сам.
— Нужен раздвижной.
— Слушай, Носарь, я иду в кино. Мне некогда.
— Ладно. Тогда приходи завтра в это же время с раздвижным ключом, мы ее разберем и сволокем к Чарли.
Я согласился и позвал его с собой в кино.
— Нет уж, — сказал он. — Там всякая мура идет, лучше я буду кровать караулить. А то ее кто-нибудь уведет из-под носа.
— Как хочешь, а только дурак ты, если станешь ее караулить, — сказал я.
— Курить есть?
— Две сигареты.
— Гони сюда. За мной не заржавеет, отдам, когда получим с Чарли Неттлфолда.
Риск был невелик, и я отдал ему сигареты. Он лег на кровать, подобрал колени, подложил соломенную шляпу под голову и прикурил от своего окурка. Видно, накурился до одури.
— Мы с тобой, старик, могли бы весело жить, — сказал он. — Давай дружить, ты мне нравишься. Есть еще ребята. Будем вместе развлекаться. Что скажешь?
— Не выйдет, — отрезал я.
— Почему? Тут нет ничего плохого.
— Хочу поступить на вечерние курсы, учиться дальше.
Он присвистнул.
— А ты не сыт этим по горло, старик? Теперь самое время поразвлечься. Да и за своих постоять. Портовые ребята лезут к нам. В прошлую пятницу в молочном кафе они избили наших.
— Пускай за этим полиция смотрит.
Он сплюнул.
— Полиция! Она другим занята: вытягивает денежки у девчонок на Шэлли-стрит или автомобили караулит. Мы сами должны за себя постоять.
— Не выйдет, — сказал я. — Забот по горло.
Он взмахнул, сигаретой, описав круг. Он весь сиял в улыбке, хотя в душе злился.
— Ну ладно, ладно. А кровать ты мне все-таки поможешь снести?
Я поглядел на гайки, прикинул, найдется ли у меня подходящий ключ, и пошел своей дорогой. Спустился с лестницы, миновал короткий коридор, перешагнул через детский стульчик, обошел запыленный диван, на котором сидела, глядя на меня, большая крыса, и вышел черным ходом. Теперь я снова был на «поле брани». Пройдя шагов сто, я почувствовал на себе чей-то взгляд. Я обернулся и готов был убить себя за это, потому что знал наперед, в чем дело. Это Носарь смотрел на меня через окно и дымил, как паровоз. Может, он решил выкурить все, что у него было, а потом уж лечь и поразмыслить или приготовиться к драке. В нашем районе было много разного жулья. А он, видно, решил драться за эту кровать до последнего.
Теперь, вспоминая все это, я вижу, что в Носаре погиб полководец. И дело не только в том, что он не разозлился, когда я отказался водить дружбу с ним и его компанией: он словно предвидел, что я еще сам приду и попрошу меня принять. И как в воду глядел.
А дело было так.
Я взял билет, купил пачку сигарет и начал «восхождение на Эверест», неизбежное, когда берешь дешевый билет в «Альбион». Сначала лезешь по лестнице наверх — там есть ресторан, газоны, несколько двухместных скамеек и аквариумов, где или лампочки не горят, или же ни одной рыбы нет. А оттуда — дальше по лестнице на самую верхотуру, и тут уж надо покрепче зацепиться ледорубом, потому что галерка построена еще в те времена, когда «Альбион» был мюзик-холлом, так что оттуда недолго и загреметь. Здесь, на Эвересте, всегда шум. Задние ряды — это настоящий змеятник, где влюбленные разыгрывают боа-констрикторов; передние — тир, откуда бросают апельсинными корками, пачками из-под сигарет или еще чем-нибудь, смотря по тому, какая идет картина, в зрителей, сидящих внизу.
В общем я добрался до верхней площадки и увидел, что она почти пуста, потому что последний сеанс уже начался. Почти — потому что там была девчонка с нашей улицы, Джоан Клэверинг. Я знал ее еще с тех времен, когда мы играли в лото и водили хоровод. Кажется, я ей давно нравился, но не стал за ней ухлестывать по нескольким причинам: во-первых, не знал, о чем с ней говорить, а во-вторых, тратишь вдвое больше, так что под конец остаешься с пустыми карманами и чувствуешь себя жалким шутом.
К тому же у наших ребят принято получать все, что тебе причитается за твои деньги, а я в то время, да и потом тоже, не любил брать свое таким вот способом, где-нибудь в подворотне. По-моему, уж если любить, так с удобствами.
Джоан стояла у одного из аквариумов. Когда я подошел, она обернулась. Не думайте, что она такая уж страшная. Она ничего себе. Но я видел, что на ней пальто, которое она носила еще в запрошлую зиму, а было уже лето. Может, поэтому я ее пожалел. А еще потому, что она была чуть-чуть горбатая. В общем я сказал ей: «Привет, Джоан», — она ответила, и я прошел мимо. Эх, не надо было мне оглядываться. С этого все и началось. Она так странно на меня поглядела, что я вернулся.
— В чем дело — обманул он тебя? — спросил я.
Она притворно весело ответила:
— Сегодня он, по-моему, работает сверхурочно.
И я подумал, что все сверхурочные заработки он, конечно, заначивает, надеется встретить девушку, которой на деньги плевать. Но я промолчал. Сказал только, что картина уже идет, и она сразу подошла ко мне.
— Можно мне сесть рядом с тобой, Артур? А то здесь пристают к девушкам, особенно когда они одни.
Ну что тут сделаешь?
Через минуту мы уже сидели рядом и глядели самую несусветную дрянь, какую я видел в жизни, — про какого-то хмыря, который работает на Аляске шофером, и у него всю дорогу шины спускают, и он без конца опаздывает, без чего никак не обойтись на Аляске; но другой шофер этому не верит и приезжает туда из Нью-Йорка со своей белокурой женой, чтобы водить грузовик точно по графику, а только вместо этого его жена совсем не по графику удирает к тому, первому. Мы стали играть в такую игру: считали по уговору, закрыв глаза, и нужно было угадать, что произойдет на экране, когда кончишь считать. Я выигрывал так часто, что играть стало просто неинтересно. Раза два Джоан придвигалась ко мне и, по-моему, была не прочь, чтоб я ее потискал. Но я вместо этого предложил ей сигарету. Она выкинула обычный фортель — хихикая, задула огонь, а потом схватила меня за руку, будто бы для того, чтобы удержать спичку. Так что я даже обрадовался, когда зажегся свет, хотя знал, что придется купить ей мороженое.
И тут ввалилась целая орава ребят. Я сразу узнал портовых по красным курткам и длинным бакам — года полтора, наверно, отращивали — и понадеялся, что они ко мне не пристанут. Они сели позади нас и стали отпускать всякие шуточки; потом один, длинный, худой и прыщавый, наклонился вперед и взял Джоан за плечо.
— Что, не дождалась меня?
Она повернула голову ко мне, потом отдернула плечо и оглянулась.
— А ты зачем ребят привел? Боишься, что один домой не дойдешь?
— Иди-ка сюда, я тебе объясню!
— Нет уж, теперь поздно. Я занята.
— Слушай, Джоан, — сказал я. — Ты иди, если хочешь.
— Это еще что за дурачок, из какой деревни? — спросил прыщавый.
— Хочешь от меня отделаться? — сказала она мне и говорит тому: — Заткни глотку, а не то мой дружок тебе ее заткнет.
Я вздохнул с облегчением, когда снова погас свет. Не обязательно быть трусом, чтобы избегать драки, особенно когда их пятеро или шестеро на одного. Я молил бога, чтоб картина была интересная, с пятью кинозвездами, потому что хоть я и не трус, но драться с такой оравой мне не светило. Еще куда ни шло, когда ты не один и есть надежда на победу, но мало радости, чтоб тебя отколотили всем скопом. Но малютка Джоанн этого не понимала. А может, и понимала. До сих пор толком не знаю. Она все жалась ко мне, а я отодвигался. Тогда она схватила меня за руку. Рука у нее была горячая. Да и у меня, честно говоря, тоже. Не стану утверждать, что остался к ней равнодушным.
А потом я вдруг чувствую, что тот, длинный, огрел меня кулаком по спине. Я обернулся и, провалиться мне на месте, в первый раз заговорил — до этого я не сказал ему ни слова.
— Вот что, приятель, — говорю, — ты полегче. Будешь лезть, вылетишь отсюда со страшной силой.
— Да тебе и с одноруким карликом не справиться, — сказал он.
— Слышь, мне просто неохота с тобой связываться. Отстань.
Все вокруг нас шикали и возмущались: безобразие, пусть молчат или выматываются, — а эти портовые все выпендривались. Джоанн тем временем жалась ко мне, я отодвигался, а проклятая картина так тянулась, что можно было две сигареты скурить между револьверными выстрелами. Я слышал, как портовые перешептываются, и насторожился. Было ясно — они такую заварушку готовят, что чертям тошно станет.
Потом двое схватили Джоан. А тот, длинный, сидел на откидном месте и покуривал. Он-то и командовал парадом.
— Посадите крошку ко мне на колени, — приказал он. — Аккуратненько подымайте — как бочку с пивом.
Я разозлился и сгреб одного за руку. Они уже подняли Джоанн, и мне стали видны ее ноги — сроду ничего подобного не видывал. Она брыкалась и визжала, а я ничего не мог поделать, потому что, когда схватил первого за руку, второй, сидевший сзади меня, накрыл мне лицо пятерней, норовя ткнуть пальцами в глаза. Я отпустил того, который держал Джоанн, и врезал этому второму; я и с десяти дюймов могу стукнуть так, что добавлять не надо будет. Он живо меня отпустил. Но Джоанн теперь была уже над стульями, так что я выскочил в проход и принялся за длинного.
Дальше разговор был короткий.
Я ухватил его левой рукой за узенький черный галстук и развернулся правой. Но ударил мимо, потому что он неожиданно пригнулся. А потом кто-то бросился мне под ноги, и я полетел на пол.
Тот, который мне под ноги бросился, выскочил из другого прохода. Это было неплохо придумано. Когда билетер осветил меня своим фонариком, я лежал на полу среди стаканчиков из-под мороженого и ореховой шелухи.
— Вставай, — сказал он. — И убирайся отсюда.
— Но они первые полезли.
— Все вы так говорите, — сказал он, когда мы запрыгали по длинной лестнице.
— Спросите девушку, с которой я был, они к ней пристали, — протестовал я.
— Какую девушку?
— Вон ту. Они ее через стулья перетащили.
Он зажег фонарик, и я увидел, что разговаривать бесполезно. Джоанн уже садилась на колени к длинному, закрыв глаза и прижавшись щекой к его прыщам. И я вышел в холодный, неуютный мир.
Я побрел домой, обдумывая планы мести. Про Носаря я совсем позабыл. Честное слово, я обрадовался, когда увидел, что он стоит, словно в старинной раме от картины, спокойный и уверенный, как ковбой с американского Запада, и глядит на меня сквозь дымные сумерки. Я все ему рассказал, и он ни разу даже не вставил: «Я ж тебе говорил». Сидел и слушал, молча куря мою сигарету. Я хотел подождать того, длинного, у «Альбиона».
— Будь спокоен, никуда он от нас не уйдет, — сказал Носарь.
— Да он из нашего района сразу умотается.
Носарь покачал головой.
— Помяни мое слово, он пойдет ее провожать.
Но я был так зол, что все еще хотел вернуться к «Альбиону».
— Спокойно, — сказал он. — Пораскинь мозгами. Если мы пойдем туда, вся орава на нас навалится. А если обождем здесь, тогда уж мы навалимся на него.
— Я хочу драться по-честному.
— Все будет по-честному, — пообещал он.
Жутко было сидеть в темноте на старой кровати и слушать, как внизу крысы дружно грызут продавленный диван, а вокруг шныряют сборщики утиля. Иногда слышались удары молотка; жалобно плакали во сне дети; горланили пьяные, ссорился муж с женой. Я думал о том, что сделаю, когда дойдет до честной драки, — неужто всего только раздавлю прыщ-другой на его роже. Около половины одиннадцатого мы решили смотреть в окно по очереди, но уже через пять минут стали смотреть оба. Носарь увидел их первый и сказал мне.
— Где?
— Вон, на тротуаре.
— Что же делать?
— Ничего — остальные-то небось следом тянутся.
Но вскоре выяснилось, что хвоста за ними нет; они шли, как в упряжке, — он почти нес девушку на руках.
— Это Мик Келли, — сказал Носарь.
— Давай вниз! — сказал я.
— Спокойно. Что-то слишком уж тихо… Не нравится мне это.
— Но ведь он уйдет.
— Лучше упустить его, чем на остальных нарваться.
Мы подождали, покуда они не скрылись из виду.
— Ну, теперь двинули, — сказал Носарь. — Только тихо.
Мы спустились по лестнице. Они шли, то и дело целуясь на ходу.
— Обожди-ка, — шепнул Носарь. — Не нравится мне все это, Артур.
— Даже жаль им удовольствие портить, — сказал я.
— А вот поглядим, — отозвался он.
Мы выскочили из дома быстро и без шума — я бежал на цыпочках, а Носарь был в американских ботинках на толстой резине, — но Келли все равно услышал. Отпустив Джоанн, он сунул пальцы в рот и свистнул. Чистая работа, ничего не скажешь.
— Охрану зовет, — сказал Носарь. — Ну-ка, вложи ему ума, а я встану на стреме.
Я с ходу съездил ему по зубам и отпрыгнул назад — стиль «молния», который мы применяли у себя на школьном дворе, когда шутя боксировали друг с другом, — и тут услышал крик Носаря. Я быстренько сообразил что к чему, и дал ему по уху: знал, что надо скорей кончать, потому что услышал в переулке топот. Носарь видел, как взметнулась, словно хлыст, велосипедная цепь. Это мне Носарь потом рассказал. Я этого не видел. Цепь угодила мне под подбородок, в самую мякоть. Он снова замахнулся, но тут Носарь схватил его за руку, и хорошо сделал, потому что я уже трепыхался, как цыпленок с отрубленной головой. А потом я почувствовал, что Носарь куда-то тащит меня.
Джоанн ломала руки и вопила, как зарезанная. Тот, длинный, не сразу очухался, так что нам удалось оторваться от них шагов на двадцать. В общем мы унесли ноги, потому что они сперва остановились спросить у Келли, что с ним, и он даже ответить не мог. А мы рванули во весь дух. Остановились только возле старой литейной. Ясно помню, что Носарь сказал только:
— Теперь понял, о чем я тебе толковал?
Я не ответил, потому что еще не отдышался, да и не знал, что отвечать.
«Келли не видели?» С тех пор мы всегда задавали этот вопрос.
Правда, одно время у меня даже веки покраснели, потому что я всюду его высматривал, следил за ним и видел его даже с закрытыми глазами.
3
Под подбородком у меня была ссадина, и моя старуха это, конечно, сразу заметила.
— Что у тебя на шее?
— На балконе всю ночь провисел.
— А ну, не хами, говори, откуда это у тебя? Что ты натворил?
Но это только, так сказать, краткий стенографический отчет. Такая уж у нее манера — задать десять вопросов, чтоб получить один ответ, да и то не обязательно.
— Ссадил на работе.
— Но когда ты уходил в кино, этого не было.
— Такие ссадины не сразу видны.
— Ответь мне хоть раз по-человечески! Всегда ты что-то скрываешь, никогда правды не скажешь. Тебе лишь бы от меня отвязаться.
— Ну вот, пошло-поехало; вечно ты все хочешь узнать, на тебя не угодишь.
— Я имею право все знать — мать я тебе или нет? Ты с кем-то дрался. А потом, чего доброго, окажется, что у вас там поножовщина идет.
— Да оставь ты меня в покое, мама.
Она решила, что я готов сдаться, и быстро сказала:
— Оставлю, когда узнаю правду.
— Правда такая штука — гляди, тебе же хуже будет.
— Я стольким ради тебя жертвовала. И вот благодарность! Сын растет бандитом. Ну нет, я тебя не выпущу, пока все не узнаю.
— Ты упряма, как осел.
— Что ты сказал? Ну-ка, повтори!
— Сказал «как осел». О-с-е-л, ясно? Почему ты не хочешь оставить меня в покое?
И кто меня за язык тянул! Молчал бы себе в тряпочку. Но она устала после работы, а я был зол из-за всех этих неприятностей и не уступал. Она меня стукнула, и я как-то нечаянно ударил ее по щеке. А опомнился я уже на полу, и на мне лежал опрокинутый радиоприемник. На мое счастье, приемник был маленький и легкий.
Сроду не видел такой быстроты — я и не заметил, когда Гарри меня ударил. Теперь он глядел на меня сверху вниз — во рту сигарета, и на сигарете еще осталось с полдюйма пепла.
Кажется, я заплакал. Моя старуха подошла и помогла мне встать.
— Сядь, — сказала она. — А ты, — повернулась она к Гарри, — никогда больше не встревай между мной и моим, сыном.
Гарри отшвырнул сигарету.
— Он не смеет на тебя руку поднимать.
— Я сама с ним справлюсь. Ты слишком много на себя берешь. Это мой сын.
— Ну и возись с ним на здоровье, — сказал он, выходя. В дверях он оглянулся. — Хорошую обузу ты растишь на свою шею, моя милая.
Поверите ли, но когда он ушел, я рассказал ей почти все. Если можно так выразиться, приближенную версию. Она мне поверила, и я поздравил себя; случайно я как бы одержал победу. Или, верней, так мне казалось. В тот вечер она даже не пожелала ему спокойной ночи. Я долго не спал, но, сколько ни прислушивался, не слышал скрипа на лестнице и, наконец, заснул как убитый. А ведь этот человек дал мне свой велосипед и заклеил прокол. И я его даже не поблагодарил, ни вечером, ни на другое утро, ни после. Теперь это, конечно, неважно. Но тогда было важно — для него.
4
Назавтра на работе было почти то же самое. Дядя Джордж велел мне отвезти записку одному подрядчику на строительный склад в трех милях от нашего участка. Я захватил с собой инструменты для велосипеда, но на этот раз обошлась без прокола. И не удивительно, потому что на переднем колесе были новые покрышка и камера, Гарри их купил, когда магазин был уже закрыт, — наверно, не скоро он туда достучался. Что было в той записке и во многих других, я узнал гораздо позднее, но вам, пожалуй, сразу скажу, что они жульничали с путевыми листами и с излишками цемента, которые вовсе не были излишками; а о том, как я испортил им всю музыку, речь впереди.
К вечеру пошел дождь, работа остановилась, и пошла игра. В сарае резались в карты, а мы со стариком Джорджем сидели в цементной трубе, подложив под себя рваный мешок, чтоб удобней было, и разговаривали. Этот Джордж, скажу я вам, был первый разумный человек, которого я встретил. Серьезный такой, спокойный. Он все замечал, проницательный был, не хуже Носаря, но только его другое интересовало. Я не загибаю, честное слово. Он со мной как с равным разговаривал. Верил, что я его пойму и не придется вдалбливать мне одно и то же тысячу раз. И никогда не хвастал, не заливал: если он что сказал — значит, так и есть, он не сплетал байки, выставляя себя умником, который, все наперед знал.
Слово за словом, о многом мы переговорили.
Я его спросил: неужто он всю жизнь на этой работе? Он сказал — нет, строил шоссе, большие резервуары, прокладывал подводные тоннели.
— Да, много я в свое время тоннелей проложил. А начинал углекопом.
— Глубоко работали?
— Не очень. Футов шестьсот или семьсот глубины было. Уголь здесь почти у самой поверхности, чашей залегает. Поковыряйся в земле к западу отсюда и найдешь целую залежь; не удивлюсь, ежели и мы наткнемся на пласт, как станем дальше рыть.
— А сколько вам тогда было лет?
— Я в шахту совсем мальчишкой пошел, лет тринадцати. У шахтного ствола по десяти часов в день торчал, открывал и закрывал дверь. Сидел там и играл сам с собой в крестики и нолики, всю дверь изрисовал. Скучища. Потом стал лошадью править — вывозил на-гора вагонетки с углем. А там и за настоящее дело взялся — забойщиком стал. Зарабатывал ничего себе, ежели не попадался пласт «черствого хлеба».
— А что это?
— Место такое, где уголь твердый, а кровля плохая или разрушенная или же воды полно.
— Трудно приходилось?
— Помаленьку привыкаешь. Не сладко, конечно. Но мне ничего, нравилось, работал, покуда первая мировая не грянула… тогда меня взяли.
— Вы пошли в солдаты?
— Не пошел, а взяли меня. Вызывает раз меня из шахты управляющий, старый Чарли Лоусон: тертый он был, старый черт. Сказал, что нужны в армию добровольцы-шахтеры, по одному с каждой шахты. «Понимаешь, — говорит, — требуются добровольцы, вот я тебя и назначил от нашей шахты!»
Он подолгу молчал. Нужно было все время его теребить, выспрашивать, но все равно дело двигалось еле-еле. Мне казалось, будто я вижу страшный сон и все это происходит со мной. Улица идет вниз по склону холма. У меня длинный нос, и все надо мной смеются. И каждый божий день одно и то же. В два часа ночи: «Вставай, живо!» — это кричит рассыльный с шахты, стуча в дверь, как в здоровенный барабан, и так до тех пор, покуда не стряхнешь с себя сон и не заорешь ему, что ты проснулся. Потом спускаешься вниз, зажигаешь лампу и кипятишь чайник на большой раскаленной плите; надеваешь шахтерскую робу; завариваешь чай и наливаешь полную флягу; запасаешься на семь часов под землей тремя ломтями хлеба с каким-нибудь жиром или черной патокой, мажешь ее на хлеб без масла. Спускаешься с холма, а мороз кусает коленки. У входа в шахту берешь лампу и из темноты падаешь вниз, где еще вдвое темнее; шахтный ствол уходит все глубже, угольная пыль набивается в ноздри, вода капает за шиворот, забой уже близко. Вдвоем с напарником начинаешь рубать вручную уголь, врезаясь в пласт, орудуешь лопатой, покуда не перестанешь различать, где вода, а где пот. Здесь ты хозяин. Никаких шуток насчет длинного носа, когда у тебя в руках инструмент.
И вот в разгар войны приказ: вылезай из шахты. Труба зовет. Открытая дорога. Верный шанс стать героем.
До самой смерти не забыть мне старого Чарли Лоусона. Явился вечером в десять часов со своей лошадью и двуколкой, чтоб отвезти простого шахтера на вокзал в Ньюкасл. Там уже ждал здоровяк сержант, который умел лихо ругаться и не боялся ни бога, ни черта. Чарли отдал ему сверток, где была сотня сигарет и бутылка его любимого зелья от простуды, а потом оставил меня с сержантом и еще с двумя десятками ребят. Всю дорогу до Лондона мы дрожали, но не от холода, а от страха, потому что сержант рассказал нам про трупы и про «ничью землю». В Кинг Кроссе к нам подсадили новеньких, а потом — еще станция, и там тоже толклись растерянные шахтеры и орущие сержанты.
Потом мы отплыли на пароходе во Францию: всего тридцать шесть часов пути от шахты до самой линии фронта. Там была равнина, вся усеянная костями и рытвинами; пустыня, которая при дневном свете выглядела еще страшнее. И кругом глина, глина. Всюду стояли огромные вонючие лужи, и дорога порой шла прямо через них; глина налипала на подошвы, и начинало казаться, будто вместе с ногой всю землю поднимаешь. А на горизонте то появлялись, то исчезали клубы дыма. По дороге валом валили солдаты, многие были перевязаны и не могли идти без чужой помощи. Они кричали нам: извините, мол, что не успели себя в порядок привести. И распевали бессмысленную песню, которую сами сложили:
Мы здесь, потому что мы здесь, Потому что здесь, потому что здесь. Мы здесь, потому что мы здесь, Потому что здесь, потому что здесь.Не этого я ожидал. Два раза какие-то солдаты кричали мне: «Эй, браток, побереги нос, как бы тебе его не отстрелили!» Нет, я не этого ожидал. Шел Дождь, все двигались медленно, и зрелище было жалкое. Никто не знал, куда и зачем мы идем. Шли без винтовок, и было жутко, потому что там, впереди, сверкали вспышки и гремели выстрелы. Потом дорога перешла в неглубокую траншею, которая вилась и петляла, покуда мы совсем не запутались, и вот, наконец, мы вышли на линию фронта, но не знали этого: вокруг все было то же самое, только на одинаковом расстоянии друг от друга стояли дозорные. Сквозь мешки, покрывавшие блиндажи, мигали свечи, а с той стороны мертвечиной тянуло.
У хода сообщения было что-то вроде блиндажа, а на нем бумажка с надписью: «Глубокий колодец». Мы вошли внутрь, спустились футов на шестьдесят или семьдесят вниз, и там нас разместили. Совсем как в шахте, только угля нет — сплошь глина. Сухая она была твердой, как железо, а сырая становилась вязкой, как повидло. Мы там устроились, а потом спустились в главную штольню и, пройдя по ней, оказались прямо под немцем — это место называлось высота 60.
Там я и застрял вместе с остальными; двадцать тоннелей размером три на шесть футов; огромные насосы и трубы, посты подслушивания; тысячи людей жили, дышали и спали в глине, глина набивалась во все поры, в рот, в пах, в мозг. Тут же были устройства для разведывания, какие работы немец наверху ведет.
Немец-то, может, и знал, чего мы готовим, а может, не хотел верить в это. Раз мы отклонились в сторону. Доложили офицеру. Такой самоуверенный был малый, сказал, что мы под немецкими позициями и должны выше копать. Ясно было, что не миновать беды. Но офицер и слушать не хотел. И вот однажды глина обвалилась, получилось вроде бы окно, а совсем рядом сидели два немца и преспокойно курили.
Мы перебили их лопатами, как крыс. Это было нетрудно, потому что они сидели без касок. А потом вернулись назад и взорвали высоту, не дожидаясь приказа. Того самоуверенного офицера я больше никогда не видел. Тут уж мы немца опередили, а до этого немец обнаружил одну из наших шахт и взорвал ее, так что это должно было послужить им предупреждением. Я не думал, что мы способны на такую жестокость, хуже зверей. Я помог заложить миллион фунтов взрывчатки, но шнур поджег другой. Там было полно людей, и я не слышал своего голоса из-за грохота тысячи винтовок — наших винтовок. Все было разрушено. Люди в боевой готовности ждали на исходных позициях. Все нервничали, особенно когда выстрелы смолкли. Я с сержантом разговаривал, и вдруг он стал бледный как мел и указал мне на вершину холма. Оттуда пахло жареной ветчиной. У меня даже слюнки потекли. Запела птица, и сержант сказал, что это соловей над вражескими позициями, а внизу тысячи и тысячи немцев, четыре или пять дивизий; одни спят, другие бодрствуют; некоторые жарят ветчину, другие пишут письма или анекдоты рассказывают.
А им надо бы молиться.
Сержант сказал мне, что высота 60 и все, что впереди нас, на самом деле — скопище людей, мешков с песком, пулеметных гнезд, снайперских ячеек, блиндажей; и никакая сила в мире не могла взять эти укрепления; легче взять Гибралтар, сказал он, а уж ему-то это доподлинно известно, потому что он пробыл там полгода. Он не верил, что от нашей работы будет толк, но я-то знал, что может сделать один фунт черного пороху, и знал или воображал, будто знаю, что могут натворить миллионы фунтов этой взрывчатки. Но я ничего не сказал ему, не стал спорить. Теперь жалею об этом, потому что в тот день, когда это случилось, его первым убили наповал.
Было раннее утро, десять минут четвертого, и наши снова открыли огонь. Но не из всех винтовок, а только чтоб отвлечь немца.
Винтовки трещали. Потом смолкли. Что-то пострашнее началось и заставило их смолкнуть; девятнадцать столбов пламени взметнулись вверх, все выше, выше, выше, и земля заплясала. Грохот так бил в голову, что можно было сойти с ума. Я лежал ничком. А потом заверещали свистки. Это был самый грандиозный футбольный матч на свете. Через холм полилась серая людская река. Только сержант не двинулся с места. Мгновение он стоял, сжимая винтовку, и сперва я увидел, что на ней нет штыка. А потом я поглядел на его руку и увидел в ней дыру. Тогда я поглядел на его лицо, и там тоже было две дыры заместо глаз. Челюсть отвисла, как у мертвеца. Он и был мертвецом. Подхватив его винтовку, я пошел через холм. Хотя впереди меня бежало столько людей, вокруг было тихо. Потом послышались стоны: это были раненые и умирающие на том скате холма. Их было столько, что я шел по телам, и нога моя ни разу не коснулась земли. А земля все еще плясала. Я искал немцев, искал с кем драться, но вокруг только рыдали, или бродили, как лунатики, или сидели на земле, уткнув голову в колени, безоружные люди. Никто не хотел драться.
После этого меня решили отпустить домой, но я попросился в действующую часть. И мне позволили остаться. Я думал, может, меня убьют. Я-то уже убил, сколько мне было положено, а если убью еще одного или двух, так все равно никакой разницы это не составит. Зато, по справедливости, у них тоже должна быть возможность меня убить. Вот я и остался. А потом понял, что все равно мертв.
Как могла чужая жизнь стать моим сном?
Не знаю. После этого мы много разговаривали со старым Джорджем; не обязательно про высоту 60; но иногда случайно заговаривали и о ней. А тогда, в трубе, по которой барабанил дождь, глядя ему в лицо, я сам переживал эту историю. И потом одного его слова или даже выражения глаз было достаточно, чтобы перенести меня в 1917 год, во Фландрию. Может быть, из-за истории с Кэрразерс-Смитом, которая была у меня на совести, меня мучил этот кошмарный сон; было какое-то сходство между тем и другим. Я не могу объяснить какое.
Меня интересовало то, что Джордж сказал про смерть: «А потом я понял, что все равно мертв». Во сне я всегда слышал голос Джорджа, произносящего эти слова, и просыпался в холодном поту от мысли, что не только он, но и я, оба мы мертвы. Но он знал, что это такое, а я нет — в этом разница.
Как мог человек умереть вот так и все же жить? Для меня это была загадка, тем более что Джордж был самый живой человек среди нас. Все остальные пытались жить, а он просто жил легко, как птица. Быть может, это большое дело — считать себя мертвым.
V
1
Вы, наверно, помните, что вечером я договорился встретиться с Носарем. Я долго был безработным, и теперь мне хотелось подработать немного на железном ломе. Дома все было в норме; это значит — моя старуха, как обычно, ушла на работу. Если она и просила мне что передать, Жилец не сказал.
— Я ухожу.
— Счастливо.
Он даже не поднял головы от газеты. Я стал что-то насвистывать и вдруг почувствовал его руку на своем плече.
— Ты куда?
— На улицу.
— Дело твое — можешь не говорить, — сказал он. — Иди куда угодно и делай что угодно. Но на твоем месте я не возвращался бы слишком поздно — ты знаешь, она беспокоится, когда тебя долго нет.
— А вам из-за этого достается, — сказал я.
— Слушай, мальчик, что ты имеешь против меня?
— Ничего, до тех пор, покуда вы не встреваете между мной и моей старухой.
— Напрасно беспокоишься, — сказал он. — Если боишься, что у тебя будет новый отец, забудь про это и думать. Она могла бы давным-давно получить развод, но не хочет из-за тебя. Все думает, он вернется.
— Обязательно вернется.
— Ты сам себя обманываешь. Он сбежал через три месяца после свадьбы. И теперь уж его не дождешься.
— Что ж, поживем — увидим, — сказал я. — От этого никому вреда нет.
— Ей от этого вред.
— Моей старухе?.. Ей это все до лампочки. И мне тоже. Вы один икру мечете.
— С тобой все равно что со стенкой разговаривать, — сказал он. Я видел по его лицу, что он умалчивает о чем-то важном. И с удовольствием влепил бы мне оплеуху. Но он этого не сделал, и я, конечно, решил, что какое-никакое, а все же преимущество над ним у меня есть.
Я ушел, очень довольный, что осадил его. Уж если непременно надо иметь отца, я предпочитал человека, которого никогда не видел и, наверно, не увижу. Пусть все остается, как есть, — так я рассуждал. Нам с моей старухой неплохо; только одно я хотел изменить: когда буду прилично зарабатывать, она перестанет ходить на поденную работу и всяких жильцов я выставлю.
Носарь уже ждал меня — он из тех, которые всегда приходят первыми. Само собой, ему до смерти хотелось курить. Я выдал ему сигарету. Он сидел, с любопытством глядя на меня, и сигарета торчала у него изо рта незажженная. Гайки на кровати, конечно, приржавели, а молотка я не захватил.
— Ну как, справишься?
— Молоток нужен; если у тебя нет дела поважнее, найди, пожалуйста, кусок железа или что-нибудь тяжелое, чтоб стукнуть по ключу.
— Дай сперва прикурить.
— Что ж ты сразу не попросил? — сказал я со злостью.
— Видел, что тебе не терпится за работу взяться, не хотел время отнимать. И, как всегда, промахнулся. Давай перекурим, спешить некуда.
Я бросил ему спички и стал искать, чем бы заменить молоток, но ничего не нашел.
— Говорю тебе, спешить некуда, — сказал он. — Сядь покури. Дыми, старик, а я тем временем все в лучшем виде устрою.
Я готов был дать ему в морду. Но вместо этого сел и закурил. Мне пришло в голову — а вдруг он хочет что-то доказать самому себе и для этого ему нужно меня взбесить? Я закурил и задумался, a потом на глаза мне попался кусок трубы. Если вставить в нее ключ, получится рычаг, и я отверну приржавевшие гайки.
Я погасил сигарету, взял трубу и принялся откручивать гайки. Дело пошло как по маслу.
— Вот видишь, — сказал он. — Говорил я тебе, надо покурить, и все будет в порядке.
Он все-таки взял надо мной верх. Но не так, как ему хотелось. Я всегда чувствовал, что Носарь мне чужой. Мы с ним не были настоящими друзьями. Я уважал его, и он, наверно, уважал меня, но виду не показывал. Кроме этого, нас только одно и объединяло — его здоровенный нос и мой шрам; собственно говоря, он заинтересовался мной, только когда у меня появился этот шрам. Он гладил свой нос и многозначительно на меня поглядывал. Как будто хотел доискаться, что нас связывает и что разделяет.
Может быть, он хотел доказать, что мы с ним равны. Что ж, во всяком случае, одно хорошее качество у него было: он восхищался моей старухой.
— Помнишь, каким колоссальным завтраком она нас накормила? — говорил он, а я глядел на него, не понимая, что тут особенного.
— Ну и чего тут такого? — спрашивал я.
— Так ведь она же специально для нас готовила, помнишь?
Я кивал, как будто понял, потому что не хотел его обижать, но и выглядеть дураком тоже не хотел.
— Усадила нас, как лордов! — продолжал он. — Налила чаю, хлеба нарезала, все нам подала.
Сперва я думал — он просто не привык, чтоб ему подавали. Но по-настоящему я все понял, только когда побывал у него дома. Там стояла жуткая вонь, застарелые запахи мешались со свежими, стол был покрыт грязной скатертью, и каждый ел когда вздумается, в любое время дня и ночи. И ни о ком там не заботились, а уж о том, чтобы сготовить еду и накормить семью как следует, говорить нечего.
Пружинный матрац, видно, предназначен был служить постоянным украшением этой комнаты, так что мы его оставили. К тому же он был слишком тяжел. Ни один полисмен не попался нам навстречу, когда мы волокли кровать, а у реки мы без труда спустили груз с крутого берега. Чтобы не будить неприятные воспоминания, мы обошли задами те домики, в одном из которых укрылся старый Кэрразерс-Смит. Там сплошные кочки и идти было трудно; под конец мы бросили спинки и поволокли перекладины по земле. Но все равно мы совсем запыхались, покуда добрались до места. Старик Чарли жил в старом ветхом домике с выбеленными стенами, черепичной крышей, длинной покосившейся трубой и множеством окон. Двор, где хранился всякий утиль, был обнесен высоким забором с колючей проволокой поверху.
Я толкнул плечом широкую калитку, она распахнулась, и мы вошли друг за другом, а на дворе нас встретила большая грязная овчарка, оскалив белые клыки, злющая, вся морда в пене. Мы бросили железо и попятились. Собака была на длинной привязи.
Мы стояли, глядя на собаку. Потом Носарь сказал:
— Пойду приволоку спинки, а потом он у меня живо успокоится.
— Это не он, а она, — сказал я. — И кроме того, если мы размозжим собаке голову, у нас ничего не купят. Погоди, Носарь.
С тех пор как мы разобрали кровать, я искал случая сквитаться с ним; просто смешно, до чего сильным может стать это желание сквитаться. Я оказался прав насчет собаки, и после этой маленькой победы мне даже почудилось, что я стал выше ростом. Мы постояли еще немного, но тут собака повернула голову, заворчала и так рванула веревку, что весь дом задрожал, а потом дверь отворилась. Вышла эта самая Милдред в мохнатом халате, длинные черные волосы распущены по плечам. Остановилась в дверях, вся пятнистая, как большой мотылек, и крикнула собаке: «Молчать!» Собака, вместо того чтобы подбежать к ней, поплелась в сторону и села. Тогда Милдред прошла через двор к калитке.
— Вам чего?
— У нас тут есть старое железо, хотим продать, — сказал я.
— Напрасно старались — отца все равно нет. Приходите лучше завтра.
— Мы подождем, — сказал Носарь.
— Дело ваше, но ждать, может, придется долго.
Носарь сел на старую наковальню.
— Никогда не сиди на холодном железе, — сказала она. — И ждать вам нет смысла. Он девять дней подряд с утра до ночи утиль собирает, и неизвестно, когда вернется.
— Подождем до десяти часов, — сказал Носарь.
— Он ушел далеко, — сказала она. — Может, сейчас он уже где-нибудь близко, а может, в двадцати милях отсюда. Вернется усталый, так что все равно проку вам от него никакого.
— А вы сколько дадите? — спросил Носарь.
— За этот хлам? Да у нас целая гора кроватей.
Я видел, что она хочет поскорей от нас избавиться.
— Можно нам это здесь оставить?
— Ладно, кладите вон туда и приходите завтра, — сказала она. — Но только до шести; ему еще семь дней утиль собирать, а перерывов он никогда не делает.
— Вот что, дайте нам полдоллара, и баста, — сказал Носарь. — Тащи спинки, Артур.
Я сходил за двумя спинками, а когда вернулся, Носарь уже чесал овчарку за ушами. Милдред не было. Носарь что-то нашептывал собаке.
— Пойди погладь ее, — сказал он. — Она добрая, мухи не обидит.
— Пошли отсюда.
— Ты чего сдрейфил?
— Я не сдрейфил, а просто не хочу на рожон лезть, — сказал я. Но насчет собаки он был прав. Я погладил ее по голове, почесал за ушами, а она лизнула мне руку. И я понял, что она добрая, теперь нас знает и не тронет.
Вышла Милдред. Мне послышался в доме еще чей-то голос, но я решил, что это радио. Ну, а если она и развлекалась с дружком, это не мое дело. Протягивая Носарю деньги, она сказала:
— Держи, хотя кровать этого и не стоит. У нас их тут уже сотни две свалено.
— Что ж, спасибо, — сказал Носарь.
— Кажется, я тебя уже где-то видела, — сказала она.
— Кто меня увидит, не забудет, — сказал он. — Ну да ладно, еще увидимся.
— В другой раз принеси что-нибудь получше, малец, — сказала она и пошла к дому. А Носарь все гладил овчарку.
— Пойдем отсюда, — сказал я. Но он медлил, и Милдред тоже. Она остановилась на пороге. Так сказать, молча нас выпроваживала. Она душилась ужасно крепкими духами — у них был смешанный запах свежескошенного сена и фиалок; а может, пахло одними просто фиалками. Дверь хлопнула, только когда мы поднялись до половины холма, и все время я, не оборачиваясь, знал, что она смотрит нам вслед. Скрытная, подозрительная женщина.
— Сядем, — предложил Носарь. Я согласился.
Вечер был славный: едва начало смеркаться, небо над городом было красное — самое приятное время. Я лег навзничь, закинул руки за голову и стал считать зерна в колоске какой-то травинки, удивляясь, как плотно они сидят одно к другому.
— Придумал! — сказал Носарь.
— Уже поздно, а на полдоллара не разгуляешься.
— Можно купить десяток сигарет и выпить чашку чаю, — сказал он. — Но я про другое.
— Выкладывай.
— Ты ее хорошо рассмотрел?
— Более или менее — а что?
— На ней ничего не было, кроме халата.
— Ну и что с того?
— Пойдем поглядим.
— Да ты спятил! Собака нас живьем сожрет. И кроме того, за это могут в тюрьму упечь.
— Собака не тронет, — сказал он. — На этот счет будь спокоен. Давай поглядим.
— Гляди сам. А мне неохота.
— На спор, она совсем голая ходит, — сказал он. — Ты видел когда-нибудь голую женщину?
Он наклонился ко мне, кусая травинку. Я не знал, что сказать. Все равно он мне не поверил бы. Помолчав, я только головой покачал.
— А ты, Носарь?
Он кивнул. Я решил, что он врет. В то время я считал себя единственным.
— Есть на что посмотреть, — сказал он. — Глаза проглядишь. Ну как?
Собака встретила нас, виляя хвостом, и мы ее погладили. Сердце у меня стучало, как мотор. Я бы все на свете отдал, чтоб эта собака залаяла, но она только лизнула меня. Мы подошли к дому. Носарь шел впереди. Собака увязалась за нами, бешено виляя хвостом, — напрашивалась, чтоб ее еще погладили.
Занавеска была задернута неплотно, и мы заглянули в щель. На столе горела старая керосиновая лампа, отбрасывая круг света на потолок. Милдред обернулась с улыбкой, и я подскочил, как ужаленный — мне показалось, что это она нам улыбается. Я чуть было не дал деру, но тут сообразил, что в комнате есть еще кто-то. Халат на ней распахнулся. Не стану уверять, будто я ничего такого в жизни не видел. Но это было совсем другое. Врал Носарь или нет, но в одном он был прав: я чуть глаза не проглядел. Она сняла с руки браслет и положила на каминную полку. Потом сбросила халат. Он упал к ее ногам. Она опять улыбнулась. А потом я увидел мужчину. Он обнял ее. Меня как громом ударило, и я подумал: как нелепо, что они так близко в этот миг! Я имею в виду — два брата. Потому что там был Краб Кэррон.
Может, вы подумаете, что я псих, но это меня доконало. До тех пор все было, как в кино: глядишь на каких-то чужих людей. Но при виде Краба я почувствовал себя виноватым, и не просто потому, что он одной рукой мог меня прихлопнуть. Меня всего трясло, мне было тошно и хотелось убежать, как старику Джорджу, когда началась заваруха на высоте 60, все равно куда, только бы подальше. Я дернул Носаря за рукав, хотел его увести. Верите ли, он только головой тряхнул. И зубы оскалил, как обезьяна. От этого мне стало еще тошнее.
Но все же я не хотел уходить без него.
Наконец она решила дело за нас. Подошла к столу и погасила лампу. В тот миг, когда лампа гасла, я увидел ее голову и плечи со всеми бело-розовыми округлостями. И когда свет погас, все это еще стояло у меня перед глазами, а потом она плотно задернула занавеску. Я до того обалдел, что опомнился, только когда занавеска колыхнулась; уже у ворот, обернувшись, я увидел, что Носарь гладит собаку. Может, он тоже чувствовал себя виноватым. Во всяком случае, он не дразнил меня, хоть я и струсил. Мы повернули совсем не в ту сторону, куда ходили обычно, перешли через наплавной мост, поднялись по Венецианской лестнице, и только возле закусочной «Трехголовая овца» Носарь, наконец, заговорил.
— Постой, — сказал он. — Выпьем пивка.
Когда он вышел, застегнутый пиджак его оттопырился, и я понял, что ему удалось достать бутылку, хотя несовершеннолетним пива не продают, — наверно, сказал, что мать послала. Я обрадовался. На лестнице, где кормят голубей, мы присели у реки, темной, неторопливой, маслянистой, по которой лишь изредка проплывал лоцманский катер, медленно, еле-еле, как будто увязая в смоле, — кстати, это впечатление было недалеко от истины — и стали по очереди пить из бутылки. Я был словно выпотрошенный, в горле у меня пересохло, но от пива мне полегчало. Немного погодя Носарь потер свой могучий нос и сказал:
— Ну и ну, наш-то каков!
— Я обалдел, когда его увидел.
— Гляди не трепись, — сказал он, и это прозвучало как приказ.
— За дурака меня считаешь?
— Нет, я это так, на всякий случай.
— Она гораздо старше его.
— Какая разница? У нее есть все, что нужно, сам видел, если не слепой. Фартит, как всегда, нашему малому.
— Но как же они поженятся, если она много старше…
— Брось. Он на ней не женится, побалуется, и баста.
— А если ему придется жениться?
— Слушай, малыш, ты в этих делах ни бельмеса не смыслишь. Не придется. Она и не собирается за него замуж. Погуляли — и вся любовь, понял?
— Я уже раз видел его тут неподалеку.
— Да ну? А он знает про это?
— Ага. Сам ко мне подошел.
— А про нее не заговаривал?
— Сказал вроде, что она его копилка. А еще сказал, что если я когда-нибудь спущусь туда и попрошу у нее напиться, сам все узнаю.
— Выходит, она ему деньги платит, — сказал Носарь.
— Так он говорил. Рехнуться можно, но я своими ушами слышал.
— Некоторые бабы помешаны… на мужиках.
— Значит, по-твоему, она ему за то платит, что мы сейчас видели?
— Конечно, они такие, эти бабы.
— В первый раз слышу.
— Говорю тебе, ему жутко фартит.
— Ну и пускай фартит. А я бы не стал с ней путаться, хоть озолоти, — сказал я.
— Интересно, как это у них началось, — сказал Носарь. — Как дошло до главного…
Я мог бы ему сказать, но прикусил язык.
И все же сам я с тех пор часто думал о том, как это у них началось. Только малый вроде Краба на такое способен; он отчаянный и никогда не теряется. Может, принес, как мы, утиль, только он был один, а она улыбнулась и пригласила его войти. Эта ее улыбка крепко засела у меня в памяти. Или, может, он встретился с ней на улице как-нибудь в субботу, когда старухи толпами шляются по магазинам, и они столкнулись нос к носу. А может, он просто бродил по оврагу в жару и попросил напиться. Наверно, так оно и было, потому что он и мне советовал так сделать. Ведь не выдумал же он это. Пока он пил, она стояла в дверях и улыбалась ему своей странной улыбкой.
Он допил воду, поглядел на нее и разозлился, потому что никто из Кэрронов не любит, чтоб над ним смеялись, и сказал: «Чего это вы, миссис, смеетесь? Скажите мне, я тоже посмеюсь».
А она ему: «Я вдова. Вы напомнили мне моего мужа, который умер в японском концлагере. Вам теперь почти столько же, сколько было, ему, когда он воевать отправился, — и вы такой же желторотый».
«Ошибаетесь».
А потом он отдал ей стакан и ушел, разозленный, но заволновался и обрадовался, когда она крикнула:
«Эй, постойте! У меня к вам просьба».
«Что такое?» — спросил он.
«У нас кронштейн для занавески погнулся, может, исправите?»
Сердце у него сильно забилось, и он сказал: «Право, не знаю…» А она ему на это: «Ну ладно, малец. Беги отсюда. Я тебя не обижу». Тогда он вошел, залез на стремянку и в один миг все исправил, хотя руки его не слушались, а потом посмотрел вниз и увидел, что она глядит на него со своей странной улыбкой. И он понял, что все это только предлог. Тогда он стал спускаться, лестница, наверно, шаталась, и она подала ему руку. Рука всегда живет какой-то своей жизнью, а женская рука — это живое чудо. Он шарил в воздухе, пока не нашел ее руку. Она сказала «Ну?» одним дыханием и попыталась отнять руку, но он не отпускал, и тогда она прижала руку к своему бедру. Тут только он ее отпустил. Она обняла его за шею, и он увидел ее красивый пухлый локоть. Глаза у нее были закрыты; голова откинута, вся ее мягкость теперь сосредоточилась в руках…
Все это я, конечно, выдумал, представляя себя на месте Краба.
Одно я не выдумал: она всегда потом совала ему деньги. И смеялась над ним, говорила, что ей все равно, с кем быть, просто он кстати подвернулся и ей наплевать, придет он еще или нет. Но он всегда приходил. Все оставалось по-прежнему, только он сказал ей, что не хочет брать денег. Но она настаивала, грозила в другой раз его не пустить. Он брал деньги и старался забыть их на столе. Но ему это ни разу не удалось; она ему всегда напоминала, засовывала их в карман. Эти деньги имели для нее большое значение. По-моему, она этим хотела себе и ему доказать, что он для нее пустое место.
Вот почему она стояла на дворе и смеялась в тот день, когда мы с Крабом лежали в овраге. Но я и теперь не знаю, как это началось. Все эти мои фантазии — бред собачий. Может, так началось бы, окажись там я, а не Краб. Вряд ли был какой-то предлог или разговор. Просто это случилось, и все. А чтобы Краб не задирал нос, она с улыбкой, без единого слова дала ему денег. Представляю себе, как Краб поднимался на холм и все оглядывался, а она стояла на дворе и смеялась. Только когда это поймешь, можно понять, что чувствовал Краб. Он увязал все глубже и глубже, а она была свободна благодаря этим деньгам.
Это был ужас — я не о том говорю, что он потом сделал. Я о том, каково ему было, когда она давала ему деньги и смеялась. Не скрою, это меня поразило; было время, когда я завидовал Крабу, потому что у всякого бывают минуты, когда чего-нибудь очень хочется и ни о чем другом думать не можешь, а добьешься своего и чувствуешь, что хочется большего.
2
Теперь я пропускаю две недели и хочу рассказать про день, когда я принес домой первую получку. Это я на тот случай, если вам показалось, что мы с моей старухой жили как кошка с собакой. Ничего подобного. Просто у каждого была своя жизнь; иногда мы, конечно, ссорились, но редко. На этот раз виноват был я. Когда я начал работать, моя старуха настояла, чтобы я приносил ей всю получку, и выдавала мне карманные деньги. Мне это не нравилось.
Я не хочу сказать, что она была злая, нет, она всегда была добрая и щедрая, это правда, но карманные деньги не хуже смирительной рубашки, это тоже правда. Чего хватало иногда на всю неделю, того иной раз могло не хватить на один день, и тогда мы собирали железный лом или прибеднялись и попрошайничали. Прав я был или нет, но мне казалось, что будет справедливо, если я стану платить ей за еду и сам себя одевать. Я мог на этом крупно прогадать, но мог и выгадать. Скажем, мне обрыдли эти поездки в центр города по субботам, когда надо было купить ботинки, носки, плащ или костюм; к тому же мы всегда подолгу спорили, прежде чем что-нибудь выбрать.
Насчет одежды моя старуха — настоящая королева Виктория.
Еще в школе я пережил увлечение стильной одеждой. Потом это прошло, и я стал увлекаться другой модой — галстуками-шнурками, например, или броскими рубашками. Теперь-то мне это и вспомнить смешно, но однажды я целый месяц воевал с моей старухой за право купить яркую рубашку с галстуком-шнурком и стеклянной булавкой. Всего двадцать девять шиллингов, но она была непреклонна. А потом мне захотелось иметь узкие, облегавшие, как собственная кожа, черные джинсы, пиджаки с золотистым отливом, ботинки на каучуке и атласные жилеты. Кое-что мне перепало, но не все. Теперь мне наплевать, а тогда это было важно.
Каждый человек имеет право одеваться по своему вкусу. Может, он черт знает чего накупит. Может, недели через две будет жалеть, Что никто, угрожая пистолетом, не выгнал его из магазина. Может, он всякий раз будет оставаться в накладе — кому какое дело. Раз он платит деньги, это его право.
Таково мое убеждение, но, братцы, честное слово, я чувствовал себя смешным, когда у себя в комнате, вынув фунтовую бумажку, спрятал под тюфяк конверт, в котором оставалось без малого четыре фунта.
У меня даже мелькнула мысль: а не лучше ли все оставить, как было? Но потом я вспомнил, что мы с Носарем уже придумали, какую форму будут носить наши ребята из Старого города. На это срочно нужны были деньги, а ждать, покуда моя старуха придет с работы, мне не хотелось, и я удрал из дому.
Но я знал, что мне придется померяться с ней характером.
Как бы там ни было, я вернулся домой без четверти одиннадцать, немного досадуя, что зря потерял вечер. Мы с Носарем и еще несколькими ребятами ходили в «Риджент», местное увеселительное заведение, где есть кино, бильярдная и дансинг. Было слишком жарко, чтобы идти в кино, и мы толклись снаружи, глазели на приходящих девчонок, иногда отпускали шуточки, так что девчонки хихикали, а их кавалеры бросали на нас косые взгляды. Когда нам это надоело, мы пошли в бильярдную. Там к каждому столу была очередь. Жуть! А без очереди не пролезешь, потому что управлял всем сержант Минто, бывший десантник, с ним шутки плохи. Когда-нибудь расскажу вам про Минто. Ох, и интересный же тип.
Под конец все мы потянулись в дансинг, хоть у меня и душа к этому не лежала. Когда там полно народу и никому до тебя дела нет, это еще туда-сюда, но я терпеть не могу подпирать стенку и разговаривать или отбивать такт ногой под оркестр, когда народу мало и девчонки танцуют только со своими ребятами, а незнакомым отказывают. В тот вечер как раз так и было. Мы встали около дохленького оркестра, который играл без нот, стояли и смотрели. Было еще рано, народу собралось немного, и все сплошь виртуозы. Записные танцоры. Декольтированные девицы, приглашенные на все танцы заранее, и при них ребята, которые мигали им, чтоб они отказались, если их приглашали незнакомые. Так мы там околачивались, болтали и отбивали такт, пока эти фанатики вертелись волчком. Говорю вам, нет ничего тоскливее, чем смотреть на танцы и не танцевать самому.
По-моему, это непорядок. Я про то, что они танцуют только со своими. Это тоже форма капитализма. Может, вы сочтете меня сумасшедшим, но я уверен, что если бы каждый мог танцевать, с кем хочет, можно было бы обойтись без многих скандалов, которые кончаются серьезными драками.
А так оно и случилось, когда явился Келли со своими ребятами. Сперва мы растерялись, но потом начали злиться. Дело принимало скверный оборот. Завидев нас у эстрады, Келли повел своих в другой конец зала. Мы, конечно, обменялись выразительными взглядами. В перерывах между танцами мы их донимали насмешками. Они начали закипать, мы тоже. Один из наших, Уиллис, по прозвищу Малыш-Коротыш, сказал:
— Пошли дадим им жару!
Носарь покачал головой.
— Мы уходим, — сказал он и подмигнул. А сам потихоньку указал, кому где встать, чтобы захватить Келли и его ребят врасплох, когда они будут спускаться по лестнице.
— Только глядите в оба, — предупредил он нас. — Эти мальчики таскают с собой велосипедные цепи и черт те что, а мы с пустыми руками пришли.
Тут к нам подошел распорядитель. Высокий, худой, с усами и, видать, из слабонервных.
— Надеюсь, ребята, вы не затеете скандала?
— Мы-то нет, — сказал Носарь. — А вон те — они могут.
— А кто это?
— Портовые, шайка Мика Келли.
— Бога ради не задирайте их! — сказал распорядитель. — Мы не хотим скандала — в прошлый раз кто-то разбил бутылкой большую люстру и удрал, а нам это обошлось в десять фунтов.
— Мы тоже скандала не хотим, — сказал Носарь с самым добродетельным видом. — Мы даже решили уйти.
— Вот молодцы! — сказал распорядитель.
Мы вышли как ни в чем не бывало, крикнув «пока» оркестру и послав воздушный поцелуй певичке. А за дверью все разошлись по местам.
План был такой: мне и Малышу спрятаться в мужской уборной и неожиданно навалиться сзади. А если кто из них забежит туда раньше времени по нужде, наше дело с ходу его обработать — тогда Носарю и всем нашим меньше будет возни. Все остальные, кроме Носаря, спрячутся внизу под лестницей, а он будет стоять как ни в чем не бывало на виду и курить — приманка для Келли.
Получилось так, что двое портовых зашли в уборную. Помню, когда мы за них принялись, в дверь заглянул третий, но он, как видно, свято уважал честные драки и поэтому предоставил своим приятелям выпутываться самим. Но не очень-то им это удалось. Когда они вошли, я стоял за дверью, а Малыш-Коротыш спрятался в кабине; я подставил второму ножку, первый обернулся, но тут Малыш выскочил и заехал ему головой в живот, а в этом Малыше фунтов сто весу. И первый был готов — он долго не мог отдышаться, и, наверно, за милю было слышно, как он хватает воздух. Зато со вторым пришлось повозиться — он не растерялся, упал на руки, что спасло его от удара о каменный пол, вскочил быстро, как кошка, злобно фыркая, и в руке у него уже была велосипедная цепь. Он стал ею размахивать. Надо было видеть, как он со свистом рассекал этой цепью воздух, а я и Малыш-Коротыш выдавали какой-то танец, не то квикстеп, не то классический балет, чтобы нас санитары не унесли.
Все обошлось без крови, но этот малый сделал кое-что похуже — задел Малыша цепью по плечу, а он у нас франт и не любит, чтоб ему шмотки рвали. Тогда Малыш, недолго думая, снова ринулся головой вперед — раз-два, в жизни не видал ничего красивее. Он обхватил этого малого вокруг пояса, а тот, задыхаясь, стал молотить Малыша по спине. Я выждал, пока мне будет сподручнее, и ударил его под ребро. Потом я подобрал цепь, а Малыш-Коротыш съездил его по морде, и он схватился за глаз.
Потом мы дунули вниз по лестнице. Там было весело — ребятишки усердно лупили друг друга, многих сбили с ног и чуть не затоптали. Где-то между вторым и третьим этажом нам попался навстречу один из ребят Келли, а может, он был просто посторонний. Но я схватил его за галстук и спросил, далеко ли он собрался.
— А тебе какое дело?
Подмигнув Малышу, чтоб он дал ему подножку, я сказал: «Есть дело», — отпустил галстук, и он загремел вниз. Ряды наших врагов сильно поредели — несколько человек сразу испарились, как только увидели нас с Малышом. Некоторые сидели на полу, и кое-кто уже оседлал их. На ногах остался один Келли.
Он выхватил нож.
Сперва нам показалось, что у него в руке мелькнуло что-то черное. Но тут же лезвие ярко сверкнуло, и, братцы, тут я замер. И все замерли, потому что он наставил нож прямо Носарю в живот. И говорит:
— Отпустите моих ребят, не то, ей-ей, я ему брюхо вспорю.
— Значит, ты ножом? — сказал Носарь спокойно. Но его прошиб пот.
— А ты заткнись!
И они ушли. Отступили в полном боевом порядке. А когда все они были уже на улице, Келли преспокойно проколол Носарю рубашку и надрезал ее. А потом тоже ушел. Может, вам это покажется невероятным: ведь он один держал нас шестерых, правда, с ножом, но только так оно и было. Вот попробуйте сами выйти с, голыми руками против ножа, живо присмиреете. Когда вытаскивают нож, всякий смирным становится.
Они перешли улицу и сели в трамвай. Трамвай сразу тронулся, так что мы не могли бы их догнать, даже если б захотели. Но я был сыт по горло и готов поставить тысячу против одного, что все остальные чувствовали то же. И когда кто-то вспомнил про тех двоих, в уборной, один только Малыш-Коротыш предложил еще потолковать с ними, чтобы сквитаться за нож. Никто его не поддержал, и он не настаивал.
В общем надо было уносить ноги, потому что всегда находятся услужливые люди, готовые вызвать полицию. К тому же по лестнице спускался распорядитель, и, хотя бояться его не приходилось, у нас не было охоты с ним объясняться. Мы пошли на рыночную площадь и почистились в подземной уборной. А потом завернули в кафе по соседству выпить кофе и поболтать. К этому времени про нож все мы почти забыли и с удовольствием вспоминали драку. Петушились, рассказывали, кто как отличился.
Но старик Носарь сидел молча.
— Я из него душу выну, — только и сказал он. Сроду не видел такого гордеца, как этот полукровка. Может, я и отговорил бы его, но мне было не до того. Вечером мне предстояло выдержать еще один бой.
3
Придя домой, я застал маленькую семейную идиллию. Нет, такого ничего не было. Они не вскочили, когда я вошел, как солдаты перед офицером. Было хуже. Моя старуха сидела по одну сторону стола, Гарри — по другую, радио тихо играло, и я почувствовал, что у них был разговор по душам, какой возможен только между друзьями. Это задело меня за живое.
— Явился, — сказала моя старуха, сразу меняя тон. Я давно заметил, что женщины это ловко умеют.
— Приветик, — сказал я и сел за стол на свое место, где стоял прибор.
— Его светлость ждет, пока ему подадут кушать.
— Ах, мама, давай поужинаем без ссоры!
— Поищи-ка свой ужин под тарелкой.
— Я, пожалуй, пойду, — сказал Гарри.
— Постой, сейчас весело будет, — сказала моя старуха.
— Оставайтесь, — сказал и я. — Повеселимся вместе — конечно, когда узнаем, в чем дело.
Но я знал, в чем дело и что лежит у меня под тарелкой.
— Нет уж, спасибо, Пег, — сказал он. — Я не хочу вмешиваться.
— Тогда что-нибудь одно; или вмешиваться, или нет.
— Ты о чем? — спросила моя старуха.
— Сама знаешь. Милые разговорчики у вас тут были, когда я вошел!
— Хватит!
— Пожалуйста, только нечего мне голову морочить.
— Ты что, мать свою не знаешь? — сказал Гарри. — Она своим умом живет, и, если ей захотелось поговорить со мной о тебе, это ее право.
— И могу все повторить тебе в глаза, — сказала моя старуха.
— Ну, я пошел! — сказал Гарри.
— Жаль, что он не остался послушать, как ты тут будешь речугу толкать, — пустил я ему вслед.
— Замолчи, или я снова запущу в тебя чайником! — сказала моя старуха. — Попрекаешь меня, что я все время кричу, а разве с тобой можно говорить спокойно?
И это была сущая правда. Сам не знаю, кто тянет меня за язык, когда спорить явно бесполезно. Особенно со старшими. Я заметил, что им нас не переспорить. Конечно, у них есть опыт, зато молодые быстрее соображают. Но все равно лезешь на рожон. Это вроде операции без наркоза — в конце концов становится так больно, что против воли стараешься причинить боль другому.
— Ну ладно, — говорю. — А все-таки я не понимаю, из-за чего шум.
— Я уверена, что у тебя хватит ума понять…
— Спасибо.
— Ты знаешь, из-за чего — из-за твоей получки.
— А ты что, подождать не можешь?
— Я сказала, что буду давать тебе карманные деньги… а ты нарочно вскрыл конверт. Зачем?
— А скажи, пожалуйста, откуда ты знаешь, что я его вскрыл?
— Погляди-ка под тарелкой. — Но я не стал глядеть — не хотел доставить ей это удовольствие. — Погляди, погляди!
— Нечего и глядеть, без того знаю, что ты шарила у меня в комнате.
— Сам виноват, — сказала она. — Я девчонкой работать пошла и гордилась, когда приносила деньги домой и отдавала твоей бабушке. Слышишь, гордилась.
— Теперь не те времена, все переменилось…
— Да, к худшему. Я на твоем месте сгорела бы со стыда! Мать всю жизнь билась одна, растила тебя, а ты вон что вытворяешь.
— Послушай, мама, — сказал я, пытаясь начать разумный разговор. — Послушай меня. Эти деньги я заработал. То, что было хорошо для тебя, мне не подходит… Конечно, я не отказываюсь, буду платить тебе за еду и квартиру. Но я хочу сам распоряжаться своими деньгами, сам покупать себе одежду. Довольно водить меня по магазинам и одевать, как маленького.
— Ты отдашь все целиком.
— Я буду тебе платить за еду и квартиру, чтобы нам не зависеть друг от друга.
— Знаю я, чего ты хочешь, — транжирить деньги на обезьяньи костюмы и водиться со всякими подонками. Так вот, говорю тебе: я этого не потерплю.
Тогда я отодвинул тарелку, схватил конверт и вытащил три фунтовые бумажки.
— На. Вот твои деньги, радуйся. — Я совал ей деньги, но она не шевельнулась. Тогда я швырнул их на середину стола. — Ладно, пускай здесь лежат, возьмешь, когда я уйду, ты ведь всегда так делаешь.
— Скорей у меня руки отсохнут.
— Жаль, что ты не так щепетильна кое в чем другом.
Мы оба вскочили, едва сдерживаясь.
— Ты о чем это?
— Да о твоем дружке.
— Ах ты, гаденыш…
На этот раз в меня полетел не чайник, а хлебница. Но я не зевал. Тогда она в бешенстве бросилась на меня. Я пригнулся, а выпрямляясь, со страху стукнул ее. Она остановилась как вкопанная. Потом отвернулась, пошла в угол и села на стул.
— Прости меня, мама, — сказал я, подходя к ней.
Она не ответила. Не сказала даже: «Ты меня ударил!» — и, честное слово, я восхищался ею. А ведь ей было очень больно. Удар пришелся прямо в солнечное сплетение.
— Я нечаянно, мама, ты так на меня накинулась. Нечаянно… Я не хотел.
Я уже стоял перед ней на коленях, а она обхватила мою голову и притянула к себе. Помнится, я плакал, как ребенок.
— Прости, мама. Возьми деньги, все возьми, что осталось. Я был не прав. — Я сказал так, но не скрою, при этом у меня мелькнула мысль, что напрасно я так легко сдался. Но мне сразу же стало стыдно.
— Нет, мальчик, — сказала она. — Не нужны мне твои деньги. Видит бог, не нужны. Я просто хотела поговорить по-хорошему и не совладала с собой. Оставь себе деньги, но относись ко мне по-человечески.
— Клянусь.
Мы долго сидели молча. Потом она спросила:
— Что ты имеешь против него?
— Не знаю. Вроде бы ничего… Будь он только жильцом.
— Я была одна больше пятнадцати лет, — сказала она.
— Не могу себя пересилить, мама. У меня все внутри переворачивается, как подумаю, что между вами что-то есть.
— Он хочет жениться на мне… а я не могу больше выносить одиночества. — Видно, она почувствовала, как я весь сжался. — Что ты стал бы делать, если б я вышла замуж?
Я не, ответил. Немного погодя я встал и умыл лицо. А она поджарила мне рубец в тесте и налила чаю. Я сел и стал есть. В кухне было хорошо и уютно, мы были вдвоем, и к тому же спор решился в мою пользу. Но никогда в жизни я не чувствовал себя таким несчастным. Уже в постели я вспомнил все бои, какие мне пришлось выдержать, и сказал себе: да, брат, нельзя все время терпеть одни только поражения, но иногда поражение лучше победы.
VI
1
Если разобраться, у нас на участке было не так уж плохо, стоило только привыкнуть. Я там не скучал, и лопатой шуровать, против ожидания, приходилось не слишком много — только в первый день меня заставили попотеть, потому что сломалась машина. А так я помогал то одному, то другому — работал отбойным молотком или крепил стенки, когда грунт был рыхлый. Мне нравилось копать, потому что часто попадалось что-нибудь интересное: как-то мы наткнулись на пласт хорошего угля, и, пока он не кончился, каждый мог взять себе мешок-другой. Но бывали находки и поинтереснее. В другой раз мы откопали гнутый мельничный желоб, по которому подавалась почвенная вода, и старик Джордж сказал, что желоб, должно быть, очень старый, потому что кирпичи не фабричные, а ручной работы и в толщину не больше двух дюймов. А потом мы дошли до того места, где стояла сама мельница.
У мельничного фундамента пришлось провозиться недели две. Он был сложен из каменных глыб чуть не в ярд длиной и не меньше фута шириной, но нашим предкам этого показалось мало, и они скрепили кладку цементом, который так затвердел, что пришлось вызвать подрывника. Там, где было когда-то мельничное колесо, мы нашли тайничок. Это было утром, часов в десять. Я сразу спустился туда и стал разгребать землю руками. Отыскал несколько старинных позеленевших монет с женским профилем (я решил, что это королева Виктория, но оказалось — королева Анна) и кольцо. Кольцо было покрыто каким-то налетом, но, когда я потер его о рукав, на нем заблестел зеленый камешек. Я спрятал все это в карман и никому ничего не сказал. В законах я был не силен, но отлично понимал, что Спроггет и дядя Джордж живо отнимут у меня кольцо, и тогда не видать мне его, как своих ушей.
Но все же я показал свою находку старику Джорджу. Он сказал, что монеты медные. Но когда увидел кольцо, оживился.
— Его небось мельничиха посеяла, — сказал он. — Много, должно, слез пролила. Сдается мне, это завезли сюда из России. Береги его, покуда у тебя невесты нет, но прежде, чем кому на палец надеть, убедись, что ты не ошибся.
Я не стал слушать этот бред. Но кольцо отнес домой и никому про него не сказал; вместе с монетами я спрятал его под половицу у себя в комнате и в дождливые вечера иногда чистил монеты, но чаще разглядывал кольцо. Оно было красивое, и его, видно, долго носили — надпись на внутренней стороне нельзя было разобрать. Зато можно было сколько угодно любоваться маленьким изумрудом; он был хорошо отшлифован и ярко блестел.
Но все это так, между прочим. Я просто рассказывал вам про свою работу. Так вот, когда мне нечего было делать в канаве, я управлял бульдозером, это проще простого, или становился на место маркировщика, а он отдыхал. Или же садился на экскаватор и выбирал грунт. Экскаваторщиком был Джо Джонсон. Бывший боксер, пьяница, вредный тип. Он ни за что не позволял мне управлять экскаватором, боялся место потерять и не любил даже, когда я смотрел на него. Но я все равно научился. Были у меня, конечно, еще мелкие обязанности — кипятить чай, подметать в сарае, ездить по поручению дяди Джорджа или Спроггета.
Но чаще всего я работал со стариком Джорджем у бетономешалки. Специальными легкими лопатами мы засыпали в бункер песок и щебень, а оттуда отправляли их в дробилку. Дозу мы определяли по указателю, и смесь попадала в ковш, который опрокидывался в барабан бетономешалки. Поворот рычага, и барабан по канатам скользил к формам, знай только не зевай.
Когда мы зашивались, нам давали в помощь третьего, но обычно мы управлялись вдвоем. Работали не спеша и могли разговаривать. Главное было расшевелить Джорджа, заставить его говорить. Сначала мне это давалось с трудом. Бывало, полдня потратишь, а так и не заведешь его, слова и то из него не вытянешь. По-моему, он уже пережил свои воспоминания. Окликнешь его иной раз, а он медленно так повернется, и глаза у него как стеклянные. Но потом я узнал, какие кнопки надо нажимать.
Один раз его расшевелили конники. Это было в субботу утром: мимо проезжали ученики школы верховой езды. Мы вылезли посмотреть, как они гарцуют на своих резвых лошадках — красивые девушки в бархатных шапочках и юноши в кожаных крагах, гордо поглядывающие вокруг.
— Вот это класс! — сказал я.
— Никакой это не класс, — возразил он. — Это только тебе так кажется. А для других они все равно что вши. Для власть имущих, например, они — ничтожества, или, говоря короче, ничто. Нет никаких классов. Есть только касты. Каждый принадлежит к какой-нибудь касте, и одни простаки, вроде тебя, этого не понимают.
— Все знают, что есть разные классы.
— Все знают! — фыркнул он. — Да, конечно. Но только все это одно воображение. Ты и твои приятели можете собраться и составить касту, чин по чину, запомни это. Шайка стиляг, или как их там теперь называют, ничем не отличается от господ, которые на всех плюют и все теплые местечки прибрали к рукам. Надо только иметь немного воображения.
— Скажите, Джордж, а когда вы это поняли? — спросил я.
— Наверное, в окопах. Но на словах толком не мог бы объяснить. А знаешь почему? Там были жизнь и смерть, больше ничего, от этого воображение слабеет. Не все ли равно, кто провел тебя через «ничью землю», лишь бы назад вернуться в целости. Там не было ни классов, ни каст. Среди офицеров из господ были такие жалкие дурачки, что мы молили бога поскорей послать им пулю, покуда они нас всех не угробили. Кто остался жив, тот и выше других, класс не спасал от снаряда или от пули, так что это одно воображение.
— Но все в это верят, — сказал я.
— Неважно. Господа должны в это верить, из-за этого они и погубили столько хороших людей. Ради своей касты они должны нас морочить, иначе все полетит к чертям. А если они при этом морочат и себя, тут никакой разницы нету. Понимаешь?
Я ничего не понял и переменил разговор.
— А вот вы на той неделе сказали, что были мертвый, как это понимать?
— Ах, ты про это…
— Объясните, Джордж!
— Очень просто. Вместе с высотой 60 взорвали и меня. Во мне не осталось ничего стоящего, и вот тебе доказательство — я здесь. По всей справедливости я должен бы уже десять раз быть трупом. Но от меня ничего не осталось — нечего было убивать. Вот моя фамилия Бзэк — что в ней такого? — спросил он вдруг.
— Смешная фамилия.
— Смешная?
— Ну, странная.
— А у кого не странная? Взять хоть тебя: Артур Хэггерстон. Подумай сам. — Я подумал. — Разве это не так же смешно, как Бзэк?
— Еще смешней.
— То-то и оно. Всякая фамилия смешная, ежели поразмыслить. Фамилии давным-давно устарели. Они не подходят к брюкам, подтяжкам и телевизорам. Так какого же дьявола смеяться?
Я сказал, что не знаю.
— Правильно, не знаешь. Но одна фамилия как фамилия, а над другой ты смеешься — вот, скажем, над Бзэком.
— Я никогда не смеялся, Джордж, честное слово.
— Ну, не ты, так другие.
— Кто же?
— Многие. Знаешь ли ты, что люди, бывало, меняли фамилию, потому что их засмеивали совсем, проходу не давали.
— У нас этого никто не делал.
— Но такие случаи бывали. Вот, к примеру, мой племянник. Я вернулся с войны мертвецом. Жена померла от испанки. У моей сестры был сын, способный мальчик. Я тогда еще не пил. Откладывал каждый лишний пенс. Когда пришло время, помог ему поступить в университет. Ну, он поступил, и ему там было хуже, чем на войне. Он часто приезжал оттуда, но лучше бы ему не приезжать. Когда он был дома, я уходил — тогда и пить начал.
— Он, наверно, был снобом.
— Нет, он сбился с пути, вот в чем беда, и винил во всем свою фамилию. Видно, всякие умники его задразнили. А когда он кончил университет, то приехал и сказал, что сменил фамилию.
— А потом что?
— Ничего. Мы жили сами по себе, а он сам по себе; никто и не заметил разницы, только мы все реже его видели.
— А кем он работал?
— Учителем, — сказал Джордж. — И сейчас еще учительствует где-то здесь, в городе. Как увидит меня на улице — шасть на другую сторону. А от матери, заметь, так не бегает. Да только ей от этого не легче.
— Но… — начал я.
— Знаю, что ты скажешь: будь его мать мне сестрой, его фамилия была бы не Бзэк. Ошибаешься. Она была мне сестрой, и все же его фамилия была Бзэк… Может, именно в этом все дело.
Некоторое время мы молча смотрели друг на друга.
— Ну ладно, запускай дробилку, — сказал он наконец. — А над этим подумай. Самая смешная фамилия может много горя принести человеку.
Мы запустили дробилку, и все время я думал, что, может, это еще забавней, чем он предполагает, — а вдруг наш Кэрразерс-Смит тот самый Бзэк, только под другой фамилией? Если так, понятно, почему он тогда побежал. И, улучив минуту, я спросил:
— Джордж, а какую фамилию он взял?
— Ты что, знаешь его?
— Может быть.
— И думаешь, я тебе скажу? Как бы не так… Надо хоть от этого его уберечь.
— Не Кэрразерс-Смит?
Глаза у него опять словно остекленели.
— Можешь пытать хоть до судного дня, все равно не скажу ни да, ни нет.
Немного погодя он спросил:
— Какая, ты сказал, фамилия?
— Кэрразерс-Смит.
— Ну нет, он, конечно, тщеславный был, но все же не настолько[7], — сказал Джордж. — Да у нас в городе такими фамилиями пруд пруди.
Больше я не вытянул из него ни слова. Было время, когда мне доставила бы удовольствие мысль заявиться на «Свалку», подойти к Кэрразерсу-Смиту и шепнуть: «Здорово, Бзэк…» Просто чтобы увидеть, как Он психанет. И еще, пожалуй, убедиться, что это действительно он. Но теперь — нет. Довольно я перевидал всяких мертвецов, ну их к свиньям. Часто я думаю о том, как бы я чувствовал себя, сменив фамилию. Скажем, стал бы называться Тони Кэртис[8]. Наверно, как арестант, выпущенный на волю под честное слово. Убегать — вообще удовольствие маленькое, а тем более от своей фамилии. Пускай даже эта фамилия Бзэк. Да и нет в ней ничего особенного. Он все это просто выдумал. Или слишком уж натерпелся.
2
Ребята тем временем у нас подобрались. Всего человек пятнадцать, но никогда нельзя было рассчитывать, что соберутся все, а неприятности, как назло, случались, когда нас было мало. Правда, не очень-то часто они и случались. Как-никак драка в «Риджент» многому научила и нас и портовых.
С тех пор мы не вылезали за пределы своего района. Да и то у границ было небезопасно, так что мы старались держаться в центре, где всегда можно было найти, чем заняться. Иногда мы выпивали понемногу, если бывали при деньгах, раза два в неделю ходили в кино, а не то околачивались возле молочного кафе или собирались в старой литейной, где, не найдя лучшего места, оборудовали свой штаб. По субботам ходили на танцы. В общем тоска зеленая.
Мы гордо щеголяли в своей субботней форме — диагоналевые брюки, ботинки на толстой подошве, непромокаемые куртки и узкие красные галстуки. Об одежде мы очень заботились. Конечно, это было пустое зазнайство, но тут уж Носарь слышать ничего не хотел. Он был ярым поборником дисциплины. «Все должно быть в лучшем виде, а не то…» Правда, мне он никогда слова не сказал, потому что я очень следил за своим костюмом. Мы с ним подружились, но между нами всегда оставалось некоторое расстояние. Мне нравилось, что у него есть чувство юмора. Кроме того, я видел его в драке и уважал за храбрость. А он без меня шагу ступить не мог. Он задумывал всякие планы, я разрабатывал их во всех подробностях.
Он отлично умел принимать быстрые решения — помните, в «Риджент» он все разыграл, как по нотам, а дальние стратегические замыслы подсказывал ему я. Взять хоть нашу штаб-квартиру. Сначала пришлось его уговаривать, но я настоял на своем. Там была старая кладовка, мы ее вычистили и приладили запор на дверь. Притащили туда для Носаря стол и стул. Остальные сидели на ящиках из-под апельсинов. У нас был даже старый граммофон и целая куча пластинок, которые мы выпросили, взяли взаймы или просто стибрили. Пластинки были вшивенькие: какие-то хмыри долбали вещи двадцати или тридцатилетней давности — мы их ставили только для смеху. Скажем, «Эми, бесподобная Эми»-про женщину, которая перелетела Атлантический или еще какой-то там океан и побила все рекорды. Но были и другие, из южных штатов, например Луис Армстронг, Фэтс, Уоллер, Джелли Ролл Мортон, братья Миллз и еще навалом. Мы любили старый добрый джаз. Могли сидеть, обхватив коленки, хоть до утра, особенно если удавалось раздобыть бутылку-другую пива и сигареты, но и это не обязательно. Хорошие были вечера. Может быть, лучшие в моей жизни.
Но всему приходит конец, и он пришел. Не сразу, конечно, а потихоньку. Подкрался, как кот к воробьям. Конечно, так оно и должно было случиться. Это я понимаю. Я хочу только сказать, что конец пришел раньше времени. Сперва Носарь поступил работать на консервную фабрику, но от этого, пожалуй, ничего еще не изменилось, только теперь у него завелись денежки и он мог чуть не каждый день выпивон устраивать. Все вышло одно к одному.
Раз вечером Носарь куда-то исчез. Мы договорилась встретиться у молочного кафе, но он не пришел. Нечего и говорить, что весь вечер я чувствовал себя одиноким, даже когда собрались все остальные. Забавно, как это двое не могут обойтись друг без друга. И даже когда один из наших, по прозвищу Балда, стал рассказывать мне какую-то историю про своего отца, чувство одиночества не прошло.
— Зовет меня директор к себе в кабинет и говорит: слышал я, что ты неграмотный, а я ему говорю: у нас есть «Беано», и я прочел его от корки до корки, а он: «Брось врать, это ведь иллюстрированный журнал, а вот когда получку будешь получать, тогда как?» Я и говорю, что, мол, как-нибудь сосчитаю, а он вскочил и стал толковать, как это важно — быть грамотным. Все должны быть грамотные… Ты слушаешь, Артур?
Я сказал, что слушаю, но на самом деле мне было не до него. Мне хотелось найти Носаря, где бы он ни был, и притащить его сюда. Но это было не в моих силах. Ох, до чего ж противно чувствовать свое бессилие.
— Тогда он сказал, что учитель специально будет ко мне на дом ходить, чувствуешь? А я только поглядел на него. «Ну, что скажешь?» — спрашивает. Но я, конечно, ничего ему не сказал, потому что он-то не торгует рыбой с жареной картошкой, где уж ему понять, какой это сумасшедший дом, когда рядом с тобой две тетки картошку чистят, а полоумный старик носится как угорелый, потрошит рыбу или разрезает тридцатифунтовый кусок жира, и вонь стоит такая, что сквозь нее и с бульдозером не пробиться…
— Артур, вот хороший кусочек.
— Эх, и вкуснятина!
— Ну, в конце концов пришел он к моему старику и пристал с ножом к горлу, а мой старик в это время закладывал картошку в картофелерезку, а оттуда все ссыпал в старую ванну, в которой мы купаемся по пятницам, когда закроем лавку. Под конец — ты слушаешь, Артур? — он спрашивает моего старика: «Слышали вы меня?» А мой старик ему: «Слышал, сэр». Тогда этот самый директор говорит: «Ну и что скажете?» А мой старик ему ни к селу, ни к городу: «Одно могу верно сказать — подписи подделывать он никогда не будет».
Ну, пришлось посмеяться, все-таки он из наших и очень старался меня развлечь, но, видно, у меня это получилось неубедительно, потому что Балда придвинулся ко мне и сказал:
— Ха-ха-ха! По-твоему, не смешно?
Я сказал, что не очень, а он спросил — почему, и тогда я сказал ему прямо, что если старый Трёп так старался и хотел заставить какого-нибудь мученика учить такого тупицу грамоте, то его нужно благодарить, а не высмеивать. И вообще я эту историю уже раз сто слышал.
— А на кой пес мне учиться? — сказал Балда. — Я не дурак и знаю это, потому что все вы, и ты тоже, всегда мне этим глаза колете.
— Вот погоди, загнется твой старик, и тебе надо будет вести дело, так ты сразу его развалишь.
— Ни хрена, найму счетовода, и все в порядке!
— Но читать все равно надо уметь. Он ведь будет только счетами заниматься.
— Ну, тогда я женюсь и поручу это жене.
— Ничего ты не понял, Балда, — сказал я. — Ведь я что хотел сказать — директор тебе добра желал, а ты с твоим стариком в глаза ему наплевали.
— Подумаешь, учительский заступник выискался!
— Слушай, тебе бы только над всеми смеяться, сперва над стариком Трёпом, теперь надо мной. А ведь мы хотели тебе помочь.
— Хочешь, я скажу, отчего ты сегодня такой?
— Ну-ка, выкладывай!
— Ты психуешь, потому что Носарь не пришел.
— Ну-ну, полегче на поворотах! — сказал Малыш-Коротыш.
— Кончай! — подхватили и другие. Но я задел его гордость, потому что он и его старик оба насмешками только прикрывались, а я добрался до самой сути, задел больное место. Видел я этих неграмотных. Одни — тупицы, другие — бестолочи, а третьи — вроде нашего Балды, просто не хотят учиться и ищут себе оправдания, но всех их объединяет одно — им это неприятно. Предложите им надеть на голову шлем со всякими проводами, клапанами и трубками, как в кино, чтоб они сразу выучились грамоте, и они на коленях будут вас благодарить.
В общем все были против Балды. Но он не сдавался.
— Я вам кое-что расскажу про этого великого белого вождя, он бегает за одной портовой девчонкой, за вертихвосткой, и знаете, кто она? Сестра Мика Келли.
— Ты мне надоел, — сказал я.
— Ай-ай, ну заплачь, Красавчик.
— Ладно, — сказал я. — Раз ты сам нарываешься, давай выйдем отсюда, и повтори это еще раз.
— Что ж, выйду и куртку скину.
Мы вышли, но тут Малыш-Коротыш сказал:
— Не дело со своими драться. Оставь его, Артур.
— Пожалуй, только пускай попросит прощения.
— Как же, держи карман, — сказал Балда. — И не подумаю просить, ни теперь, ни после.
— Давайте найдем тихое местечко, — сказал я.
Мы пошли по главной улице, но не прошли и пятидесяти шагов, как Носарь вприпрыжку выбежал нам наперерез.
— Здорово, ребята, — сказал он, и мы сгрудились вокруг него, а он с одного взгляда заметил неладное. Говорю вам, он был неглупый малый.
— В чем дело?
— Балда с Артуром схлестнулись.
— Из-за чего же это?
— Балда по новой стал рассказывать, как старик Трёп предлагал выучить его грамоте, а Артур его осадил.
— Я эту историю слышал тыщу лет назад, — сказал Носарь.
— А еще был разговор про тебя и сестру Мика Келли, — сказал Малыш-Коротыш.
— Ну, это мое дело, я не арестант.
— Плевать, — хорохорился Балда. — Я из него кишки выпущу!
— Ну погоди, ты у меня огребешь! — сказал старик Носарь. — Ты заводишь, ссоры среди своих, за это мы тебя исключаем из нашей компании.
— Валяйте!
— Порядок.
— Да бросьте, он ничего, — вступился я.
— Не спорь. Мы должны держаться друг за друга. Драться можно только с чужими.
— Но ведь я сам первый начал, — сказал я.
— Неважно. Разговор окончен.
Мы оставили его на улице и вернулись в кафе. Может, у меня слишком мягкое сердце, но я его жалел. Наверно, потому, что у него было такое жалкое лицо, когда мы уходили. И я понял, что даже безграмотный дурак иногда чувствует себя покинутым.
Куда ему было деваться? Ни портовые, ни другие ребята не примут его, потому что он дурак, а если б и согласились принять, все равно ничего не вышло бы: слыханное ли дело, чтоб кто-нибудь ездил к своим друзьям на трамвае за четыре пенни. А в Старом городе, кроме нас, были только малыши, которые еще играли в гусей и волка, в классы или в прятки. Так что когда мы его выгнали, он оказался за бортом. Это похуже, чем изгнание из рая. Словом, как поется в песне: «Бэби, мне холодно здесь».
Остается сидеть дома и ссориться с родичами, потому что ты смотришь по ящику девятую программу, а они непременно хотят посмотреть что-то необычайно интересное — понимаете, непременно — по восьмой. А то тебе велят сбегать в лавочку на углу или полить двор или спрашивают, когда ты в последний раз мылся. И чтобы отвязаться, идешь бродить по улицам, а вокруг ни одного дружеского лица, или сидишь в овраге и глядишь на голубей — это приятно иногда, мимоходом, но нет Ничего печальнее на свете, когда приходится так убивать вечер. Да, братцы, тут обрадуешься, даже если какой-нибудь дурачок с тобой словом перекинется.
Я знал, что иногда такой паренек связывается с девчонкой, на которую при других обстоятельствах и не взглянул бы. Со скуки они ходят по мебельным магазинам, а потом, глядишь, уже возят детскую коляску.
Видите, я пытался оправдать Балду. Конечно, Носарю и другим я ничего этого не сказал. Но когда мы веселой гурьбой уселись возле музыкального автомата и принялись за молочные коктейли, я увидел, что он заглядывает в дверь, как приблудная собака. Я толкнул Носаря локтем. Он равнодушно поглядел в ту сторону и сказал:
— Не обращай внимания.
Балду будто не замечали. Поглядев минут двадцать на нашу семейную вечеринку, паршивая овца бочком подкралась к стойке. Может, он воображал себя невидимкой, но Носарь его заметил и, когда пластинка кончилась, не дал крутить следующую.
В наступившей тишине он сказал не оборачиваясь:
— Вали отсюда!
— Кафе не твое, — сказал Балда. — Я имею полное право войти, сидеть здесь и пить коктейль.
— Сказано тебе, катись.
— Попробуй выгони.
Хозяин, Молочник Джо, вмешался:
— Оставь его в покое, Носарь.
— Он нарывался и затеял ссору, за это я его исключил, — сказал Носарь. — Я не хочу скандалить, но боюсь, что без скандала не обойдется, если этот придурок не уйдет добром.
— Он останется, сколько захочет, — сказал Молочник Джо. — Здесь я хозяин.
— Ну, глядите, дело ваше.
— Слушай, Носарь, — сказал я, — примем его обратно.
— Попробуем еще разок, — подхватил Малыш-Коротыш.
Остальные нас поддержали, и Носарь должен был уступить. Помолчав, он сказал:
— Ладно, но чтоб это было в последний раз.
И Балда сразу подскочил к нам, как собака, заюлил и уже не смел никого задевать. Больше ни слова не было сказано про сестру Мика Келли, хотя, будьте уверены, все только об этом и думали. Яснее ясного было — Балде досталось за то, что он проехался насчет этой девочки. Из-за девчонок вечно неприятности и разлады, потому что наши ребята их к себе не принимают. Я видел одну американскую картину про тамошних ребят, так у них в компании полно девчонок, и все время у них обжим идет, то стоя, а то и на ходу. У нас такое не пройдет.
Это была важная новость, потому что Носарь никогда на полпути не останавливался, а значит, в любую минуту могла случиться беда. Оставалась одна надежда: все-таки она была сестра Мика и другой веры, но если разобраться, так это выходило еще хуже. Когда кто-нибудь из своих ребят втюрится в девчонку, дело уже дрянь, ну, а тут такой оборот выходил, что шею сломать можно было. Признаться, меня мучило любопытство, но я скорей умер бы, чем стал расспрашивать. И не подумал даже. Часов в десять вечера ребята начали расходиться, и под конец остались только мы с Носарем и Балда, который не ушел, потому что хотел нас поблагодарить. Да, скажу вам, казалось, он вот-вот заплачет от благодарности.
Он жал руку мне и Носарю, клялся быть верным товарищем, уверял, что мы можем на него положиться, а потом предложил нам пойти в рыбную лавку его отца и взять бесплатно по пакету рыбы с жареной картошкой. Но мы отказались. Как-нибудь в другой раз, сказали мы ему, и он ушел, чуть не прыгая от радости.
А мы пошли прошвырнуться вдоль оврага, и, хотя погода стояла прекрасная, нам было грустно; нечего было сказать друг другу. Наконец Носарь спросил:
— Ты не спешишь, Артур?
Я сказал, что спешить мне некуда, и мы присели на землю. Он все жевал травинки, как кляча старого Неттлфолда. Потом сказал:
— Забавно вышло.
— Что?
— Наш малый сохнет по этой Неттлфолдовой бабе, и еще на той неделе, до среды, я его за психа считал. Как думаешь, Артур, может, я сам спятил?
— Говорят, это со всяким бывает, — сказал я.
— Она работает на упаковке; укладывает жестянки с сардинами в большие картонные коробки. Поднимаю я эти коробки подвесным краном — раз! — и вдруг вижу ее. Ее можно на руках носить. Она Легонькая, как перышко. И говорит тихо-тихо, а я терпеть не могу, когда орут, — ты не обижайся, Артур, это я про своих сестер и старуху, они ведь рыбой торгуют.
— Выходит, ты влюбился?
— Ну нет. Этого еще недоставало — влюбиться в моем возрасте. Но отчего бы мне не погулять с ней иногда?
— Да, если она согласится. Знаю я этих девчонок. Они хотят, чтоб ты все время был с ними. Не любят делиться.
— Ну нет, хватит с нее двух вечеров в неделю.
— А как же Мик?
— Он не узнает.
— Ему это не понравится — и ко всему ты еще другой веры.
— Да ведь это просто так, несерьезно. Буду на всякий случай держаться от него подальше.
— Маму не успеешь вспомнить, а уже какой-нибудь друг шепнет ему про тебя, и он возьмется за дело.
— Пускай.
— Созовет своих ребят, и они тебя в порошок сотрут — я уж не говорю о том, что будет с его сестрой.
— Крошку он не тронет!
— Еще как тронет, и предки тоже дадут ей жизни.
— Пусть только попробуют, я им дом спалю, — сказал он. — Пусть только пальцем ее коснутся…
Я видел, что его не переубедить.
— Ладно, старик, дело твое. Но гляди в оба.
Он смотрел через овраг и оба моста туда, где виднелись крыши портового квартала; ветхие, покосившиеся домишки, лепящиеся на крутом скате холма; грязные, мощенные булыжником улицы, обвалившиеся крылечки, разваливающиеся лестницы.
— Как ее зовут?
— Тереза.
— Но ведь это имя святой.
— А что это была за святая?
— Не знаю. Какая-то добродетельная, одним словом — праведница.
— Артур…
Я сказал: да, слушаю.
— Значит, ты думаешь, я влюбился?
Тут нельзя было ответить прямо.
— Одно тебе скажу: видно, в этой крошке что-то есть, раз она так крепко тебя зацепила.
— Ты в самом деле так думаешь? — спросил он.
— Уверен в этом.
Я ушел, а он остался мечтать и все глядел в ту сторону — наверно, ждал, когда у нее в окне свет загорится. И это Носарь, самый отчаянный из городских ребят! Если есть кто-то над миром, то он, видно, нарочно всякие штуки подстраивает, для смеха. Я потому так говорю, что в это самое время Келли со своими дружками разгромил наш штаб, до которого было рукой подать. Наверно, они следили за Носарем и пошли другой дорогой. А может, они шли по дну оврага, и он их не видел. Все может быть. Ведь он глядел совсем не в ту сторону.
3
Да, братцы, славный был вечер. Теплый, безветренный, мягкий и чуть печальный. У каждого крыльца сидели на стульях старухи всех пород и размеров, от сорока до девяноста лет, и рассказывали анекдоты или сплетничали. Мужчины стояли рядом или сидели, спустив с плеч подтяжки, курили и наслаждались отдыхом. Разговоры то и дело прерывались громким смехом.
На углу нашей улицы и шоссе широкий тротуар, и там под старым трухлявым каштаном, на котором почти нет листьев, стоит скамейка. Летом это любимое место старых кумушек, потому что мимо все время едут машины и, если что случится хоть у черта на рогах, они все равно узнают об этом не позднее чем через десять минут. Теперь здесь сидела моя старуха с несколькими соседками, и я тоже сел из вежливости.
Надо мной, конечно, сразу стали смеяться.
— Вот молодой Ромео, — сказала миссис Троттер; ей уже под девяносто, и у нее такая уйма внуков, что по воскресеньям, когда вся родня приходит ее навестить, им приходится обедать на лестнице и на заднем дворе.
— Что-то ты поздно сегодня, сынок, — сказала моя старуха.
— Сидел у реки, на закат любовался.
— С девушкой, конечно, — сказала миссис Тэппит и засмеялась; смех ее был похож на рев старого осла.
— Ну нет, он никогда не гуляет с девушками, уж я-то знаю, — сказала моя старуха.
— Чего не видит глаз…
— Я вот тоже думала, что наш Джо такой, — сказала бабушка Троттер. — Все дома сидел, собирал радиоприемники. А потом пришел вечером домой и сказал, что женился, — и когда он только успел…
— Это они успевают, не беспокойтесь, — сказала миссис Тэппит.
У меня хватило ума промолчать. Я знал, что им скоро надоест перемывать мне косточки. Поэтому я предоставил делу идти своим ходом, но моя старуха не сводила с меня глаз, и я поневоле чувствовал себя виноватым. Этим старым кумушкам пальца в рот не клади. Они такое знают, что иногда только глаза разинешь да подумаешь — может, я и впрямь это сделал, да сам позабыл.
— Взять, к примеру, хоть Джека Смолмена, — сказала бабушка Троттер. — Вышел из тюрьмы. И в первую же ночь его поймали с поличным в обувном отделе кооперативного магазина, а его дружки с фургоном удрали. Меньше суток как из тюрьмы вышел, а уже опять и сам влип и жена влипла.
— Он заработал год, а она девять месяцев, — сказала миссис Тэппит, и все, в том числе и моя старуха, покатились со смеху.
— Бедняжка, — сказала миссис Тэппит, — она так хотела, чтобы все было прилично. Помню, когда его в тот раз посадили, она ужасно убивалась.
— Я была, я была при этом, ах, это такой ужас! — затараторила бабушка Троттер, кивая, как старая китайская кукла, и жуя губами.
— Мы стали его ругать, но она накинулась на нас, как тигрица. «Ладно, — говорит, — одно я вам верно скажу: он всегда был чистый и аккуратный — за всю жизнь с ним я ни разу не видела его без воротничка и галстука».
— А ведь у нее восемь, не то девять детей! — воскликнула бабушка Троттер. — И представьте себе этого красавца — воротничок прямо на голой шее…
И пошло, и поехало… Если хотите узнать жизнь, найдите эту старую скамью под деревом. Вам откроют глаза, и притом совершенно бесплатно. Только надо, чтобы они вас не видели. Эти старухи всех здесь знают и не станут с чужим откровенничать.
Наконец мы отправились домой. Я пошел вперед быстрым шагом, потому что у наших ребят не принято ходить с матерью, но моя старуха догнала меня и тронула за рукав; меня ожгла мысль, что она хочет взять меня под руку, — я посторонился и пропустил ее вперед. А старая Тэппит добавила последнюю каплю.
— Держи его крепче, Пег! — крикнула она. — Такой красавец удерет от тебя — охнуть не успеешь.
Она словно угадала, о ком я подумал.
— Он был солдатом береговой батареи, — сказала она.
— Ты мне давно про это говорила.
— Он был хороший человек. Говорил так красиво — заслушаешься. И служил исправно, всю войну прошел, был в Дюнкерке. Твой дед любил его. Я тогда работала на фабрике.
— Да, мама, — сказал я, отодвигаясь от нее.
— Я знаю, ты часто о нем думаешь. Мы прожили с ним три месяца, а потом его перевели в другую часть. Он написал мне несколько писем. Потом писем долго не было, а когда он перестал присылать деньги, я написала по последнему адресу, и мне ответили, что его демобилизовали. Ну что ж… У меня тоже есть гордость. Я не хотела ему навязываться. У меня было довольно забот — твой дед умирал, а ты… ты должен был появиться на свет. Так что я не стала его разыскивать. Но жилось мне одиноко.
— Ах, мама, не надо об этом, — сказал я, не зная, куда деваться.
— Бабушка Троттер напомнила мне про него, разбередила душу. Ты никогда не бросишь меня в беде, правда, Артур?
— Не бойся, не убегу.
— Одиноко мне жилось, — повторила она.
Мы вошли в дом.
У Гарри горел свет, пробиваясь через дверную щель. Он крикнул:
— Это ты, Пег?
— Да, я. Ты как?
— Ничего. Решил лечь пораньше. Спокойной ночи, милая.
— Спокойной ночи, Гарри. — Она стала подниматься по лестнице, и, помню, я недоумевал. Дойдя до половины, она повернулась и сказала: — Завтра годовщина нашей свадьбы, Артур.
Я не ответил, и она пошла дальше. Я был взволнован. Пошел на кухню, зажег свет, налил воды в электрический чайник. Но когда она спустилась, я уже совладал с собой.
— Ты, мама, решай сама.
— Я подумала, может, тебе это будет интересно, — сказала она, протягивая мне газету. Там было объявление о свадьбе. Наверно, она решила, что я считаю себя незаконнорожденным. Но у меня и мысли об этом не было. Такое ведь не скроешь. Я прожил здесь всю жизнь, все нас знают, а в таких случаях всегда найдется верный друг, который не умеет держать язык за зубами. Возвращая ей газету, я сказал:
— Мне это ни к чему, мама, но все равно спасибо… Ты слышала, что я сказал?
— Не знаю, как быть. Нужен развод, поднимется шум. Его, беднягу, потянут в суд…
— Мне кажется, ты все еще к нему неравнодушна, мама.
— Я даже лица его не могу вспомнить, когда не вижу тебя.
— Я ни за что не стану вмешиваться в твои дела. Но должна же у тебя быть личная жизнь, мама. Ему ты ничем не обязана. А мне все равно, можешь послать его куда подальше… и выйти за Жильца.
— Правда? А я всегда думала, что ты против Гарри.
— Гарри не сбежал бы от тебя.
— Нет, конечно. Но, знаешь, Артур, я всегда надеялась, что он войдет вот в эту дверь.
— И напрасно.
Но я и сам хотел, чтоб он вошел. Просто хотел увидеть его лицо, запомнить и сохранить на всю жизнь. А так во мне словно чего-то не хватало. Я понимал, что, если он придет, добром это не кончится — вероятно, я его ударю за все, что он причинил матери. Конечно, он может оказаться симпатичным подонком и понравиться мне. Или же я возненавижу его с первого взгляда. Но как бы то ни было, я хотел его увидеть. Вот я о чем думал, а моя старуха думала о своем, о том, какой шум поднимется, если она потребует развода. Ясно было, что она до смерти этого боится и, наверно, всегда боялась. Таковы уж простые люди: мы скорее будем всю жизнь таскать свои цепи, чем пойдем в суд.
И еще одно я понял, когда лег и долго ворочался с боку на бок. Мы его теперь, можно сказать, похоронили, но я все еще надеялся, что он придет.
VII
1
Утром, когда я проснулся, во рту у меня было как в помойке после молочных коктейлей и всего прочего, да еще ночью, когда мне не спалось, я поджарил себе яичницу с ветчиной. Измученный, я встал с левой ноги и весь день был не в себе. Братцы, видели б вы, как я сонный крутил педали, всползая на холм, а потом на участке все искал, куда бы приткнуться. Я был до того измучен, что клевал носом между двумя лопатами песку.
Спроггет заметил, что я от работы отлыниваю, и принялся усердствовать. Главным его занятием было выписывать в сарае путевые листы водителям грузовиков и всякие другие бумаги, но тут его потянуло на воздух. Как только я начинал дремать, он меня будил. Покрикивал издали. В конце концов я огрызнулся. Тогда он подошел.
— Что ты сказал?
— То, что вы слышали.
— Спать надо дома.
— Конечно, если б мне деньги доставались так же легко, как вам!
— Ну ладно, подмети-ка в сарае, там вонь стоит от спитого чая и корок.
— Уж вы-то корок не глодаете.
— Поменьше дерзостей да побольше дела.
— А как же Джордж?
— Справится один. Если тебя это беспокоит, пошевеливайся да поскорей возвращайся назад.
Я стал подметать, но через минуту он снова на меня напустился:
— Разве я велел тебе подметать?
— Вы что, шутите?
— Нужно сперва вынести стол и все остальное, я хочу, чтобы здесь никакой дряни не оставалось.
— Вы-то здесь не останетесь, так в чем же дело?
— Берись за работу! — заорал он. — Пошевеливайся! Работать надо!
— Я бы лучше управился без шута горохового, — сказал я. Не хватило у меня ума сообразить, что он нарочно меня подначивает.
— Делай, что тебе велят, — сказал он. — За таким дураком, как ты, только успевай присматривать.
Я вошел в сарай, взял тяжелый молоток и швырнул его назад, не оборачиваясь. Молоток угодил Спроггету в колено. Он взвыл.
Успокоившись, он сказал решительно, хоть и попятился на всякий случай, потому что я все еще был на взводе:
— Ты мне осточертел. Вот погоди, придет твой дядя Джордж, я с ним поговорю.
— Ну и говорите, — сказал я. — Да скажите заодно, чтоб нанял уборщика.
Когда прибыл паша, я уже опять был у дробилки. Посовещавшись со Спроггетом, он крикнул:
— Артур!
Я крикнул в ответ:
— Чего надо?
— Иди сюда, когда тебя зовут.
Я подошел. Спроггет подпирал дверь, а дядя Джордж сидел за столом, словно президент Соединенных Штатов в момент, когда гигантский метеорит только что стер с лица земли Нью-Йорк и вот-вот докатится до Белого дома.
— Что у тебя вышло с мистером Спроггетом?
— Пускай ко мне больше не пристает, и я его так и быть прощу.
— Вот видишь! — сказал Спроггет.
— Почему ты не уважаешь старшего?
— Я ж вам говорю: он ко мне пристает.
— Его обязанность следить за ходом работ. Ты меня огорчаешь, Артур. Я столько сделал, чтобы устроить тебя сюда, и вот благодарность — ты дерзить начал. Если это повторится, придется доложить хозяину.
— Но, дядя Джордж, я же работаю на совесть.
— А вот он на этот счет другого мнения, верно, Сэм?
— Бездельник, каких свет не видал: еще удивительно, как он себе шею не свернул, — спит на ходу.
— А вы брехун, каких свет не видал.
— Еще одна дерзость, и ты вылетишь отсюда.
— Ну вот что, замолчите оба, — сказал дядя Джордж, и я вдруг понял, почему он выслужился до начальника. Мы замолчали и сами радовались этому. — Когда меня нет, здесь распоряжается Сэм. Он старший закоперщик и достаточно опытен, чтоб знать, кого и когда приструнить. Это его долг, и я его поддерживаю.
— Если он меня за дело приструнит, я слова не скажу.
— Молоко на губах не обсохло, а уже в начальники лезет, — сказал Спроггет.
— Я тоже могу выписать путевой лист, — сказал я. — Так или эдак.
— Это еще что? — сказал дядя Джордж.
— Я говорю — так или эдак.
— Прекрати эти глупости и ступай работать, не то живо отсюда вылетишь!
Ну, я ушел — почувствовал, что нечего и разговаривать, все равно выстрел уже сделан. И сделан, заметьте, вслепую. Старик Джордж рассказывал мне как-то про левые заработки — фирма нанимает грузовики, и начальник участка договаривается о цене с подрядчиком. Скажем, сходятся на пятнадцати шиллингах в час, на шиллинг больше, чем сначала запросили; начальнику от этого чистая прибыль. Скажем, работает больше десятка грузовиков по восемь часов в день, шиллинги плывут к нему сами собой, и остается только найти укромное местечко для расчета. И хотя старик Джордж про наших ни слова не сказал, я смекнул, что помощник нужен дяде Джорджу только для того, чтобы проверять водителей, когда его самого здесь нет.
Говорю вам, это был выстрел вслепую, но я надеялся, что попаду в цель и выгадаю на этом. Да только вышло, что я промахнулся и ничего не выгадал. Именно потому, что это была правда. Стоило мне заикнуться про путевые листы, и песенка моя была спета. Я не умею читать мысли, но они сразу оборвали разговор и явно забеспокоились.
Может, не надо было мне этого говорить. Во всяком случае, уже через пять минут я понял свою ошибку. И не только в том была причина, что, занимаясь темными делишками, Спроггет водил знакомство с отпетыми бандитами, а еще и в том, что нельзя наступать на руку, которая тянется к наличным денежкам. Я-то знал, что не пойду доносить на них, но ведь они этого не знали и должны были любой ценой от меня избавиться.
Две вещи сулили мне неприятности.
Началось с того, что один работяга, который раньше никогда со мной не разговаривал, отвел меня в сторонку и даже угостил сигаретой, чтоб я стал откровеннее. Его звали Джордж Стефенсон, но будь это настоящий Стефенсон, не видать бы нам паровоза, как своих ушей. Обычно он слишком уставал и не любил разговоров. А теперь вдруг полез ко мне со своим сочувствием.
— Я видел, как ты отбрил старого Сэма — его давно пора гнать в шею.
— Вот и гони, а я погляжу.
— Он — хитрый черт. А что сказал начальник?
— Что Сэм прав, а я виноват.
— Послушай, — сказал он, — их потому водой не разольешь, что они слишком много знают друг о друге.
— Что же именно?
— Сообрази сам. — И он подмигнул.
— А теперь ты меня послушай, — сказал я. — Терпеть не могу Спроггета, тем более что из-за него у меня неприятности. Но говорю тебе: мой дядя Джордж не такой человек, он незаконными делами не занимается.
— А кто говорит про незаконные дела? — сказал он, испугавшись. — Больно уж ты прыткий. Я сказал только, что они поступили с тобой не по справедливости.
— Спасибо, — сказал я. — Но не смей говорить гадости про моего дядю Джорджа, этого я тебе не спущу.
— Да ты меня не так понял, — сказал он. — Это добрейший и честнейший человек. Знает свое дело и понимает людей, вот только Спроггет ему всю музыку портит.
— Пожалуй, тут ты кое в чем прав, — сказал я. — У Сэма есть один недостаток — левая половина мозгов у него не действует…
— Выходит, он полоумный?
— Ну нет, это преувеличение, — сказал я. — Потому что правой половины у него и не бывало.
Мы были изящны, как пара битюгов, возивших пивной фургон, но хотя он лез вон из кожи, я его, кажется, все-таки переплюнул. Мне хотелось его понять. По-моему, он был в курсе дела и в награду получил пинту пива. Он удовлетворился этим, потому что был слишком глуп, чтобы извлекать доходы посущественней, но в душе все же досадовал, что его обошли. Я это понял, когда он засмеялся затасканной шутке насчет мозгов. Очень уж искренний был смех.
Он, конечно, передал дяде Джорджу наш разговор, и я получил передышку. Но ненадолго. В этом я убедился на следующей неделе, когда на участке появился новенький. Он был совсем не нужен, и взяли его только для важных поручений, таких, которые нельзя было доверить мне.
2
Драться я готов, если уж нет другого выхода, но скандалов не переношу. Я слишком близко принимаю ругань к сердцу и потом, вспоминая об этом, мучаюсь сомнениями, — а вдруг я был не прав. Когда я обдумываю какой-нибудь шаг, в девяти случаях из десяти меня тревожит то, о чем другой и думать не станет. Я делаюсь рассеянным, теряю аппетит. Значит, не такой уж я отпетый, как может показаться.
С тягостным чувством, которое не рассеяли даже обновки — голубая рубашка и тонкий галстук в красную и черною полоску с серебристым отливом, — я пришел в «Риджент». У входа меня встретил Малыш-Коротыш и сказал, что несколько наших пошли в бильярдную. А Носарь еще не приходил. Несмотря на это, я был рад Малышу — когда я его вижу, у меня веселей становится на душе. Но в тот вечер он сам приуныл: мясник, у которого он работал, закрыл лавку — вам это может показаться странным, но дело в том, что деньги на виски он брал из кассы и умудрился вылететь в трубу.
— Ума не приложу, где теперь работу найти, — сказал Малыш-Коротыш. — На верфях увольнения. Доки закрылись. Ну и дела — не нужны даже матросы на паром.
— Иди на стройку речного тоннеля.
— Я темноты боюсь.
— Тогда в торговый флот.
— Да ведь он весь потонул — не слышал ты, что ли?
— Ну, на худой конец всегда остается пособие по безработице.
— У меня не все взносы в профсоюз уплачены.
— Ну ладно, мы должны помогать друг другу, — сказал я. — Пойдем потолкуем с сержантом.
И мы пошли. Сержант подметал свою сторожку, возле которой он продает билеты, пишет мелом на доске время открытия своего заведения, торгует сигаретами и сладостями, а заодно болтает с посетителями, которые ждут, пока освободятся места. Сержант невысок и совсем не похож на военного, но одна нога у него деревянная и рассказывать он умеет — заслушаешься. По этой части он большой спец.
— Ну, герои, чего носы повесили? — спросил он.
— Сейчас скажу, дайте сперва десяток сигарет, — ответил я. Вскрыв пачку, я щелчком выбросил три сигареты.
— Ну, в чем же дело?
— Малыш-Коротыш без работы остался. Не знает, куда податься.
— Он сопляк. Когда я был в его возрасте, люди дожидались очереди копать могилы, и я тысячу раз видел, как дрались охотники вывозить навоз на ферме. Видел, как очередь дважды опоясывала биржу труда.
— Бросьте заливать, — сказали мы.
— Почитайте исторические книги, сами узнаете. Я учился в школе и лишних два года мог работу не искать. Вы спросите, как родители меня содержали, — а вот как: мой старик устроился при похоронном бюро.
— Что ж он там делал?
— Утешал родственников, узнавал сумму страховки, снимал мерку с покойника.
— А вы не могли с ним вместе работать?
— Вряд ли. Мне не раз приходилось бросать уроки и идти с ним, когда случалась срочная работа, а там вся работа была срочная. Я привык к делу, но не к клиентам, — люблю поговорить с теми, кого обслуживаю. Смех и грех, а в конце концов я все-таки попал в похоронное бюро.
В армию я пошел совсем мальчишкой. Служил в Индии, потом попал в Египет, проторчал там, покуда не началась война, а закончил в Италии, и, скажу я вам, туго мне там пришлось — жарища, пылища.
За три или четыре года я перевидал больше трупов, чем мой старик за пятьдесят лет в своем бюро.
— Но потом вы все-таки нашли работу?
— На это понадобилось целых двадцать лет, да и то работу нашел, а ногу потерял.
— Выходит, это первая ваша работа в жизни, если не считать армии? — спросил Малыш-Коротыш.
— Так точно. Школу я кончил в шестнадцать лет, потом полгода места искал. В последний раз пытался заполучить место клерка в Комитете общественной помощи. Мой дядя был членом комитета, и еще за меня старик Келли словечко замолвил. Другой мой дядя был каноник, но он мне рекомендации не дал, сказал — не хочу своего племянника ввергнуть в пучину греха. Я со всеми в комитете договорился, и мне обещали, что место за мной.
— Ну и что же?
— У кого-то другого оказались знакомые в парламенте.
— Зато в армии небось жизнь была — умирать не надо! — сказал Малыш-Коротыш.
— Иногда солоно приходилось, а иногда и перепадало кое-что. И тогда уж, будьте покойны, старый Джек Минто не зевал.
— Это вы про девушек?
— Всех их не счесть, если б даже мне начать считать прямо сейчас и продолжать до конца своих дней.
— И вы со всеми крутили любовь?
— Если успевал.
— А как вы это делали, сержант? Как вам удавалось? — спросил Малыш-Коротыш.
— Ты еще слишком молод, тебе рано знать.
— Ну, расскажите!
— Ладно уж… Так и быть… В общем это было не так уж трудно. Во время войны этих иностранных девушек прямо лихорадка трясла…
— Ну, дальше, сержант!
— Взять хоть итальянок. Они голодали. Так голодали, что поневоле становились уступчивыми. Я видел, как в городках на По пользовались успехом такие хари, на которые в Гонконге, Карачи или Каире ни одна приличная девушка и не взглянула бы. Но лучше всего было в Риме.
— А что было в Риме, сержант?
— Там я себя чувствовал как дома, — сказал он и задумался.
— Расскажите же.
— Ее звали Лючия. — Сержант жестом показал, какая она была, и тихонько присвистнул. — Кожа белая, как слоновая кость, а волосы — черней воронова крыла.
Тут уже мы присвистнули.
— Только вы не думайте, мне с ней нелегко пришлось. Но это было просто чудо. Она жила одна, стряпала мне еду, вино покупала, все делала, но…
— Что — но? — Малыш навалился на прилавок.
— Только напьемся кофе, она будто броней оденется… Коснешься ее, а она как каменная. Кроме шуток, с этой девушкой я хлебнул горя, потому что был в нее влюблен без памяти… А вот и Носарь.
— Дайте маленькую пачку, — сказал Носарь.
— Привет, Носарь. Послушай-ка, что сержант рассказывает, — сказал я.
— Про то, как он покорил Рим, — сказал Малыш-Коротыш.
— Послушаем в другой раз, а теперь пошли.
— Обожди минутку, Носарь.
— Заткнись, дело срочное.
Такой уж он был, старик Носарь. Для него дело всегда было прежде всего. Малыш отправился в кафе собирать ребят, а Носарь пошел к двери, бросив мне на ходу:
— Идем, Артур.
Чтобы показать свою независимость, я задержался.
— И у вас вышло, сержант?
Он подмигнул.
— В другой раз расскажу. Со всеми подробностями.
— Но вышло?
Он кивнул.
— А как?
Он ответил мне глубокомысленным взглядом, и сказал только одно слово:
— Ноги.
3
Носарь ждал меня внизу.
— Пожар, что ли? — спросил я.
— Вроде того.
И замолчал. Когда все собрались, он кивнул, и мы выступили в неизвестном направлении, имея секретный приказ в запечатанном пакете. Как вспомню это, всегда восхищаюсь Носарем. Всякий другой проболтался бы сразу. Но он хотел, чтоб мы все увидели своими глазами, и вы скоро узнаете почему. А сейчас скажу только, что у него были задатки генерала, и он мог бы им стать в прежние времена, когда образования для этого не требовалось.
Ребята Келли хорошо поработали. Они все разнесли вдребезги. Разломали граммофон, перебили пластинки. Раскололи ящики и изрубили стул. Сорвали дверь с петель и превратили столы в щепки. Лихо позабавились, ничего не скажешь.
— Один из ребят Мика рассказал про это своему двоюродному брату, а тот — приятелю, который работает вместе со мной, — сказал Носарь. — Но не в том дело. Хотите рассчитаться с ними?
Возражений не последовало.
— Ладно, тогда давайте здесь приберем.
— Зачем? — спросил один, самый нетерпеливый. — Ведь ничего не осталось.
— Это наш штаб, надо его привести в порядок.
— Чтоб они его по новой разгромили? — сказал Балда.
— Они сюда больше не сунутся, мы отобьем у них охоту.
— За чем же дело стало? — сказал Малыш-Коротыш.
— Не бойся… Мы доберемся до них, когда надо будет. Готов поспорить, что они нас сейчас ждут. Ну и пускай ждут.
— Мы можем им хоть сейчас ума вложить, — сказал Балда.
— Конечно. Но будем действовать наверняка.
В прошлый раз Мик был с ножом, помните? А теперь мы вооружимся железяками…
— С ножом я не пойду, — сказал я.
— Никто не пойдет. Но чем плоха ножка от стула? Или велосипедная цепь? Или что под руку попадется?
— Все равно я против.
— Почему?
— Не нравится мне это.
— Никто тебя силком не тянет. Не хочешь — не ходи, мне плевать.
Он посмотрел на меня.
— Ну ладно, приду. — У меня не хватило решительности отказаться. — А куда?
— В «Альбион». Танцы в «Риджент» кончатся, так что все они наверняка будут там. Войдем, когда начнется сеанс. Мы с Малышом сядем в заднем ряду, а вы все дожидайтесь в боковом проходе у запасного выхода с левой стороны. И глядите в оба. Во время перерыва мы сделаем вид, будто идем купить мороженого. Тут уж они нас непременно увидят…
— Изобьют они вас до смерти, — сказал Балда.
— Не успеют. Мы, как только заметим их, побежим к выходу по левому проходу, будто испугались.
— Но они, как увидят нас всех, сразу назад повернут.
— Не увидят, потому что увидеть будет нельзя: мы погасим свет. Я и Малыш-Коротыш рванем по проходу, а они за нами, и тут вы всем скопом на них навалитесь.
— Что-то больно уж мудрено, — сказал Балда.
— Для тебя — может быть, но ты поглядывай на Артура, и все будет в порядке.
— Артур, вот еще умник выискался.
— Артур — молодец, правда, Артур?
— Честно драться я готов, — сказал я. — Но не хочу я тащить эти железяки — еще убьем кого-нибудь…
— Вот дурак, — сказал Балда.
— Нет, он умный, — возразил Носарь. — У него в одном мизинце ума больше, чем в твоей пустой башке… Ладно, Артур, обойдемся кулаками и будем молиться, чтоб Мик пришел без ножа. — Он пристально посмотрел на меня. — Значит, ты идешь?
— Конечно, иду, — сказал я.
— Ну ладно, заметано.
Мы прибрали свой штаб, потом скинулись по полдоллара, все, кроме Малыша-Коротыша, которого освободили как безработного, и поручили Балде доставить партию рыбы с жареной картошкой. Тем временем мы развели огонь в горне. Сидя у огня, мы ели рыбу с картошкой и запивали пивом. Слово за слово, ребята, как всегда, стали наперебой рассказывать анекдоты. Но я молчал. У меня душа не лежала к этой драке в «Альбионе». Я словно чувствовал, что как бы дело ни обернулось, добром оно не кончится; мы ли их вздуем, или они нас — все равно. У меня перед глазами все стоял этот нож. А тут еще моя старуха с Гарри и с моим пропавшим отцом и неприятности на работе — мне все мерещился Сэм, его острая, как у хорька, морда выросла раз в шесть или семь против нормального, и он гнался за мной, пока я не начал задыхаться. Жирная рыба с картошкой были не для моего живота, и я слишком много хватил пива. От этого меня мутило, и я отошел в угол. Носарь пошел за мной.
— Ты что, трухаешь, Артур? — спросил он.
Я слишком плохо себя чувствовал, чтобы возражать ему, и только покачал головой.
— Если мы хотим победить, надо действовать решительно, — сказал он. — Другого выхода нет.
— Я не против — только без этих железяк.
— Их не будет, — сказал он. Потом, помолчав немного, спросил: — Может, ты влюбился, Артур?
— С чего ты взял?
— Очень уж ты стал молчаливый — вот и сейчас все сидел у огня и думал.
— Не родилась еще та девчонка, — сказал я. А сам вспомнил про Стеллу, но потом решил, что она не в счет. «Легко встретились, легко и расстанемся», — подумалось мне.
— Ты не зарекайся, гляди, как со мной вышло.
— Знаю, от этого одни неприятности. Вот моя старуха собралась замуж выходить за Жильца. Так она ни о чем другом думать не может, кроме этого; ее одно интересует — как бы моего старика разыскать.
Бесполезно делиться своими неприятностями. Носарь только делал вид, будто слушает, да кивал.
— Вот встретишь девушку вроде Терезы, тогда по-другому заговоришь, — сказал он. — Я такой еще не видал.
— А тут еще один мошенник на нашем участке, Спроггет, меня без ножа режет. Он столько на мне верхом ездил, что у меня теперь мозоли на шее, а у него на заднице.
— Ага, — сказал он. — Ты набей ему морду, а работу другую найдешь. Но послушай, я тебе хочу сказать про Терезу — эх, и девчонка, пальчики оближешь!.. Знаешь, Артур, она надеется меня окрутить.
— Может быть, — сказал я. — Но это не остановит ее старшего брата, если в ход пойдут железяки. А захочешь на ней жениться, ничего не выйдет — у нее вера другая, и родичи будут против.
— Жениться! — сказал он. — Да у меня этого и в мыслях нет! Я просто хочу позабавиться, старик.
— Похоже, что тебя ждет только одна забава — хорошая трепка.
— Слушай, да ты меня не понял — я ее не трону.
— Все равно. Если только Мик узнает…
— Не узнает. Слушай, Артур, у нас есть где встречаться, там, на берегу реки, стоит старый автомобиль. В нем мы и сидим. Классное местечко.
— И что вы там делаете?
— Провалиться мне на месте — только разговариваем, иногда поцелуемся, а больше ни-ни. Я и не думал, что способен столько говорить — никак не могу с ней наговориться.
— Вот и Жилец никак не наговорится с моей старухой… Что мне с ними делать, Носарь?
— Набей ему морду да вышвырни вон из дому. И какого хрена этим старикам надо в их-то возрасте?
— Им хуже, чем тебе.
— Твоя старуха не дура; выгони его, и она в два счета про него забудет, вот увидишь.
— Она в него влюблена, — сказал я и не стал ему объяснять, что, кроме всего прочего, у меня кишка тонка вышвырнуть Жильца вон. Чтобы переменить разговор, я спросил: — А как Краб?
— Ну, скажу тебе, он всерьез втюрился в дочку старьевщика. Совсем голову потерял, готов даже жениться.
— Брось, ведь она его старше, наверно, лет на десять.
— Больше — она почти вдвое старше.
— А ты почем знаешь?
— Мы с ним спим на одной кровати. Я всегда знаю, когда он был у нее, но до прошлой недели он все отмалчивался. А потом раз пришел поздно и разбудил меня. Заснуть я уже не мог, потому что он все ворочался. И вдруг как начал меня трясти. Сказал, что надо поговорить. Думал удивить меня! Раньше он все шутил про какие-то деньги на конфеты. А теперь он не хочет этих денег, но она его заставляет брать.
— Вот психованная! — сказал я.
— И он тоже, — сказал Носарь. — Да, брат, он совсем дошел из-за этой бабы, а ей хоть бы что. Я говорю ему — твое счастье, что она тебя гонит. И знаешь, что он сказал? Побыл бы ты, говорит, в Моей шкуре! Ну, я ему говорю — у меня у самого есть девушка, но пусть попробует меня оседлать! — Носарь помолчал. — И знаешь, что он сказал? Сказал: значит, это ре настоящее.
— Убить ее мало.
— Допрыгается она, — сказал Носарь.
Мы поглядели друг на друга, и над нами словно сверкнула холодная молния. Мы оба были рады вернуться к огню.
4
У старика Джорджа было любимое выражение: «Чему быть, того не миновать».
— От судьбы не уйдешь, — говорил он мне. — Все решено заранее. Остается только кусать губы и терпеть.
По-моему, это бред. Если потом концы с концами вроде бы сходятся, это еще не доказательство. Но тут все одно к одному подобралось, как шарики в подшипнике. И я даже видел, как он крутится, словно в цветном фильме. Не будь драки в «Альбионе», у меня не было бы крови на рукаве, а не будь этого, я на другой день не повис бы на волоске. А на этом волоске многое держалось.
Не воображайте бог весть чего насчет крови. Но тогда все это только что случилось, и я не находил себе места. Кровь обозначила черту, которую я не в силах был переступить. Это могло бы стать для меня концом. Но вышло иначе — это стало началом.
Моя старуха сразу почуяла неладное.
— С чего это ты старые джинсы надел? — спросила она.
— Не хочу новые трепать.
— Обычно по субботам ты красоту наводишь.
— Сегодня мы никуда не пойдем, только в кино. А в темноте все равно не видать. Ясно?
— Все равно надо быть прилично одетым.
— Ну уж одно из двух: в прошлый раз ты ругала брюки из твила и пестрые рубашки.
— Ты надел это старье, потому что идешь пьянствовать и шататься по улицам.
— Ах, оставь, мама.
— Нет, не оставлю, я решила тебя не пустить.
— Ты или еще кто-то?
Это было уж слишком. Она вышла из комнаты, и не трудно было понять, что она задумала.
— Слушай, мама, кончай шуметь, — сказал я, когда она вернулась. — Я весь день гонял на велосипеде и устал, как собака. Неохота переодеваться, вот и все.
— Вот что, сынок, — сказала она, — у тебя, конечно, непроницаемое лицо, и я не стану утверждать, будто читаю его, как книгу. Тебя ничем не проймешь. Но я знаю твои штучки. Ты ничего не делаешь зря.
— Честное слово, мама, мне просто лень переодеваться.
— Знаю я, вы с этим Кэрроном и другими опять что-то затеяли.
— Говорю тебе, мама, мы идем в кино, а потом, может быть, зайдем поесть рыбы с жареной картошкой.
— И только?
Я сделал над собой усилие и поглядел ей прямо в глаза. Это было нелегко, но я заставил себя, иначе я подвел бы ребят.
— И только, мама.
Она села в старую качалку, перебирая связку ключей.
— Это правда? — Я кивнул. — Отвечай, когда тебя спрашивают.
— Правда, ничего больше.
Не глядя на меня, она бросила ключи на пол.
— Вот, — сказала она. — Ты уже большой, от тебя колотушками ничего не добьешься. Возьми ключи.
— Говорю тебе, мама…
— Я уверена, что ты врешь.
Я поднял ключи. Мне хотелось сказать ей все. Хотелось объяснить, что у меня душа не лежит к этому, но я вынужден идти. Может, это звучит жалко, но вдумайтесь на минуту. Какая разница между старым Джорджем на высоте 60 или моим стариком, ожидающим корабля в Дюнкерке, и маленьким Артуром, уходящим на драку в «Альбион»? Никакой. Я был вынужден идти, и, может быть, мне этого еще меньше хотелось, чем им. Но я шел вместе со своими друзьями.
Я вынужден был идти. В этом смысле старик Джордж прав: чему быть, того не миновать. Когда все время вместе с ребятишками, приходится иногда и драться вместе с ними. Или быть одному. Платишь свою долю, вот и все.
5
В эту субботу несчастья начались с утра. Работая у дробилки, я все время думал о предстоящей драке, и вышла неприятность. Не поглядев на указатель, я опорожнил бункер, и когда старик Джордж сказал: «Ты что-то торопишься, Артур», — я ему нагрубил.
— Кто работает, вы или я? — пробормотал я и направил ковш к смесителю. Спроггет был тут как тут и все видел.
— Какой дьявол это сюда вывалил? — спросил он, растирая смесь между пальцами. — Сделано не по инструкции.
— Зато по книжке, — буркнул я.
Спроггет крикнул малому, работавшему на скрепере:
— Убери это! Ни к черту не годится. — И, повернувшись ко мне, добавил: — Как и тот, кто это сделал.
Старик Джордж подошел к машине, чтобы заложить следующую дозу. История вышла неприятная, потому что все спешили, а тут задержка на целых полчаса. И еще неприятнее было видеть, как Спроггет и дядя Джордж рассматривали брак, а потом дядя Джордж повернулся ко мне и покачал головой. И вдобавок я понимал, что на этот раз никто ко мне не придирается — я сам был кругом виноват, и по моей вине могли пострадать двадцать человек.
Люди работали как черти, но кончили с опозданием почти на час, и это отнюдь не улучшило настроения, потому что заработали они всего по нескольку шиллингов и были все в мыле, хотя поспеть на матч еще могли. Первый матч сезона — его хорошо смотреть после легкой субботней смены. Я испортил им удовольствие. Спроггет, конечно, постарался, чтобы они знали об этом, но и без того все были мрачнее тучи. Даже бедняге Джорджу досталось.
Когда мы собирали инструмент, Спроггет подошел к нам.
— Вот что, Джордж с завтрашнего дня ты сам делай всю сложную работу, — сказал он. — А мальчишка пускай дрыхнет: во сне он ничего не напортит.
В общем я начисто осрамился — такую резолюцию выдвинул Спроггет, поддержали мои товарищи и единогласно принял я сам. День был душный, облачный. До самого вечера я носился на велосипеде, пригнувшись к самому рулю и поднимая ветер. Но это меня не успокоило. Я словно ехал внутри большой медной печи по нарисованной дороге, и мне почему-то казалось, что если я выеду за фабрики на береговое шоссе, то там будет пустота, как на краю света. Я сел на скалу и стал слушать, как шумят на пляже. Там было, может, две тысячи детей, и все плакали, так что я сам чуть не разревелся. Назад я ехал ровно двадцать две минуты. У меня оставалось еще четыре часа.
— Садись за столик, — сказал сержант. — Весь город как вымер, за целый день ни души.
— Жарища, — сказал я.
— Быть грозе.
— Лишь бы прохладней стало, — сказал я. — Не выпить ли нам пивка, сержант?
Мы выпили по бутылке прямо из горлышка. Пиво было теплое, и я с таким же успехом мог бросить деньги в канаву.
— Мне все обрыдло, сержант.
— Сколько лет не слышал этого слова, — сказал он, — а в мое время, если человеку все обрыдло, никто и внимания не обращал, это в порядке вещей считалось.
— Вот и со мной так.
— Как же так! — сказал он. — У тебя ведь вся жизнь впереди.
— Вот все говорят о жизни, сержант. А что это за штука? — спросил я. — Что она дает? — И я поглядел на его деревянную ногу, лежавшую на табуретке.
— Мне-то могло быть и хуже. Многим хуже пришлось, — сказал он. — Раненые валялись на земле, кричали, звали на помощь, а мы не могли к ним пробраться. Мне повезло — уцелел. А потом — автомобильная катастрофа в Риме, и очнулся я уже без ноги.
— Вы на днях как раз про Рим хотели рассказать, про девушку.
— Ах, да, — сказал он. — Про девушку.
— И что-то сказали про ноги.
— Про ноги! Смешно, ей-богу, но в то время было не до смеху. Я тебе расскажу. Она чуть с ума меня не свела.
— Кто, девушка?
— Нечего удивляться. Много ли ты знаешь о девушках? Только и умеешь проводить после танцев сопливую девчонку, держать ее за руку, обжиматься на улице. Нет, ей-богу, ничего ты не знаешь.
— Простите, сержант, — сказал я. — Конечно, опыт у меня небольшой.
Иногда я ловко умею врать.
— Где уж тебе… — сказал он со смехом.
— Так что же про ноги?
— Ты еще молод, не следовало бы тебе рассказывать. — Но он уже ударился в воспоминания. — Солдата тоже нужно понять. Много лет не был дома, все время в походе, вокруг одни только продажные женщины.
— Проститутки?
— Аферистки. А это все равно, как вот теплое пиво — его с таким же успехом можно в канаву вылить… И это самое худшее. Те женщины, о которых мечтаешь, не про тебя, ясно? Иначе ты сам не захотел бы их.
— Понимаю, — сказал я.
— Ну нет, это ты врешь. Две вещи тебе не понять: боль от ран и тоску по женщине. Это невозможно себе представить. Взять хоть Лючию — я на нее истратил миллион лир, а то и все два, хоть она никогда ничего не просила и предупредила меня, что я это напрасно делаю. Добрался до родника, а напиться не могу, воды нет… Под конец я совсем сдурел, ходил, как лунатик. Говорил ей: «Сними туфли, Лючия мио». Она бросала на меня этакий взгляд, и хоть я мало чего мог сказать по-итальянски, зато выкатывал глаза, а когда она снимала туфли, хлопал в ладоши. У нее были красивые ножки. Загляденье. Я часто гладил их, и она гладила меня по волосам. Однажды я их поцеловал — одну, потом другую.
— А потом что?
— Ну, ласкал я эти ножки, покуда не изнемог, а она уж и вовсе голову потеряла. И вот один раз она дала себе волю. Схватила туфлю и отколотила меня, крича что-то на своем языке…
— Что же она кричала?
— Много, всего и не упомнить. Но последние слова застряли у меня в памяти: «Я не женщина!..» Но она была женщина, да еще какая! — Его глаза уставились в пустоту. — В ту ночь я напился из родника. И эта ночь заставила меня забыть все на свете.
— Вы женились бы на ней?
— Конечно, если б только она согласилась, но на другой день я как во сне вел штабную машину, полную всяких начальников, и хотел обогнать грузовик. Я остался без ноги, а Лючия потеряла все.
Я часто об этом думаю. Убеждаю себя, что, если бы пришлось выбирать — вернуть ногу или Лючию, я все-таки выбрал бы ногу… а потом мне приходит мысль, что я мог бы и не встретив Лючию все равно потерять ногу или даже жизнь.
— Все это мура, — сказал я.
— Да, мура. Но послушай моего совета — если в роднике есть вода, напейся, чтоб потом обидно не было. — Он посмотрел мне в лицо и вдруг понял все как есть. Во всяком случае, он засмеялся, весь затрясся от смеха и схватил меня за плечо. — Прости, пожалуйста, — пробормотал он. — Но если бы ты мог видеть свое лицо…
6
Я увидел свое лицо в тот же вечер. Это было в уборной в «Альбионе» — я воспользовался последними минутами перед концом второго боевика. Носарь и Малыш-Коротыш пошли в задний ряд, где обычно сидят влюбленные, а мы вывинтили все лампочки, кроме одной. После этого я пошел умыться. Голова у меня трещала и раскалывалась. Вот я и решил намочить лоб — может, полегчает. В уборной пахло мочой и раковина была полна туалетной бумаги, разорванной зачем-то на узкие полоски. Я сунул голову под кран. От головной боли и страха у меня мутилось в мозгах. Я вымыл лицо карболовым мылом, которое кто-то разрезал на кусочки бритвой, и вытерся носовым платком. А потом долго и внимательно разглядывал себя в зеркало.
С удивлением я обнаружил, что похож на рыбу: рот разинут, уши торчат, как плавники, а веснушки — словно чешуя. Единственное, что я мог сделать, — это закрыть рот. Тогда я стал похож на карлика из мультфильма, которого видел еще ребенком, — он тогда произвел на меня сильное впечатление. Большое круглое лицо и большие круглые глаза, шеи нет, голова ушла в плечи. И все же, несмотря на шрам, лицо было самое безобидное. Я не мог назвать его красивым или хотя бы привлекательным — меня никогда не будет осаждать толпа, выпрашивая автограф, но оно было безобидное. Сразу видать, что я никому зла не желаю. Я не мог понять, как это можно опасаться человека с таким лицом. Но на деле выходило иначе. Ведь по-настоящему мне не доверял никто, кроме Носаря и наших ребят, да и у них, пожалуй, были сомнения. У Балды были наверняка. Печальная улыбка, которой я наградил себя, не могла смягчить неприятного впечатления от злых глаз и саксонского носа.
Я бегом пустился по коридору, боялся передумать. Когда я прибежал, один из наших, Родни Карстерс, стоял на плечах Балды и вывинчивал последнюю лампочку. Тьма была — хоть глаз выколи. Я велел. Мышонку Хоулу с двумя младшими охранять запасной выход, а остальных поставил по обе стороны коридора.
В голове у меня словно африканский барабан стучал, и мне казалось, что вот-вот кто-нибудь спросит, откуда этот шум. Лишь из-за угла коридора сочился слабый свет, а потом зажглись лампы в зале — перерыв. В двери снизу была щель, но очень узкая. Мы слышали вопли каких-то полоумных детишек, требовавших мороженого, — это запустили рекламный ролик.
— Сейчас выбегут, — прошептал Балда.
— Засохни! — шикнул я на него. — Все на местах?
Носаря с Малышом все еще не было. Они выскользнули в дверь, как только в зале снова погас свет. Пробегая мимо нас, они хохотали, как сумасшедшие. А потом появились ребята Келли. Мы сразу отрезали им путь к отступлению. Я слышал, как один крикнул: «Какого хрена свет не горит?»
И тут мы им дали жизни. Лупили их почем зря и орали, а эхо подхватывало крики, и они становились громче в десять раз, как через усилитель. Начал я драться без всякой охоты. Но потом схлопотал сильный удар в подбородок чем-то твердым, наверно кастетом, и это поддало мне жару. Вскоре я уже не отставал от других.
В темноте не видно с кем дерешься. Кто-то хватает тебя за пиджак, или за рубашку, или вцепляется пятерней в лицо, а ты стараешься ощупью обхватить его вокруг пояса. Один из младших заплакал. Носарь крикнул:
— Ты здесь, Артур?
Я откликнулся. Но тут они прорвались и побежали назад, к запасному выходу. Дверь распахнулась с таким грохотом, что все зрители, наверно, повскакали с мест. Носарь крикнул:
— В погоню!
Мы ринулись по коридору, и у меня мелькнула мысль, что победа досталась нам очень уж легко. Мы сгрудились у двери, как стадо баранов перед пропастью. Задержка вышла из-за плачущего мальчишки, одного из тех двоих, которых я поставил у запасного выхода.
Он сидел в углу, закрыв лицо руками. И руки у него были в крови. Носарь встал около него на колени и спросил, что с ним. Он не ответил и не отнял рук от лица. Малыш-Коротыш вышел на улицу.
— Что-то больно уж тихо, — сказал он. — Не нравится мне это.
— Да, слишком легкая победа, — сказал Носарь. — Их и было-то всего несколько человек.
— И Келли с ними не было, — сказал Малыш.
— Они, наверно, почуяли неладное и смотались через главный вход, — сказал я. — Мы перехватили только троих или четверых. А остальные удрали.
— У этого мальца нос расквашен, — сказал Носарь. — Надо его увести отсюда… Род, выведи его через зал.
— Пойдем, — сказал Род. И они ушли в зал. Так было всего безопаснее. Конечно, их могли накрыть билетеры, но лучше уж билетеры, чем дружки Келли.
— Может, и нам пойти через зал? — предложил Балда.
— Они только того и ждут, — сказал Носарь. — Но мы их вокруг пальца обведем.
Он повел нас в один из тех узких переулков, которые тянутся к главной улице, вытаскивая на ходу нож.
— Убери нож, Носарь, — сказал я. Он злобно поглядел на меня.
— Не будь дураком! У них столько железа, что целый корабль построить хватит. Нам одно остается — налететь, проучить их хорошенько, а потом врассыпную.
— Ладно, — сказал я. — Ты как знаешь, а с меня довольно. Я сыт по горло.
— Нашел время уходить, — сказал он и пошел вперед.
Конечно, он оказался прав. Железа у них хватало. Они выскочили из подъездов, размахивая велосипедными цепями, бутылками, ножками от стульев. Дело приняло серьезный оборот. Нам оставалось только уносить ноги. Мы с ними так и не сквитались за свой штаб, не до того было. Уже у главной улицы я увидел Келли — он гнался за Носарем; надо было выручать Носаря, и я бросился Келли под ноги. Я услышал ругань и понял, что Келли здорово хлопнулся. Я не остановился, чтобы убедиться в этом, а побежал дальше через улицу. Машины резко сворачивали или тормозили. Троллейбус чуть не въехал на тротуар. Наши ребята рассыпались по всей улице, дружки Келли гнались за нами, кричали и улюлюкали нам вслед, как очумелые.
Прохожие ошалели. Какая-то женщина с коляской вопила, запрокинув голову. Носарь нагнал меня и, задыхаясь, стал благодарить.
— Молодчина, Артур! — крикнул он.
Но я слишком запыхался и не мог ответить. Никогда не забуду, как мы петляли по окраине, чуть не падая от усталости, но боялись остановиться и все прислушивались, нет ли погони. Минут через десять мы потеряли их из виду, и если вы думаете, что десять минут — это не так уж много, попробуйте сами пробежать те же десять минут, когда за вами погоня.
Мы вбежали во двор какого-то склада. Залегли там и притаились, прислушиваясь к своему дыханию. Мы пыхтели, как два паровика. И вдруг Носарь засмеялся.
— Поглядел бы ты на его рожу, — сказал он. — Этот хмырь не ожидал, что его самого ножом припугнут. Ты его здорово долбанул, и знаешь, что он сделал со страху?
— Мне наплевать.
— Не прикидывайся, Красавчик, — сказал он.
— Брось, Носарь, — сказал я. — Не лезь ко мне. Дай очухаться. Я выдохся вконец.
— Ну, это пройдет, — сказал он. — Слушай, ты не поверишь — он до того напугался, что сам схватился за лезвие. Я бы его, конечно, не пырнул, но сразу стало ясно, что он в штаны наклал со страху… И нож он у меня живо отпустил.
— Ты же мог его убить.
— Не мог… Вот погляди сам. — Он вынул нож и показал мне, проводя по лезвию большим пальцем. — Видишь кровь?
— Ты с ума сошел, Носарь. Вытри скорей.
— Сперва потрогай.
— Не хочу.
— Ну хоть коснись пальцем.
— Нет уж, спасибо.
Носарь поднес нож к самому моему носу и захохотал. Я перевернулся на живот — мы оба лежали навзничь, положив головы на какие-то мешки, — и вдруг он на меня прыгнул. Уселся верхом и стал подскакивать, как наездник на лошади.
— Надо ножик наточить!
Он стал точить нож об мой рукав, как о ремень, и я подумал, что на пиджаке останется кровь. Сперва я не шевелился, словно окаменел, — был уверен, что он рехнулся. Но, почувствовав прикосновение ножа, я дернулся и вскочил…
— Тпру, лошадка! — крикнул он со смехом. — Тпру!
И все время подпрыгивал на мне, держась одной рукой за мой воротник, словно за лошадиную гриву. Вообще-то он был сильней меня, но страх прибавил мне сил. Резко повернувшись, я ударил его локтем и сбросил со своей спины.
Он лежал на булыжниках с перекошенным лицом, и я сперва подумал, что он напоролся на нож, как иногда показывают в кино. Встав около него на колени, я спросил:
— Что с тобой, Носарь?
— Ага, друг! — сказал он, наконец, давясь от смеха. — И ты ножа испугался?
Я чуть не пнул его ногой. Но вдруг понял, что это ни к чему — он уже не имел надо мной власти. Лучше уйти и бросить его здесь.
— Эй, Артур, куда ты? — Он сел. — Ты что, шуток не понимаешь? Артур! — Я не ответил. — Вернись, Артур, я больше не буду!
Я был тогда очень молод, и дружба много для меня значила. Но я не отозвался. Я выскочил через лазейку в заборе и побежал со всех ног, чтобы не слышать его голоса.
Не в том было дело, что, дав слово, он сразу же его нарушил. И, конечно, решил это с самого начала. И не в том, что я так уж боялся ножа, кто бы его ни пустил в ход — Носарь или Келли. Я убежал, потому что Носарь был мне совсем чужой. Я только воображал, что мы друзья. А он был чужой. Хотя нам часто бывало весело вместе, все же это был чужак, который только надел маску Носаря. А когда маска упала, мне ничего не оставалось, как бежать без оглядки.
VIII
l
ело все в том, что мы совсем не знали друг друга. Я оттого и убежал, что вдруг понял это. Я не просто убегал от Носаря — нет, я убегал от всех, кого, как мне казалось, я знал. И еще я понял, что хотел убежать от чего-то, что открыл в самом себе, — помните, зеркало в уборной? Я как идиот разглядывал свое лицо, недоумевая, как могут люди меня не любить и не верить мне. Еще детьми мы, насмотревшись всяких фильмов, часто играли в благородных и злодеев. Никто не хотел быть злодеем, но кому-нибудь приходилось уступать, иначе игра не получалась. Не знаю, как другим, а мне никогда не удавалось убедить себя, что я могу быть злодеем. Но, честно говоря, игре это никогда не мешало, и постепенно до меня дошло, что другим так же легко считать меня плохим, как мне самому — хорошим. Я считал плохим своего лучшего друга, а это все равно, что самому быть на его месте. Вы, конечно, подумаете, что я спятил, но я именно это понял и оттого убежал.
Не стану писать репортаж о том, как я давал кросс в тот вечер, оставив Носаря на дворе склада. Просто представьте себе, что я бежал со всех ног, думая о своем, и ничего вокруг не видел.
Я завернул за угол и вдруг наткнулся на двоих полисменов.
— П-простите, — сказал я и попятился. Один из них подошел вплотную.
— Куда спешишь, сынок? — спросил он.
Я пискнул, что, мол, обещал быть дома к десяти часам.
— Эх, вот если б мои дети бегом бегали, чтобы поспеть домой вовремя! — сказал он.
Но второй был не так прост.
— Похоже, что он бежит после драки или чего-нибудь в этом роде, — сказал он.
— Да что вы, сержант. Я засиделся у своего двоюродного брата, мы телевизор смотрели. Честное слово, мой старик с меня шкуру спустит.
— Ладно уж, пускай бежит, — сказал первый, дружелюбно потрепав меня по плечу.
Меряя мостовую, я услышал, как они вдруг заорали: «Стой! Стой!» Может, потрепав меня по плечу, он выпачкал руку в крови. Не знаю. Они гнались за мной до конца улицы, но я опередил их ярдов на десять и шмыгнул за угол, а там было несколько перекрестков. Я этим воспользовался, пробежал два переулка и нырнул в третий. Ворота углового дома были открыты. Я проскользнул в ворота и тихонько затворил их за собой. В подворотне было темно. Видно, хозяев не было, а свет из окон соседних домов задерживала высокая стена.
Я слышал, как они протопали мимо, подождал минут пять — недаром Носарь научил меня всегда сохранять хладнокровие — и повернул назад, туда, откуда прибежал. Но, верьте или нет, они стояли в какой-нибудь сотне ярдов от ворот. И снова началась гонка. В конце концов я выскочил на Шэлли-стрит и уже почти добежал до главной улицы, как вдруг увидел огни и услышал свисток. Спасло меня лишь то, что они не успели еще свернуть за угол, а я уже был возле миссии «Золотая чаша».
Я влетел в пышно разукрашенную прихожую. Лестница вела в темноту, к застекленной церковной двери. Стены дрожали от гимна про какую-то пустынь, и я неслышно прикрыл за собой входную дверь. Я слишком запыхался, чтобы идти в церковь. Мало сказать — запыхался: у меня сердце чуть не выскочило из груди. Я заполз по лестнице наверх и сел возле двери, чтобы отдышаться, а звуки гимна все нарастали, стены тряслись, хор гремел, словно американская кавалерия, скачущая с холма, только вместо воинственных криков раздавались «Аминь!» и «Аллилуйя!»
Это меня как нельзя более устраивало. Я чувствовал себя в безопасности.
Пение смолкло, и кто-то начал читать молитву. Я догадался, что читает молодая девушка. Будь это старуха или мужчина, я не обратил бы на молитву внимания: ребенком я ходил в воскресную школу и слышал их чертову пропасть. Но молитву читала девушка, и голос ее звенел.
В этом голосе была искренность. Он звучал, как флейта, которая вместо нот наигрывает слова. Читала она нараспев.
Словно она за меня молилась, и молитва была похожа на стихи:
Господи всеблагой, Милосердный Христос, Свой пресветлый лик Не отринь от нас. Господи, с престола воззри твоего, Господи, яви нам милость твою. Спаситель, даруй исцеление души Недостойным рабам своим. Господи, спаси и помилуй нас, Помилуй наш грешный мир, Не оставь молодые души, Ввергнутые в пучину греха. Боже, единый и милостивый, Услышь моление мое, Исполни меня духом твоим Человеческого ради спасения И сподобь хоть одну душу грешную Обратить ко вере святой Аминь!Они спели еще один гимн, и какой-то мужчина прочел короткую молитву, но я слышал только голос девушки, звучавший, как флейта. А потом они стали расходиться. Я весь дрожал — слишком много было переживаний для одного вечера — и не затесался вовремя в толпу, пока они разговаривали, К тому же я хотел увидеть эту девушку. Мимо меня прошли десятка два людей, а она все не показывалась. Я уже решил уйти — правда, дверь церкви была открыта, и я слышал чей-то голос, но приходилось рисковать.
Я спустился с лестницы. Но тут из двери вышел старик, обнимая за плечи девушку.
— Давно уж не было такой удачной службы, как сегодня, Дороти, — сказал он. Потом поднял глаза и увидел меня. Надо отдать ему справедливость — он не рассердился и не стал орать.
— Здравствуй, брат, — обратился он ко мне. В первый раз в жизни меня назвали братом, и я не знал, что отвечать.
— Здравствуйте, мистер, — сказал я.
— Это мой папа, пастор Джонсон, — сказала девушка.
— Очень приятно, — сказал я.
Теперь я по крайней мере знал ее имя и фамилию — Дороти Джонсон; но я чувствовал, что пройдет немало времени, прежде чем я решусь взглянуть ей прямо в лицо, да и вообще неизвестно, решусь ли. Когда я теперь думаю о ней, то не могу вспомнить, как она была одета, — кажется, в бумажное зеленоватое платье с поясом. Но это не имело никакого значения, точно так же как ее рост, фигура, лицо. Немного, правда? Я хочу сказать — немного для того, чтобы сохранить в памяти на долгие годы, может быть, на целых шестьдесят или семьдесят лет. Светлые волосы, серые глаза, не накрашенная, одета просто — я хочу сказать, ей незачем было украшать себя, во всяком случае для меня. Другое дело — ее голос и вера.
Клянусь, никогда в жизни я не встречал такой девушки. И такого человека, как ее старик: высокий, худой, лысый, с добрым лицом и острыми глазами.
— Ничего не бойся, — сказал пастор. — Не прячься в темноте. Всегда иди прямым путем к спасению. Смело прыгай через пропасть, если на другой стороне ее обитель благодати.
Потупившись, я сказал:
— Ну что ж… спасибо.
— Закрой дверь, Дороти, — сказал пастор. — Надеюсь, молодой человек выпьет с нами чашку чаю.
— Нет, спасибо, мне нужно идти.
— Чайник закипит через минуту.
— Останьтесь, выпейте чаю, — сказала Дороти, закрывая дверь.
— Мне нужно домой, — сказал я. — Моя стару… моя мама ждет меня. Уже поздно.
— Но ведь если вы скажете, что были в церкви, она не будет вас ругать, правда?
Ну что на это возразишь? Дороти зажгла свет и убежала, а старый пастор пропустил меня вперед, и не успел я оглянуться, как уже сидел за столом, накрытым белой скатертью.
Никогда не видел такой простой комнаты и такой простой еды, но больше всего меня поразило, что мне были рады. Разговаривая с этим милым стариком, я старался повернуться так, чтобы они не видели мое плечо. Но они, наверно, заметили кровь у меня на пиджаке, хоть и не показали виду.
— Вы где-нибудь работаете? — спросил пастор.
— Работаю на стройке. Мы кладем трубы, но это далеко отсюда, в другом конце города.
— Чтобы заработать себе на хлеб, я перепробовал все профессии на свете, — сказал он. — В молодости я сильный был — работал все больше на строительствах, пока бог не призвал меня в свои служители.
— Папа строил небоскребы в Америке, — сказала Дороти.
— Я бы побоялся!
— Ну, я об этом и не думал, — сказал пастор. — Я тогда был молодой, крепко стоял на ногах и не верил, что могу упасть, взбирался на высоту в сотни футов по узкой стальной лесенке, а земля внизу лежала, как муравейник. Но у меня была вера — не в бога, заметьте, а в свое собственное тело, я не допускал и мысли, что могу упасть или хотя бы поскользнуться. Да, уверен был, что со мной ничего не случится. И даже когда шестеро славных ребят, крикнуть не успев, полетели со страшной высоты, я не понял… Словом, это меня не потрясло. Иногда я вспоминаю об этом и прошу бога простить мою языческую глупость.
— На дерево я залезу не хуже других, — сказал я. — Но так высоко не решусь.
— Значит, вас легче спасти, чем меня, — сказал пастор. — Все строители — и особенно строители небоскребов — блуждают во мраке. Какая самонадеянность! Это можно понять, только когда увидишь таких людей, какими были мы.
— А вы давно работаете? — спросила Дороти.
— Года два, — сказал я. — Но мне уже приходилось во многих местах работать.
— С тех пор как школу кончили? — Я кивнул. — Тогда мы, наверное, ровесники.
Я не мог этому поверить — она, моя ровесница, может закрывать глаза и молиться, а я никогда и не думал о боге, не говоря уж о том, чтоб молиться ему.
— Да, вы с ней ровесники, — сказал пастор. — Надо бы вам познакомиться получше.
— Но я, право, не знаю…
— Приходите в церковь, по воскресеньям и средам — служба, по четвергам — чтение библии.
— Но я другой веры.
— Это неважно, все равно приходите. А то — милости прошу в понедельник или во вторник, сыграем в шашки. Вы играете в шашки? Вот и отлично, у меня давно уже нет хорошего партнера.
— Папа — любитель шашек, — сказала Дороти. — А вы какого вероисповедания?
— Сам толком не знаю — ходил в воскресную школу, и мне это надоело до смерти.
— А наша религия не надоест, — сказала Дороти.
Я чувствовал, что меня опутывают какой-то сетью, и встал:
— Простите, но мне пора.
— Смотрите же не забывайте нас, — сказал пастор. — Дороти, проводи его.
У двери она сказала:
— Приходите завтра слушать проповедь.
— Религия — это скучища. Сегодня мне в первый раз не было скучно, когда вы молитву читали.
Значит, господь избрал меня своим орудием, — сказала она. — Вы ощущали когда-нибудь прикосновение бога, Артур?
И она коснулась моей руки.
— Так — никогда, — сказал я. — Ни разу я этого не чувствовал и вообще ничего не чувствовал. От гимнов и всего остального меня в сон клонит.
— Приходите ради меня, — сказала она. — Завтра вечером. Пожалуйста.
— Скажут, что я с ума сошел.
— То же самое говорили и про апостолов — сошли с ума от молодого вина. Но разве вам не все равно, что люди о вас думают?
— Я сам себе хозяин, ни на кого не оглядываюсь.
— Но не настолько хозяин, чтобы послушаться своего сердца!
— Вы хотите меня принудить!
— Нет, убедить. Папа говорит: никогда не вколачивай религию людям в голову. Когда говоришь с ними об истинной вере, они робеют, тут уж ничего не поделаешь, но принуждать никого нельзя.
— А вы вот принуждаете!
— Нет, только направляю.
Но по пути домой я понял, что все это не так-то просто. Если они и не вколачивали в меня свою веру, то подталкивали к ней — дело ясное. И я уперся. Может, они желали мне добра. Но я не мог этого принять. Коснись бог или там Иисус Христос меня так, как она коснулась моей руки, ну, тогда я, может быть, и поддамся. Но даже тогда все будет совсем не так. По-моему, религия — я говорю про настоящую религию — это тайна. Ходит человек, с виду такой же, как все, и помалкивает: никаких гимнов, никаких молитв, никакой раздачи бутербродов на улице — словно ты на секретной службе. Повинуешься приказам, но без шума, и когда делаешь кому добро, то незаметно, а если человек, скажем, проштрафился на работе, то религия его выручает.
К тому же у меня язык не повернулся бы сказать моей старухе, что я «спасен». Никогда в жизни.
Я сгорел бы со стыда. Пришлось бы ей самой допытываться, разузнавать, и, может, она постепенно привыкла бы к этому и гордилась. Но она тоже в жизни не сказала бы мне, что знает про это.
Будь я действительно религиозен, она тоже стала бы религиозной и поступила бы точно так же, как я, и в один прекрасный день я заметил бы это за ней, как она за мной. Я не говорю, что так должно быть у всех. Я хочу только сказать, что знаю множество людей, которые на каждом углу кричат о своей вере, и ничего хорошего в этом нет. Зачем им это? Может быть, они стараются убедить самих себя? Религия — это таинство, и чем меньше о нем говорить, тем больше надежды, что оно свершится. Бог был распят на кресте не для того, чтобы всякие дураки этим бахвалились.
2
В воскресенье утром меня разбудило солнце, заглянувшее в окно; ветер доносил с улицы запах жареного мяса и кошек, орали радиоприемники, а внизу моя старуха шумно орудовала своим любимым электроприбором. Но мне все это было до лампочки. В воскресное утро можно поваляться в постели, а мне было о чем подумать. Я встал, плотно закрыл дверь и окно, задернул занавеску. Потом снова лег на бок и свернулся клубком.
Но я не мог лежать спокойно — и не надейтесь, пожалуйста, что это мысли о религии не давали мне покоя. Нет, я торговался с собой. Торговался не совсем честно, притворяясь, будто Дороти тут ни при чем. Я решил порвать со Стеллой. С ребятами из Старого города я уже порвал. Начну новую жизнь. Стану лучшим на участке, забуду про грязные дела, про дядю Джорджа и всякую муру. Овладею своей профессией в совершенстве, а язык буду держать за зубами. У них глаза на лоб повылазят, когда они увидят, как я без разговоров начну дело делать. А в свободное время стану улучшать инструмент, буду первым приходить на работу и последним уходить, а в один прекрасный день случайно услышу, как дядя Джордж говорит Спроггету:
— Согласись, Сэм, что ты ошибался насчет этого мальчика — у него есть достоинства, подлинные достоинства.
А еще я буду ходить в этот божий храм и дружить с пастором и Дороти. Буду приветлив, проявлю широту взглядов, но дам им понять, что у меня своя дорога. Не откажусь сыграть с пастором в шашки — мне ведь ничего не стоит обставить Жильца, а он сильный игрок. Обыграю пастора Джонсона, а Дороти будет смотреть и хлопать глазами, и тогда я нарочно проиграю ему партию-другую. Но насчет веры останусь тверд.
И еще я, конечно, помогу моей старухе — схожу к адвокату и добьюсь развода, пускай выходит за Жильца. Буду таким хорошим, что даже старые сплетницы на скамье это заметят. В общем я до того размечтался, что никак не мог остановиться. Я встал. Потом снова лег, облокотился о подушку и с удовольствием закурил, выпуская дым из углов рта и через нос, так что он завивался кольцами, а потом смешивался с пылинками в солнечных лучах. На колени себе я поставил комнатную туфлю, потому что в доме не было ни одной пепельницы — моя старуха до смерти боялась пожара и запретила мне курить в комнате. Я лежал, пуская дым, и огонек сигареты был ничто перед моим внутренним светом.
Пылесос смолк. Я даже не пошевельнулся, а ведь в другой день я сразу погасил бы сигарету и разогнал дым. Она поднялась наверх и, конечно, увидела, что я курю. В руках она держала городскую воскресную газету и мой пиджак.
— Ты, я вижу, уютно устроился.
Я пробормотал извинение, но это не помогло.
— Сколько раз я тебе говорила — не смей курить в постели. — Пришлось мне погасить окурок в комнатной туфле. А она продолжала, все больше распаляясь: — Кстати, тут в газете есть кое-что для тебя интересное.
На первой странице была большая статья под заголовком: «Драка двух шаек молодежи в кинотеатре» — видно, тому малышу стало плохо, и пришлось отвезти его в больницу. А уж там корреспондент вытянул из Рода все. Приводились также свидетельства очевидцев с улицы, сильно приукрашенные. Выходило, что это был вечер ужасов: десятки молодых преступников дрались врукопашную, сверкали ножи, мелькали велосипедные цепи, звенели бутылки.
— Ты, конечно, тоже был там — я сразу заподозрила неладное, когда ты ушел в старом костюме.
Я промолчал. Только бы Род не выдал нас, иначе каждую минуту жди гостей. Я поглядел на часы — одиннадцать. Если б он раскололся, они были бы уже здесь — или, может, меня оставили напоследок?
— Чего молчишь, как воды в рот набрал — вот тут, на пиджаке, доказательство.
Я сказал:
— Послушай, мама…
Куда там. Она завелась надолго.
— Того и гляди полиция явится, — заключила она. — Что тогда соседи скажут!
— Все это преувеличено, — возразил я, хлопнув рукой по газете.
— Судя по пятнам на твоем пиджаке — ни: чуть! — крикнула она сердито.
Что было делать? Не мог же я сказать, что мой дорогой друг вытер об меня нож, — это только подлило бы масла в огонь.
— Но теперь кончено, — сказала она, а я молча — пока еще молча — восхищался ею. — Изволь вести себя как следует. Я тебя приструню. С сегодняшнего дня ты без меня из дому не выйдешь.
Этого я стерпеть не мог. У нас в Старом городе есть железные законы. Ни один из наших ребят старше двенадцати лет не выйдет на улицу со своими предками, разве только когда надо прибарахлиться, но есть и такие строгие блюстители приличий, которые едут другим автобусом и встречаются с матерью прямо у магазина. С девушкой можно ходить, только когда за ней ухаживаешь; после медового месяца она ходит одна, а ее муж — с другим женатиком своего возраста.
Я знал таких, которые возили детскую коляску и потом всю жизнь жалели об этом. Сами понимаете, я взвился.
— Ни за что!
Моя старуха покосилась на меня и подошла к шкафу. Она вынула оттуда три пары моих брюк и джинсы.
— Что ж, тогда лежи весь день в постели.
— Ты не можешь держать меня взаперти!
— Посмотрим, — сказала она и вышла.
А я остался без штанов. В другое время я не стерпел бы этого, но после того, как я получил нокаут, самый настоящий нокаут, и решил начать все снова, не годилось с ней воевать. Я был оскорблен в лучших чувствах, оправдаться перед ней не было никакой возможности, я сидел без штанов, не мог разобраться насчет религии и увидеть Дороти. К тому же у меня внутри все переворачивалось и мурашки бегали по коже при мысли о полицейских.
А тут еще, как назло, сигареты кончились. Я выкурил последнюю, выгреб из тайника все окурки и пожалел, что так неосторожно их гасил — они все начисто расползлись. И все же я скурил их один за другим, а потом сел и стал думать о том, как было бы хорошо иметь два десятка сигарет, покуда совсем не распсиховался.
В конце концов я вышел в трусах на площадку и стал кричать. Было так тихо, что я слышал, как моя старуха чистит картошку. Но она мне не ответила. Я чувствовал себя сиротливо, как дух, которого не пускают на спиритический сеанс. Вернувшись в комнату, я сел и задумался. Вот так всегда: будь у меня два десятка сигарет, жизнь казалась бы сносной. Я и курить-то не очень хотел. Мне нужно было только знать, что они у меня есть. Я подумал, что радо все-таки бросить курить, и спустился вниз в трусах.
— Это неприлично, — сказала она.
— Наплевать на приличия, — сказал я. — Мне курить нечего, выйдем на минуту и купим сигарет.
— Значит, ты принимаешь мои условия?
— Из-за тебя я стану посмешищем всего города.
— Не велика беда, — сказала она. — Лучше быть посмешищем, чем арестантом. Я все средства перепробовала. С меня хватит. Раз на тебя положиться нельзя, придется мне за тебя взяться. Кстати, — добавила она, — погляди, на кого ты похож, — того и гляди трусы потеряешь…
— Мне это надоело, — сказал я. — Не можешь же ты все время обращаться со мной, как с ребенком. Я имею право…
— Я тоже имею право, черт бы тебя взял, — сказала она, взмахнув ножом у меня перед носом. — Довольно командовать в доме. Тебе еще восемнадцати нет, а ты уже не даешь мне рта раскрыть. Ты встревал между мной и Гарри, а почему? Да просто потому, что ты эгоистичное отродье и не хочешь считаться ни с чем и ни с кем, кроме своих капризов. Но теперь кончено!
— Можешь лизаться со своим милым сколько влезет, — крикнул я. — Я хочу только несчастную пачку сигарет, а вместо этого на меня попреки сыплются. Кто тебе мешает? Не я, во всяком случае. Делай, что хочешь, только купи мне сигарет.
— Без меня ты не выйдешь, — сказала она.
Мои брюки лежали на стуле, они были соблазнительно близко, меня так и подмывало их взять — эх, вечно я лез на рожон!
— Сейчас же положи брюки! — Не обращая на нее внимания, я сунул ногу в штанину. — Я тебе покажу своевольничать, — сказала она и влепила мне оплеуху. Едва очухавшись, я дал ей сдачи. Удивительно, чего только не увидишь иногда в ничтожную долю секунды.
Я увидел лицо Дороти. Она словно смотрела на эту сцену. Но не это заставило меня просить прощения, а мысль, что все мои благие намерения пропали из-за пачки сигарет.
Она сидела на стуле со страдальческим выражением лица, а я бормотал: «Прости меня… я нечаянно», — и все такое, но это не действовало. Наконец она сказала:
— Ты бы поискал себе комнату — я больше не могу выносить эти скандалы и сходить с ума всякий раз, как ты уходишь.
— Слушай, мама, — сказал я, — ты сама виновата, честное слово. Я был готов отрезать себе руку в тот же миг, как поднял ее… Если б ты только доверяла мне… Тогда я, может, сам решил бы, что делать…
— Ты у меня молодчина, — сказал я. И хотел еще добавить, что для меня в мире нет лучше матери, что она мужественная, умеет надеяться и работать не покладая рук, что она создала для меня дом, который я ценю, хотя пользуюсь им, как гостиницей.
Но железные законы помешали мне. Да еще мысль, что она может подумать, будто я подлизываюсь, чтобы добиться своего. Бросив брюки, я дал задний ход, так сказать, сам наступая себе на пятки.
Через пять минут она вышла из дому.
Через десять — вернулась, поднялась наверх со всеми моими брюками, положила их на спинку кровати и бросила мне два десятка сигарет. Ну, посудите сами, что поделаешь с такой женщиной.
— Мама, — сказал я. — Куда бы ты хотела пойти сегодня погулять?
Она стояла ко мне спиной.
— Не знаю. Да ты обо мне не беспокойся.
— Пойдем в Выставочный парк, оркестр послушаем.
— Люблю хороший оркестр, — сказала она каким-то странным глухим голосом, и я понял, что мы помирились. Но, скажу прямо, оба мы были чудилы, каких поискать.
3
Прогулка по парку была для меня пыткой по двум причинам: одна вам уже известна, а другая состоит в том, что я не выношу оркестры. Они меня нисколько не трогают, и это факт. Когда Гарри и моя старуха были детьми, блеск медных труб, наверно, еще нравился, потому что джаз тогда приезжал из Нового Орлеана, Канзас-Сити, Чикаго, а теперь в Англии появились доморощенные джазисты вроде Хэмфри и Криса Барберов и даже в нашем городишке развелось семь или восемь местных джазов. Своего стиля у них не было — каплями допотопного джаза они разбавляли целые галлоны «Горной девы», «Нью-йоркской красотки» и всякой всячины. У старых духовых оркестров было сильное преимущество — без них не обходились ни процессии, ни похороны, ни парады, ни гулянья в парках, а это было немало до появления телевидения. Так что мою старуху они еще как-то волнуют. А меня — нет. Для меня все началось с того первого раза, когда мне было лет восемь или девять и я, сидя на ступеньках подвала, слушал, как местный джаз наяривал в традиционной манере «Тигровый ковер», «Бэсин-стрит» и прочее в том же духе; эти воспоминания связаны с беззаботными людьми, веселившимися до упаду в облаках голубого дыма.
А чугунная эстрада, окруженная подстриженными кустиками, корзины с геранью, сотни людей, которые пришли со своими стульями и расселись вокруг музыкантов, тоже пришедших со своими стульями, для меня сущий ад. В тот день они выдали всю программу, кроме «Вильгельма Телля». Оркестр был военный. Дирижировал самоуверенный маленький человечек, и они его слушались, как бога, — можно было подумать, что за малейшую ошибку он их всех поубивает. Я вырвал листок из книжки у Гарри, прикрыл глаза от солнца и задремал.
Гарри я пригласил с нами в порыве благородства — когда зашел разговор о прогулке, он зевнул и сказал, что это, конечно, очень интересно, но он, пожалуй, побудет один, поспит, а потом выпьет бутылку пивка и закусит йоркширским пудингом. Тогда я сказал:
— Пошли за компанию, веселее будет.
Мою старуху чуть удар не хватил.
— Вы и вдвоем не соскучитесь, — сказал Жилец. — А мне трудно на старости лет свои привычки менять.
Но я видел, что он не прочь пойти.
— Пойдем послушаем еще разок «Аве Мария», — сказал я и увидел, что моя старуха затаила дыхание. Он взглянул на нее.
— Как думаешь, пойти?
— Тебе не мешает развлечься, — сказала она.
В общем он пошел, и, не скрою, я позвал его не только из добрых чувств — взяв Гарри, я мог хоть иногда отойти от моей старухи. Просто удивительно, каким добрым становится человек, когда у него гора с плеч свалится. Понимаете, я боялся, что Род нас выдаст. Примирившись утром с моей старухой, я унес газеты к себе наверх и стал просвещаться насчет того, что творится в нашем безумном мире.
Я узнал, какие знаменитости бежали с шикарными девицами и куда. Узнал новости о молодежи в разных городах, которые здорово меня насмешили, после того как я прочел раздутый отчет о том, что было у нас. Потом пошли сообщения о подвигах частных сыщиков, грабежах, изнасилованиях и о том, что увидел чей-то муж, когда вместе с сыщиком пошел ночью в свой садик. Разве это новости! Старо как мир. Часов в двенадцать мое приятное занятие было прервано — на улице раздался свист, но я и ухом не повел, зная, что свистит Носарь.
Но он никак не хотел уходить, так что в конце концов я открыл окно и высунулся с газетой в руке, показывая, что занят. Он стоял, задрав вверх голову и заложив два пальца в рот, чтобы свистнуть еще раз.
— Беги отсюда, детка, — сказал я.
Скрестив руки на груди, он спросил:
— Это ты мне? Слышь, старик, у меня хорошие новости.
— С меня довольно вчерашних скверных шуток, — сказал я.
— Твоя старуха пронюхала что-нибудь и заперла тебя?
— Она чуть с ума не сошла, когда мой рукав увидела.
— Плевать. Ты не трухай. Хорошие новости: Род молчал как рыба — нас не заметут.
— Хорошие или плохие — все равно. После вчерашнего мне до вас нет дела.
— Брось, старик. Уговор помнишь — быть вместе до конца.
— Я тебя предупреждал, чтоб никаких ножей.
— Приходи сегодня и скажи это всем.
— Не выйдет, я занят.
Он свистнул, махнул рукой и пошел прочь.
— Ладно, увидимся, — бросил он через плечо.
На том мы и расстались. Но у меня прямо гора с плеч свалилась, когда я узнал, что два молодчика с непроницаемыми лицами не постучатся в дверь. Так что я пользовался концертом, как мог. Нет ничего приятней полусна, и я сладко дремал, а солнце, пробиваясь сквозь листву деревьев и сквозь ресницы, окутывало мои сны светлой дымкой.
Во время пятого или шестого номера моя старуха вдруг стиснула мне колено.
— Господи, Артур, это он!
Я вздрогнул, с трудом сообразил, где я, и спросил:
— Кто?
Но я не мог добиться от нее толку. Оркестр в это время гробил какую-то грустную и медленную мелодию. В дальнем конце эстрады какой-то тип исполнял соло на тромбоне. Он играл стоя, иначе я и не увидел бы его.
— О чем ты, мама?
Она схватила меня за руку и сжала ее до боли.
— Это он — твой отец!
— Не может быть, — сказал я.
— По-твоему, я не узнаю собственного мужа?
— Но ведь ты его так давно не видела — долго ли ошибиться?
— Если это не он, значит его двойник.
Гарри наклонился к нам, и не удивительно, потому что моя старуха говорила в полный голос, все вокруг прислушивались к шипели на нас.
— Она говорит, это мой старик, — сказал я. — Вон тот, что играет на тромбоне…
— Твой отец?
— Так она говорит.
— Пойду взгляну на него поближе, — сказала моя старуха.
— Подожди, пока они кончат играть, — сказал Гарри.
— Довольно я ждала, — сказала моя старуха. — Пятнадцать лет.
И прежде чем я успел ее удержать, она уже начала протискиваться к проходу.
Надо отдать справедливость моей старухе — она умница. Я обмирал со страху, боялся, что вот сейчас она ринется прямо на эстраду, чтоб все решить разом на месте. Но вместо этого она повернулась к эстраде спиной.
Я вздохнул с облегчением и заставил себя не глядеть в ее сторону. Гарри толкнул меня локтем и шепнул:
— Положись на нее: она будет ходить вокруг, пока не найдет местечко, откуда сможет разглядеть его незаметно.
Через несколько минут я увидел, что она огибает дальний конец эстрады. Я все ждал, что тромбон вдруг умолкнет и кто-нибудь спрыгнет на землю.
Она не вернулась.
— Сиди спокойно, — сказал Гарри. — Теперь она следит за ним.
— Будет скандал.
— Ни в коем случае. Подойдем к ней после концерта.
— Вы пойдете со мной?
— Если хочешь.
— Если хочу! Да я умру, если не пойдете.
— Я все равно держался бы неподалеку, — сказал он.
— А вы бы вздули его на моем месте?
— Это уж глядя по обстоятельствам.
Я понял, о чем он говорит, и попробовал разобраться в своих чувствах. Теперь, когда мое желание исполнилось, я отдал бы все на свете, чтобы этого не было. Признаюсь честно, я боялся встречи с ним. Судя по всему, этой встречи и искать не стоило, мне-то уж во всяком случае. Он бросил семью и сбежал. И ни разу не вспомнил о моей старухе, не говоря уж обо мне, за долгих пятнадцать лет. Он был такой же сукин сын, как те, про которых пишут в воскресных газетах. И все же он был частью меня самого, и я хотел знать, что эта за часть такая.
— Только не торопись решать, — сказал Гарри.
— А вы откуда знаете?
— Нетрудно догадаться, — сказал он, потрепав меня по колену. — Это написано у тебя на лице, малыш. Сохраняй хладнокровие и гляди в оба — не делай ничего такого, о чем после придется пожалеть.
Когда предстоит что-нибудь неприятное, я всегда действую с ходу. Так было и теперь. Как только дирижер раскланялся и музыканты зашевелились, укладывая инструменты, я выскочил в проход и стал пробиваться к эстраде через толпу. Гарри потянул меня за рукав.
— Давай лучше кругом обойдем, — сказал он.
И мы обошли кругом. Моя старуха была возле того конца эстрады, где стоял мой предок; глаза сухие, но платок зажат в руке наготове.
— Он?
Она кивнула, не отрывая от него глаз, а он тем временем стал спускаться с эстрады.
— Боже, как он постарел! — прошептала она.
Я ничего не сказал, но подумал, что сейчас он постареет еще больше. Гарри ласково взял ее за руку, давая понять, что нужно уйти.
— Пусти!
— Ах, извини, — сказал он и отошел в сторону.
— Не сердись, Гарри. Кажется, я не в силах довести это до конца.
— Дело твое, — сказал он.
— Я не вынесу скандаля, — сказала она. — И не смогу взглянуть ему в глаза — подумай только, а ведь во всем виноват он!
— Ты как хочешь, мама, а я намерен потолковать с ним.
— Не вмешивайся!
— Я должен увидеться с ним, мама. Хоть раз.
— А обо мне ты не думаешь?
— Но ведь это его отец, Пег, — сказал Гарри.
— Тогда ступай спроси, как его зовут. И если он не признается, уйди.
Я пошел, но тут же вернулся бегом.
— А как его зовут?
— Ясное дело — так же, как тебя.
До меня не сразу дошло, о чем она. Потом я собрался с духом и пошел к своему предполагаемому отцу. На глазок я прикинул, что он тяжелее меня фунтов на тридцать и дюйма на два повыше ростом. Он был без фуражки, и я заметил, что он лысеет. Расстегнув тесный воротничок, он прикуривал у другого музыканта.
Я положил руку ему на плечо.
— Вы Артур… Артур Хэггерстон?
— Ну, допустим.
— У меня к вам поручение.
— От кого?
— Скажу, когда буду уверен, что это вы.
У него было противное лицо, и он мне сразу не понравился. Другие музыканты стали подшучивать насчет свидания с незнакомкой и допытываться, чего он от них скрывает. Он поморщился.
— Ну ладно, я Артур Хэггерстон. В чем дело?
— Один ваш знакомый хочет с вами поговорить, он вон там. — И я махнул рукой в сторону маленькой рощицы.
— У меня нет здесь знакомых.
— Слушай, друг, — сказал я. — Я тебе услугу оказываю. Не хочешь идти, и не надо. Скажи прямо, и мое почтение…
— Ладно, пойдем.
Мы пошли, и я услышал позади голос Гарри:
— Эй, Артур, постой!
Мой старик оглянулся через плечо.
— Там какой-то малый зовет тебя.
— Который?
— Вон тот, черноволосый. И с ним женщина.
Я обернулся и покачал головой. Теперь я решился окончательно — в тот миг, как он сказал «женщина». Мы дошли до рощицы, он огляделся и спросил:
— Где же он — тот, который хотел меня видеть?
— Здесь, — сказал я.
Скосив глаза, я увидел, что Жилец бежит к нам во весь дух. Времени оставалось в обрез. Я ударил его в солнечное сплетение, он заворчал, но не скорчился, и я понял, что промазал. Я сильно ушиб кулак — у него под френчем был словно толстый слой дубленой кожи, — но надо было поскорей ударить еще раз и попасть в точку. Теперь мой кулак наткнулся на его локоть.
— Ты что, чокнутый? — заорал он.
Я покачал головой. Правая рука у меня совсем отнялась, поэтому я нацелился левой прямо ему в нос. И тут меня охватило бешенство. Я молотил его здоровой рукой, иногда попадая в лицо, и не то кричал, не то плакал, не помню. А он отступал и не сопротивлялся. Некоторое время он отбивал меня, как боксерскую грушу, а потом заехал мне в подбородок. Я видел, как он развернулся, и был рад — он так давно причинял мне боль.
Я был фунтов на тридцать легче и дюйма на два пониже. Но это мне не помогло. Опомнился я уже на земле — я лежал навзничь, и сквозь причудливый узор листьев мне было видно ярко-голубое небо, которое казалось удивительно красивым. Мой старик смотрел на меня с недоумением — теперь он казался мне еще противнее.
— Какого дьявола ты улыбаешься? — спросил он.
Я хотел отпустить шуточку насчет того, что у меня просто рот от удара скривило, но был слишком потрясен для этого.
Моя старуха приподняла мне голову и спросила, что со мной. Я слышал, как Гарри сказал:
— Эх, так и чешутся руки отделать тебя хорошенько.
— Послушай, тут что, весь город против меня зуб имеет? — спросил мой старик.
Вокруг нас собралась целая толпа, среди которой были и военные. Я понял, что Гарри слишком много на себя берет, — хоть он и бывший матрос, но ему придется туго, хотя бы уже потому, что может вмешаться весь оркестр.
— Оставьте его, Гарри, — сказал я. — Я сам заварил кашу, мне и расхлебывать.
— Вот именно! — подхватил мой старик. — Сказал, что кто-то ждет меня здесь. Я поверил. Пришли. А он как даст мне в брюхо…
— В солнечное сплетение, — поправил я.
— А теперь лежит и улыбается, как чеширский кот. И чего улыбается, подумаешь, как остроумно… Ведь я его с копыт сбил.
— Думаю, он хотел узнать, многого ли вы стоите, — сказал Жилец. — Он, понимаете ли, доводится вам сыном, а вот и ваша жена, если, конечно, это вас интересует.
Мой старик присвистнул и отвернулся. Потом спросил:
— Ну, как жизнь, Пег? — и снова отвернулся.
— Ничего, — сказала моя старуха.
— Что ж, пойдем отсюда. — Он присел, упершись руками в колени, и поглядел на меня. — Ты как, ничего? Ладно, давай помогу тебе встать.
И мы пошли по извилистой дорожке через лужайку, а потом по берегу озера, где плавали лодочки. По дороге никто, кроме моего старика, не сказал ни слова. Да и он, кажется, только пробормотал себе под нос:
— Зря я не сказался больным.
Это было как сон.
Мы вышли за ворота парка на «Болото» — широкое, как прерия, оно тянулось вдоль длинного ряда деревьев, туда, где земля сливалась с небом. Вокруг гуляли люди поодиночке и парами, только мы были вчетвером. Мой старик шел на несколько шагов впереди. Он все озирался, и я не мог понять почему, а потом вдруг обернулся и сказал:
— Кажется, здесь подходяще, как по-вашему?
— Если вас устраивает, то и нас тоже, — сказал Гарри.
Мой старик вздохнул и стал снимать френч. Клянусь вам, у меня глаза полезли на лоб.
— Напрасно стараетесь, Хэггерстон, — сказал Гарри. — Мы привели вас сюда не для того, чтобы драться.
— А для чего?
— Чтобы задать несколько вопросов и кое-что выяснить.
Мой старик вздохнул.
— Я предпочел бы драться.
— Пег хочет развестись с вами. У вас есть возражения?
— Хотите развод — кто ж вам мешает? Пожалуйста. Я тут не помеха.
Он сел на землю, сорвал травинку и стал жевать.
— Пегги еще ни слова не сказала.
Моя старуха тоже села на траву, и я впервые с удивлением заметил, какие у нее красивые ноги. Сели и мы.
— Я хочу снова выйти замуж, — сказала она.
— За него? — Она кивнула. — Что ж, получить развод легче легкого. Все равно как в кино сходить. Раз-два — и готово. Я тебя бросил… и даже еще хуже…
— А ты не против? — спросила моя старуха.
— Я с другой связан. Вот уж без малого два года.
— Живешь с ней? — спросила моя старуха.
— В законном браке, — ответил он спокойно.
— Как же ты женился? Разве можно…
— Это называется двоеженство, — сказал он. — Меня за это могут посадить на год или два.
— А она как же? — спросила моя старуха. — Я хочу сказать — такой удар…
— Переживет. Позлится, конечно, с недельку. — Он прищелкнул языком. — Уж это как пить дать. А так ничего.
— Дети есть?
Он покачал головой. Потом бросил на меня быстрый пристальный взгляд.
— Вот, пожалуй, и весь сказ.
Моя старуха встала.
— Что ж, тогда пусть все остается как есть. Я скорее умру, чем стану устраивать свое счастье, отправив человека за решетку. — И, помолчав, добавила: — Хоть он этого и заслужил. — Она повернулась к Гарри. — Прости меня, Гарри, но я не могу.
— Тебе решать, Пег.
— Ну, уж нет, — сказал мой старик. Он рвал траву и складывал ее кучкой около себя. — Слишком долго по моей вине все оставалось как есть. Я говорил себе, когда ехал сюда, — хорошенькое будет дело, если я на нее налечу. Надо все это уладить раз и навсегда. Вот что я себе говорил. Ведь я тебя знать не хотел. А ты так много сделала, растила мальчика столько лет. Теперь моя очередь. Как хотите, а я и сам должен от этого избавиться. Завтра я буду на юге, в своей части. Схожу там в полицию, поговорю с инспектором. Он мой приятель. И мы все уладим…
— Делай как знаешь, — сказала моя старуха. — Я о тебе же беспокоюсь.
— Знаю, — сказал мой старик. — Я бросил тебя в беде, но не потому, что ты была злая. У тебя всегда было большое сердце, Пег.
— Пойдем? — сказала моя старуха.
— Я вас догоню, — сказал я.
— Ступай с матерью, — сказал он.
— Будем ждать тебя к чаю, — сказала мне моя старуха.
И они с Гарри ушли. Мой старик проводил их взглядом. Когда они отошли шагов на пятьдесят, она взяла Гарри под руку. Мой старик снова принялся рвать траву. Мы сидели долго. Наконец он сказал: — Здесь травы больше нет. Давай отойдем немного.
И мы пошли к дальним деревьям. Но еще не дойдя до них, он начал говорить. Я, может, не стал бы его и слушать. Но ему досталось не меньше моего, и он выдержал испытание. Когда за всю жизнь можешь провести с отцом только полдня, что ж, стараешься выжать из этого все до капли.
IX
1
Моя старуха была на высоте, она даже не спросила, о чем у нас с ним был разговор. Меня это обрадовало, потому что я не умею, как она, запоминать все до единого слова и пересыпать свой рассказ всякими «он говорит» и «она говорит». Да и разговор был не такой, чтобы разменивать его по — мелочам. Поэтому я предоставил ей самой догадываться. И пока я уминал свою порцию ананасов со сливками и хлеб с маслом, запивая его крепким чаем, почти ничего не было сказано. А потом я сидел молча и ждал.
— Ну, какие у тебя планы на вечер? — спросила она.
— Меня пригласили в гости.
— Куда же это?
— Какая разница? Ведь я все равно не могу пойти без тебя.
— Посмотрим. Сначала скажи, куда.
— В храм божий.
— Не может быть. Кто? Когда?
— Вчера вечером. Я познакомился с пастором, и он меня позвал.
— И ты хочешь пойти?
— Собирался, но ведь ты сказала, чтоб я без тебя ни шагу.
— Ты сам знаешь, что в церковь я тебя пущу.
Тогда я сказал, что, если она не против, я, пожалуй, пойду, но не думайте, что больше не было никаких расспросов, — она, например, хотела знать, как это я познакомился с пастором и что он за человек: ах, вот как, значит, у него есть дочь, и так далее в том же духе. Наконец она все выяснила, и я был свободен.
— Помолись там за меня, — сказал Жилец.
А моя старуха только поглядела в мою сторону, и я сразу догадался, что у нее на уме. Делать нечего, я пробормотал молитву, но она состояла всего из двух слов: «Помоги маме». Я в жизни не думал о религии, меня лишь иногда интересовало, откуда все произошло и как началось, а если все время об этом думать, живо с ума спятишь: положим, даже решишь, что все создал бог, и будешь молиться — какой от этого толк? Услышишь звук своего голоса, и только. Односторонняя связь. Станция не отвечает. Поймите меня правильно. Иногда я диву даюсь, как это все так ловко устроено. А иногда мне кажется, что я похож на человека, который хочет поймать Нью-Йорк или Сидней слабеньким детекторным приемником. А это, пожалуй, потруднее, чем самому собрать приемник, пусть даже из всякого хлама и без запчастей.
Может, это все равно что настроиться на миллиард радиостанций разом и все же разбирать каждый голос в отдельности. Вообразите, что я пробовал это сделать, я, который и свою старуху-то не всегда мог понять, или не я, а какой-нибудь другой человек, который говорит на том же языке и думает теми же мыслями. И это не удивительно, потому что если взять другого, то он, может, и себя-то не понимает. Ему-то кажется, что он понимает, но это не меняет дела.
Братцы, от этой мысли меня в дрожь бросает.
По дороге я встретил Носаря и никак не мог от него отвязаться. Я сказал ему, что иду в церковь.
— Ну ладно, и я с тобой.
— Не по той дорожке идешь, Носарь. Будь у тебя ума побольше, ты пошел бы прямо в церковь Терезы.
— Я ничего не делаю по расчету, иду, куда хочется.
Бесполезно было с ним спорить. Мы вошли в миссию. У дверей стоял какой-то сгорбленный тип, он пожал нам руки и дал книжки с гимнами. Мы сели на разрисованные скамьи вместе с прихожанами, которых было ровно двадцать девять, считая нас двоих. Дороти, игравшая на американском органе, улыбнулась мне. Носарь подтолкнул меня локтем.
— Хорошенькая штучка, а?
Он сказал это громко, и все сидевшие впереди нас, а таких было большинство, обернулись. Многие кивнули с улыбкой. Конечно, они привыкли к соплякам вроде меня и Носаря. Несколько новообращенных даже были в церкви. С самого начала служба пошла в темпе, не то что у нас в воскресной школе. Вышел пастор, сказал, какой гимн петь, отбарабанил первый стих, не глядя в книжку, и все рванули вперед. Эта братия была, как машина, и я не совру, если скажу, что мы поехали — и было это очень страшно, потому что машиной никто не управлял и гнали мы неизвестно куда. Тут уж не соскучишься; пастор помолился, прочел главу из библии, загремели гимны, и возгласы «хвала господу» взлетели, как ракеты; а потом он начал проповедь.
Послушав минут пять, старый бродяга Носарь прошептал:
— Бежим из этого сумасшедшего дома, не то я сам сейчас спячу.
— Да ведь он только говорит и больше ничего, — сказал я. По правде сказать, я сам трусил, хоть и не так сильно. Но мне доставило тайное удовольствие видеть, как Носаря пот прошибает.
— Он глядит на нас, — сказал Носарь. — Все время глядит, как подымет голову. Охмурить хочет.
— Грешников выискивает, — сказал я. — Ну, что теперь скажешь насчет ножа? Здесь он не поможет, а, Носарь?
Пастор говорил так же приятно, как его дочь пела. Он произносил слова проникновенно, нараспев. Иногда он понижал голос до шепота и гудел, как ветер в проводах, а потом снова гремел на всю катушку.
Предварение: Человек жил в раю, который был ему домом, и не ведал ни смерти, ни болезней, ни ненависти, ни зла, ни греха. Он жил безмятежно и мог общаться с богом в любое время дня и ночи. В такой безмятежности, какой не знал даже у материнской груди; в такой благодати, что даже самые счастливые минуты нашей земной жизни — лишь бледная тень ее; в такой красоте, что с тех пор сердце его тоскует по ней и будет тосковать до скончания века. А потом туда проник дьявол и все погубил. Человек был изгнан из рая и обречен влачить тяжкую жизнь, работать в поте лица своего и умирать. Он лишился общения с богом, и это было всего ужаснее, потому что он стал одинок. Вместо вечности ему была уготована однообразная череда дней. И человек пустился в путь по бесплодным равнинам времени, не ведая милосердия, и поэтому Каин убил Авеля; не было росы сострадания, а лишь пролитая кровь; и было проклятие потопа и разрушение Содома и Гоморры. Снова и снова бог являлся своему народу, и снова и снова этот народ ему изменял; и, наконец, бог сошел на землю. Слово обратилось во плоть и было распято за грехи наши — мои и твои.
— Аллилуйя.
— Хвала господу.
— У этого человека не глаза, а сверла, — сказал Носарь.
Поучение: О братья, не думайте, что наша цель — это возвращение в рай. Кто дерзнет отрицать распятие? Кто посмеет отвернуться от окровавленного чела, от пронзенных гвоздями рук и ног, от истерзанного тела? И все же миллионы, да, миллионы закрыли глаза, миллионы предпочли дьявола. Вы спросите: как можем мы предпочесть дьявола, если не верим в него? Все дело в том, братья и сестры, что дьявол хитер и коварен; он стал незрим и незримо присутствует повсюду. Но людям кажется, будто его нет, и они думают, что грех — это естественное состояние, что в нем нет ничего дурного. Оно не имеет никакого отношения ни к богу, ни к дьяволу, ни к искушению, ни к вечному проклятию. Оно касается лишь желаний и чувств. Но желаниям нужен исход, а чувствам — удовлетворение. И дьявол управляет ими издалека. Братья и сестры, дьявол ликует, никогда еще ему не было так легко!
Молодежь в наше время предана на его милость. Но самое ужасное, что у него нет милости и быть не может. Молодежь живет, не признавая добродетели, обуянная гордыней, в пренебрежении к священным законам божеским. Она погрязла в мерзости. У нее нет надежд.
Старик Носарь был весь в поту.
— Он все время глядит на нас… Чего ему надо?
— Заткнись!
Но я и сам вспотел. Этот пастор знал свое дело. Только не подумайте, что на меня все это подействовало. Просто я растерялся.
Увещание: Если бы они поняли, что лишь дающему воздается сторицей, что единственный способ наслаждаться жизнью — это вручить ее господу, что только тот, кто ненавидит жизнь, стремится обладать ею. Взгляните сквозь сеть лжи, сотканную дьяволом, на вечные муки тех, которые попали в его когти, взгляните на все это ради спасения своей души. Сверните с неправого пути, воззрите на распятие, воззрите на чело, увенчанное терниями за грехи ваши, на эти раскинутые руки и ноги, пронзенные гвоздями, на кровоточащее тело. Взгляните в эти чудесные глаза, и вы обрящете в них прощение, которого ждете.
— Я ухожу!
— Никто тебя не держит.
Заключение: Склоним же головы и закроем глаза. Вознесем наши души к небу и помолимся богу, дабы он вразумил тех, кто не в лоне нашей церкви, дабы они упали ниц пред престолом милосердного…
— Ты идешь, Артур?
— А теперь споем молитву тихо-тихо, чтобы я мог услышать бога…
Вдруг начался шум. Подняв голову, я увидел, что Носарь удирает со всех ног.
— Юноша, нельзя убежать от бога.
— Останься, и ты обретешь мир.
Но его уж и след простыл.
— Да свершится воля божия, — сказал мистер Джонсон в конце службы. Он глядел на меня сверху вниз — голый череп, ввалившиеся щеки и добрые карие глаза. — Я уверен, что сегодня бог вразумит кого-то.
Я чувствовал себя манекеном. Одежда висела на мне, как белье на веревке, только сохла не мыльная пена, а целые галлоны пота, по гинее за каплю. Я потерял фунтов тридцать весу и совсем обалдел. Сам не знаю, почему. В мозгах у меня помутилось с той самой минуты, как Носарь удрал.
— Ведь Артур остался, — сказала Дороти.
— Да, остался, — сказал мистер Джонсон. — Ну что, Артур?
— Это не по-честному.
Он усмехнулся.
— Бог оправдывает все средства.
— Возможно. Но я предпочел бы просто спокойно посидеть и подумать. Никаких молитв, гимнов, болтовни. Просто спокойно подумать.
— Сидеть, и думать вечно? — сказал мистер Джонсон. — Да ты, я вижу, крепкий орешек. Не лучше ли нам сыграть в шашки, а?
Честное слово, так прямо и сказал. Меня поразило, как он сразу переменился.
А потом Дороти опять проводила меня до двери и не отпускала добрых десять минут.
— Во что вы верите? — спросила она.
Глаза у нее были отцовские; глядя на нее, я вдруг представил себе, как лицо ее когда-нибудь высохнет, постареет и сморщится, как у него. Но нет, этого быть не может.
— Дайте мне время, — сказал я.
— Значит, вы хотите обдумать то, что слышали сегодня?
— Ваш отец не единственный, кого я слушаю, — меня все интересует.
— Не вас одного.
— Слушать — это все равно как цветы собирать.
— Выходит, вы собираете только то, что вам нравится.
— Как когда. Иной раз такого наберешь, что и сам не рад. Вот, например, некоторые вещи, которые ваш стар… которые он говорит. Про одиночество, про то, что все мы одиноки. Вот что я собираю и не потому, что мне это нравится, а потому, что мешает.
— Какой вы странный, — сказала она.
— Скажите, сколько вам лет? — спросил я. — Ведь вы всего на несколько месяцев старше или младше меня. Для вас все яснее ясного. А для меня — нет.
— Я тоже думала об этом. Много думала.
— Еще бы, — сказал я. — Но я говорю про себя. Скажем, человек слушает. Это все равно как вязать, даже еще медленнее. Вот ваш отец говорил, что воздается лишь дающему…
И я рассказал ей про Джорджа Бзэка с его племянником и про то, как он стал мертвецом.
— Поэтому вы и пришли сегодня? — спросила она с легкой насмешкой.
Мне хотелось обнять ее и сказать:
— Нет, я пришел потому, что здесь есть один цветок, который я хотел бы сорвать.
Но я только взял ее за руку. Она прислонилась к двери, глядя на меня с едва заметной призывной улыбкой. Я сжал ей руку и хотел поднести ее к лицу в надежде, что тогда она обнимет меня за шею, но не осмелился. Она была права, а я не прав. Она была на сто лет меня старше, я не смел шевельнуться, а она смеялась. И я почувствовал, что она легко может меня одурачить.
— Мне пора.
Она отняла руку. Просто удивительно, как я вообще посмел тогда взять ее за руку, мне она казалась слишком добродетельной, чтоб ее коснуться, не говоря уж — поцеловать. Может, поглядев на нее повнимательней, я понял бы, что и она тоже разочарована. У первого фонарного столба я остановился и хватил по нему кулаком. Хватил изо всей силы, а когда обернулся назад, дверь за ней уже захлопнулась.
2
Весь остаток лета и почти всю осень я проболтался без толку, ходил в миссию и становился все более глух к проповедям пастора, но не к голосу Дороти; ведь это ее голос привлек меня туда, и даже теперь, когда в голосе какой-нибудь другой девушки мелькнет похожая нотка, я вспоминаю Дороти и весь замираю. Мы с ней часто гуляли и разговаривали, но всегда держались на почтительном расстоянии, не считая случайных прикосновений. Я совсем дошел. У этой девушки было редкостное терпение, но, как потом оказалось, воздаяния она не получила. Что толку, если можно только гулять и ходить на церковные службы — ни в кино, ни на танцы, ни на вечеринку? Но так продолжалось довольно долго.
Иногда я не могу понять, что же произошло. Я любил эту девушку. И был не робкого десятка. Но она как-то сковывала меня. Или, может быть, это не она, а воспоминание о ее голосе, церковная обстановка, молитвы и гимны мешали мне. А может, все дело было в том, что я уважал невинность и не хотел ее губить. И кроме того, меня все время удерживала мысль о Стелле.
С ней все оставалось по-прежнему. Я никому про нее не говорил. Там был особый мирок, тихий и уютный, как сон, и всегда открытый для меня. Когда я думаю о Крабе и Милдред, то понимаю, как мне повезло, что все так вышло, — приходишь, тебя встречают дружелюбно, ласково, а уходишь свободный, и ничего с тебя не требуют. Невероятно, правда? Но так это было, и теперь, когда я стал старше и умнее, я понимаю, что, пожалуй, по-настоящему чистой и невинной была Стелла. Иногда, закрутившись, я подолгу с ней не виделся. Иногда нарочно избегал ее из-за Дороти, но в конце концов я шел к ней, потому что у нее мне было хорошо, как дома. Она открывала мне дверь и всегда встречала меня радостной улыбкой, никогда не жаловалась, что я ее забыл. Я садился на диван у камина, а она оживленно болтала или, вернее сказать, лепетала — про книгу, которую недавно прочла, — а она очень любила читать — лепетала увлеченно, захлебываясь. Иногда я чувствовал себя виноватым, но через несколько минут ощущение вины исчезало, потому что она давала мне почувствовать, что я ничем не связан и раз я здесь, ей больше ничего не нужно. Да, братцы, я чувствовал себя героем из ее любимой книги, когда она сидела рядом, смеясь и болтая, маленькая, пухленькая, с красивыми ножками и добрыми веселыми глазами. Часто она обрывала свою болтовню и целовала меня. А иногда сдерживалась и говорила: «Я приготовлю поесть — чего тебе?»
И бежала на кухню, напевая, хватая то одно, то другое и называя меня таким-сяким. Мне часто думалось, что мы как Адам и Ева, потому что все так легко и просто, да так оно и было — для меня. А каково было ей, когда она думала о муже, который плавал по всему свету старшим помощником на торговом судне. Он был большой, добродушный и беззаботный, ему и дела не было, как ей одиноко, когда он в плаванье. Она мне про него никогда не говорила. У нее была дочь, которая училась в интернате.
В доме было много фотографий этой девочки. О муже она заговорила со мной только раз, сухо сказала, кто он, но часто рассказывала про дочь — как она хорошо учится, какая серьезная, хочет стать доктором. Не мне чета, смеялась она.
Я звонил ей, и иногда, во время каникул, эта девочка подходила к телефону.
— Кто это? — спрашивала она, и я замирал, прижимая трубку к уху, потому что, хотя голос у нее был гораздо более юный, он напоминал голос Дороти. — Кто это?
Из телефонной будки я выходил, совершенно уничтоженный и дрожащий. Я никогда не чувствовал вины за собой и за Стеллой, но боялся, что о наших отношениях узнают. Эта мысль приходила не часто, но сжимала мне сердце, как железный кулак.
И в то же время я ревновал свою старуху к Гарри, так ревновал, что однажды ночью, услышав шум внизу, совсем ополоумел, выскочил из постели и распахнул дверь его комнаты. Поверите ли, этот шут стоял на голове у стены! Я ожидал самого худшего, а увидел вот что — он стоял в пижаме, вниз головой, стукая ногами в стену, и ухмылялся. Он, конечно, догадался, в чем дело. Я понял это по его усмешке. Все еще стоя на голове, он сказал:
— Кровь хочу разогнать.
Я криво улыбнулся в ответ, вполз наверх, как раздавленный таракан, и снова лег. Я понимал, что могло быть хуже, и готов был убить себя за свою глупость. Если я смутился, когда увидел, что он всего-навсего делает упражнения йогов, то что же было бы, если б я застал его в постели с моей старухой? А потом я по-прежнему слышал, как она тихо спускается с лестницы, и натягивал себе на голову простыню, стараясь не думать об этом, потому что поделать ничего не мог. И все-таки меня это бесило. А ведь сам я был не лучше. Даже хуже.
Быть может, из-за того, что я хотел чувствовать себя праведником перед моей старухой и наладить отношения с Дороти, я не встречался со Стеллой почти три недели, тогда как обычно мы виделись раз в неделю. Не скажу, чтоб это было легко. Легче было бы курить бросить. Но чем яснее я понимал, как я к ней привязан, тем больше проникался решимостью все кончить. Это привело к нашей единственной ссоре. Раз вечером я пришел с работы, напился чаю, поднялся наверх переодеться и, сам не знаю почему, выглянул в окно. Я подскочил чуть не до потолка, когда увидел на улице ее автомобиль. Она появилась, как живой укор. К счастью, моя старуха еще не вернулась с работы. Я кубарем скатился вниз и побежал к машине. Стекло было спущено, она курила сигарету, по-женски, быстрыми маленькими затяжками.
— Садись, — сказала она.
Губы ее были плотно сжаты. Машина тронулась, прежде чем я сел.
Мы проехали Шэлли-стрит, и у моста меня словно толкнуло что-то. Я оглянулся. Да, это был Носарь; он стоял на углу, вытаращив глаза. И представьте себе только, я сразу начала придумывать, что бы ему соврать, но потом решил, что Носарь умеет хранить тайну. Теперь просто не верится, что это могло меня тревожить, ведь в то время у меня были заботы поважнее. Машина на бешеной скорости пронеслась через весь город, и, хотя Стелла правила внимательно и ни разу не проехала на красный свет, она то и дело выскакивала из ряда, обгоняя передних и рискуя столкнуться с огромными желтыми дизельными грузовиками. Вырвавшись из города, она свернула на проселок и резко затормозила у реки.
— Ну вот, — сказала она. — А теперь дай мне сигарету. — Это прозвучало как приказ. Мы закурили. — Пойми, Артур, ты совершенно свободен. Я не стану тебя удерживать. Но ты должен быть мужчиной и сказать прямо, если хочешь порвать со мной.
Я уставился на свою сигарету.
— Из нее ты ничего не высосешь, — сказала она резко, едва сдерживаясь. — В конце концов у тебя было три недели, чтобы придумать какую-нибудь историю, — говори же, в чем дело? Ты… влюбился? — Произнеся это слово, она чуть не задохнулась. Я кивнул. — Почему же ты не сказал мне?
— Духу не хватило, — пробормотал я.
И тогда она мне выдала по всей форме. Сказала, что только подлец может так относиться к женщине, что она меня ничем не связывает и никогда не хотела связать, но надеялась, что я буду обращаться с ней как с человеком, а не как с рабыней. Она не плакала, и от этого мне было еще хуже. А потом она замолчала, белая как мел.
— Ты права, — сказал я. — Но у меня есть девушка, в этом вся беда.
— Тогда ты должен был мне сказать. Я не стала бы тебя удерживать. Ты просто трус.
— Не в этом дело, — сказал я.
И вдруг я понял, почему не сказал ей, — понял настоящую причину. Не хочу оправдываться. Я поступил скверно, струсил. Но теперь, глядя на нее, я вдруг понял отчего: мне хотелось невозможного. Я знал, что это невозможно, но все-таки желал, чтобы это сбылось.
— А в чем же, в чем? — спросила она настойчиво.
И тут я заплакал.
— Не хочу, чтоб ты жила одна в этом доме, не хочу расставаться с тобой, Стелла. Ох, как бы я хотел, чтоб ты была моей ровесницей!
— Господи! — сказала она, и лицо ее сморщилось.
Я привлек ее к себе и изо всех сил старался утешить единственным способом, какой знал. В конце концов мы бросили машину и пошли по берегу реки. Был теплый осенний вечер. Мы набрели на старый песчаный карьер. Если бы кто-нибудь прошел над нами, он принял бы нас за сумасшедших; мы оба были уверены, что в последний раз вместе. Теперь, когда прошли злоба и ожесточение, она была податлива и щедра, но до чего ж странно текут наши мысли. Я все думал о том, как жаль, что я никогда больше не увижу ее… А потом она сказала:
— Если б я могла вернуть себе лет двадцать, а ведь я не на столько старше тебя, мне пришлось бы много потерять. Я не могу пожертвовать Полли и всем остальным. Слава богу, это и не требуется… — Она помолчала немного, потом добавила: — Но я рада, что ты сказал это, мой дорогой.
И я рад, что запомнил это. Она высадила меня на окраине, и я доехал до дома на трамвае. Помню, как я глядел с моста на газовые фонари и крыши домов далеко внизу и думал, что брак — вовсе не бессмысленная штука. Привязаться к женщине, полюбить ее, почти не зная, — в этом есть глубокий смысл. И тяжело расставаться, когда знаешь, что это навсегда. И хотя я испытывал облегчение и был благодарен ей, никогда еще я не чувствовал себя таким несчастным.
3
Итак, я снова вернулся к своему детству, или, верней, к тому времени, когда едва начал выходить из детского возраста, и теперь меня окружала тьма еще гуще той, сквозь которую я вглядывался с моста. Всю эту зиму я проболтался впустую. Иногда проводил время с ребятами, иногда с Дороти и пастором. Носарь увлекся Терезой, и то ли ему было некогда, то ли не до того, но он больше не выдумывал отчаянных проделок, без которых ребята жить не могут. Келли со своими дружками тоже выбыл из игры, их связал по рукам и ногам молодежный клуб, открытый новым приходским священником, который вздумал заполнять их досуг диспутами, настольным теннисом, граммофонной музыкой и ирландскими народными танцами. Некоторые даже купили юбки в рассрочку. Я как-то не мог представить себе долговязого Мика в юбке и с голыми шишковатыми коленками, но говорили, что он так разгуливает.
Наша компания разваливалась, потому что не с кем стало драться, не было главаря, и ребят одолевала скука, но меня это не огорчало. Я был сыт по горло игрой в ковбоев и индейцев. Ходил как неприкаянный, мечтая о девушке и раздумывая, как вылезти из неприятностей на работе. Каждое утро я вскакивал с постели с таким чувством, будто попал в западню. День проходил за днем, и смена всегда тянулась мучительно долго, а вечер пролетал незаметно. Дело двигалось, и наш строительный участок все больше и больше походил на болото; я был в такой тоске, словно все время шел дождь. Мы работали ярдах в двухстах от реки, и меня охватывала печаль всякий раз, как я видел катер или большой, таинственный танкер, тихо скользивший по воде. Может, эти танкеры курсировали только между нефтеочистительным заводом на юге и нашей речкой. Но всякий раз, как я их видел, я думал о Персии и о жарком солнце. Иногда какой-нибудь бездельник на борту махал мне рукой, и у меня сжималось сердце.
Говорят, всюду в мире одно и то же, а кое-где и похуже, чем у нас; но я хотел бы, чтобы каждый мог сам в этом убедиться. А то у нас есть только телевизор или кино. Да еще приходится зарабатывать свой хлеб на этом вонючем участке под началом у жуликов вроде дяди Джорджа и Сэма Спроггета, которые норовят нажиться на том, что режут ягнят и стригут овец. А от этого совсем тошно становится.
Так что все это просто-напросто вонючая западня.
Тем временем шла оживленная переписка. Моего старика судили за двоеженство, и он получил суровый нагоняй от судьи, зато приговор был самый мягкий. Моя старуха с Гарри ходили к адвокату, и он им сказал, что дело о разводе пойдет как по маслу. Так что они тоже были заняты. Я все думал о своем старике, каково ему там за решеткой. Настроение у меня для этого было самое подходящее. Моя старуха раза два с ним виделась — один раз на суде, когда давала показания, а потом в тюрьме, куда пошла к нему вместе с его второй женой, — и оба раза он был веселехонек, шутил, как мясник, распродавший в субботу весь товар. Сказал, что читает, пополняет образование и что обходятся с ним хорошо. Моя старуха переписывалась с его женой каждый месяц. Бог её знает зачем.
Все были довольны. И Гарри с моей старухой и Носарь всякий раз, когда со мной разговаривали, словно прерывали какое-то увлекательное путешествие. Это ужасно неприятно — будто чуешь запах воскресного обеда и знаешь, что тебе ничего не достанется. А виноват сам. Мне могло быть не хуже, чем им, но я продолжал считать Дороти библейской праведницей. Всякий раз, как я касался ее, мне вспоминался тот первый вечер, когда я услышал ее голос, и я гнал от себя всякую мысль об обычных отношениях между юношей и девушкой.
А потом все полетело к чертям.
Однажды вечером, когда мы были в «Риджент», в бильярдную вошел Носарь. Я о первого взгляда почувствовал неладное.
— Что-нибудь случилось? — спросил я.
— Нет еще.
Я почувствовал, что он не расположен разговаривать, и весь вечер мы молчали. Сгоняли партию. Он все время курил, злобно тыкал кием, будто хотел вспороть сукно, и проиграл мне под сухую. Видно было, что он во всех смыслах сыграл под сухую. Я угостил его лимонной настойкой.
— Что с тобой, Носарь?
— Мик ее избил. И грозился еще побить, если она будет со мной встречаться.
— Удивляюсь, как он раньше ее не трогал.
— Я его убью! — сказал он. — Возьму у нашего малого револьвер и пристрелю его.
— У кого?
— У Краба.
— Этого только не хватало.
— С револьвером или без, а я с ним сочтусь, — сказал Носарь.
— И думать забудь. Да скажи своему брату, чтоб он от этой игрушки избавился — от них одни несчастья.
— Ладно, кончай каркать, — сказал он. — Только и умеешь учить. А чтобы помочь, как настоящий друг, так ты и пальцем не шевельнешь. И остальные тоже. Да вы жить и то боитесь!
Удивительное это дело — видишь ловушку и все равно попадаешь в нее.
— Ты что, меня не знаешь? — сказал я.
— Ладно, старик, — сказал он. — Буду на тебя рассчитывать. Когда я скажу, что надо потолковать с Миком и компанией, ты придешь. Договорились?
— Приду.
4
Говоря по правде, я боялся этого револьвера с той самой секунды, как услышал про него, и могу сказать почему. Вообще-то я не боялся оружия, оно мне, как и всем нам, с детства примелькалось. Пиратские пистолеты, из которых, казалось, стреляют, не заряжая, шестизарядные наганы, появляющиеся неизвестно откуда, как по волшебству; крупнокалиберные револьверы; блестящие автоматы и пистолеты с глушителями или без них; пистолеты-пулеметы, карабины, мушкеты, автоматические винтовки. Они казались такими же знакомыми, как ножи и вилки, хотя мы никогда не держали их в руках. Не считая кино, вблизи мы видели иногда ружья у охранников в поезде или у солдат на параде. Правда, один раз я увидел револьвер поближе. Летом мы со стариком Джорджем помогали маркировщикам на участке, и вдруг Джордж подобрал с земли пакет, завернутый в замшу и перевязанный ботиночным шнурком отличным шнурком, шиллинг пара. Джордж держал пакет осторожно, будто расплескать боялся. Наверно, он уже на ощупь почувствовал, что это. Помню, как он тихонько развязал шнурок и развернул замшу. А маркировщик тем временем орал:
— Эй, куда этот сукин сын запропастился? Где вы оба?
Он не видел нас, потому что мы стояли в низине, заросшей высокими кустами с клейкими почками. В пакете оказался пистолет военного образца, еще со следами смазки на рукоятке, красивый, весь блестящий, и, когда Джордж нажал на ствол, он легко переломился. Внутри был один патрон.
— Дайте поглядеть!
Джордж протянул мне пистолет. Он оказался тяжелее, чем я ожидал. Я заткнул его за пояс, потом снова вытащил и прицелился. Это все враки, будто из него можно навскидку стрелять, — очень уж он руку оттягивает. Если бы я спустил курок, то отстрелил бы Джорджу большой палец на ноге.
— Интересно, как он сюда попал? — спросил я. — Что за чудак его бросил?
— Если не ошибаюсь, из этого пистолета троих убили, — сказал Джордж, помолчав. — Давай-ка его сюда.
Упрашивать меня не пришлось.
— А кто убил?
— Это случилось лет пять или шесть назад, — сказал Джордж. — Была убита вся семья: жена, ребенок и муж.
— А кто это сделал? И зачем?
— Один болван хотел, чтоб жена убежала с ним. Она отказалась. Тогда он пришел и убил их; ребенок в это время сидел и сосал палец.
— А сам убежал?
— За ним гнались, и он даже не успел пустить в себя последнюю пулю или, может, просто передумал.
— Его поймали?
— Да, поймали и повесили, — сказал Джордж. — Но пистолета не нашли.
— Пожалуй, лучше отнести его в полицию.
— Не стоит, хлопот не оберешься, — сказал Джордж.
Он повернулся и крикнул маркировщику:
— Да заткнись ты бога ради!
Потом спустился к реке, держа в одной руке пистолет, а в другой — патрон. А когда он вернулся, маркировщик уже прибежал и крыл меня на все корки.
— Ну, кончил камешки в воду бросать? — спросил он Джорджа.
— Кончил, — ответил Джордж. — А вы всегда запираете дверь, когда глядите телевизор?
Нэтч, маркировщик, подумал, что он спятил, но я, кроме шуток, накрепко это запомнил. И теперь, когда я, случайно заглянув в окно, вижу картинку мирной семейной жизни, я всегда вспоминаю о том, что может натворить револьвер.
5
Но так или иначе я сдержал слово, которое дал Носарю, и пришел на драку. Она не была похожа на другие драки, такого я никогда больше не видел. И с этого началось нагромождение событий, которые чуть не раздавили меня. Прошло порядочно времени после нашего разговора с Носарем. Наступило рождество, потом новый год, а я по-прежнему вел двойную жизнь и ждал весны; уже приближалась страстная пятница, в которую все и началось. Когда я говорю «двойная жизнь», я не имею в виду ничего плохого. Я решительно порвал со Стеллой, но все еще ходил раза два в неделю в миссию к Дороти, а остальные вечера проводил с ребятами. Мне было нелегко, потому что я обращался с Дороти, как с фарфоровой куклой, и меня смущало ее поведение: то она так и заливалась веселым смехом, то бывала холодна, как замороженный коктейль, только без вишенки.
Но если сравнивать с Носарем, у меня все шло гладко и легко. Я по крайней мере мог видеться со своей девушкой, и относились ко мне хорошо. В сущности, неприятно было только одно — моя старуха и Жилец вбили себе в голову, что я по всем статьям юный влюбленный и вот-вот женюсь, а мне невыносимо было слышать всякие намеки, ведь я относился к ней как брат. А вот бедняга Носарь угодил прямо в чистилище. Побои, уговоры и религиозные соображения сделали свое дело, Тереза отвернулась от него, и вот теперь он каждый день виделся с ней на фабрике, касался ее, беря с машины коробки, а она его не замечала или по крайней мере делала вид, что не замечает.
Кроме того, он беспокоился из-за Краба и в особенности из-за револьвера. Дело в том, что револьвер исчез неизвестно куда, а Краб вконец дошел из-за этих самых денег. Носарь измучился, потому что Краб причал во сне, пьянствовал и творил черт знает что.
— Он убьет эту бабу, — сказал Носарь. — Вот увидишь, он ее пристрелит.
— Но ведь револьвера нет, — возражал я.
— Он его припрятал до времени.
— Уж скорее загнал кому-нибудь из приятелей.
— Не такие они дураки, чтобы возиться с револьвером, пускай даже незаряженным.
Я вспомнил старика Джорджа и револьвер, из которого были совершены три убийства.
— Может, он струсил и швырнул его в реку? — сказал я.
— Ну нет, шалишь. Краб не струсит.
Мы кончили этот разговор, но каждый день возвращались к нему, кроме тех редких случаев, когда накануне успевали выговориться. И разговоры все шли вроде:
— Как думаешь, есть смысл мне пойти и поговорить с ней?
— Никакого.
— Все-таки она женщина.
— Она вся ломаная. И мужиков ненавидит. Ей только одно нужно — мстить им.
— Но, может, если я пойду и расскажу ей, что с ним творится…
— Тогда она, чего доброго, предложит деньги тебе.
— Смеешься? — Но я только посмотрел на него, и он, помолчав, сказал: — Да, пожалуй, с нее станется, и тогда уж я ее убью, будь спокоен.
— Больно легко ты говоришь про убийство, Носарь, — сказал я.
— Таким уж родился. И воспитывали так. Всякий, у кого есть гордость, может убить.
— Ты не знаешь, что это значит — убить.
— А ты убил кого-нибудь?
— Нет, никого я не убивал, разве что в воображении, но все равно я понимаю, каково это.
— А я никогда не мог этого вообразить, — сказал он.
— Даже когда долговязый Мик нож вытащил?
Он подумал с минуту и покачал головой.
— Даже тогда, но еще минута, и я этот нож всадил бы в него.
— Тебе пришлось бы пожалеть.
— А ты почем знаешь?
— У меня есть воображение.
— А у меня сроду такой штуки не было, — сказал он. — Выходит, я хуже других? И на что оно нужно, это воображение?
— Можно все себе представить, — сказал я. — Нож, кровь, труп, суд, веревку на шее.
Он медленно кивнул, но в глазах у него было недоумение.
— Понятно, — сказал он. — Но я этого не вижу. А ты, значит, можешь увидеть, как это происходит?
— Да, со мной или с другим.
— И с другим? — Я кивнул. — А я, брат, не забиваю себе голову такой мурой, — похвастался он. — Если человек чего-нибудь стоит, он должен делать то, что нужно, иначе беда.
— Вот именно — беда, — сказал я. — Думать, как ты, да и Краб тоже, — это верный способ попасть в беду.
— Он поможет мне выпутаться, — сказал Носарь. — Или я ему…
Ну что поделаешь с таким человеком? Ничего — ровным счетом. Мне бы держаться от него подальше. Но не тут-то было. Когда пришло время, он меня уговорил. Я ехал домой с работы и увидел его на нашем перекрестке. Шел дождь, он сидел на корточках, прикрыв голову старым плащом, и смотрел, как течет вода в канаве. В эту минуту он был похож на старую цыганку, которая вот-вот протянет ноги, и мне до жути было его жалко, гораздо сильнее, чем потом, при другой встрече, когда ему предстояло пережить самую долгую ночь в его жизни и он хотел остановить время.
— Решил здесь ночевать, старик?
— Боялся, тебя прозеваю, — дело есть.
— Пойдем к нам, — сказал я.
— Нет, дельце слишком горячее. Твоя старуха от него вспыхнет даже через стенку.
— Ну ладно, тогда прыгай на багажник, отвезу тебя в тихое местечко, — сказал я ему.
И мы поехали к одному из разрушенных старых домов. Там так воняло, что пришлось все время курить.
— Ну, выкладывай, — сказал я.
Лицо у него было мокрое от дождя, глаза вытаращены.
— Она сегодня мне все сказала, старик. Тереза. Я подошел к ней, как обычно, когда дали гудок, надеялся, что она со мной заговорит, и она вправду заговорила.
— Выходит, все по новой закрутилось?
— Нет, покамест еще нет, но, может, и закрутится… Она сказала, чтоб я перестал на нее глазеть и ходить за ней хвостом, потому что у нее из-за меня и так довольно неприятностей, а я сказал, что я тут ни при чем. И тогда, брат, она мне выдала. «Да, — говорит, — тебе хорошо, а меня они поедом едят, моя старуха, и старик, и Мик; пристали с ножом к горлу, я и обещала».
— Значит, решено и подписано.
— Обожди. Потом она говорит: если хочешь быть со мной, заткни ему глотку, вместо того чтобы от него бегать, а я говорю: я только оттого бегал, что он твой брат, скажи одно слово, и он у меня получит.
— А она что?
— Она говорит: «Ладно, увидим, на что ты способен. Но это еще не все. Ради меня тебе надо обратиться…» В ее веру, значит. Я тогда говорю, что это не шутка, а она говорит, иначе ничего не выйдет, потому что она-то готова гореть из-за меня в аду, но дети как же? Ну, под конец я обещал.
— И ты вправду согласен?
Он подмигнул.
— Посмотрим, когда до дела дойдет.
— Ты сумасшедший, если обещал обратиться в другую веру из-за девчонки и еще вздумал жениться в твоем-то возрасте. Да она тебя просто-напросто на крючок подцепила!
— В общем такие дела, — сказал он. — Согласен ты мне помочь?
— Ради всех святых скажи, в чем?
— Его просят помочь, а он задает вопросы.
— Это не шутка. В чем помочь?
— Хочу его проучить сегодня вечером. Вот что я придумал: у них в церковном клубе танцы, и он будет там. Придем в пол-одиннадцатого, когда клуб закроется. Ну, они там еще недолго будут ошиваться. А когда Мик спустится по лестнице к пристани, с ним будет только один…
— Это — для меня?
— Люблю иметь дело с умным человеком. Возьмешь его на себя, а я займусь Миком. Никаких железяк или чего еще — и увидишь, как я его отделаю.
— А что тебе проку от этого?
— Заставлю его в переговоры вступить.
— Слушай ты, людоед, — сказал я. — Тебе только одно и нужно сделать — сказать ему, что ты согласен ради нее переменить веру, и ты будешь танцевать в церковном клубе, ходить к ним домой и пить чай.
Он покачал головой.
— Не подходит по двум причинам. Первое: он такой дуб, что его надо обработать как следует, чтоб Он стал уступчивей. Второе: он побил Терезу и грозил мне ножом.
— Но сегодня вечером я занят.
— Так я и поверил, что ты не можешь уйти с проповеди в десять часов. Скажи прямо, что не хочешь.
— Она меня ко всем чертям пошлет, если узнает.
Он встал и хотел уйти. Когда-то я ему правильно сказал: мне следовало бы проверить мозги.
— А этот второй, он какой из себя? Здоровый малый? — спросил я.
Так началась для меня веселенькая пасха.
X
1
Короче говоря, мы условились встретиться у пивной «Барбакан» в одиннадцатом часу. Мне еще пришлось выдержать бой: он хотел встретиться пораньше и выпить пива, а мне это вовсе не улыбалось. Я знал его характер и хотел сделать дело на трезвую голову. Конечно, я знал, что он все равно выпьет, и знал, что с характером его тоже ничего не поделаешь, но тем более считал, что по крайней мере я должен быть хладнокровен. Можете считать это чувством самосохранения. Во всяком случае, дело было именно так.
Пришла беда — отворяй ворота. Я вошел в миссию «Золотая чаша» с ощущением чистоты, свежести и уверенности, но через десять минут от всего этого и следа не осталось. Честное слово, я никогда не был согласен с ними насчет религии. Но куда денешься, порой какое-нибудь словцо тебя и зацепит. Я очень уважал пастора. Я чувствовал себя виноватым, что прихожу из-за его дочери, и он мне действительно нравился.
Редкой доброты был человек.
Еще в молодости он уехал из нашего города, долго скитался по свету и, наконец, попал в Лондон. Голодный и слишком гордый, чтобы просить милостыню, он бродил там как неприкаянный, а потом попал в «Колни-Хэтч», лондонскую свалку для психических. Не в самую больницу, конечно, а так, вертелся около нее. Потом он купил билет за пять фунтов и уехал в Канаду, а там батрачил года три на какого-то полоумного фермера, потом рубал уголь в западной Виргинии, где во время забастовки бог спас его от полиции, вызволил из шахты перед самым взрывом и спасал еще трижды. Под конец он попал в миссию Бронкса, где ему пришло в голову вернуться домой и начать самому проповедовать слово божие. Жена у него умерла. На его доходы не прокормиться и воробью, но он поет, как дрозд. Он родился добрым и сумел таким остаться.
В тот вечер он говорил в проповеди про святого Петра и попал не в бровь, а в глаз; всякий раз, как он смотрел на меня, у меня на душе кошки скребли, потому что я собирался бить ни в чем не повинного мальчишку; не Мика Келли, который, как бы его ни отделал Носарь, все равно заслужил еще больше, а того, который пойдет с ним домой и ничего плохого мне не сделал. Я не знал даже, как его зовут.
Если б я остался еще хоть на минуту, то уже не пошел бы никуда. Так что когда святой Петр стал греть руки у костра, я выбежал на улицу, а Дороти за мной.
— Куда это ты, Артур Хэггерстон?
— Мне надо повидаться с приятелем.
— Отчего ж ты раньше не сказал? Все удивились. И что подумает папа — ты ушел посреди проповеди!
— Мне очень жаль.
— Еще не поздно все исправить. Дело не только в проповеди — он мечтал сегодня сыграть с тобой в шашки.
— Мне очень жаль.
— Вот заладил одно и то же, придумал бы поновей что-нибудь. Ты даже не извинился.
Я молча посмотрел на нее.
— Глупый ты, глупый, — сказала она. — Скажи хоть, что это за приятель.
— Один из наших ребят, — пробормотал я.
— Тот, противный, которого ты приводил в прошлом году?
— Твой отец так не сказал бы.
— Ну, кто-то должен сказать тебе правду для твоего же блага.
— Он человек, у него тоже есть бессмертная душа.
— Я этого и не отрицаю. Но он делает все, чтобы ее погубить. Это сразу видно. Всякому видно, что он пропащий. Он плохо кончит и тебя втравит в беду. — Голос ее стал мягче. — Не ходи, Артур. Останься со мной. Мы не пойдем в церковь, будем гулять. Ведь тебе со мной приятнее, чем с ним, правда?
— Я дал слово.
— А если я тебя на коленях попрошу, тогда останешься? — Она подошла ко мне вплотную, взялась за отворот моего пальто и смотрела на меня широко открытыми умоляющими глазами. — Не откажешь мне?
— Ты же знаешь, Дороти, что я хотел бы остаться с тобой.
— Забудь про него.
— Я должен сдержать слово. Мне очень жаль.
Она положила голову мне на грудь. За дверью зазвучал гимн: «Веди меня, о великий Иегова, паломником по грешной земле…» Я поцеловал ее глаза. Она протяжно вздохнула: «О-о!» — и мои губы скользнули по ее щеке и губам.
Вы не поверите, но, если подумать, все было проще простого. Я был гангстер, сыщик, шериф, который должен идти на опасное дело. Но можно было повернуть это и по-другому. Мы в Старом городе привыкли держать слово, ничего не бояться и стоять за товарища. А кроме того, и это главное, меня тревожило, что будет с Носарем, если я не приду, что он мне потом скажет и каким трусом я прослыву, когда все про это узнают. В общем я отстранил ее и ушел. Глаза ее все еще были закрыты. Я даже не попрощался. Знал, что это конец. Если б она побежала за мной или хотя бы окликнула меня, я вернулся бы и избавился от многих несчастий. Но она этого не сделала.
Было половина девятого, у меня оставалось почти два часа, и я решил пройтись. Я пошел на восток. Было темно и холодно. У «Ново-Орлеанского джаз-клуба» я повернул на юг, и меня долго провожал дрожащий звук трубы, острый как нож, но я еще не совсем утратил вкус к жизни, и мне захотелось научиться играть на трубе, извлекать из нее чудесные звуки и избавиться от тоски. Ничто так не выражает тоску, как труба, а выразить тоску — значит от нее избавиться, это я точно знаю. Я спустился по склону, мимо миллиона темных окон и тысяч кошек, услышал пронзительные гудки угольных судов, требовавших, чтобы развели мост, и пошел к реке. Вода была густая и черная, как нефть. Я видел огромную дугу моста и машины, мчавшиеся по нему с бешеной скоростью. И хоть бы один несчастный огонек из многих тысяч мигнул мне. Я присел на какую-то лебедку и стал смотреть на реку. Не знаю, сколько я так просидел. Мимо проплывали бревна, я насчитал их тридцать восемь. А потом, тихо покачиваясь, проплыла пятнистая собака с раскинутыми лапами.
И вдруг мне представилось, что я сам был этой старой пятнистой собакой, когда она была еще живая, конечно. И меня бросили за борт. Сначала я был маленьким человечком, который метался в ее черепе. Над головой у меня что-то светилось — ярко, как лампы дневного света в метро, а пониже были два глаза-иллюминатора. Я несколько раз обежал эту каюту в ее черепе и чуть не задохнулся — вонь стояла такая, хоть ножом режь, и запах был какой-то незнакомый. Потом присел в углу и решил, что, раз я все равно здесь, надо привыкать, и помаленьку привык. Немного погодя мне даже начали нравиться некоторые запахи, и я стал принюхиваться. Потом прыгнул вверх, к свету, хотел посидеть у огня. Но это был не огонь. Это было что-то липкое, и я увяз, как муха, меня стало засасывать. Я смотрел сквозь иллюминаторы, а может, они смотрели сквозь меня, и я увидел нижние жердины загородок, обочины тротуаров, траву; а внизу, как конвейер, убегало назад гудроновое шоссе. Работая всеми четырьмя лапами, я мог то стронуть его с места, то остановить, заставить двигаться медленнее или все быстрей и быстрей. От глаз мне было мало толку, но нюх у меня был, а нюх вполне заменял глаза. Я учуял цыплят, прыгнул, и сразу полетели перья; но это была только забава, и я сразу бросил ее, как только показались ботинки и манжеты на брюках. И тут я научился вилять хвостом, а ботинок пнул меня.
В воде была тьма тьмущая. Я не мог пошевельнуться. Вода была всюду — снаружи и внутри. Запахи исчезли, свет гас, меркнул с каждой секундой. Все мягкое вокруг меня стало черным и твердым, как камень. И меня свела последняя судорога, я весь изогнулся, раскинул лапы. Вода хлынула в меня, я задыхался, и не было радио, чтобы позвать на помощь. Для собак нет царствия небесного, а по реке долго плыть до моря. Начинался прилив. Тьфу, наваждение! Наконец-то оно кончилось, и я, выдернув жердь из загородки, оттолкнул пятнистую собаку подальше от берега; она поплыла, и хвост ее раскачивался на воде…
Я еле дождался четверти одиннадцатого. А потом часы бешено завертелись, словно время, как пятнистая собака, припустилось бегом на всех четырех лапах. У «Барбакана» нам делать было нечего, мы сразу ушли и спрятались в развалинах старого дома, на лестнице, футах в пяти над землей.
— Надеюсь, они не пойдут другой дорогой, — сказал Носарь. Он был весь желтый, и от него разило пивом.
— Значит, засада?
— Можешь назвать это нечаянной встречей. Только разговор у нас будет короткий, мы им с ходу вложим ума.
— Думаешь, ты с ним справишься?
— Обо мне не беспокойся, я все обмозговал.
— А вдруг у него нож?
— На танцы он с ножом не ходит.
— А у тебя правда ничего нет?
Он щелкнул языком.
— Слушай, друг, положись на меня. Сказал я тебе, не будет никакого железа, ты что, хочешь обыскать меня с магнитом?
— Ладно, верю на слово.
Наверху, у лестницы, послышались голоса и смех.
— Глянь по-тихому из-за угла, надо убедиться, что их только двое, — сказал он.
Один был длинный — Мик, а второй пониже, этого я должен был взять на себя. Он насвистывал какой-то мотив и бодренько скакал по лестнице. У него были крепкие ноги, как у прирожденного боксера, и свистел он чисто, звонко и очень правильно.
— Двое. — Обернувшись, я увидел, как он что-то быстро спрятал за спину. — Ты же обещал, что железа не будет!
— Заткни трубу!
— А я, дурак, поверил…
— Вот чего: или не вякай, или беги отсюда.
Я твердо решил, что не дам ему пустить в ход эту железяку. Довольно он мне мозги вкручивал. Мик и его приятель были теперь почти под нами, я схватил Носаря за руку. Но вырвать эту холодную штуку я не мог: она была словно приварена к его пальцам.
— Пусти, сволота! — прошипел он и схватил меня за горло. Я оторвал его руку и стал выкручивать — в тот миг я хотел только одного: сломать эту руку, причинить ему боль. Он выронил железяку. Она стукнулась о лестницу и покатилась вниз по ступеням. Мы замерли. Стук был очень громкий. Свист оборвался. Тот, второй, вскрикнул:
— Кто это?
Носарь корчился рядом со мной. Это его смех так разбирал.
— Кошки, наверно, — сказал Мик.
— Пускай пройдут, — шепнул мне Носарь.
Второй снова засвистел, но как-то неуверенно. Почуял неладное. Их длинные тени плясали по земле; вот они поравнялись с нами.
— Пора! — шепнул Носарь и прыгнул.
Но, видно, неудачно прыгнул — я услышал стон; потом он сказал, что напоролся на локоть Мика. Второй сразу присел, как боксер, приготовился защищаться, а про Мика и думать забыл.
Я спрыгнул на землю и сказал ему:
— Беги! — Он побледнел. «Ну, с этим справиться — раз плюнуть», — подумал я и толкнул его: — Жми по-быстрому!
Он отпрыгнул и ударил меня правой в грудь, чуть с копыт не сбил, а потом врезал левой.
Я услышал крик Носаря:
— Артур, выручай!
Но мне было не до него: этот малый молотил меня за милую душу. Надо правду сказать, боксер он был хороший, но очень уж увлекся, оступился и — хлоп! — полетел вниз. Шмякнулся он крепко, и я решил, что с него хватит. Носарь стоял на коленях, схватившись за живот, и голова у него поникла, как увядающая лилия, только не хватало ему воздуха, а не воды. Я сразу понял: главное — не дать Мику снова ударить его ногой, но побоялся отвернуться — а вдруг он у меня за спиной нож вытащит. И тут я наступил на кастет. Я поднял его и надел, — он был мне точно по руке, — и увидел, что Мик уже занес ногу. Я перехватил ее левой рукой, выпрямился и въехал ему в челюсть. И до чего ж это было приятно — никогда не забуду. Чистая работа — даже звон пошел, как будто битой по мячу ударили, и этот тип сразу с копыт сковырнулся. Рухнул, как старая печная труба. И вдруг мне страшно стало, я сразу весь сник. Он лежал, как мешок с картошкой, и перевернуть его у меня силенок не хватило. Я взял его за руку и попробовал нащупать пульс. А тот, второй, смотрел на меня снизу.
— Суки, так вас и так!.. — крикнул он. — Вы его убили!..
— Ни хрена ему не сделалось, — услышал я свой голос. — Пошли, Носарь. Надо рвать когти.
— Все равно я вас запомнил, — сказал он.
Носарь встал, все еще держась за живот.
— Поговори еще, — сказал он. — Пикни только, душу выну!
Видя, что нас теперь двое против одного, тот малый заткнулся. Но я знал, что молчать он не станет. И боялся, как бы Носарь еще какой-нибудь номер не выкинул.
— Идем, — сказал я.
Но прежде чем мы дошли доверху, тот, второй, как дунет вниз по лестнице. Мы тоже — только в другую сторону. Даже на шоссе, где было полно машин, мы не остановились, нам в тот вечер казалось, что мы сами любую машину сшибить можем. Две машины резко свернули, может, чтоб нас не задавить, а может, потому, что это, наверно, было дикое зрелище: Носарь бежал, скрючившись и держась за живот, как обезьяна, наряженная в костюм, и корчил гримасы от боли. Далеко за Венецианской лестницей мы остановились и пролезли через дыру в заборе. Он хотел сразу же сесть, но я ему не позволил — не забыл, как тот, второй, припустил вниз, и знал, что скоро все они сюда сбегутся. Мы дошли до пристани, еле держась на ногах. Я остановился только у старых складов, за которыми нас не было видно ни с одной из береговых дорог.
Носарь лег животом на холодные камни и лежал так, покуда не пришел в себя. Я, нахмурясь, смотрел на него.
— Есть вещи похуже ножа, — сказал я.
Он повернулся на бок.
— Поэтому я и взял кастет.
— Но ведь ты обещал!
— Хорош бы ты был без него. — И он снова начал смеяться. — Ну, брат, еще неизвестно, кого этот удар больше порадовал, тебя или меня. Слышу треск, поднимаю голову и… Эх, видел бы ты себя!
— А у него ножа не было, — сказал я, не слушая его.
— Ох, умора! — хохотал он. — Посвети-ка спичкой старик, руки саднит. — Обе руки у него распухли и почернели. — Жалеет небось теперь, что кованых ботинок не надел, — сказал Носарь. — Переломал бы мне косточки.
Спичка погасла, но странное дело — я успел заметить, что он больше смотрел на меня, чем на свои руки, — хороший генерал всегда прежде всего думает о солдатах.
— Чего ты смеешься?
— Священник у них все железяки поотбирал; на что хошь спорю. Мик теперь их назад попросит.
Я промолчал. Вон как все обернулось — теперь, если с Миком что случится, мне отвечать.
— Кончай, — сказал он. — Чего сидишь, как памятник?
— Думаю, какой ты гад…
— Потому что я тебя надул? Так ты же знаешь, как я в тебя верю. Конечно, мог бы позвать Хоула или Малыша, а вот позвал тебя — хотел в лучшем виде все провернуть. И провернул благодаря тебе.
— Нужна мне твоя благодарность, — сказал я. — Купил ты меня в лучшем виде, вот что… Дураку ясно — Тереза вовсе и не просила тебя его бить.
— Верно, я тебя и здесь купил. — Он перестал смеяться. Я затронул его больное место и знал это.
— Ладно, — сказал я. — Нечего теперь и толковать, но я ведь мог в тюрьму загреметь, так что не мешало мне знать все, как есть.
Он все не вставал с земли. А я разозлился не на шутку, вскочил и давай на него орать.
— Ладно, — сказал он. — Тогда знай, Тереза влипла. Сейчас уже три месяца…
— Дурак, бестолочь! — сказал я. — Поможет ей драка с Миком? Возьми да женись на ней!
— Не могу, — сказал он.
— Что ж тебе мешает?
— Предки ее, — сказал он. — Я думал, ее старуха придет поговорить с моей, как водится. Как же, держи карман! А Тереза ушла с фабрики. Тогда я поплелся к ним домой. Вонючий ирландский свинарник. Сказал, что хочу жениться на ней. Мика и старика ихнего не было, а старуха, знаешь, что сказала? Сказала: пускай лучше Тереза в аду сгорит, чем выйдет за такого мерзавца, и они заставили ее уехать…
Я обалдел. Чтоб посчитать парня недостойным жениться на девушке, которая попала в беду, — это никак у меня в голове не укладывалось. И в первый раз за этот вечер я ему посочувствовал.
— Знаешь, что она сказала? Убирайся, говорит, вон из моего дома, мразь! Мразь!
— А ты что?
— Потопал восвояси, и все дела… Жаль, что я сам не стукнул его кастетом — тут бы ему крышка.
— Слава богу, что не стукнул, — сказал я.
— А ее я больше никогда не увижу, — сказал он. — Никогда.
И я понял, что он это твердо решил. Испанская кровь в нем заговорила.
— Не зарекайся.
— Вот увидишь, — сказал он. — Увидишь! Теперь я на ней не женюсь, пускай хоть на коленях умоляет.
Больше говорить было не о чем. Мы посидели еще с полчаса, и вдруг я заметил, что кастет все еще у меня на руке. Я снял его. Он был весь липкий. Мы сидели на узкой дорожке шагах в двадцати от реки, но я не промахнулся. Услышав всплеск, Носарь поднял голову.
— Эх, где я теперь другой достану! — сказал он.
— Это уж твое дело, старик, — сказал я. Он засмеялся. — Кончай смеяться. Может, Мик там мертвый лежит.
— Чтоб его убить, десятифунтовый молоток нужен! — Я отвернулся. Он положил руку мне на плечо. — Брось, старик, — сказал он. — Он сейчас небось чаи распивает.
И я ему поверил. Через несколько минут мы вышли со склада и, перейдя через шоссе, спустились в овраг. Там не было ни души. Носарь стал насвистывать «Полковника Боги», и я против воли пошел с ним в ногу и подтянул ему. Наши шаги гремели по булыжникам, как барабанная дробь. Мы промаршировали через горбатый мост, поглядели вниз и увидели отражение луны как раз под старым велосипедным колесом. На склоне холма светилось одно-единственное окно — в доме Неттлфолда.
— Интересно, там ли Краб? — сказал Носарь.
— А мне это вовсе неинтересно.
— Странное дело, — сказал он. — Дверь открыта.
— Может, они комнату проветривают?
— Ну нет. Старик Чарли должен уже быть дома. — Он стоял, кусая ногти, а я пошел дальше. — Артур. — Я не остановился. — Артур, ты слышишь? — Что-то в его голосе заставило меня остановиться и прислушаться. Да, я услышал… он подошел и схватил меня за руку. — Ты когда-нибудь слышал такое?
И мы стали прислушиваться вместе.
— Пойдем посмотрим, что там.
— Наверно, старик Чарли собаку бьет, — сказал я. — Надрызгался небось, как сапожник. Лучше нам туда не соваться.
— Нет, это не собака.
Я знал, что он прав, и мне хотелось убежать. Сроду я не слыхал таких звуков.
— Пойдем отсюда.
— Там что-то случилось, — сказал Носарь. — Надо посмотреть.
Мы поднялись на холм.
— Что-то собака не лает на нас, — сказал Носарь.
— Может, она в доме.
— Они ее в дом не берут.
В дверях показался человек, и мы сразу присели. Сквозь загородку нам были видны только его брюки и ботинки, из открытой двери шел свет, и ботинки тускло поблескивали, знаете, как эти штучки на вербе: они были желтые, замшевые. Мы видели, как человек повернулся и поглядел назад. Он молчал.
— Пойдем отсюда, — прошептал я.
Слышно было, как человек резко повернулся.
— Кто здесь? — сказал он.
Он не прислушивался, не то наверняка услышал бы, как сердце у меня выпрыгнуло из груди, словно камень из гейзера. Я узнал его голос. Он прошел через двор к изгороди.
— Бежим!
Носарь так стиснул мне руку, что чуть не раздавил ее.
— Господи, — сказал человек.
По его голосу я догадался, что это он издавал те звуки — плакал. Он подошел к двери и закрыл ее, а мы тем временем тихонько отползли от изгороди. Теперь мы не видели его за кучами железного лома, но опять услышали его шаркающие шаги; постояв в нерешимости, он вернулся к двери и вошел.
И тогда мы поползли что было сил.
Пока он был в доме, оттуда не донеслось ни звука. И почти сразу он вышел, не глядя по сторонам. А отойдя шагов на двадцать, побежал. Мы видели, как он выбежал на мост, а там почему-то остановился и поглядел вниз, наг воду.
— Нет! — прошептал Носарь, задыхаясь.
Только зря Носарь испугался. Человек постоял и побежал дальше.
— Ты узнал его? — спросил Носарь. Я кивнул. — Смотри же, Артур, ты ничего не видел!
Мы встали и пошли назад, к воротам. Теперь мы поняли, зачем он возвращался. Свет был погашен.
— Гляди! — сказал Носарь.
Но я уже все увидел сам. Овчарка лежала на боку, с высунутым языком и вывернутой шеей. Цепь висела свободно, но видно было, что она вытянута во всю длину. Из дыры в голове текла кровь.
В доме было тихо.
XI
1
Потом я узнал, что этот день называется «великий четверг». Когда-то в древности цари выходили по таким дням из дворцов, омывали ноги беднякам и раздавали милостыню. Унижали себя. Вот смехота.
Великий четверг принес мне унижение, которого я не хотел и на которое я, можно сказать, сам напросился. Я поздно лег и долго ворочался с боку на бок, а когда пришло время идти на работу, никак не мог заставить себя встать. И не то чтобы у меня глаза слипались. Я лежал, свернувшись клубком, подобрав колени к животу, и знал, что это не кошмарный сон, но все еще надеялся, что я снова засну и когда проснусь во второй раз, то все уже будет как следует. Я лежал так с тех самых пор, как прозвонил будильник, слышал, как моя старуха встала и спустилась по лестнице, как она возилась на кухне, как закипел чайник: каждый звук был как будто удар маленького молоточка, который меня будил. Мне хотелось умереть. Но я не умер.
— Господи, нелегко тебя поднять, — сказала она. Глаза у нее были холодные, желтые, да еще эти гнусные папильотки — я их всегда ненавидел, даже когда еле мог дотянуться до ее юбки.
— Уж ты на этот счет постаралась.
— В чем же дело, — сказала она. — Валялся бы еще. Ты можешь себе это позволить. На работу тебе наплевать, только бы до вечера дотянуть. И никто не смей слова сказать — это, видите ли, не наше дело.
— Вот именно, не ваше.
— И когда ты образумишься? Возьмись, наконец, за ум. Не будь дураком. Я из-за тебя места себе не нахожу.
— В этом паршивом доме никогда спокойно поесть не дадут.
— И не дам, пока не образумишься, — тараторила она. — Вот скажи, где ты был вчера вечером?
— Я уже сказал — в «Золотой чаше».
— Значит, это там ты так вывалялся? Ну за кого ты меня принимаешь — за дурочку какую-нибудь?
— Ага, сама признаешь!
— Валяй! — крикнула она. — Издевайся над родной матерью! С матерью ты герой, но только, если ты не возьмешься за ум, не миновать тебе беды.
— Ну и пусть, — сказал я, бросил вилку и встал из-за стола. — Мне не привыкать, в этом доме меня ко всему приучили.
Когда я уходил, она плакала. У меня дрогнуло сердце. Вот и будь тут непреклонным. Когда женщина сидит в углу, ни слова не говорит и только плачет — пиши пропало.
Но меня ждали неприятности похуже.
После этой ссоры я ехал медленно, поглощенный своими мыслями, и на десять минут опоздал на работу. Спроггет устроил мне тепленькую встречу. Он с криком выскочил из сарая, и сразу все придурки, кроме старого Джорджа, принялись колотить по железу. Я прислонил велосипед к сараю и ждал, пока эта музыка кончится. Небо было, как вороненая сталь, да еще понизу стлался какой-то ползучий туман, придавая еще больше мрачности развалинам фабрик, электростанции и голой земле. Вода в реке была густая, как патока. Спроггет явно нацелился сыграть героическую роль на фоне этих декораций.
Он рыскал вокруг меня, как волк.
— Ты что, всю ночь кутил? — вкрадчиво спросил он. — Или, может, просто не спал, о работе думал?
— Вы бы сами лучше об этом подумали, — сказал я.
— Тебе, я вижу, хочется уйти домой и больше не возвращаться.
— Сразу стало бы легче дышать.
— Нам, а не тебе, — сказал он. — Ты тут бездельничаешь, вбил себе в голову всякие дурацкие мечты и думаешь, что все будут перед тобой на задних лапках ходить. Так вот, мой мальчик, скоро ты проснешься. Пробудишься от своего приятного сна и увидишь, что напрасно считал себя петухом на навозной куче.
— Что ж, не только для меня может расплата прийти.
— Конечно, если только ты еще будешь здесь, а не получишь к тому времени повышения, — сказал он. — В Борстал, скажем, или другой какой первоклассный колледж…
— Это за что же в Борстал?
— А за драку, — сказал он. — За то, что ты избиваешь по ночам невинных ребят кастетами да велосипедными цепями. Вы не хуже настоящих гангстеров, — здорово порадовали старого Джо Келли — я как раз пил с ним пиво, когда ему сказали, что его сын лежит на улице. Старик бросил кружку, вскочил и бежать. — Он тихо засмеялся. — А когда он увидел, как мальчишку отделали, так помчался прямо в полицию, мы и оглянуться не успели, как подъехала полицейская машина и твою фамилию записали… — Он помолчал. — Ну, что скажешь? Теперь небось прикусил язык? — Он уставился на меня. — А что, если гости из полиции будут ждать тебя сегодня вечером на дому? Они вежливенько с тобой потолкуют… и ты во всем сознаешься… тихо-мирно, без шума.
Надо было браться за работу. И я был рад этому. Двое работяг ушли в отпуск, и я спустился к старику Джорджу на дно канавы. Ночью прошел дождь, а насос ни к черту не годился, еле качал. Мы снимали двухфутовые слои земли со дна и стенок, то и дело натыкаясь на породу, которую старик Джордж называл каменным известняком. Через полчаса ноги у нас промокли, и сами мы тоже промокли до костей. В сырую погоду с этими пневматическими молотками совсем беда: от них немеют и болят руки, и к тому же они плюются мелкими каменными осколками величиной с кофейные зерна, которые летят прямо в глаза и в нос, попадают между ладонями и рукоятью. В общем сам роешь себе могилу по первому разряду, а кирки и лопаты звучат, как адский оркестр. Время от времени я встряхивался и с тоской слушал эту музыку, а потом меня, как катапультой, снова отбрасывало назад, к моим мыслям. Я думал о полисменах и судьях, о том, что скажет моя старуха, когда узнает, как крепко я запутался, и вдобавок ко всему меня еще притянут свидетелем по делу об убийстве.
Носарь сказал мне на прощанье: «Держи язык за зубами, старик».
Но они, конечно, дознаются. Уж они-то сумеют докопаться и вытянут из нас все. Ну, может, из Носаря и не вытянут, а уж из меня наверняка. Усадят меня на стул, чтоб лампа слепила глаза, и будут допрашивать до тех пор, пока я не скажу все. А потом я буду дожидаться в специальной комнате, покуда не выкликнут мою фамилию, и тогда я войду, и все будут на меня смотреть: адвокаты, присяжные, судья (с очками на кончике носа), родители Носаря, вся ихняя семья и, наконец, сам Краб.
Будут смотреть долго, пристально. И я припомню тот первый день в овраге, когда мы с Крабом лежали на солнце и говорили про конфеты.
А потом я вспомнил, что Носарь сказал еще: «Ему уже девятнадцатый год пошел; он застрелил ее, и его за это могут повесить».
Почти все утро Спроггет стоял, засунув руки в карманы, и следил за нами. Под конец он мне надоел хуже горькой редьки. Я выключил пневматический молоток и крикнул:
— Прислали бы сюда механика насос наладить, а то стоите, как господь бог.
— Этот насос еще ничего, в Дартмуре хуже, — сказал он и ушел.
— Ты тоже был там вчера вечером? — спросил старик Джордж. Я кивнул. — Дурак ты после этого.
— Я не знал про кастет, — сказал я.
— Все равно дурак, — повторил он.
— Не ваше дело, — огрызнулся я.
— Теперь ты понял, каково это — бежать? — спросил он и, нагнувшись, включил молоток. — Понял, что чувствовал тот учитель, когда вы его травили?..
— Вы тоже против меня, Джордж?
Он покачал головой.
— Жаль, что ты в это дело впутался, мальчуган. Худо, когда человек с пути сбивается… Пора уж тебе за ум взяться. Хватит глупостей. Подумай, что ты делаешь. Ведь ты мог бы выбиться в люди, как мой племянник, быть получше его. Стать образованным и не топтать никого ногами.
Я любил этого старика, но был слишком подавлен, чтобы признать его правоту. Мне тогда казалось, что я безнадежно увяз. И теперь уж не выбраться. Разве что смыться, прежде чем меня схватят и предъявят обвинение. Я представил себе, как Мышонок Хоул, Балда и остальные ребята на всю жизнь прилепят мне прозвище похуже Красавчика — что-нибудь вроде Легаша, или Стукача, или Фискала.
Один раз подошел дядя Джордж и постоял, глядя, как я работаю. Руки он держал за спиной, а глазами словно оценивал меня; кажется, он даже языком прищелкнул. А в полдень, когда мы сделали перерыв, чтобы закусить, он подошел и сказал:
— Говорят, тебе скоро придется расхлебывать кашу.
Я весь похолодел и с трудом выдавил из себя:
— Это мы еще посмотрим.
— Конечно, — сказал он. — Посмотрим, мой мальчик.
«Ясное дело, мне уж не выпутаться».
— Хорошо же ты бережешь честь семьи.
Обидней всего была несправедливость. Они со Спроггетом, — что ни неделя, снимали сливки, наживали по шиллингу на рейсе каждого грузовика, шли в тихую пивную, которую я не стану называть, и сидели в задней комнате, а потом к ним подсаживался еще один мазурик, заказывал пинту пива, выпивал ее не спеша, а когда он уходил, в кармане у дяди Джорджа оставался пухлый конверт. И эти ханжи еще болтают об охране общественных интересов, и, может, некоторые из них будут сидеть среди присяжных, вместе со всякими воротилами, у которых в одном кармане столько денег, сколько дяде Джорджу и Сэму не снилось; этим-то начхать на трудных детей, они могут позволить себе такое удовольствие, им небось и в голову не приходит, что их барыши ничем не лучше краж у нас на окраинах.
И, может, какой-нибудь сучий бригадир или другой солдафон из бывших, в форменном галстучке, тоже туда явится, а за такими стоит вся эта жуткая махина, которая начиналась с ядовитых газов и дошла до тактического оружия, как называют теперь эти миленькие атомные и водородные бомбы.
Все они будут сидеть, уткнувши в стол рыла, которые небось только что вытащили из корыта, куда залезли с руками и ногами.
Оттого, что ты все это знаешь, тебе, конечно, пользы никакой нет, и все равно, узнал ли ты это на опыте, как я, или всосал с молоком матери, как Носарь и другие ребята. Я выбрался из канавы, залез в кабину экскаватора, отдельно от всех, и стал жевать хлеб из спрессованных опилок с безвкусной ветчиной.
И вдруг застыл, не донеся до рта надкусанный бутерброд. Над ухом у меня раздался голос:
— Ну, как делишки?
Это был Носарь.
— Погорели мы, — сказал я. — А ты почему не на работе?
— Чего я там забыл? — сказал он. — Я нашего малого искал. Его нигде нет. А нам ничего не будет, только помалкивай.
— Да я не про это. Тут другое. Старик Келли вчера вечером в полицию ходил…
Носарь поднял брови.
— Мне бы твои заботы…
— Они из нас все вытянут, Носарь.
— Ни хрена не вытянут, если не будем терять головы… а он тем временем удерет подальше.
— А это было то, что мы думали?
— Сегодня утром чуть свет туда прикатили две машины с легашами. Там теперь сыщик на сыщике…
— Но ты, конечно, туда не ходил?
— Успокойся, не такой я дурак. Просто прошел по мосту и глянул мимоходом.
— Что же делать?
— Сидеть тихо, вот и все. Да помалкивать. Как будто ничего и не было.
— Тебе хорошо, — сказал я. — Ты небось к этому привык.
— К чему я привык? К убийству? К тройному убийству? — сказал он тихо.
— Господи… Почему к тройному?
— Мужчина, собака и женщина, — сказал он так небрежно, что у меня все нутро перевернулось. — Этот старый паралитик сам полез под пулю, принесли ж его черти домой не ко времени.
— Они быстро дознаются, кто…
— Теперь все как в шахматах, старик. Я вчера весь вечер думал. Он у них на подозрении, но пока то да се, его поминай как звали. А если он попадется…
— Ну?
— Если попадется, надо будет путать карты. Если узнают, что мы видели, ему крышка. Поэтому молчи как могила, понял? — Я кивнул. — Будешь держаться? Не струсишь?
— Постараюсь, — сказал я и понял, что от него не укрылась моя нерешительность.
— Смотри, а не то пожалеешь, — сказал он. — Тогда твоя песенка спета. Потому что — слушай меня хорошенько, старик, — если его повесят из-за тебя, тебе тоже не жить. Запомни.
Не улыбнувшись и даже не кивнув мне, он пошел к реке; на последнем пригорке, перед тем как спуститься в лощину, он обернулся. Даже издали он сверлил меня взглядом. И я понял, что выдам я его брата или нет, он мне все равно враг. Наша дружба гроша ломаного не стоила. Весь мир был его врагом, а я в особенности, потому что меня он знал как облупленного.
2
Наверно, я и сам сделал бы это, но они оба в конце рабочего дня подписали бумажку и запечатали ее в конверт. Был день получки, да к тому же канун праздника, и нас отпустили на четверть часа раньше. Я был пятым или шестым в очереди.
— Прочитай-ка записку в конверте, — сказал Спроггет.
Я вскрыл конверт. Мне не сразу удалось выудить бумажку Она была желтая, хоть и без черной каймы, так что я сразу понял, в чем дело. Увольнение, пинок в зад, вышибон — называйте, как хотите.
— За что? — спросил я.
— Видишь ли, работа здесь почти кончена, и мы проводим сокращение, — сказал Спроггет.
Он с трудом скрывал улыбку.
— Вас не спрашивают, — сказал я. — Я спрашиваю у своего дяди Джорджа. За что?
— Он же сказал, — ответил дядя Джордж с каменным лицом, которое я мог бы легко сделать подвижнее.
— В таком случае, кого еще уволили?
— Больше никого.
— Я это вам попомню, — сказал я. — Только дурак мог просить у вас работу. — И я повернулся к остальным. — А куда профсоюз смотрит? За что я платил четыре шиллинга в месяц? — Все, в ком еще была жива совесть, уставились в землю, а дружки Сэма засмеялись. — Ладно, — продолжал я. — Все ясно — меня выгнали, потому что я не из шайки сорока разбойников.
— Заткнись, мальчишка, — сказал дядя Джордж.
Он избегал смотреть мне в глаза. Следующий в очереди протиснулся мимо меня, и они продолжали выдавать зарплату. Называли фамилии, расписывались, отпускали обычные шуточки, все двигалось, и только я стоял, как камень, вросший в землю, на который никто не обращает внимания.
Когда я вышел из сарая, в глазах у меня стоял туман и я не мог сесть на велосипед. Я стал пешком взбираться на холм. Я был до смерти измучен, до смерти напуган, так сказать, испил чашу до дна. Не знаю, как я не бросил велосипед. Мне хотелось только одного — уйти куда-нибудь подальше и, пожалуй, хорошенько выплакаться.
— Эй, Артур! — Это был старик Джордж. — Я уже минут пять тебе кричу, — сказал он с упреком.
Я извинился перед ним и снова спрятался в свою раковину, как улитка, когда ее тронешь. Для меня никого на свете не существовало, кроме меня самого и моих несчастий.
— Жаль, что так вышло, — сказал он. — Но послушай, малыш, не принимай это близко к сердцу: могло быть хуже.
— Переживу, как-нибудь.
— Пришла беда — отворяй ворота, — сказал он, качая головой.
— Это вы к чему?
— Я слышал, что тебе говорил твой приятель, — сказал он. — Я был в канаве. Не все слышал, но кое-что. Никогда не надо так орать.
Я остановился как вкопанный.
— Так вы знаете, в чем дело, Джордж?
Он кивнул.
— Знаю достаточно, чтобы сообразить что к чему. У тебя неприятности, а у кого-то другого еще почище.
— Вы никому не скажете?
Он покачал головой.
— Честное слово, Джордж, в жизни у меня таких неприятностей не было… Совершено убийство вроде того, про которое вы мне рассказывали, когда мы нашли пистолет.
Я говорил с жаром, но все нутро мне леденил страх.
— Держись, малыш, — сказал Джордж. — Ты на меня похож, воображение у тебя, ох, какое. Ну да ладно, со временем все пройдет.
Когда мы дошли до шоссе, он пожал мне руку.
— Пока, сынок. Смотри не делай глупостей. Ничего не делай, просто переживи это, пусть все катится само по себе, как галька по морскому дну, пусть волна набежит и схлынет. Всему приходит конец.
— Спасибо, Джордж, — сказал я, не зная, как выразить свою благодарность. — Мы еще встретимся. Спасибо за все.
— Ты не думай, что я против тебя, — сказал он. — Я на твоей стороне.
Он первый сказал мне это. Старику стукнуло шестьдесят, а мне было всего шестнадцать, но он меня понимал. По-моему, у нас была одна болезнь — окопная лихорадка, снарядный шок, хронический лунатизм — нас тянуло ходить по мягкому, но только не по ковру. Ха-ха-ха! Этого старика я любил.
Я вскочил на велосипед и свернул на юг, а потом на восток, объехал нашу стройплощадку по кривой мощеной улице, где половина домов пустовала, мирно зарастая грязью, и снова очутился у реки. Я поставил своего старого конька у стены, перелез через забор и, радуясь мысли, которая пришла мне в голову, пошел по площадке.
Я все рассчитал точно, выучка у Носаря не прошла для меня даром, и я проверил все еще раз. В сарае никого не было. Дверь они оставили открытой. Я вошел, взял пачку путевых листов и швырнул в огонь. Надо было на чем-то сорвать злость. Я знал, что все равно доходы уже подсчитаны и деньги ждут их в какой-нибудь тихой пивнушке. Листки вспыхнули, почернели и рассыпались. Вот если бы и с этим жульем так же поступить. Пастор сделал бы это с их душами, а я — с телами.
Я спустился в канаву. Глина хлюпала у меня под ногами, и я вспомнил, как старик Джордж и его товарищи, совсем еще не обстрелянные новобранцы, двигались к высоте 60. Может, это и подало мне мысль.
Я слышал, как они разговаривали внутри большой трубы, ярдах в пятидесяти от конца. Я знал, что они полезут в трубу проверять стык. Их шаги бухали, как надтреснутый колокол. Голоса были низкие, рокочущие, как морской прибой. Я пошел в сарай и приволок две лопаты — пускай попотеют. Обратно я бежал бегом и остановился только для того, чтобы запустить мотор экскаватора, а лопаты тихонько засунул в трубу. Но одна лопата все-таки звякнула.
Спроггет сказал:
— Что это? Ты слышал?
— Что слышал? — спросил дядя Джордж.
— Там кто-то есть.
И тут мне пришла в голову еще одна мысль. В лучшие времена, возвращаясь домой из «Риджент» или «Альбиона», мы шутки ради часто устраивали соревнование в смехе. Хохотали звонко и весело, как дети; тоненько и визгливо, как женщины; дико, как сумасшедшие ученые и пришельцы из космоса; тут было и хихикание, и смех младенческий, и девичий, и смех старых кумушек, и раскатистый, басовитый мужской смех. Попробуйте сами, и вы увидите, что это не так просто, но дело того стоит и может когда-нибудь пригодиться. Я выдал смех призраков, который слышал один раз в старом фильме с Эбботом и Костелло[9]. Минут на пять, не меньше. Потом замолчал. Стало тихо, слышно было только, как они сопели, не зная, что делать — вылезать или нет. Мне хотелось крикнуть: «А ну, покопайте малость!» — но я не стал — слишком уж это по-детски, да и потом они бы меня узнали.
Я бросился к экскаватору, но уже не для того, чтоб сидеть там с бутербродом в руке. Экскаватор похрюкивал, как поросенок. Мотор разогрелся и был готов к работе. Ковш рванулся вниз и врезался в земляную кучу. Но-о, лошадка! Сыпь, сыпь, пока не похороним их под качественной глиной с известняком не хуже, чем на кладбище, — зубы в густом месиве завязнут, а этих твердых орешков им не раскусить. Вверх, вперед, вниз. Целый каскад отборного материала обрушился на открытый конец трубы, а я, не глядя, снова и снова опорожнял ковш: за пять минут я без единой промашки набросал тонн восемьдесят.
Потом я остановил мотор.
Они орали в трубе, как оглашенные, но я хоть бы что. Господи, как я гордился собой! Я справился не хуже настоящего экскаваторщика. Незачем было даже смотреть на трубу, я и без того знал, что она засыпана на совесть. Я и машина — больше в этот миг для меня ничего не существовало, и я увидел чудесный сон наяву: Артур Хэггерстон блестяще проводит атомную подводную лодку через оба полюса ровно за десять дней; Артур Хэггерстон высадился на Марсе, Венере и Юпитере, покорив разом три планеты; Хэггерстон, человек с мозгом точнее вычислительного устройства, устремляется к звездам…
Потом я очнулся. Бог знает, сколько времени они там продержались, как шахтеры, засыпанные в забое, а только вот оно: тук, тук, тук, кто там? Тук, тук, тук, тук! Ради бога, помогите нам отсюда выбраться! Я подошел к трубе. Оба они уже лет десять или двенадцать лопаты в руках не держали. Руки у них мягкие, нежные, а брюхо распухло от пива. От шотландского пива, от горького пива и дешевого виски, которым их угощали подрядчики. Я рассудил так: сперва они попробуют прорыть тоннель, но будут только по очереди закапывать друг друга. Потом, устав возиться в темноте и отдышавшись, станут перебрасывать землю назад и завалят себя с обеих сторон. И тогда, задыхаясь в спертом воздухе, они, наконец, сообразят, что надо делать: станут разбрасывать землю ровным слоем по трубе ярдов на двадцать. По моему расчету, это шесть часов тяжелой работы. Но им в сырости и темноте покажется, что этот кошмар продолжается шесть месяцев, а то и целых шесть лет. Разве только какой-нибудь ребенок случайно забредет сюда, услышит их крики и позовет на помощь.
И тут я придумал еще один фортель. Взял гаечный ключ и постучал по трубе на месте ближайшего стыка. Они откликнулись так быстро, что их стук заглушил мой, а это кое-что значит, потому что стукнул я только три раза.
Изменив голос, я спросил:
— Эй, что там такое?
Голос дяди Джорджа загрохотал и отдался эхом:
— Какой-то сумасшедший завалил трубу… мы не можем выбраться… позовите на помощь. Пожалуйста, освободите нас.
Особенно мне понравилось это «пожалуйста».
— А вы не можете выйти, как вошли?
Добрых пять минут там был настоящий бедлам — раздавались вопли, перекрываемые эхом, дядя Джордж рыдал, а Спроггет изрыгал столько дерьма; что хватило бы на всю городскую канализацию.
— Кто это? — заорал, наконец, Спроггет.
— Констебль, — ответил я басом.
— Пошевеливайся же, бестолочь!
— Не советую переходить на личности, — сказал я. — Погодите, сейчас взгляну, что там такое навалили.
Я посидел немного молча, потом снова постучал по трубе.
— Надеюсь, вы там не умрете с голоду.
На этот раз я не изменил голос. Дядя Джордж узнал меня и сдуру окликнул по имени. Я дернул оттуда со всех ног. Пробегая мимо сарая, я еще слышал, как бесновался Спроггет. Я смеялся и радовался, забыв про все свои несчастья. Когда-нибудь обязательно куплю себе такой экскаватор и кусок цементной трубы, никаких денег не пожалею. Просто так. Для смеху.
3
— У тебя сегодня зверский аппетит, — сказала моя старуха.
И правда, я набивал себе брюхо, как смертник перед казнью. Я умял две телячьи котлеты, три раза подкладывал себе картофельного пюре, три раза — капусты, сжевал три консервированных йоркширских пудинга и полгаллона подливки. Кроме того, я уничтожил рисовый пудинг средней величины с изюмом и сливками, высыпав в него полфунта сахару, а потом заглотал шесть фиников и выпил три чашки чаю. Правда, чашки были маленькие. Не мог же я ей объяснить, что я уже, можно сказать, в бегах, ну и похвалил ее стряпню: мол, язык проглотить можно. Ей это было приятно.
— Я вот что думаю… — сказала она.
— Думай, пожалуйста, побыстрей, — сказал я. — У меня сегодня срочное дело.
— Надеюсь, ты ничего больше не натворишь? — спросила она.
— Нет, мама, с этим покончено.
— Кажется, в шестой или седьмой раз, — сказала она. — Что ж, рада это слышать. Давно пора…
— Так что ты думаешь? — перебил я ее.
— Нет, ничего, это просто так, мечта.
— Говори же, мама, поменьше глупостей из «Женского журнала» и побольше дела.
В конце концов она сказала:
— Когда все устроится… Когда мы с Гарри поженимся — ты ведь не против, чтоб мы поженились? — устроим себе настоящие каникулы, поедем в Скарборо, или в Уитби, или еще куда-нибудь в пансионат и отдохнем. Ты мог бы взять с собой эту твою подружку — Дороти.
— Зачем же ждать, пока вы поженитесь?
Она пришла в ужас.
— Артур, и откуда только у тебя берутся такие мысли? Мы не можем поехать так… неженатые.
— Ну ладно, — сказал я. — Когда вы с Гарри поженитесь, мы поедем все вместе и проведем время на славу. Решено. — Она вытаращила глаза. — Что я такое сказал?
— Ты сказал — Гарри. В первый раз в жизни ты назвал его по имени.
— Это еще не самое худшее, — сказал я и пошел наверх переодеваться. Внизу моя старуха напевала новую лирическую песенку. И откуда она их только берет.
Я надел рабочую одежду: саржевые брюки, свитер, плисовую куртку, сунул за пазуху чистую смену белья. У меня было два фунта восемь шиллингов четыре пенса, считая мелочь, и плитка орехового шоколада двухлетней давности — неприкосновенный запас, который я берег на всякий случай. Я поднял половицу и достал старинное кольцо, завернутое во фланелевую тряпочку. Потом написал записку моей старухе: пусть это будет вместо обручального кольца, надеюсь, оно принесет ей больше счастья, чем первое. Подумав, я сунул эту записку в карман и написал новую — там было только, что это ей вместо обручального кольца и я желаю им с Гарри счастья. Потом я добавил, что обещаю им писать. И хотя дом всегда был для меня вроде гостиницы, теперь меня как будто тоска взяла.
Короче говоря, мне не хотелось уходить.
А если кто вздумает надо мной смеяться, я ему напомню, что золото чувства лежит иногда и под твердой породой, а не только под толщами, пропитанными пивом. Даже у полисменов и судей это бывает.
Положив кольцо на записку, я удрал, как только у парадной двери раздался звонок и моя старуха пошла открывать. Я даже не посмотрел, кто это — Гарри или переодетый сыщик. Со страху я пулей вылетел через черный ход. Накручивая педали, я промчался через темный город под фонарями, похожими на апельсины, и тело мое было как резиновый шар, полный новокаина.
А переезжая реку, я увидел с моста то же, что недавно видел Носарь, — желтый свет в окне и полицейский автомобиль; он притаился, терпеливо подстерегая добычу, как черная акула.
4
Я не знал, куда ехать, но это меня не беспокоило: у меня уже просто сил не было беспокоиться. Рано или поздно обязательно коснешься ногами дна и начнешь всплывать на поверхность. Это и произошло со мной милях в двух от города. Там есть большой холм и аллея тех похожих на апельсины фонарей, о которых я уже говорил, и я помню, как трудно было на него подняться: аллея казалась бесконечной и сильно смахивала на ад, а фонари отбрасывали какой-то мертвый свет, пятная мне руки и носки ботинок. Наконец педали завертелись легко, и я понял, что добрался доверху. Странное дело — пока поднимаешься, и в голову не приходит остановиться, а как доверху доберешься, хочется постоять и поразмыслить.
Так я и сделал.
Цепочка фонарей, петляя, спускалась к городу. Они светили мирно. А вот другие огни горели, как в лихорадке, отчаянно боролись за существование — уличные фонари; свет окон; вывески пивных; мигающие светофоры; ярко освещенные стеклянные цехи фабрик вроде плексигласовых коробок, по которым редко-редко пройдет сторож, как гиена в клетке, только и думая, где бы прикорнуть; неоновые рекламы; фары автомобилей, которые мигали и вертелись, как огненные знаки на какой-то дьявольской карте; железнодорожные светофоры на невидимых ходулях и фонари шлагбаумов над рельсами, мигающие, как красные глаза. Небо дробилось, расколотое их отражениями. Казалось, оно каждую секунду может взорваться. И я вдруг почувствовал себя таким маленьким, ничтожным. Там, внизу, была эта огромная груда кирпича и стали, гудрона и света, как проволокой, опутанная со всех сторон несчастьями. От чего я бежал? От пустяковых неприятностей, которые были каплей в море по сравнению с тем, что претерпели четверть миллиона людей, притаившихся там, под этими огнями, только за то время, что я поднимался на этот холм. Я чуть было не повернул назад, но вспомнил о Мике Келли, Крабе, Носаре и моей старухе. Нет, слишком много неприятностей. Щелкнули ножницы, перерезая проволоку. Нет, никто не прозовет меня фискалом или еще как-нибудь, потому что, когда придет время фискалить, я буду уже далеко. Все проще простого. Мне и думать-то не о чем. С работы меня уволили, полиция уже интересовалась мной по одному делу и неизбежно заинтересуется по другому, так что лучше удрать, всякий поступил бы так на моем месте.
Я запихнул деньги в нагрудный карман, понимая, что даже те липовые герои, которых я видел в ковбойских фильмах, сводили счеты, прежде чем исчезнуть.
Я проехал, наверное, миль семь или восемь на запад, а потом мне надоела прямая, как линейка, дорога, и я свернул на проселок, шедший под уклон. Он был крутой, как американские горы, с несколькими миленькими поворотами Знай сиди себе в седле и думай, но думать не хотелось. Я проехал через крупный центр из шестнадцати домов и одной пивнушки, где трое посетителей делали какие-то упражнения йогов под сонное бренчание рояля; проскочил узкий мостик и услышал, как в шестнадцати футах подо мной журчит вода; проехал через ворота на перекрестке дорог и чуть пупок не надорвал на крутом, не хуже, чем в Альпах, подъеме. Этот подъем тянулся целых две мили, и добрых полторы пришлось тащиться пешком, только полмили удалось проехать, и то спасибо. Теперь я уже не остановился, чтобы поглядеть назад, а просто вскочил в седло и поехал дальше. Но мне было как-то не по себе. Я еще никогда не ночевал вне дома, а уж на дворе тем более. Или нет, вру: я ездил два раза в школьные лагеря, но это не в счет, потому что там рядом с тобой еще тридцать или сорок ребят, и всегда можно перекинуться в картишки — все-таки веселей и не так скучаешь по дому. Я подумал, не зайти ли в пивную, но сразу же отбросил эту мысль — я был уверен, что моя фотография уже напечатана во всех газетах и даже деревенские простаки, живущие в десяти милях от цивилизации, знают меня в лицо. Я все время высматривал какой-нибудь сарай, но, как назло, сараев там давно уже не было и в помине.
В конце концов я решил ехать всю ночь, а выспаться на другой день. Но это было нелегко. Скоро пошли холмы, а где подъемы, там и спуски — это дураку ясно. И ни души.
Да, ни души вокруг, и я ехал, сам не зная куда, все дальше от дома. Луна мчалась по небу со скоростью шестидесяти миль в час. Елки торчали со всех сторон, как железные шипы. Пока ветер дул мне в спину, было еще ничего, но к десяти часам он резко переменился, и я еле полз. Проехав еще мили две, я сдался.
Дело было так: у дороги стоял одинокий дом. Знаете, бывают такие дома с двумя большими колоннами, а на них здоровенные шары — таких я сроду не видал. За домом был садик, такой светлый и уютный, что у меня сердце дрогнуло. Оставив велосипед у ворот, я поплелся по дорожке. Она вся поросла мхом, таким густым, что казалось, идешь по ковру толщиной дюйма в три. Я хотел только в окно заглянуть. Оно притягивало меня, как магнит. Я быстро заглянул туда и отдернул голову, как испуганная птица, когда клюет, но понял, что бояться нечего. В комнате у телевизора сидели женщина и девочка. Они смотрели телевизор и мотали шерсть. Знаете, как это делается — одна держит, другая наматывает клубок. Держала шерсть девочка. Она была пострижена под мальчишку, так что ее красивая шея была открыта. Это уж такая стрижка — у кого шея некрасивая, тому лучше так и не стричься. Девочка все время перебирала руками, как матрос, тянущий снасти. Женщина была уже немолодая, под сорок, беловолосая, розовощекая. И обе они так хорошо улыбались; я слышал ровное журчание их разговора. До чего же у них было хорошо — их тепло было ощутимее, чем тепло пылающего камина. Я отдал бы все, что имел, — два фунта с мелочью, только бы войти туда, и сказать «здрасьте», и чтобы мне улыбнулась темноволосая девчонка с красивой шеей, а женщина предложила чашку крепкого чая. Я даже подумал, не постучаться ли, а потом будь что будет: я бедный сирота, добираюсь в Пенрит к дяде, он обещал устроить меня на работу.
Но тут произошла удивительная штука: женщина смотала клубок, со смехом подбросила и поймала его, а потом положила на каминную полку. Полка была очень высокая, и она с трудом до нее дотянулась. Ее шерстяное платье с кожаным поясом приподнялось. Таких красивых ног я никогда не видел…
Я был так одинок, что мне хотелось вбежать в дом и, бросившись на колени, обхватить ее ноги, — я был уверен, что найду там утешение. Я совсем потерял голову и готов был впрямь это сделать. С некоторыми бывает такое, и я понимаю, их толкает к этому одиночество и желание, чтоб их утешила женщина. И вот такой молодчик вбегает, а женщина вскрикивает, кусает себе руку, пугается, вцепляется в него, и пиши пропало…
Я дал деру от этого окна.
XII
1
Вы пробовали когда-нибудь ночевать в холодную ночь под открытым небом? Я обошел дом задами, все искал сарай, но нашел только высокую стену, в которую было вмазано столько бутылочного стекла, что любой пивовар пустил бы слезу.
Я все же перемахнул через забор. Четверть мили я шел по густому ельнику, и отовсюду на меня смотрели маленькие красные глаза. Оказалось, это фазаны. Я протянул руку, и в награду один долбанул меня клювом — видно, фазаны были домашние, но не совсем ручные. Я взял свой велосипед и покатил дальше.
Потом я увидел большой дом, совсем как в фильме «Знак креста», — пустое крыльцо, холодные каменные плиты, красивые цветные окна и гнилой остов старого американского органа, выставленный стервятникам на растерзание. Дверь была заперта. Я пошел дальше и наткнулся на зверька с длинной мордой и кроткими глазами; он стоял наготове, подняв одну лапу. Ему не понравился мой запах, и он ускакал.
Я зашел во двор этого громадного дома с разрушенными стенами, обвалившейся крышей и пустыми окнами. Всюду между каменными плитами росли кусты. Что-то зашевелилось, и я бросился прочь еще быстрей, чем тот зверек. Дорожка в последний раз вильнула и перешла в мощеную дорогу, которая скоро разделилась на две, а потом они снова соединились перед развалинами дома с тремя рядами окон, зубчатыми башенками в ложноготическом стиле и роскошным, похожим на пещеру подъездом, куда я вошел вместе с велосипедом. Я очутился в комнате величиной почти с танцзал в «Ридженте», с камином, который можно было принять за огромную, двустворчатую дверь, покуда не увидишь трубу, уходившую в потолок где-то в миллиарде миль над головой.
Я осветил комнату велосипедным фонарем — всюду кучи камней, досок, штукатурки. Слева от меня была пустота — словно огромный солитер сжевал все вокруг и след его порос крапивой. Справа было множество всяких комнат, а сверху торчали балки, на которых, как огромные выпотрошенные селедки, висели куски штукатурки.
В конце коридора, как видно, была кухня с большой чугунной плитой и расколотой раковиной. Мой фонарь был слишком слаб, чтобы я мог хорошо разглядеть красивые лепные бордюры в других комнатах — на них были кролики или, может, зайцы, дубовые листья, автомобили, кукурузные початки. Потом я увидел еще одну дверь. За ней был крытый коридор, который полого, без ступеней уходил куда-то вниз. Он был как пещера. По одну его сторону были маленькие каморки, и в каждой по стенам — ряды каменных ящиков. Вокруг валялись осколки толстого стекла; в одном ящике лежала целая бутылка, тяжелая и пустая.
Дальше коридор, словно бы поперхнувшись, сбегал вниз уже круче и обрывался в пустоту, так что я чуть не загремел оттуда. Не знаю, что меня остановило. Я стоял на высоте футов пятнадцать-двадцать над оврагом, поросшим кустарником. Под кустами журчал ручеек, будто кто-то играл на маленьком ксилофоне. Я представил себе, что лежу там по целым дням, гляжу вверх сквозь ветки и слушаю, как звенит вода, — жду голодной смерти. Говорят, когда есть вода, можно гораздо дольше продержаться. Мне показалось, что за углом дома виден свет, и я погасил фонарь. Светилось окно, должно быть, в подвале. Свет манил к себе, и я, снова поднявшись наверх, обошел дом по коридору. Послышались какие-то странные звуки и возня. Посреди лестницы я остановился и стал думать, кто же зажег этот огонь. Так я постоял немного, потом огляделся и посмотрел на небо, по которому бежали облака, рассекая луну на дольки. Была не была, решил я, здесь все равно страшней, чем внизу, и пошел дальше.
Пошел, конечно, не сразу. Сначала я отыскал окно. Сквозь уцелевшее стекло я увидел человека, который сидел чуть ли не на самом костре. Он все время шевелил дрова палкой, и я подумал, что он жарит форель или по крайней мере кипятит чай. На худой конец — разогревает банку вареных бобов. Видимо, он услышал мои шаги, и, когда я вошел в дверь, которая уже лет двести висела на одной петле, он вскочил и прижался к стене, готовый к драке. Борода, не бритая, наверно, несколько месяцев, налитые кровью глаза. И еще — нос. Я говорю про этот нос, потому что сроду такого не видал — он был кривой и чуть ли не длинней бороды, хотя, конечно, это только так казалось.
Я вошел, стараясь не смотреть на его нос, бороду и длинные лохмы. Сам не знаю почему, я крикнул: «Все в порядке, приятель!» Он ничего не сказал, но, братцы, ох, и разило же от него! Как от выдры — не пивом, а скорее тухлыми яйцами и сыром, который пролежал месяц на раскаленных углях рядом с куском вонючего мяса с живодерни. Но в подвале было тепло, и я поискал глазами, на что бы сесть. У костра стояло ведро, накрытое доской. Пока я грел руки, он все время стоял в углу, не глядя на меня. Мне было страшно, но это еще ничего, — понимаете, я ожидал встретить там старину Краба, отмывающего кровь с рук. И я почувствовал такое облегчение, что даже этот чудовищный нос меня не смутил. Я тер руки, поглядывая на него на случай, если он на меня бросится, и недоумевал, где же чайник.
Наконец я спросил:
— Закурить хочешь?
Он посмотрел на меня и не ответил.
— Погрей нос. — Я протянул ему пачку. И добавил на всякий случай — может, он не знает английского языка: — Сигарета, курить, понимаешь?
Он подбежал, столкнул меня с ведра, и, только когда я поднял голову и разглядел хорошенько, какой у него здоровенный нос, я понял, в чем тут дело. Как и всякий, он был очень чувствителен к своим недостаткам. Я встал и подошел к нему, но, братцы, кроме шуток, я дрожал, как лист.
— Слышь, — сказал я. — Погрей нос — это значит, закури табачок, только и всего. Так принято говорить.
Он что-то проворчал и взял сигарету. Я дал ему прикурить и прикурил сам. Он снова заполз в свой угол и повернулся ко мне спиной, дымя, как паровоз. Он затягивался жадно, весь дрожа, как будто сто лет не курил. Я сказал ему, что хочу чаю. Он подошел к куче тряпья в другом углу, разворошил ее и принес мне голубую кастрюльку с ручкой, чай в бумажном кулечке и банку сгущенного молока. Воды, конечно, не было. Пришлось идти к ручью через кусты, но я пошел бы и через Эверест. Мы пили чай, передавая жестянку из рук в руки. Такого вкусною чая я сроду не пробовал. Я подолгу держал его во рту, чтобы насладиться теплом, сладостью и привкусом молока, и, когда этот бродяга протягивал мне жестянку, ни разу не отказался. В конце концов он совсем отдал мне остаток — около четверти жестянки — и вышел. Я думал, он сбежал, но он вернулся с охапкой дров и подбросил их в костер.
Потом мы устроились на ночлег: я — в своем углу, а он — в своем. Помню, что его угол был против двери. Он не лег, а сел, накинув на плечи старый плащ. Тайком он следил за мной, я — за ним. А может, мне это только казалось. Через полчаса он снял плащ и протянул мне. Я отказался — не хотел, чтобы и от меня после воняло, и он снова накинул плащ. И тогда я в первый раз обратил внимание на его глаза — они были красные и, главное, совсем такие же, как у того зверька, на которого я наткнулся, когда входил. И сам он был просто большой зверь, совершенно безобидный. Вдруг он спросил:
— Неприятности?
Я кивнул. Он покачал головой.
— От них не убежишь.
И все. Я лежал, глядел на него, и мне было ни капельки не страшно, а скорей любопытно. Борода прикрывала ему грудь, длинный саксонский нос разделял лицо надвое. А по обе стороны от него блестели глаза — получался как бы крест. Когда ночью я проснулся, он плакал, как ребенок.
2
А потом я проснулся уже утром. Он исчез, а вместе с ним запах и все остальное, кроме тряпок и жестянки. Этот бедняк оставил мне почти все свое имущество.
Я был голоден как волк, сбегал за водой и, дожидаясь, пока она закипит, впился зубами в шоколад. Потом удобно уселся на пороге. Солнце пробивалось сквозь листья деревьев, пели птицы, и, хотя я окоченел и у меня разламывало поясницу, я был счастлив и спокоен, как никогда в жизни. Дяди Джорджа и Сэма Спроггета словно на свете не было. Вот это жизнь, братцы! Но все-таки на душе у меня кошки скребли, я беспокоился, что подумали обо мне моя старуха и Гарри, знает ли Дороти, что я удрал из дому, и беспокоится ли она за меня; поймали или нет беднягу Краба, который был такой же несчастный, как этот бродяга.
А потом вместо беспокойства пришел страх, и я уже не мог усидеть на месте, вскочил, спустился в овраг, вымыл жестянку, умылся и, глядя, как скользят по воде паучки, стал мечтать о бритве, потому что щетина у меня росла и вместе с ней нарастала грязь. Да, братцы, иногда человек бывает несчастен из-за того, что нет бритвы и куска мыла. Никогда не забывайте их. Честное слово, это важнее еды.
Из травы выглядывали подснежники, белые-белые, и от этого я показался себе еще грязнее. Я в первый раз видел не букетик, а растущие подснежники, каждый сам по себе, и мне захотелось собрать их. Я сорвал один. Стебелек был тонкий, как игла, и пальцы мои кольнуло холодом. Вдруг мне стала неприятна его маленькая, словно восковая, головка. Был один мальчик, с которым мы дружили, я его очень любил. Однажды он упал с высокой трибуны на гоночный трек, с самого верха прямо на асфальт, и, ясное дело, разбился насмерть. Накануне похорон меня привели к нему домой, в гостиную. Он лежал в гробу, накрытый покрывалом, с кружевами вокруг шеи. И теперь этот подснежник напомнил мне его лицо, а лицо у него было совсем чужое.
Я вернулся в свой подвал, обшарил его, заткнул пожитки бродяги в угол и ушел. Трудно было поверить, что я провел всю ночь в этом хлеву, и я удивлялся, как другие бродяги выдерживают так много ночей подряд — не с кем проститься утром, некого ждать вечером, — а потом вдруг я понял, что теперь это и мне предстоит. От этой мысли стало так тошно, что меня чуть не вырвало. Солнце грело тепло и ласково, но меня оно не радовало, а тут еще оказалось, что моего велосипеда нет, и это был последний удар. Если бы меня кто увидел тогда, то, наверно, принял бы за сумасшедшего. Я метался по этому храму, как мышь в мышеловке, обежал шестьдесят комнат за десять минут, шарил даже в зарослях ежевики, поднимал каждый кусочек штукатурки, заглядывал под кучи досок и сорванные с петель двери. Потом убитый горем, встал как истукан, а когда пришел в себя, то первым делом увидел жалкие остатки роскоши — свой велосипедный фонарик. Я представил себе, что иду по холмам и долинам с этим фонарем в руке, горько рассмеялся и забросил его подальше, в темный коридор, который вел на кухню.
Но фонарь не разбился, я подобрал его, отнес на кухню и воткнул в дырку в стене. Там я долго стоял не двигаясь: сам Будда не мог бы со мной сравниться. Но внутри я весь кипел, проклиная этого бродягу, этого Иисуса Христа и его самопожертвование за то, что он подсунул мне кастрюльку для чая взамен двух быстрых колес. Когда я думал о том, что он сидит теперь в своих рваных штанах на моем блестящем кожаном седле, а его вонючие ноги нажимают на сверкающие стальные педали, чего только я ему не желал: корчей и болячек, язвы и парши, лихорадки и холеры; и чтоб черти его на том свете пичкали горячими угольями. Но какой толк! И лишь позже мне пришло в голову, что, может, этот велосипед был нужен ему позарез, так нужен, что он вынужден был его взять, а мне оставить все свое имущество: чай и жестянку. Мне хочется верить в это.
И вдруг я почувствовал, что, кроме солнца, есть еще ветер, а мысль, что придется продолжать путь без велосипеда, была холодней ветра. Идти дальше я был не в силах, но и возвращаться назад, прямо к ним в лапы, не хотел. А потом вдруг — может быть, тут примешалось воспоминание о женщине и девочке у пылающего камина — у меня мелькнула мысль пойти к Стелле. Я вспомнил ее кухню, полную всяких припасов, уютную столовую, широкую кровать с холодными крахмальными простынями и стеганое одеяло. Вспомнил, конечно, и саму Стеллу. Но первым делом мне вспомнился ее дом, который она сама обставила. Я не мог вернуться. И все же, не решив, куда именно идти, я пошел назад. Когда я вспоминаю обо всех глупостях, которые натворил в тот день, мне плакать хочется — ведь все это, как потом оказалось, было ни к чему. Я крался вдоль изгородей, далеко обходя разрушенные дома и коровники, делал многомильные крюки, чтобы миновать ферму, и бегом пересекал каждую тропинку. Мне мерещилось только одно — моя фотография в газетах. Каким-то нюхом я, наконец, нашел дорогу к реке и пошел по берегу. Я знал, что это наша река, потому что прежде работал вместе с одним малым, который жил неподалеку от тех развалин, и он рассказывал, что во время войны, когда мяса не хватало, он подстрелил здесь оленя и до самого дома тащил его на себе. Он мне казался чуть ли не сверхчеловеком. Мне нечего было тащить на себе, и все же я еле шел. То и дело я натыкался на загородки из колючей проволоки. И всюду, куда ни поверни, они преграждали дорогу. Они были совсем как живые и вцеплялись в меня, как волки, а местами берег был такой крутой, что приходилось выбирать, идти ли на виду, полем, вдоль дороги, или же вброд по воде. Я шел вброд.
Потом я проследил свой путь по карте. С виду не так уж и много. Но все же я прошел почти пятнадцать миль — немалое расстояние, если ты не привык много ходить пешком, особенно когда все тело ломит после ночевки на каменном полу, а ботинки, носки и брюки, мокрые до колен, даже просохнуть не успевают. И за весь день ты ни разу не поел по-человечески и не смеешь выйти на дорогу, не говоря уж о том, чтоб зайти в магазин и купить плитку шоколада.
Уже смеркалось, когда я добрался до Тайна. Я сидел на станционной платформе и в полном отчаянье смотрел за пути, на холодную, стального цвета воду. Я знал, что до города далеко, и в голове у меня была только одна мысль — вернуться туда, к Стелле. Я уже не колебался; голод и усталость заставили меня забыть все глупости. Три раза мимо меня проносились дизельные поезда, и я никогда еще не видел столько жирных, самодовольных свиней, как в окнах вагонов. Потом прошел товарный поезд с углем. Я сидел, весь дрожа, глядя, как он с лязгом ползет мимо, и не решался прыгнуть на подножку. Поезд остановился перед семафором. У стенки платформы нетрудно было вырыть в мелком угле уютную теплую нору. Я лежал там, и все тело у меня болело, но я утешался мыслью, что доеду до самого города. И тогда оставался совсем пустяк — выбрать удобное место да спрыгнуть; ведь после таких передряг, после того, как опустишься на самое дно, приходит время, когда начинаешь смотреть на вещи просто.
3
Около половины десятого я был уже на окраине города и ошивался возле пустой телефонной будки. Я прошел уже три будки, которые были заняты, и еще две, потому что поблизости были люди. В этот вечер все почему-то бросились звонить знакомым. Мучительно было чувствовать в ботинках угольную крошку — она набилась туда, когда я добрую милю удирал по запасным путям от железнодорожного охранника. А в животе у меня был не уголь, там были маленькие мышки, которые грызли мне кишки. Следующая будка была ярко освещена, и я боялся войти в нее, словно в телевизионную студию, потом вбежал туда бегом и тут вдруг обнаружил, что забыл номер. Я вынул четыре пенса и стал листать телефонную книгу, разрывая в спешке страницы, а когда открыл ее на нужном месте, цифры плясали у меня перед глазами. Пришлось отметить номер карандашом — я боялся потерять его или снова забыть, если закрою книгу. Потом я опустил монету в щель. Автомат никак не давал гудка, три раза он выбрасывал последний пенс. В четвертый раз я до половины засунул монету в щель и стукнул по ней кулаком; в аппарате что-то щелкнуло, и я набрал номер. У меня упало сердце.
Она ответила, назвала свою фамилию и номер телефона. Сердце чуть не выпрыгнуло у меня из груди.
— Алло! Стелла? Это Артур… Можно мне зайти к тебе? У меня неприятности.
Она опять назвала фамилию и номер. Я понял, что говорю впустую, потому что забыл нажать кнопку. И тут я от растерянности нажал не ту кнопку, аппарат выбросил назад мои деньги, а ее голос замолк. Я начал все сначала.
— Ах! — сказала она и сразу спросила: — Это ты звонил несколько минут назад?
— Да, я нажал не ту кнопку.
— Ты меня напугал — знаешь, страшно становится, когда тебе позвонят, а потом молчат, и ты будто с пустотой разговариваешь… У меня от этого мурашки по коже бегают.
— Прости, Стелла, — сказал я смиренно и повторил свой вопрос, на этот раз зная, что она меня слышит и рада моему звонку. Она молчала. — Я только хотел поговорить с тобой.
— Полли дома, — сказала она.
Теперь уже молчал я. Потом сказал:
— Мне бы на час, не больше. — Я в самом деле только этого и хотел: согреться хоть немного, а там будь что будет.
— Мне трудно отказать тебе, — сказала она. — Ни за что на свете я не могу тебя прогнать. Знаешь, какой сегодня день?
Я вспомнил, как из зеркала на меня глянуло грязное, вымазанное угольной пылью лицо, и теперь, соображая, какой же сегодня день, подумал, что могу спокойно сесть в автобус или в трамвай — меня примут за рабочего, возвращающегося с ночной смены.
— Сегодня пятница, Стелла, — сказал я.
— Страстная пятница.
— Ах, да, я позабыл — страстная пятница.
— В любой другой день… Я давно все выбросила из головы, но иногда поневоле вспомнишь. Ты еще мальчик, не понимаешь, да и ни одному мужчине не понять, что это значит для женщины. Я не хочу, чтобы эта пытка началась снова…
— Слушай, Стелла, у меня неприятности. Я просто хочу поговорить с тобой, вот и все.
— Дай слово, что придешь только поговорить.
— Я даже не притронусь к тебе.
Но я знал, что это пустые слова. Если я приду, она не удержится, разве только сначала примет меня холодно. Я знал, как к ней подкатиться, и был уверен, что разговором дело не кончится. Я твердил себе, что человек, который ночевал под открытым небом, заслужил теплую постель и женскую ласку. И еще я твердил себе, что полгода — долгий срок и сегодня настало время. Я жаждал утешения и знал, где его найти.
— Ну ладно, приходи, — сказала она. — Когда тебя ждать, Артур?
Голос ее дрогнул.
— Ровно через полчаса, — сказал я и повесил трубку.
Я не опоздал. Меньше чем через полчаса я позвонил у ее двери.
— Входи, — сказала она. — О господи… Что случилось?
— Я приехал к тебе на угольной платформе, — бодро сказал я.
— У тебя такой вид, как в тот день, когда я увидела тебя в первый раз.
Я отстранил ее, думая только об одном — о теплом камине.
— Я устал, мне тошно. Я ночевал под открытым небом, велосипед украли, прошел пешком много миль, тащился вброд по реке…
Ах, этот милый пылающий камин! Я не мог на него сесть и поэтому прильнул к нему и стал его гладить.
— Где ты ночевал? — спросила она быстро.
— В развалинах старого дома с каким-то бродягой, у которого самый здоровенный нос в округе.
— Ты убежал из дому?
Я сел на приступку у камина, прижавшись спиной к решетке, и разулся. Потом пересел на пуф и стал греть ноги, нисколько не стесняясь следов грязной речной воды и черной каймы под ногтями. Она пододвинула к огню кушетку.
— Вот, садись поудобнее.
И от ее участия все вдруг стало легко и просто; нянька всегда останется нянькой, мать — матерью, а женщина — женщиной.
— Какой ты грязный! Отчего же ты убежал?
— Неприятности были.
И я рассказал ей про драку, про убийство Милдред, но умолчал про свою проделку на стройплощадке — не знал, как она на это посмотрит.
Я все еще надеялся, что убийство мне только приснилось.
— Про это было в вечерних газетах, — сказала она. — Какой ужас, наверно, этот убийца сумасшедший. А ты с его братом… Какой кошмар!
Мы еще долго говорили об этом. В газетах ничего не было про драку с Миком, так что это дело вроде бы уладилось; конечно, может, он в больнице, сотрясение мозга схлопотал, но, к счастью, жив.
— Ты легко поддаешься дурному влиянию, Артур, — сказала Стелла. — Не надо было тебе идти с этим мальчишкой. А теперь лучше всего сходить в полицию и все рассказать. — Я не стал с ней спорить и кивнул. — Тебе ведь бояться нечего. Ну, а пока нужно принять ванну. Сейчас я напущу воды.
— Да, поскорей ванну и чего-нибудь поесть, я со вчерашнего вечера не ел по-человечески.
— Бедняжка! — сказала она. — Сейчас я чай подогрею.
Она пустила воду в ванной, побежала на кухню, поставила чайник и через минуту вернулась с подносом. Я знал, что чайник уже во второй раз кипел, но все равно чай был замечательный, крепкий, как я люблю, — она знала это, — две ложки сахару и густые сливки. Я взял чашку обеими руками, предвкушая тепло и аромат, которые сейчас вольются в меня, а когда она наклонилась, ставя передо мной чашку, я увидел ложбинку у нее на груди. Потом она опять убежала наверх.
— Я подогрела тебе два полотенца, они на вешалке, — сказала она. — Старайся не очень брызгать… Что тебе приготовить на ужин?
— Яичницу с ветчиной, — сказал я и засмеялся. — Я мечтал о ней все время по дороге сюда, и мне не хотелось бы себя обманывать.
Я пошел к двери, как сытый тигр, свирепый тигр, который не боится ни слонов, ни ружей, ни ловушек и только что вернулся с удачной охоты.
— А почему ты пришел ко мне? — спросила она вдруг. — Почему не к той девушке?
Пропустив мимо ушей эти ее слова о Дороти, я сказал:
— Кроме тебя, у меня никого нет, Стелла.
Она улыбнулась, и я подумал: до чего ж она хороша в этом простом ситцевом платьице, в самый раз добыча для тигра! Я тоже улыбнулся и пошел наверх. Голубая ванна была полна, из нее шел пар. Вместо того чтобы сразу залезть в ванну, я разделся сперва до пояса, вымыл голову и плечи; голову окатывать не стал, а просто несколько раз окунул ее в ванну. Потом вытер волосы. Теперь можно было наслаждаться.
Я залез в ванну и постоял немного на коленях, вдыхая ароматный пар, а через минуту лег на спину и вытянулся во весь рост; потом встал и намылился. А уж потом, братцы, я так плюхнулся назад, что вода залила мне нос. Тело у меня стало гладкое, как мрамор, и мало-помалу наливалось силой. И вместе с грязью я смыл все глупости, все унижения, которые я претерпел, когда меня обманул Носарь и продал в рабство дядя Джордж; забыл я и про свое постыдное бегство и про то, что вместо велосипеда мне подсунули кулечек чая и жестянку; я смыл потные следы своего бегства от мира. Или, во всяком случае, так мне казалось. Я ни о чем больше не думал, только о себе и о Стелле.
Потом я вытерся, натянул рубашку и брюки и спустился вниз. Яичница с ветчиной была уже готова. И я принялся за нее. Это было на первое. Стелла выпила со мной за компанию чашку чаю. Она говорила мало и избегала на меня смотреть. Наконец, когда я доедал второй бисквит, она сказала:
— Фрэнк получил место на берегу, в Ливерпуле.
— Значит, вы туда переедете?
— Я даже рада. Ненавижу этот город. Мне хочется уехать…
— Это все из-за меня.
— Ты не виноват. Я думала, что, когда всё кончится, мне полегчает, но вышло иначе. Это не проходит.
Она быстро встала и ушла на кухню. Я пошел за ней. Она пустила сразу горячую и холодную воду и плакала, склонившись над раковиной. Я провел рукой по ее волосам.
— Не надо, Стелла. Я сейчас уйду.
Бывает такое двойственное чувство-раскаиваешься в сделанном и вместе с тем непременно хочешь добиться своего, пока это еще возможно. Она смотрела, как я зашнуровываю ботинки.
— Куда же ты пойдешь?
— Не знаю. Домой, пожалуй.
— Да ведь автобусы не ходят.
— Пешком потопаю.
— Ты, наверно, считаешь меня жестокой, потому что я выгоняю тебя поздней ночью. Но ведь нужно же тебе когда-нибудь вернуться домой, правда?
— Ты очень много для меня сделала, Стелла. Мне больше ничего не нужно. — Я выпрямился. — Не провожай меня — сам выйду.
И протянул ей руку.
— Я никогда тебя не забуду, Стелла. — Но руки ее я не выпускал. — Ты всегда была мне настоящим другом.
Ее рука двигалась в моей, как шарнир, и теперь эту женщину нужно было только охватить, обнять. Она закрыла глаза.
— Поцелуй меня и скорей уходи, пока я не передумала.
Я прижал ее к себе и поцеловал, не крепко, но нежно, а она провела рукой по моему лицу и коснулась шрама. Я поцеловал ее глаза и почувствовал соленый привкус на губах. Почувствовал, как она вздрогнула, и прижал ее к себе…
— Не надо, — сказала она и запрокинула голову… Я заглянул ей в глаза. И увидел, что это не глаза Стеллы. Это были глаза незнакомой женщины, которая по сравнению со мной прожила и выстрадала двести жизней, и теперь я был в ее власти. Мне стало страшно. Я вспомнил о Милдред. Но не остановился. Если я тигр, то теперь мой черед прыгать через обруч. Это было не наслаждение, а борьба, в которой я оказался побежденным; не просто прощание, а разлука навеки. А потом я удрал со всех ног.
Уже светало. Я чувствовал себя так, будто во второй раз кончил школу, но теперь я знал, что по крайней мере уношу с собой что-то незыблемое. Я коснулся огня, величайшего огня в мире, и всегда буду относиться к нему с уважением, какого он заслуживает.
XIII
1
Я мог бы поехать заводским автобусом, но решил пройтись, и главной причиной тут было то, что я боялся идти домой. А нечего было и беспокоиться. Не успел я повернуть ключ в замке, как дверь распахнулась, и на пороге меня встретил старина Гарри — весь взъерошенный, в пижамной куртке и брюках с болтающимися подтяжками.
— Входи, тебя здесь ждут, как манны небесной, — сказал он.
И посторонился, давая дорогу моей старухе, которая бежала по коридору, смеясь и плача, и влепила мне такую затрещину, что я тоже заплакал.
— Вот тебе, — сказала она. — Это за волнение и бессонные ночи!
Но я знал, что все хорошо, что она ударила меня, как говорится, любя.
— Когда ты ел в последний раз? — спросил Гарри.
Покривив душой, я сказал, что давно, наверно месяц или два назад, и уже через минуту почуял запах второй яичницы с ветчиной в эту ночь. Моя старуха потирала руку, которую ушибла об меня, и сыпала вопросами, а я то и дело прикусывал язык, чтоб не сболтнуть лишнего. Я коротко рассказал про драку и про то, как мы видели Краба у дома старьевщика.
— Его арестовали вчера на вокзале Уэверли в Эдинбурге, — сказал Гарри. — Идет следствие.
Мне стыдно признаться, но я вздохнул с облегчением, когда узнал, что все кончено. По дороге домой меня мучил страх, что, придя от Стеллы, я попаду в ловушку: у дома длинный ряд полицейских машин, антенны подняты, а моя старуха сидит на жестком стуле, и легаши допрашивают ее про то, как я живу и где провожу время.
— Бедняга, не повезло ему.
— Перестань молоть вздор, надень лучше пиджак, — сказала моя старуха. Потом спросила подозрительно: — Ты что-то слишком чистый, хоть и на земле спал.
— Умылся в уборной, — солгал я.
— Вот тебе ветчина, — сказал Гарри. Моя старуха бросила расспросы и пошла в кладовку. Он подмигнул. — Тебя они не потянут, малыш. Все уже кончено.
— А вы откуда знаете?
— Знаком тут кое с кем из полиции, — сказал он. — Револьвер был при нем. Старик только ранен — оправится, будет давать показания. Но в нее он не промахнулся.
— Зверь проклятый, — сказала моя старуха.
— Не суди, — сказал Гарри. Я закатал рукава рубашки и посмотрел на него. Он стоял, высокий, прямой, спокойный, его проницательные, как рентгеновы лучи, глаза улыбались, и мне показалось, что какое-то большое сердце вгоняет в нас со старухой здравый смысл, как кровь. — Ты слишком мало знаешь, чтобы судить.
— Он не смел убивать.
— Правильно, но он натолкнулся на что-то такое, чего не мог преодолеть…
— Повесить его мало. Ей-богу, даже петля слишком хороша для него, — сказала она.
— Он только одного и хочет — поскорей умереть, — сказал Гарри.
— А ты почем знаешь?
— Знаю, женщина. — И она не стала больше спорить. — Тебя не потянут и его брата тоже. Он им без надобности. Так что и думать забудь про полицию, суды и всю остальную дребедень.
Эх, и дурака я свалял! Поверите ли, я даже был разочарован — мне прямо досадно стало.
— Ты только одну ошибку сделал, — сказал он, переворачивая ветчину, — когда удрал. Тебе надо было вздуть хорошенько этого твоего приятеля и позвать на помощь.
— Если бы этот бедный старик умер… — сказала моя старуха, и я понял, о чем она.
— От смерти не уйдешь, — сказал Гарри. — От нее одной человеку простительно хотеть уйти, но только хотеть.
— Не думай ты о нем, — сказала мне моя старуха. — И чего тебе с ним путаться?
— Он мой друг, — сказал я. — Хорошо говорить — брось думать про смерть. А друга как бросить?
— Ну вот, распустил сопли, — сказал Гарри с добродушной улыбкой. — Дело ведь не просто в том, что он тебе приятель, правильно? Этот мальчишка головорез, он из тебя веревки вил.
— Я должен с ним увидеться, — сказал я.
— Правильно. Но если он станет дурить, вздуй его хорошенько. И еще от меня добавь. Хоть для разнообразия послушайся меня разок.
— У него неприятности.
— Не кричи, — сказал Гарри. Я сказал, что и не думал кричать, а он засмеялся, посмотрел на мою старуху и снова засмеялся. — Кем ты, черт возьми, себя воображаешь, если думаешь, что можешь помочь ему? А? Хочешь его спасти? Переделать? Наставить на путь истины? Как бы не так — каждый идет в ад своей дорожкой, а когда, наконец, сподобишься помочь падшей душе, глядишь, она давно уж на небесах.
— Ладно, пускай я не чудотворец, — сказал я. — Но все-таки он мой товарищ, и я должен ему помочь.
— Ну, гляди сам, — сказал Гарри. — Ты, конечно, так и сделаешь, если хоть немного похож на свою старуху. Но берегись сюрпризов. Этот парень никого на свете не любит, говорю тебе — никого.
— А что с Миком Келли?
— С Миком Келли? Это у тебя надо спросить. Пошевели мозгами. Он понимает, что лучше держать язык за зубами. И его папаша тоже. Так что бояться нечего. Если он когда и придет в полицию, так только с браслетами на руках, и браслеты будут никак не из платины.
— Вы, я гляжу, все разузнали, — сказал я.
— Не робей, малыш, — сказал он. — Человек рождается для неприятностей. Это уж закон природы.
— Только имей в виду, в другой раз ты так легко не отделаешься, — сказала моя старуха. — Пускай это послужит тебе уроком…
— Мне не нужны уроки, мама, — сказал я. — Может, я ничего не знаю, но уж это я знаю точно, и для начала хватит. Кстати, не могу поручиться, что больше совсем не будет неприятностей.
— Ну, что там еще? — вскинулась моя старуха.
— Оставь его, — сказал Жилец, выкладывая яичницу на тарелку. — Ешь, тогда у тебя рот будет занят.
— Ты что, в бога не веришь? — сказала она.
— Он ведь побывал в пустыне, правда? — сказал старина Гарри. — Одиночество, раздумье, искушение. От этого всегда были неприятности с тех пор, как стоит мир.
— Правда, — сказал я. — Сущая правда.
— Все придет в свое время, — сказал Жилец. — Только одному тебе нужно научиться сейчас же — любить мать. А нагрянет беда — не рыпайся. Плыви по течению, особенно если тебя ничего хорошего не ждет, и пусть все идет своим чередом… — Он указал вилкой на мою старуху. — Она хотела заявить о тебе в полицию, но я ее удержал. Готов был последний шиллинг прозакладать, что рано или поздно ты вернешься. Так ей и сказал. И вот ты здесь! — Он снова рассмеялся, прихлебывая чай. — Но если б она только знала, на какой риск я шел, ей бы дурно сделалось.
Это был колоссальный завтрак. Наевшись, я лег спать.
— А ночевал где ты? — спросила моя старуха.
— Ты пылесос грохнула бы об пол, если б знала, — сказал я. — Во дворце.
— Это теперь так сточную канаву называют, да? — спросила она. Потом сказала нерешительно: — И вот еще что… За кольцо спасибо. — Она вытянула руку. Кольцо было на том пальце, где обычно носят обручальные кольца.
— В самый раз пришлось, — заметил я.
— А знаешь, что сказал этот дурачок? Что ты непременно вернешься, раз оставил кольцо. Когда я начинала с ума сходить, он все твердил мне… Ну ладно уж, я его возьму, но только с одним условием.
— С каким же, мама?
— Когда придет время, ты подаришь его своей девушке, этой Дороти.
Ну что тут поделаешь? Приходится выдерживать роль до конца.
2
Спать днем вредно для желудка, и меня чуть не стошнило, когда я проснулся и увидел, что старик Гарри жарит печенку с луком.
— Нет, мама, спасибо, — сказал я. — Налей мне только побольше чаю, чтоб силы подкрепить.
— А для чего? — спросил Гарри. — Если для Келли, то это лишнее. Я видел сегодня его старика. С его стороны никаких неприятностей не предвидится — если он и собирался что предпринять, то уже передумал.
— Спасибо, Гарри, — сказал я с искренней благодарностью. — Но я не про это. Тут другое — я безработный.
— Выгнали? — сказала моя старуха. — Что ж ты там натворил?
— Ничего, просто стукнул одного гада молотком по ноге.
И я рассказал им все.
— Ох, Артур! — воскликнула она. — По тебе веревка плачет!
— Я и сам так думал, — признался я.
— Гарри ходил туда сегодня утром, мы думали, они знают что-нибудь. Но они ничего. И дядя Джордж ни слова не сказал…
— Зато вид у него был усталый, — сказал Гарри. — Сколько дряни ты навалил на эту трубу?
— Тонн пять или шесть, — сказал я. Потом подумал. — А может, и двадцать.
— Поглядеть на него, так он все шестьдесят перекидал, — заметил Гарри.
— О господи, — сказала моя старуха. — Ты же мог их убить. Они теперь, конечно, потянут тебя в суд… И газеты раззвонят это на весь город…
— Ну уж нет, — сказал Гарри. — Они и не пикнут… даже там, на участке, и то их засмеют — заживо похороненные! Я человек равнодушный, но хотелось бы мне поглядеть на это… Когда они, наконец, откопались…
— Каждый скинул фунтов по четырнадцать, — сказала моя старуха.
— А на руках мозоли и спины в ссадинах, — сказал Жилец.
— Теперь мы в расчете, — сказал я.
И мы засмеялись так, как не смеялись со времен улиток, но на этот раз все смеялись вместе… А это и есть семья.
3
И вот благодаря старине Гарри, который расхвалил меня управляющему, сказал, что я специалист по машинам, аварийный монтер и механик, каких поискать, я очутился на сардинной фабрике на месте моего приятеля Носаря, который вдруг ушел оттуда. Работенка незавидная, но все-таки лучше, чем стоять весь день на месте да нюхать запах рыбы и прованского масла. А впрочем, неизвестно еще, что лучше. Носишься сломя голову, и все равно от этого запаха не убежишь, едва выйдешь за ворота, как от тебя вонь идет во все стороны. Нет ничего вкусней бутерброда с маслом и хорошей сардинкой, но если ее кладут не на хлеб, а на человека, то все нутро переворачивается, и я понял почему Гарри любил ходить домой пешком, не спеша.
Как детишки из книжек, которые мы читали в воскресной школе у моей бабушки, я зажил по-новому, Я стал даже читать книги, настоящие серьезные книги вместо научной фантастики или детективов. Но, честно говоря, не очень-то преуспел в этом. У меня не было основы.
Я пробовал читать, положив рядом карманный словарь, и отыскивал в нем незнакомые слова, но часто не понимал даже объяснений или же быстро уставал, потому что больно уж часто надо было туда заглядывать. Раз мне пришлось отыскивать шесть слов подряд в одной-единственной фразе, и все равно я ничего не понял. Черт знает что, нигде нет ясности, и меньше всего ее в словах. Я долго не мог взять этого в толк.
И это была не единственная трудность. Я слишком много видел и пережил; не успел, так сказать, переварить свой опыт. Снаружи у меня никогда болячек не было, но внутри вскочили здоровенные нарывы, которые прорывались и извергались как вулканы. Меня нес ураган, как тонущего моряка, который ухватился за жалкий обломок судна и не уверен даже, стоит ли за него держаться.
В эти времена в моей жизни появилась только одна полезная вещь — ванная. Мы всегда бегали в уборную, ну ладно, в туалет, если так вам больше нравится, и умывались там над раковиной… а мылись раз в неделю в цинковой ванночке, сперва до пояса, потом ниже. Я вспомнил, как чудесно было лечь в ванну у Стеллы, и предложил устроить у нас ванную. Моя старуха и Гарри согласились; мы купили бракованную ванну, подержанную колонку, трубы и от начала до конца все сделали своими руками — колонку поставили за субботу и воскресенье, а потом, на досуге, установили и саму ванну. Старима Гарри был просто клад — когда я глядел на него, мне становилось стыдно.
— Не торопись, — говорил он, когда я, увлекшись, хотел все разом сделать, надеясь на авось, и мог испортить работу. Он все умел, у него были золотые руки. Если моя старуха плыла по течению, то он был хозяином своего времени, у него все так и кипело, так и спорилось. Время ему покорялось, и он стал в моих глазах настоящим героем.
Он был похож на матросов из «Шкипера» или «Скитальца»[10], которые за пять, а то и десять лет ничуть не старятся, но только он не старился в работе. К ходу времени он оставался равнодушным, старости не боялся и надеялся умереть легко и быстро. А я вот считал и до сих пор считаю каждую уходящую минуту. У меня есть часы, но они мне ни к чему, потому что я, не глядя, всегда знаю, который час. Время сочится, как вода сквозь щелку, или каплет будто по ночам из крана; я всегда его ощущаю, и это приводит меня в отчаянье.
А жизнь моя шла своим чередом. Вышло так, что первый, кого я увидел на фабрике, был Мик Келли. Он встретил меня дружелюбно, как ни в чем не бывало, и сразу объяснил почему:
— Если б не ты, гореть бы мне мильон лет в аду, — сказал он. Точь-в-точь таким же тоном, как говорят: «Если бы не ты, опоздать бы мне на автобус».
— Как это?
— Я убил бы гада.
— Брось.
— Нет, серьезно, — сказал он коротко. — Я знал, что он собирается меня избить, он всем про это трепался, а когда увидал его, случилась смешная штука… — Я ждал, а он сморщил свою козлиную морду. — Мы с ним местами поменялись, — сказал он. — Я тогда не хотел драку затевать, боялся, что наш священник рассердится, а потом — вот чудеса — я очутился в его шкуре. — Теперь уж я поморщился. — Ей-богу, — сказал он. — Я был уже не я, а он, и он же меня дубасил.
— Выходит, по-твоему, ты дубасил сам себя!
— Это бред, конечно, но именно так и было, — сказал он.
— Говоришь, вы местами поменялись?
— Вроде того, и все же я при этом оставался собой. Понимаешь? — Я ничего не мог понять. Он взмахнул кулаком. — Всякий раз, как я его бил по чем попало, не только кулаку больно было, но и то место болело, по которому я его бил. И мне это было приятно: ведь бил-то он, значит мне не о чем было беспокоиться. С ума сойти можно, но тут, благодарение мадонне, подоспел ты и прекратил это. Дьявол вселился в меня, и я убил бы его, верь моему слову.
Я смотрел на него с удивлением. Он утверждал, будто оказался сразу в двух телах, а с виду ничего не было заметно; и этот человек, с которым произошло такое чудо, будет все так же работать на фабрике, а когда-нибудь пошлет своего старика ко всем чертям и женится. Не знаю почему, но мне было обидно.
С дядей Джорджем мне так и не довелось больше потолковать. Видел я его довольно часто, иногда с тетей Мэри, иногда одного, он всегда шел, задрав нос, но вид у него был такой, будто он наложил полные штаны.
Изредка его имя мелькало в газетах, и моя старуха говорила:
— Когда-нибудь он большим человеком станет.
Но он не стал большим человеком и не станет никогда. Убеждать мою старуху было бесполезно, но если б это можно было, я сказал бы ей, что он, бедняга, и теперь сидит в тюрьме, приговорен пожизненно. И что хуже всего — сидит в одиночке.
Зато я встретился со стариком Джорджем Бзэком. В то время я уже целый век работал на сардинной фабрике, и мы давно уже поставили ванну, и история с Милдред тоже давно кончилась, и много времени прошло с той субботы, когда я ходил к бывшему дому Стеллы и увидел там объявление: «Дом продается». Собственно говоря, кончилась и та полоса моей жизни, о которой я рассказываю. Я снова взялся за чтение. Читал стихи Уитмена. Иногда попадался стих, который начинается со слов: «Из колыбели, вечно баюкавшей…» — и мне становилось грустно. Я был растревожен, места себе не находил, и меня раздражала тихая, довольная жизнь моей старухи и Гарри, которые наглядеться друг на друга не могли и только это и делали, когда им казалось, что я не вижу. А я страдал, потому что у меня самого ничего не было, и в таких случаях лучше всего для успокоения прошвырнуться по улице. Один раз я забрел в Элсвик, где жил бедняга Джордж. Я вышел на одну из тех длинных улиц, что ведут к Скотсвуд-роуд, — подъезды там всегда открыты настежь и лестницы голые, а там, где дом начал уже разрушаться, видны куски шифера.
Я услышал гудки пароходов и стал думать о Темзе, Хамбере, Гудуине, Копенгагене, Гамбурге, Бискайском заливе, Нью-Йорке, Новом Орлеане, мысе Горн. Я дошел уже почти до самой реки и только тогда понял, что невольно иду на зов гудков. Когда я вспоминал все эти манящие названия и сравнивал их с тем, что меня окружало, мне становилось тошно: грязная мостовая, всюду песок, туман, занесенный с моря, за восемь или девять миль, с примесью серы и пепла, — хуже, чем в аду; запущенные сады, земля затвердевшая, как асфальт; покосившиеся стены; грязные занавески, сквозь которые просвечивают лампы без абажуров, и всюду, как крысы ночью, шныряют чумазые дети.
И послушайте, какая мысль мне пришла. Говорят, иногда человек ходит по краю адской бездны. И в самом деле, подумать только, что у меня внутри? Вот где бездна, и я на ее краю: бедняжка Артур мечется, кричит, просится на волю; убийца, помешанный на сексуальной почве, лжец, лицемер, улыбающийся трус; ничтожество, гроша за душой нет, только и умеет, что других свиней от корыта отпихивать; или вор с каучуковым лицом, который слишком дрожит за свою шкуру, чтобы рискнуть. Вот около чего мы ходим. Встретимся в конце круга и подберем свою блевотину, ты у своего конца корыта, а я — у своего.
Я вышел на ровную прямую дорогу, которая вела к Блейдон Рейсис, и зашел в пивную; не потому, что хотел выпить, а потому, что мне нужно было как-то выбраться из этой тьмы. Там был бар в милю длиной и площадка для танцев. За стойкой стояла какая-то тетка, похожая на жабу, и, когда я подошел к ней, десяток глаз уперлись, как пистолеты, мне в спину. Кое-как совладав со своим голосом, я с перепугу спросил шотландского эля, хотя нацелился на смесь простого пива с имбирным. Барменша сурово посмотрела на меня, но эля налила; обручальное кольцо у нее почти вросло в палец. Я стал пить, поглядывая назад через плечо. За средним столиком две бабушки, у которых никогда не было внуков, с полным знанием дела толковали про выкидыши и аборты, и одна рассказывала, как ее товарке не повезло — одна девчонка, умирая, ее выдала.
Несколько парочек наперебой рассказывали похабные анекдоты и терлись коленками под железными столиками; темноволосая ирландка почти лежала на стуле, расставив ноги, и, широко разевая рот, распевала балладу; какой-то паренек не старше меня обжимал в дальнем углу девчонку, думал, наверно, что никто не видит, или просто притворялся приличия ради; два шофера мухлевали с путевыми листами и для храбрости хлопали кружку за кружкой, а почтенный старый рабочий с усами, как у кайзера Вильгельма, в тугом воротничке, смотрел на меня так, словно хотел сказать: «Господи, мало тут желторотых выпивает, так тебя еще принесла нелегкая!»
Я пил, стараясь ни о чем не думать; пиво текло у меня по подбородку, и все надо мной смеялись. Только один человек не смеялся, и это был старый Джордж. Три большие кружки стояли перед ним на стойке, а четвертую он держал в руке. И мне вдруг показалось, что я очнулся от кошмара, почувствовав прикосновение простыни, или после бесконечно долгой ночи увидел солнце. Я быстро пододвинулся к нему.
— Здравствуйте, Джордж, — сказал я.
— Не смей так меня называть, — сказал он.
— Это я, Джордж.
— Кто ты, черт побери? — спросил он, поворачивая голову, и вот уж настоящий кошмар — он меня не узнал.
— Артур Хэггерстон, работал с вами на стройке.
— Совсем из головы вон, — сказал он. — Ты схорони с мое людей, тогда узнаешь, как трудно всех упомнить… Прости, малыш, у меня горе. Последнюю родную душу потерял. Все полегли у меня на глазах от пуль, штыков, снарядов, мин, тонули, помирали от гриппа, воспаления легких, чахотки, гибли от обвалов, сгорали живьем в рудничном газе, но один всегда оставался…
— Кто ж это, Джордж? — спросил я.
— Он сорок лет носил на плечах гроб, а теперь вот решил туда лечь, — сказал он. — Обожди-ка, да ведь это же Артур, малыш Артур, который в похоронном бюро работал.
— Да нет же, я на стройке работал, — сказал я.
— Это ты закопал дядю Джорджа и мазурика Сэма, — сказал он. — Мазурик Сэм на этот раз крепко промазал. Отправился туда, где нет никаких путевых листов.
— Умер?
— Нет, просто в санаторий поехал легкие лечить.
— Жаль, — сказал я. И сердце у меня отчего-то защемило.
— Жаль! Меня лучше пожалей. На его место меня поставили. Я теперь старший закоперщик.
— А все из-за той истории?
Он покачал головой.
— Они часа два не могли выбраться, но все-таки поспели к расчету и так обрадовались встрече с тем малым, что пошли в первую же пивную, и ну пиво хлестать. Вернее, это все Сэм. Дядя Джордж скоро смекнул, чем тут пахнет, и домой. А Сэм, бедняга, никак не мог отогреться… Наклюкался и всю ночь в канаве провалялся. Сам виноват.
— Но началось все из-за меня.
Он покачал головой.
— Ты тут ни при чем. Не воображай, будто это ты загнал его в санаторий. Он сам себя загнал.
Помогать и не надо было. Он помаленьку себя гробил с тех самых пор, как мать отняла его от груди.
Джордж, не вставая, попытался поставить пустую кружку на стойку, но не мог дотянуться. Я взял у него кружку и подал ему другую, из тех, что стояли перед ним.
— Не воображай, будто это ты, — сказал он. — Кажется, я тебе это уже говорил. — Я кивнул. — Ну, конечно же, говорил. Вот я, к примеру, винил себя в том, что было на высоте 60, — рассказывал тебе про это когда-нибудь? Я прорыл не один тоннель и вставил запалы. Но я был виноват не больше, чем генерал, который нами командовал… Это все змей проклятый нас искушает. Сидит там (он указал пальцем на пол), разевает пасть и заглатывает людей. Вот и все. Господь создал человека для радости, но змей завидует и тащит нас в преисподнюю.
— Разве это так просто, Джордж?
— Змей пожирает всех, — сказал он. — Против этого и спорить нечего. — Он единым духом осушил кружку почти до дна. — Теперь, когда в него никто не верит, ему еще сподручней стало дела делать. Это он попутал тебя и других ребят, когда вы травили моего племянника в овраге. И мой бедный племянник думал, что он убегает от вас, но как бы не так — это его змей тащил в преисподнюю, все равно как земля все притягивает, понимаешь?
— Кэрразерс-Смит?
Он кивнул.
— Тогда-то змей в первый раз и ввел его в искушение — заставил стыдиться собственной фамилии. Мне-то что. Родичей ведь не выбирают. Они тебе от рождения даны, а потом можешь их бросить — дело твое. Как только он сменил фамилию, так сразу и попал в лапы змея. Человек, который своей фамилии испугался, и мальчишек испугается, тот, который не может вынести свою фамилию, ничего не может вынести. Верно я говорю? Вот он и бежит, как заяц, падает, а женщина, это жало змея, уж тут как тут, тянет его к погибели.
И я снова представил себе, как Кэрразерс-Смит вошел в дом у оврага.
— Та женщина, которая его впустила?
— Та, с которой его змей свел.
— Значит, по-вашему, не мы с ним так поступили…
— Выбрось это из головы. Вы не ведали, что творили. И та женщина тоже. Когда мой племянник побежал с холма, он угодил прямиком в пасть змея. Не знаю уж, что хуже: наверх лезть или вниз падать. Но, видать, он ей понравился. Она не умывалась дня два, а потом пришла ко мне и сказала, что нашла его в петле, и все спрашивала: «Почему? Почему? Почему? Может, потому, что он потерял место в школе, — сказала она. — А может, потому, что скучал по жене и детям». И я не стал ей говорить, что просто он проснулся утром и увидел ее грязное лицо, грязное окно, грязные простыни, а может, еще свои грязные ногти… и понял, что он во чреве змея. — Джордж погрозил мне пальцем. — Помни, у тебя может быть шикарный дом, шикарный автомобиль и шикарная баба, ты можешь спать в чистой постели и все-таки быть во чреве змея…
— Что ж, может, вы и правы, — сказал я.
— Погляди на меня, погляди на себя, малыш Артур, — сказал он. — Все мы там. Нам и шевельнуться нельзя против воли змея. Это он выписывает путевые листы, а не я, и не Сэм, и не тот, с револьвером. Все мы вроде заводных обезьян.
И он пошевелил пальцами, словно играл невидимой игрушкой.
— Я, когда на шахте работал, — продолжал он, — часто думал: что будет, если в один прекрасный день я пробьюсь к сияющему свету? Будет ли мне хорошо? А только, Артур, мой мальчик, нигде не сияет свет, верно тебе говорю.
Барменша с жабьей мордой подошла к нам.
— Это твой знакомый? — Я кивнул. — Уведи-ка его от греха…
— Сейчас я его домой провожу, — сказал я, едва выдавливая из себя слова, и вдруг раздался звон. Старик Джордж повалился на стойку, а кружка пролетела мимо головы барменши.
— Ты тоже из ихних, — сказал он тихо. — Заодно со змеем.
Рука у него была твердая, как железо.
— Она про это не знает, Джордж, — сказал я. — Она не виновата.
— Твоя правда, — сказал он, отворачиваясь. Барменша сразу испарилась. — Бедная тварь.
— Пошли отсюда, — сказал я.
— Опять на высоту 60, — сказал он. — А она вот-вот взорвется.
— Нужно им помочь, — торопил я его.
Пришел какой-то верзила в рубашке без воротничка. Я нашарил в кармане монету.
— Не беспокойтесь, мистер, — сказал я. — Мы уходим.
— А кружка?
— Вот полдоллара.
— Полдолларом тут не отделаешься. С хозяйкой истерика, — сказал он и нырнул под стойку.
— Берегись, вот еще один! — сказал Джордж.
Верзила протянул руку за ножом, и мы увидели наколотую на ней голую женщину. Старик Джордж оттолкнул меня и, пригнув голову, врезал ему. Татуированный свалился, как тряпичная кукла. Все, кроме ирландки и старика, которые теперь сидели за тем столиком, откуда ушла молодая пара, столпились вокруг нас.
— Дайте мне его увести, — просил я.
— Сейчас я наведу порядок, вот увидишь, — сказал Джордж весело. Он замахнулся, и они бросились врассыпную.
От пивной до его дома было всего четверть мили, но шли мы добрых полчаса. Скоро я понял, что он вовсе и не хочет домой. Ему хотелось плясать, вертеться вокруг фонарей, качаться, выкидывать всякие штуки или где-нибудь в уголке разговоры разговаривать. Но потом он протрезвел и к себе меня не пустил.
— Тебе здесь не место, малыш Артур, — сказал он. — Уходи, все будет в порядке. — Он сел на каменное крыльцо и задрал голову. — Хоть бы одна паршивая звездочка. В первый раз на небо поглядел за столько лет, а они все, как назло, попрятались.
— Это потому, что туман с моря принесло.
— Не морочь себя, — сказал он. — Звезды дают людям надежду, и поэтому всякая сволота нарочно пускает дымовую завесу, понял? Там, наверху, столько света, что ослепнуть можно. Беги домой, малыш, и постарайся жить так, чтоб из тебя вышел толк.
— А как это сделать?
Он понурился и стал теребить свой потрепанный плащ.
— Не знаю. Есть миллион дорог для того, кто не думает о себе. Я старик дошлый, верь моему слову.
— А вы как, ничего?
— Ничего. Ступай.
— Ну что ж, пока…
— Пока. Или нет, обожди-ка, малыш: говорил я тебе, что получаю теперь долю от подрядчика? На прошлой неделе загреб десять шиллингов чистоганом.
Меня будто громом ударило.
— Вот как, — пробормотал я.
— Да, вот так, — сказал он. — По кому же у нас нынче поминки — по Сэму, по моему племяннику или по мне?
— Лучше бы вы ушли оттуда, как я.
— Уши вянут тебя слушать, — сказал он с насмешкой. — Разве может старая птица улететь с насиженного гнезда? Мне уж поздно начинать сначала.
Я хотел сказать ему, что еще не поздно, но ничего не мог посоветовать. Я подумал только, что он счастливый человек, если может еще радоваться жизни, быть не под высотой 60, а над нею и еще выше, где все залито светом. Но я не был так глуп и знал, что он не ждет от меня ответа.
Вопросы он задавал самому себе, как заживо погребенный стучит в крышку гроба, зная, что никто, кроме него самого, не слышит.
— Очень жаль, Джордж, — сказал я. — Прощайте.
— С богом, — сказал он.
Сказал против воли.
Для меня это было как удар бутылкой по голове или кастетом по уху, потому что за этими словами скрывался человек, лишенный надежд, который знал, что никакого бога нет, но выдумал его для меня.
XIV
1
Все было по-прежнему, только наш мирок стал понемногу разваливаться. Когда я в первый раз пришел в «Риджент» и спросил про Носаря, можно было подумать, что его и на свете-то никогда не было. Малыш-Коротыш гонял в бильярдной шары с одним малым по фамилии Сэнгстер, который мне очень не понравился. Мышонок Хоул и Балда пили целыми бутылками кока-колу. Оба они были какие-то сонные и ленивые. Да к тому же скучные. Я не удивился, когда Балда при моем вопросе скроил недовольную рожу, такая уж у него манера.
— В глаза его не видел с тех пор, как его братец пришил крошку Милли, — сказал Балда. — Он теперь с нами не водится.
Я поглядел на Мышонка, но он только пожал эдак плечами, как Дин Мартин[11], и это меня взбесило.
— Значит, вы его бросили? — сказал я с возмущением.
— Ты же знаешь Носаря, — сказал Мышонок. — Ему никто не нужен, вот он носа и не кажет.
— Но, может, ему хотелось бы увидеть друга.
— Брось, — сказал Балда.
— И никто его не искал?
— Шутишь? — сказал Мышонок. — Знаешь, как ихний старик спустил с лестницы одного старикашку, который пришел помолиться за них, — руку ему вывихнул! И Носарь тоже осатанел будь здоров как.
— А кто этот старикашка? — спросил я на всякий случай, чтобы удостовериться, потому что сам уже догадался.
— Какой-то пастор, — сказал Гарри Джонс.
— Эх, и убиваются же они, — сказал другой, хлопнув стакан кока-колы. — Старуха с тех пор ни на минуту не протрезвела.
— Ты с ним дружил, — сказал Мышонок. — Вот и топай туда, пускай тебе тоже руку вывихнут.
— Послушайте, ребята, чего я вам расскажу, — вмешался Балда. — Еду я вчера вечером в автобусе и стою клею одну крошку, а другая сзади стоит. Та, которая сзади, и говорит: «Послушайте, я все вижу, глаз с вас не спускаю». Я не растерялся и говорю этаким стильным голосом: «В таком случае не откажите их спустить, а то они сами вытекут». Ох, и хохотала же она. Полные штаны смеха наложила.
— А ну ее, — сказал Сэнгстер, кончив партию. — Вечером что будем делать?
— В «Павильоне» кино интересное, — сказал Мышонок Хоул. — «Великанша и ее дети». Сходим на пятичасовой сеанс, а после махнем в «Мэджестик», потанцуем.
— Я эту картину видел, — сказал Балда. — Шла в прошлом году. Ее давно мухи засидели, эту твою великаншу. — Он повернулся ко мне. — А ты видел какие-нибудь хорошие картины, Артур?
Я сказал, что нет.
— В киношке у Западных ворот идет потрясный французский фильм. Сходим?
— По мне, лучше в джаз-клуб пойти, — сказал Балда. — Там девчонки, знаешь, как доходят, когда трубы заиграют вовсю, — даже на колени садятся и обнимают за шею.
— Ну, тогда пойдем в джаз-клуб, — сказал Сэнгстер.
— А пить что будем весь вечер — только кофе? — сказал Балда. — Нет уж, спасибо.
— Можно будет опрокинуть по кружке пива, там рядом бар, — сказал Гарри Джонс.
— Бес его знает, — сказал Балда. — Может, лучше соберемся здесь часикам к шести, а?
— Спроси Малыша, — сказал Сэнгстер. — Эй, Малыш!
Малыш подошел.
— Ну, об что звук? — спросил он на тарабарском языке, который тогда был в моде.
— Опять вечером податься некуда, — сказал Сэнгстер.
— Чего-нибудь сообразим, — сказал Малыш. — Приветик, Артур.
— Обождите, ребята, — сказал я. — Мне не до того.
— Беспокоишься?
— Как на угольях сижу, — сказал я.
— Понимаю, — сказал он. — Наполеон на Эльбе, да?
— Пойдешь в джаз-клуб? — спросил Гарри Джонс.
— Сперва я хочу поговорить с глазу на глаз с моим старым другом, маршалом нашего города, — сказал Малыш-Коротыш. Мы отошли в угол. — Он от нас ушел, понимаешь, ушел, — начал он напрямик. — Нечего к нему и соваться. Он совсем бешеный стал. Я видел его в прошлое воскресенье. Работу он бросил еще в день убийства. Говорит, что устроит Крабу побег до суда…
— Да он спятил!
— Чего ты мне-то говоришь — ему скажи. Быть ему в сумасшедшем доме. Он за каждое слово глотку готов перервать. Говорит — надо будет, взорву стену.
— Я должен его повидать, — сказал я.
— Может, и мне с тобой пойти?
Я покачал головой.
— Надо только показать ему, что мы его не забыли.
— Напрасно будешь стараться, — сказал Малыш. — Он вбил себе в башку, что весь мир заодно с полицией — все, кто не согласен рыть с ним подкоп под камеру смертников.
— Я должен его видеть.
— Послушай меня, не ходи, — сказал Малыш-Коротыш. — Или возьми с собой кого-нибудь.
Но я уже решился.
— Где его найти?
— Это проще простого — он взял лоток Краба и торгует фруктами возле крытого рынка. Смотри не забудь надеть шлем и латы.
Поверите ли, я с трудом заставил себя пойти к рынку. Мне было страшно. Я-то его знал. Этот мальчишка был как тигр в джунглях; его ничто не могло остановить. А брата он любил. И уж если он решил устроить побег, то, кровь из носу, будет гнуть свою линию, и всякий, кто не согласится с ним, сразу станет его врагом наравне с полицией, судьей и присяжными. Но не только в этом было дело. Я с молоком матери всосал страх перед убийством. Это у нас в крови. Вернее, не перед убийством, а перед петлей. Когда публично вешают тысячи людей, тут уж волей-неволей многие начинают браться за ум. Когда-то давали большие представления на рождество и настоящие казни тоже бывали, и они оставили по себе память, которая теперь поддерживается тем, что происходит за высокими стенами тюрем. Глядя на Носаря из дверей магазина напротив рынка, я словно видел его в первый раз. Его забавный нос с горбинкой уже не казался смешным, он был не частью маски, делавшей его нашим главарем, а зловещим символом эшафота, и, когда он поворачивал голову и кричал: «Апельсины, яблоки», — я видел, как у него движутся желваки.
Он был частицей того страха, которого я не хотел касаться, но все равно меня тянуло к нему, и не ради него, а ради меня самого. В городе только и разговоров было про Краба, про убийство и про то, что ему за это будет. Всем нравилось думать о долгой ночи и коротком спектакле, который за ней последует. Носарь и его родные знали это. Вокруг них судачили и шептались враги; им оставалось только одно — давать сдачи. А если попадет невинному — не важно. Важно было, что эти люди оскорбляли их родича. Даже судьба самого Краба бледнела перед этой чудовищной несправедливостью, этим ударом, нанесенным достоинству семьи.
Я видел, что Носарь ловит каждый взгляд, каждое слово, сказанное на ухо, каждый намек на то, что он, жалкий слабак, позволит отвести своего брата на эшафот. Я подошел к нему и сказал, едва шевеля пересохшими губами:
— Как дела, Носарь?
— Греби отсюда.
— Давно не видались. Может, поговорим, как кончишь?
— Долго же ты собирался, — сказал он.
— Не знал, где ты работаешь. А домой идти не хотел.
— Никто тебя и не звал.
— Я помочь тебе хочу.
Он отвернулся и закричал:
— Апельсины, душистые апельсины, два шиллинга десяток! Яблоки, яблоки, шиллинг шесть пенсов фунт! Сладкие яблоки! — А потом сквозь зубы: — Ты что, с судьей в родстве? Или с присяжными дружишь? Ему уже ничего не поможет. Дело гиблое. Он убил ее — пристрелил, старик Чарли своими глазами видел.
— Никогда нельзя знать наперед, его могут приговорить пожизненно, если доказать, что у него голова не в порядке.
— Говорил я с кем следует, — сказал он. — Ни хрена не выйдет, нет у нас в семье какой-то там дерьмовой наследственности.
— Да ведь это только формальность или как там оно называется.
Он повернулся ко мне. Клянусь, я убежал бы, да у меня ноги отнялись.
— Нет у нас этой дерьмовой наследственности.
— Что ж, — сказал я, помолчав. — Значит, ничего не попишешь. Я только хотел тебе предложить…
— Апельсины, шиллинг четыре штуки, два шиллинга десяток! — закричал он. — Предложить, — прошипел он. — Рассказать тебе, что у меня на уме, так ты убежишь, как собака, которой хвост прищемили.
— Носарь, за такие штучки ты в тюрьму загремишь.
— Я ему побег устрою, — сказал он. — Вот увидишь. — Выбирая яблоки для молодой женщины, он приветливо улыбался и ловко работал руками. — Пожалуйста, миссис. — Она что-то пробормотала и, схватив пакет, быстро ушла. — Вот погляди, — сказал он. — Погляди только на нее. Ей подружки сказали, что здесь торгует брат Краба Кэррона. И теперь она побежала хвастать, что видела меня.
— Все ты выдумал, — сказал я. — Она и не знает…
Он разжал кулак.
— Гляди. Шиллинг шесть пенсов за фунт. Даже сдачу забыла взять.
У него на ладони был флорин.
— За шесть пенсов поглазеть на брата убийцы — дешевка, правда? А знаешь, о чем она мечтает? Чтоб какой-нибудь злодей вроде меня подстерег ее на «Болоте» в темную ночь. Чтоб повалил, заткнул ей poi травой и раздел догола. Сладкие яблоки, миссис! Чудесные яблоки, шиллинг шесть пенсов фунт! Сладкие гибралтарские апельсины, четыре штуки на шиллинг! И тогда она получит, чего ей надо, будь спокоен, и не пикнет даже. А потом, знаешь, что? Потом она побежит домой, хлопнется в обморок, будет рыдать и жаловаться легашам, и они выйдут на облаву с собаками. Сладкие гибралтарские апельсины! Четыре штуки на шиллинг! Десяток на два шиллинга, тают во рту! И если собаки его выследят, она хлопнется в обморок еще разок — когда ее будут уводить под руки из суда. А если его не поймают, она будет всю жизнь вспоминать про него с любовью.
— Почем ты знаешь? Может, она хорошая женщина.
— Не смеши меня! — сказал он. — Вот моего брата петля ждет, а за что? За то, что он хотел с этой бабой бесплатно спать. А ее бесплатно не устраивало. И он убил ее. Имел на это полное право. На нее и пули-то жалко, вот что я тебе скажу. Надо было ножом пришить…
— Если ты не уймешься, угодишь в сумасшедший дом или еще куда похуже, — сказал я. — Слушай, Носарь, все равно это дело гиблое.
— Ни хрена, — сказал он с усмешкой. — Ну ладно, на сегодня баста. Ты спешишь? Нет? Тогда помоги мне тележку свезти.
Признаюсь, я согласился только со страху. Но все равно, котелок у меня в это время варил, так уж он устроен. Интересно, у вас тоже так? Что бы я ни чувствовал — стыд, отвращение, жалость, боль или горе, все равно я всегда думаю. Всегда начеку. И я понял Носаря.
Теперь я знал, почему он так запросто жил в мире, который ненавидел; почему всеми командовал и даже меня заставлял слушаться; почему мог иметь дело с кем угодно. Он никогда не думал о двух вещах сразу. Будь даже у него мозгов с булавочную головку, и то он был бы умней меня, потому что только об одном и думал — о своем, о себе. Он не думал ни о вчерашнем дне, ни о завтрашнем. Для него существовало только сегодня. На все остальное ему было наплевать. Пускай мысли у него были неправильные, но они заставляли его действовать. Не какие-нибудь дохленькие, залежалые, пыльные мыслишки, а сверкающие, раскаленные добела. Вот если б от этого польза была! Вбить бы, положим, в голову мысль — хочу помочь людям, и больше ни о чем не думать. Уж тогда будьте покойны. Люди получат помощь. Не нужны ни деньги, ни образование, ни талант, потому что благодаря этому жару, этим раскаленным мыслям все, кто нуждается в помощи, получат ее. Но откуда берется жар?
Я думал об этом все время, пока толкал тележку, чуть не падая и сторонясь машин, — как найти мысль и раскалить ее.
Ставя тележку в темный угол рынка, он сказал:
— Проводишь меня? — Я не ответил. — Есть куча способов его освободить, но я выбрал один, самый лучший. Только тут смелость нужна. Это не детская игра. Неслыханное дело — освободить человека, приговоренного к виселице… Ну как?
— А он что говорит?
— Краб? Его я не спрашивал. Но он согласится, будь спокоен.
— А вдруг упрется?
Носарь схватил меня за руку.
— Откуда ты набрался такого дерьма? Да пускай он что угодно говорит, а перед казнью все равно согласится…
— Не согласится.
— А ты почем знаешь? — сказал он, подходя ко мне вплотную. — Откуда ты это взял? Кто его брат, я или ты?
Мне бы схитрить, согласиться, пускай носится с этой мыслью. Все равно кончилось бы ничем. Такие детские затеи всегда ничем кончаются. Но я знал, что он может натворить бед. И может заставить меня сказать «да» просто потому, что он сильнее, и я твердо решил помочь ему единственным возможным для меня способом — сказать «нет» в первый раз с тех пор, как мы с ним знаем друг друга.
Я молча покачал головой.
— Ну ладно, я пошутил, — сказал он, выпустил мою руку и отошел. Это была самая печальная минута для нас обоих. — А вдруг он и вправду скажет, что хочет умереть? — спросил он через плечо. — Нет, это ты просто отговорку придумал. Не может он хотеть смерти. Он сделал не больше, чем те, что стреляли на войне из винтовок — трах-тах-тах, или те, что сбросили атомную бомбу, но в его поступке хоть смысл есть. Он знал, в кого стреляет. Да чего там, ты с ними заодно: хочешь, чтоб его повесили!
— Честное слово, не хочу, Носарь, — взмолился я. — Будь моя воля, никого бы не вешали.
— Всем этим разговорчикам грош цена, — сказал он. И засмеялся: — Да и потом это только так — мечты. Все равно ничего у нас не выйдет, никакому сверхчеловеку такое не под силу.
— Да я просто тебя испытывал, — пробормотал он. — Поглядеть хотел — а вдруг зацепит тебя. Если б ты согласился, я сам первый сказал бы, что все равно она его уже заклеймила, и он теперь только одного хочет — чтоб ему поскорей скрутили руки за спиной и отвели туда…
У двери он подал мне руку.
— Ты не сердишься? — Я, чуть не плача, пробормотал, что не сержусь, и пожал протянутую руку. — Разве я так поступил бы на твоем месте? — сказал он, ни к кому не обращаясь. — Нет, конечно. Я б подложил тебе свинью. Да я так, собственно, и сделал…
Он обошел вокруг меня, сунув руки в карманы, зная, что я в его власти, потом прислонился к стене.
— Курить есть? — Я вынул сигарету и бросил ему. — Ты не поверишь… — начал он и замолчал прикуривая. Я ждал, что будет дальше, а он ломал передо мной комедию. — Ты не поверишь, — сказал он наконец, — но сроду я с такой горячей девчонкой не путался. — Он тряхнул головой и как-то странно, выжидающе поглядел на меня. — Раз вечерком я завернул к ней извиниться за то, что мой старик вышвырнул ее старика, сказал, что я, мол, знаю ее и знаю, что пастор выполнял свой долг. — Он отбросил сигарету, не докурив и до половины. — Люблю вот так начать и бросить… Ты слушаешь, Артур? — Я кивнул. — Ну вот, пошли мы прошвырнуться, долго ходили и все разговаривали, — да, брат, эта крошка любит поговорить. Я покаялся ей в своих грехах. Все шло как по маслу. А потом она спросила про тебя, и тут у меня нечаянно вырвалось…
— Что вырвалось?
— Я просто так, для смеху, рассказал ей, как ты разъезжал с одной дамочкой в роскошном автомобиле. Она сказала, что, может, тут ничего плохого нет, а потом вдруг как взорвется, вроде ракеты, только вместо искр слезы. Но ничего, я ее утешил, — сказал он с торжеством. И, склонив голову набок, спросил: — Ну, что скажешь?
Может, он ждал, что я сразу его стукну, но меня так быстро не расшевелить. Конечно, мне было обидно узнать, что Дороти такая же, как все эти пташки, хоть и в другом оперении, чем Стелла, Милдред и прочие, но той же породы…
А обиднее всего было то, что сам я не понял этого, и Носарь открыл мне глаза. И было очень грустно вспоминать ее голос, лицо и этого беднягу пастора; но больше всего жаль было бедняжку Артура. Я стоял и чувствовал, как во мне закипает злость. Уйди он тогда, этим все и кончилось бы. Но ему было мало. Он подошел и ткнул меня пальцем в бок. Тут уж я не выдержал. Я три раза стукнул его под ложечку, а потом еще по лицу — легче легкого врезать апперкот человеку, который согнулся в три погибели. На мгновение я стал таким же, как он, — мозг мне жгла одна-единственная мысль: отправить его туда, куда его брат отправил Милдред. Но, почувствовав боль в руке, я опомнился и ушел, растирая на ходу пальцы. Ничего, очухается сам, не маленький. Мне казалось тогда, что все кончено.
XV
1
уда ни сунься, всюду тупик. Каждую субботу вечером я выхожу из дому с пятью или шестью фунтами в кармане и не знаю, куда деваться. У меня есть проигрыватель, но ведь с ним долго не просидишь — он не заменит друга. Есть и карманный транзистор, так что, если мне осточертеет сидеть в нашей уютной гостиной, можно уйти куда душе угодно. Я включаю его, но скоро он надоедает мне хуже горькой редьки; ставлю пластинку, но не могу усидеть на месте. Мечусь, как тигр в клетке. Нашими ребятами теперь командует Сэнгстер, он ко всем относится покровительственно; а Малыш-Коротыш, Балда и все остальные — просто тряпичные куклы, с которыми мне не о чем разговаривать. Носарь где-то в миллионе миль от меня, он весь накален, но меня это не греет. Стелла уехала, ее дом опустел. С Дороти я порвал.
Но хоть и знаешь, что всюду тупик, все равно кидаешься во все стороны. Раз вечером старик Джонсон встретил меня на Шэлли-стрит и затащил к себе. Нам нечего было сказать друг другу, разговор шел со скрипом, о пустяках. Теперь я знаю, для чего он меня привел, — хотел Дороти успокоить. Мы играли в шашки, а Дороти листала журнал. Иногда я ловил на себе ее взгляд: так смотрят на ядовитую змею. Но с виду она была приветлива и очень хороша собой. Наконец я сказал, что мне пора.
— Сыграем еще партию, — предложил пастор не слишком настойчиво.
Но я уже встал и пятился к двери.
— Нет, не могу. Большое спасибо.
— Что ж, заходи, — сказал он. — Ты знаешь, тебе здесь всегда рады. — Он посмотрел на Дороти. — Правда, девочка?
— Конечно, — сказала она с натянутой улыбкой.
— Ну, до свидания, — сказал я.
— Дороти тебя проводит. Да, Дороти?
Дороти кивнула с таким выражением, словно хотела сказать: ничего не поделаешь, придется. Она вышла первая. Старик Джонсон сидел, уставившись на шашечную доску.
— Прощайте, мистер Джонсон, — сказал я.
Он понял, что я прощаюсь навсегда.
— Прощай, сын мой. — Он знал, что бесполезно добавлять: «Благослови тебя бог». Может быть, он сказал это шепотом, как игрок, который поставил на кон последние деньги и знает, что ему не выиграть.
Спустившись с лестницы, я протянул ей руку.
— Ну, пока.
— Подожди, — сказала она. — Где ты был на пасху?
У меня в голове будто звякнул крошечный колокольчик, и я услышал голос Стеллы — она спросила меня, какой сегодня день, а потом сказала: страстная пятница.
— Сбежал из дому, — ответил я.
— И долго тебя не было?
— Двое суток, вернулся в великую субботу.
— Да, порядочно, — сказала она. Я знал, что будет дальше, и молчал, надеясь ее остановить. Но она продолжала неумолимо: — А Стэнли Кэррона ты видел? — Сперва я вытаращил на нее глаза, не понимая, что это она про Носаря говорит, но потом до меня дошло. Я кивнул. — Значит, он тебе уже все рассказал? — Она смотрела на меня до тех пор, пока я не пробормотал, опустив голову: «Да, рассказал». — Что скажет отец, когда узнает! Как мне быть, Артур? — Я взял ее за руки. Она вырвалась и спрятала руки за спину. — А все ты виноват — обращался со мной, как со святой или не знаю уж с кем, а потом ушел к той женщине. Да, он мне все сказал, ему это было выгодно. А теперь он меня знать не хочет. Ненавижу его! Такой же зверь, как его брат, взял, что ему нужно, и прощай… А ты… ты больше не захочешь меня видеть?
— Для меня это не важно.
— Зато для него важно, — сказала она, встряхивая меня за плечи. Потом она тихо заплакала. — Теперь я все потеряла, никогда больше я не смогу смотреть в глаза отцу и прихожанам тоже. Я ничем не лучше других девушек, которые ходят по пивным и вешаются на шею первому встречному. А ему это нужно было просто для того, чтобы перед тобой похвастать.
— Ему казалось, что так он лучше всего меня оскорбит, — сказал я.
— Ах, Артур, ты так думаешь? — спросила она, глядя на меня со слезами. Я обнял ее, и она прижалась ко мне всем телом. — Ты мне очень нравишься, — шепнула она. Ее руки поползли вверх по моим, сжали мне плечи, и тут уж мне ничего не оставалось, как поцеловать ее. — Ах, если б ты раньше так меня поцеловал! — сказала она. И с улыбкой отстранилась от меня. Мне хотелось целовать ее еще и еще, взять от нее все. Но она, вызвавшая во мне такую бурю, была совершенно холодна, спокойна и рассудительна. Это меня остановило.
— Никогда не поздно поправить дело, — пробормотал я. Но она не двигалась. Вмиг она словно превратилась в камень. Будто какой-то кран закрылся. Ни о чем другом я не мог думать. Закрылся для меня, но не для Носаря. До сих пор не знаю, что было у нее на уме; то ли мы вдруг оба вспомнили, что в тот первый раз с ней был Носарь, а не я; то ли она просто играла со мной по-другому, держа меня на вторых ролях, потому что так ей казалось вернее. Этих женщин не разберешь.
2
Крабу Кэррону не на что было надеяться, и, по общему мнению, он сам не хотел жить. Любопытно, что многие ему сочувствовали, хотя его родичи не унимались и кое-кого здорово отделали, да и в суде старик Кэррон закатил колоссальный скандал. Когда судья огласил приговор, старик вскочил и стал орать, что его сын хороший, а девка этого заслужила, и, если Краба повесят, он всех поубивает — судью, присяжных и палача. Газеты потом напечатали фотографию — он потрясает кулаками за дверьми зала суда, а из-за его плеча выглядывает Носарь. Я знал, что Носарь изобретает всякие планы, мечтает, как он, будь в нем росту футов двенадцать, разнес бы все здание суда, схватил Краба в охапку и утащил его. Или подождал бы, пока его выведут на эшафот, и налетел с вооруженным отрядом, а не то проломил бы ворота и въехал на танке прямо во двор суда, открыв ураганный огонь, или же сделал бы подкоп под тюрьму в милю длиной. Но он стоял, сжав кулаки, в такой позе, что сразу видно было — надежды нет никакой, и он это знает.
И все же я ожидал чего-то. Мне казалось — вот разверну газету и прочту, что брат Кэррона убил какого-нибудь шофера и врезался на грузовике прямо в тюрьму.
Так что вы, я думаю, поймете, почему я не выходил из дому в тот вечер. Все мы об этом думали. Все чего-то ждали, хотя до утра это произойти не могло. Моя старуха гладила белье, а Гарри чинил часы. По радио как раз передали сигнал — девять. Я читал Герберта Уэллса, понимая одну фразу на две страницы, как вдруг Гарри поднял голову, вынул из глаза увеличительное стекло и сказал:
— Кажется, стучат.
— Наверно, ветер, — сказала моя старуха, но все же пошла поглядеть. Вернулась она бегом. — Это он!
— Позови его сюда, — сказал Гарри.
— Звала, он не идет, — сказала она, а я уже встал и пошел к двери. — Будь осторожен, Артур, — предупредила она меня.
— Брось, — сказал Жилец, снова вставляя стекло в глаз. — Постучался человек, которому нужна помощь… Ты, Артур, скажи ему, что чайник закипел, может, он захочет чайку выпить.
— Спасибо, Гарри, — сказал я и вышел в темный коридор. Это, конечно, был Носарь, он стоял, прислонившись к дверному косяку, и поглаживал нос. Лица его видно не было. Он отвернулся от уличного фонаря и стоял в тени. Я протянул руку к выключателю.
— Не надо, — сказал он. — Как делишки?
— Так себе.
— А у меня совсем дрянь. Хочешь пройтись?
— Моя старуха зовет тебя чай пить. Пошли?
— Нет, уж лучше буду ходить, покуда ноги носят, — сказал он.
Я надел прорезиненную куртку и сказал дома, что ухожу.
— Только смотри без фокусов, — сказала мне мама.
Как сейчас ее вижу — она глядела на меня поверх перевернутого утюга.
— Он хочет пройтись, — сказал я.
— Помоги ему бог!
— Ключ у тебя есть? — спросил Гарри. Я кивнул. — Пройдите десять, двадцать миль. Покуда мозоли не набьете.
У меня было два шестипенсовика, и я в первом же автомате взял плитку шоколада. Это было на береговом шоссе. Неподалеку была почта, а на ней большие часы. Пока я покупал шоколад, Носарь не сводил с них глаз и все время вздрагивал; уже на второй раз я понял, что вздрагивает он вместе со скачком минутной стрелки. Мы повернули в другую сторону. Хотя наступил уже конец октября, было не холодно. Погода стояла мягкая, и никто не заметил, как подкралась осень. Мы шли к реке. Два раза он спросил, сколько времени, и я проклинал себя, что не оставил часы дома. На третий раз я понял, что он спрашивает у каждого третьего фонаря. Я снял часы с руки и сказал, что они остановились. Было половина десятого, и я, сделав вид, будто завожу их, перекрутил пружину. Когда я снова их надел, они показались мне тяжелей свинца, и я боялся, как бы он не заметил, что они перестали тикать.
— Вот бы и ему с нами пройтись, — сказал он. — В последний разок. Он вскочил бы, обрадовался, хотя никогда не ходил пешком, если был автобус или попутка.
— Сочувствую тебе, старик, — сказал я.
— Ладно, ты не обращай внимания, — сказал он. — Тут уж ничего не поделаешь, только и остается ходить… Видал когда-нибудь, как львы и тигры ходят по клетке? Вот и я так же. Как думаешь, оттуда, сверху, глядит кто-нибудь на нас или на него?
— Честно, Носарь, не знаю.
Он посмотрел на небо.
— Черт знает как далеко до этих звезд, — сказал он так спокойно, что я удивился. Я тогда не знал, что можно быть в лихорадке, а говорить медленно, твердым голосом. — Как думаешь, есть им конец?
— Никто этого не знает, — сказал я.
— Выходит, кто бы оттуда ни смотрел, все равно он ни черта не увидит, кроме двух точек, которые еле ползут, будто и не двигаются вовсе?
— Если между ним и нами нет еще живых существ, — сказал я, — мы, пожалуй, кажемся ему побольше точек…
— Вот то-то и оно — если, — сказал он. — Похоже, что там, за звездами, вообще ничего нет. Кто-то завел пружину, сделал свое дело и ушел. Как тот, кого назначили назавтра сделать это. — Он переменил разговор. — Я жалею о том, что сказал тогда, помнишь, на крытом рынке. Хотел бы я, чтоб это была неправда.
— Слушай, Носарь. Я тоже жалею. Но это была правда — то, что ты ей сказал.
— Все равно, — сказал он. — Не должен был я этого говорить.
Прогулка вышла лучше, чем я ожидал, честно сказать, где-то в глубине души мне было даже приятно. Мы дошли до бетонного мостика над рельсами, по которым проезжали вагонетки с углем. Он посмотрел на небо.
— Надоело идти по дороге, — сказал он. — Пойдем по шпалам?
Мы спустились к насыпи и, повернув на север, пошли по обе стороны от рельсов.
— А как та, другая? — спросил он вдруг.
Надеясь отвлечь его от мрачных мыслей, я рассказал про Стеллу. Когда я кончил, он свистнул, потер нос и усмехнулся.
— Да, брат, — сказал он, — для мечтателя тебе уж слишком часто везет.
На миг он вдруг стал прежним Носарем.
— Вот что, старик, послушай моего совета, — сказал он. — Ни с кем больше так не откровенничай.
— Это почему же? — спросил я.
— Рано или поздно какой-нибудь ловкач вроде меня в дураках тебя оставит, — сказал он. — Сделает из твоих чувств дерьмо собачье, уж это как пить дать. Больно ты доверчив!
Мы долго шли молча.
— А знаешь, я ведь наполовину испанец, — сказал он. — Я не стал бы говорить про это, не до того мне сейчас. Но никогда не знаешь, что тебя на плохую дорогу толкнет.
Спуск был длинный, и мы шли долго. Но по маяку на востоке я определил, что прошли мы всего миль пять-шесть. Одно место показалось мне похожим на высоту 60. Там была груда пустой породы, бульдозеры вгрызались в нее, убирая красный, тлеющий шлак, и все вокруг изрыли. Они выкопали целые кратеры, прорыли траншеи, нагромоздили хребты и горы с тупыми вершинами, а шлак все еще тлел. В темноте похоже было, будто глядишь в раскаленный горн, и ветер доносил запах тухлых яиц. А подальше была башенка — шахтный ствол, обнесенный кирпичной стенкой.
— Давай посидим, — сказал он. Но вместо того чтобы сесть с подветренной стороны у стенки, он обошел вокруг. Потом поднял кирпич и взвесил его в руке. — Вот послушай, — сказал он.
Кирпич ударился о стенку, полетел вниз и, наверно, на глубине тысячи футов с треском, как будто пробил толстый лед, упал в воду. Эхо долго еще грохотало в шахте.
— Да, глубоко здесь, — сказал он и прыгнул прямо на стенку. Я весь похолодел: казалось, он хотел размозжить себе голову. Но он подтянулся на руках, как обезьяна, и вот уж стоял на стенке шириной в каких-нибудь несколько дюймов.
— Ради бога слезь, — взмолился я. А он меня даже не слышал. Он смотрел вниз. — Носарь! — крикнул я.
Он стал медленно спускаться и повис в воздухе на секунду или две, пока ноги искали невысокую приступку. Его лицо было мне хорошо видно на фоне стены — он горько плакал. Я подбежал к нему и усадил его. Он ободрал себе руку о колючую проволоку, и я перевязал ее носовым платком. Другой рукой он прикрывал глаза, словно не хотел чего-то видеть.
А потом, сидя у стенки, он жевал шоколад. И все прикрывал рукой глаза.
— Интересно, спит он сейчас или нет, — сказал он наконец. Всякий раз, как он упоминал о Крабе — никогда не называя его по имени, — я подпрыгивал чуть не до неба. Может, надо было убедить его не думать об этом. Но тот, кто побыл с братом смертника, знает, что это невозможно — не думать. Я украдкой поглядел на часы.
— Ты же их сломал, — сказал он.
Вид у меня, наверно, был дурацкий.
— Господи боже, — сказал он с горьким смехом. — Даже теперь мне ничего не стоит тебя купить. — Я отвернулся обиженный. — Не сердись, — сказал он. — Я вот уж недели две думаю о времени, и особенно с сегодняшнего утра. Пойдем.
Я еще пуще обиделся, и все удовольствие от прогулки пропало. Никаких сил не было терпеть. Куртка жала под мышками, воротник натирал шею, спина ныла, ноги болели, особенно когда я делал неосторожный шаг и, оступившись, попадал каблуком между шпалами. Вдобавок мне до смерти хотелось спать, глаза запорошило песком, да и не знал я, что у него на уме. Честное слово, я не удивился бы, если б он вдруг подскочил ко мне и всадил в меня чугунный костыль из тех, что аккуратными кучками были сложены вдоль рельсов.
— Часы, — вдруг сказал он, пройдя молча целую милю. Это было так неожиданно, что я не понял, о чем речь и при чем тут часы. — Часы. На церквах, магазинах, муниципалитетах. И на цепочках — тикают у самого сердца. От них не удерешь, а если все-таки попробуешь, тебя начинают преследовать наручные часы. Узкие золотые браслеты и маленькие циферблаты, кожаные ремешки и циферблаты побольше, видно даже, как скачут секундные стрелки. А еще бывают квадратные, величиной с камеру смертников, и стрелки у них острые, как ножи, — берегись! Сроду не видел столько всякого металла. Понимаешь, это вроде наручников. Я и раньше им не поддавался, а теперь могу даже пройти мимо ювелирного магазина.
— Ювелирного магазина? — глупо переспросил я.
— Там полно всяких часов — и наручные, и стенные с боем, и старинные, с кукушкой. А стрелки движутся, ползут, в стеклах отражаются огни — знаешь, будто смеются, — иногда мне хотелось взять кусок кирпича…
— Но ведь в этом и хорошее есть, — сказал я.
— Как так?
— А так — время идет, не останавливается, а раз так, все это должно кончиться. Может, и он о том же думает.
— Ничего хорошего тут нет, — сказал он, не обращая внимания на мои слова. — Время — как большая река, а по берегам — скалы в тысячу миль высотой. Иногда река течет медленно, а иногда бурлит и мчится как бешеная. Но деваться некуда, река несет тебя, и никаких гвоздей. Скажем, ты выпиваешь, или танцуешь, или дерешься. А время не ждет, оно свое дело делает, и ты все стареешь. Колеса крутятся и нас крутят! — крикнул он. — Что толку жить, если ты себе не хозяин? Что толку радоваться, когда знаешь, что тебя, как свинью, откармливают на убой?
Мы сошли с насыпи и зашагали через поле к реке. Уклон был к востоку, а все деревья клонились к западу. Соленый запах щипал мне ноздри, ночной воздух жег, как огонь. Я вдруг заметил, что все время смотрю в сторону. Глядя на эти согбенные деревца, на низкорослый боярышник, я думал, что, может быть, в этом истина. Дует ветер, им приходится покоряться. Они склоняются перед ним, а когда распускаются цветы, никто и не замечает, что ветки кривые. Они не уповают на доброту бога, а мирятся с его жестокостью — не только с этим вонючим временем, идет оно там или не идет, но и со всем остальным дерьмом. Может, тот, кто сумеет проплыть по этой огромной реке и миновать пороги, сможет потом плавать по тихим заводям и любоваться на звезды. Но Носарю я не сказал ни слова. Это была его ночь, и если, распаляя себя, он чувствовал облегчение — что ж, пускай. Такое каждый сам решает для себя, и, только когда будешь готов, можешь задать вопрос и — дзинь! — получить ответ. А старина Носарь тогда еще и на старт не вышел. На каком бы он там коньке ни собирался скакать, конек-то был привязан за хвост к столбу да то и дело на дыбы вставал.
— Вся наша семья получила приглашение на завтра. — Я сразу подумал о казни и с ужасом уставился на него. — Да нет же, не туда, — сказал он. — Они-то не станут звать. Это старик Джонсон прислал записку. Там сказано, что миссия открывается в половине восьмого и он просит нас пожаловать. Пожаловать!
— Елею-то многовато выходит, — продолжал он. — Один священник для нашего малого, другой — для семьи. Один будет глядеть, как его вздернут, другой — утешать осиротевших. Это те же полисмены, только в другой одежке! Хитрые гады, заставляют тебя сложить руки, чтоб и наручники были не нужны. Я б их поубивал всех!
— Старик Джонсон это от души делает, — сказал я. — Ему не меньше твоего тяжко.
— Раскис, старый дурень.
Никогда не забуду эту прогулку. До сих пор, как вспомню, ноги ноют. Мы шли по дорожке, которая долго петляла и, наконец, вывела нас в низину. Живые изгороди оказались в девяти или десяти футах над нами, а потом мы шли куда-то на север, к полям, и вышли на болото, где из вонючей топи росли высоченные камыши. Мы, как идиоты, прыгали с кочки на кочку, не видя ни зги, потому что луна почти не светила, и, оступаясь, я всякий раз чувствовал, как грязная жижа затекает мне в ботинки. Время от времени нам открывалось целое море огней, белых, оранжевых и красных, они тянулись рядами или закручивались причудливыми петлями — это был Шилдс, южный берег Тайна. Иногда, как старая усталая корова, ревел запоздавший пароход, так громко, что казалось, стоишь на палубе и с перепугу того и гляди полетишь в трюм. Вдруг мы очутились в лисьих местах — перед нами на целую милю раскинулись холмы, густо поросшие боярышником и ежевикой. Эти кусты доставили нам кучу хлопот: я долго потом вытаскивал колючки из рук, боков и волос; те, что попали в ботинки, вонзились неглубоко, но расцарапали мне ноги. А потом мы набрели на яму, полную до краев черной, как смола, воды, и вонь от нее шла дикая. Мне на эту вонючую яму смотреть было противно.
— Спорим — там на дне что-нибудь интересное, — сказал Носарь. Он мог бы и не говорить этого. И тут я в первый раз испугался чего-то — сам не знаю чего, — еще больше, чем Носарь. Мы пересекли луг, ровный, как бильярдный стол, и пошли по немощеной дороге мимо каких-то свинарников; слышно было, как свиньи тыкались в стены и хрюкали. Носарь остановился, поднял камень и швырнул его. Послышался стук и визг.
— Ишь всполошились, — сказал он с усмешкой.
На береговое шоссе мы вышли в полночь, помню, стояла мертвая тишина, казалось, было даже тише, чем в полях, потому что туда все-таки доносился шум: грохотали электрички, торопливо стучали пневматические молотки в доках, мы дожидались попутки, и, клянусь, я был рад, когда остановился грузовик с рыбой. А за минуту до того, как показались его фары, часы начали бить полночь; сначала в Уолсенде, потом в Ньюкасле, наверное, на соборе святого Николая, потом — в Тайнемуте, в Саут-Шилдсе, Джарроу и еще где-то. Они били громко и гулко, это был целый оркестр. И сквозь эту музыку с какого-то дока донеслось размеренное лязганье. Как будто кто-то лупил в тарелки. Но это было больше похоже на погребальный звон надтреснутого церковного колокола. Я видел, как у Носаря сжались кулаки, и побоялся взглянуть ему в лицо.
Я почувствовал облегчение, когда мы полезли на высокие холодные ящики с рыбой и под ногами у нас захрустел лед. Мы дали шоферу десяток сигарет, и он довез нас до моего дома ровно в половине первого ночи; я запомнил время, потому что первым делом отнес будильник в кладовку и положил там циферблатом вниз, чтоб не видеть стрелок. Моя старуха крикнула сверху:
— Подогрей чай, яйца и ветчина на кухне. — Я поднял голову и увидел ее на лестнице, она была как призрак, в длинной ночной рубашке, волосы распущены по плечам, руки сжаты. — Ну как?
— Все хорошо, мама, — сказал я. — Ложись и спи.
— Не могу, — сказала она.
Несколько секунд мы смотрели друг на друга, потом она вздохнула и ушла к себе. А минуты через две запели старые пружины, и я понял, что она мечется и ворочается в кровати. Я налил воды в чайник, положил на сковородку ветчины и разулся. Носарь молча смотрел на меня.
— Я есть не хочу, — сказал он.
Но тоже покорно начал разуваться, как усталый старик, который знает, что ему все равно не уснуть. И тогда я пожалел, что мы вернулись домой.
3
У всякой истории должен быть счастливый конец, надо только дождаться. Сходите летом к мосту в любой субботний вечер, и вы услышите, как новообращенный проповедует там кучке верных, а рядом с ним стоит девушка в белых перчатках и держит в руках библию. Один раз я пошел на него поглядеть. Синий костюм, белоснежная рубашка, красный в косую синюю полоску галстук, и вокруг него нимбом — чистота. Да, братцы, стоя там, я все время чувствовал, что у меня грязные руки и я не брился целых десять часов. И внутри тоже грязь. Но главное — это его волосы. Он отмыл прованское масло, и они стали легкие и шелковистые; каждый волосок был сам по себе и трепетал на ветру, как перышко. Я внимательно слушал. Он отчитал библию и с преданным видом выслушал старика Джонсона, который глядел на него во все глаза и ликовал. Для него это было важно, но для меня и для всех занятых людей это мура. Ладно, пускай он чистый, хороший, никому зла не делает, всегда поможет ближнему, будет примерным мужем и отцом, но, братцы, мне почему-то грустно.
Теперь у него не часы на уме, а молитвенник. Он думает, что ему все дано, что он начинает новую жизнь. Конечно, это просто, но не настолько просто, чтобы в один прекрасный день отшвырнуть все свое прошлое и начать проповедовать писание. Поверьте, я не смотрю на него свысока. Может, я чего-то не понимаю. Может, некоторые избирают кратчайший путь, потому что другого у них нет, и этот путь хорош для них. А другим приходится идти дальним путем, ошибаться, терпеть обиды и в конце концов прийти к чему-то в том же роде. Но они знают, на что идут, а мне именно это и нужно.
Прежде чем завязать себе глаза, я хочу знать, для чего это нужно. Прежде чем отказаться от всего мира во имя молитвенника, шор, стези добродетели, священных текстов и посулов вечного блаженства, я плюну богу в глаза, как сделал Носарь. У меня все хорошо, друг, бери с меня пример, и у тебя тоже все будет хорошо. Нет! Мир слишком велик для недоумков, думающих, что можно просто-напросто свернуть с одного пути и пойти по другому, который тебе укажут бесплатно, задаром. Найди сам свой путь. Поброди, как мы с Носарем в ту ночь, но только сделай это один, и ты никогда уже не отдашь свою душу ни богу, ни черту за легкий путь, или за пару новых ботинок, или даже за стакан холодной родниковой воды. Я не верю, что бог дал нам жизнь и смерть, чтобы мы обретали спасение ценой нового рабства. Как только пожертвуешь своей душой, тебе крышка. Кончишь на высоте 60, мертвецом. Пускай даже тебя не взорвут. Все равно ты мертвец.
Ну да ладно, я тут развел муть. Можете не читать. Вчера была хорошая погода, и мы поехали на пляж. Песок я не променяю на золото, море — на шампанское — кстати, какой у него вкус? — ни на что не променяю все это: воздух, ветер, облака и людей.
Моя старуха задрыхала, а мы почему-то заговорили про Носаря.
— С ним и впрямь произошло чудо, спору нет, — сказал мой отчим. — И, конечно, он переменился, но мне неприятно его видеть. По-моему, очень уж быстро он попал из грязи в князи. Это кого хочешь могло бы преобразить, но он, мне кажется, в душе всегда останется прежним. Есть в нем что-то такое. Хотел бы я, чтоб и во мне это было. Это от природы, и его заслуги тут никакой нет, но ему кажется, что это возносит его над всеми. За это я и не люблю его. Понимаешь?
И я его понял. Что-то щелкнуло у меня в голове, и мои воспоминания стали на место. То, что отделяет жизнь от жизни или жизнь от смерти (что будет с тем из братьев, который сломает себе шею, прежде чем обретет спасение?), это еще не все. То, что заставляет одного человека считать себя выше другого или другого считать себя ниже, пострашней, чем шахта под высотой 60, или водородные бомбы, или любая из тысячи и одной разновидности смерти. Я думаю вслух. Заповедь «люби ближнего своего» утратила прежний смысл, сегодня она гласит: «Рискуй ради ближнего своего». Вот почему я порвал с Носарем. Моя старуха и Гарри рисковали в тот вечер, когда отпустили меня с ним; и я никогда не забуду, что рисковать порой значит молчать, доверять человеку, не лезть ему в душу. Именно так они и поступили накануне казни Краба Кэррона.
Носарь в тот вечер был какой-то одержимый. Он, как воздушный змей, то летел прямо по ветру, то делал невероятные скачки и петли. Мне все время приходилось гадать, что еще он выкинет. Когда мы вернулись домой, мне показалось, что он образумился. Я изжарил яичницу с ветчиной и поставил перед ним тарелку, не спросив, будет ли он есть. И вдруг он сказал, что плитка шоколада за целый день — все равно что ничего и он, пожалуй, попробует пожевать чего-нибудь. Ну и ужин это был! Грязные, как трубочисты, мы набивали себе рты, слишком усталые от переживаний, чтобы разбирать вкус, но ели жадно, как будто это могло избавить нас от неприятностей. И на время мы действительно успокоились. Чай мы пили у камина, поставив чайник, молочник и сахарницу на решетку.
— Слышь, старик, — сказал он наконец. — Спасибо тебе и твоей старухе за то, что вы пустили меня сюда. Про дом мне и подумать страшно. Когда я уходил, был скандал — они подумали, что я в пивную. Конечно, иногда я могу выпить кружку пива, но сегодня… — На глазах у него выступили слезы, и он отвернулся. Помолчав, он сказал: — У них теперь там дым коромыслом. Пришли две шлюхи, Нэнси и Джинни, со своими хахалями, пузатый Джо и косой Гарри, у которого вечно изо рта воняет. Да еще пятеро наших, и Ник, конечно, — уж будь уверен, он не упустит случая выпить на даровщину; наш старик орет, что все полисмены будут гореть в аду, что он никогда в жизни не знал справедливости, не говоря уж о его детях… Старуха тихо накачивается винищем, сволочной будильник отстукивает минуты, а Ник весь дом переворачивает, ищет штопор… Вот, старик, от чего ты меня избавил.
— Мы тебе всегда рады, — сказал я, чувствуя, как глаза у меня слипаются и голова тяжелеет. А потом он пошел молоть все, что придет в голову. Если б кто в окно заглянул, то подумал бы, что мы рехнулись: Носарь нес какую-то околесицу про Кэрразерса-Смита (я слишком устал, чтобы остановить его и сказать, что старый К.-С. умер и похоронен); про историю с голубями; про то, как мы пекли картошку в горячей золе и жарили на вертеле селедку возле старой литейной, как дрались с Миком Келли и его приятелями; про Терезу; про россказни сержанта Минто; про то, как надо продавать фрукты на улице; и как у них в доме однажды было двести туфель, все на левую ногу — его старик с приятелем где-то стибрили, — так он скакал, круг за кругом, то медленно, то как бешеный, так что даже заставлял меня очнуться, вокруг центра, про который он ни слова не сказал, — вокруг крепости Чарли Неттлфолда, возведенной из всякого хлама, и рыжей собаки, лежавшей около притихшего дома. Во всяком случае, так мне казалось.
Иногда он подгонял себя, гикая, как целое племя краснокожих индейцев, но ни разу не пустил стрелу в ту сторону. Я хоть и устал смертельно, но все же заметил это. Он говорил просто для того, чтоб я не заснул, чтоб тащить меня за собой, как на буксире, — ему надо было поделиться с кем-то. То и дело буксир ослабевал, а потом он снова тянул меня за собой и трещал, как пулемет. Буксир натягивался туго, слишком туго, лопался, и голова моя снова падала на грудь. И тогда он тихо рассказывал про девочку, с которой так хорошо было обниматься там, в овраге, а потом она выросла, задрала нос и перестала его замечать, но он все же поймал ее в заднем ряду в «Альбионе» и дал ей жизни, просто так, шутки ради, хоть она и стала важная птица — накрашенная и в шелковом белье. Вот так поддерживают упавший дух в солдатах — и старина Артур поднимает десятитонные стальные заслонки, которые для смеху называют веками, и слушает… Опять пошел какой-то бред: про то, как быстро растут ногти, как полжизни тратишь, вспоминая, что пора постричься, а вторые полжизни — раздумывая, какой толк бриться, — ведь все равно назавтра обрастешь по новой и щетина прямо на глазах покроет все лицо; про то, что изо рта воняет и бесполезно покупать пасту, потому что всей семьей ее прикончат за один день и назавтра в тюбике уже ничего не останется, кроме щетины от зубной щетки; про то, до чего противно видеть банку с липким вареньем, на дне которой осел пыльный слой сахара, или нюхать кислый запах пива рано поутру, а вот быть бы миллионером, иметь у подножия горы собственную купальню, сделанную из таких специальных пластин, которые повышают деятельность организма и превращают солнечный свет в источник радости…
— Мы с ним всегда спали вместе, — говорил он. — Грели друг друга. И холод по утрам нам был нипочем. Мы смеялись над девчонками, над нашей сумасшедшей семьей и над псами-легашами. А когда спишь с братом на одной кровати, все про него знаешь.
Приподняв веки, я увидел, как его бьет дрожь, и подумал, что больше не выдержу. Чувство было такое, будто тебя начинает душить кошмар, но ты знаешь, что это только сон, и еще успеваешь шепнуть себе: «Держись!»
Я встряхнулся, наклонился вперед и тронул его колено. Оно дрожало, как пневматическая дрель, мелко и дробно. Смертный холод, озноб тела и духа. Я знал, что он сам себя боится.
— Что с тобой, Носарь?
— Зря я в ту шахту заглядывал, — сказал он и посмотрел на свою перевязанную руку.
— Забудь про это, — сказал я и бросил ему спасательный конец. — Так что же та девчонка? Ты еще встречался с ней?
— Я там человека видел, он туда прыгнул, — пробормотал Носарь и взмахнул рукой. — Он летел кругами, медленно так, плавно. Все меньше и меньше становился. Вертелся, как кукла, голова набок свернута, рот разинут. А потом — крышка. Он упал на спину и лежал, скрестив руки.
— Хороши штучки, — сказал я и стал ворошить угли в камине. Мне нужно было дотронуться до чего-нибудь, убедиться, что я все тот же, живой, осязаемый Артур из плоти и крови, с бьющимся сердцем. Но волосы у меня стояли дыбом. — Это уж слишком, — сказал я, — ты совсем дошел, старик.
Он наклонился вперед, стиснув руки:
— Как думаешь, что это значило? К чему это?
— Ты все думал о часах, вот тебе и померещился Краб, — сказал я и вздрогнул.
— Это был не он, — сказал Носарь твердо. Я посмотрел на него. — Это был я! Я видел свое лицо так же ясно, как вот тебя сейчас вижу. И я тебе скажу — когда я залез на эту стенку, то почти решился уже вниз прыгнуть. Но как увидел это — все. Пошевельнуться не мог, будто в тисках. Поглядел вниз, увидел это и сразу остановился.
— Говорят, такое бывает, когда нервы расстроены, — сказал я.
— Это был не сон, — сказал он. — Слышь, я стоял на стенке и глядел, как он вертелся пропеллером, ждал, пока он лицом повернется, хотел наверняка знать, что это я. Меня будто к месту пригвоздили, но в то же время я был там, в яме, и что-то вертело меня и тащило вниз… Кто это был — дьявол или бог?
Я безнадежно покачал головой.
— Тебе померещилось, ты был не в себе, — сказал я. — Ты, наверно, все, что пережил, там, в яме, увидел. А видение это только одно означает — ничего нельзя сделать, чтобы помешать…
— Неминуемому? — докончил он за меня. И покачал головой. — Нет, это или всемогущий бог, или же сам сатана тащил меня туда, вниз.
— Брось, — возражал я, но Носарь стоял на своем.
— Он за мной охотится. Нарочно все дела бросил, перестал судьбы вершить, как говорил пастор. Добирается до меня, вот как добрался до нашего малого.
Я все на свете отдал бы за то, чтоб поглядеть на часы и узнать, долго ли мне еще терпеть. Но об этом нечего было и думать. Стоило мне только голову повернуть, как он чуть не до потолка подскакивал. Было, наверно, около трех ночи. Помню, он все время тер пальцами одной руки ладонь другой, а глядел мимо, куда-то вниз, сквозь ковер. Помню, я твердил себе, что нельзя спать. Но все равно я заснул прямо на стуле, и подушкой мне была моя собственная грудь. А когда я проснулся, комнату заливало солнце. Носарь исчез. Я помнил смутно — а может, мне это приснилось, — что он взял меня за подбородок и сказал тихо:
— Не бойся, старик. Спи. Мне теперь полегчало.
Я бросился к двери и вдруг сообразил, что на мне нет ботинок. Тогда я вернулся назад, обулся, но шнурки не завязал и, прежде чем пробежал половину улицы, два раза полетел вверх тормашками. У меня из головы не шла эта шахта, я все думал: а вдруг он решил туда броситься или прыгнуть с моста над оврагом? На мосту никого не было. Я пробежал по одной его стороне, глядя вниз, на воду, потом назад по другой. Но там ничего не было, кроме камней и всякого хлама. На соборе святого Николая пробило восемь.
Пробежав взад-вперед по мосту, я спустился к реке, все еще глядя вниз, на мрачный ее приток, на обветшавшие зернохранилища, грязные склады и допотопные фабрички.
И вдруг в глаза мне бросилась покосившаяся печная труба. Около нее лежало что-то. Я прикинул расстояние от моста до серой скрюченной фигуры. Это мог быть он. Я как безумный бросился вниз, чуть в воду не свалился. Ложная тревога. Просто кто-то выбросил старый тюфяк. Я снова вскарабкался наверх.
Улица тянулась передо мной темная, как тоннель. На полдороге, справа, была «Золотая чаша». Из открытой двери медленно выползали люди, у некоторых в руках были черные чемоданчики с библией. Даже издали видно было, что они взволнованы. Из-за этой казни в их машине появилось новое колесико; теперь оно было уже на своем месте и бодренько вертелось на радость этим добрым людям. Те, что помоложе, быстро шли вверх по склону, возбужденные происшедшим, перебрасываясь отрывистыми фразами. Они прошли мимо меня.
— Видели его лицо?..
— Мистер Джонсон как в воду глядел…
— А молитва, которую он над ним прочел!
— Видели, как он плакал?
— Бедняга был в таком ужасном состоянии…
— И тут миссис Поттер затянула «Скалу времен»… по наитию…
— И он побежал между скамьями, как будто…
— Осужден за грехи. Осужден…
Это было последнее слово, которое я услышал. Оно стучало у меня в голове. Краб осужден, Носарь осужден, оба предстали перед судом. Один повешен, другой распят. Кажется, только тогда я по-настоящему понял, что Краба действительно повесили и он мертвый раскачивается в петле. До тех пор я не мог поверить. Есть вещи, с которыми трудно примириться. Ведь убийцей его сделали эти деньги на конфеты. А у божьих людей губа не дура. Им не расчет молиться за человека, которого постигла справедливая кара. Зачем сокрушаться о повешенном, когда они заманили в сети господа бога его брата! И я стал думать о длинных низких, разрушенных домах, где женщины когда-то сучили веревки на корабельные снасти и на мужские шеи. Да, веревка — опасная штука. Но есть и другие веревки, которые люди сучат в уме, настоящие крепкие веревки для уловления душ.
У старушки были круглое розовое лицо и добрые голубые, как у фарфоровой куклы, глаза. На нее была вся моя надежда — я хотел знать наверняка.
— Он был в церкви, миссис?
— Да, родимый, был, и господь принял его в лоно свое…
— Ах, вот оно что, — пробормотал я в растерянности.
— Ежели ты ему друг, то возрадуйся, на него любо было глядеть.
— Спасибо, — сказал я. — Мне только хотелось узнать…
— Теперь ему вечное блаженство уготовано, — сказала она. — Видел бы ты его лицо! Господь коснулся его, и он возвысился над собой. Сходи поговори с ним. — Это было сказано тихо, но настоятельно.
— Нет, спасибо. Я от вас все узнал. Не стану к нему сейчас соваться.
Оглянувшись через плечо, я увидел, что она все стоит, глядя мне вслед голубыми глазами, словно хочет залезть мне в душу. Я свернул за угол и спустился в овраг. Возвысился над собой! Недурно. Можно позавидовать.
Что ж, пойду один своей дорогой. Но было мгновение, когда мне хотелось броситься следом за этими двумя, которых я любил больше всех на свете, не считая моих домашних. А потом я сунул руки в карманы и повернул в другую сторону. Кроме шуток, мне было грустно, одиноко. И страшно. И сейчас мне грустно, одиноко и страшно. Вот в кармане у меня пять хрустящих фунтовых бумажек, и на мне новый красивый костюм за пятнадцать гиней. Я чувствую, как бумажник уютно трется о яркую рубашку. Ну, а дальше что? Навел красоту, а идти некуда. Ни на одном поезде, автобусе или пароходе не убежать мне от себя — трепещущего, неуверенного, мятущегося, полного сомнений и дурацких мыслей. И я остаюсь здесь. Я смотрю, как сардины двигаются на узком конвейере — серебряный поток, текущий из моря; здесь их укладывают в жестянки голова к хвосту, хвост к голове. Так и я. Купаешься в масле, лежишь ровно и красиво, но это слабое утешение, когда запаяют крышку.
Умник, красавчик, маменькин сынок, спрашиваю я себя; куда ты идешь? С мамой и Гарри об этом и говорить нечего. Они живут в своем уютном мирке, где нет больше ни улиток, ни сумасбродств. Носарь мог мне предложить только вышибать клин клином, подтасовывать карты, загадывать, орел или решка, — в общем ничего нового. Ребята в Старом городе считают меня ненормальным, еще хуже Носаря, я для них лишний, чужой. Стелла уехала. Один раз я позвонил ей. Серьезно. Позвонил, зная, что ее нет в городе, и, когда я стоял в телефонной будке, все лицо у меня было в поту. Никто не ответил. Да, братцы, иногда я думаю: кивни мне хоть кто-нибудь на улице, и я пойду за ним на край света. И даже позабуду взять чемодан со сменой белья.
Примечания
1
Современная школа — массовая общеобразовательная средняя школа в Англии (в отличие от специализированных грамматических и технических школ). Здесь и далее примечания переводчика.
(обратно)2
Низкопробный английский журнал.
(обратно)3
Улица в Лондоне, где находится резиденция премьер-министра.
(обратно)4
Герои ковбойских фильмов.
(обратно)5
Колония для несовершеннолетних преступников.
(обратно)6
Стоун — английская мера веса, равная 6,3 килограмма.
(обратно)7
Кэрразерс — известная в Англии аристократическая фамилия, Смит — распространенная простонародная.
(обратно)8
Известный американский киноактер.
(обратно)9
Комические киноактеры.
(обратно)10
Английские детские журналы.
(обратно)11
Известный киноактер.
(обратно)
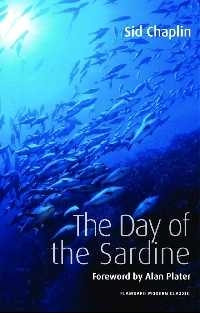



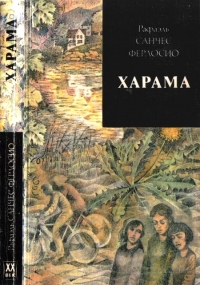
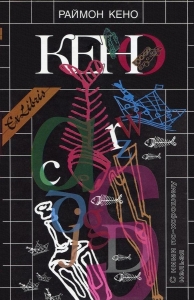

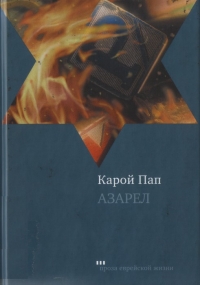
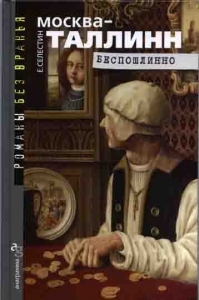
Комментарии к книге «День сардины», Сид Чаплин
Всего 0 комментариев