Эрве Гибер
ОДИНОКИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ
перевод Алексея Воинова
В оформлении обложки использована фотография Эрве Гибера
Моему соседу
ЛЮБОВНЫЕ ПИСЬМА (или опрометчиво избранное хранилище)
«Веря, что слова обладают действительной силой...»
Флобер
Вот как он решил подытожить рассказ, найдя его скучным: «По сути меня воспламенило его предложение, его желание целовать мои губы, сама возможность влюбиться».
Была ли это жажда обмана? Жажда потери? Или же траур по Т[1].?
Целый месяц я писал А. по письму в день. Целый месяц я оставался целомудренным. Я спал, сжав член в руке. Я пытался прогнать все пошлые мысли и плотские представления. Дабы выбелить свою кожу, я совсем не ел мяса, никакой кровоточащей субстанции с нервными окончаниями. Гуляя по пляжу в тени, я не раздевался, лишь подворачивал брюки, чтобы смочить ноги. Можно было подумать, что я скрывал телесный изъян.
По вечерам, погасив свет, я наконец раздевался в кровати и, опасаясь, что потеря чувственной памяти станет окончательной, царапал кожу, чаще всего с боков. Я запрещал себе прикасаться к члену, я не опускал на него взгляда, мочась, и не разглаживал расходящиеся лучами складки «Моргани» даже пальцем. Я сократил время, которое обычно отводил на испражнение: мне нужно было отказаться от всех анальных ощущений, я создал себе свой гимен. Я стал своего рода безумцем: это воздержание дурманило мою голову.
Я пытался сочинять романтические фразы, но мой разум не мог ни за что ухватиться, ни за какую последовательность, ни за какую мелочь: идеи заголовков и подзаголовков, обложек и даже изданий наталкивались одна на другую, я бредил книгами, но ничего не мог дописать до конца. Я читал биографии великих писателей, и напечатанные буквы порой двоились в моих глазах, составляя меж строк мою собственную биографию.
Из-за бессонницы у меня возникло некое предчувствие: я требовал от него ответов, он не хотел мне их отсылать, может быть, он их порвал, из-за этого мы ссорились.
1) А. Может быть, думать, что я мог бы тебя любить, - это прихоть, но я думаю об этом. Я ничего не жду от тебя, кроме возможности на тебя смотреть, слышать, как ты говоришь, видеть, как ты улыбаешься, обнимать тебя. Это неопределенное желание, это всего лишь желание сблизиться. Жар моего тела, здесь, в Париже, вызывает желание соединить его с твоим, невинно, заснуть рядом с тобой, вдыхать тебя. Подобное признание может быть смертельным приговором для наших отношений: главное, чтобы это излияние тебя не оттолкнуло.
2) А. Думаю ли я, когда пишу это имя, о тебе? Значит, мое первое письмо было любовным письмом. Я снова пишу тебе, не получив ответа, потому что это как будто бы разговор с самим собой, некий порыв. Опасность любовного письма заключается в несоразмерности двух личных пространств, двух людей, иногда времени пыла и времени остывания. Это также опасность уничтожения словом: описание чувства на бумаге может уменьшить его, уничтожить. Но это письмо - пламенное.
Я думаю, когда мы увидимся, нам нужно будет забыть об этих письмах, об этих словах, начать с чистого листа, смотря друг на друга и доводя свое чувство до безысходности, когда остается только одно: заговорить о нем, коснуться друг друга. А, если чувства не возникнет, не нужно будет гнаться за ним: я на самом деле не знаю, сможем ли мы любить друг друга.
3) А. Думаю ли я о тебе, когда пишу это имя, или оно лишь средство передачи, некая адресация любовной просьбы? Представляю ли я тебя? За это время я забыл твое лицо. Я сфотографировал его, прежде чем покинуть тебя, и, возможно, это ошибка, возможно, судьба. Я напечатал один снимок, и вот он передо мной, я могу на него смотреть, я могу его показывать, говоря «это он», возможно, ты бы на нем себе не понравился. Эта фотография отчасти мешает мне обладать другими твоими изображениями, блокирует их появление, их доступ ко мне.
Значит, я могу вспомнить и сказать: у него черные вьющиеся волосы, тонкая золотая серьга в ухе; когда я его увидел впервые, на нем был белый комбинезон и простая черная кожаная куртка, он был босиком в белых слегка испачканных мокасинах. В следующий раз, всего через час-другой, на нем был бархатный пиджак поверх майки, чей V-образный вырез открывал его чуть загорелое тело и легкое покраснение, похожее на след эпиляции, его волосы были влажными и вились еще больше, примечательно, что он кажется совершенно безбородым, его щеки и верхняя губа бледные, лишенные всякой окраски (носки его низких сапог были острыми, а джинсы облегающими: каждая вещь может говорить за себя и у каждой свой цвет). У меня не было желания представить его член. Я не задал ни одного вопроса Т., который наверняка видел А. голым на пляже.
Позже его рубашка еще более открывала тело, и я видел его соски и снова любовался безволосой кожей. К тому же С. передал нам - Т. и мне - слова А. о том, что он не хочет обладать никакими признаками принадлежности к мужскому полу. Я собирался сделать эпиляцию.
Я странным образом остался с ним на расстоянии, настороже, в ожидании. Когда мы впервые оказались наедине, мое предложение вылизать его кровоточащие на солнце ноги, чтобы успокоить их боль, было лишь провокацией. Я еще подозревал, что он враждебен. Мне нравилось, как он на меня смотрит, но казалось подозрительным, что он так же переглядывается с С.
Мы сели в поезд, отходивший в час ночи. Предыдущий, в 20 часов 48 минут, был забит. Я бежал по подземного переходу, чтобы увидеть тебя, и я бы, конечно же, поцеловал тебя на перроне, став для других невидимым, но твой поезд уже ушел, и несколько часов в вагоне рядом с Т. нужно было скрывать свою печаль, наслаждаясь ею.
Мне нравится писать тебе. Любовный напор всегда соответствует напору письма или разговора (мне хочется говорить о нем, упоминать его, это желание сжигает меня), я не знаю, что возникает первым, пробуждая затем второе. Мысль о том, чтобы писать по письму в день, мне также нравится, я пустился вслед за ней по собственной воле.
4) А. Писать тебе означает терять время, устроить себе перерыв в работе над книгами. Я остаюсь в Париже. Я мало чем занимаюсь, я читаю, я каждый вечер хожу в кино на поздние сеансы, без особого воодушевления ужинаю с друзьями, я не сплю с Т., практически каждый вечер мы расстаемся с Т. у метро Севр-Бабилон.
Я должен был написать письмо женщине, которую очень люблю, которая мне совершенно необходима, и каждый раз, чтобы написать тебе, я откладываю это дело, нужно обязательно написать то письмо, и скоро будет уже совсем поздно.
Любовь - единственно подлинная потеря времени. Я говорил Т., что моя любовь к нему патологическая, так как каждый раз, когда я его вижу, я мечтаю сжать его, и чтобы это объятие было, словно глубокая анестезия, чтобы мы сразу же погрузились в беспробудный сон. Несколько ночей мне снятся кошмары. От тебя по-прежнему нет письма. Когда я получу его, может быть, я перестану писать. Но, возможно, ты уже больше не любишь меня из-за этих писем, может быть, они тебе ненавистны?
5) А. Мне кажется, что я в любой момент могу взять листок, чтобы писать тебе, и письмо будет беспрерывным, с постоянной скоростью телетайпа.
Письма, каждый день. Я мог бы отправлять тебе два, три, еще больше писем и не делать ничего другого, откладывать все на потом, останавливаться только, чтобы поспать, есть над бумагой. Вчера я именно так и ел, очень мало: кусок дыни, два клубничных йогурта. Я не мог бы тебе рассказать, на что трачу время, потому что ты - единственное мое занятие, я мог бы тебе говорить только о сочинении этих писем, потому что оно занимает все мое время.
Такая скорость - по письму в день - вызывает подозрение: для родителей, например, подобное прилежание разумеется означает только любовь. Может, мне стоит подделать мой почерк, изменить порядок строк в адресе на конверте, поменять почтовое отделение, каждый день перемещаться в другой округ, чтобы избавиться от этого подозрения?
Я рассказывал бы тебе только об этих письмах, которые позволяют мне отдохнуть и не дают никаких результатов, лишь то, что я тут же теряю, что ты можешь сжечь, если тебе так нравится. Ты ни о чем меня не просил, и вот я забрасываю тебя словами в ожидании твоих собственных слов, которые до меня не доходят. Может быть, эти письма всего лишь ответ на твою тишину?
6) А. Обратный путь на машине. Сто километров дались бы легче, если бы в конце я нашел твой ответ, и я нашел его. Прежде чем раскрыть письмо, я спрашиваю себя, должен ли я спрятаться, чтобы прочитать его (оставить ставню закрытой), в любом случае - помыть руки, и может быть, еще опорожниться, быть чистым и пустым, надрезать конверт лезвием ножа, но я уступаю своему нетерпению.
Тогда я думаю: на письмо нужно всегда давать два ответа, сначала ответ, прежде чем его открыть (впечатление, которое оно у меня вызывает, когда еще запечатано, нетерпение, порождаемое им желание), затем ответ на само письмо и разницу или совпадение того, что от него ожидали, и того, что в нем нашли. Твое письмо страшит и волнует тем, что каждое второе слово для меня неразборчиво, заставляет все перечитывать, напрягать внимание до предела, я могу придать всему противоположный смысл.
7) А. Это снова искушает меня отвлечься. Я только что колебался, не позвонить ли тебе. В конце концов, я набрал номер, было занято, я снова набрал, думая: если снова занято, это будет значить, что я не должен сегодня звонить. Было все время занято, и больше я не пытался. Конечно, еще я подумал: может быть, это он звонит мне? Кто говорит во время этих коротких повторяющихся гудков, его родители или он сам, и, если это он, то с кем он разговаривает? И я подумал: он еще не получил письмо, которое я отправил сегодня утром. Хотя я и не написал, что целую его, финал был слишком игривый.
Он написал мне: целую тебя. Он хотя бы думает об этом, о том, чтобы поцеловать меня? Думает ли он о моих губах, думает ли об ощущении поцелуя, о нежности касающихся друг друга губ, о том, как они раздвигаются и из одного рта в другой попадает слюна, и, может быть, о мгновении, когда поцелуи покроют все лицо, все тело? Думает ли он, как я, обо всем этом? Мы уже целовались, но лишь раз, и у меня не было времени запомнить вкус того поцелуя.
8) А. В этот вечер мне чего-то не хватает. Я бы хотел отвлечься, чувствуя чье-нибудь тело, кожу, тепло, губы, член. Когда я пишу эти слова, я могу представлять только тебя. Я не пойду искать чей-нибудь рот на улице. Мне нужно работать, но вместо этого я пишу тебе. Я не могу сказать, что люблю тебя, я могу только сказать, что хочу, чтобы мы любили друг друга. С тобой - никакой грубости: освобождение от всех навязчивых маний. Одна лишь мания: изнеможение. Утомиться в испарине наших тел, втекая один в другого, разверзнувшись в обжигающей ледяной хижине, в остывающей лаве наших жидкостей. За нас двоих! Двое, вот единственное число.
9) А. Я у своих родителей: они спят или делают вид. Они могут увидеть в коридоре слабый свет, выходящий из-под моей двери, я снова пишу. Смех отца мне ненавистен так же, как их утренний шепот, когда они не хотят меня разбудить. Уже давно, как минимум два года я не приезжал к ним. Они должны переезжать, дом выставлен на продажу, им не на что купить квартиру, они перебираются в такой же пошлый пригород. Они заполнили три коробки, которые я оставил, уезжая пять лет назад. Мать надписала сверху: «Э., личное». Она так настойчиво твердила, что свалила все вместе и ничего не смотрела, что я мог представить, как она, напротив, все пересмотрела, все прочитала. Я так мало им говорю.
Я заметил, что, уезжая, почему-то оставил здесь все свои самые сокровенные вещи, и первые стихи, написанные в школе на тетрадках, и рисунки - одно и то же удлиненное лицо светловолосого мальчика, и снимки первого причастия, фотографии школьного отряда, ящики с красками. В этот вечер опьянение преступными ощущениями: бочковой «Гиннес» в слишком освещенном месте. Я мог бы тебе рассказать о промокшей луне или о нескольких липких уставших существах, которых я разглядел и сразу же скрылся в темном журчании общественного писсуара.
В поезде я по-прежнему читал «Саламбо», и каждое редкое слово заставляло меня думать о тебе, я хотел передать его, будто ласку, твоим губам, твоему телу: нубийское и пуническое, балеарское, фаларийское...
10) А. Неизбежность твоего приезда: пора подготовить свое тело, чтобы твоим рукам было приятно. Отполировать его, отшлифовать, эпилировать, чуть похудеть, при случае купить волосяную перчатку, чтобы тело утратило шероховатость, надушиться. В эти несколько дней я помолодею, это пост перед воскрешением, я буду купать свое тело, расслаблять его, чтобы оно было еще нежнее, если ты почувствуешь желание к нему прикоснуться. Все это литературно: я думаю об этом, но, когда ты будешь здесь, мое тело, как всегда, будет для меня нежеланным (это был бы предел всех навязчивых мечтаний, если бы тебе понравилось своевольно ласкать меня, на меня не глядя). Это еще одно письмо, которое ты не получишь, потому что уже уехал от своих родителей. Быть влюбленным значит говорить себе: сейчас он должен быть в пути, между Аяччо и Ниццей, может быть, один, может быть, не один...
Письма, сопровождаемые условными обозначениями героев, похожи на шифры, на математические теоремы: моральные границы тройного уравнения Э., Т. и А.
Конверты последних писем были надписаны теперь лишь буквой «А» и цифрой; «4» означает, что это было четвертое письмо без адреса, которое я не мог ему отправить. В силу того, что у меня не было никаких ответов, писание вновь стало эгоистичным, набирало новую силу, перебиралось на большие белые листы без даты, без указания имени в самом начале, и «ты» переходило в «он», а «я» оставалось. Затем получилось так, что ожидание длилось только ради самого ожидания, и приезд А. мог сделаться для меня пресным (но это была всего лишь еще одна теорема). Чем ближе был этот приезд, тем менее я его себе представлял, тем более отходил он на второй план. Не перестал ли я испытывать свое чувство, возведя его с помощью писем на пьедестал?
Следовательно, произошел важный переход, смещение: теперь меня заставлял писать А., а не Т., которого я вынуждал либо уйти в отставку, либо опять поработить мои тексты, дабы они вновь говорили о нем.
Следовательно, я ничего не ждал так, как этого телефонного звонка, этого голоса, этой встречи. Ничего, но так ли это? А. не приезжал и, может быть, и не собирался приехать в Париж, это была ложь, или же он решил исчезнуть, и страх мешал ему подать какой-либо знак. Я не знал ни куда писать ему, ни как с ним связаться после означенной даты: адрес уже устарел. Письма, которые я продолжал писать, складывались в стопки на моем столе, на конверте я писал его имя, потом лишь инициалы, и начал думать, что больше не буду их запечатывать, я смогу перечитывать их без всякого сожаления. Ибо, если он исчезнет, то станет похитителем писем, которые я уже отправил.
Неожиданной развязкой стал звонок Т.: он вернулся с Сардинии и оставался еще несколько дней в Йере. Я рассказал ему о своем целомудрии и обещал хранить его, без всякой просьбы со стороны Т., внезапно поверив, что оно было посвящено ему. Мне казалось, что я отклонился от цели ожидания и воздержания и вернулся к начальному предмету своих чувств, следовательно, в последний момент отказавшись от того, чего больше всего желал: от А., когда бы я позабыл о Т.
Десятью днями раньше Т. впервые написал мне письмо, которое я еще не получил и никогда не должен был получить: покидая отель в Сардинии, он доверил его портье.
Мне позвонили посреди ночи, я только что заснул, конечно же, с разбитым телом, рука как будто перечеркивала мое туловище, и это был не долгожданный голос, но голос одного друга, у которого начался приступ тоски, и он просил разрешения приехать и провести ночь со мной. Я колебался и, в конце концов, отказал: если я не позволял ни одной мысли о плоти, еще менее я допускал чье-либо присутствие. И это не было то тело, которого я ждал, которое привело бы в движение мое; единственное, которое могло бы его согреть и пробудить от спячки. Через пять минут телефон зазвонил снова, и я думал услышать тот же, теперь уже настаивающий голос, но это был другой, и по-прежнему не тот, которого я ожидал. Другой друг звонил мне из своего дома на юге, одинокий и пьяный, и я заставлял себя делать вид, что мне интересно. Потом я не мог уснуть и решился получить удовольствие, включив все лампы. Мой взгляд, член и рука погрузились в порнографические видения. И это было лишь удовольствие, простое удовольствие, ничего более: лишь ошибка, лишь преступление. Как заставить его теперь появиться в моих снах без чудодейственного порошка воздержания? Я больше не мог, увидев его образ, смочить мой сон, удовольствие стерло все сновидения. И на следующий день письма снова стали моим заклинанием, будто черный колдун вызывал смерч.
Он наконец позвонил мне, и его голос был мне безразличен. Я слышал лишь его имя: А. Он только что приехал в Париж, я предложил ему вместе поужинать. Он сказал, что перезвонит: он откладывал свой ответ. Я был ошеломлен. Что нужно сделать сначала? Поменять носки, помыть голову, постелить чистую постель, помыть ванную, сходить в туалет? Между двумя этими звонками он оставлял мне время для подготовки и нового ожидания, неопределенности. Я не стал ничего утаивать и все это время писал. Собирался ли я отдать ему последние письма? Уже его голос меня охладил. Может быть, я собирался назначить встречу за пределами моего дома, в кафе, чтобы не ускорять то, что заслонило собой писание и могло в этот вечер вырваться наружу с непристойными звуками, словно газ из порвавшегося воздушного шара? Я хотел опьянеть от погребальной музыки, довести волнение до предела, кричать под голос Леонтины Прайс[2], но проигрыватель не работал. Позже я обнаружил, что вилка была вытащена из розетки.
А если бы я назначил встречу в таком месте, где бы мы не должны были нарушать дистанцию, дал бы я новый толчок моему беспокойству? Нужно было любой ценой остаться влюбленным и не утратить возможности продолжать писать дальше.
Собирался ли я убрать фотографию Т. из ванной комнаты? Нет. Это была единственная фотография, остальные я уже убрал. Из суеверия я не шел мыться, пока он не перезвонит подтвердить ужин. Лишь перед его приходом я перевернул конверты, на которых были написаны его инициалы, и разложил на столе письменные принадлежности, белый листок и открытую перьевую ручку. Это расположение предметов должно было говорить: «Только от тебя зависит, чтобы я взял ручку и снова начал тебе писать». Оно должно было означать, что прежде всего я - юный писатель (который очаровывает своими текстами, они служат его любовным орудием). И я положил в ряд сбоку несколько предметов: линейку, нож, карманное зеркальце.
Куда я собирался отвести его ужинать? От этого выбора, вероятно, будут зависеть все наши отношения. Это должно быть место, где мы были бы совершенно одни, где я не мог никого встретить, даже встреча с каким-нибудь другом все бы испортила. Мне очень не нравилось, что он сам придет с другом, как он мне объявил, даже если он должен был просто подвезти того на машине в самом начале вечера. Может быть, он хотел воспользоваться моей вежливостью, вынудить меня быть вежливым, может быть, это была хитрость, чтобы от меня избавиться?
Когда я вновь увидел его, он мне не понравился: он нес на себе все знаки обеспеченной гетеросексуальности. Ключи от машины были в кожаном футляре, у него были часы «Картье» и сумка «Эрмес», у него был такой же багаж, как на рекламе журнала «Экспресс». Выйдя из машины, он проверил, все ли дверцы закрыты, точно так же делал мой отец, с настойчивостью, какой я ни у кого другого не видел. На щитке машины он приклеил скотчем лист бумаги с названиями пары десятков городов, отмечавших его маршрут от Ниццы до Парижа, и, тем не менее, заблудился. Он сказал, что не хотел жить в девятом округе, потому что его отец сказал ему, что это район, пользующийся дурной славой. Он попросил меня отвести его в спокойное место. Он терял голову при мысли о жизни в Париже и от того, что должен был ехать по тем местам, которых не знал, в голове у него был план сражения, тактика завоевания, но городские масштабы их уже подавляли. Через две недели он должен был участвовать в конкурсе театрального училища. Я в нем тоже участвовал пять лет назад и проиграл.
Я привел его в бар «Старый Берлин». Когда я дал ему выбрать место за круглым столиком, он выразил свое предпочтение, у меня имелось свое, и оно было точно таким же. Каждый из нас предпочитал быть справа от другого, чтобы показать свой левый профиль. Уже здесь мы не могли поладить: всегда один уступал из учтивости и был этим задет. Мы сменили место и сели друг против друга за квадратным столиком.
Таким образом, с помощью этого вала отпугивающей писанины я сделал из А. безвредного для Т. персонажа. А. упрекал меня этими письмами, их настойчивостью; они превратили его в объект; я поступил бестактно, отправив ему в Бейрут эту открытку без конверта. Почему я не сдержал своего чувства, вместо того, чтобы демонстрировать его, как одержимый? Эти письма, - сказал он мне, - оставили привкус отравы.
Он хотел принять у меня ванну, он, как и я, любил намочить волосы, не особо их моя, чтобы они завились, у нас обоих было это кокетство. Я показал ему фотографии, среди них было много моих, одна его, и я заметил, что он разглядывал по-настоящему лишь свою, что только это вызвало в нем интерес. Я налил ему немного водки. Просочившись в кровь, алкоголь сделал меня меланхоличным.
Он предстал передо мной голым, в плавках. В ванной текла вода. И мне нравилось это тело, которое я еще никогда не видел, это отсутствие волос, красота туловища, изящество его, словно точеных, сосков, но мысль, что я не могу показать ему схожее тело, вызвала во мне боль. Он положил на стол помятую книгу карманного формата, которую дарил мне: она была написана автором, которого он так любил. На обложке были два сросшихся близнеца. Он написал на форзаце свое имя.
Он не хотел спать у меня, но настоял, чтобы оставить у меня сумку с одеждой, так как квартира юноши, у которого он должен был жить, выходила на улицу и плохо закрывалась. Снова его роскошные ужасы: он обо всем подумал. Я захотел обнять его, но, приблизившись к нему, я лишь по-мужски похлопал его, это было смехотворно по сравнению с былой нежностью. Оказавшись через полчаса в постели и снова подумав об увиденном теле, я сказал себе, что оно могло послужить мне прекрасным материалом для воплощения навязчивых мыслей. Я мог в мыслях ласкать его, снять его плавки, взять в рот его член, но, едва коснувшись своего живота, я уснул.
А. только что позвонил после четырех дней тишины, и за эти четыре дня чувство исчезло, стерлось без жалоб и писем.
Он позвонил, так как хотел забрать багаж. Не размышляя, я ответил, что он оставил его в опрометчиво избранном хранилище, точно так же, как я сделал это с моими письмами, и что я решил украсть его багаж, как он украл мои излияния. Надо было устроить обмен: багаж против пачки писем, нужно их посчитать, и я не соглашусь на прямой обмен из его рук в мои. У нас будет посредник.
Когда я повесил трубку, я посмотрел в словаре «Пти Робер» слово «хранилище». Первый попавшийся мне пример говорил о захоронениях на кладбище; далее сообщалось о завещании, отданном на хранение нотариусу; согласно закону, охраняющему права собственности, можно было взять какую-либо вещь, принадлежавшую другому человеку, обязуясь ее сохранить и вернуть в целостности; далее шла речь о мусорном складе, так в некоторых местах называли тюрьму для пересыльных; рядом располагались склад, кладовая и сейф; в них хранили товар, провиант, залог, что-либо драгоценное; охрана, получившая предписание, должна была доставить человека на место казни; разлагающиеся вещи сохраняли с помощью спиртовой жидкости; разные субстанции хранились на дне сосудов, образуя наросты, осадки, каменные отложения. Выбранное слово показалось мне верным.
Рольф, которого я видел довольно редко, всегда оставлял у меня, словно памятные знаки, следы своего пребывания: рисунок, подпись на плакате, которую я обнаруживал много дней спустя после его ухода. На этот раз он вырезал узенькую полоску бумаги, на которой написал: «ich habe/ich habe nicht[3]». Когда я смотрел на эти слова, мне показалось, что они все сказали об этой истории, о моей уже высохшей скорби.
Чернильница была пуста. Перо «Майстерштюк» всосало последние остатки: левой рукой я должен был наклонять чернильницу, а правой неловко поворачивать винтик резервуара, на дне было всего несколько черных капель. У меня еще оставались полоски бумаги, нарезанные Рольфом, я разорвал одну, решив сделать из чернильницы, из которой я целый месяц извлекал любовное вещество, склеп, я опустил туда бумажку с нашими именами и датами отношений, словно с погребальной надписью, обозначавшей рождение и смерть. Бумага сразу же впитала последние капли чернил, и стекло после их исчезновения снова стало прозрачным.
А. сказал мне по телефону, что не может вернуть мне письма, их у него с собой не было, он Доверил их Симоне, хранившей их в небольшой коробке. «Это была единственная возможность сберечь их». Я собирался спустить его багаж в подвал на тот случай, если он вдруг придет забрать его силой. По телефону он сказал: «Меня не устраивают такие преувеличения». Я сказал ему, что рана источает безумие.
Я собирался отдать эти письма Т. Он будет первым, кому я прочту этот текст. Я снова испытаю удовольствие, что-то читая ему.
Мы обсуждали заголовок. «Любовные письма» ему не понравились. Я предложил: «Опрометчиво избранное или избранные хранилища». Вначале он споткнулся на этих словах: хранилище, сказал он мне, не было избрано опрометчиво. Его расценили как предпочтительное: была соответствующая ставка, тридцать или сорок листков служат тому доказательством. Он не вполне понимал смысл слова «опрометчиво», он повторил его много раз и заметил, что в нем было некое удаление от самого желания. Я объяснил, что именно А. составил это опрометчиво избранное хранилище: я ошибся с адресатом, мои письма заблудились, и теперь я принялся из-за этого протестовать. «Ты не должен очернять А., - сказал он мне. - Ты должен очернить самого себя»: что, в конце концов, может быть мелочнее возвращения любовных писем? Я забираю эти письма, чтобы сделать из них повесть, текст, который можно продать. «“Скромной выгоды не бывает” - вот заголовок», - сказал он цинично. И я напомнил ему о своем положении сдельщика, журналиста, которому платят постатейно, построчно, который должен приносить листки по шестьдесят знаков на каждой из двадцати пяти строчек. Т. посчитал, что А. был жертвой: это писание оказалось макиавеллевской, вероломной конструкцией, в которой он, вопреки его воле, был всего лишь поводом.
А. проиграл конкурс, две недели он работал в страховой компании, и ему отказались заплатить, он добивался места в порнографическом театре. В тот вечер, когда он вернул мне письма, мы пошли с Симоной в кино. Теперь я был полностью отделен от А., наконец я увидел Симону, его любимую женщину, которая хранила мои письма. Это была милашка в каракуле, с прыщеватым лицом: я смотрел на нее, внезапно охваченный ощущением нищеты.
ПОЦЕЛУЙ САМЮЭЛЯ
В апреле 19... года я отправился на неделю во Флоренцию фотографировать восковые фигуры анатомического музея. Я приехал в воскресенье. Музей был открыт всего на несколько часов по субботам во второй половине дня. Все шесть дней ожидания шел дождь.
У меня было мало денег. В объединении по обслуживанию туристов мне предложили номер на последнем этаже в пансионе на виа Мартири дель Пополо, в самом конце двора, где в кинотеатре показывали фильм с Брюсом Ли. Номер мне нравился, хотя и был скромным; у воды из-под крана был вкус жавелевой, которую я когда-то пробовал; внутри шкафа пахло шкафом; простыни были из-за изношенности мягкими; очень тонкое шерстяное одеяло каштанового цвета напоминало одеяло спальни детского сада. Я платил семь тысяч лир за ночь. Пансионат закрывался в полночь.
От одиночества я начал пристальнее смотреть на все вокруг, разглядывать даже какие-то мелочи. Мой взор натыкался на все подряд, однако моя праздность никому в глаза не бросалась. Я был чрезмерно занят собой. Мысль о Т., который в последний момент дал мне уехать одному, стала мыслью о пристанище, точкой опоры, которой можно было предаться: должен ли я был вызывать страдание?
Я не ходил ни в один музей. Я смотрел на то, как я шатаюсь по улицам, возвращаюсь в те же места, по которым проходил вместе с ним два года назад. Возвращался в те же кафе и рестораны, хотел зайти в булочную с горячим масляным хлебом на виа деи Черки, но она была закрыта. Я снова делал те же самые фотографии, снимки детских могил, медальонов и мавзолеев большого кладбища, вероятно, с тех же самых точек. Я не возвращался в сады Боболи, где два года тому назад, идя позади, без всякого повода захотел со всей силой ударить его по затылку фотоаппаратом, висевшим у меня на запястье. Это было уже не то гипнотическое паломничество.
Я больше не знал, должен ли я разговаривать с самим собой или найти собеседника, запечатать какой-нибудь конверт. Я не только спал здесь один, я был одинок исключительным образом, я говорил только, чтобы заказать еду или разменять деньги для фотоавтомата. Если ко мне хотел приклеиться какой-нибудь придурок, я не отвечал, что я иностранец или что не понимаю, я просто говорил: «я не хочу разговаривать». Я никуда не ездил на автобусе; даже если было далеко, я ходил пешком. Мои носки стерлись на пятках до дыр. Я больше не брился, больше не мыл голову. У меня не было с собой никаких письменных принадлежностей, и я одну за другой выдирал страницы из моей книги и одалживал ручку, чтобы писать. Я часто фотографировался в автомате. Фотография была неизменной, нерушимой гарантией для меня в течение двадцати лет. На аппарате было написано, что фотографии предназначались для паспорта, удостоверения личности, свидетельства и военного билета, кто-то добавил «narcissimo[4]». Я много раз фотографировался в этих автоматах за четыреста лир. Я не знал, усиливали ли фотографии, вылезавшие из аппарата, мое одиночество или же освобождали от него. С одной из них я заказал в магазине портрет для собственного надгробия.
Два раза в день я возвращался на конечную станцию железной дороги. Я проходил по подземному переходу, хранителем которого был постоянно просящий милостыню слепой. Я внимательно следил за путаницей людских движений. Пока путешественники спали в зале ожидания, мужчина в католической часовне клал на скамейку перед собой клетчатую кепку и сумку из искусственной кожи и опускался на колени для молитвы. Женщины в очереди ждали исповеди, в двадцати метрах от них мужчины в туалетах с приоткрытыми дверями выставляли вперед розоватые палки. Я просунул в полировщик обуви сто лир и небрежно сунул под завертевшуюся большую щетку свой мокасин. Но ко мне подошел какой-то мужчина и вытащил мою ногу, он показал на аппарат, на котором было написано «коричневый», потом ткнул в сторону моей обуви, которая была, конечно же, черного цвета, и воспользовался последними мгновениями, пока щетка еще вертелась, чтобы сунуть под нее свои коричневые башмаки.
Я вернулся позже, пьяный, к этим кабинкам, мой живот терся о влажный кафель, вода через одинаковые промежутки времени спускалась сама собой, я дал себя оттрахать первому попавшемуся типу. В последний вечер я по-прежнему ни с кем не разговаривал. Возле туалетов ко мне подошел подросток и предложил переспать с ним за десять тысяч лир. У меня были с собой эти деньги и даже немного больше, во внутреннем кармане пиджака. И еще пять тысяч лир, - половина того, что он потребовал, - во внешнем кармане. И тогда возникла мысль солгать ему: я сказал, что у меня нет с собой этой суммы, а только пять тысяч лир, и что я отдам их за его поцелуй. Казалось, это предложение ему понравилось и польстило. Его звали Самюэль, родом из Палермо, ему было девятнадцать лет, он рассказал мне о подружке, которая жила на севере Франции, в Марк-ан-Баройе. Мы пошли на поиски места, где могли бы поцеловаться. Прошли вдоль перрона, спустились в подземные переходы, где обернутые в розовый и голубой нейлон тела устилали пол, пытаясь уснуть, и окликали нас из узких прорезей спальных мешков, чтобы узнать время. Повсюду поцелуй был невозможен. Постоянно мимо проходил путешественник или носильщик, звук шагов мешал нам остановиться. Мы пересекли весь вокзал, потом выбрались на пустынный и темный последний перрон и шли вдоль него до тех пор, пока он не исчез среди рельсов железной дороги; пройдя зал, по которому мужчины в спецовках возили на тележках огромные коробки, мы оказались наконец одни и остановились, повернулись друг к другу, но затаившийся в тени паровоза мужчина окликнул нас, приказал убираться. Я спросил: «Погуляем еще?», и мы снова пошли, вернулись в подземный переход. Мы шли двадцать минут, наконец, он повернулся ко мне, и мы поцеловались, не обращая внимания на прохожих, внизу лестницы. Передача денег произошла сразу Же после обмена слюной: когда его язык оказался У меня во рту, я достал пять тысяч лир и положил в его карман. Сначала мне показалось, что у него на языке волосы, но это был стебель солодки, который он пожевывал. Поцелуй продолжался. Самюэль засмеялся и сказал мне: «У тебя красивые зубы». Он снова поцеловал меня, много раз подряд. Смеясь, он произнес по-французски слова из песни: «Хотите со мной сегодня переспать?». Он спросил, видел ли я уже Алена Делона настолько близко, как видел его; оценивая расстояние между нами, я начал описывать Делона, так как в самом деле его видел, и мое описание показалось мне вдруг лживым, настолько оно было шаблонным. Потом он сказал мне, что голоден, и пригласил в привокзальный буфет поесть с ним спагетти и выпить кока-колы. Я не решался сказать, что солгал ему, и, в конце концов, позволил ему заплатить. Я должен был возвращаться в пансион, так как скоро наступала полночь. Он немного проводил меня после вокзала, держа руку на моем плече, и, когда мы расставались, вложил мне в руку пятьсот лир «на обратную дорогу».
На следующий день я пошел в анатомический музей восковых фигур к открытию. Я так ждал этого момента, что начал фотографировать в спешке, ни на что не глядя. Музей был еще пуст, я мог делать сколько угодно фотографий незаметно, так как снимать было запрещено. Но после третьей фотографии вспышка перестала работать, батарейки разрядились, а место было настолько темным, что снимать без вспышки было нельзя. Я вышел купить батарейки, все магазины были закрыты. Нужно было ждать четырех часов. Когда магазины снова открылись, закрылся музей. Я покинул свой номер в пансионе и сдал багаж в камеру хранения на вокзале. У меня оставалось немного времени перед поездом. Самюэля не было. Я пошел в подвалы этого гигиенического заведения, которое включало в себя цирюльню, уборные и турецкие бани. Сбрил шестидневную бороду и вышел со щеками, красными от крови.
Я сел в поезд до Сиены. В саду Палаццо Равиц-ца уже розовело цветущее дерево. Я слушал глухой шум ливня, пока медленная струйка горячей воды наполняла ванну. Тосканская деревня была такой, как мне описала ее Ивонн, за ней поднимались кладбищенские кресты. Призраки, которые должны были населять мой номер на последнем этаже пустынного роскошного дворца, никак себя не проявляли - ни враждебно, ни шутливо, это было лишь некое сладостное окутывание. Возле окна я с силой чесал голову до тех пор, пока перхоть не стала падать на тетрадь, в которой я писал: «У меня больше нет никаких других ориентиров, кроме упорства, с которым мое дерьмо валится на эмаль унитаза».
13 ОКТЯБРЯ, СЮРТЕНВИЛЬ
Я вошел на вокзал и тотчас почувствовал, что возвращаюсь к самому себе, вновь узнаю себя, и все, принадлежащее мне, составляет мое богатство. Когда я сел в поезд, все сразу стало казаться мне удивительным: розовеющее небо, синеватая дымка повсюду, эскалоп из тропической индейки и дьявольский стромболи в меню, запертые в пустоте приборы из нержавейки, намалеванные ручкой рисунки, изображавшие на сиденье передо мной женщину с поднятыми раздвинутыми ногами и вагиной, будто ползущая улитка, посередине, горчица, которую я мазал на кусок камамбера (я спрашивал себя, зачем я это делаю - потому, что камамбер безвкусный, или потому, что мне просто хотелось открыть пакетик с горчицей), тошнотворное фисташковое мороженое в завершение обеда, все казалось мне несказанным и незабвенным. Я принялся думать об этих отчетах о жизни путешественника, одиночки: здесь темнеет в шесть вечера, я рано ложусь и хорошо сплю, я взял с собой в поездку неподходящий костюм-тройку, мои всегда нечищеные черные мокасины запылились. Я вдруг перестал понимать, почему поезд был таким верным средством, почему больше не встречалось безумцев, сваливавших по ночам на пути ветви деревьев.
Я уехал в спешке, в последний момент решив отправиться в одиночестве, не встречаться с друзьями. Место мне было незнакомо: мне рассказали, что оно находится на берегу моря, среди одиноких скал, открытое всем ветрам. Это была не гостиница, а небольшая усадьба, владельцы которой иногда принимали постояльцев. Четыре светлые и просторные комнаты. Нужно было подняться на небольшую скамеечку, чтобы попасть в кровать, и затем погрузиться в перину. Мы ели с хозяевами на кухне за длинным столом грубого дерева. На вокзал Шербура за мной приехал мужчина, он подошел ко мне, произнося мое имя, и так как у меня был вид, будто само собой разумеется, что именно он принимает меня у себя, он сказал: «вы ведь видели мою фотографию». Мы должны были проехать двадцать километров в тумане, потом, на подступах к морю, он рассеялся. Мужчина предупредил меня, что в усадьбе нет ни удобств, ни того приема, которые можно найти в гостинице, и что туда приезжают не ради отдыха или развлечений, а чтобы учиться и размышлять. Он не задал мне ни одного вопроса, и я это оценил.
Мы приехали в усадьбу, собака лаяла. Нас ждала его жена, она показала мне комнату. Ребенок уже спал. Комната была не такой, как я представлял: конечно же, просторная, с двумя окнами, но кровать была низкой и накрыта бархатным красно-желтым покрывалом, на который положили ежа из искусственного меха. Я пристально рассматривал новую штукатурку, все цвета были слишком хорошо различимы: красный бархат и Разноцветные предметы на каминной полке, опалового стекла ваза, зажигалка, маленькая старая модель автомобиля, желтое стекло керосиновой лампы, переделанной в электрическую, мне бы понравилось чучело ящерицы, если б оно не находилось среди этих предметов. Там были стол и бюро, и на бюро лежал тисненой кожи бювар с золотой инкрустацией, пресс-папье и, судя по всему, вулканический камень, у каждой вещи было свое место на стекле, покрывавшем дерево, защищенное фетром. Каждую вещь я брал и разглядывал. Открыл чемодан, достал перьевую ручку, флакон с чернилами, две записные книжки, бумагу и том Флобера в издании «Плеяд» - все это я специально положил на стол, а не на бюро. Я убрал серого ежа с покрывала и, наконец, обратил внимание на палас. Эта комната вся целиком заставила меня думать о первенстве цвета в литературном описании.
Перед тем, как лечь спать, я сильно перепугался - хотел снять с занавески оболочку насекомого - неподвижную, высохшую, без лапок, хвоста и головы, похожую одновременно на маленького рака и гусеницу, но внезапно она зашевелилась. Я сразу же пошел утопить ее в горячей воде и, когда раздавил ее концом зубной щетки, оттуда появилось лишь немного зеленой пыли.
Утром я увидел ребенка: у него были очень светлые волосы и голубые глаза, он поднялся на детское креслице, в котором его кормили.
Мы ждали молока, его еще не привезли. Я решил погулять и прошелся по деревне, какие-то люди с любопытством меня рассматривали. Усадьба стояла рядом с фермой, прямо напротив с другой стороны улицы располагались мэрия и школа. Вначале я прошел мимо почтового отделения, в котором находились также парикмахерский салон с галантерейной лавкой, затем увидел себя в стекле витрины станции техобслуживания. Сложенную из огромных камней церковь окружало кладбище. Когда мимо проезжал велосипед или трактор, водители оборачивались, чтобы посмотреть на меня спереди. Спортивное кафе, торговавшее еще мясом и хлебом, в сезон отпусков было закрыто. Я зашел в табачную лавку: девушка сказала, что они не получают газет из Парижа[5], за ними нужно идти в Пьо.
Море было в двух километрах от деревни. Я видел серебристого цвета перевернутые цинковые бидоны вдоль домов, видел, как женщины собирают фасоль и картошку, видел высокую капусту на стеблях, вид которой был для меня непривычен. Пахло кострами, сидровыми яблоками и хлебным тестом с кухонь. Я погрузил ботинки в песок дюн: безлюдный пляж простирался до бесконечности. Я подумал раздеться на ветру догола, поджечь гнездо морских блох и кропотливо изучить их страдания, но это были дурацкие планы. Солнце так пекло, что пришлось снять шарф и свитер.
Женщина убрала мою кровать и опять положила серого ежа. Я снова его убрал и спрятал за подушкой в глубине шкафа; если завтра она его снова положит, что ж, от отчаяния я оставлю его на кровати. Я распахнул окна, выходившие на огород. Слышны были отрывистые крики детей во дворе, мычали коровы, кудахтали куры, картина была полной. Я отодвинул стол от окна, так как солнечные блики меня ослепляли. Здесь было больше времени, чтобы заниматься собой, но я меньше заботился о своем облике. По утрам я не мыл голову, чтобы сильнее завились волосы. К тому же, раковина находилась слишком низко, а Расстояние между ней и краном было слишком Узким, чтобы не поцарапать затылок.
У мужчины была узкая светлая бородка и розовые щеки. По вечерам, как только доедали сыр[6], он быстро оставлял нас - уходил работать в кино в Шербуре. Ужин начинался со щавелевого супа, за едой они смотрели телевизор и не разговаривали. Женщине нравился один голубоглазый певец, и она сказала: «Люблю мужчин с голубыми глазами», я сидел, повернувшись к телевизору; она взяла меня за руку, посмотрела в лицо и произнесла: «Ведь у вас тоже, тоже голубые глаза». Мужчина повторял: «Приятного вечера», обращаясь сначала к ней, потом ко мне. Я сразу же поднимался в свою комнату.
Ребенок, после того, как увидел в рекламе по телевизору, что дети едят равиоли, всегда требовал равиоли. Как только на экране появлялся черный, он начинал кричать и, жестикулируя, повторял: «Уходи! Уходи оттуда!» до тех пор, пока негр, разумеется, не исчезал. Он звал мать на «ты», но, когда ему что-нибудь было нужно, всегда говорил ей «вы»: «Мама, пожалуйста, дайте воды», «Мама, пожалуйста, дайте вон тот фрукт».
Каждый вечер я писал Ивонн и утром шел отправить письмо. Это была единственная цель прогулки. Почту забирали в одиннадцать. Женщина, вернувшись с покупками, рассказывала мне, что многие торговцы судачили обо мне. Ребенок попросился пойти вместе со мной на пляж, но, так как он должен был спать и боялся, что я уйду без него, не ложился.
Я шел по деревенской дороге, держа светловолосого ребенка за руку и немецкую овчарку на поводке. Люди смотрели на нас из окон, а собаки во дворах яростно лаяли и, собираясь на нас наброситься, давились на железных цепях. У нашей собаки был ошейник с шипами, которые должны были колоть шею, если она слишком тянула поводок. У меня в кармане были детские подтяжки. Я только что поднял ребенка на плечи и бежал с ним по пляжу. Мы построили пирамиду и вырыли глубокую яму. Мы сняли башмаки и носки, он намочил в волнах низ брюк и спросил меня, можно ли их снять, потом спросил меня, можно ли ему снять трусики, вначале я сказал «нет», потом «да». Когда я снова поднял его на плечи, я почувствовал холодноватую плоть его живота, тершегося о мой затылок. Потом я снова его одел. Я знал этого трехлетнего ребенка лишь с сегодняшнего утра. Видя в окнах недоверчивые взгляды людей, удивленных собачьим концертом (его вызвала наша собака или же я, как некий персонаж, осененный проклятьем, соседство с которым, возбуждая слух, сводит зверей с ума), я подумал: если бы я вдруг потерял память и оказался на этой деревенской дороге, держа ребенка за руку, то что бы подумал сам о себе, - я, который никогда не «имеет» детей, -я бы поверил в то, что только что украл его. И, несмотря на это, ребенок говорит со мной, доверяя мне, хотя знает меня всего несколько часов: он сообщает, что боится тракторов, но ему нравятся машины, с тем условием, если они не станут его Давить. Таким образом, я похищал бы этого ребенка, в то время как мы возвращались с пляжа, я бы туда вернулся и снова раздел бы его, и на этот Раз я бы принялся ласкать все его тело, его тело столь мало, столь пригоже, столь доверчиво, что внезапно стало бы очевидным, что я задушу его, и это ничего не стоило бы сделать, его шея такая Узкая, что хватило бы одной руки, и я отпустил бы с°баку, и потом бы скрылся.
Но я не потерял память, и я замечаю, что это ребенок хочет, чтобы я потерялся, показывает мне неправильные пути, чтобы подольше побыть со мной и не сразу вернуться домой.
Я долго гулял по кладбищу. Какая-то женщина спросила меня, не ищу ли я чью-то могилу, так как многие надписи были стерты. К железным крестам, украшенным черными шариками, были прикреплены фигурки Христа. На детских могилах, усыпанных белыми камушками или стеклышками, фарфоровые ангелочки предавались призрачным искусствам факира. Я колебался, не украсть ли мне одного из этих ангелочков. Потом я вошел в каменную кабинку М/Ж, чтобы посмотреть, нет ли на задней стороне двери какой-нибудь надписи, и нашел непристойность вот этой вот весьма нежной: «Ищу девочку 8-12 лет, чтобы ласково у меня пососала или поласкала и чтобы показала свою щелочку».
В воскресенье мы поехали прогуляться на машине. Посмотрели мраморный карьер и потом, проезжая вдоль моря, женщина показала мне атомную станцию. Прогулка по дюнам была долгой и скучной. Мужчина все время, словно кнутом, хлестал поводком. Мы поздоровались с каким-то охотником. Тутовник, который протягивала мне женщина, был невкусным. Ребенок начал жаловаться и просил вернуться. Его мать сказала мне: «Не сажайте его на спину, мой муж ему никогда не разрешает, не нужно приучать его к плохим привычкам». Ребенок заплакал. Мы ушли слишком далеко, понадобилось много времени, чтобы отыскать машину. Когда мы вернулись, женщина предложила чаю, чтобы согреться, и старую бриошь, которую разогрела в печи. На следующий день женщина сказала, что сожалеет, но она говорила с мужем и должна попросить меня заплатить за экскурсию и за полдник.
Ивонн сказала, что мне нужно хотя бы ради приличия переживать различные ситуации, чтобы писать. Я мог бы представить себе эту ситуацию, в которой бы пережил потерю памяти; в конце концов, задушил ребенка и сделался убийцей хотя бы ряди приличия по отношению к литературе.
Ребенок попросил снова сходить вместе со мной на пляж. Дул ветер. Незадолго до того, как появились дюны, ребенок остановился: он не хотел идти дальше, говорил, что моя рука слишком холодная. Он положил свою руку в карман и повернул обратно.
ПОЛОТЕНЦЕ
Вечером я поел в японском ресторане свежей рыбы, и на следующий день меня с приступом аппендицита срочно отвезли в больницу Пеплие в XIII округе. Мне должно было скоро исполниться двадцать лет, но меня поместили в общую палату с двумя детьми: темным тринадцатилетним мальчиком и еще меньшим ребенком с тонкими, очень светлыми волосами и такой бледной кожей, что, казалось, когда он двигался, его можно рассматривать на просвет. Предписанная мне доза анестезии, вероятно, была слишком легкой, так как очнулся я на выходе из операционного блока на каталке в лифте. Пока меня везли по коридорам, я беспрерывно кричал незнакомым мне голосом, исходившим словно бы не из горла, а прямо из живота. Больные выходили из палат в коридор, чтобы посмотреть на меня. Медсестра надавала мне пощечин, я умолял ее сделать мне укол, чтобы снова уснуть. Детей заставили покинуть палату; укол, наконец, сделали, и он меня утихомирил.
Когда я проснулся, бледный ребенок находился у моей постели, он следил за мной, стоя у изголовья. Чуть позади тихо стояли и смотрели пришедшие навестить его родители. Я не пил уже часов двадцать и умолял дать воды, которую мне еще было нельзя (я должен был ждать, когда вечером подадут суп с пюре и ломтиком ветчины). Ребенок пошел в туалетную кабинку, вернулся со своей пропитанной водой банной рукавичкой и принялся сжимать ее у моего рта. Он несколько раз входил в кабинку смочить рукавичку и, в конце концов, положил ее мне на лоб. Родители попросили его снова лечь. На другой постели темный мальчик читал журнал с картинками. По-прежнему ничего не говоря, бледный мальчик поднялся с кровати, чтобы помочиться. Он задернул белую пластиковую занавеску, и сразу же раздался глухой звук удара его обессиленного тела. Родители подбежали поднять его и отнесли на кровать, где он очнулся. Им пора было уходить, мы попрощались.
Накануне этому ребенку сделали обрезание, и он, каждый раз, когда мочился, терял сознание, вероятно, от боли в члене. Мы - темный мальчик и я - сразу же звонили медсестре, чтобы она пришла его поднять.
Он становился все бледнее, его кожа, белая и матовая, иногда розовела от волнения. Он не разговаривал, лежал с широко распахнутыми глазами в кровати. На следующий день он покидал больницу, а меня переводили в отдельную палату. За ним приехали родители. Прежде чем уйти, он раскрыл сумку, чтобы отдать мне свое туалетное полотенце, неприятное пестрое полотенце, которое я до сих пор храню.
ПОЕЗДКА В БРЮССЕЛЬ
Я видел его только раз, в той школе фотографии, куда меня попросили зайти. Это был самый высокий мальчик с черными и короткими взъерошенными волосами, торчащими в разные стороны, он говорил с немецким акцентом, вот все, что я о нем знал, и чем можно было объяснить мое влечение.
Его образ витал в воздухе несколько месяцев: я не решался к нему подступиться. Когда этот образ, наконец, уже был готов развеяться, он мне позвонил. Я сказал ему: «Давай увидимся». Он ответил: «Приходи прямо сейчас, я для тебя что-нибудь приготовлю» и сразу повесил трубку, не дав мне времени сказать, что я занят. Я перезвонил, но он уже ушел.
Я поднялся к нему по маленькой грязной лестнице. Он жил на окраине Парижа, в восемнадцатом округе. Он открыл мне дверь, как открывают ее долгожданному другу, с которым встречаются после долгой разлуки (этой разлуке было столько же лет, сколько и нам: двадцать три, двадцать четыре). Он кидал на стоявшую на огне сковородку порезанный лук, кусочки банана и ветчины, перемешанные с масляным рисом. Мы сели друг против друга в маленькой кухне без света, и от его присутствия я сразу же почувствовал подъем, приключение, свободу. В его словах не было ничего явственно эротического, но от них внезапно таинственно начинал разбухать член.
Меня должны были оскорбить две вещи, но я воспринял их естественно, словно в гармоничной последовательности: сначала, когда я уже хотел воспользоваться темнотой, в которой мы обретались, он зажег висящую под потолком лампочку без абажура, но это новое освещение, явно обездвижившее наши лица, ничего не изменило ни в наших отношениях, ни в наших словах. Затем в дверь позвонил его друг, с сэндвичем в руке, купленным у арабского лавочника, но этому комическому вторжению (ибо мальчик был из тех, что рассказывают смешные истории) не удалось меня обеспокоить: я доверял каждому нашему мгновению. Вино было плохое, но это казалось не особенно важным, попадая в рот, оно сразу же становилось отменным.
Наконец, когда была пора уходить, гость начал рассказывать страшные истории: квартал был небезопасный, на него уже нападали, он попросил, чтобы мы вызвали ему такси. Я собирался поехать на метро, его друг сел в такси, а ему я предложил пройтись и проводить меня. Мы свернули за угол Улицы и столкнулись нос к носу с одетыми в кожу парнями, которые, матерясь, мочились на машины. Один из них сказал: «Сейчас мы их сделаем». Перепугавшись, я хотел пуститься наутек, но он почувствовал, что мне страшно, и в тот самый момент, когда мы проходили мимо них, положил РУКу мне на плечо и громко произнес: «Не бойся, ведь ты со мной», и тут они расступились, дали нам пройти. Он оставил меня на станции метро, и я не обернулся, он пожелал мне доброго пути, Как Желают тому, кто, расправив паруса ветру, отправляется в долгое плавание.
Он дал мне фотографию, на которой мужчина держит в вытянутой руке мертвую сову. Смеясь, он открыл рот и показал мне в самой середине внизу дыру между зубов, он подрался в детстве, и зуб, не вывалившись, сгнил. Он наклеил на некоторые свои фотографии рентгеновский снимок этого отсутствующего зуба. Радостная манера сразу же показывать то, что другие хотели бы утаить, натолкнула меня на мысль засунуть язык во время поцелуя, если однажды этот поцелуй состоится, в промежуток между зубами прежде, чем там появится вставной зуб. Я мог бы взять его руку и положить на свое тело, чтобы его рука будто нечаянно ранилась о край пропасти, словно попав в волчью ловушку, прикрытую листьями, чтобы его рука пала... но я этого не сделал.
Мы договорились по телефону поехать куда-нибудь вместе, я предложил Брюссель, он предложил Шартр или Ла-Рош-о-Фе[7], он хотел привести меня ночевать в расселине, которую отыскал между двумя менгирами[8], где спали кошки. Он был толстым ребенком, но не похудел, а стал таким худым, потому что внезапно неимоверно вырос. Он рос быстрее меня, но я этого еще не знал. Он был на восемь месяцев младше. Был немцем, родился во Фрайбурге. Он должен был скоро отправиться туда праздновать семидесятилетие отца, и надо было торопиться, если мы хотели поехать куда-нибудь вместе.
Он взял с собой миртовую настойку на случай, если придется унимать зубную боль. А я набил свою небольшую сумку всевозможными таблетками и пилюлями, я представил всевозможные страдания, и у меня было средство от каждого, пока мы собирались, я методично составлял каталог (я тайно желал, чтобы он заболел, чтобы о нем заботиться), в котором было перечислено все: боль в животе, головная боль, бессонница, боль в сердце и даже сильнейшая усталость. Я не взял никаких книг, никакой одежды, только сменную майку красного цвета.
Когда мы собирались выходить от него, он вдруг открыл свою дорожную сумку фотографа и прямо передо мной вытащил оттуда пижаму, сказав: «нет, я не буду ее брать с собой». Но он в течение многих дней нарочно не мылся, чтобы запах защитил его, воздвигая вокруг тела оправу, плотину, которую мне было бы тяжко преодолеть (так против комаров используют лимонную мяту).
Он надел черную кожаную куртку, которую много лет назад ему дал водитель грузовика на дороге в Гамбург, и к которой он заказал подкладку из овечьей шерсти. За несколько дней до нашего отъезда я заметил у него в ушах желтую восковидную субстанцию ушной серы, и сказал себе, что особое отвращение, которое она мне внушала, послужит испытанием, вызовом моему желанию, словно некоторое препятствие в состязании. Но в день отъезда желтая субстанция исчезла. И эта старая черная куртка вместе с ремнем стала для моего желания слишком очевидным проводником, чересчур сильным вожатым.
Он выбрал поезд, который идет до Брюсселя шесть часов, хотя мы могли добраться за три часа. Это был поезд, на который ему сделали студенческую скидку, поезд вез португальских эмигрантов, возвращавшихся работать в Нидерланды, он останавливался в Амстердаме. Спальных мест не было, большинство путешественников лежали поперек сидений, дрожа под кучей одежды. Разговаривая, мы пытались не дать друг другу заснуть, слова больше ничего не значили, лишь звуки, которые различал слух. Поезд без причины простоял целый час на какой-то станции, было уже два ночи, и мужчина, прохаживавшийся с передвижной стойкой вдоль перрона, регулярно стучал в окна прямо напротив приплюснутых лиц уснувших путешественников лишь для того, чтобы их разбудить, злоупотребляя нереальным правом, которое предоставляло ему занятие уличного торговца, однако без какой-либо надежды что-то продать (может быть, мужчина колотил в окна, нарушая сон непьющих пассажиров, еще оттого, что уже привык не продавать ни одной бутылки пива и ни одной чашки черной бурды...).
Поезд еще час стоял на таможне, и на этот раз мы уже задремали, он укрылся курткой и, когда я просыпался, я играл с ее молнией, не осмеливаясь повернуться в сторону, чтобы взглянуть на него. Все купе громким тягучим голосом разбудил толстый мужчина с бельгийским акцентом: «Чей это красный чемодан? Он ваш, месье? Ваш, месье? Нужно сказать, чей это красный чемодан, а то я буду вынужден спустить его на перрон». После двадцати минут, прошедших в личных обращениях, когда слова «красный чемодан» не переставали повторяться, мужчина решился спустить чемодан на перрон. Как только его поставили на землю, чемодан взорвался, и мужчину разворотило на части. Перерыли все наши вещи, установили наши личности, допросили всех пассажиров.
Поезд приехал в Брюссель с опозданием. Было пять часов утра. Обменный пункт открывался только в семь, и у нас не было ни одной бельгийской монеты. День едва занимался так, как ему хотелось. Ветер был очень холодным, в сиреневом небе мигали сигнальные фонари. Мы перешли улицу и вошли в первое попавшееся кафе. Мы спросили у женщины за стойкой, можем ли заплатить французскими франками, за два кофе мы отдали ей десять франков. Мы сидели на диванчике рядом с выключенным автоматическим проигрывателем, напротив нас женщина с тяжелыми веками, прикорнув на плече мужчины, кончиками пальцев с красным лаком ласкала пряди его волос.
Мы ждали открытия обменного пункта, и, гуляя, удалялись от вокзала. Мы вошли во второе кафе на маленькой площади. Свежевыбритый мужчина с портфелем у ног, допивая пиво, собирался идти на работу. Он спросил нас, не англичане ли мы. Сказал, что каждое утро слушает французское радио, и начал напевать позывные одной передачи.
В музее Изящных Искусств не было ни одного Рембрандта, а картины с трудом найденного музея Вирца были тщеславных размеров и грубо написаны пошлыми красками: было лучше смотреть на них на почтовых открытках. В саду, окаймленном оранжереями, поднялось солнце. Напротив лестницы, возле стены, повернувшись спиной к поднимающимся людям, обнимая камень, тихо покачивался человек. Однако фотоаппарат не мог передать этого движения, этой позы, этого беспокойного онемения.
Мы трижды возвращались в тот же самый ресторан под навесом и ели те же самые блюда, панированные битки из креветок. На его щеку упала Ресничка, и я подхватил ее влажным указательным пальцем, чтобы положить на язык, я ее проглотил, и он смутился. Мы пили белое Юрское вино. Он рассказал о том, как гулял в окрестных лесах Фрайбурга, о воскресных обедах. Из четырех мальчиков он был старшим. Ему было семь лет, когда у него наконец родилась сестра, и он тогда сказал: «Я женюсь на своей сестре». «Сегодня, когда я себя ласкаю, - сказал он мне, - я все еще мечтаю сжать ее в объятьях».
Когда мы вышли, я беспокоился, что ледяной ветер, сдувая волосы со лба, обнажает мое лицо. Я был не очень тепло одет, я замерзал. В комнате было недостаточно натоплено, с каждой стороны висела раковина, и стояли две простых кровати, разделенные перегородкой, он не затворил дверь. Он разделся, его майка задралась, и я увидел его немного жирный и, главное, белый живот. Я вытянулся под холодными простынями и задержал дыхание, мы пожелали друг другу с одной и с другой стороны от перегородки спокойной ночи, наши головы должны были почти что соприкасаться, каждый из нас был словно невидимой стороной другого; вероятно, у нас обоих тела были одеревеневшие и недвижимые, внезапно я почувствовал сильное желание кончить вместе с ним, тереть оба члена в своей руке, я хотел, чтобы он пришел ко мне в кровать, ничего не говоря, поднял покрывало, чтобы лечь рядом, я заранее знал, что его ноги будут ледяными и влажными, как мои. Он поднялся, я услышал, как он ходит, голый в темном и холодном пространстве, голый прямо передо мной, У него в руке была его кожаная куртка, он положил ее на мою кровать, чтобы укрыть мои ноги, он сказал только: «Тебе должно быть холодно», потом ушел, снова лег, и кончилось тем, что сон овладев нами, и кто был первым? Утром он рано меня разбудил.
Мы должны были спуститься к портье за ключом от душа. Женщина потребовала, чтобы мы заранее оплатили номер, так как у нас не было никакого багажа, кроме двух ученических сумок. Теперь внизу был мужчина, мы только что позавтракали. Я попросил у него ключ от душа, и снова он потребовал плату вперед. Он пошел вместе с нами за двумя полотенцами к шкафу, и мне было прекрасно видно, что на секунду, пока он раздумывал, его рука повисла в воздухе, а затем он нарочно выбрал из стопки два самых тонких, самых потертых, самых поношенных полотенца. Я взял полотенца и подождал, когда он пересечет весь коридор. Как только он подошел к стойке, я вернул ему полотенца, сказав, что хочу другие, более толстые, таким тоном, который заставил его подчиниться. Он вернулся, поменяв одно из двух полотенец и, чтобы оскорбить меня, проговорил: «Честное слово, вы настоящие девушки», на что я очень спокойно сказал: «Да, мы - девушки». Он ничего не ответил, и мы поднялись по лестнице. Я охотно отдал ему лучшее полотенце, и снова, как тогда, когда я проглотил ресницу, это внимание, Уделенное его телу, казалось, испортило ему настроение.
На площади играл духовой оркестр, собрались люди, кто-то фотографировал, мы смотрели на них, как на чужих, с жалостью. Нам нужно было снова садиться в поезд, он не нашел того, что искал, ходя из одного магазина в другой, какую-то редкую запасную деталь, может быть, от ружья, двигателя.
Мы доехали на трамвае до конечной станции, Не зная, куда он идет, и по тем же местам вернулись, откуда приехали. Я повел его в кафе «Внезапная смерть», о котором мне рассказывали, выпить едкого пива со вкусом черешни. Люди смотрели как мы бок о бок сидим на скамейке, и тогда, ведомый желанием, я сказал ему те слова, которые не были написаны.
В обратном поезде он наклонился ко мне, чтобы поцеловать в щеку. Мы расстались в метро, и я видел, как он исчезает за освещенными стеклами вагона, он собирался присоединиться к Марианн. Я больше его не видел.
Я вернулся опустошенным. На следующий день я погрузился в лень, мне едва хватало сил даже на чтение. По телефону мне ответил разбуженный голос, принадлежавший кому-то другому, и я подумал без всякой печали: он согревает под курткой ноги Марианн, он рядом с ней. Но уже наступило лето. Голос девушки, с которой меня соединили, казался сонным, и я представлял его квартиру во время его отсутствия, словно большую спальню. Она сказала мне: «Нет, он еще не уехал во Фрайбург». Я попробовал говорить на немецком, я чуть не отказался ему писать.
Слова, которые мы оба произнесли, образовывали прекрасный, вылинявший и обгоревший, новый апокриф, написанный симпатическими чернилами, зарытый и более не находимый. Ничто не могло воссоздать эти слова, они были, словно ненайденный, слишком глубоко сокрытый, не поддающийся обнаружению, смущающий клад.
Несколько дней в пустоте, прошедших, когда я ничего не делал, ничего не писал, совсем ничего не происходило, я думал, что он украл мою душу, но он стал моим вдохновением...
(Между двумя текстами прошло от шести до восьми месяцев, первый был оставлен в планах, недописан, прерван. С опозданием в три месяца я отправил ему письмо, стеснительное, накупавшая ресница или слишком мягкое полотенце. Я надеялся, что письмо не будет иметь никакого успеха, так как мы не общались. Потом я нашел кусок уже написанного текста и испытал то же самое ощущение приключения. Надо было превозмочь забвение, надо было положиться на свою память.)
ВИЗИТ
Он уходил рано утром, поставив на шесть часов маленький кварцевый электронный будильник, который не звонит, но дает расслышать посреди сна глухой свист, сон сразу же развеялся. Он побрился, не смотрясь в зеркало, и немного порезался. Он опустил перед зеркалом голову и провел рукой по волосам, чтобы привести их в порядок, каждый день ему казалось, что он еще чуть больше постарел, и это доставляло ему некое удовольствие. Когда он садился в машину, ему почудилось, что все восприятие жизни заключалось в выпитой зыбкой лужице кофе, которая теперь склеивала его желудок, словно тухнущие чернила из внутренностей осьминога. Начинался день, еще бледный, улица была пустынной.
Выехав из Франции, он пересек пелену плотного тумана, который время от времени дырявили желтые проблески фар, по обочинам вырисовывались высокие сосны. Остановившись в деревне, он зашел в кафе и спросил себя, не была ли эта манера осознанно выбирать кусочки наколотого сахара уже жирными и грязными руками проявлением его испорченности. Официантка сказала: «Месье, у вас на ушах пена для бритья», и, действительно, он вытер кончиком пальца белое вещество, которое еще оставалось чуть влажным. Женщина проницательно угадала природу пены.
Он перечитал письмо от бабушки, которая пригласила его провести десять дней в этом швейцарском отеле для смертников, в клинике, замаскированной под дворец, где двадцать лет назад умер ее муж и куда она возвращалась каждый год ради трех летних месяцев в одиночестве. Увидев в конце аллеи посреди густого леса большое белое здание, он понял, что наступила пора обеда: за изогнутым стеклом столовой занимали места обернутые в шали одеревенелые силуэты. Представив себя среди этого собрания, он вдруг почувствовал озноб и повернул назад, пошел обедать один в Понтарлье.
Вход в отель был сзади, надо было пройти по висящему над пропастью мостику. Приемная находилась на четвертом этаже. Он назвался, и элегантная женщина сказала, что его ждали к обеду и бабушка, уставшая от ожидания в гостиной среди игроков в бридж, обеспокоенная, поднялась к себе в номер. Она указала ему на один из двух лифтов, снабженный зеркалом, в которое он избегал смотреть из страха показаться смешным гарсону, Несшему его багаж. Он шел по центру длинного прямого коридора с обитыми кожей дверьми по обеим сторонам, заставившими его думать о подземном лабиринте безграничного склепа; сквозь эти двери не проникал никакой шум, плотный плюш, наложенные один на другой ковры полно-заглушили скрип тележек, которые везли ко второму лифту, спускающемуся ниже, чем первый, и без зеркала, доходившему до подвала, где были кухни, склады, массажные кабинеты и холодильные камеры. Гарсон, не ожидая чаевых, тут же исчез, как только толкнул совершенно белую на шведский манер 30-х годов дверь его номера. Он дошел до номера бабушки в глубине коридора. Она еще не разделась, она осталась, дожидаясь его, в темно-синем с белым английском костюме, который надела для обеда. Она читала в кровати книгу молитв, написанных детьми-инвалидами, лежавшую на деревянном пюпитре, который стоял над ее грудью. Она сказала ему: «мой бедный малыш», - это все, что он расслышал от ее фразы. Он рассказал ей о том, как доехал, и, чтобы объяснить отсутствие во время обеда и столь запоздавшее появление, не забыл указать более поздний час, когда отправился в путь. Он прочла ему одну из молитв. Возле ее тщательно расчесанных белых волос, убранных назад, ее затылка, опирающегося на подушку, находился звонок с надписью «Медсестра». Когда он ее поцеловал, ему показалось, что губы погрузились в дряблую плоть, сладковато пахнущую рисовой пудрой, бывшую воплощением этой дряблости, хотя со стороны лицо его бабушки напоминало твердую скальную породу.
Ему снились плохие сны, в них то и дело появлялось дерьмо, а от пальцев отрывались ногти. Утром они позавтракали каждый в своем номере и созвонились, чтобы назначить встречу. Он распахнул большую стеклянную дверь, выходившую на кругообразный общий балкон, разделенный перегородками матового стекла. Посмотрел на лес, простиравшийся возле отеля, над озером, по которому медленно двигались далекие белые треугольники парусов. Облокотился правой рукой о балюстраду, чтобы заглянуть в соседний номер, и сразу же спохватился: ему привиделась устремившая взгляд на озеро неподвижная женская фигура в домашнем платье, на обрамленном белыми повязками лице были видны лишь похожие на черные бархатные гвоздики круги под глазами, он сразу же затворил стеклянную дверь.
Азиатский врач заходил к бабушке в номер каждое утро. Она страдала астмой и бессонницей и говорила, что спит по ночам не более трех часов. Остальное время она читала, молилась. Она так далеко ушла в своей вере, что не могла даже в глубине души в ней усомниться. Ей было восемьдесят три года. Для прогулки она надела простое платье, также ее любимого темно-синего цвета, и покрыла оголенные плечи шалью. Он взял ее под руку. Она довела его до маленькой часовни, в которую ходила по субботам на мессу и иногда по будням к вечерне. С 1949 года она приезжала в этот отель каждое лето и на месяц на Рождество. Сначала она приезжала сюда с мужем, крупным бумажным промышленником. Однажды летним утром 1956 года она нашла его в кровати рядом с собой мертвым. Но потом вернулась, лишь попросила другой номер. Большая часть пансионеров знали друг друга из года в год и собирались иногда по вечерам на ужин. Но она всегда отказывалась принимать участие в «общем столе». В этот отель приезжали, чтобы жить, но здесь умирали: в подвале были, кроме кухонь и холодильных камер для мяса, бассейн с подогревом, солярий и небольшой морг. На нижнем этаже располагались столовая, гостиная и комната поменьше, где играли в карты. Каждый четверг во второй половине Дня устраивали вечеринку с танцами, но она туда не ходила, это была скромная женщина.
Чтобы спуститься к ужину, она воспользовалась дальним лифтом, в котором отсутствовало зеркало, достаточно большим, чтобы вместить тело в горизонтальном положении. Он удивленно спросил ее: «Почему ты пользуешься этим лифтом? Он же ужасный!» - и она поспешно ответила: «Я всегда пользуюсь им, когда опаздываю». Он больше не был единственным молодым человеком в этом собрании, тогда как за обедом молодость казалась лишь его привилегией: во второй половине дня прибыл африканский король с четырьмя телохранителями. Гарсонов в ливреях также выбирали по выправке и относительно молодому возрасту. Они позволили себе заговорить с мадам Хикс, бывшей моделью, вышедшей замуж за богатого американца и быстро овдовевшей, постоянной пансионерке в течение тридцати лет, но та прикинулась, что не слышит и возмущенно обернулась: «Вы слышали? Они осмеливаются ко мне обращаться!». Почти шатаясь, столовую пересек очень почтенный старый англичанин.
На следующий день бабушка рассказала ему, что в прошлое Рождество ей удалось затащить мадам Хикс в церковь, она даже заставила ее исповедоваться, и та вышла из исповедальни в слезах. Ей принесли большой букет с запиской, которую она поспешила спрятать от глаз внука, словно намекая: в семье стало своего рода легендой, что эта пожилая дама таила пламенные страсти. В то же самое время, что и книгу молитв, она читала «Любовную жизнь средних веков». Прощаясь, он снова поцеловал ее, но на этот раз ему показалось, что беспощадно тверды были его собственные губы, и что, прикоснувшись к ней, они сдавили ее изборожденную сладковатую плоть.
ПОЗДНЯЯ ОСЕНЬ
События здесь случаются такого толка: готовя, как обычно по средам, пирожные на красном вине и оставив его течь в огромный таз с тестом, перемешанным с сосновыми семечками и виноградом, булочник вновь запьянел, одурманенный алкогольными парами. Рыбаки на Рио Марина ловили рыбу-меч длиной несколько метров, окружив ее на лодках и подплывая все ближе, они сначала ее утомили, а потом гнали к берегу, чтобы она не могла уплыть прочь; обрадованные агонией, гребцы вокруг нее превратились в шумную возбужденную свору; проходивший мимо иностранец, разглядевший внизу темный колышущийся кружок, сначала подумал, что кто-то утонул, потом подошел ближе; удержать тварь пытались двое мужчин, и она еще билась; иностранец проникся ее страданием и искал в ее глазах какой-либо знак, доказательство этих мук, словно его собственный взгляд мог ослабить ее страдания, но увидел в глазах, будто два серебристых камушка, лишь пару непроницаемых концентрических кругов, которые Не говорили ему того, что он ожидал; тогда толпа понесла рыбу-меч на руках по деревне, образовав Целую процессию, и эта невероятных размеров Рыба была похожа на острый нос корабля.
Вечером иностранец сидел в кафе на деревенской площади и пил редкий и чистый, совершен-но черный ликер из итальянского эспрессо; в кафе вошел мужчина и сказал: «На дороге к кладбищу пожар, кто идет помогать?», и кафе опустело. Иностранец вышел и с невольной зачарованной бездеятельностью смотрел с высоты перил на огни, горевшие в ночи полукругом, и стоял до тех пор, пока те не исчезли... Здешние крестьяне говорят, что люди совершают поджоги нарочно, что им платят за то, чтобы обесценить остров. Другие думают, что огонь загорается сам, что солнце яростно нагревает какие-то минералы.
Эту горную деревню с тесными и крутыми улочками, серыми и влажными домами некоторые называют суровой. Деревенскую площадь, которую пересекают машины, едущие из Каво в Порто-Аццурро, симметрично сторожат два кафе, коммунистическое кафе с табачным киоском и Интернациональный бар христиан-демократов. По утрам солнце поднимается над коммунистами, а по вечерам садится в стороне христиан-демократов между двумя черными горами, где, можно подумать, возведены распятия. Лишь дети, считающиеся невинными, имеют право ходить между двумя кафе; на взрослого, который бы безразлично перешел из одного в другое, смотрели бы как на предателя. Пожилые мужчины играют в карты, женщины ходят шептаться в церкви. Первые пьют горькое белое вино, вторые укрываются в темной сырости фимиама под защитой святых из крашеного гипса. Они ждут мужей по домам, вывязывая крючком бесполезные занавески. Парни торчат возле шумных уличных нужников, трепещущие девушки, стоящие группками, делают вид, что не видят, как парни проходят мимо. Церковь — царство женщин кафе - мужчин. Жизнь прекращается в одиннадцать вечера, маленькая площадь становится совершенно темной; в то же время, что и циферблат башенных часов, гаснет свет в двух всегда пустых телефонных кабинах. Единственный отступник -сын мясника, сидящий каждый вечер в одном из кафе: он с грустью поедает из маленького горшочка мороженое. Говорят, что до женитьбы он был очень веселым мальчиком; его все время видели с невестой, очень красивой девочкой, но теперь, женившись, он сидит по вечерам в одиночестве с деревенскими стариками, а его жену видят только по утрам в булочной. Не в силах уснуть, восстановить свое наполняющее комнату дыхание и нарочно подавляя его, иностранец снова оделся и вышел, потом долго ходил по улицам, слышал переменчивые дыхания из окон, мужские и женские храпы, опьяненные и молитвенные выдохи...
Никто меня здесь не знает, и я никого не знаю, и какое мне дело, как смотрят на меня люди, видят они во мне туриста или блаженного, заблудившегося. Я ехал на поездах, потом на корабле, скользящем по воде алискафе, потом сел в автобус, я выбрал это название - Рио Эльба, - и вышел на последней станции. У меня совсем небольшой багаж, пластиковая сумка с туалетными принадлежностями, несколькими сменными вещами, книжкой, этой тетрадкой и ручкой. У меня нет молитвенника, у меня нет расчески, у меня нет приемника. Я не знаю языка, но я говорил с людьми, дверь отворилась, я живу в маленькой комнате на нижнем этаже, мой сон охраняет фигурка Христа из слоновой кости, я питаюсь фигами, заворачиваю их в ломтики ветчины, фиги здесь ничего не стоят. Когда я собираюсь поесть, деревенские девочки, чтобы посмотреть на меня, теснятся возле окна, они суют записки под мою дверь, но, как я сказал, я не понимаю этого языка, я улыбаюсь им. Я одинокий мальчик, и деревенские мальчики смотрят на меня странно, я иногда слышу, как они говорят «pederasto», когда я иду мимо, но в их голосах нет никакого намека на осуждение, и я оборачиваюсь, так же им улыбаясь, как если б они говорили мне «Добрый день».
Кошка устала, что пятеро ее малышей снова хотят молока, у нее его больше нет, туристы кормили их в течение лета, но теперь уехали, приучив их к тому, что им теперь недостает. Во дворе церкви сушится черное нижнее белье священника, священник вручил столяру деревянную фигурку Христа, найденную в развалинах под престолом, очень красивую фигурку Христа XVII века нежного, почти выцветшего оттенка, и плотник выкрасил ее набедренную повязку очень ярким зеленым лаком, но его нельзя упрекнуть, плотник - человек очень приятный. Наступила осень, и скоро можно будет собирать в подлеске грибы, их следует хорошо перебрать, чтобы никто не умер. Дети вернулись в школу, а музыканты уличного оркестра убрали трубы в ожидании балов следующего лета, муниципальные рабочие уже разобрали эстраду.
Итальянское государство постановило закрыть мраморные карьеры и стальные рудники, рабочие должны покинуть остров, взамен им предоставляют места в южных областях, а те, что откажутся, не получат компенсации. В коммунистическом кафе с табачной лавкой организуется забастовка. Шахтерские дома скупят богатые немецкие туристы, архитекторы, журналисты, тенора. Коммуна решила построить новую дорогу, чтобы избежать уличного движения в деревне, многие здания под угрозой, и в интернациональном баре христиан-демократов владельцы подписывают прошения.
Сегодня после полудня я пошел посидеть на народной площади на скамейке, прислонившись спиной к стене, в ожидании, когда солнце начнет садиться между двумя распятиями позади черных гор. Я гладил пальцами деревянную скамейку. Дети играли, хлопая пластиковыми лианами, закрывающими вход в продуктовую лавку. Ко мне на руку прилетела муха, и я вдруг не захотел ее прогонять, я сказал себе: может быть, эта муха хочет стать моей подругой? - потом я сказал себе: надо остерегаться блаженства. Я не вставал со скамейки, как деревенские старики, которые ждут, когда пройдет жизнь, как минералы, которые ждут, когда их опалит солнце. Мне казалось, что в этой деревне я был укрыт от любого насилия, укрыт от самой истории. За пределами острова могла разразиться война, и я не узнал бы об этом. Газетам и почте нужно больше недели, чтобы сюда добраться, и новости достигают этого места приглушенные, ослабевшие, посланные будто бы рикошетом, далекие и внезапно абсурдные. На картину площади, ограниченной тенями крыш, на общее световое пятно негативом наложилась картина взрыва на вокзале в Болонье и тут же исчезла.
Война добралась до острова через экран электронной игры, в которой баллистические ракеты дробят марсианских захватчиков, но песни из автоматического проигрывателя заглушили шум взрывов. Мне показалось, что из этого ожидания захода солнца на лавке я извлек урок бытия: это было лишь знакомое ожидание смерти, тогда как в городах с ней люто сражаются.
На площади остановился большой синий автобус из Портоферрайо, из него вышел молодой человек с пластиковой сумкой, это был иностранец. Завтра я поднимусь на корабль, идущий в Неаполь. Говорят, что в неаполитанской опере народ поет арии вместе с певцами. Я хочу это услышать.
ОДНАЖДЫ НОЧЬЮ
Младший приводит старшего в спальню. Ночь. Младший сразу же включает яркую лампу, словно хочет защититься. Младший сразу же говорит старшему: «Ты уйдешь в четыре утра». Они раздеваются. Они ложатся на кровать. И тогда в ярком свете младший видит под кожей старшего сеть розоватых жилок, она вызывает у него легкое отвращение, он замечает уже чуть жирный живот и вставший член того же алого цвета, который он мельком увидел на его лице. У младшего нет эрекции, и эрекция старшего тоже вызывает у него легкое отвращение, но отвращение это не столь велико, это почти что безразличие. Тогда младший, который позволяет себя ласкать, вдруг ложится на старшего и повторяет: «Ты уйдешь в четыре утра». Движения младшего отличаются особой нежностью, любовностью, и он обращает свой синий взгляд, склоняет нежные пряди волос к старшему, который возражает, который считает правильным возражать: «Нет, я не уйду, я останусь». Старшин протестует. Они катаются из стороны в сторону, и внезапно старший берет член младшего в рот. Тогда младший потягивается, широко улыбается под все таким же ярким светом и стонет, как молодой зверь. Старший хочет выключить свет, придающий его коже вид плотский, мясной, он это о себе знает. Старший наслаждается, насыщается нежностью плеч этого малыша, кожа которого напоминает вовсе не мясо, но некий фрукт, очень мягкую ткань, муар. Младший отказывается выключить лампу, он боится оказаться в темноте с этим мужчиной, он хочет видеть его ясно и чтобы ничто не было скрыто, он ни разу не смежил веки, даже когда этот рот дарил ему наслаждение. Так они остаются друг возле друга или один на другом в течение трех часов, катаются по простыне, целуются, и старший надеется, что это не кончится никогда. Но младший вдруг хочет, чтобы все завершилось поскорее, он встает, его лицо становится жестоким, свет так и не был выключен, и летняя заря ослабила его яркость, младший говорит: «Я буду спать на полу, оставайся в кровати». Старший вновь протестует и хочет прилечь с ним на полу, но взгляд младшего становится злым, старший возвращается на кровать и засыпает. В восемь утра младший трясет старшего, говорит: «Уже восемь, уходи, дай мне поспать в кровати». Старший неловко пытается возобновить ласки, но младший не позволяет. Они расстаются, даже не зная имен друг друга.
И все это время в ином месте, в другой спальне - я, желавший младшего, которого похитил у меня старший, я, желавший, как и старший, хоть какой-нибудь близости с младшим, - я не могу уснуть. Опасаясь комаров, я вылил на волосы жидкость Из только что вскрытой ампулы, и в полузабытьи мне мерещится, что волосы начинают расти На лбу, они растут на ладонях, на которые попала жидкость, кожу на голове пощипывает. В моем полусне к Т. пришла Изабель[9]. Внезапно я просыпаюсь от ужасного грохота, и мне, одному в номере в конце коридора, становится страшно. В соседний номер, отделенный от меня лишь тонкой перегородкой, зашел мужчина, который говорит на непонятном языке, он вернулся вместе с женщиной и начал кричать, ломать мебель, я боюсь, что он заподозрит мое присутствие, боюсь, словно пристыженный свидетель, даже повернуться на другой бок в постели. Этот человек вот-вот станет убийцей. Наконец, он ложится спать, или это я засыпаю, и утром сцена возобновляется на том же непонятном языке, затем мужчина и женщина уходят. И вот я слышу голоса уборщиц, которые увидали распахнутую комнату с перевернутой мебелью и испачканными простынями, и одна говорит: «Симона, посмотри на этот погром». Не быть тем иностранным мужчиной, которому не удалось стать убийцей, и не быть тем старшим, отвергнутым младшим, но быть одиноким человеком, чью кожу на голове немного жжет от жидкости, нанесенной, чтобы волосы росли с прежней силой... - эта мысль делает мою подавленность почти что счастливой.
СТРЕМЛЕНИЕ К ИМИТАЦИИ
В пятницу, 26 декабря 19... года в 18.50 я сел на вокзале Л. в поезд, шедший в Р., и потом долго забывал вынуть из кармана проштампованный билет, служивший тому доказательством. В золотистый чемодан, который я купил на первый свой гонорар и все еще хранил, я положил лишь туалетный несессер, несколько сменных вещей и, в качестве подарка, новый альбом для фотографий с плотными черными листами. Я не стал брать с собой дневник, опасаясь, что его прочтут или откроют и, может быть, украдут или просто исчертят, я наизусть знал те фразы, которые могли вызвать гнев.
В вагоне-ресторане какой-то мужчина попросил у меня зажигалку, задержав свою руку на моей на один лишний миг: он был родом из Калабрии, годом старше меня, с высокими скулами и бритой головой, низким голосом, почти что рябой кожей с крупными порами, словно ее сотню раз сдавливали, чтобы выпустить гной. Его звали Ф., и, спросив, что означает его имя, я подумал о лаве, огне, вытекающем из вулканов. Он предложил мне остановиться в его гостинице, и это было явно беспутное предложение, ибо он выглядел, как настоящий бандит, поэтому утром, выйдя из вагона, я не стал ждать его на перроне.
Меня встречал безучастный, весь в сером шофер, уже в возрасте, элегантный несколько по-мужицки: он нес в руке фотографию своей хозяйки[10]. Не говоря ни слова, он взялся за чемодан и провел меня к серебристому Мерседесу. Роллс продали десять лет назад. Он спросил, где бы мне хотелось сидеть, сзади или спереди, и я сел спереди. Так как он был кем-то вроде лакея, я чувствовал себя рядом с ним довольно жалко и смотрел, как за окошком тянется холодный пейзаж под солнцем, резко перешедший от античных развалин к промышленным сооружениям, непривычным для Р., или, скорее, для того представления о Р., которое я составил.
Движение машины напомнило мне о поезде. Там я начал читать одну из двух книжек, которые родители подарили мне на день рождения: «Красное и черное» Стендаля и «Подросток» Достоевского. Я взялся за предисловие к Стендалю, этот роман я еще не читал. Автор предисловия разъяснял, что Стендаля вдохновило реальное происшествие, и он лишь чуть изменил его ход: молодой человек стрелял в церкви в свою любовницу; Стендаль, сообщал автор предисловия, ограничился тем, что развил чувства, которые могли бы привести к очевидности этого убийства, и по мере того, как я читал, строчки двоились, выявляя другую очевидность: целью моей поездки в Р. было убить пригласившую меня женщину, я не думал об этом прежде; по правде говоря, это была даже не цель, но некая очевидность, что-то, от чего с этого мига я больше не мог избавиться. Однако, встреча с тем парнем, ужин, постоянный грохот поезда, полудрема в неудобном положении и холоде отвлекли меня от моей идеи. Приехав, я позабыл о ней. Я попытался сказать несколько слов шоферу. Его хозяйка, вопреки обыкновению, поднялась в девять утра, чтобы подготовиться к моему приезду, меня уже ждал завтрак.
Мне показалось, что дорога от вокзала до дома была слишком долгой, и ее умышленно затянули и усложнили дополнительными поворотами, объездами и чудовищными аллеями, дабы нарушить все мои представления о расстояниях и расстроить любые мои планы выйти из дома. Дом представал таким далеким и изолированным, находящимся в самом конце извилистого лабиринта, что мне было бы тяжело пуститься в обратный путь. К тому же шофер уже вызвался ездить для меня каждое утро на вокзал за газетами, и желание отправляться туда вместе с ним показалось бы смехотворным. По всей видимости, в этой местности не ходил ни один автобус. Водитель остановил машину возле дверей, выкрашенных в зеленый цвет. Женщина находилась в подвале, занималась какой-то невыразимой работой: на носу у нее были узенькие очки, завидев меня, она сняла их и Резко встала, вот и она со своим рукодельем.
В качестве условия моего приезда я поставил возможность выбора комнаты, в которой буду спать: я хотел, чтобы она была достаточно удалена от ее комнаты, и представлял ее очень простой, небольшой, полностью белой, лишь со столом и кроватью, похожей на комнату для прислуги. Взяв меня за руку, женщина провела меня по дому чтобы показать комнаты. Их было около тридцати, те, что располагались на третьем этаже, не отапливались, вероятно, в них никто никогда не жил, они были заполнены мешаниной из гобеленов и маленьких гнусных картинок. Большая гостиная также представляла собой немыслимое месиво испанского и китайского стилей, барокко и классики, с венецианскими люстрами, романтическими пейзажами, перламутровыми буфетами эпохи Мин; на протяжении своей карьеры женщина без разбора скупала все самое дорогое. Ее спальня находилась на втором этаже: коридоры со стенными шкафами скрывали наряды, в которых она снималась в фильмах и появлялась на вечеринках, она всё сохранила; в вестибюле с массивными коврами и углублениями для потайных шкафов обретался в особой нише ее туалетный столик и некая разновидность низенького диванчика для чередовавшихся массажа и педикюра. В самой спальне над покрытой белым перкалевым покрывалом кроватью возвышалось распятие с фигурой терзаемого Христа, но взгляд привлекали три тигриных шкуры с красными разверстыми мордами; они лежали по разные стороны кровати: три хищника смотрели друг на друга, ведя между собой невозможные беседы (ностальгия по джунглям). Кровать, которую можно было принять за брачную, на самом деле оставалась девственной, скоро будет уже двадцать лет, как муж покинул ее, а жена никогда не осмеливалась приводить в эту постель других мужчин, опасаясь прислуги.
Я все еще не мог определиться со спальней, все казались одна мрачнее другой. Наконец, она привела меня в подвал, в потайную квартирку находящуюся против ее лаборатории и холодильной камеры. Это было древнее подземелье, которое несколько лет назад она с помощью сына экономки расчистила от мусора, прогнав крыс и выкопав человеческие останки, различные кости, куски щитов, осколки ваз, которые велела соединить скобами для своих стеклянных шкафов. Туда можно было пробраться, чуть нагибаясь, сквозь жемчужные занавесы и столь же низкие, сколь и широкие двери. В конце концов, мы оказались посреди изобилия позолоты, украшений из драгоценных камней, граненых зеркал, в которых отражались слоны, тысячерукие богини, цельные бивни и огромные сладострастные статуи Шивы. Эта комната, которую она называла молитвенной, на самом деле изредка использовалась для любви; мужчины, которых она туда приводила, должны были бежать на заре - прежде, чем наверху появится садовник. Она возжигала здесь свои восточные ароматы. Единственным выходом было подвальное окно с решеткой; световой регулятор подсвечивал каждый предмет всеми цветами радуги и заставлял потрескивать искусственные языки пламени. Именно эту комнату она предназначила для меня, и именно на ней я решил остановить свой выбор.
Я остался один. Немного вспотевший с дороги, я решил принять душ. Раскрыв один из стенных шкафов, я обнаружил несколько случайно или нарочно попавших туда платьев, шарлаховые туники, прозрачные ночные рубашки, испанские воланы, шитые черной парчой, я быстро его закрыл, но прежде провел рукой, и ткани зашелестели. Ванная комната тоже состояла сплошь из зеркал, но самым удивительным была прозрачная ванна, впалая, словно устье большого источника, это была чаша, окруженная муренами, тихо извивавшимися в аквариуме, служившим основанием ванны. Зеркала, отражающие мое тело до бесконечности, обнаруживая мои изъяны, открывали чересчур очевидный путь к самоубийству, и я выключил свет. Единственным освещением осталась зеленая и призрачная подсветка аквариума; дрожа, я погрузился в слишком горячую воду средь морских змей, которые, казалось, никоим образом не были отделены от ложа ванной: внезапно они сплелись у моих ног, извивая черные тела, порой показывая меж плоских губ мелкие белые зубы, похожие на булавки слоновой кости, они устремились к моей шее, образуя в бледных отблесках стекла устрашающее ожерелье. Но мурены были пресыщены: шофер, следивший за аквариумом, бросил им утром большую порцию живых красных рыбок, что ждали своего часа в особом отделении и в этот момент копошились у моих ног.
Я обратил внимание на одну красную рыбку, более величественную, нежели жертвы, она была плоской, с тонкой серебристой полоской на боках, и все время пребывала на одном месте, сохраняя некое точное расположение справа вверху аквариума, ничто не могло ее сдвинуть: неподвижность этой рыбы была поразительной, я решил посматривать на нее время от времени. Я отворачивался, чтобы дать ей время уплыть, но, когда вновь направлял взгляд на аквариум, рыба была по-прежнему на своем месте, и казалось невозможным понять, из-за чего именно оно было выбрано возле поднимающегося столбиком водоворота кислородных пузырьков, сверкающих камушков и искусственных водорослей...
Женщина велела мне прогуляться по саду. Для выхода она переоделась в легкое платье и длинное пальто из леопардовой кожи, притворившись, что взяла его из шкафа случайно. Она привела меня на теннисный корт, который был подарком продюсера, и теперь размыт и охвачен зарослями, коричневая краска вся выцвела. Я ни с того, ни с сего попросил ее подняться на трибуну пустынного корта, чтобы сделать ее снимок, я всегда носил в кармане маленький фотоаппарат. Увидев меня, три немецких овчарки, два самца и самка, залаяли в увитом плющом загоне. Разговаривая с ними, она протянула им руки, которые собакам нравилось обнюхивать через сетку, запах пудры был им хорошо известен. Разговаривать с ними нужно было, согласно определенному правилу и на немецком, ибо их выдрессировали в немецкой полиции. Послышался прерывистый голос этой женщины: «Sitz! Platz! Auf![11]», и собаки садились, ложились, вставали. Это были единственные немецкие слова, которые она знала, кроме стихотворения Гете, которое выучила в школе и иногда машинально цитировала, не понимая смысла.
Она привела меня в будку садовника, отведенную для ее сына и сына экономки. Дверь была открыта. Там занимался ее сын. Он пожал мою руку несколько холодно, но с симпатией. Мы уже виделись в Париже, из двух мальчиков он был тем, которому я больше нравился, другой видел во мне только интригана, альфонса, словом, соперника. Она попросила сына предложить нам что-нибудь выпить, нашлось только виски.
Когда мы вернулись в дом, нас ждала экономка с Уже разобранной почтой. Она дала ей прочесть Лишь телеграмму американского телеведущего, передававшего наилучшие пожелания. Сын экономки собирался с друзьями кататься на лыжах. Он поприветствовал меня, как я и ожидал, нарочито холодно и погрузил лыжи на крышу спортивной машины, которую она ему купила.
Мы снова остались одни. Она жаловалась на бестактность этих молодых людей. Они ее даже не поблагодарили, тогда как она, даже не зная их, предоставила им в распоряжение свой дом в Швейцарии. Мы расположились в столовой, где уже был накрыт стол. Снова появился шофер в немного испачканной и плохо застегнутой белой ливрее. Он нес на великолепном серебряном блюде тарелки с холодной лапшой в томатном соусе. Обед был заурядный, единственным признаком изысканности, намеком на старинные традиции было то, что в фруктовой корзине лежали наполовину расколотые орехи, из которых легко можно было извлечь ядра.
После обеда я попросил разрешения отдохнуть, а она в свою очередь занялась рукоделием. Я без особого успеха попытался писать, мне не нравились эти столы с зеркалами, их отражения меня пугали. Я снова взялся за «Красное и черное», и история с убийством всплыла у меня перед глазами, я закрыл книгу. Я пошел в ванную комнату посмотреть, находится ли неподвижная рыбка на своем месте: так и было. Я решил, что попрошу завтра разрешения прогуляться за пределами имения. Я подумал о Ф., парне из поезда. Я жалел, что не взял его адрес.
Вечером мы поужинали рано и быстро: в гостиной с потолка уже спускался белый экран. Она пригласила двух киномехаников, так как показом обычно занимался сын экономки. Мы вместе пошли в подвал, и она открыла большой холодильник, в котором лежали катушки с ее фильмами. Она дала мне выбрать два: «Китайские ночи» и «Царица Савская». Потом взяла связку ключей и натянула пальто, чтобы пойти в проекционную кабину, расположенную в саду и соединенную с гостиной с помощью выдвижной трубы в глубине стеклянного шкафа. Кабина была заперта, несколько месяцев в нее никто не заходил. Крысы, собиравшиеся обгрызть провода проектора, наелись красных крупинок, которыми был усыпан деревянный пол, и кровь в их венах свернулась, они валялись под аппаратом. Нужно было привести его в действие: мотор свистел, лампа кашляла.
Экономка уже покинула дом, оставив в гостиной бутылку шампанского, бриошь и черную нугу. На экране, мерцая, вновь явился юный образ хозяйки; ее столько раз уже слышанный голос с каждым разом терял свою яркость: она была царицей Востока и погоняла кнутом обнаженных рабов, которые тащили ее колесницу; она взяла меня за руку. Двое киномехаников оставались в проекционной кабине и смотрели на сцену, жуя колбасу.
Пленки были перемешаны: конец шел после первой катушки, она умерла и воскресла, страсти менялись местами, она целовала мужчин, с которыми еще не встретилась, а любви предшествовала ненависть. Она повторяла для меня вслед за всеми голосами, дополняя свой прежний голос нынешним, и, так как чаще всего это были слова любви, казалось, что она, используя образы и сюжеты, хочет сказать их лично мне.
Она проводила меня в мою спальню и откинула мех, занимавший место покрывала, убрала подушки, раскрыв простыни белого шелка. После я ее отстранил. Она подставила мне губы, которые я еще раз поцеловал, едва коснувшись. Я спал без просыпу, глубоким сном, даже не слыша собак. Меня разбудил ее голос. Был уже полдень. Она тоже только что пробудилась: в ее комнату вот-вот должна была принести завтрак экономка, и она сразу отошлет ее ко мне.
Экономка поставила поднос, снова включила свет в аквариуме и вошла в спальню. Она смотрела за мной по просьбе своей госпожи: я сидел на кровати в трусах и майке, еще не причесанный. Она принесла совершенно черный, убийственный кофе, который я вынужден был разбавить в ванной комнате горячей водой из-под крана. Только она могла видеть хозяйку, когда та без парика и макияжа вставала с кровати. Вернувшись в ее спальню, экономка сказала: «Он сидел на кровати в трусах и майке и выглядел совершенно нормально. Уверяю вас, я его хорошо рассмотрела, он очень неплохо сложен». Потом я услышал эти слова от ее хозяйки.
По утрам я принимал после завтрака душ, потом шел в сад с книгой, я проверял, привязаны ли собаки, они больше не лаяли, видя, что я иду мимо. Но зато они лаяли по ночам: когда их выпускали из загона, они начинали лаять, не переставая, до самого утра, они мешали мне спать, я нервничал в своей постели. Сны снились редко, это были кошмары. Я дожидался утреннего солнца, подняв глаза от книги, прикрывая их в ярком зимнем свечении. Делая мне вдалеке знак, проходил садовник с лестницей и секаторами. Я ждал ее, я никогда не мог увидеть ее до обеда, она была незримой. Иногда я смотрел в сторону ее занавешенного окна и представлял, что она смотрит на меня. Я представлял, как она с почти лысой головой лежит в ванне, похожей на ракушку, потом, как она с белыми повязками на голове долго красится, потом надевает парик. Когда я входил в ее спальню, все инструменты уже исчезали, я видел закрытые ящики. «Это уже не макияж, - говорила она, - это настоящая реставрация». Она только что затянула бюст, надев слишком широкое платье с испанскими воланами.
Она открыла мне потайной стенной шкаф, скрывавший щиток сигнализации, приборную доску с многочисленными кнопками, которые подключали систему магнитного контроля. Она прятала там свои интимные фотографии, драгоценности, любовные письма, она хранила даже магнитные ленты с записями телефонных разговоров, которые вела с любовниками. Ни для одного журнала она не позировала голой, хотя ей предлагали миллионы долларов, и никогда не показывалась голой в кино, это всегда была дублерша. Для оголенных сцен с банным полотенцем, деликатно скрывающим ее тело, она обклеивала грудь, живот, всю кожу большими кусками лейкопластыря телесного цвета, чтобы можно было пресечь съемку, если камера попытается снять что-либо под углом, нарушив границы, обозначенные полотенцем и специальным параграфом контракта. Таким образом, не было ни единой фотографии, где она была бы совершенно голой, кроме двух цветных поляроидов, которые она сняла сама перед лакированными дверцами платяного шкафа. Она хранила их в закрытом конверте с восковой печатью с ее инициалами, она сорвала печать и показала мне фотографии, которые я видел первым, она Раскрывала их мне, словно сокровище. Я смотрел на них, скорее, с безразличным видом, и она меня ущипнула.
После обеда я объявил, что собираюсь пройтись снаружи, она побледнела, потом сказала: «Я пойду с тобой». Я ответил: «Нет, я хочу побыть один». Она сказала: «Ладно, с тобой поедет водитель». Ее лицо было искажено. Я не мог сослаться на покупку газеты, ее готов был привезти шофер, Я согласился, чтобы он сопровождал меня до вокзала, но потом отпустил его, я собирался сесть на автобус, чтобы вернуться обратно. Я немного прогулялся: в канун новогодней ночи на улицах было полно народа. Город меня скоро утомил. Я хотел вернуться. Уже стемнело. Автобус оставил меня на повороте дороги к дому, но за несколько километров. Вдоль дороги не было ни одного фонаря, меня ослепляли фары, одни машины вихрем проносились мимо, другие тихо притормаживали, за садовыми оградами лаяли собаки, я проваливался в ямы, мне стало страшно. Наконец появился дом, я позвонил в переговорное устройство, послышался голос экономки, какое-то мгновение я думал, что ворота больше для меня не откроются. Я был наказан за попытку побега. Продрогнув, я пересек сад в темноте, огонь в расставленных симметрично по краям аллей патерах не горел уже долгое время.
Это был последний вечер, когда из города приходили мужчины, чтобы показывать фильмы, завтра вечером они останутся со своими женами готовиться к празднику. Я хотел посмотреть «Багдадские ночи», которые были продолжением «Китайских ночей», и «Красный цирк», где она играла роль канатной плясуньи, любимой двумя укротителями-соперниками. Я вспомнил, что она нравилась моему отцу, когда он был молод: он часто говорил мне, ребенку, о ней, как о самой красивой женщине на свете. Экономка приготовила новую бутылку шампанского, мы должны были доесть начатую вчера и немного засохшую бриошь и шоколадную нугу. Она снова начала воспроизводить диалоги, и я чуть резко попросил ее замолчать. Я вдруг не мог больше слышать ее голос. Я не мог больше выносить, что она, еще живая, повторяет вслед за собственным, чуть хриплым и сохраненным на пленке прекрасным голосом.
В эту ночь, когда я уже заснул, меня разбудил легкий скрип двери, за которым последовал звук приглушенных шагов. Я не двигался и затаил дыхание. Я подумал, что это она, потом, что это ее сын, но это не мог быть он. Чужое дыхание медленно приближалось к моему телу. Я остерегался включить свет и делал вид, что продолжаю спать. Внезапно кто-то сел на мою кровать, потом я почувствовал дыхание склонявшегося надо мной человека, наконец, губы приблизились к моей шее. Меня с силой укусили, словно, чтобы высосать кровь. Я заорал и быстро включил свет. Во время обеда мы ссорились. Она считала Пазолини порнографом, была за смертную казнь, я оскорблял ее, но наши слова были лишь поводом.
Вечером я хотел отвезти ее в город, так как двое киномехаников не пришли. Она отказывалась. Она уже несколько месяцев никуда не выходила. Экономке ее отсутствие не нравилось, потому что тогда приходилось смотреть за домом. Я настаивал, и внезапно ее настроение сменилось живой радостью. Она нашла сценарий, который заказала написать десять лет назад, и который должен был вернуть ее на сцену, она позвонила какому-то другу-продюсеру. Он как раз устраивал вечер, и все были бы рады ее увидеть. Я хотел сначала поужинать с ней вдвоем, прежде чем прийти к этим людям. Она долго собиралась. Водитель подал Мерседес к двери дома, он ждал, сидя в заведенной машине. Рядом со мной стоял ее сын. Наконец, она вышла из спальни и начала спускаться в Черкающем золотом сари по большой деревянной лестнице. Сын прошептал мне: «Этот дом находится за пределами мира, за гранью реальности... словно в том фильме...». Он не осмеливался произнести название. Я спросил его: «Сансет бульвар»? - «Да, как там...». Она села в машину рядом со мной, и сын захлопнул дверцу.
В машине я сказал ей, что хочу, когда мы вернемся, сфотографировать ее перед белым экраном гостиной в луче света проектора. Я представлял определенную последовательность: сначала она держала бы перед собой белое полотенце, чтобы скрыть нагое тело, как в том фильме, который вызвал скандал; потом бы полотенце, привязанное к веревкам, взлетело, демонстрируя ее груди, живот, все тело, обклеенное пластырем; в свою очередь потом бы взлетел парик, показывая ее лысую голову в белых повязках; потом появлялся бы я, то есть сначала моя тень на экране, когда я уходил бы от фотоаппарата, и потом я сам, неся только что улетевший парик и одно из ее платьев. Когда бы я занял ее место перед экраном, ее тело начало бы, словно в кислоте, медленно таять. Она не предположила в этом никакого иносказания убийства, и я, кстати, тоже, она всего лишь ответила мне: «Но ты ведь мне не любовник, я буду позировать для этих фотографий, когда ты станешь моим любовником».
Ресторан, в который я хотел ее привести, был закрыт из-за праздников, она повела меня в актерский ресторан недалеко от вокзала. Но она опасалась фотографов: как только она появлялась в каком-нибудь ресторане, владельцы звонили в газету, чтобы себя прорекламировать. «В конце концов, - сказала она, - мне наплевать, что тебя увидят со мной, в конце концов, я ведь тебя люблю». Но фотограф не появился, и нам принесли счет. Немного разочарованная, она сказала: «Вот это - приличные люди».
Водитель отвез нас к продюсеру. Им оказался плейбой, который был эксклюзивным фотографом, а также любовником трех принцесс и одной американской кинозвезды. Он женился на секретарше звезды, довольно вульгарной молодой француженке. На вечере присутствовало много французских женщин - бывших проституток, которые вышли замуж за коммерсантов. Когда мы пришли, вечер уже подходил к концу. Я был поражен грубостью убранства, дымчатым стеклом, патинированными зеркалами и позолоченными штучками, стоявшими на плексигласе. Она увидела бывшего импресарио, ставшего адвокатом в большой американской компании, он сказал ей с грустью: «Ты совершенно не изменилась», она дала ему прочитать свой сценарий. Пока они беседовали, я скучал, французские женщины пытались меня развлечь, так как говорили на моем языке. Они спрашивали меня: «Чем вы занимаетесь?» Я отвечал: «Вы не видите? Я - ее раб». Я сказал, что мне нужно отойти, меня простили. Когда мы их покидали, хозяин дома сказал мне на пороге: «Не прикасайтесь к ней, она - один из наших Ценнейших памятников».
Однажды ночью меня разбудил звонок внутреннего телефона, это звонила она. Она спустилась в подвал, из которого часто отлучалась во второй половине дня, чтобы посвятить себя некоему таинственному делу, и сказала мне: «Готово, я только что закончила. Это сюрприз... но я не могла сдержаться до завтра... угадай...». Я ничего не мог представить. У меня в голове не было ни одной мысли, пока я слушал далекий и одновременно близкий голос (назвать голос по имени, по имени той, кому он принадлежал, уже было для меня совершенно нереально, волшебно). Она сказала: «Я сделала твой портрет, это сангина в натуральную величину, но я покажу тебе его завтра...». Она повесила трубку. Я пошел помочиться в ванную комнату. Я включил аквариумную подсветку, чтобы удостовериться, что красная рыбка по-прежнему на своем месте.
На следующий день все отмечали праздник, киномеханики должны были прийти лишь днем позже, и следовало найти занятие на вечер. Она сказала: «Можем снова пойти к кому-нибудь на ужин, мы приглашены к князю В., но ты счел вчерашних людей отвратительными, может быть, и эти тебе не понравятся, и мы будем чувствовать себя неловко, я отпустила водителя на вечер по случаю праздника, а князь живет в пригороде. Вот что я тебе предлагаю: мы заедем туда во второй половине дня, под предлогом, что хотели нанести визит, и, если эти люди тебе понравятся, мы вернемся туда вечером». Мы быстро поели и уехали. Солнце ярко светило, и промышленный пригород Р. тянулся, словно длинная, приглушенная, ослабленная лента за окнами Мерседеса. Машина с водителем впереди скользила медленно, шум мотора был едва слышен, она взяла мою руку и нагнулась ко мне, чтобы говорить тихо. Я слушал, охваченный неким оцепенением. Боясь оказаться подавленной, она только что приняла амфетамины, и ее торопливая речь нарушала спокойствие пейзажа: «Когда я приехала в Голливуд, он спрятал меня в одном из своих домов, никто не мог меня отыскать, у меня была своя парикмахерша, своя костюмерша, своя секретарша, мне нечем было заняться, я ждала, там был солярий, и я весь день загорала, однажды я сидела на террасе, из-за сквозняка дверь захлопнулась, я была совершенно одна дома, я позвала садовника, никто не пришел, не было ни одного уголка тени, наконец, я задремала на солнце, когда я проснулась, уже почти стемнело, и я вся была красной, моя кожа отваливалась кусками, кто-то пришел открыть мне, я собрала всю оторвавшуюся кожу и положила ее в конверт, я послала ее сыну, я каждый день ему что-нибудь посылала, ему было пять лет... Это был очень странный мужчина, никто никогда не видел его голым, он стыдился своей кожи, до нее нельзя было дотронуться, она была у него очень сухая, как у старика, я спала с ним и чуть было не положила ему на плечо руку, и он сказал мне: «Умоляю тебя, не прикасайся ко мне», когда у него была какая-нибудь связь с женщиной, он заставлял ее прежде вымыться, а после сразу же шел мыться сам, у него был очень длинный и очень тонкий член; когда он был в ванной, я воспользовалась случаем, чтобы проверить его куртку, он все время носил одну и ту же, он оставил ее тогда на стуле, я вывернула ее и увидела подкладку из растрепавшейся корпии, он был миллиардер, но носил все время одну и ту же одежду...»
Это были истории, которые она мне рассказывала уже много раз. Я больше не мог их слышать. Я не мог слышать даже звук ее голоса. Мне казалось, что каждое ее слово было не просто звуком, а чем-то материальным, тактильным, словно волна, вал смрада, который ударял мне в лицо. Вначале я отвернулся и упрямо смотрел на пейзаж, я пытался больше не слышать ее голос. Но она продолжала говорить, все сильнее и сильнее сжимая мне руку. Передо мной снова встала очевидность убийства, но на этот раз видения являлись с пугающей точностью: я бы остался на праздничный ужин вдвоем с ней, уверенный, что убью ее. Сцены преступления накладывались на хмурую ленту пейзажа.
Мы были вдвоем в подвале дома, рядом с нами, словно автомобиль, гудел двигатель холодильника, мы пили шампанское, она только что показала мне мой портрет, и становилось очевидным, что это мой надгробный портрет, если же я не хотел умереть, мне надо было убить ее. Она хотела поцеловать меня, я оттолкнул ее с такой силой, что она упала навзничь, голова стукнулась о стенку аквариума. Красная рыбка по-прежнему была на своем месте, и я видел в ее неподвижности веление смерти: я склонился над нею, ослабевшей, и сдавил горло, жемчужное ожерелье разорвалось, мои руки быстро сомкнулись вокруг раздавленной шеи, струя крови прыснула изо рта мне в лицо, я продолжал трясти голову, потом отпустил ее, и она осела, словно тупая кукла. Я сорвал с нее парик, чтобы наконец увидеть ее голову: я увидел белые повязки, опутывавшую голову марлю, через которую проглядывали отдельные склеившиеся пряди. Наконец, несмотря на злобно извивавшихся мурен, я вымыл руки в водовороте аквариума. Струя булькающей воды растворила кровавое облако, прогнавшее, наконец, с места красную рыбку. Я позаботился о том, чтобы подвернуть рукав.
Внезапно я ей сказал: «Замолчи, я больше не могу тебя слушать. Я больше не могу выносить твой голос. Прошу тебя, замолчи, ты вызываешь во мне отвратительные мысли. Если мы останемся сегодня одни, я уверен, что убью тебя. Нам нельзя оставаться одним». Она захохотала: это идея ее заворожила, ее восхищало быть убитой моими руками. Я в деталях рассказал ей свой сценарий, она была им покорена. Но я умолял ее избежать его.
Затормозив во дворе небольшого замка, Мерседес спугнул обезумевшую курицу. На закате это было место глубокой печали: старый пруд, окруженный насыпью, служил теперь обнесенным оградой птичьим двором, над бассейном тянулись бельевые веревки, на которых сушились простыни. Князь В. встретил нас с распростертыми объятиями: это был наполовину разорившийся дворянин, сохранявший свой замок непонятно какими хитростями, она подозревала, что он, часто путешествуя, занимается шпионажем, работает на китайскую или русскую разведку. Он женился на юной азиатке, бывшей модели, на сорок лет моложе его, которая подарила ему девочку, маленького и шумного монстра с заплетенными косами, мчащуюся метеором сквозь холодные залы имения, сметая все, что было на ее пути, хотя вещей, которые не украли или не продали, осталось мало. Они давно уже не топили, ходили по дому, тиская воротники пальто. На длинных низких столах ютились бутылки из-под алкоголя со всего мира: еще один способ согреться. Но самой большой гордостью князя была его кухня: очень просторная и оборудованная по старинке, оснащенная первыми электрическими жужжащими машинами, устаревшими, как все первые роботы, там был автомат, делающий мороженое, огромные печи, они купили их на складах заколоченных отелей. В бадьях с водой медленно двигались большие черные угри, надоедая им, девочка совала в воду кончики пальцев. Они заказывали их самолетом прямо из Гренландии, как он утверждал, это было дешевле, чем покупать здесь. Китайский повар со скрученными и лакированными волосами и маленькой плоской шапочкой, прикрепленной к пучку на макушке, готовя пирожное, педантично рубил кусочки имбиря и рисовые листья. Князь показывал на китайского повара, говоря по-французски: «Вот моя последняя роскошь». Он подал нам айвовую настойку. Вечер, к которому они готовились, должен был проходить в белом, и ей следовало переодеться. Но молодая азиатка, к несчастью, ляпнула ей: «Мои гости были бы счастливы увидеть какую-нибудь знаменитость». В машине на обратном пути она сказала: «Мне надоело торчать на витрине, я это делала всю жизнь». Она решила, что мы не поедем на вечер. Побудем одни.
Когда машина проехала за ворота, мы встретили экономку со всей семьей, которые возвращались к себе домой: стало быть, она договорилась с прислугой, что та может встретить праздник в кругу семьи, и что она сама вместе со мной присмотрит за домом. Из-за того, что я был раздражен, она сделала вид, что интересуется моим мнением. Этим вечером я буду с нею один, совершенно один, и снова, с той назойливой периодичностью, с которой смежаются глаза, у меня возникла мысль об убийстве.
Мы хотели пройтись по саду, спускались сумерки. Она уже переоделась ради меня, она надела облегающее вечернее платье из прозрачного муслина с серебряными вставками, которое сама выкроила десять лет назад для благотворительного гала-концерта в Лас-Вегасе, она лишь едва потолстела. Я открыл дверь в сад, она прошла передо мной, и, тотчас же подбежав к нам, на меня кинулись две собаки. Она закричала, но они не остановились, словно на расстоянии со своей горы ими управлял сын экономки, чтобы они воплотили его смертоносные планы. Я едва успел закрыть дверь, собаки лаяли за стеклом, щеря клыкастые сомоновые пасти, теперь у меня на руках были все козыри, чтобы презирать их. Они не трогали ее, однако, ей не удавалось вернуть их в загон. Третья собака была привязана дома в коридоре первого этажа на тот случай, если нам потребуется защита.
Мы остались дома одни, не было даже возможности выйти. Если бы я убил ее, мне бы пришлось одолеть собак. Было только восемь часов, и надо было как-то занять время до полуночи. В чугунке остывало блюдо из чечевицы, которое традиционно готовят на праздник, чтобы в следующем году было много денег; она открыла первую бутылку шампанского. Она хотела поцеловать меня и, смеясь почти что злобно, возразила: «Никаких слюней», ее глаза стали влажными, смех скрывал ее грусть. Мы до оскомины пялились в телевизор, смотря, как дикторши лезут в игру футболистов, потом ей пришла мысль сходить за фотографиями. Ее сестра разложила их по коробкам на чердаке под крышей дома. Мы поднялись на последний этаж, и там она взяла в ванной комнате какую-то розетку с вилкой без провода, приложила их к стенке, зеркало повернулось, и мы попали под крышу, где были свалены тысячи фотографий. Мы брали их пачками, чтобы отнести в маленькую гостиную, где разглядывали одну за другой, передавая с колен на колени. Она сказала: «Я ничего не помню, будто бы ничего и не было».
Мы забыли о времени, и к порядку нас призвали фейерверки на соседних виллах, сами собой включились сирены сигнализации, собаки залаяли еще пуще. Мы поспешили на кухню, подогрели чечевичное блюдо и открыли новую бутылку шампанского. Мы поцеловались, будто два друга. Фотографии нас примирили, мысль об убийстве растаяла. Она села рядом с телефоном. Но никто не звонил. Ожидание становилось все более и более нервным. Прошел целый час. Наконец, раздался звонок. Она не решалась снять трубку. С беспокойством сказала: «Это, должно быть, мой сын...». Но ее сын нюхал где-то в городе кокаин. Это был незнакомый мужской голос, шедший издалека, пересекавший континенты, морские глубины, ураганы, циклоны, и все это, чтобы сказать ей, с небольшой оплошностью в подсчете временной разницы, но дрожа от волнения: «Мадам, вы величайшая звезда». Это не было шуткой. Может быть, это был единственный человек в мире, который в данный момент думал о ней, и который думал, что, может быть, она одинока. Но в этот год ей удалось не быть одинокой полностью. Она не ответила, она повесила трубку.
Позже ночью она сказала:
«Ты думаешь, что от моего рта пахнет пудрой, что от него пахнет плотью, слизистой оболочкой, или же что от него пахнет вином, что от него пахнет влагалищем, что от него пахнет смертью. Ты говоришь, что мой рот тебе противен, что мой рот воняет, что от него пахнет смертью. Этот дом словно банк. Я не сплю в нем. Я одна, а вокруг меня вертятся псы. Не уезжай. Шампанское нагрелось, тем хуже. Чин-чин! Счастливого Нового года! Побудь еще немного со мной, хорошо?»
На следующий день, первого января, я проверил, на месте ли красная рыбка, и поспешно решил уехать. Я собрал чемодан. Я сказал: «Я уезжаю», и она не сделала ничего, чтобы меня задержать. Она хотела мне подарить одну из этрусских ваз, я отказался. Вместе с водителем она проводила меня до вокзала. По дороге она снова попросила меня рассказать о том, что произошло в Вене с этими двумя мальчиками, я никогда не хотел рассказывать ей это в деталях. Она попыталась снова: я слишком много ей рассказал, но этого недостаточно, она хотела подробностей. Я сказал: «Это были духовные отношения». Она ответила: «Я тебе доверяю, я показала тебе себя голой. Я показала тебе те снимки, которые никто никогда не видел». Она настаивала. В конце концов, я взял карандаш, листок бумаги и начал рисовать ей эротические позы, которые мы принимали. Водитель следил за нашей торговлей в зеркало дальнего вида, он заметил, что она сложила листок вчетверо и засунула его, как в старинных сказках, в корсаж.
Когда она вернулась домой, спальня была пуста. Она знала, что я больше не вернусь. В своей спальне она развернула листок бумаги и изучила позы, ее пальцы раздвинули губы внизу живота. Наконец, она сделала новый конверт, так как разорвала тот, что скрывал ее фотографии: она нарисовала на нем череп, вложила в этот конверт пятьдесят долларов и записку, в которой умоляла экономку разорвать второй конверт в случае ее смерти. В другой конверт она положила свои фотографии, завернув их в листок, на котором были нарисованы эротические позы трех мальчиков. Совсем одна, она начала смеяться.
Спустя два месяца я снова увиделся с ней в Нью-Йорке. Мне взбрело в голову купить билет на самолет, я никогда не был в Нью-Йорке. В Париже я задыхался, Нью-Йорк был последней, спасительной ставкой. Для нее Нью-Йорк был также последней ставкой: дом в Р. каждый месяц поглощал многие миллионы, она уже десять лет не работала и жила, постепенно продавая швейцарские акции, деньги заканчивались, и скоро пришлось бы продавать мебель, ковры, украшения. Но она была слишком гордой, чтобы продавать что-то даже старьевщикам и ворам, даже за меньшие деньги. Она прекрасно знала, что и тогда об этом узнают. Ей пришла мысль выпустить коллекцию банных полотенец, постельных покрывал, наволочек или стаканов для чистки зубов с какими-нибудь из ее неловких рисунков. Она приехала в Нью-Йорк, чтобы продать свое имя, свой ярлык, от чего до этого времени всегда отказывалась, когда ей предлагали миллионы долларов. Но теперь ее имя было обесценено, и она запутывалась с менеджерами и адвокатами в делах по процентным соотношениям, ей давали подписать документы, которые в последний момент подменяли другими контрактами, ставящими ее в невыгодные условия.
На следующий день после моего приезда мы пошли смотреть спектакль на Бродвее: он был таким скучным, что она заснула у меня на плече, а я начал писать на клочке бумаги критическую статью о спектакле, чтобы справиться с собственной скукой. Мы хотели уйти пораньше, до аплодисментов, но оказались под навесом театра в плену у непреодолимого проливного дождя. Я позвал такси, но оно проехало мимо, это был час окончания спектаклей. Выходившие в свою очередь люди толпились вокруг нас под навесом. Дождь стоял поистине непреодолимой стеной. На ней была норка яблочно-зеленого цвета, на глазах темные очки, и случаю было угодно, чтобы она очутилась рядом с азиатским карликом, которого приняли за ее верного рыцаря. Узнававшие ее люди разглядывали ее с удивлением: как такая женщина могла попасть в ту же ситуацию, что и они, униженная бедственным ожиданием? У нее под носом вырос какой-то человек, пыхнул ослепляющей вспышкой любительского фотоаппарата и отвернулся, даже не сказав ей ни единого слова. Я угадывал за ее очками слезы. Она сказала мне: «Глупо, что я оставила этот номер телефона дома, я могла бы позвонить своему другу, он отправил бы нам лимузин». Но я знал, что не было ни друга, ни лимузина. Я отважился пойти искать такси под дождем и вернулся ни с чем. Поливая водой, на нас навалилось отчаяние.
В конце концов, я предложил ей пойти пешком под дождем. Уже полчаса, как она не могла никуда двинуться среди этих людей, которые смотрели на нее, как на обезьяну, иного решения не было. Она раскрыла над париком программку и пустилась под дождь. Мы шли какое-то время, прежде чем остановиться под навесом кино, светящаяся вывеска которого только что погасла. Со всех сторон, крича, бежали люди, такси сигналили, не останавливаясь. Под тем же навесом на расстоянии от нас стояли двое полицейских с рациями. Один из них, покраснев, смотрел на нее и, после некоторого колебания, подошел и обратился к ней, как настоящий джентльмен: «Простите, мадам, я сожалею, что вас беспокою, но вы не мадам X.?». В этот момент стало казаться, что отчаяние оставило ее, она оживилась, слова признательности вернули ее к жизни, как возвращают к жизни несколькими глотками кислорода самоубийцу. Он сказал ей: «Я вижу, что вы с другом обеспокоены из-за дождя, может быть, мы могли бы вызвать для вас машину?». Он отвернулся сказать что-то по рации, словно не желая еще больше стеснять ее тривиальным действием, и через полторы минуты возле нас затормозила огромная полицейская машина, открывшая нам дверцы. Полицейские включили сирену, сказав: «Для нас большая честь везти мадам X.», они даже не попросили фотографии или автографа. Машина остановилась возле входа в ресторан, где она зарезервировала два места.
Это был чудесный момент: ночью в Нью-Йорке с этой почти божественной женщиной рядом со мной в полицейской машине, я был опьянен шумом сирены и скоростью, близостью полицейских и их почтительным молчанием; словно их поклонение касалось только меня, и я был единственным, кто мог даровать его ей, я взял ее руку и поцеловал.
Оплачивая счет, мы заметили двух новых полицейских у входа, спрашивающих у метрдотеля, не окажут ли мадам X. и ее друг честь быть сопровождаемыми в то место, которое пожелали бы выбрать. Она с готовностью согласилась. Но на этот раз полицейские просили фотографии с надписью, у нее их с собой не было, они должны были подняться в ее квартиру. Из опасения, что ее примут за преступницу, которую только что задержали и теперь обыскивали, она объяснила швейцару: «Месье были столь любезны, что согласились проводить нас, взамен я подарю им фотографию с автографом». Она оживала. Оба полицейских робко зашли в квартиру, они были рады увидеть, насколько эта квартира с патинированными зеркалами и всей безвкусной роскошью совпадала с тем, что они ожидали увидеть. Они оставили при себе рации с висящими за ушами проводками, так как не хотели создавать впечатления, что покинули службу. Я сфотографировал их обоих так, что она, стоя возле постели, была совсем маленькой.
Эпилог
Затем был перерыв на многие месяцы, на многие годы. Мы поругались в Нью-Йорке. Однажды ночью, много лет спустя, она еще раз мне позвонила, и ее голос показался исходящим из потустороннего мира. Я по-прежнему никуда не переехал. И не покончил с собой. Сидя на кровати, я плакал. На моем континенте было три часа утра. Она спросила меня: «Ты спишь?», - я сказал: «Нет, я плачу». Она не была на моей волне грусти, она сказала: «Не плачь, когда Папа Римский умирает, на следующий день находят другого». Она звонила мне, потому что только что снова нашла тот листок, на котором я написал ей (единственный листок, на котором я написал ей), цитируя свой дневник: «Она сказала, что ласкала себя, думая обо мне вчера вечером, до крови. Я взял ее руку, чтобы она прикоснулась к моему телу, чтобы оценила ту пустоту, которую образуют мои ребра, и она ответила: у тебя есть сердце...» Она разорвала этот листок из страха, что ее сын найдет его после ее смерти. Она сказала мне: «Должна же была быть в этой нереальной любви хоть какая-то доля любви...»
1
Тьери Джуно - прототип персонажей ряда книг Эрве Гибера. Познакомившись с ним в 1976 году, Джуно оставался его возлюбленным на протяжении 15 лет вплоть до смерти писателя (здесь и далее прим. переводчика).
(обратно)2
Леонтина Прайс (р. 1927) - американская оперная певица.
(обратно)3
У меня есть/у меня нет (нем.)
(обратно)4
Для самовлюбленных (ит.)
(обратно)5
Газеты и журналы часто продаются во Франции в Табачных лавках.
(обратно)6
По французской традиции ужин часто завершается не сладким десертом, а различными видами сыра.
(обратно)7
Ла-Рош-о-Фе - или «Скала фей» - мегалитический памятник во Франции. Название дольмена происходит от легенды о том, что камни для этой крытой аллеи длиной около 20 метров принесли феи.
(обратно)8
Менгир - составляющая доисторических сооружении из больших каменных блоков.
(обратно)9
Эрве Гибер был дружен с актрисой Изабель Аджани, для которой написал несколько сценариев; один из них основан на истории знаменитого гермафродита Эркюлина Барбена. Этот фильм так и не был снят. Мемуары Барбена издал друг Гибера Мишель Фуко в 1979. На русском языке вышли в переводе Маруси Климовой в издательстве Kolonna Publications в 2006 году.
(обратно)10
Судя по всему, речь идет о Джине Лоллобриджиде. Эрве Гибер познакомился с актрисой во время выставки ее фоторабот в Париже. Он сравнивал ее талант фотографа с талантом Картье Брессона. Существуй портрет Гибера, написанный Лоллобриджидой, а также ее снимки, сделанные Гибером. В упомянутых в рассказе фильмах угадываются намеки на ленты, в которых снималась Лоллобриджида.
(обратно)11
Сидеть! Место! Стоять! (нем.)
(обратно)
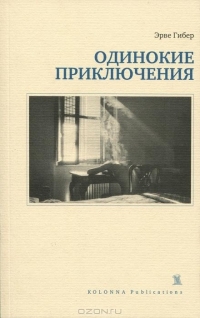











Комментарии к книге «Одинокие приключения», Эрве Гибер
Всего 0 комментариев