Нескучная книжица про… Юлия Бекенская
© Юлия Бекенская, 2014
© Маргарита Лебедь, обложка, 2014
Редактор Андрей Селезнев
Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero.ru
Маленькая лесная повесть
Глава 1. Про беду и дорогу
Когда она собиралась, торопливо, впопыхах, сестра, с явной претензией, спросила:
– Какого черта ты туда едешь?!
– Конечно, надо ехать, – торопила мама, – беда-то какая! Езжай. Ни о чем не волнуйся. За Андрюшей мы присмотрим.
– Какое тебе дело до отца этого ублюдка? – негодовала сестра.
– Его отец – Андрюшкин дед, – возражала Наталья.
– Тебя поманили, ты и побежала. Как шавка.
– О чем ты, Таня? Горе у людей. Не чужие же. Если никто никому помогать не будет, – Наталья не выдержала, – все и станут злющими. Как ты!
– Делай что хочешь, раз тебе на себя наплевать, – и сестра швырнула трубку.
Пробираясь по вечерним пробкам, Наталья думала, что, конечно, время выбрано неудачно. Лучше было бы выспаться и со спокойной душой ехать завтра – все равно к вечеру была бы уже на месте.
Но не сиделось. Вспоминая слова сестры, размышляла, как по-разному отнеслись близкие к тому, что случилось в ее жизни несколькими месяцами раньше.
Сперва, конечно, девчонкам на работе рассказала. С утра пораньше. Всю дорогу держалась, а в конторе как разревелась…
Стали спрашивать, она и выдала:
– Гена ушел. Другая у него.
– Вот сволочь, – шарахнула папкой по столу Маринка, – я бы таких кастрировала!..
Она вспомнила, как повстречала Маринку. Наталья тогда только устроилась на работу и шла по коридору за кадровиком. Впереди шагала блондинка в убийственном мини и ярко-зеленом топе, не скрывавшем роскошных форм. Дева, цокая каблуками, свернула в кабинет за номером 205.
– Только не двести пятый, пожалуйста, – шептала Наталья.
Кадровик распахнул перед ней дверь комнаты 205.
Ее окатило перезвоном мобильников, шумом улицы из распахнутого окна, бурчанием ксерокса; параллельно кипел скандал: огромный детина с распаренной мордой ругался с давешней блондинкой из-за какого-то договора.
– Милые дамы, разрешите представить, – начал кадровик.
Но его не слышали. Еще одна мадам, глядя в монитор ореховыми глазами, заорала через весь кабинет:
– Юль, какое назначение платежа клацать?
– Чтоб вы подавились! В том числе НДС, – донеслось из угла, где, не поднимая головы, стучала по клавиатуре еще одна будущая коллега.
– Подожди! Я тебе еще не все сказала, – рычала блондинка в спину улепетывающего верзилы.
Вот попала, пронеслось в голове. Что же они все так орут?!
Вопреки опасениям, обитательницы двести пятого оказались нормальными, душевными барышнями. Быстро сдружились.
Немудрено, если честно: так уж Наташка была устроена, что умела подстраивать под себя любое пространство.
На новом месте чуток передвинула стол, повесила яркий календарь, поставила семейные фотки – стало веселее.
Девчонкам, с их вечной диетой, пришлись по вкусу Наташины пирожки.
В конторе теперь пахло выпечкой и мандаринами – таскать из дома вкусненькое с ее приходом вошло в традицию.
Реанимировала офисные цветы – негодяйки их чуть не сгубили, сливая под корни остывший кофе. Неделька-другая – и на новом месте стало хорошо и уютно – так, как она любила.
Свет фар впереди, сзади, сбоку – куда не кинь взгляд. Пробка, ежевечерний городской пейзаж. Ну, раз уж собралась – деваться некуда. Стой, как все.
Муж рассказал ей все сам. Столько лет прожили вместе, вот и привыкли делиться. Выдал, а потом в глаза заглянул:
– Что мы теперь будем делать?
Красиво сыграно, думалось позже, когда отревела свое. Хороший ход, честный. Ничего от жены не утаил. Семью сберечь хочет.
И выбор у нее теперь небогат: закрыть глаза на то, что происходит, и тем самым выдать карт-бланш на походы дальнейшие.
Или отрезать. Расстаться, и быть виновной в том, что ребенок растет без отца.
Потому что сыну сказано будет – так мама решила. А я не хотел.
Красиво. Со всех сторон.
Разбежались не сразу. Пытаясь хранить видимость отношений, несколько месяцев жили под одной крышей. Хотя, что могло быть нелепей – изображать семью, чтоб не травмировать сына. И уик-эндовая эта пытка, с совместным походом по магазинам и в кино. Чтобы все, как у людей. Боже, как было больно!
На Генку словно надели стеклянную банку. Невозможно достучаться – он ее не слышал. Не действовали никакие доводы. Твердил словами чужими:
– Отпусти меня. Я тебя не люблю. Это привычка. Между нами давно все кончилось.
Так он не говорил никогда, и было у Натальи чувство, будто за него говорит кто-то другой.
Она вставала ночью, садилась в машину и рулила, давая волю слезам, с тем, чтоб найти себя утром на кольцевой в районе Кронштадта. Струна натягивалась, и, как ни крути, должна была лопнуть.
Лопнула. Муж собрал вещи и ушел.
«Поживем отдельно» – мягкая формулировка взрослых, которые все понимают.
Дети честнее. Андрюха, уйдя к себе, долго переваривал новости, а выйдя, спросил:
– Ма, а зачем ты ему ключ оставила? Это наш дом. Пусть звонит, если хочет зайти.
И нельзя ведь сказать, что ударило, как гром среди ясного неба. Но прежде Наталья замечать не хотела блестящих мужниных глаз.
А ведь были звоночки. Такое чувство, что он нарочно прокалывался. Играл в шпионов: бросал телефон с пикнувшей смс-кой, краснел ушами.
Будто провоцировал: поревнуй меня! Если удавалось, пил ее слезы.
Что может быть слаще: и там хороший, и здесь красивый. И тут по нему плачут, и там его ждут.
Наталья думала, что сможет балансировать. Оказалось, нет.
Перестроилась вправо, подтягиваясь к повороту на кольцевую. Судя по плотности потока, тут предстояло ей провести минут сорок. Мигнули фары, и кто-то пропустил ее видавший виды «Фольксваген». Теперь, пожалуй, двадцать минут. Жизнь налаживалась.
Коллеги к ее беде отнеслись с пониманием. Хотя Наталья заметила, что вокруг нее образовался тихий вакуум. Лишний раз ее старались не тревожить, не спрашивали, чтобы не бередить раны. А ей от тишины становилось лишь хуже. Никак нельзя в такие моменты человеку быть одному.
Подруги разделились во мнениях.
– Все образуется, говорила одна, – столько лет вместе прожили. Перебесится. Вернется.
Оптимизм казался Наташке наигранным. Будто не хотелось подружке вникать в проблемы, и она щебетала первое, что в голову пришло, чтоб быстрей свернуть тему.
– Будем влюблять его в тебя обратно, – говорила другая и тащила Наталью в солярий и по бутикам.
С сомнением глядя в зеркало очередной примерочной, в который раз задавала себе Наташка вопрос – и на фига это все?
Если разлюбил, то, сколько не украшайся, не поможет. Как ни запаковывай тушку в новые блузки и платьица, лишние килограммы не пропадут. И чертово отражение не трепетной ланью выглядит, а вполне откормленным бегемотиком.
И какая разница, с каким цветом кожи реветь по ночам: золотисто-бронзовым, как обещает реклама солярия, или серо-зеленым, как бесстрастно констатирует зеркало?
– На фиг он тебе сдался, ты сама справишься и будешь счастлива, – убеждала сестра.
Явно свои задачи решала.
Наталья давно заметила, что чаще всего «не нужны нам никакие слюнявые мамонты» кричат барышни с незадавшейся личной жизнью. И кто виноват – гадкая вторая половина человечества (все как на подбор, сволочи, бабники, мужланы и тупицы), или женская косолапость этих барышень – вопрос открытый.
С сестрой можно, конечно, сладостно перемыть кости мужикам вообще и конкретному Генке в частности. Но изредка. Чтобы перековать обычную замужнюю женщину в предводительницу банды феминисток, требуется нечто большее, чем регулярное повторение мантры «я сама!»
– К гадалке надо пойти, его приворожили, – твердила соседка.
Угу, к Бабе Яге в ступе тоже неплохо, мрачно кивала Наташка. А что, связку сушеных жаб разлучнице в грызло, и раскаявшийся милый вновь падает в твои объятия. Только вот в дефиците нынче Бабки Ёжки – переквалифицировались в налоговых инспекторов…
Вырулила на кольцевую. Фонари на обочине замигали быстрее. Разогналась до бешеной скорости, аж 30 километров в час. По радио сулили дожди. Август.
Лето кончается.
Тяжко, конечно, было – она привыкла жить семейными делами, а тут они сократились ровно на треть: осталась вдвоем с сыном Андрюхой. Обормот пубертатный, как он изводил ее прежде! Оттачивал подростковое хамство на матери. А тут – изменилось все в одночасье. Повзрослел будто вдруг, сказал:
– Мама, зачем он нам? У тебя есть я.
Не простил отца. Вычеркнул.
Сын отрезал, а Генку мотало – привык быть хорошим и здесь и там. Не мог просто так их оставить.
Приезжал, интересовался делами в школе, деньги приносил… не хотел понимать – уходя, уходи.
Отставив ее в слезах, через время появлялся снова.
Они возвращались с Андрюшкой домой и обнаруживали холодильник, под завязку набитый продуктами. Теми, что они любят.
Он пытался ухаживать за ними и одновременно жить там. Жил на две семьи.
– Зачем?! – орала Наташка беззвучно, – что за радость резать этот хвост по частям? Почему нельзя уйти совсем?
Только она успокаивалась – история повторялась. Так и длился все месяцы этот странный тяни-толкай.
И до сих пор не кончается.
Развестись официально не успели. Генка приходил, недоумевая: я же помочь. Вы же мои родные, как тут без меня?
В один из визитов не выдержал сын. Отодвинул ревущую мать, сказал:
– Пап. Шел бы ты отсюда. К себе домой, – и за дверь выставил.
Успокаивал Наташу, потом произнес:
– Мам, одевайся. Пойдем гулять.
Не слушая возражений, за руку взял и повел в аптеку.
Строгая фармацевт смотрела на сына поверх очков:
– Зачем тебе успокоительные?
– Не мне, – объяснил Андрей, – маме. Видите, она плачет все время? Только нам такие нужны, чтоб без снотворного. Нам еще машину водить…
Наконец, московская трасса. Стемнело за лобовым. Вечера черные пошли, осенние. Похоже, доберется она в деревню только ночью.
…Когда заболели они с сынулей, Генка тут же примчался. Притащил горчичники, фрукты. Бегал в аптеку, ставил градусник, шипел озабочено – как я вас одних оставлю?
Андрюха башку с кровати поднял:
– Мама, когда он уйдет?
Наталья и разревелась бы, а тут и сил не было – лежала пластом. И хорошо.
Когда плохо телу, душе не до рефлексии. И все ж на краешке мыслью пронеслась – вдруг останется?
Тут же запел телефон. Генка трубку взял, потеплел глазами. Засобирался. Туда, к ней. Неглупая баба, должно быть. Чувствует. Держит его. Не отпустит.
Болела она тяжко. Горло саднило, температура зашкаливала, плюс рядом собственный детеныш пластом лежит.
В один из дней накатило, будто на ушко кто зашептал: и кто ты теперь? зачем? кому ты нужна?
Писал, выводил диагноз невидимый кто-то, будто старушка-врач из поликлиники лапкой царапала – неудачница. Никому и ни к чему. Отстукивал секунды в висках метроном: Никому. Ни к чему.
Выкарабкивались потихоньку, с сыном на пару. Того отпустило чуть раньше. Он готовил матери чай, метался в кухонном чаде с котлетами.
Вдруг ощутила Наташа сына по-новому. И он подтвердил это новое репликой:
– Мам, мне не важно, с кем ты будешь. Главное, чтоб тебе нормально было. Ты – женщина, о тебе заботиться надо.…
Замигала на обочине чья-то аварийка. Пронеслась, осталась позади. Вот и у них с Геной авария по всем фронтам.
Затекла шея, глаза устали от дороги; а ей еще двести верст отмахать.
Отболели, поправились. Перемололось. Холодила горло порой ненужность. И обида, конечно.
Привыкла.
Сын не по-детски насмешливо, с любопытством, пялился при встрече в отцовы глаза. Генка взгляд отводил, терялся.
Это какой-то бег по кругу, думала Наталья. Уйдя к другой, которая, наверно, лучше, красивей и моложе, Генка так и не определился, с кем ему быть.
Вспомнила странную сцену, которую он закатил. Что это было? Ревность? Чувство собственника?
Наталья с Андрюшкой собрались на выходные к друзьям на дачу. Генка позвонил и стал орать в трубку.
В полном изумлении Наташка слушала его возмущенные вопли. Пока не дошло, что он, как петух, привык контролировать всех своих кур. Даже не нашлась что ответить, хотя билось в мозгу: какого черта? Что теперь ему за дело до них?
Они пока не тревожили родителей – ни его, ни ее. Как раз на днях собирались идти писать заявление на развод.
Тогда и скажут.
Когда Гена позвонил, Наталья была к разговору готова. Но услышала совсем другое.
– Наталь. У меня батя пропал, – голос Генки звучал глухо, издалека. – В лес пошел и не вернулся. Я туда еду. Мама при смерти. Лежит, не встает. За ней ухаживать некому, соседка только… Я хотел попросить, чтобы ты приехала, – и, не успела Наталья рот открыть, закричал в трубку, – да все я понимаю, не имею никакого права тебя просить, но некого мне, понимаешь?.. Пожалуйста.
И, не давая сказать, продолжил:
– Я сейчас из связи выпаду, скажи – ты приедешь?
– Да, – выдохнула она, – Приеду.
– Спасибо тебе. Спасибо.
По крайней мере, не было проблем с родителями – беду они восприняли, как свою. А вот сестра… от разговора с ней на душе у Натальи было паршиво.
– Он тебя использует, слышишь? Как делал это всегда. Сейчас ты ему нужна, а потом ноги вытрет и выбросит…
Может, она и права. Но Наталью удивляла горячность и злоба, с которой близкий человек пытался решать ее судьбу.
Слепили в лицо фары встречных машин, мелькали предместья. Впереди ждали леса – глухие, новгородские. Неслась навстречу дорога – лихая, с частоколом елок по обочинам. Наталья рулила и думала – как у Генки дела?
Глава 2. Про лешачьи шутки, домового и супчик
А Генка носился целыми днями с мужиками по лесу.
– Ауууу!
– Семеееен!
День за днем овраги, буераки. Спозаранку и до ночи. Зябко утром с недосыпа. Сыро. Мужики ежились, зевали, ныряли в машину и – в лес.
– Эге-гей! Семен!
Орали, сигналили.
– Кажись, там аукнулось!
Бегом через чащу, только ветки по морде хлещут да паутина липнет.
Ох, и веселился, наверное, хлопал в ладоши леший, посвистывал да постанывал, водя кривыми дорогами незадачливую команду.
«Нива» буксовала, ревела на ухабах. Погромыхивала, но обороты держала.
Один говорил: надо у озера искать! Летели к озеру.
В овраг скатился, говорил другой. Неслись к оврагу. Едва не ломая ноги, спускались вниз:
– Семеееен!
Издевательски ухала безымянная птица. А может, леший хохотал, за щеки держался. Все одно – без ответа. Хоть заорись. Куда дед сгинул?
К вечеру ближе чуть не до смерти перепугали одного. Огонек увидали и понеслись. Может, дед сигнал дает? Рванули на свет.
А там идиллия. Костерок в черной глади отражается. Озерцо, воронка от снаряда, у воды – грибничок, тушенку из банки трескает.
Только фляжку поднял за удачный поход, подлетел в клубах пыли замызганный джип, вывались из него с матюгами пятеро здоровенных заросших мужиков.
Бедолага струхнул. Так и застыл с фляжкой. А гоблины трусцой вокруг костра обежали, грибника со всех сторон осмотрели:
– Не он?
– Не он.
– Мужик, ты никого тут не видел? – спросили.
На морду его поглядели, стало ясно – не будет ответа. Плюнули, выматерились, обратно в машину прыгнули и были таковы.
Долго еще в ступоре сидел бедняга. Не исключено, что после этого и пить зарекся. Усталость. Матюги. Безнадега. К вечеру и вовсе кажется, нет ничего бессмысленней, чем вот так метаться по лесу и драть осипшие глотки.
– Ну, что, на сегодня хватит?
– Давай домой, темнеет уже, все равно не увидим ни черта.
Вломились в холодную избу, и опять – не первый день уже – обнаружили, что жрать нечего. Генка за занавеску заглянул:
– Мама, ты как?
– Плохо, сыночек. Совсем плохо.
Вскрыли тушенку, нагрели чай. Проглотили, не заметив, и попадали на матрасы, засыпая в полете.
Один Генка ворочался, маялся. Мать в лежку, горем подкошена. Слава богу, соседка к ней ходит. Ему некогда – отца искать надо.
Наталья должна бы уже приехать. И не позвонить, как она там, скоро ли доберется. Барахлит сеть, плутают радиоволны над лесами.
Когда пропал отец, понятно стало: кому-то к матери ехать надо. Генка тут же представил – кроме этой беды, он еще сюда с Маринкой заявится. Нет, она, конечно, может, маме и понравится, только куда ее тут? Мать еле живая, а тут – новый стресс. Сын семью поломал, с сожительницей приехал.
Если честно, не очень-то он представлял Маринку тут, в деревне. В городе другое дело.
Слушает его, в рот смотрит, хлопает глазами-блюдцами. Плохо ей одной было, у нее же совсем никого. Родители далеко, детей нет, мужа и подавно. Генка для нее – свет в окошке.
Хотя, если по-честному, встреться ему Маринка случайно, он бы, может, и внимания не обратил.
Но по работе все время пересекались. Она секретарем работала, он – водителем. Подвозил ее пару раз. Заметил, что бойкая лиска с ним наедине вдруг становилась смущенной и тихой. Нравился он ей, Генка чувствовал. Невинная игра грела душу. А потом…
Заигрались. Пожалуй, так. Она хорошая, ласковая. Ценит.
А Наташка привыкла, разбаловалась. Есть муж рядом. Как в анекдоте: «Рядом, я сказала!». И никуда он вроде не денется.
Конечно, не испытывал Гена злорадства – не чужой она человек, не хотелось делать ей больно. Жаль, что так вышло. Но она сама должна была понимать? Ясно, что к хорошему привыкаешь быстро. Между прочим, таких, как он, еще поискать…
Вспомнил напарников. Один спивается, у другого пузо до земли в неполный тридцатник, третий на глазах сыплется: язва, сердце. А послушаешь, что про семью говорят… Жена – убил бы сволочь, задолбала, дети – тупицы, теща с тестем – людоеды-мутанты…
Наталья привыкла. Есть он, Генка, и не денется никуда. Встаешь зимой в пять, машину ей прогреть, почистить, чтоб на работу села и поехала. В ответ – спасибо, вскользь. Будто так и положено. Угу, поплясала бы сама на морозе с утра…
Да нет, вроде и ценила она его, и сама заботилась. Он без претензий. Но как-то это… обыденно все было, что ли.
Вспомнил распахнутые Маринкины глаза, когда заявился к ней вечером с охапкой роз. Как она расплакалась: мне никто такой красоты не дарил! Блин. Приятно быть первым. Волшебником стать из-за пустячного, в общем, подарка.
Глазищи влажно сияли, руки обвивали Генкину шею, и чувствовал он себя настоящим мужиком. А не мужем, семейной шлейкой к жене пристегнутым. Распрямлялись плечи, и рядом с миниатюрной Маринкой чувствовал он себя высоченным и мускулистым.
А на Наташкином фоне вечно терялся – бывшая жена проходила, хм, по другой весовой категории. Хотя лет пятнадцать назад, до Андрюхиного рождения, была такой же хрупкой и невесомой, как его Маринка сейчас…
Баюкая, калейдоскопом менялись перед глазами картинки: Маринка с охапкой роз, мельтешение елок над лобовым, зареванная Наташка…
Только б не заблудилась по дороге. Только бы мать в себя пришла. Только б отец нашелся. Только б…
Так и заснул.
Анна Степановна проснулась в восемь, мужиков уже и след простыл.
Помирала она четвертый день. Как пришла страшная весть, так и легла. Только сперва стаканчик хлопнула, для храбрости.
А куда деваться? Раз прибрал бог милого друга, и ей следом пора. Ну, скажите на милость, что теперь? Старая, одинокая. Никому не нужна. Дети взрослые, у них своя жизнь.
Только пока что-то не помирается. Может, сегодня? В домишке сыростью тянет – протопить бы. Хотя зачем? Не вернется Семен. Предчувствие у нее. И ей за ним, на тот свет, пора отправляться. Нечего тут рассиживаться. Надо бы за дела приниматься, а нету сил. Одна она теперь.
Разве что соседка заглянет, бульончиком попоит, да в ночи мужики примчатся, голодные. И снова с пустыми руками. Пожуют всухмятку консервов да огурцов, и рухнут, чтоб вскочить в полпятого и опять унестись.
Хороша деревенька у них. Пятнадцать домов. Старики, и молодежь тоже есть. Не первое лето уже они с Семеном тут проводили. Полгода в городе жили, потом здесь.
В деревне их знают: они с Семеном из этих мест. В лес всегда ходили, огородик сажали – как все.
Три дня назад, как обычно, Семен и пошел за грибами. И пропал.
Сын приехал, невестка в пути, племянники. А толку? Старый, он, больной. Ладно, собака с ним. А может, их уже волки съели. Или дед ногу сломал. Или сердце ему схватило. Лежит где-то в чаще.
Может, еще живой. А все равно не найдут. Носятся без толку. Надо бы приготовить поесть им чего? Сил нет.
Анна Степановна поставила чайник, выглянула в окошко. По тропинке вдоль леса кто-то шагал. Женщина, с сумкой через плечо. Бодро идет, как молодая. Людмила, что ли? Обещала помочь. Только будет ли толк?
С проселка Людмила свернула на тропинку, в лес. И сразу почувствовала, как изменилось вокруг пространство. Запахом, шелестом, густотой воздуха обозначилась территория, на которой людские правила значили мало. Поздоровалась про себя, позерство неуместным тут было. Шла по тропе, вспоминая-освежая старые приметы – сломанное дерево, гигантский муравейник. Усмехнулась – на самой верхушке залихватски торчал колокольчик.
Ощущала, как он приглядывается. Слушает. Не боялась – своих не тронет. Что чужих он не одобряет, в том Людмила убеждалась неоднократно. Наблюдала, как уходили незваные гости: промокшие, исхлестанные ветками, обглоданные комарами. С пустыми корзинками шли и сетовали, какими бесплодными и негостеприимными оказались здешние места. А он ругался вслед птичьим криком, бросался шишками, застил глаза липкой паутиной.
Жадность и фамильярность – две вещи, которые не выносил. В этом Людмила была с ним солидарна. Неуважение возвращал сторицей. Но к своим был снисходителен. Не давал пропасть, выводил на нужную дорогу. И, даже если оставлял грибника с пустыми руками, на выходе обязательно подсовывал подарок – горсть пахучей земляники, выводок опят на березе или просто красивую картинку – ну, хоть как этот муравьиный колокольчик – не серчай, дружище, так получилось.
Холщовая сумка зацепилась за ветку. Аккуратно распутать, чтобы не сломать. Не пролилось бы молоко. Молоко и хлеб – простая, веками проверенная трапеза.
Дальше с тропинки следовало свернуть. Точного места Людмила не знала, но направление чувствовала. Пошла влево с тропы, отметив, что на обратном пути солнце должно светить в спину.
По правую руку осталось болотце. Проходя, поморщилась: боль от этого места, прошлой осенью здесь утонул грибник.
Выведет он своих, не бросит. Только свой ли Семен? Странная они пара. Людмила знала обоих с юности. Какой красавицей Анна была. На ее фоне Семен терялся. Ревновал ее, как бешеный, аж глаза белели. Потом поженились, и стала Анна угасать, все серей становилась, неприметней. Старушка теперь. А Семен? Да бог с этим, в каждой семье свой уклад, сейчас главное – выведет ли? Выпустит?
Кажется, здесь. Нужное место. Выворотень навис вертикально корнями – вышел бруствер в рост человеческий. Рядом дуб с огромным дуплом.
У пня и остановилась. Поклонилась в пояс. Присела на землю, развязала сумку. Достала банку с молоком, хлеб – ноздреватый, вручную выпеченный. Положила на землю. Постояла, на солнце прищурившись, прошептала просьбу. Двинулась в обратный путь. Лес принял подношение, не шелохнувшись.
Наташка все-таки заблудилась в проселках, не найдя указателя. Колесила, ругая себя за глупость. С отчаяния остановилась в первой попавшейся деревеньке, вышла из машины. Заполошно крикнул петух, собаки залаяли, и зажглось в одном доме окошко. Она ждала, готовая выслушать все, что о ней думают, и прыгнуть в машину в случае чего.
Наконец, у забора показалась чья-то фигура. Слава богу, матом ее не обложили – страдал старичок бессонницей, на Наташку зла не держал. Объяснил, куда ехать. Оказалось, не далеко.
Рассветало.
А ведь говорили ей, до утра подожди, выспись дома, нечего затемно ехать. Все равно, только к утру попала в деревню.
Постучала. Открыла свекровь:
– Наташа приехала. Родная. А я помру сегодня… Гена умчался уже, ищут, все ищут. Но не найдут. Чувствую я.
Слипались глаза после дороги, но как вошла, по сторонам глянула… рассиживаться некогда.
Притащила из машины сумку с продуктами. Свекрови накапала корвалол, уложила в постель. Печку растопить не смогла, включила электроплитку. Поставила чайник, открыла окошки, проветрить – дух такой, будто стадо немытых слонов ночевало.
Соседка пришла. Сели чай пить, решили Анну Степановну не тревожить.
– Твой, как приехал, прыгнул в Сашкину «Ниву», да в лес. Ищут. Только к ночи и возвращаются.
– Как все случилось? Он один, что ли, за грибами пошел?
– Почему один? Степановна была, я, со мной Лика, внучка. Мы, значит, на грузди набрели. А их знаешь, как искать: ползай себе на четырех костях, да смотри внимательно. Они ж стайками растут. Ну, а Семен и говорит: что это за грибы на одном месте. Пойду вокруг побегаю.
– Ну, дед. Добегался, – Наташка головой тряхнула, – а вы так его и отпустили?
– Да кто ж знал-то?! – возмутилась тетя Маша, – и потом, собака за ним увязалась. Ей тоже, понимаешь, на одном месте неинтересно. Мы перекрикивались, как положено. А потом он отзываться перестал.
Степановна и говорит: он, наверно, дома уже. Ее, значит, воспитывает, чтобы ходила с ним, как пришитая. Мы, главное, всю обратную дорогу еще кости ему мыли, – тетя Маша всхлипнула, – дескать, совсем избаловался к старости, вечно недоволен. А Степановна, – тетка нагнулась к Наташе и понизила голос, оглянувшись на кровать, где дремала свекровь, – и говорит, мол, так замучил уже, хоть бы и вовсе не возвращался! – и посмотрела на Наталью, оценивая произведенное впечатление.
– Теть Маш, – протянула Наташка с укоризной, – ну вы что! – продолжить не успела, зашевелилась свекровь, поднялась, побрела к столу.
– Анечка, как ты сегодня? – засуетилась тетя Маша, – давай, чайку тебе плесну, а то Наташа уже едва на ногах держится.
– Спасибо, Машенька, я сама, – руки нетвердо взялись за чайник.
Наташка смотрела во все глаза. Ну, актриса! Она заметила давно: стоило на семейном горизонте замаячить какому бы то ни было событию, Анна Степановна немедленно заболевала.
Любые семейные перипетии: переезд на дачу, дни рождения детей и внуков, даже приход сантехника неминуемо влекли за собой свекровины хвори. И Генка летел через весь город выручать больную мамулю.
Наталью всегда потрясала разница между ее матерью и свекровью. Ведь ровесницы почти! Мама – не старая подтянутая женщина, свекровь – вечная мученица в засаленном халате. Другой закваски совсем.
Такие женщины будто старушками рождаются. В семнадцать выглядят на тридцать, а с замужеством, если повезет, минуют транзитом молодость и вписываются в интервал тех, кому за сорок, пока не придет окончательное время перекочевать в старость.
– Людмилу сегодня видела, – сообщила свекровь, прихлебывая чай, – в лес пошла.
И говорит она по-другому, думалось Наталье. Шепчет почти. Хворобы – повод для странной гордости. Болячки возведены в ранг личных заслуг. Интересно, зачем? Вколачивать себя в старость, сужать мир, в котором живешь? А мир обижается и сереет. Засаливается, как халат.
– Сказала, сделает все, что сможет, – авторитетно подхватила тетя Маша, – говорит, если живой еще, – голос дрогнул, – то она поддержит. А тебе, Ань, верить надо. И молиться. А то заладила – чувствую, чувствую, правда? – повернулась к Наталье.
– Конечно, – рассеяно ответила она, – найдется, – и спросила:
– А кто такая Людмила?
– Да ты что, – всплеснула руками соседка – не знаешь?
Выпрямилась на стуле, сказала строго:
– Бабка она, ясно?
– Я же тебе, рассказывала, Наташенька, – покивала свекровь, – она меня лечила в прошлом году. И теперь обещала помочь. Вот и тебе бы к ней сходить. Может, если и ты попросишь, она все лучше сделает?
Бабка. Наташка не знала, как относится к этим историям. Самой не приходилось сталкиваться с потусторонним. Колдунов видела разве что по телевизору, да и кто знает – колдуны ли они?
Хотя… случилась не так давно одна история у отца. Наталья тогда так и не поняла, что же произошло на самом деле.
– Сходит! раз надо – значит, пойдет! правда, Наташа? А сейчас тебе поспать надо, с дороги, а я с Аней побуду, – предложила соседка.
– Ты ведь всю ночь не спала, – засуетилась свекровь, – приляг, родная. К Людмиле завтра заглянем, ладно?
Наталья не стала спорить. Легла в соседней комнатушке. Засыпая, слышала уютное бормотание женщин за стеной, и в полусне вспоминала ту историю с ее отцом…
Пропали часы у папы. На даче, после праздника урожая. Пенсионеры-дачники отмечали его каждую осень. Пели, делились компотами-соленьями, наливки дегустировали.
Часы отец оставил в саду на старом, клеенкой покрытом столе. Ушел яблоки собирать, вернулся – часов-то и нету.
Вряд ли кто из соседей позарился, кому они нужны, дешевые. Отцу только и дороги, давно у него. С памятью.
Решили, ворона утащила, любят они блестящее. И гнездо на сосне. Не стали разорять весной, пожалели, хотя вред один от ворон… По утрам орут, первые зеленые ростки норовят сожрать. Чума, а не птицы.
Папа расстроился, конечно. Ну да ладно, Наталья все равно хотела ему новые часы подарить. А тут приехал отцов брат, посидели, и вспомнили про часы.
Брат и говорит – может, домовой прибрал? Посмеялись.
А ты, продолжает, возьми молока в блюдечке, хлеба корку посоли, как себе, да в темный угол поставь. Уважь домового. Может, часы и найдутся?
Ну, и в шутку, за общим трепом, так и сделали.
Утром отец к телевизору подходит – лежат на нем часы, будто всегда и тут и были. Верь – не верь, а часы налицо. Что это было?
Наташка тогда подумала, что, возможно, разыграли отца, специально часы припрятали, а потом назад подложили. А сейчас, в деревеньке среди лесов, эта история уже не казалась такой невероятной…
Через пару часов проснулась, вскочила, и пошла готовить, намывать, менять простыни, приводить домишко в жилой вид.
Свекровь, разбудив Наталью, легла помирать за полог. Но к запахам из кухни принюхивалась не без интереса. Соседка ушла, а от Генки с командой не было никаких известий.
И ведь не виделись с ним уже бог знает сколько. Как они встретятся, подумала Наташа. Но тут же себя одернула. Увидит мужа, тогда и решит. Не главное это сейчас. Пустое.
Затемно ввалились в дом мужики.
Оживились, почувствовав запахи. Обрадовались. Генка подошел, чмокнул коротко:
– Привет, как добралась? – такой же, как обычно, только похудевший и замотанный.
Наталье вдруг почудилось, что и не было у них городских передряг. Просто усталый муж вернулся домой.
– Нормально. У вас какие новости?
Новостей не было. Забирались они все дальше, сегодня чуть не до псковской области. Один лесник видел мельком следы сапог у речушки. И вроде как рядом собачий след.
Полдня ребята прочесывали берег вверх-вниз по течению, и никого не нашли.
Мужчины попадали на стулья, и Наташка бросилась их кормить. Наливала суп, с перепугу кромсала хлеб на чудовищных размеров бутерброды, заваривала чай.
Смотрела. Заросшие, осунувшиеся, голодные, как дворовые псы. Мужики гремели ложками, хлебали, причмокивая, тянули сладострастно:
– Сууупчик… горяченький!
Потом моментально осоловели и рухнули спать – только храп пошел. Генка потолкался было около нее, но чувствовалось, тоже с ног падал. Наталья сказала:
– Иди спать. Вам вставать рано, а я пока приберу и на завтра что-нибудь сготовлю.
Кивнул, спокойной ночи пожелал и ушел. А Наташка, в глаза ему глядя, на мгновение поймала внутри давний, с юности подзабытый, вопрос: – любит?
И тут же осеклась. Не до этого. Сейчас есть работа, которую нужно делать, а в награду – простая радость от того, что, в конце концов, можно будет вытянуть ноги и спать.
Перемыла посуду, настрогала бутербродов – сухой паек ребятам на завтра, и, засыпая, успела подумать еще, как, несмотря на большую беду, легко все сейчас и просто.
Неважно, кто ревновал, изменял. Все сейчас по местам. У каждого своя задача: мужчины ищут, она готовит им еду, свекровь помирает… она усмехнулась. А Людмила-бабка колдует.
Все правильно. Так, как надо.
С тем и заснула.
Глава 3. Про бабку-психоаналитика
Наутро Анна Степановна собиралась к Людмиле.
Охая, влезла в свежий халат: фланелевый, с сумасшедшими огурцами. Запахнувшись, подвязала пояс. На голову намотала теплый платок.
Глянув в окошко, высветившее жаркое августовское утро, Наталья прикусила язык и в тихом изумлении наблюдала дальнейшие сборы: серый плащ поверх халата, синие галоши на белые носки. Бабка, как есть.
Мамулю хватил бы инфаркт, если бы ей предложили в таком виде показаться на людях. Хотя, думается, предложившему самому пришлось бы спасаться бегством.
Людмила жила на другом конце деревни, и все равно – не больше пяти минут ходу. Свекровь шла, согнувшись, опустив голову, по-стариковски шаркая галошами.
Дополняя картину, Наталья взялась поддерживать ее под локоть. Ну, правда, рухнет ведь в такой обуви. А с шерстяным платком на голове вообще тепловой удар может случиться. Так и добрели, под сочувственными взглядами всей деревни.
Людмила, дородная дама в возрасте, встретила их на пороге. Провела в дом, глядя на свекровь, только головой качнула:
– Ань, мы же погодки с тобой. Я на класс младше училась. Ты на себя-то глянь?
Погодки? Наташка во все глаза глядела на «бабку». Одного взгляда хватало, чтобы понять – бабка – это должность, звание – вроде фельдшера или председателя колхоза. Ухоженная, со вкусом одетая. Золотой крестик на шее, пара колец на пальцах, красиво убранная копна темно-русых волос. Ясные глаза, румянец. В возрасте, да. Но никак не старуха.
Людмила тем временем успокаивала свекровь.
– Живой он, Ань, живой. Ослаблен сильно. Если б совсем ушел, я бы знала. А так – здесь он, искать надо. А мне, тебе и всем близким надо его держать. Держать, Аня, слышишь?
Свекровь хлопала глазами и глядела на Людмилу, а Наталья гадала, кто перед ней – растерянная женщина, сама не своя от горя, или актриса, заигравшаяся настолько, что перестала видеть разницу между реальностью и игрой.
– Пока ты, я, дети, родные, – внушала Людмила, – говорим с ним, думаем о нем, представляем его живым, мы даем ему силы. Это очень большие силы, Ань. Ему сейчас много сил надо, чтобы выбраться. Он, конечно, не знает, что от нас поддержка идет, но все равно, ему легче. Он живой, Аня, ты меня слышишь? А ты сейчас в себя приходи. Вы с ним пара, столько лет прожили. Если ты помирать будешь, и он помирать станет, ты меня поняла? Ты должна держаться сейчас. Выздоравливать и ждать. Чем ты живее, тем ему легче, понимаешь?
Свекровь кивнула неуверенно. Людмила подошла, взяла ее за плечи, в упор посмотрела в глаза:
– Аня, ты хочешь, чтобы Семен нашелся? – спросила резко. Та захлопала глазами:
– Не найдется… не найдется, – прошелестела еле слышно.
Людмила глубоко вздохнула и осенила себя широким крестом, явно с трудом сдержавшись, чтоб не слетело с губ крепкое словцо, и повторила вопрос:
– Ты хочешь, чтоб Семен нашелся?
И тут Анна, наконец, проснулась:
– Господи, да конечно, хочу! Да как же я без него? Да вдвоем-то хорошо. Сядем у телевизора, я ему чайку налью, и он рядышком, да так все ладно! – забормотала она.
– Вот так и говори. Позови его, Ань. Скажи, что ждешь. А он тебя, дай бог, услышит.
Со свекровью что-то происходило. Похоже, актриса выпала из образа. Подошла к окну, тихо поскребла пальцами по стеклам и произнесла:
– Семен, Семушка, родной, вернись, пожалуйста. Я тебя жду, слышишь? Выходи скорей. Возвращайся, родной. Мне без тебя очень плохо.
И заплакала. Тихо, по-бабьи.
И тут до Наташки, наконец, дошло: эта поза, это ее вечное умирание были связаны только с одним: свекровь просто не умела, не знала, как переносить большую беду, а, когда, наконец, дала волю горю, обратилась в обычную женщину – усталую и очень несчастную.
Людмила подошла и обняла ее.
– Вот и хорошо, и правильно. Ты поплачь по нему. Твои слезы дорогу найдут. Он поймет, он тебя услышит. А теперь – иди домой, вот тебе образок, – сняла с полки маленькую иконку, – помолись. И поплачь. Полегчает. И, милая, в зеркало посмотри. Ну, представь, выйдет твой Семочка, а ты его в этих огурцах встречаешь. Да он с перепугу опять в лес сбежит!
Свекровь нашла в себе силы улыбнуться, подняла руки к голове, с удивлением обнаружила там платок, встряхнулась, будто просыпаясь.
– А сейчас иди, Анечка. А мне с твоей невесткой еще пошептаться надо, – Людмила проводила ее до двери.
Наблюдали в окно, как она спустилась с крыльца и решительно двинулась к дому.
Наталья смотрела с легкой оторопью, и про себя отметила: неясно, какая Людмила колдунья, а психолог – замечательный.
А сейчас на нее глядели теплые голубые глаза.
– А ведь не зря тебя сюда занесло…
Рассказать или нет, разрывалась Наталья. Смолчать? Спросить совета? Или она и так все знает? Хотя с кем еще поделиться? Она даже свекровь сумела привести в чувство.
Людмила продолжала:
– Боли у тебя головные частые, вот здесь, – приложила ладонь себе чуть пониже затылка, показывая, – и здесь, – прикоснулась к правому виску, поморщилась, – спину часто прихватывает, пятый-седьмой позвонок, а последние месяца три у тебя еще вот тут стало тянуть, – положила ладонь себе на грудь, – и воздуху не хватает, да?
Наталья кивнула. С тех пор, как Гена ушел, несколько раз в месяц она просыпалась ночью, задыхаясь.
– К доктору тебе надо, – сказала Людмила, – обследоваться, анализы сдать, таблеточки принимать.
Наталья подняла бровь – странно смотрелось сочетание ведовства с фармакологией.
– Ну, а что ты удивляешься? У меня медицинское образование, полжизни медсестрой проработала. Да и как лечить, анатомии не зная? Головой и спиной тебе надо заняться, сходишь к эндокринологу, к мануалу, а жаба эта у тебя – показала ладонью на горло и пошевелила, сжимая и разжимая кулак, – от беды, той, что на сердце лежит.
Наташка вздрогнула – действительно, иногда она просыпалась ночью. Ей снилось, что на груди сидит огромная жаба и ухмыляется прямо в лицо.
– Гуляет твой-то?
Кивнула, сглотнув комок:
– Ушел он…
– Знаю, что ушел. Иначе тебя бы тут не было. И его сейчас по лесу мотает, дурь выветривает. Надо, чтобы он ко мне тоже пришел.
На том и расстались.
А тем временем по лесу неслась замызганная, как участница автопробега «Жижа-2010», Нива. Внутри шел ленивый разговор. К пятому дню навалилась усталость, и признаться, никто уже не верил в успешный исход предприятия. Поиски продолжались по инерции. Кроме Генки и Саши-водителя, в машине были еще Колька с Серегой, бывшие одноклассники. Они присоединились в самом начале. Рулили по очереди, в перерывах трепались, не забывая смотреть по сторонам.
– Не, главное, МЧСники хороши, – буркнул Сашка, – нету техники, нету людей. А болото, главное, есть. Чего, мол, вы от нас хотите?!
– Ну, правда, а что они могут сделать, – возразил Серый.
– Знаешь, пропади тут особо важный дед, ВИП-дед какой-нибудь, не нашему чета, прости меня, Гена, отец министра там или свекор, тут же налетели бы вертолеты и набежали все розыскные собаки северо-запада!
– Эт точно.
Справа за ветками мелькнула рябь.
– Притормози-ка, Санек, – кажись, озеро. Может, привал? Жрать охота, – напарники глянули на Генку, тот кивнул.
От усталости ли, от недосыпа, пребывал он в состоянии автопилота, когда происходящее воспринималось отстраненно, как документальный фильм, не вызывая внутри ни чувств, ни эмоций. А звуки при этом – рев ли двигателя, чирканье спичкой, шум воды или птичий гвалт слышались предельно четко и раздражали так, будто долбили прямо в барабанную перепонку.
Вышли из машины. У озерца Сашка умылся, потом, тряхнув башкой, произнес:
– Вы как хотите, а я искупнусь. Разит как от козла, а дома все-таки, – поднял указательный палец, – женщины.
Мужики поддержали идею.
После дружно сохли на берегу, жуя сухпай.
– Молодец Наталья у тебя, Генка, – сказал Николай, – подумала. Пока мы дрыхли, и завтрак сделала, и бутерброды в дорогу…
– Нелепо было бы, – отмахнулся тот, – не ей же по лесу бегать целый день…
– А мы как-то кошку в лесу оставили, – начал рассказывать Серега, – прикинь? Уезжали километров за пятьдесят за морошкой, и потеряли. Да не специально, конечно… Дочка так просила, давай, говорит, возьмем. А та от запахов ошалела – и в чащу. Девка в слезы, а что делать? Не нашли. Домой вернулись. А по зиме кошка пришла. Облезлая, тощая, орет под дверью. Мы ее впустили, дочка вся в радости, а кошка с нами потом месяц не разговаривала. Пожрет, и демонстративно спиной сядет – что ж вы, гады, так со мной…
– Кошка – не человек, – заметил Николай.
– Так собака с Семеном, не даст пропасть.
– А может, она сбежала уже давно?
– Если б сбежала – дома уже была бы. Если нету – значит, с Семеном. Либо плутает с ним, либо, – Серега замялся, – либо тело сторожит. Они такие. Пока сама не будет от голода подыхать, тело не бросит.
Генка рассеяно слушал. В первый день поисков парни легко за такие разговоры могли бы получить в рожу. Но теперь, после стольких дней бесплотных поисков, он к этим разговорам относился безо всякого суеверия.
– А все-таки повезло тебе, гаду, – сказал Николай, дожевав последний бутерброд, – вон, жена примчалась по первому звонку, и ни пилила тебя, ни слова в укор… молодец. И баба красивая. Извини, конечно, – ни тебе чета.
Генка ухмыльнулся, но свербило почему-то, что посторонние его жену расхваливают. Непорядок.
Ну да. По деревенским меркам Наталья вообще красавица. Тут пышные формы в почете. Попытался представить, как восприняли бы приятели его Маринку.
Мысленно попробовал поставить ее и Наташку рядом. Сравнить. Но рассыпалась лесу картинка, и вместо Маринки мерещилась Наташка, моложе лет на пятнадцать, и меньше на столько же килограмм.
Как он тогда ее ревновал! Бесился, чуть подушку ночами не грыз. Она умница, и повода вроде ему не давала, а злило, что на нее посторонние гады заглядываются. Как вот сейчас.
– И руки хорошие. Тарелку поставит, хлебца отрежет, – встрял Серый.
– Ну, да, ты за бутерброд готов родину продать, – отшутился Генка.
– Ну не в этом дело. Я наблюдал вчера: спокойная такая, в разговор не встрянет, знай супчик наливает.
– А этот все о супе. Заткните проглота!
Готовит Наташка, действительно, классно. Печет здорово. Только недобрую службу ей выпечка сослужила. Как ребенка родила, дома села. И ей хорошо, и ему спокойней.
Поменялась Наташка, вышла уютная. Мягкая. Генка ее Мамой Чолли звал. Это такая негритянка, толстая и добродушная. Джаз-мама. Накормит, обогреет, позаботится. Слова против не скажет, обидишь – заплачет. Господи, да почему же она все время ревет?
И чем сейчас она недовольна? Он же помочь старается, не бросает их. Что, лучше одной сына тянуть? Если Генка звонит узнать, как дела, разве трудно ответить? А вдруг проблемы? А если у парня в школе неприятности? Почему вместо этого реветь все время надо?
Вспомнилось, на контрасте, как тогда, много лет тому, глядел в пылающие Наташкины глазищи, и горела скула от пощечины, и думал – убью! А она наступала на него яростно – не смей! Никогда больше так со мной не разговаривай! И столько силы было в маленькой этой девчушке, что тогда Генка совсем и пропал…
Куда же делось все это потом? Где растворилось? Как превратилась его Наташка в Маму Чолли? И как, уж простите, мог он теперь с мамой спать? Кому еще надо плакать: ей или Генке?..
Он поднялся и скомандовал:
– Ладно. Хватит загорать. Поехали.
Домой Наталья не спешила. Визит к Людмиле опять всколыхнул старое. Что теперь? Сможет ли она помочь?
«Девочка, не стоит он ни здоровья твоего, ни слез…» – сказала бабка ей напоследок. Но, здесь, в деревеньке этой, в который раз поняла Наталья: родной он ей, не чужой! что она не так сделала?!
Они почти не ссорились. Она сглаживала острые углы. Если Генка надувался, молчал неделями. Наталья так не умела и шла мириться. Худой мир лучше. Проглатывала обиду. Понимала. Всех и всегда. Даже, чтоб лишний раз не провоцировать мужа, стала одеваться проще, чтобы поводов для ревности не давать. Хотя тот и твердил всегда – я? Ревную? Даже не надейся. Я не знаю такого слова!
Врал он. Потому что свекровь рассказала ей, как в один, совсем не прекрасный день, собрал свекор всю косметику, все украшения Анны Степановны, выкинул духи… и объявил – ша, хватит. Нечего больше хвостом вертеть!
Смирилась свекровь и стала такой, как сейчас. Зачем, спрашивала Наташка. А знаешь, как страшно, когда он кричит, отвечала свекровь. У него же глаза белые… Лучше пусть так. Спокойнее.
Если разобраться, Наталья тоже шла этим путем. Видя, какой яростью горит мужнин глаз, как зеленеет лицо, слыша обидные вещи, не спорила. Он же хороший. Просто такая наследственность…
Собралась Людмила быстро: надела брюки, ветровку, сапоги. Взяла сумку, сунула спички в карман. Вышла из дому, скоро зашагала к лесу. Медлить было некогда. Топая по тропинке, оглянулась – казалось, деревенька нахохлилась и замерла в ожидании. Людмила чувствовала – сегодня что-то произойдет.
Шла к лесу, вспоминая утренних посетительниц. Жалко было обеих, хорошие. И свекровь, и невестка. Но знала и другое: просто так ничего не бывает. Наташку хотя бы взять.
Привозил ее Генка, лет сто тому, с родителями знакомить. Людмила помнила, как сияли у молодых глаза. Закрутило их сейчас, заморочило. И ее понять можно, и, что греха таить, его тоже. Какая Наташка сейчас? Ребенка родила, изменилась.
Сама доктор, знала Людмила все женские оправдания: после родов сбился гормональный фон. Ну-ну. У одной из десятка, может быть, что и сбивается.
Не только в гормонах дело – меняется все в голове после родов. Она помнила, как, проведя неделю в роддоме, выходишь обратно совсем другой… и себе уже не принадлежишь. Ритмы, устремления, жизнь твоя вся подчинена только маленькому человечку. Не успеваешь спать, вслушиваешься – как там малыш?
А любимому ты нужна прежняя. Тебе не до него, и на себя-то времени нет…
Нормально это, и плох тот мужик, который понять не способен. Все бы ничего, но вдруг, год спустя, находишь себя в зеркале совсем другой. И замечаешь, что муж не так на тебя смотрит. Огорчаешься, и, гори все огнем, опять идешь к холодильнику…
Нырнула в лес и двинулась в чащу. На смену птичьему гомону шло полуденное затишье. Лес молчал, приглушая чужие звуки – лай собак, стук далекого поезда, крики мальчишек да гудение сверхзвукового самолета.
От пряного воздуха голова чуть кружилась. Брела, дорогу не примечая, благо не промахнешься. Выведет. Сладко пахнуло болиголовом. Здесь. Смахнула с лица паутину, раздвинула ветки.
Болото тянулось на многие километры. Сапоги были не лишними – тут водились и змеи. К ним питала Людмила атавистический страх. Разглядывать, кто перед ней – гадюка или безобидный уж, она точно не будет – рванет, не разбирая дороги.
Осторожно ступая по кочкам, двинулась вглубь. Пройдя несколько шагов, остановилась, прислонившись к деревцу. Раскрыла сумку. Извлекла ярко-зеленые стеклянные бусы. Руками развела изумрудную ряску. Образовалось бурое водяное оконце. Несколько раз хлопнула ладонью по воде, прошептав одной ей ведомые слова. Достала из сумки свечку, зажгла. Посветила огоньком над водяным оконцем, словно давая сигнал. Потом опустила украшение в воду.
Поднялась, отряхнулась. Теперь можно в обратный путь.
Вернувшись домой, Наталья обнаружила, что свекровь развила бурную, по ее меркам, деятельность. На стуле у кровати свекра появилась чистая одежда, рядом лежали полотенце, носки и бритвенные принадлежности. На тумбочке у изголовья стоял графин с морсом и журнал «Крестьянка» за прошлый месяц.
– Семен-то придет, сначала помыться захочет, побриться. Переоденется, потом приляжет отдохнуть. Тут ему и морсик. Он иногда журнал любит полистать, – пояснила свекровь.
Сама она тоже слегка изменилась: переоделась в юбку с блузой, причесалась. Выглядеть стала мило и по-домашнему, но, зная свекровь, Наталья понимала, что она оделась так, будто ждет самых высоких и дорогих гостей.
– Пойду у Таси свеклы попрошу, у меня в этом году не уродилась. Семен очень винегретик уважает, – засобиралась Анна Семеновна.
Похоже, ее бросило в другую крайность. Теперь она ждала мужа так, будто он только что ушел и вот-вот должен вернуться. Ну и пусть, рассудила Наталья. Если жив – порадуется такой встрече. А если нет… тогда свекровь еще успеет вернуться в привычное старушечье состояние.
Глава 4. Про Кощея, барбоса и большую сельскую пьянку
По обочине, пыля сапогами, брел дед. Сам едва ноги переставлял, а на руках собаку нес, вислоухую, рыжую. Ну и пара.
Грузовик притормозил, из окна глянул водитель:
– Подвезти, отец?
Рассмотрел поближе и обомлел. Кощей. Натуральный. Худой как смерть; черные круги под глазами, запавшая челюсть. Да и собака не лучше – грязная, клочкастая, в репьях. Покосилась недобро, рыкнула. Вышло тихо и неубедительно, однако намерение обозначилось. Взгляд был больной и мутный. Смирившись с неудобной позой, сидела на руках у деда и не дергалась – непонятно, как вообще дышала – скрюченные пальцы накрепко вцепились в шкуру.
– Ты откуда такой, дед? – водитель соскочил с подножки, – подвезти, может? Живешь-то где?
До ближайшего поселка верст двадцать. Кругом леса: аккурат граница новгородской и псковской области. Откуда старик вышел – непонятно.
Дед пошамкал губами, силясь ответить, но пересохшее горло не выдавило ни звука. Водитель метнулся в кабину, схватил термос, и на ходу откручивая колпачок, протянул чай:
– Держи, отец. Пей. Да отпусти ты собаку-то!
Он попробовал разжать стариковы руки. Шавка напряглась и зарычала, оскалив зубы. Дед замотал головой, всем видом показывая, что псину не отдаст.
Вот черт, свалились на мою голову, растеряно думал шофер, и куда их теперь? Довезу до райцентра, а там пусть разбираются.
– Вот что, отец. Давайте-ка оба в кабину. С ветерком прокатимся…
В окно забарабанили поздней уже ночью, когда все спали:
– Вставайте! Нашелся, кажись, ваш дед!
Вмиг поднялась суета: заголосила свекровь, рванулся к машине Генка… сшибаясь лбами, бросились на выход мужики.
– Обязанностей у меня много, а права одни. Наталь, ты поведешь, – объявил муж.
Села за руль, зевая отчаянно – такая уж неделька выдалась, что по ночам водить приходится.
Не подвело сарафанное радио! Сегодня в райцентре была Колькина жена. Оказалось, муж ее подружки подобрал старика с собакой. Дед ничего не помнит, молчит и норовит все время заснуть. Собака рычит и скулит.
– Так это же наш, – ахнула женщина, – мой Коля который день его ищет…
Гомонили мужики, Генка сидел, подавшись вперед. Не подгонял, но Наталья чуяла его посыл: что так медленно, быстрей давай…
Старалась, хоть в темноте по ухабам непросто было. Гнала от себя, не пускала мысль: а наш ли? вдруг ошибка?..
У нужного дома тормознули, высыпали. Внутрь прошли они с Геной.
Сперва Наташка деда даже не узнала. Щетиной заросшие, запавшие щеки, глаза закрыты. Закутан одеялом, на кровати лежит. Мелькнуло – да жив ли? Рядом, под койкой в ногах – собака.
– Батя! – Генка бросился к отцу.
Тот глаза открыл, глянул безучастно. Хозяин, тот самый водитель, подобравший деда, стал рассказывать, возбужденно размахивая огромными лапами: как нашел, да едва в машину запихал, как намучился с собакой…
– Еле отцепил ее, дед держал так, что пальцы свело. А псина рычит! Я ее хотел покормить – жрать хочет, да от деда отойти боится. Кинул ей колбасы – ничего, проглотила. Я вот думаю – сколько верст он по лесу отмахал? Я ж его на границе со Псковской областью выловил…
Семен, хлопая глазами, сел на койке. Беззубый, потерявший, как потом выяснилось, вставную челюсть, укутанный в просаленный ватник, он не проявлял к родным никакого интереса. Из-за двери напирали мужики.
Дальше ночь смешалась, пошла хороводом, и не упомнить всего. Вспоминалось уже потом, как они с Генкой благодарили, обнимали водилу. А мужики, наконец, вломились в избу, и моментально стало тесно.
Вдруг оказалось, что обратно поедут не все, потому что уже не влезут. Очень кстати на столе тут же булькнуло, и Колька остался гостить.
Гена укутал свекра в одеяло, и тот лишь на мгновение впал в беспокойство, глазами ища собаку. Увидел и моментально заснул.
На руках, как ребенка, понес Генка отца на выход. Все утихли, взглядами проводив его и собаку, которая, как привязанная, пошла за дедом.
А когда закрылась дверь, загомонили и пошли праздновать чудесное возвращение.
Они двинулись в обратный путь. Рулила снова Наталья, пробираясь во тьме по тем же ухабам, из пункта Б обратно в А. Стучало в висках – слава богу. Живой.
Приехали. Деда, легкого, как перышко, Генка на руках вынес из машины и уложил в постель под плач Анны Степановны. Семен на мгновенье открыл глаза, ничего не сказал и заснул снова.
И остальные тоже попадали, кто где, уже когда за окошком на небе обозначилась первая светлая полоска.
Утром Наташка проснулась от стука. Первой явилась тетя Маша. Слух о Семеновом возвращении быстро разнесся по всей округе.
Анна Степановна, в парадном халате, сновала по хозяйству. Передумала, кажись, помирать. Продравший глаза Генка сидел перед отцовской кроватью.
– Бать… Баааать… Ты как?
– Да не тронь ты его, дай человеку чаю попить, суетилась свекровь, – Семушка, а бульончик будешь?
Свекр, похоже, после суточного сна приходил в чувство. Пошарил рукой на тумбочке, нащупал очки, нацепил на нос:
– Гена? Наташа? А вы чего здесь? Почему не в городе, не на работе?..
В дверь просунулись физиономии мужиков – Генкиных напарников по лесным гонкам.
– А эти что здесь? – недовольно спросил Семен, – Ань, откуда у нас столько народу?..
После продолжительной паузы сын осторожно спросил отца:
– Папа, а ты что вчера делал?
Семен раздраженно ответил, что был в лесу, вернулся и прилег подремать. А проснувшись, обнаружил дома непонятную для него толпу.
Подала голос тетя Маша:
– Семен, а какое сегодня число, ты помнишь?
– И ты здесь! – всплеснул в досаде руками дед, – ну, двадцать четвертое. До дней рождения наших с Аней – полгода еще. Что вы все у нас делаете?
– А двадцать девятое не хочешь?! – теть Маша явно наслаждалась выпавшей ей высокой миссией, – тебя пятые сутки вся деревня ищет!
– Да иди ты! – дед досадливо махнул рукой и отвернулся к стенке, – вот пристали, отдохнуть спокойно человеку не дадут!
– И правда, дайте ему покоя, – забормотала свекровь, – Ему отдыхать надо, что навалились?
И, довольно энергично для вчера еще умиравшей старушки, принялась выдворять из избы посторонних.
В красном углу зажгла Людмила лампадку. Выпустил лес Семена, сберег. Видать, своим-таки оказался. А может, подарки понравились. Или собачья верность спасла.
Хорошо как устроена человеческая память – если надо, отключится, когда миновала опасность – включается вновь. Сумел бы он выбраться, если б не впал в забытье? Не сошел ли с ума, не лег бы умирать в безнадежности?
Пойдут обрывками воспоминания у деда через несколько дней.
Как шел, не переставая. Ложился на землю спать, а собака сверху валилась и грела. Утром лаяла, скулила и тянула его вперед.
Питался ягодами. Собирал, стоя на карачках, бруснику, да свалился в овраг. Еле выбрался, челюсть вставную там потерял.
Потом забрели они с псиной в болото, да чудом не утопли, в обход пошли и заплутали окончательно.
Слышал дед гудки да крики, а ответить сил не хватило.
А когда и псина ослабла, поднял ее на руки, да так и нес. Потому что – живое тепло, и одно у них было на двоих. Так и прилепились друг к дружке. Оттого и не выпускал собаку из рук, знал, в том тепле – его жизнь.
Под навесом во дворе накрывали стол. Соседи деликатно просовывали в дверь головы, стараясь не тревожить спящего. Качали башками, удивляясь везучести Семена. В рубашке родился, не иначе, восклицали, представляя, что пришлось пережить деду, четверо суток ночевавшему в диком лесу.
Генка нес вахту у входа, вежливо, но твердо объяснял, что отцу необходим покой.
Тем временем радостная новость тянула за собой то, без чего не может обойтись в деревне ни одно значимое событие – большую сельскую пьянку. Несли соседки припасы – капусту квашеную, грибы соленые, огурчики, помидоры. Гонцы-добровольцы, вооруженные пустыми сетками и денежным боезапасом рванули в район, чтобы вернуться, звеня стеклом и распространяя запах свежего хлеба. Сияющая Анна Степановна, чуть стесняясь, достала мутную двухлитровую бутыль – презент от свата, и гигантский шмат сала.
И тут, за сборами на стол, в хлопотах, не тревожных, а праздничных, в шутливых перепалках с соседками, Наташку, наконец, отпустило. Исчезло напряжение, которое держало ее последние пять дней – с момента звонка Генкиного.
И не только оно. Пропала, растворилась боль, словно событие это, безусловная общая радость смыла прежние обиды и горести. И смогла, она, наконец, прямо взглянуть на мужа – нечего ей стесняться. Все она правильно сделала. Пусть теперь он стесняется, если что.
Главное, кончилось все хорошо. Все живы. А их передряги – такой пустяк по сравнению с этим. Живы.
И под темнеющим небом деревня пошла гулять. Звенели стаканы, желали здоровья Семену в веках, будто праздновал он сегодня второе рождение.
Именинник спал в избе, а верная собачья душа охраняла его покой, порыкивая, когда просачивался в избу новый гость – отсалютовать самогоном да лишний раз подивиться.
Как водится, были песни. Нашелся баян, растянулись меха, и умелые пальцы пробежались по кнопкам…
Опять закружился август – по-хорошему в этот раз, извиняясь будто за прошлые тревожные вечера.
Галантно шаркнул галошами семидесятилетний Пал Палыч, сосед, приглашая танцевать Наталью. Ох, не промах Пал Палыч. Ай, ревели от него девки лет сорок тому.
Зарумянились Наташкины щеки, пошла она в пляс – среди шуток да комариного пения. Плыло над макушкой черное августовское небо, качались сумасшедшим куполом новгородские звезды…
Блестели глаза, перепихивались локтями соседи – ох, повезло Генке-недотепе, какую жену себе отхватил!
Летела душа, думалось – ну и пусть. Завтра накроет опять бедами городскими, неважно это сейчас. Пусть кружится август. Будет, как будет.
Генка, пошатываясь чуток, наблюдал за Натальей. Как накрывала она на стол, болтала с соседками, танцевала. Поймал неожиданно мысль – ох, молодчина она у него. У него? И сам себя одернул. Может, стоит теперь объясниться? Крякнул, двинулся к ней:
– Наталья, поговорить бы нам надо…
А она, раскрасневшись, вынырнув из круговерти нежданного праздника, Генку оглядела и поняла, что супружник ее неверный, сволочь любимая, пьян не на шутку. Говорить им сейчас не о чем, и не хочет, не имеет она права этот хороший и светлый день слезами заканчивать. Ответила:
– Завтра поговорим. Гости сейчас. Устала я очень, пора спать. Завтра.
Опешил Генка – чуть не впервые сказала Наталья наперекор. Как тогда, в юности. И ловко праздник свернула, одной, другой соседке шепнув, дала знак к отходу.
Гости потянулись на выход, и долго еще жужжала-гудела вечеринка по-над озерцом – молодые пошли дальше гулять.
Заснула Наташка с легким сердцем, без снов, в каморке свекрови. А где благоверный ее ночь скоротал – ей про то неизвестно.
Генке не спалось. Деревня продолжала гульбу, гомон и смех звенели по округе. Двинулся было следом и он, да передумал. Не хотелось толпы, но и спать он не мог сейчас тоже. Побрел вдоль домов, помахав гулякам.
Как все на них с Наташкой смотрели! Рады им были – видно. И как на душе потеплело, когда она приехала. Он не переживал даже, не сболтнет ли она лишнего. Знал – не в ее правилах судачить и сор выносить. Не для того она приехала, чтоб мужа вернуть, а потому, что иначе не может.
В следующий раз он тут с Маринкой окажется. Вот пересудов будет. Ну и что? И приедет! Кому какое дело? Заживут они, новой семьей, полюбят родные Маринку, примут, как Наташку когда-то…
Вспомнил, как по молодости волновалась Наталья перед встречей с его родней. Суетилась, в который раз проверяла, везде ли порядок. Одобрительно крякнул отец, и мама шепнула на ухо – хорошая.
…У Маринки дома никогда не было хлеба. Смеялась: ну, не ем я его, вот и опять забыла тебе купить. И салфеток не было, и джунглей цветочных под потолком…
Вспомнил, как метался у нее на кухне с утра; тихо зверея, гремел с непривычки посудой, кося взглядом в комнату, где Маринка спала.
Рассказал ей, шутя, в тот же вечер, она расстроилась, обещала, что будет вставать, чтоб собрать его на работу. Просто устала очень. Он подумал тогда – вот свинья, замучил девочку.
А в ее глазах мелькнуло на мгновенье не то выражение. Тут же растаяло, но заноза осталась. Где ж его Генка видел?
Вспомнил. Когда заболели жена и сын, он им звонил. И поймал тогда этот взгляд. Придушенное раздражение. На словах она волновалась – как там Андрюша? А глаза выдали. Недавно поймал себя Генка на том, что опять начинает прятаться с телефоном. Как от Наташки когда-то.
Еще контраст. На работе Маринка – бойкая, яркая лиска. Где сядешь, там и слезешь, в обиду себя не даст. Дома с ним – беспомощная и нежная. Над цветами рыдает… а настоящая где? Которая?
Как она отпускать его не хотела, хоть и понимала, что надо. Не предложила поехать с ним – ну, зачем всех в дурацкое положение ставить?..
Он бы, конечно, и так отказался. Но могла бы предложить. Хотя, положа руку на сердце, хорошо, что так вышло.
Добрел до кромки леса. Чернели елки на фоне звезд, покачивались. Пошел неспешно вдоль, продышаться. Спросил в лесную глубину – что же ты так долго батю мотал? Померещилось спьяну: взмахнули лапами елки, и что-то непредставимо большое то ли вздохнуло, то ли башкой качнуло досадливо – ох, и балбес же ты, братец…
И толкнуло еще – спать иди, дурья твоя башка! Он пожал плечами – как скажешь… Я так, поговорить. И побрел потихоньку домой.
Но ведь не зря, не просто так он ушел от Наташки. Бросил дом, перестав ощущать себя мужиком. Зеркалом стал для мамы Чолли. А все равно, как скучается!
На две семьи жить не получится. А вот, например, если б к Наташкиной чуткости и заботе, да чуток Маринкиной благодарности и новизны? Или вот если бы быть с каждой из них по очереди? Или если б Наташка перестала реветь и чуть больше стала похожа на себя прежнюю?..
Дошел до дома, толкнул калитку. Подумал – а ведь никуда та Наташка не делась. И сейчас стало понятно – здесь она. Не пропала, потерялась просто.
Она потерялась, и он ее потерял. Позабыли друг дружку. А он ее все в Маринке ищет и удивляется, что никак не найдет. А Маринка другая.
И что теперь ему делать? Задача.
Махнул рукой да и спать побрел.
Глава 5. Про то, чем сердце успокоилось
Наутро Анна Семеновна собирала делегацию – благодарить Людмилу за помощь.
– Вы уж сходите, молодежь, без меня. А я, как папа в себя придет, с ним вместе и схожу.
Они шли вместе по улице, и Наташа думала о том, что все, кто их видит, радуется, какая дружная они пара, как хорошо в семье у них получилось.
Какое счастье, что люди не знают всего. И еще, здорово очень, что скоро она уедет и можно будет перестать, наконец, притворяться.
Людмила провела их в комнату, которая казалась слишком просторной из-за высокого потолка. Неуют дома с лихвой компенсировался радушием хозяйки – Наташка ощущала идущее от Людмилы тепло, и больше всего ей хотелось подойти, и как теленку, ткнуться лбом в теплый материнский бок.
Хозяйка усадила гостей за стол. Женщины оказались друг напротив друга, Гене досталось место лицом к окну. Так он и просидел, глядя в окно, весь разговор, не посмев взглянуть на Людмилу. А она внимательно разглядывала Наталью, потом обернулась к Генке и произнесла резко:
– Я тебя вообще не понимаю! Какого рожна тебе еще надо?!
Разложила карты – обычные, сильно потертые. Посмотрела, спросила:
– Это сколько можно так над человеком издеваться? Я же все ее слезы вижу!
Потом обратилась к Наталье.
– Переставай плакать. Слезы вытри, да вокруг посмотри. Вон, какие красавцы-орлы ходят. По сторонам гляди.
Неожиданно возмутился Гена:
– Чего это она на других должна глядеть?
– А на кого? – с непередаваемой интонацией спросила Людмила, – на тебя, что ль? Что в окошко уставился? В глаза смотри мне. В глаза!
Гена упрямо таращился в окно, в котором, кроме выцветшего забора и клумбы, не было ничего интересного.
И тут Наталья поняла, что муж, надежда и опора, боится бабку. Как нашкодивший школьник, не смеет поднять на Людмилу глаза.
А она, глядя в карты, продолжила, обращаясь к Наталье так, будто Гены здесь не было:
– Ну да, есть у него какая-то красавИца, – с ударением на «и» слово это прозвучало непривычно и в высшей степени пренебрежительно, – но ты, – посмотрела на Наталью, – даже не переживай. Подожди минутку в той комнате, мне Гене пару слов наедине сказать надо.
Когда Наталья вышла, сказала:
– Любви у тебя там никакой нет. Один блуд, – и спросила, пристально глядя на Генку, – Хочешь, чтоб жена померла до срока? Будешь дальше так жить – жену потеряешь. Ее хворобы – из-за тебя. Погубишь женщину, которая тебя любит. Мать твоего сына. Любишь ты ее, чего бы себе не навыдумывал. Блудил – едва отца не лишился. Мало тебе? Мало по лесу тебя мотало, дурь выветривая? Думаешь, просто так? Ну-ну. Проверяй, коли охота. Только знай – как останешься один, своих потеряв, сам в петлю полезешь. И не спасут тебя любови сиюминутные. У красавИцы твоей – корысть. Не веришь? Дело твое. Но я тебя предупредила, – и небрежным взмахом отправила Генку восвояси, – иди теперь.
Тот поспешно встал и покинул дом, не прощаясь. Вернувшись, Наталья была поражена, как быстро исчез ее муж.
– А теперь ты послушай, Наташа. Плакать переставай. Здоровьем займись, собой. Вспомни, какой ты была. А теперь? Хватит прятаться, дома сидеть. Живи. О себе думай, не только о нем. И все у вас наладится. КрасавИцу эту даже в голову не бери. Нет там ничего, пустое. И звони мне, если что. Обязательно!
Вышла Наташка с новым чувством – легче стало дышать. Показалось, сдвинулся с мертвой точки их с Генкой тяни-толкай. Что-то происходило.
Происходит прямо сейчас.
Гена ждал ее за калиткой – запаренный, с красными ушами, будто из бани.
– Ты чего такой?
– Жжжуткая женщина. Не пойду к ней больше.
– Людмила? Она же теплая, милая. Ласковая. Она как… как… булочка сдобная. И глаза у нее добрые.
– Ничего себе, булочка! Она этими добрыми глазами чуть дырку во мне не провертела, – заявил муж, поспешно шагая в сторону дома, – ведьма, точно.
– А что сказала тебе? Ты хоть за отца поблагодарил?
– Не успел. А сказала… – Генка вдруг затормозил, да резко так, что Наталья в него врезалась, – что ты – моя женщина. И я могу тебя потерять, если… ну, в общем… Короче, Наталь, я домой вернусь, ладно? Давай, ничего не было, а? Подумай, я не тороплю. И, – замялся, – прости меня. Подумай, ладно?
Ухнуло сердце вниз, забилось, кровь к лицу прилила – теперь и сама стояла пунцовая. Вроде и ждала этого все время, не верила, а ждала.
А с другой стороны… вдруг все опять заново? Второй раз она не выдержит. Вернутся они в город, позвонит Генке та… и опять?
Собралась, выдохнула, и ответила, как есть:
– Ты не горячись, Ген. Сам подумай. Сказал сейчас, а через полчаса передумаешь. Или вдруг твоя позвонит. Тебе станет стыдно. А виновата опять буду я? Не могу я так больше. Сам подумай, Ген. Не спеши.
Генка открыл было рот, чтоб сказать: знает, мол, что делает, не надо решать за него, и вдруг понял – а ведь права Наталья. И не с чего, абсолютно не с чего ей ему доверять. Сам виноват. Рот закрыл и рванул вперед, с ушами красными, как гриб-подосиновик.
А она побрела по деревне. Зашла в гости к знакомым, посидела за чаем. Потом всю дорогу останавливалась поболтать – окликали, расспрашивали. Всколыхнула история всю округу. Не спешила домой, давая время себе и Генке. Отвечала, улыбалась соседям, и, незаметно, добрела до окраины.
Взглянула, наконец, на лес – тот, что водил мужиков кругами, мучил безвестностью женщин. Глянула и удивилась. Совсем не страшным оказался. Не злым.
Еловый частокол распался вдруг на отдельные елки, звенело меж них птичьим криком, гулял теплый ветер – с запахом мха и трав. Высь подмигнула оранжевым глазом – не дрейфь! Как будет, так тому и быть.
Ощутила Наташка, что кончается здесь для нее вся эта история: свекор приходит в себя, свекровь помирать раздумала. Оба уже ненавязчиво интересовались: вы, ребята, когда домой? Ох уж эта прямота стариковская…
В лесу так бывало не раз. Набираешь грибов, уже корзинку вниз тянет. Усталость чувствуешь, но еще бы чуток походить…
И тогда лес, ненавязчиво, но твердо, веткой ли в глаз, комариным укусом в ухо, сапогом, нежданно в болоте промокшем насквозь, даст понять, что пора.
Вот и Наталье пора. Кивнула лесу на прощанье, и обратно пошла.
Навстречу ей на всех парах спешила тетя Маша. По лицу соседки было понятно – что-то стряслось. Немедленно стукнуло сердце, завертелись мысли одна другой хуже.
– Господи, он же сожрет его! – на бегу кричала она.
Наташка бросилась следом, понимая, что, кого бы сожрать не пытались, нужно это дело немедленно прекратить.
Оказалось, пока она гуляла, Генка дрова тете Маше для бани колол. Рассчиталась она, как водится, местной валютой. Самогоном. Хорош в этот раз получился, зараза, заборист да крепок.
Посидели они с Генкой совсем чуток. Хотя, глядя на блестящие глазки соседки, Наталья усомнилась. Поболтали о том о сем, и хозяйка пошла гостя выпроваживать.
А его развезло, на старые-то дрожжи, он только до бани дошел, и стоит. Качается.
А там Лютик привязан. Чужих на дух не выносит. Возьми и сорвись.
Наталья похолодела. Лютиком звали дворового пса. Невинное цветочное имя было сокращением от Лютый. Оно и выражало истинную сущность пса. Злющий – сама тетя Маша его боялась. Два года назад разорвал кота, соседка ревела тогда навзрыд – пристрелю гада! Фашист, а не пес.
Генка успел в баню прыгнуть и дверь закрыть. Теперь он внутри кукует, а пес – во дворе. Если Генка выйти решит, даже подумать страшно, что будет.
Спеша за соседкой, ругала себя Наташка на чем свет стоит: надо было вместе домой идти! А она, как героиня бразильского сериала, пошла, понимаете ли, подумать. Разобраться в себе. Идиотка. Только бы Генка из бани не сунулся. Если что, в райцентре больница…
Соседка затормозила у забора. Наталья подлетела следом, глянула, готовая, если что, идти в рукопашную, и замерла.
На пороге бани сидели человек и пес. Пьяный и совершенно несчастный Генка, запустив в волосы пятерню, говорил:
– Только ты! Ты, псина, меня понимаешь. А она больше мне не верит. И правильно! Я же скотина. Ты даже не знаешь, какая… а я ведь ее люблю.
И дворовый пес по кличке Лютик, порвавший два года назад заезжего дачного кота, тот самый Лютый, о котором Пал Палыч говорил уважительно: «Он – рецидивист», тот самый пес, которого боялась хозяйка и чья шишковатая, в шрамах, башка лежала сейчас на коленях у Генки, сочувственно глядел в потерянную физиономию непутевого Наташиного мужа, и совершено по-человечьи вздыхая, лизал его прямо в раскисшую от самогона морду.
Рассказы
Дед
А в нем была до жизни
Жадная смелость
Г. Сукачев– Отец, что случилось?
Дед сидел за столом, опустив голову над тарелкой. На вилке повисла тонкая нить квашеной капусты. Орлиный нос уныло покачивался в такт словам.
– Даже не знаю, как тебе рассказать, дочка…
В кухне стоял чад. Печь нещадно коптила. Несмотря на тепло, было влажно, как в тропиках. Эта вечная сырость, и промозглый утренний сон, когда страшно высунуть нос из-под одеяла застряли в памяти с детства.
Ночевать в доме Ольга не очень любила. Сейчас она жила в городе, куда отец переехать наотрез отказался, и приезжала только на выходные. Убрать, постирать, приготовить. В будние дни дед, которому стукнуло семьдесят восемь, справлялся с хозяйством самостоятельно.
– Пап, что случилось?
– Замели меня, дочь, – голова качнулась, – попал твой отец в милицию…
Ольга смотрела во все глаза. Дед был полон раскаяния.
– Батька твой провел целый день в обезьяннике…
Сердце ухнуло куда-то вниз. И одновременно стало смешно. Очень уж напоминал он сейчас царя Иван Васильевича из комедии – так же сдвинуты лохматые брови, тот же покаянный жест: в кутузку замели, дело шьют…
– Как – в обезьяннике? За что?!
– За хулиганство…
Дело было в начале девяностых, когда город Питер палил из обрезов и разъезжал на тонированных девятках. Когда, как шампиньоны из-под асфальта, появились всюду крепкие бритые мальчики. Когда горожане предпочитали лишний раз на улицу не соваться и обсуждали по кухням свежий выпуск реалити-шоу под названием «Сессия верховного совета».
Одна половина сколачивала капитал на обломках империи, другая – растеряно озиралась. Манила реклама, сверкали неоном рестораны и казино, возникали невиданные секс-шопы. Закрывались заводы, чахли НИИ, профессура уходила торговать гипсовыми Буддами…
Плясали кришнаиты, экстрасенсы с экрана лечили цирроз, и взрослые, здоровые на голову люди несли остатки кубышек в «МММ». Советское воспитание не позволяло усвоить тот факт, что тебя могут обмануть. Слишком громкое, пионерское было слово. Тогда появилось «кинуть». Кратко, энергично и без интеллигентской рефлексии. Кинули – и молодцы. И – концы в воду. Или в бетон.
В маленьком городке под Питером, где жил дед, новые времена тоже дали о себе знать. Закрылся продуктовый магазин, где издавна чахли морская капуста и хлеб-кирпич, единый по форме и содержанию. На месте продуктов возникло разноголосое торжище, с пестрым барахлом, знойными феями с китайских полотенец, косметикой, куртками из кожзама, книжками, джинсами, самопальными значками.
Торговали приезжие, черные, как жуки, или их женщины – все, как одна блондинки, с крупными пористыми носами и угольными глазами. Торговали залетные – улыбчивые молдаване, основательные хохлы. Торговали свои – дед узнал бывшую завмагом, слесаря Миху, бухгалтершу завода, где проработал без малого сорок лет…
Пресса, которой дед привык доверять, писала странные вещи. Ольга зареклась возить отцу новые газеты. Как-то ему попался выпуск «СПИД-инфо», с грудастой теткой на фоне летающей тарелки. Дед справедливо считал себя человеком современным. Не отгораживался возмущением от внешнего мира. Познавал новые реалии – как они есть.
Сжавшись, Ольга, следила, как он читает. На стуле, посреди кухни, под самой лампой. В роговых очках с веревочкой, чтоб не потерять. Читает про Ленина, восставшего из Мавзолея, про каннибализм в доме престарелых, про секс-исповедь певицы Барби… Так же вдумчиво и основательно, как, Ольга помнила с детства, на этом же самом месте, читал отец «Правду», и «Труд», и зачитывал выдержки вслух для них с мамой…
«СПИД-инфо» пошла на растопку.
В городке закрылся завод, рассыпавшись на мелкие лавочки. А тридцатилетний долгострой – крепкий кирпичный каркас – неожиданно обрел владельца, и высокий забор скрыл от глаз любопытных будущий особняк на берегу.
Накрылся кинотеатр. А вместо киношки образовался кабак. Там-то и случился милицейский дедов бенефис.
Конечно, нельзя сказать, что это был его первый привод в милицию. Было, было: в шальной довоенной юности, в дурмане ленинградских окраин. Случались стычки с охтинской шпаной, и добрые драки на танцах за светлые косы какой-нибудь девочки Лели…
– Я, Колька, я Моховской! – говорил дед в запале, если случалось ему с кем-то поспорить.
А тут шел дед из магазина и заметил, что кинотеатр исчез. Увидел новую вывеску: «Кафе». Решил исследовать.
Вошел, огляделся. Красиво: музыка, гладкие столики, строй разноцветных бутылок в баре. Несколько человек у стойки. Дед подошел. Дождался своей очереди и стал делать заказ. Как положено. Сто грамм, чего уж там, и – закусить. Улыбнулась ему продавщица, и тут…
Чья-то туша заслонила обзор. Трещал костюм на накачанных мышцах. Пальцы-сосиски легли на дедово плечо и отодвинули.
– Девочка, организуй-ка мне быстренько, – обратился амбал к продавщице.
Деда оттеснили из очереди.
– Представляешь, дочь, какой-то сопляк, – рассказывал он, – я его раза в четыре старше. Морда, главное – во! – показал дед двумя руками.
– Минуточку, – каркнул дед и выставил локоть.
Браток с веселым изумлением заглянул подмышку, откуда донесся голос, сказал примирительно:
– Усохни, плесень, – и повернулся обратно.
– Минуточку, – повторил дед, но мордоворот его проигнорировал.
Деда. Проигнорировал.
Колька с Моховой умел правильно оценивать весовые категории. Поэтому поднял стоявшую у столика табуретку. Новенькую, крепкую. С железными ножками.
– Минуточку, – последний раз предупредил он.
Примерился, как следует, и – применил.
По назначению, благо промахнуться было невозможно. Табуретка обрушилась на круглую пиджачную спину. Кабанья туша на секунду застыла и развернулась к деду.
Спас его милицейский патруль. В этом плюс маленьких городов: все на виду и милиции ехать не долго. Дебоширов скрутили и отправили в отделение. В обезьяннике они просидел до самого вечера.
– Дед, милый, – говорил ему моложавый майор, похожий на внучкиного мужа, – я прошу тебя. Ну, пожалуйста. Не связывайся ты с этими. Побереги себя-то!
– Он же без очереди, – горячился дед, – наглый! И отмахивается, как от мухи!
Майор посмотрел на встрепанный дедов чуб, сухонькие плечи, вздернутый воинственно подбородок и вздохнул. Подписал бумаги и произнес так строго, как только сумел:
– Николай Николаевич. Я вас предупредил! Еще раз поймаю – посажу на пятнадцать суток! Вы меня поняли?!
– Такие дела, дочка, – заключил дед.
Ольга помолчала.
– Пап… я даже не знаю, как реагировать, – сказала она. – То ли ругать тебя, то ли – гордиться. В семьдесят восемь попасть в милицию за хулиганство… это – круто, пап. Только, пап. Я тебя прошу. Я тебя очень прошу, как тот майор. Ну, не связывайся ты с ними. Ничего ты им не докажешь. А мы… – тут Ольгу осенило.
– Знаешь, давай так. Вот отметим твои восемьдесят, а потом – делай, что хочешь: хоть в драку, хоть на столах танцевать. Договорились?
Дед кивнул.
Он был похож на школьника, получившего от учителя обидную, но справедливую двойку.
***
– Оля, ты только не волнуйся… – открывший дверь старичок был обеспокоен и смущен одновременно.
– Михал Нилыч, что? – привычно заныло под ребрами, и Ольга опустилась на стул.
– Папа заболел…
Дед лежал на диване под пледом. Его лоб, высокий, в продольных морщинах, был сухой и горячий.
Не привыкать. Как действовать, Ольга знала. Моментально включился «режим ноль три». Градусник. Давление. Микстура. Горло. Теплые носки. Проветрить и натопить. Поставить бульон, разложить на блюдце таблетки и инструкцию огромными буквами, когда и какую пить.
Дед послушно наблюдал, шевелил губами, объясняя беззвучно, как так все у него получилось. Его виски покрылись бисером испарины.
Михал Нилыч, дедов друг и конфидент, все это время суетился вокруг. Предлагал сбегать в аптеку, или в магазин, или покараулить бульон на плите, или притащить дрова из сарая. Мешал, конечно, но не спорить же Ольге со стариком. Наконец, не выдержала, всучила ему книжку Джека Лондона и велела читать деду. Вслух. Старичок покорно открыл страницу.
Нилыч по сравнению с дедом был салагой. Всего-то семьдесят, мальчишка. Крошечного роста, невысокой Ольге по плечо, с мягкими чертами лица и вечной извинительной улыбкой. Ольгин внук звал его «Милыч», совмещая в одном слове имя, отчество и черты характера. Безотказный и обходительный, в этот раз он казался еще суетливее, чем обычно. Ольга заподозрила неладное.
И, когда, наконец, все стало по местам, разгорелась печка, забулькал на плите обед, заблестел протертый пол, а дед задремал, задышав спокойно и ровно, Ольга налила себе и Нилычу чаю из самовара, прикрыла дверь к отцу в комнату и сказала твердо:
– А теперь, дядь Миша, колись!
Дедок замямлил, забегал глазами, но Ольга была неумолима:
– Рассказывай! Что вы опять натворили?
– Да что там натворили, Олечка, – видишь, какое дело… Простыл вот Николай Николаич, переохладился…
– Переохладился – где? – уточнила Ольга. – Брюки мокрые висят – раз, куртка – два. В канаву, что ли, упал?
– Не в канаву, Олечка, – Нилыч помялся, – тут, понимаешь, какая история вышла, – начал он.
– Рассказывай, – вздохнула она.
И Нилыч рассказал.
Что случается в городе в начале весны, когда сбросит панцирь Нева, и тает, съедается солнцем снег, а меж грязи, луж и зубодробительных крапин льда на газонах вспыхнут первые огоньки мать-и-мачехи? Когда ветер разносит вопли котов, и дрейфуют, как мазаевы зайцы, на льдинах по Ладоге бесшабашные рыбаки?
Кто приходит в Питер весной? Правильно. Рыбка-корюшка.
Нилыч прискакал к деду с утра. Передвигался он шустро. Выпили чаю, поболтали за жизнь.
– Николаич, – заметил друг. – На Механическом корюшку продавали. Дорогая, зараза. Может, это, скинемся? Возьмем килограммчик? Много ли нам надо, на двоих-то?
– Почем? – дед оживился. Услышал сумму, переспросил: – Сколько?! – Выматерился. – Они там что, совсем уже?!
– Ну, нет так нет, – прошамкал Нилыч. – Обойдемся. Делов-то. Я вот сальца прикупил…
– Погодь, – дед решительно встал. – Накормлю я тебя корюшкой. От пуза! Где только он у меня… – и двинул в сарай на поиски, бормоча и вполголоса ругаясь.
Нилыч ждал, беспокойно ерзая на стуле.
– Вот, – дед ввалился обратно.
В руках он держал здоровенный рыболовный сачок. Длинное, без малого три метра, древко венчало широкое, в обхват, кольцо, на которое была натянута плотная сетка.
– Я рыбак! – грозно сказал дед. – Рыбак, понял?! С какой стати мы будем платить такие деньжищи, если можем спокойно пойти и наловить сами?
– Дык, Николаич, я не умею, – обеспокоился Нилыч.
– То-же-мне, – презрительно усмехнулся дед. Эта реплика была у него крайней степенью пренебрежения, – то-же-мне, – повторил он.
Нилыч на стуле, казалось, стал еще меньше.
– Ладно, – сжалился дед. – Я тебя научу. Ты будешь на берегу стоять, а я покажу, как надо.
Сказано-сделано. Ольга многое бы отдала, чтоб своими глазами увидеть эту картину. Впереди шел отец. В болотных сапогах, с гигантским сачком через плечо, в ярко-оранжевом рыбацком плаще поверх теплой куртки, с неизменной беломориной в зубах, прямым носом и дальнозорким взглядом похожий на хищную птицу.
Сзади поспешал Нилыч, с эмалированным ведром в одной руке и лыжной палкой – в другой. Он носил ее вместо трости.
До Невы идти было метров триста. Подельники форсировали шоссе, преодолели крутой и скользкий глинистый спуск и вышли на берег.
– Так, – скомандовал дед. – Я сейчас залезу вон на тот камень, а ты подашь мне сак. Я его закину. А ты будешь вытаскивать корюшку и складывать в ведро. Понял?
Нилыч кивнул.
– Николаич, – робко позвал он, – а, может, не надо? Ну ее, эту корюшку.
Дед не удостоил соучастника ответом. Подобрав плащ, побрел в сторону камня.
Несла темные воды Нева. Гулял свежий ветер, шумела быстрина, пряча под толщей воды сладкую деликатесную рыбку. На черном камне, покачиваясь от порывов ветра, торчала сухонькая фигура в оранжевом плаще.
– Сачок давай! – скомандовал дед. Нилыч зашел в воду, насколько позволили сапоги, и протянул древко. Дальше было – как в сказке.
«Первый раз закинул он невод»…
Этим разом дело и кончилось. Дед учел все, кроме силы инерции.
Невелик был Нилыч, но и дед – не намного больше. Трехметровое древко весило много. Сеть в полете превратилась в парус. Парус подхватило ветром и понесло. Дед закинул сачок и – полетел за ним следом.
Надо отдать должное старому рыбаку: древко он из рук не выпустил. Надо вознести молитву природе-матери, сделавшей русло реки в том месте совсем неглубоким.
Нилычу стоило больших усилий выловить деда вместе с сачком из невских вод. Но еще сложней оказалось уговорить его вернуться домой.
– Я же все равно мокрый, – возражал дед в азарте, – еще пару раз кину, и – ходу! Много ли нам надо, той корюшки…
Нилыч возражал и увещевал. Стойко снес обвинение в трусости и презрительное «то-же-мне». Был кроток, как голубь, и неумолим, как инфляция. Наконец, дед позволил себя уговорить и увести с берега.
– Так вот и получилось, Оленька, – заключил Нилыч. – Если б не я со своей корюшкой, был бы сейчас здоров Николай Николаич, – и сокрушенно покачал головой.
– Не переживай, дядя Миша, – сказала она мягко, – поправится. Подумаешь, простуда.
Встала и открыла форточку. Ветер взметнул занавески и ворвался в дом, принеся с Невы, будто в насмешку, сладковатый огуречный запах.
Лед
– Ярцева! Куда ты так вырядилась? – с утра шеф басил.
После литра кофе он обретет баритон, чтоб опять охрипнуть к вечеру. Кстати, что он тут забыл в такую рань? Шесть утра – спать бы еще и спать.
– Я тебе сказал: «тепло». Это – что?! Юра, забери ее… с глаз моих!
Алла шмыгнула за оператором. Дядь Юра покачал головой:
– Косяк, Кнопка. Ты б еще в чулочках пришла…
Вот докопались. Чем плохи куртка и джинсы? Не на северный же полюс ехать!
– Сдует тебя. Ветер там знаешь, какой? – пояснил напарник. – Ладно, будем на месте, выпросим для тебя тулуп…
Машина неслась по набережной. Дядь Юра дремал. Алла смотрела на утренние огни и пыталась настроиться.
Они едут спасать людей. Парни из МЧС и она, Алка. Надо будет сказать про их волю и мужество, про спасенных… вот ведь идиоты! Каждую весну – одно и то же. Лезут на лед, а потом дрейфуют, как мазаевы зайцы.
Вспомнила репортаж о том, как милиция не пускала рыбаков на лед Ладожского озера. Обычный весенний запрет на маньяков не действовал, и пока дядь Юра, усмехаясь (ты думаешь, они тут круглые сутки стоят?) снимал сцепленную локтями милицейскую шеренгу, два угрюмых дядьки, держа перед собой, как тараны, металлические ящики, с разбегу кинулись на оцепление, прорвали оборону и затопали от берега прочь.
– Не стрелять же в них, – пояснил ей милицейский капитан.
А потом улыбнулся и растаял в воздухе, прихватив рыбаков и служебный уазик. На его месте выросло кресло, в него приземлился Антон и сказал: «Малыш, ты меня огорчаешь», птицы-галки закружились, рассыпались черными кляксами по белому льду, и Алла не заметила, что давно уже дремлет, уткнувшись лбом в плечо оператору.
– Приехали, Кнопка, – ее мягко толкнули, – подъем! Работать пора.
Их встречал высокий человек в форме. Алла привычно расстегнула куртку и вытащила пресс-карту, которая болталась на шее. МЧС-ник поздоровался с оператором за руку и чуть недоуменно приподнял бровь.
Опять. Спасибо, что не спросил, не дочку ли притащил с собой дядя Юра. С ростом метр пятьдесят пять сложно добиться, чтоб тебя принимали всерьез. Она сухо представилась.
Высокий кивнул и спросил:
– Не замерзнете?
– Если не жалко, – встрял оператор, – выдайте нашему сотруднику что-нибудь теплое…
Спустя четверть часа она стояла на вертолетной площадке в необъятном синем комбинезоне и теплом бушлате. Народу в форме было полно, но она смотрелась эффектнее всех.
– Колобок прикатился, – прокомментировал злыдень-коллега.
В недрах одежды завибрировал телефон. Под общие взгляды пришлось расстегнуть бушлат, комбез, куртку.
Извлекла мобильник и прочла сообщение: «Здравствуй, малыш. Ты, наверно, еще в кроватке. Я хотел первым пожелать тебе доброго утра». Антон. Вовремя. Как романтично. Представилось, что он, не вылезая из постели, протягивает руку к телефону, отбивает смс и нагло засыпает.
– Кнопка, по коням. Смотри в оба, – напутствовал оператор и полез в вертолет.
В салоне МИ-8, вместе с ними расположились три огромных МЧСника. Два ряда сидений шли по бортам. Она заглянула в кабину. Пилоты улыбнулись и махнули, призывая сесть. Грохот двигателей глушил все звуки. Машина поднялась и взяла курс на Ладогу.
Опять телефон. «Ты так занята? Или спишь?» – пришла смс. «Я лечу на Ладогу снимать рыбаков» – отбила она ответ. Через минуту вернулось короткое «Удачи», и моментально стало понятно, что читать следует не в смысле «удачи, работай, не буду тебе мешать», а в смысле – флаг в руки, тебе, как всегда, не до меня. Что и подтвердилось следующим, телеграфным «Извини». Обиделся.
Познакомились они прошлой весной на университетскомвыпускном.
– Журналистка? – усмехнулся Антон, и она тут же решила, что с этим снобом не о чем разговаривать.
Тот вечер был насквозь пропитан шампанским, а на столе лежали горкой новенькие дипломы. В головах после защиты царила восхитительная пустота.
Весь курс набился в тесную квартирку на Васильевском и гудел допоздна. За окошком пахла сирень и звенели трамваи.
Ночью их выплеснуло на улицу, и город закружил, заморочил хмельные головы. Были дикие пляски на Стрелке, а Славка Филатов вдруг заорал:
– Свой полет посвящаю Кнопке! – и сиганул с разбегу в Неву.
Конечно, никто не успел на метро – как всегда неожиданно развели мосты. Вся банда побрела через ночь, теряя на скамейках отставшие парочки.
Под утро ребята с фотофакультета загнали всех на крышу, чтобы снимать. Железная кровля грохотала под ногами, жильцы вызвали милицию, и удирать от нее пыльными чердаками было смешно и немного жутко.
Ранним утром те, кто продержался дольше всех, оказались в застекленной кофейне Дома книги и сонно лакали горькую жижу из крошечных чашек.
Антон снял со стеллажа Бродского и читал вслух, лаская страницы длинными пальцами. Славка шепнул: Кнопка, ты, кажется, влипла.
И это оказалось действительно так…
Вертолет летел над Ладогой. Алла смотрела на неровное белое поле в иллюминаторе, на черную страшненькую воду в трещинах.
Льдины топорщились, наползали одна на другую. Представилось, как в начале зимы, в разгар шторма, грянул адский мороз и заковал озеро в лед в один миг. А волны не успели утихнуть, да так и остались на всю зиму вздыбленные. И стоять им теперь, пока не растают…
Дальше у них с Антоном случился роман. Городской, пыльный, с ночными купаниями, вылазками на чужие дачи и встречей рассвета в мансарде Академии художеств. Влюбленная и свободная, первое взрослое лето она провела, как и хотелось – легко.
Потом нагрянул сентябрь и заставил ее протрезветь. Алла стала искать работу. А Антон вдруг взял и ушел.
– Я художник, малыш, – объяснил он ей на прощанье. – Снова осень, и у меня опять кризис. Я сейчас становлюсь неприятен сам себе… зачем тебя буду мучить?..
Алла поняла, что ее тактично и мягко списали в расход. Конечно, огорчилась. Привязалась же. Думала, что любовь…
Правда, долго грустить не умела – не тот характер. Отболела. Решила, что это к лучшему – нужно устраиваться, не до романов сейчас…
Потом навалились будни, и оказалось, что нет тяжелее работы, чем стучаться в закрытые двери. Наконец, достучалась. Ее взяли внештатником на телеканал.
Дядь Юра толкнул в плечо и показал в иллюминатор по левому борту. На белом снегу копошились черные точки. Люди. Вертолет стал снижаться.
Весной Антон появился опять.
Мартовский дождь был нелеп. В лужах под водой стоял лед, и, конечно, она шлепнулась. Кто-то подхватил ее на руки. Антон. Улыбнулся и сказал:
– Я думал… я понял, как тяжело тебе было. Прости, – да так и понес домой.
Застучало сердце. Конечно, она обрадовалась. На секунду кольнуло, правда – зачем уходил? А потом – прошло. Не умела она обижаться. И даже укорила себя: сама хороша. В голове одна работа. А парень переживал.
Март оказался терпким и пряным на вкус, ночи сменяли дни, все чаще он оставался, и, казалось, все теперь устроится, образуется и сложится хорошо.
А он закапризничал вдруг. Заскучал. Звонил каждый час, проверял, обижался, когда она задерживалась на работе. А когда приезжала – не замечал.
– Я готовила сюжет, – объясняла она.
– Сюжет, – усмехался он и выплевывал: – журналистка…
Ей было обидно. Он говорил:
– Не дуйся. Мне, знаешь ли, тоже не просто…
Ревновал. Сидел без заказов, был злой, как черт. Алла крутилась, чтоб выкроить время, но вставала дилемма: работать? или сутками любимого утешать?
Сейчас, на изломе апреля, равновесие было хрупким, как ладожский лед. Она разрывалась на части. Он ведь вернулся? Он же любит? Так зачем делает все, чтоб ее оттолкнуть?..
Вертолет снизился, насколько было возможно. МЧСники откинули дверцу и встали по обе стороны. Алла выскочила было в проход, но один из бойцов задвинул ее обратно. Она прилипла к иллюминатору.
Железная туша зависла надо льдом так, что шасси касалось снежной каши. Винт гнал страшный ветер, несколько рыбаков позли к машине.
Льдина была в поперечнике метров двадцать, истыканная лунками. Вода наплескивалась на тонкие, подтаявшие до прозрачности, края. Ящики, ледорубы и рыба так и валялись на снегу – не до них.
Началась работа, и тут же стало понятно, зачем в рейс взяли таких сильных людей. Один хватал спасенного за руку, другой – за воротник. Единым рывком рыбака втягивали наверх и слажено швыряли в конец салона. Он кубарем летел в хвостовую часть, и устраивался, так, чтоб не попасть под удар летящего следом товарища по несчастью.
Алла малость обалдела от такого обхождения, потом дошло. Каждую минуту съедалось столько горючего, что действовать надо было быстро и без сантиментов. Настоящий конвейер. Рука – рывок – полет – следующий.
Вся операция заняла не больше десяти минут. Спасатели задраили дверцу. Они возвращались на базу.
Камера фиксировала нахохленных рыбаков, расслаблено дремавших спасателей. Сейчас они высадят этих, и полетят искать следующих. И так – пока не стемнеет.
«И сколько жизней спасла бесстрашная журналистка?» – пришла смс. Алла подумала, что нет дела ему до других жизней. Интересует только своя. Просто нечем заняться сейчас, нужен повод для новой обиды.
«Сколько можно молчать? Ладно, больше не напишу» – прочитала она.
И поняла, что никому из этих усталых людей – ни рыбакам, ни спасателям, ни пилотам никто не пришлет таких сообщений.
Считая за центр вертолет, прочертила мысленно круг, понимая, что и в радиусе ста километров ни один человек, кроме нее, не ловит сейчас таких раздраженных флюидов. Ее спутников очень ждут. Тревожатся, молят богов, чтоб вернулись…
Они поднимались выше, и льдина-ловушка пропала из виду. Через пару недель солнце с хрустом взломает лед, расчертив мозаикой черных трещин. По Неве вновь пойдет ледоход, чтоб истаять ноздреватым рафинадом в Маркизовой луже.
Вода станет чистой и ясной.
И все образуется.
Кукла
Кукла сидела у помойки на стопке книг. Запросто, растопырив крепкие фарфоровые ноги. Штрудель обнюхал, примерился было поднять лапу, но Инга тихонько цыкнула:
– Совесть твоя где? – и такса, укоризненно глянув черными сливинами, засеменила дальше.
У куклы было фарфоровое лицо с маленьким ртом, ниткой бровей и глазами-плошками. Краска местами стерлась. Платье обветшало, одна нога была обута в самодельный, грубо сшитый носок.
Инга взяла находку в руки. Однако, винтаж. Включилось профессиональное: белая бязь, синий бархат. Этакая горниШная, через ш. В наколке. Волосы подсобрать, завить мелким бесом. Или: алый атлас, пышный рукав, поверх – шубка. Шляпка на голове. Барышня из Михайловского сада…
Она прижала добычу к себе. Кто ж выкинул такое чудо? Тряпичное туловище успело намокнуть.
– Идем сушиться, – сказала кукле и зачем-то огляделась: Штрудель деловито семенил в утренней мороси. Кликнула собаку и поспешила домой.
– Ингуля, – голос в трубке сипел и хлюпал. – Сегодня должны прийти! Умоляю!..
– Конечно, – не отрывая глаз от рисунка, отбивалась Инга, – как контмарочки на премьерку или бронхитить в теплой постельке – так это Олег. А как пожарная инспекция – Ингуля, естественно!
– Инга! – в трубке раздался то ли лай, то ли всхрип.
Балеринка с эскиза смотрела пустыми глазами и не оживала. Не хватало фишки. Инга отложила карандаш.
– Прекрати на меня кашлять, симулянт, – сдалась она, – ладно.…
У чиновника были узкие глаза и толстые щеки. Найдя огнетушители, он почему-то обиделся. Недовольно ходил по мастерской, а Инга таскалась следом. Коллеги прикидывались глухонемыми.
Открыв подсобку, пожарник оказался погребен под рулонами, гапитами и тряпьем. Обрадовался, сделал пометки в блокноте. Сел в директорское кресло и стал ждать взятку. Инга прикинулась тупой, как балеринка с эскиза. Инспектор в отместку закатил ей лекцию по безопасности.
Когда ушел, она взяла чистый ватман. Через час с эскиза смотрел щекастый бай в парчовом халате с широким поясом в самоцветах. Пальцы-сосиски вцепились в огнетушитель, на голове красовалась пожарная каска.
Подошел мастер, заглянул через плечо:
– Красавец! – одобрил он, – как живой! забираю, пожалуй…
– Погоди, – остановила она и дорисовала толстяку на носу бородавку.
– Не мистифицируй, – говорили друзья. – Это всего лишь куклы. Ты же химик, хоть и бывший… смотри на вещи трезво.
– Менделеев тоже был химик, – смеялась Инга, – а таблица ему приснилась! Не мистика, скажете?
…Вот как объяснить? Пригоршня бусин, лоскут, колечко – и вдруг, неуловимо, потянулись ассоциации. «Синдром папы Карло», шутили коллеги, когда она шла вдоль столов, трогая то одно, то другое. Пальцы словно прислушивались. А под сердцем уже зрело, билось. Неуверенно, вслепую почти, карандаш начинал водить по бумаге. И неожиданным был миг, когда бесцельные штрихи проявляли суть…
Или ловила себя на том, что мысленно говорит с персонажем. И опять не удалось поймать момент, точку одушевления… Кукла уже есть. Состоялась.
Мистификация? Но ведь она не одна такая… для кукловодов они тоже живые.
…В последний раз у нее забирали Царя: маленького, скрюченного, в горностаевой мантии и с огромным носом. В нос самодержцу Инга вмонтировала пищалку.
Кукловод, пышноусый гигант и миляга, приветствовал:
– Инга, ваш Дон Жуан на последней репетиции на меня так посмотрел…
Царь сидел на стуле для посетителей, свесив нос.
– Что-то не очень он грозный, – придирчиво заметил актер.
Обошел куклу, присматриваясь. Супил брови, бормотал. Наконец, приподнял, так, что вровень оказались человек и кукла. Обитатели мастерской подтянулись ближе. Актер зарычал:
– Что это они на нас уставились?! Ничтожества! Как смеют! Вели отрубить им головы.
Горбун в короне глядел бесстрастно.
– Что молчишь? Ты царь или нет? Смотри мне в глаза!
Их лица сближались, пока благородный актерский профиль не уперся в кукольный крючковатый нос. Раздался писк.
Инга фыркнула: царь сумел поставить нахала на место. Кукловод вздрогнул и быстренько посадил горностаевое величество обратно.
Коллеги хихикали.
– Вот, значит, как, – пробормотал актер, перейдя с куклой на «вы». – Вот вы какой, ваше величество! – с почтением посадил злодея на сгиб локтя, отвесил общий поклон и отбыл.
Вечером все вертела куклу, прикидывая, как половчей сделать, не испортив. Круглые глаза смотрели пусто. Инга ее не чувствовала. Такое бывало редко.
– Что молчишь, Зойка?.. – бормотала она, засыпая. И сама удивилась: почему вдруг – Зойка?..…
Снились кошмары: ледяные ступеньки к проруби, впереди кто-то огромный, толстый, с ведром. Сугробы в рост. Навстречу грузовик, в нем тела застывшие, вповалку. Женские волосы по ветру…
Вдруг, словно переключили программу: трава, яркая, зеленая, аж глазам больно. Молоко течет, ведро переполнено… и вот уже стол, на нем каравай, и веселая тетка режет хлеб, и все не может остановиться. Куски мельче, мельче, пока не остаются совсем маленькие. Инга тянет руку, чтоб взять – немного, крохотный кусочек, но хлеб превращается в льдинку, взвихряется снег. И опять вокруг холод, темь, и кто-то с ведром впереди…
Тут и проснулась. За окошком светло, ногам никак не нашарить тапки, а кукла безучастно глядит с подоконника.
Дорогой на работу она вдруг неприятно поразилась новеньким, черным, аж лоснящимся, конягам Аничкова моста. Кольнуло досадливо: они должны быть зеленые! Зачем убрали патину? Теперь будто фальшивые. И сама удивилась мысли.
В мастерской было тихо. Коллеги не спрашивали, как дела, лишь смотрели, над чем она работает. Если на столе отталкивающего вида горбун – значит, повздорила с мужем. Прощелыги и разбойники выходили в такие дни живые до омерзения.
Зато стоило дочке получить приз на конкурсе бальных танцев, и на листах теснились принцессы и розовокрылые феи.
Сейчас муж торчал в командировке, а дочь с бабушкой на даче собирала малину и купалась в озере.
– Творишь? – через плечо заглянул начальник. Он все еще сипел, горло было обмотано арафаткой.
Она рассеяно посмотрела на бумагу и только сейчас осознала, что вместо нового эскиза лист расчерчен волнистыми линиями: то ли топографические горизонтали, то ли раковина морская, то ли гриб-волнушка, такой большой, что не поместился на лист.
Шеф повертел рисунок. Перевернул. Хмыкнул:
– Приступ гигантомании?
Инга вздрогнула: на листе красовалось огромное человеческое ухо.
– Странный ракурс, м-да, – шеф покосился на нее, но не стал ничего уточнять. – А я тебе конверт принес от Козаностры.
В конверте лежало несколько стодолларовых купюр и визитка. Шеф взял ее с почтением:
– Отдай мне, а? Я в права суну, ни один ДПСник не привяжется.
История с Козанострой вышла странная. Как-то в мастерскую заглянул вежливый седой господин. Пара охранников осталась у входа. Он попросил Ингу сделать куклу по фотографии. С портрета смотрел молодой красавец-брюнет.
– Это должна быть марионетка, – тихо уточнил посетитель. – Непременно марионетка, прошу вас. Такая… с ниточками, – и для наглядности пошевелил пальцами.
Куклу Инга сделала, стараясь не думать, зачем она понадобилась. Судя по гонорару, заказчик остался доволен.
Вечером долго не спалось. Все вертела находку, с ней и заснула.
Снились карты; горизонтали замкнутыми кривыми вплетались в сон. Черно-белые, они наливались розовым, нежным, как… волнушка? Нет, не гриб. Огромное ухо, в розовой мочке – сережка.
Вместе с ухом в сон вплыло лицо: пухлые губы, голубые, с темным ободком глаза. Девочка, лет семи. Но почему такая большая? Или… может, это Инга уменьшилась? Она оглядела свои фарфоровые руки.
Девочка подхватила ее и понесла. Раскачиваясь вправо-влево, Инга увидела четыре колонны, торчащие из-под клетчатой ткани, толстенную бочку с распахнутым зевом, в котором пылал огонь. Печка.
Тут вдруг бухнуло, так, что зазвенели стекла, взвыло, низко и оглушительно.
Девочка прижала Ингу к себе:
– Не бойся, Зойка. Не бойся, глупая. Мама сказала, как загудит, вниз бежать.
Схватила ее и потащила, гигантскими ступенями вниз. Раскачиваясь, Инга видела зеленые стены и людей, огромных, как девочка. На мгновение промелькнул такой же, как она, заяц с жуткими вышитыми глазами, а потом опять грохотнуло, совсем близко. Ее подбросило. От дыма с каменным крошевом сделалось невозможно вздохнуть.
Истошный лай выдернул из сна. Она рывком села, хватая воздух, и все никак не могла надышаться.
Навалилась паника: показалось, стены вот-вот рухнут, нужно бежать. Сердце стучало. Накинула халат, выскочила на лестницу. Штрудель рванул первым. Она увидела в зубах у собаки злосчастную куклу.
– Стой, – закричала и кинулась следом.
– Куда, сволочь?! – взревело двумя этажами ниже. – Шницель, мать твою, ты чё творишь?
Чьи-то ноги застучали по лестнице. У двери подъезда, по счастью, закрытой, она догнала таксу. Кукла лежала у лап, Штрудель рычал и скалился на соседа. Тот, здоровый, мордатый и обычно добродушный, смотрел на собаку со злостью.
– Что за фокусы? – набросился он на Ингу, – я ща сам его покусаю! Отбери куклу, а то я за себя не ручаюсь.
Инга, тяжело дыша, осторожно забрала добычу у собаки.
– Твоя? А зачем тогда на помойку выбрасывал? – парировала она.
Лицо соседа налилось краской.
– На ппп… помойку?! – повторил он. – Это ж реликвия! Бабкина! Она всю жизнь ее с собой возила… ей лет знаешь сколько! Я приехал, гляжу – нету, весь дом перерыл. К жене мать в гости приезжала, так я на дачу свалил, от греха, – пояснил он и вдруг покраснел еще больше. – Теща! Это ее бзик – все выбрасывать… я им устрою! – и, прижав к себе куклу, зашагал по лестнице.
Муж приехал раньше, как чувствовал.
Штрудель молотил хвостом, влюблено глядя на хозяина: хорошо, что вернулся! Я тут такого с ней натерпелся!
– Думаешь, вру? – спросила Инга.
Он задумался.
– Не знаю… Ты – человечек впечатлительный…
– Я спятила, да?
– Вряд ли, – сказал он. – Кто знает, куда ты заглядываешь, когда творишь? В какие пределы? – он помолчал. – И что выглянет, если смотреть слишком долго…
Инга не ответила. Перед глазами стояли зеленые стены убежища и чей-то страшненький заяц с вышитыми глазами.
Дай монетку
– Дай монетку, – сказала девочка.
Ей было не больше пяти. Румянец на пухлых щеках, чумазые ладошки – наверно, давно гуляет. Платье с кружевными оборками и соломенная шляпка юной модницы. Круглые глаза смотрели открыто.
Я сидела в парке, коротая время до встречи. Не задумываясь, протянула блестящую десятку – сдачу от мороженого, не сомневаясь, что монета нужна ребенку для каких-то сугубо детских и важных целей.
Например, подбросить высоко вверх и уронить в пыль, посмотреть, орел или решка, и ответить на какой-то очень важный вопрос. Или поймать блик меж липовых веток Михайловского сада и пустить солнечного зайца гулять по аллеям. Или, подумаешь, что тут такого – добежать до барышни в фартуке, которая торгует миндальными орешками у входа, и получить хрустящий кулек, пока мама отдыхает где-то на скамейке.
Ребенок забрал монету и деловито упрятал в кармашек. Вдруг хорошенькая мордаха сморщилась, и девочка прогнусавила тоненьким, через нос, голоском:
– Спасибо, дай бог вам здоровья, и чтоб… чтоб… – она замялась, – а дальше не помню, – закончила простодушно.
– Ты чего? – спросила я ошарашено, – Зачем?.. Кто тебя научил?
– В трамвае услышала, – охотно ответила она, – а бабушка сказала – вот, видишь, ходят, на конфеты просят. А бабушкиной пенсии на конфеты не хватит. Сережа и так все время работает, не надо его обере… обе… обер… оберменять…
– Обременять? – уточнила я, – что ты, бабушка же пошутила, наверное!
– Наверное, – она стояла, рисуя туфелькой по земле, – а Сережа – мамин брат. Он учится на капитана и работает в порту.
– А мама? – спросила я и тут же пожалела.
– Мамы нет, – ответила она просто, – ой, вон Сережа бежит! – она замахала рукой.
По аллейке к нам несся долговязый тип. На лице его была смесь растерянности и облегчения.
– Аленка, – запыхавшись, произнес он, – куда ты пропала! Немедленно идем, – он пытался придать голосу строгость, – извините, – бросил мне, не глядя.
– Сергей Ревцов, одиннадцатый «Б» – сказала я.
Он затормозил и уставился на меня.
– Таня? Ты? – переводил взгляд с меня на Аленку. – Что ты тут делаешь?
– То же, что, по идее, должен делать и ты – жду времени «Х», чтобы идти на встречу одноклассников. Рада видеть тебя. Племяшка твоя – просто прелесть!
Я улыбалась, хотя на душе было муторно. Сережкину историю мне рассказал кто-то из ребят, и я не знала, как правильно вести себя с ним.
Брат и сестра, двойняшки, Сергей и Рита учились в параллельном классе, и компания у нас была общая. После Алых парусов жизнь, как водится, развела всех в разные стороны. Фото в социальных сетях и короткие поздравления в день рождения, и то – в лучшем случае.
Рита увлекалась туризмом, в одном из походов и познакомилась с будущим мужем. Они поженились, растили дочку, а три года назад погибли оба – глупо, в отпуске, на горном серпантине, так и не добравшись до реки, по которой собирались спускаться на плотах.
Сереге досталось. Забота о матери, крохотная племянница, потеря половинки – они с сестрой родились с разницей в пару минут…
Все это промелькнуло в голове. Подумалось, что человеку с таким грузом должны быть не интересны все наши мелкие хлопоты: учеба, свадьбы, встречи выпускников…
А потом решила – к черту! Это Серый, старый мой приятель, и я не вижу, чтобы он сильно изменился за это время. И если в школе мне удавалось уговорить нашу компанию на что угодно, то почему я не могу это сделать сейчас? Поэтому сказала:
– Вечер скоро начнется, поехали вместе?
– Нет, Танюш. Прости. Времени нет. Выходить на работу в ночь, Аленке обещал погулять, надо маму разгрузить, она не справляется, – забормотал он. – Не до этого мне сейчас, Тань. Без обид, ладно?
Алена, глядя снизу вверх, переводила взгляд с меня на него. Ветерок теребил кружева на шляпке. Я задумалась и спросила:
– Сколько у нас времени? До твоей смены?
– У нас? – вскинул брови Сергей, но сказал: – до одиннадцати, в принципе, я свободен, но Аленка…
Я кивнула и ответила:
– Есть одна тема!
Серега засмеялся:
– Уже лет как семь я перестал вздрагивать от этой фразы. Думал, что больше ее не услышу. Тань, ты не меняешься…
Люди, которые считают, что для развлечений нужно потратить уйму денег, напрочь лишены воображения.
В магазине мы купили пакет геркулесовых хлопьев и целый час дрессировали воробьев с голубями на площади Искусств, а поэт наблюдал за нами со своего постамента.
Перемеряли с Аленкой все шляпки в Пассаже, призвав в ассистентки продавщицу, озверевшую от скуки и вынужденного безделья.
Обойдя Казанский, заспорили, действительно ли глаза Мадонны похожи на безнадежные карие вишни, и рассказали ребенку историю кораблей «Юнона» и «Авось», придумав новый счастливый конец.
Погладили лапу грифону. Уговорили Серегиного знакомого – водителя речного трамвайчика – контрабандой покатать нас по каналам.
Вечерело, Аленка потихоньку клевала носом, когда мы решили: пора!
Однокашники встретили нас громовым «Ура!». Ребенка уложили дремать в одной из комнат, и три часа пролетели, как миг. Оказалось, что мы – все те же. Мальчики-девочки, обрастаем делами, заботами, а внутри – не меняемся…
– Только не вздумайте потеряться, – грозили нам ребята, шепотом, чтоб не разбудить девочку, – не пропадайте, слышите!..
Спящую Аленку сдали бабушке, а я вместе с Сережкой поехала в Гавань.
Мы стояли, глядя на воду.
– Мне пора. Странный вышел вечер, – сказал он, – и… удивительный, – он посмотрел на меня.
– Дай монетку, – попросила я.
Он выгреб из кармана горсть мелочи.
Я взяла монетку, и, подбросив, наблюдала, как она серебристо блеснула и ушла под воду, затерявшись в безлунной ряби залива.
Она такая милая
Зимнее воскресное утро началось как обычно – с эксгумации кошки. Не могу сказать, что прихожу в восторг от мероприятия, но привыкаю все больше. Это сближает меня с классиками остросюжетной литературы. «Я сам похороню своих мертвецов» Чейза. «Кладбище домашних животных» Кинга. К последнему все-таки ближе, ибо похороненная уже трижды, в это солнечное утро несчастная тварь возвратилась ко мне в четвертый раз.
Согласившись на прописку в доме щенка, я не могла и предположить, что мое решение повлечет столь частое повторение погребального ритуала. Собака взяла за привычку откапывать из-под снега разодранную кем-то кошачью тушку и приносить мне ее под окно.
– Здорово! Ты опять?! – приветствовал нас со шкурой Сашка-сосед. – Не надоело?
– Она как бумеранг. Все время возвращается. Попытаюсь зарыть сегодня поглубже. Лом одолжи, а то мой потерялся.
В нашем доме пропадают и более габаритные вещи.
– Вечная, стало быть, память! – Сашка отсалютовал ломом и протянул железяку мне.
Хотя, может, есть смысл рассказать по порядку?..
– Эта девочка ничего не будет тебе стоить, – совершенно по-зощенковски произнесла сестра. – Другого шанса у меня может не быть. Лет-то мне уже сколько…
Нет, опять не сначала.
Надо – так.
Жили-были у мамы две дочки. Старшая – дура. Младшая… а, тоже дура, что греха таить. Только еще и наивная. Поэтому именно старшая улетела на стажировку в Чехию, а младшая, то есть я, осталась дома с двумя собственными потомками и очаровательной пубертатной племянницей в придачу.
– Она заберет малышку из садика, накормит старшего. Она очень хозяйственная, и потом, – сестра вздохнула, – она же такая милая.
– Где двое – там и трое, – успокаивала меня соседка, – справишься.
– Так живут тысячи женщин, – припечатал бывший муж, – подумаешь, проблема. Ты умница. Все будет нормально.
И я согласилась.
Так, в один из дней, в облаке парфюма, с кипой сумок и пакетов, длинноногая и большеглазая, в неотразимом обаянии четырнадцати лет, в нашем доме появилась она.
Цапля.
Шкаф заполонили наряды. Содержимого косметичек хватило бы для обслуживания средней руки конкурса красоты. Дома с утра до ночи гундосили звезды МТV, книжные полки украсились фотографиями Цапли в бикини.
Выключенный обычно телевизор непрерывно транслировал Дом-2.
Старший потомок впал в нигилизм. В пику гламуру, не снимая, носил рваные джинсы и бандану с черепами, слушал рок и лишь презрительно фыркал на предложение присоединиться к семейному ужину.
Козявка требовала тушь и помаду, чтоб стать такой же красивой, как Цапля, и тайно таскала ее духи.
В целом получилось неплохо. Племяшка забирала из садика Козявку, сын приходил сам, и вся троица дружно ждала возвращения с работы кормящей матери, то есть меня. А я моталась из области в город, уезжая и возвращаясь затемно.
Оказалось, внутри каждого члена семейки установлен рубильник, отвечающий за громкость издаваемых звуков. Вваливаясь домой поздно вечером, я обнаруживала, что из положения «off» он тут же переключался в позицию «оn». Так детишки снимали стресс, передавая его, естественно, мне.
В тот вечер семейство встретило меня на редкость тихо. Сын предъявил дневник, не обезображенный красным. Дочь подарила картину – вдохновенные каракули четырехлетнего гения. Затравлено озираясь, я обнаружила до блеска отмытый пол и горячий чайник.
Настораживали взгляды, которыми украдкой обменивалась банда. Меня ждали.
И тут…
Появилась племянница с очаровательным толстолапым щенком на руках. Более грамотной презентации я не видела и у профессионалов. Картина маслом: девочка и пес. И дети, замершие, чтоб не спугнуть неосторожным воплем счастье.
Она гладила щенка и робко улыбалась мне. Показывала, какой он пушистый. Какие умные у него глаза. Какие уши – наверняка, почти овчарка.
…У нас по улице до сих пор бегает существо с лапами таксы и бородатой вытянутой мордой. Сосед купил на рынке щенка овчарки и назвал его Джип. Щенок вырос, и имя приспособилось под взрослый облик. Теперь это Вжик. Почти немецкая овчарка.
Впрочем, я отвлеклась.
Предъявив барбоса анфас и в профиль, Цапля рассказала, как намерзся бедный на улице, как плакал и скулил, как тяжко было ему на морозе.
– Ушки… и вот, смотрите какие зубы, вырастет, будет дом охранять. А глазки, глазки какие, прелесть… Она же такая милая, правда?
– Она?!
Да, щенок оказался сучкой. Как потом выяснилось, во всех смыслах.
Подоспели дети и, повиснув на шее, стали умолять, обещать все, что угодно, если я оставлю им этого чудесного, замечательного, самого лучшего на свете щенка.
Вы бы устояли? Ну-ну. Я не смогла.
– Ладно, – и, не успев договорить, тут же получила звание самой лучшей, доброй и даже красивой мамы на свете.
Щенка детки назвали Соней, заметив, что намерзшийся на улице бедолага спит сутками кряду.
Выяснилось, правда, что это имя остальным домочадцам сна не гарантирует. Собака дрыхла днем, когда семейство разлеталось по делам, а ночью была бодра и полна энергии. Выла, стучала, рычала, скребла… шуршала, роняла и даже один раз выстрелила из ружья, как померещилось мне с перепугу. Потом выяснилось, что она загрызла воздушный шар.
Чтобы не спятить в хаосе, нужно уметь находить плюсы во всем. Я нашла. И сказала Соне спасибо за то, что из ночи в ночь она освобождает жилище от лишних вещей.
Ну, по ее мнению лишних.
Первыми пали Козявкины игрушки. Признаюсь, я не очень расстроилась. Сейчас объясню.
С давних времен меня одолевают монстры. Мягкие игрушки всех мастей – медведи, зайцы, коты, ежи и собаки.
Собак почему-то больше всего.
Дом задыхается в грудах пушистых тварей. Ночью, тайно, когда все спят, я собираю их в кучи и тащу в сарайчик, где хранятся дрова. Порой случайно выхваченная фонариком укоризненная пара пуговиц-глаз едва не доводит меня до инфаркта.
Велика фантазия дизайнеров. У нас есть ультрафиолетовая собака. Малиновый заяц. Оранжевый бобер. Больше всего донимает лев размером с трехлетнего младенца. Он не лезет в стиральную машину и собирает всю пыль. Наш престарелый кот, покуда был жив, использовал его для эротических экспериментов.
Устала молить и угрожать – пожалуйста, не тащите ко мне в дом эту гадость!
Каждый раз с ужасом жду нового года. Шкурой чую, что умилительное – «какой хорошенький, правда?», будет сопровождать очередного тотемного мутанта.
Если я пробую очистить дом от заразы, дочь всегда успевает накрыть меня с поличным. Плюшевые твари пересчитываются, нумеруются и водружаются на места.
Я безнадежно проигрываю битву с ними.
Но теперь у меня появился союзник!
С трудом скрывая улыбку, я выносила растерзанных зверюг на выход, неубедительно ругая псину и обещая дочери пополнить плюшевые запасы.
Если говорить начистоту, это и был единственный плюс нашего с щеночком совместного бытия.
Мелкие зубки рвали обои, подгрызали гипрок перекрытий. После зверюгу тошнило, а в свободное от рвоты время она избавлялась от содержимого желудка противоположным, так сказать, способом.
Между физиологическими отправлениями тварь спала, выла или истребляла те предметы, которые домочадцы не успели спрятать повыше.
В доме исчезли парные тапочки. Я, к примеру, щеголяла в одном розовом и другом черном. Оба – с правой ноги.
Некоторые развлечения псины носили явно суицидальный характер. Возможно, сказалось уличное детство.
Соню тянуло к электричеству.
Провода, компьютерные мыши, зарядные устройства безнадежно сгинули в ее пасти. Резиновые косточки, мячики и прочие погремушки не пользовались спросом – собаку влекли 220 вольт.
Честно сказать, после того, как баскервильская тварь, как я про себя любовно называла нашу зверушку, выгрызла кусок новенького дивана, у меня возникла слабая надежда, что один из проводов окажется под напряжением.
Энтузиазм детей по поводу щенка иссяк через неделю. После нескольких материнских истерик удалось достичь соглашения: Цапля кормит собаку и убирает все, что из нее выходит тем или иным способом, а сын выгуливает тварь и ликвидирует последствия работы ее зубов.
Это вызвало небывалый всплеск творческой активности. Цапля записалась в кружок журналистики, сын возобновил занятия дзюдо. Обнаружилась масса друзей и подруг, у которых детки гостили допоздна с тем, чтобы предоставить другим возможность разбираться с безобразиями питомца.
Угадайте с трех раз, кто варил для барбоски баланду и выгуливал ее?
Правильно. Садитесь, пять.
Зиму сменила весна, Цапля возвращалась по вечерам все позже. Потомок мрачно вел реестр ее кавалеров. Последнего из женихов Козявка охарактеризовала исчерпывающе:
– Леша – красивый мальчик.
– Солнышко, а что у него красивое?
– Лицо. И попа!
Сестра прислала из Чехии открытку и поздравления с наступившей весной.
Собака росла и на овчарку походила все меньше. Может, в окрасе и было что-то похожее, но, если судить по характеру, на первый план выходило предположение на грани абсурда: мать нашей Соньки согрешила с экскаватором.
Собака рыла грунт с энтузиазмом землеройной машины. Двор украсился ямами. С прогулок она неизменно приносила трофей – к примеру, кошачью шкуру, которую мне приходилось зарывать все глубже.
Солнце пригревало, на огородах появились первые всходы. Барбоска росла, и соседи уже намекнули, что если мы хотим видеть собаку в добром здравии, пора строить будку и привязывать ее на цепь.
Мы посмеялись – какая цепь для щенка-недопеска! Однако вскоре лишились полудюжины поводков, а собака безнаказанно бороздила соседские огороды.
А как она у нас умела улыбаться! Стоило ей вырваться на волю и перепахать чужую грядку, на морде появлялось блаженное выражение.
После землеройных работ ее можно было брать голыми руками. Исполнив долг, она не сопротивлялась неволе. Добровольную помощницу приводили нам на крыльцо соседи:
– Сидит, главное, около грядки, с огрызком поводка на шее, и улыбается…
Цапля являлась домой все позже – готовилась к экзаменам у подружки. Сын мрачно намекал, мол, знает он этих подружек.
Чтоб опровергнуть инсинуации, Цапля притащила мне халтурку – экзаменационный реферат на тему «Любовь в жизни и творчестве М. Ю. Лермонтова».
Количество часов для сна еще сократилось.
Сестра сообщила, что задержится на пару-тройку недель.
С горем пополам соорудили для твари будку и добыли цепь, чтоб зафиксировать псину в родных пределах. Не тут-то было!
Возвращаясь с Козявкой домой, мы застали такую картину.
Ошалев от счастья, по улице неслась собака со всеми тремя метрами новенькой блестящей цепи. Полоскались по ветру уши, безостановочно, пропеллером, молотил хвост. Тварь улыбалась.
Боги мои, как она улыбалась – во всю зубастую пасть, визжа и подпрыгивая от переполнявшего ее счастья.
Следом за цепью волочилась доска-сороковка от будки, отодранная собачкой в прогулочном энтузиазме. Она ничуть не мешала барбоске передвигаться с бешеной скоростью.
Пыль из-под лап да неровная борозда от доски, утыканная гвоздями с обеих сторон.
Нам повезло: собака встала на якорь, когда форсировала канаву. Тут мы ее и повязали.
Цапля готовилась к выпускному балу. Возвращалась за полночь, игнорируя мои звонки.
Сестра лепетала в телефон, что мне не о чем беспокоится, она доверяет дочери на все сто. Мы обе умные девочки, все будет в порядке.
Реферат вернули на доработку. В ночных кошмарах мне являлись дамы в кринолинах. Мадам Лопухина неодобрительно щелкала веером.
У собаки началась первая течка. Мы не сразу разобрались, что к чему. Когда поняли, было поздно. Процесс пошел. Барбоску ежечасно осаждали кавалеры, и даже лай ее приобрел новые интонации – хрипатые и призывные.
В один из вечеров мне открылось будущее.
Я увидела, каким отцом станет мой сын. Как будет он оборонять свою дочь (мою будущую внучку) от нежеланных посягательств.
С перекошенной от ярости физиономией и дрекольем наперевес несся он в атаку на осаждавших двор поклонников Сонькиной красоты.
Мы попытались изолировать псину, заперев ее в баню. Барбоска прорыла подкоп и оказалась снаружи на очень коротком поводке. Это не помешало ей принять в объятия очередного нахала.
Сын проникся презрением к женскому полу вообще и нашей развратной собаке в частности. А я поняла, что разговоров о пестиках и тычинках вести не придется.
Приезд ветеринара избавил собаку от бесплодных мечтаний, а мой кошелек – от суммы, которой хватило бы для покупки вагона успокоительных таблеток.
Приезд сестры избавил меня от бессонных ночей. Вечером, накануне эвакуации Цапли, у нас состоялся разговор:
– Девочка хочет остаться с вами. Ей тут хорошо, она же вон какая помощница, правда? – говорила сестра с нажимом. – Как ты одна с двумя детьми? А тут помощь по хозяйству. А у меня только налаживаться стало. Может, оставишь еще на годик?
Вопрос удалось уладить контрвопросом: сестра сейчас заберет Цаплину собачку, или приедет за ней позже?
После этого обе родственницы растворились в ночи со сверхзвуковой скоростью.
Собака до сих пор с нами. Мы привыкли. Это вошло в ряд добрых традиций. Как дань ветеринару. Как вечерний вой. Как разборы полетов с соседями.
Как добрые друзья по выходным.
– Юльчик! – услышала я за дверью жизнерадостный вопль поэта, – наконец-то мы до вас добрались!
– Мы?
– Я тут привез тебе кое-кого. Оленька на Валаам уезжает, ей не с кем оставить кота. А у тебя вон сколько места, и зелень, и вообще. У меня ему плохо будет, в квартире, а у вас – раздолье. Я же знаю, ты не будешь против. Ты же спокойно к зверью относишься, и потом, он такой…
–…милый, – со вздохом закончила фразу я, впуская поэта с котом и понимая, что момент, когда можно было захлопнуть дверь, безнадежно утерян.
Шестьдесят плюс
Ольга тряслась в маршрутке, глядя на бесприютный апрельский пейзаж. Ай да подруга: не успела приехать на дачу, а уже обзавелась привидением. Или, что хуже, грызунами. Призраки ладно, а вот крысы…
Позвонила Лидка вчера, жаловалась на бессонную ночь: то стучало что-то в доме, то грызло. Всхлипнула:
– Леля, приезжай!..
Познакомились они, страшно вспомнить, пятьдесят лет назад. Юная Ольга перешла тогда в новую школу.
Как-то на переменке дверь кабинета распахнулась, и из класса вылетела долговязая девчонка с двумя каштановыми хвостами. Девица рыдала в голос. За ней выплыла модная дама и бросила через плечо:
– Не смейте так обращаться с моей дочерью!
Через секунду появился всклокоченный математик. Взревел:
– Подождите! – и рванул следом.
Ну и порядочки тут, – подумала Леля.
Глазастую дылду звали Лидой. Учитель вкатил ей пару, она разревелась, а мама случайно оказалась поблизости…
Лидкины слезы закручивали вихрь последствий. Плошки глаз наполнялись влагой, рот распяливался коромыслом, хвосты от обиды начинали дрожать – и сам собою вокруг возникал ураган.
И если бы только в школе! Этот способ движения по жизни она усвоила как основной.
Автобус подкатил к остановке. Лида встречала подругу. На свой возраст она не выглядела и очень этим гордилась, храня в сердце каждый полученный комплимент.
Ольга относилась к этой слабости иронически. Сама не скрывала года, поскольку знала, что друзья любят ее за легкий нрав и участие, а вовсе не за умение в шестьдесят выглядеть на полтинник.
Общались они не часто. Лида редко беспокоила друзей: вдруг им некогда? Звонила только по делу. А Леля выходила на связь просто так: узнать, все ли в порядке.
То, что одной казалось назойливостью, другая считала заботой. То, что Ольга называла высокомерием, было для Лидии деликатностью.
И так – во всем. Одна – плакса, другая – хохотушка. Одна – высокая томная шатенка, другая – маленькая бойкая блондинка. Гремучая смесь для поклонников.
В доме у Лидки было тепло, но сыровато и не обжито после зимы. В печи трещали поленья. Пока обсудили новости, сумерки загустели.
– Как у Валюши дела? – спросила Лида.
– Дениска приезжал. Большой вымахал!
– А помнишь, как мы ему полис подделывали?..
Валя, их приятельница, собственного внука увидела первый раз, когда тому исполнилось четыре года. Малыш родился и жил в США, приехать в Россию раньше не получилось. А тут, наконец, дочь Дениску привезла. А сама улетела обратно – работать.
И осталась Валя с внуком-американцем. Он – по-русски ни слова. Она – по-английски ни гу-гу. Что делать?
И стал Дениска внуком полка. Подруги свою малышню брали, приезжали в гости, вместе гуляли – чтоб парень язык осваивал. В театры таскали, на экскурсии – должно дите корни свои знать!
А когда Денис заболел, даже на преступление пошли: с помощью полиса Ольгиного внука, Лидкиных художественных талантов и цветного ксерокса сфабриковали пацану липовый полис, по которому и вызывали врача. А что делать? Не было у мальчишки нужного документа.
Дениска через полгода, когда уезжал, по-русски болтал вовсю.
– Старушонки-разбойницы, – сказала Лида.
– Да не кокетничай! – отмахнулась Ольга. – Сама все знаешь. Смотрю я на нас… все тот же ветер в голове. Хоть башка и седая. Не изменились. Меня вот этой осенью соседи в Карелию брали. Приезжаю, а домочадцы орут: где тебя носит?! А я не пойму: в чем дело-то? В лесу связи нет, виновата я, что ли?
– А с кем ездила?
– С Петровыми, Светой и Аликом, на машине. С палатками и собакой.
– Ага. Со стороны теперь глянь: трое пенсионеров, «шестьдесят плюс», как сейчас пишут, с пожилой истеричной овчаркой, на Ладе-Калине пропадают в карельских чащах на неделю. И как, если что, вас искать? Ты об этом подумала?
– Ну, мне дочь так примерно и сказала. И до меня дошло: а ведь, правда: сломайся машина, или с что водителем случись – куда нам?..
– О возрасте приходится помнить, – вздохнула Лида.
Вышло не натурально – уж кто-кто, а она в глубине души считала себя моложе и современней подруг, вместе взятых.
– А сама? – засмеялась Ольга. – Молчала бы! Кто ко мне на юбилей в гипсе прискакал? Вот объясни, зачем ты влезла на ролики?
– А что такого? Были с коллегами на пикнике, я решила попробовать. Кстати, – оживилась Лидка, – гипс оказался очень удобным: пластиковый, съемный. Не то, что раньше.
– Польщена, – съязвила Леля. – Ко мне на праздник подруга прибыла в вечернем… гипсе!
Ччч-пок! – раздалось откуда-то.
– Началось, – объявила Лида. – Вот и вчера так.
– Ты же инженер, – напомнила Леля. – С веранды стучит. Дай-ка я свет там зажгу…
– Стой, – вскричала подруга.
Но выключатель щелкнул, и стало темно. Только бросала красные отсветы печка.
– Коротнуло. Проводку надо менять.
– Где ты раньше была?! – возмутилась Ольга. – С электричеством шутки плохи. Не дай бог, пожар…
Лида вспомнила, как лет восемь назад у Ольги сгорела дача. Жарким июльским днем, когда дома остались только она и внук. Леля выпихнула мальца из окна, сама выбралась, вызвала пожарных. До сих пор на руке следы от ожога. Молодцом держалась тогда: ни слез, ни истерики.
А спустя год, в такое же знойное марево, спичкой пыхнул дом через улицу. Лида гостила у Ольги тогда. Во времянке жили, готовились заново строиться. И места всем почему-то хватало. Хоть тесновато было, но весело.
Вспыхнул соседский дом, треск пошел – сухой, страшный – ни с чем не спутаешь: так пламя азартно дерево жрет. Дым повалил густой, столбом прямо в небо.
Лида увидела, как подогнулись у Ольги ноги, и едва успела подхватить. А та кричала в голос, слезы градом текли – накрыло запоздалой истерикой. Не замечая, как бегут к ней родные, выкрикивала боль, которую закопала в себе глубоко…
Отстроились они потом заново. Но не сразу. Когда опускались руки, и Ольге казалось, что ничего у них не получится, Лидка тащила ворох журналов, проспектов строительных, и обе яростно спорили, каким дому быть.
Когда Лелька хватала карандаш и сама начинала рисовать планировку, понимала подруга – кризис прошел. А дом-то теперь – стоит!
– Ладно, – сказала Лида. – Давай спать. Рассветет, посмотрим, что щелкало.
Зажгли свечу, постелили. Лежа без сна, слышали каждый звук. Выл ветер под крышей, ветки стучали в стекло.
– А мне Петр недавно снился, – сказала Лида. – Веселый такой.
Именно она познакомила Ольгу с будущим мужем: знала Петьку с самого детства, их семьи дружили. А Петр, как увидел Лелю – пропал. Поженились они и жили вместе без малого сорок лет…
– А мне – нет, – откликнулась Ольга. – Будто обижается.
Год назад Петя умер. И совсем не приходит во снах – может, и вправду на что-то обиделся?
– Вряд ли. Он тебя любил, – ответила Лида. – Подойдет, скажет: Лелька у меня знаешь, какая? И так это скажет!
Ольга услышала всхлип. И у нее в носу защипало.
– Не то, что Пашка! – Лида вспомнила старую обиду. – Вечно меня критиковал! До мелочей докапывался: зачем, мол, я в котлетах два раза фарш проворачиваю? Ел, главное, за ушами трещало, а – выговаривал!
– Да вы развелись… сколько? Пятнадцать лет назад? А все злишься, – Ольга почувствовала, что отпускают слезы, – а помнишь, как ты из-за него топиться пошла?
– А ты потом ржала!
– Ну, в самом деле, Лид, – в который раз стала объяснять Леля, – я как увидела тебя, в алом пальто и белом шарфе, в тех длиннющих сапогах, испанских…
– Итальянских, – поправила Лида.
– Ага, итальянских… идет, значит, стильная, эффектная дама, при макияже, прическе, мужики шеи сворачивают… Спрашиваю – куда? А ты – на Неву, говоришь, топиться…
– А потом ты меня кофе с коньяком отпаивала, и рассказывала, как это со стороны выглядело…
– Ага, женщина идет топиться: красит губы, наматывает театрально три метра шарфа…
– Надо было булыжник с собой прихватить, из квашеной капусты – на шею…– Лидка не удержалась и тоже хихикнула.
Что делать: подруга умела в драме видеть курьезное. И о своих неприятностях рассказывала так, что народ стонал от смеха.
– Вечно ты так вывернешь, что не хочешь, а засмеешься.
– Зато ты всегда найдешь повод для слез, – откликнулась Ольга. – Помнишь, в Израиле?..
В Израиле Лидка потерялась у Стены плача. Если подумать – закономерно.
Вышла из автобуса, и накрыло бездонным небом, жарой, вавилонским многоголосьем. Постояла чуток, оглушенная, а когда в себя пришла – автобуса след простыл. Тщетно металась среди туристов, и, наконец, занялась тем, чем положено – даже исходя из географической точки. Заревела.
– Господи, – сказала она, обращая мокрые глаза к небу, – я к тебе приехала, а ты меня потеря-яяя-л!
Поплакав, позвонила Леле, даже не подозревая, какой вихрь за тысячи километров от себя закрутила: подруга облазила Интернет в поисках карты Иерусалима на русском. Лида смотрела на присланные сообщения, но слезы застилали глаза.
Вдруг кто-то протянул ей носовой платок. Чернокожий экскурсовод взял ее за руку и повел через лабиринт людей и автобусов. Он был похож на Луи Армстронга. «Let my people go!» – пронеслось в голове. Она увидела, как машут ей товарищи-экскурсанты.
Армстронг посадил ее в автобус и поцеловал на прощание в лоб. Водитель на всякий случай закрыл дверь.
– А я еще два часа карты штудировала, – проворчала Леля.
Чпок! Чпок!– раздались щелчки.
– Опять, – простонала Лида.
– Идем! – Ольга решительно встала.
Дверь на веранду была заколочена.
– Я ее до лета отпирать не хочу, – пояснила Лидка. – Чтобы банки не растащили.
– Банки? – Леля повысила голос.
Чпок! – утвердительно раздалось с веранды. Лида хлопнула себя по лбу:
– Там же варенье, я осенью не увезла…
– А теперь потеплело и банки пошли взрываться…
– Склероз, – признала подруга.
Ольга подумала, что дело не в склерозе и банках. Просто нашелся предлог, чтобы встретиться. Лидке обязательно нужен повод. Такая уж есть.
Они вернулись в дом, заварили чай и подбросили в печку поленьев.
Глядя на огонь, долго неспешно беседовали и за разговорами не заметили, как в зябкой апрельской тьме прорезалось лучами холодное утро.
Бабуля, ты где?
– Ну маааам! – голос внука звенел.
– Ни за что! – дочь держалась до последнего.
– Мам, мне уже двенадцать…
– Через мой труп!
– До фестиваля «Нашествие» осталось три недели! – прозвучала реклама.
Нина Петровна услышала, как громко и досадливо щелкнуло, будто кто-то в сердцах выдернул магнитолу из розетки.
Стало тихо.
Егор вылетел из комнаты родителей, накинул куртку и хлопнул входной дверью.
– Довоспитывались, макаренки, – подытожил дед.
Дочь влетела к ним:
– Ну что, я не права? Нет, вы скажите?! Вы бы отпустили?
– Любите внуков – они отомстят вашим детям, – съязвил дед.
Зря он так: дочь изо всех сил старается быть правильной. Даже чересчур, подумала Нина Петровна.
– Вы меня никуда не отпускали! – продолжала дочь.
– Да? А в поход на байдарках в седьмом классе?
– А на Азовское море в восьмом? А…
– Время было другое! Я не могу с ним ехать. Да и не хочу: у меня от этих хрипов голова болит!
– А еще говорила, что мы ее душим и угнетаем, – злорадствовал дед.
Он сидел за столом, уютно разложив 1000-фрагментный пазл. Собирал картину Айвазовского.
– Папа, вечно ты! – дочь стояла, набычившись. Кудрявой головой, упрямым взглядом напоминала Егорку. – Мам, ну что ты молчишь?! Считаешь, я не права? Ты бы одного отпустила? Вот скажи – да или нет?!
Повисла пауза. Тишина густела, готовая взорваться ссорой, или пшикнув, как спичка в банке, стухнуть натянутым молчанием. Не разговаривать эти двое умели виртуозно, а Нина Петровна терпеть не могла.
– Нет, – сказала она, – одного бы не отпустила.
Дед поднял голову. Дочь смотрела победно.
– Я б с ним поехала.
– И езжай! – дочь вылетела из комнаты.
Внук был в шоке:
– С бабушкой?! Может, лучше с дедом?
Дед поднял глаза от пазла. С ним все понятно: от Айвазовского теперь не оторвешь.
– Ты не можешь ехать! – сказала дочь, – ты рассеянная! А там сто тысяч народу будет! вы наверняка потеряетесь!
– Тогда езжай сама, – парировала бабушка.
– Не поеду и вас не пущу. Я…
Нина Петровна подняла бровь. Дочь моментально утихла. Еще с детства, увидев это выражение маминого лица, она понимала, что шутки кончились.
Рефлексы детства неистребимы. Так огромный дог прячет голову под диван, увидев в руках хозяйки свернутую газету, которой его наказывали в щенячестве.
– Мы едем, – бабушка обернулась к внуку. – Разговор окончен.
Вагон был полон молодежи. Длинноволосые, бритые, с цветными ирокезами, татуировками, в черных косухах с заклепками, в футболках с портретами музыкантов или странными надписями «Укушен Шаинским», «Дантес – подлец». Простоволосые девушки в длинных юбках, с браслетами на руках и ногах, ярко раскрашенные панки с гребнями. Ехали в одиночку и группами, с удочками, гитарами, огромными рюкзаками и букетами роз. Переговаривались, знакомились, пели, играли в нарды, а одна девушка рисовала, сидя на полу меж рюкзаков.
Вагон шумел всю ночь, и заснуть было невозможно. Егорка лежал на верхней полке и таращился в окно, засунув в уши плеер.
Внука раздирали противоречия: с одной стороны, он был счастлив. С другой – стеснялся бабушкиного не рок-н-рольного вида.
– Ба, тебе в джинсах удобней будет, – уговаривал он перед отъездом.
– Никогда не носила и сейчас не стану! – отрезала она. – И футболку с черепами оставь себе!
Экипировалась предельно практично: юбка, любимая вышитая блузка с васильками (на счастье, подумала суеверно, когда одевалась), ветровка. В этом наряде она себя прекрасно чувствовала, но выглядела, как…
– Обычная дачница, – сказал Егор.
– А что плохого в дачниках?
– Ничего. Но мы же едем на фес-ти-валь!
Зато Нина Петровна не вызвала подозрений у соседки по купе, тоже дачницы, и коротала время за беседой.
– В желе из красной смородины я вишню добавляю, для аромата, – говорила та.
– Да-да, еще с грушей неплохо, – кивала бабушка.
В начале вагона кто-то взял особо пронзительный гитарный аккорд и заорал:
– Подъем, Нашествие! Выходим!
– Понаедут, демоны, – покачала головой соседка, – как саранча. У меня за тридцать километров голова гудит от их музыки. Как у них мозги-то не лопнут?!
– Бабушка, слышала? выходим! – Егорка свесил голову вниз.
Как чертик из табакерки. И, правда, похож: волосы дыбом, футболка с оскаленной рожей, браслеты с шипами на руках.
– Слезай, горе мое!– вздохнула Нина Петровна. – Счастливого пути, – кивнула остолбеневшей соседке и, подхватив сумку, двинулась к выходу в обществе волосатых демонов.
В этой компании они с Егоркой выплеснулись из поезда и побрели по дороге, с обеих сторон окруженной ОМОНом.
– Какие бравые ребята! – восхитилась бабушка. – Но зачем их столько?! От кого нас тут, в полях, охранять?!
– Боюсь, мадам, – галантно встрял бородатый детина в майке с Чебурашкой, – что они охраняют эти поля, гм, от нас.
Было видно, что Егор нервничает. Переспрашивал, на месте ли билеты, волновался, что у него отберут на входе заклепки и любовно изготовленное знамя группы «Пилот», что бабушка вдруг в последний момент передумает.
На фестивальной таможне Нине Петровне пришлось отстаивать свое право на крючок и вязальные спицы:
– Чем мне прикажете тут заниматься? Плясать, что ли?
Внук потащил ее к сувенирным лавкам.
– Ба, давай тебе купим футболку «Я пережил Нашествие», – предлагал он.
– Может, для начала его переживем? – осторожно парировала она.
– Ну, тогда хоть бандану?
На бандану Нина Петровна согласилась, но увидев посреди лба надпись «Крематорий», вернула ее внуку обратно и достала из сумки шляпу с полями.
– Дачница, – припечатал Егор.
Приехали они с утра, и пока разложили палатку, осмотрелись, где сцены, вода, еда, медпункт и прочее, палаточный городок вырос вдвое.
На палатках развевались флаги, и география фестиваля оказалась обширной: Тула, Новгород, Калининград… и даже Владивосток!
Устроились уютно: палатка, коврики, термос с горячим чаем, складные стулья. Вокруг стрекотали кузнечики, пахло травой, зудели комары.
– Ой, – спохватилась она. Мазь от комаров мы забыли!
– Все будет ништяк, – ответил сосед, чья лохматая голова торчала из палатки под флагом «Чижа» – когда фест начнется, комаров сдует. Вибраций они не выдерживают.
Нина Петровна задумалась: она, конечно, не комар, но… ох, права дочь: безалаберная у нее мать.
Раздался звонок. Легка на помине!
– Вы где, мам? Как дела?
– Нас высадили из поезда за контрабанду, бредем по шпалам. Шутка.
Услышала в трубке шипение.
– Шуточки у них! А мне отец весь мозг выел, что я его без жены и внука оставила. Вам там хорошо, с Егоркой. А я тут…
– Приезжай, – предложила она.
Народу прибыло. Если с утра в палаточный лагерь текли людские ручейки, днем – речушки побольше, то к вечеру полноводный человечий поток хлынул на фестивальное поле.
– Скоро начнется! – Егорка приплясывал на месте. – Ты… пойдешь? Или тут посидишь?
Нина Петровна вспомнила пророчество дочери и поднялась. Егор был явно разочарован. Она его понимала: крутой металлист двенадцати лет в сопровождении бабушки в шляпке. Но и ряженой быть в угоду внуку она не собиралась. Так и до татуировок дело дойдет. Быть собой гораздо приятнее.
Тем более, что народ собрался всех возрастов, от мала до велика, и никто не таращился на других, не показывал пальцем.
По-доброму как-то все было. По-нашему. Она даже заметила барышню в интересном положении. На майке, в области живота, была надпись: «я тоже приехал на Нашествие».
Фестиваль начался. Они пробились поближе к сцене.
В первые же пять минут Нина Петровна поняла, что если она не комар, то, наверно, ближайший родственник. И даже испытала сочувствие к кусачим тварям.
Выяснилось, что и она не может выдержать такой звуковой мощи. Голова почти сразу стала раскалываться.
Егорка же хлопал в ладоши, пел, скакал, как сумасшедший, и, похоже, чувствовал себя, как рыба в воде.
Убедившись, что внука можно оставить, она вернулась к палатке.
Оказалось, и тут все прекрасно слышно! И музыку можно разобрать, и голова не трещит.
Она выпила чаю, достала вязание и, сидя на стульчике под ласковым вечерним солнцем, принялась вязать деду шарф.
Какой-то парень, покачиваясь, подошел и долго задумчиво на нее смотрел. Потом опустился рядом. Не сел, а словно бы даже стек. Сказал доверительно:
– Поднимите мне веки! – и головой ткнулся в землю. На спине у него белела надпись «Будить!»
Нина Петровна опасливо отодвинулась. Пьяный? Вот, началось. Говорили ей: тут одни пьяницы и наркоманы, а она не верила. Тронула спящего за плечо.
– Не поможет, – сказала девушка, юная и хорошенькая. Колечко в носу и розовый цвет волос совершенно ее не портили.
Она озабоченно посмотрела на спящего и достала из сумки бутыль с водой.
– Валик, – сказала она, – доброе утро! – и вылила воду ему на голову. Целую бутылку.
Тот открыл глаза и улыбнулся.
– Валентин, – представился он. – Извините.
– Валик вез нас из Ростова, – пояснила девушка. – Он двое суток не спал. А теперь ждет концерт Шевчука. Потому что, если он заснет, его никто не разбудит.
– Проверено, – улыбнулся Валик. – Если вы меня сегодня еще увидите, и я стану спать – пожалуйста, разбудите.
И побрел на закат, осторожно перешагивая веревочные растяжки палаток.
– Ой, а это вы столбиком с накидом? – заинтересовалась девушка, рассматривая вязание.
– Без накида, – охотно пояснила Нина Петровна.
– А почему тогда здесь такое выпуклое?
– А вот, смотрите, – и она ловко показала, как нужно продевать крючок.
– Подождите-подождите, я так забуду. Сейчас! – девочка уселась на землю, и из той же необъятной сумки достала клубок и нитку.
– Вот ты где! – еще два паренька и девчонка с гитарой присели рядом.
– Я свобооооден! – особо пронзительно проорали со сцены.
– Ну, свободен, и чего так голосить, – проворчала бабушка.
– Кипелов отжигает, – засмеялись ребята.
Девушка заиграла на гитаре, напевая тихонько. Хорошая была песня: про росу, про дикие травы, про рассветы и нехоженые дороги.
– Какая песня красивая, – восхитилась Нина Петровна.
– Это Хелависа. Завтра выступать будет. Пойдете с нами слушать? Мы зайдем.
Егорка вернулся уже под вечер, когда стемнело. Прожекторы со сцены, огоньки киосков и игровых площадок бросали отблески на палаточный лагерь.
Народ все приезжал, и каждую минуту ландшафт менялся: вырастали новые палатки, и найти свою, оставленную даже на полчаса, было непросто.
Ручные фонарики освещали людям путь. Ловушки из палаточных растяжек заставляли народ ежеминутно спотыкаться, беззлобно ругаясь. То и дело слышалось:
– Осторожно! человек спит!
Это значило, что кто-то устроился в спальном мешке под открытым небом. Приходилось внимательно смотреть под ноги.
Нина Петровна уже начала беспокоится, когда…
– Еле нашел! – радостно заорал Егорка.
Он пришел голодный, счастливый, переполненный впечатлениями. Наконец у бабушки появилась возможность проявить себя, как положено: расспросить, выслушать… и заметить, что глаза у сурового металлиста уже слипаются.
– Сейчас Земфира будет петь, а Шевчук не приехал. Говорят, может, завтра? – и, заползая в спальный мешок, уснул на полдороги.
Утром было забавно наблюдать, как просыпается лагерь. Муравейник из бесчисленных палаток, знамен и спальников. И изумленные лица тех, кто впервые увидел это при свете дня.
Планы у Егора были грандиозные. Он твердо решил увидеть все и объять необъятное.
– И ты погуляй, – великодушно предложил он бабушке. – Тут много интересного.
– Я, наверно, здесь останусь, – пожала плечами Нина Петровна, уверенная, что так и будет.
Но судьба распорядилась иначе.
Сначала за ней явилась розоволосая любительница вязания и потащила на концерт Хелависы.
– Мне отсюда слышно, – заупрямилась бабушка.
– Вы должны ее видеть, – отрезала девочка.
Пришлось идти – не обижать же хороших ребят?
Девочка оказалась права: никак не ожидала Нина Петровна, что хрупкая девушка на сцене обладает таким волшебным голосом. Пела, как ворожила.
И публика была совсем другая: не суровые кожаные бородачи, а ясноглазые мальчики-девочки, будто вышедшие из эльфийских лесов, чтоб послушать.
А потом в небе зарычало, загудело, и началось авиашоу. Нина Петровна немедленно позвонила мужу.
Большой знаток летательных машин, он оторвался от пазлов и терзал ее полчаса, требуя подробного отчета, что летает и как. Тут бы ей заметить, что телефон подозрительно пискнул, предупреждая о разряженной батарейке.
Но она внимания не обратила и твердо решила идти домой, в палатку, только одним глазком заглянуть, чем заняты люди под огромным зеленым шатром.
Это было ошибкой.
Вошла и пропала. Тут играли в настольные игры.
Она присела на свободное место. Играли в Словодел, и она тут же оказалась в команде. Выбраться теперь до конца игры не было никакой возможности.
То и дело раздавались жалобные стоны:
– Ребята, выпустите… там «Пилот» выступает…
– Сиди! – отвечали товарищи, – доиграешь – выпустим.
И страдалец вытягивал шею, глядя на огромный экран, на котором транслировали выступления музыкантов как раз для тех, кто не смог пробиться к сцене.
Сколько времени прошло, Нина Петровна не заметила.
– А вы, случайно, не бабушка Егора? – обратилась к ней незнакомая девушка в ярком купальнике.
Она удивилась и кивнула.
– Я нашла!!! – вдруг закричала девушка так, что все обернулись. – Вот она, наша бабушка в шляпке!!!
И показала пальцем на световое табло.
Нина Петровна увидела на нем свое имя. Услышала голоса ведущих концерта:
– Посмотрите внимательно друг на друга и убедитесь, что рядом с вами нет бабушки в шляпке. Спросите, не видел ли ее ваш сосед. Посмотрите по сторонам.
– Если вдруг она оказалась рядом, проводите ее к главному входу. Бабушка, найдитесь, вас ожидает внук Егор.
Через полчаса Нину Петровну знало все Нашествие.
– Это она! – кричали ей. – Бабушка в шляпке!
Егор у входа стоял мрачный. Увидел ее, тут же просиял:
– Ну, ты даешь, бабуля! Телефон выключен, в палатке нет. Так меня напугала! Я маме клятву давал глаз с тебя не спускать. Уф…
Поздним вечером они сидели у палатки.
– Сейчас Шевчук будет выступать, – сообщил Егор. – Но я, наверно, отсюда послушаю, – и зевнул. Стало понятно, что слушать он будет в горизонтальном положении. И, скорее всего, во сне.
– В душ иди, – она протянула внуку полотенце и фонарик. Парень кивнул и растворился в ночи.
Вернулся совсем сонный:
– Представляешь, там в умывальнике один парень спит стоя! А на футболке, главное, надпись: «Будить!». Но все его жалеют и не трогают.
– И ты не разбудил?!
– Я что, дурак, лезть к человеку?!
– Это Шевчук поет? – уточнила она.
– Ага.
– Идем!
– Куда, бабуль?! – вопросил внук, но она уже шла, переступая через растяжки.
Никто не посмел остановить пожилую даму, прошагавшую в деревянный сарайчик, служивший на время фестиваля мужским умывальником.
Валик-Валентин, водитель из Ростова, стоял, упершись лбом в стену. Он спал.
И спал крепко.
Она огляделась и увидела в углу пустое ведро.
– Извините, – сказала она, отодвинув от умывальника тощего молодого человека, – нам срочно. И подставила ведро под кран.
Ведро тяжелое, Валик – высокий парень, им с Егоркой до макушки ему не достать.
– Пожалуйста, – сказала Нина Петровна, обращаясь к тощему, – вылейте это ведро вот на него. Мне не дотянуться.
– Я что, больной? – обалдел тот.
– Вопрос жизни и смерти, – отрезала она, – он вам спасибо скажет.
– Не уверен, – засомневался тот.
Но все-таки поднял ведро повыше и опрокинул на Валика.
И отскочил.
Валентин покачнулся. Поднял голову, открыл красные глаза и увидел тощего парня с пустым ведром.
Кулаки его сжались.
Нина Петровна вышла вперед.
– Валик, – сказала она, – Шевчук уже выступает. Пойдем. Мы проводим тебя, а то заблудишься.
Валик прислушался. Лицо его просветлело.
– Спасибо, братишка, – сказал он парню, державшему ведро, как щит.
Егорка потом рассказывал в красках про этот бег среди растяжек. Он впереди, светя фонариком, за ним Валентин, и бабушка в замыкающих – чтоб подопечный не заснул по дороге.
Они выбежали из палаточного городка, и понеслись к основной сцене. Валентин, услышав голос любимого музыканта, развил прямо-таки космическую скорость. Егор не отставал – все-таки бабушка поручила присмотреть за этим парнем.
Когда Нине Петровне удалось добраться до них, звучала песня:
– Когда идет дождь, в твоих глазах свет
Проходящих мимо машин и никого нет
На дорожных столбах венки, как маяки
Прожитых лет.
– Это про меня, – сказал Валик.
И про меня, подумала Нина. Про нас, про всех…
Домой Егорка все-таки уговорил ее ехать в футболке «Я пережил Нашествие»:
– Теперь имеешь полное право!
Музыка, дождь, лица, флаги, палатки, сборы в дорогу – все впечатления смешались у нее в одно цветное пятно. Только ужас в глазах пассажиров электрички, которые увидели на перроне огромную толпу с рюкзаками, она запомнила особенно четко.
Встречал их дед, собственной персоной.
В кожаной куртке, темных очках и бандане вид имел флибустьерский. Подготовился, надо же. Скучал.
– Ну что герла, прошвырнемся? – спросил он, галантно отбирая у нее сумку.
На следующий год главным хитом «Нашествия» стала песня Степана Паланина «Бабуля, ты где?»
Отправь маму в Африку
– Жратьдавайдавайжратьжратьжратьжрать! – кот боднул меня шишкастой башкой и ворвался в помещение.
Его подоконный вой вырвал вздох облегчения – негодяй не появлялся двое суток, и мы переживали. Когда открылась входная дверь, пройдоха уже стоял на низком старте.
Ринулся в кухню, грохотнул пустой миской, сунул морду в остатки молока и рванул к холодильнику. Приветственно муркнул и потерся рыжим боком о гладкую дверцу. Нормально, да? Холодильнику так – мырр, а хозяйке – «жрать»…
– Мам, моя рубашка где?
– Лия, отдай ключи от машины!
– Ненавижу омлет!
– Желтый, не путайся под ногами!
– Я это есть отказываюсь!..
Уф… и всего-то их двое – любимых моих мужиков, а кажется, что утром по дому мечется целая толпа.
Наконец, дверь за ними закрылась.
– Н-да, котэ, будни домохозяйки я представляла себе как-то иначе, – пожаловалась я.
Желтый сыто потянулся и промолчал. Я вздохнула. Начинался мой новый, хозяйственно-ремонтный, ненормированный рабочий день…
Днем намыла окна и поклеила в детской обои. Вечером, приготовив с Тимкой уроки, накормила парней ужином и домывала посуду, предвкушая, как все уснут, а я возьму пряжу, спицы и включу киношку.
Но они выстроились у раковины. Все, включая кота. Их улыбки и спрятанные за спиной руки вызывали подозрение. Больше всего на свете я не выношу сюрпризов.
– Та-дам! – пропел Тим, а муж протянул мне…
– Нет, – сказала я.
– Да! – заорали они, хлопая в ладоши и наступая.
– Я без вас не хочу. И я совсем не готова!
– Мы не можем! У нас контракт с французом и хоккейная секция! А время у тебя есть, – отвечали они, и, чтоб добить окончательно, объявили: – целых три дня!
– Мы же договорились, – возразила я, – что, если не все, то лучше никто в этом году не поедет, сэкономим для следующего…
Желтый фыркнул, Тим сдвинул брови, а муж сказал угрожающе:
– Мы с сыном решили. Ты летишь отдыхать. С тобой будет Ира. Я дам ей инструкции. От-ды-хать! – произнес он веско, – а если ты в ресторане попытаешься убрать за собой тарелку, или застелить постель в номере – она свяжет тебя и оттащит на пляж, к шезлонгу!..
В ночь перед вылетом не спалось. Я лежала с открытыми глазами и прокручивала в голове, что еще надо не забыть. Спохватилась, легонько тряхнула мужа за плечо:
– Рома, ты помнишь, что Тимику нельзя мандарины? Не больше пяти, не поддавайся на уговоры, иначе опухнет, и будет мордаха, как у хомяка… если что, половинка супрастина. В аптечке, на второй полке…
Он заворочался и не ответил. Глупо все. Не хочу без них ехать! В глазах защипало. Я их люблю, я о них забочусь, делаю все, чтоб им было уютно… я привыкла, чтобы все вместе. Не заметила, как потекли слезы. А они меня с глаз долой, в Африку-уууу!..
Муж проснулся. Гладил по волосам, успокаивал:
– Львенок, – сказал он.
Он зовет меня львенком, говоря, что для котенка я слишком часто рычу, – ну что ты. Я думал, теперь, когда дело наладилось, мы встали на ноги… я предложил тебе уйти с работы, думал, ты, наконец, отдохнешь. Успокоишься. А у тебя словно пропеллер между лопаток – все торопишься. Как заводная.
– Но ведь пока я работала, дом пришел в запустение. У Тимки тройки, ты усталый. Ел, что попало. Я же стараюсь, чтобы вам лучше было.
– А нам лучше, когда ты не дергаешься. Хватит бегать, выдохни уже. Все хорошо.
В аэропорт поехали все. Сестра Ира объявила:
– Лия, предупреждаю последний раз: если ты опять заглянешь в сумку проверить паспорт и билеты, я тебя стукну по голове!
Я отдернула руку и предложила мужу:
– Рома, может, я поведу? Ты после работы, а я целый день дома, ничего не делала.
– Это ты – ничего?! – возмутилась сестра. – Да ты носилась, как укушенная! Еще немного – и я бы увидела сзади реверсионный след!
– Не дам, – отрезал муж. – Понимаешь, ты немножко взвинчена. Я боюсь, что даже если ты въедешь вот в эту фуру, то просто проедешь ее насквозь и не заметишь.
Тимка стукнул меня газетой по голове.
– В чем дело?
– Ты опять заглянула в сумочку, а тетя Ира не заметила. Я за нее!
Все заржали.
– Лимон съешьте, гады, – сказала я, – сбагрили мать на другой континент, и довольны.
В самолете я мучительно вспоминала, что должна была сказать или сделать. Было чувство, будто забыто что-то важное. Ира меня одернула:
– Ты в небе. Над землей десять тысяч метров. Домыть полы не сумеешь по любому, расслабься.
Я честно попробовала. Расслабилась. Действительно, десять тысяч. И – вспомнила! То самое, очень важное. Как же я могла забыть?
Я боюсь высоты.
Африка встретила злым шершавым солнцем и пряным ветром. Скалилась в улыбках таксистов, голопузой детворой выклянчивала монетки, тянула за полы лебезящими торговцами, кидала надменные взгляды из-под тонких бровей папирусных Нефертити.
Море, как положено, синело, трава и пальмы зеленели, песок шуршал и ласкал пятки. Кровать в номере была мягкой, напитки – холодными, обслуга – улыбчивой и бесшумной.
А я не могла отделаться от навязчивой мысли. Почему это все – мне одной? Как бы славно Тим поиграл в крикет на этой площадке, а мы бы с Ромкой сидели вот за тем столиком и наблюдали за ним, потягивая кофе. И почему я крошу булочку, подманивая цветастых рыб? Почему любоваться на них я должна в одиночку?..
– Опять хандришь? – надо мной нависла Ира. – Ты мне не нравишься, – сказала она. – Что ты все время на телефон смотришь? Я боюсь тебя одну оставлять! Думаю, вернусь – а ты уже пляж подметаешь или пальмы пропалываешь.
– Не привыкла я бездельничать, Ир. И за ребят беспокоюсь. Надо было с собой хоть вязание взять…
– А-фи-геть! Вязание! А почему не обои? А что, поклеила бы на досуге. Ответь мне, куда ты все время летишь? Мы все думали, сядет Лия дома, хоть немного отдохнет. Так нет – идеальный менеджер перековался в идеальную домохозяйку.
– Какая там идеальная! Просто пока я работала, дом грязью зарос, и ребенок брошенный…
– Ага, и вот ты вцепилась. Лягу костьми за образцовый дом! А что твоим мужикам делать? Мама все время вертится, готовит какие-то феерические блюда, сдувает пыль, записалась во все родительские, домовые и прочие комитеты. Тебе что, энергию девать некуда?
– Да нет особой энергии, устаю…
– Знаешь, Лия. Ты только не обижайся, но, по-моему, тебе нравится уставать. А отдыхать – нет. Странное такое кокетство – мне себя не жалко, все для вас. А им каково? Не удивляюсь, что парни решили отдохнуть от тебя. Устали все время за мамой гнаться и себя виноватыми чувствовать.
Я молчала. Иру хотелось стукнуть. Зачем она? Может, из зависти? Хотя… сама она никогда особо не напрягается. Не делает «мужскую» работу. Даже лампочку не поменяет. Но почему-то всегда около нее оказывается кто-то, кто ей поможет с этой самой лампочкой.
А я лучше сама, если могу. Зачем просить? Вспомнила, как однажды поменяла колесо у машины, и Ромка потом зверски обиделся…
– Шуга-герл, – необъятных размеров араб с улыбкой поклонился, проходя мимо.
– Это он тебе, – заметила Ира, кивнув на мою, выгоревшую на солнце, макушку.
– Достали, – процедила я.
Это было правдой. Пристальное внимание со стороны мужчин напрягало. Словно ты на выставке. Особо донимали торговцы, громким хлопком предупреждавшие о покупателе своих коллег.
Так, что, выдираясь из одних цепких лап, я немедленно попадала в другие. Один раз сходила за сувенирами, и зареклась на такие походы в дальнейшем.
«Мам, а вода теплая? Не помнишь, где лежат мои полосатые носки?» – пришла смс от Тимки, а следом – вторая, от мужа: «Львенок, не могу найти зарядку от телефона. Ты сильно загорела?»
Весточки приходили на дню по нескольку раз, давая понять, что я была бы нужнее там, а не здесь.
Сегодня парни разбушевались: за день от каждого пришло по десятку, словно они соревновались между собой в экзотичности запросов.
Тиму понадобились подтяжки, теннисные мячи и напильник. Ромку интересовал сборник Честертона, бандана и франко-русский словарь. Лежа в шезлонге, я совершала мысленное путешествие по закоулкам квартиры, сообщая парням о своих изысканиях.
Держитесь, родные. Еще десять дней – и я буду дома.
– Хватит их опекать, – возмущалась Ира. – Они и сами отлично справятся.
– Я же просто отвечаю на их вопросы, – отбивалась я. – Откуда я знаю, зачем им все это сегодня?
– Действительно, зачем, – сказала сестра и задумалась.
Морской ветерок ласкал кожу. Лежа в шезлонге, я задремала, и даже увидела сон про то, как плыли по кухне пучеглазые круглые рыбы, а Желтый с Тимом отбивали их теннисными ракетками.
– Лия, вставай! Сейчас будет весело, – затрясла меня Ира.
Я открыла глаза и чертыхнулась: по пляжу, улыбаясь во весь широченный рот, строевым шагом к нам приближался давешний араб с огромной корзиной.
– Держись, шуга-герл, – Ирка пихнула меня в бок. – Не иначе, свататься.
– Я его прибью, – пообещала я, чувствуя, что краснею, – Прямо сейчас. Бодну головой в пузо, и корзинкой накрою сверху.
– Что за гопницкие замашки, – заржала сестра.
Ее это явно развлекало.
Араб встал в двух шагах от нас, улыбаясь мне и крепко держа свою ношу. Красивая плетеная корзина была живописно наполнена фруктами, раковинами и цветами.
Великан молчал. Мы тоже. Пауза затягивалась. В руке пискнул телефон.
И вдруг…
Вдруг!
Из-за огромной туши араба, как двое из ларца, появились они. В одинаковых коротких штанах в цветочек, в розовых гавайках и пиратских банданах. Бледные на фоне загорелых тел, с ухмылками на физиономиях, они вышли из-за спины великана в тот момент, когда я читала смс от сына: «Мама, где моя сувенирная шайба?»
– Сообщение доставлено, – засмеялся Тимка, живой и настоящий, и подмигнул.
– Мы приехали, Львенок, – улыбнулся муж, – не могли же мы бросить тебя одну в Африке.
Безобразная Эльза
Когда меня принесли домой из роддома, канарейка, бросив единственный взгляд, испустила прощальную трель и издохла. В детском саду малышне говорили, что если они не будут кушать суп, их пересадят за мой стол. Однажды мне попалось у Искандера: «это была приземистая тумбочка с головой совенка». Именно эту картинку каждое утро выдавало мне зеркало.
В школе мне нравилось. Веселье началось с первого дня. Дружный рев первоклашек: «Мама, забери меня отсююю-даааа!», обморок одной, особо экзальтированной, бабушки. Я впервые почувствовала себя популярной.
Меня посадили на первую парту, чтоб не нервировать остальных. И я стала отличницей – выбора не было. Что еще можно делать под носом учителя?
Рядом был усажен наш главный хулиган, Вяземский-Кочанов. Он быстро просек выгоду нашего симбиоза. Под сенью его кулаков я провела милые сердцу девять лет, решая ему задачки и исправляя ошибки в сочинениях.
Мы оба являли пример того, что форма и содержание не всегда едины по сути. Одноклассники усвоили этот тезис и ко мне потянулись. За эти годы на моем счету оказалось немало добрых дел: отложенные двойки, спасенные второгодники, подтянутые до уровня хорошистов троечники.
– Показатели седьмого «А» держатся на единственном человеке, – звучало на педсоветах, – но надо же как-то закрывать отчетность!
И нас не трогали.
Меня уважали. Никто не выливал мне компота в портфель, не резал пуговицы в гардеробе. На восьмое марта я, как все, получала мимозу. Дома засыпала с «Неорганической химией» Глинки, изредка – листая дневники четы Кюри. И была абсолютно счастлива.
А в десятом в нашем классе появилась она. Хорошенькая, как ангел. Бессовестная, как взвод дьяволят.
Сидя за партой, она тихонько сканировала пространство, бросая взгляды из-под нежных, как бабочкины крылья, ресниц.
Я не могу назвать ее умной. Ум – брат-близнец благородства. Там, где великодушие прокисло, уму на смену явилась хитрость.
Такой она и была – хитренькой, очаровательной лиской, всякий раз готовой вывернуться из капкана.
– Я? – говорила она удивленно, – да что вы, да как вы подумать могли? – и сбегала, оставляя пару рыжих шерстинок с хвоста.
Почему-то она невзлюбила меня с первого взгляда. Я не вписывалась в ее систему ценностей.
По лискиным меркам, место мое было в самом темном углу. В стайке сморчков-ботаников, которых терпят за то, что они дают списать. А я нахально жила. Представляете? Наслаждалась учебой, читала, экспериментировала в лаборатории.
И хотя по-прежнему, бросив на меня взгляд, вздрагивала подслеповатая биологичка, оторопь ее быстро сменялась улыбкой.
Лиска взялась за работу. Ей нужен был мир, и желательно – весь. Глядя на меня голубыми бездонными блюдцами, она перекинула за плечи рыжую косу и сказала:
– Бедняжка. Так тяжко, наверное, жить, зная, что все общаются с тобой по необходимости…
Она быстро завоевала симпатии класса. Прекрасно училась, легко помогала другим. С улыбкой: просто я люблю вас, ребята!
Парни ходили за ней по пятам, историк ронял очки всякий раз, когда она выходила к доске, а физрук застывал двухметровым столбом посреди зала, когда наша нимфа появлялась на тренировке.
А я как будто попала в аномальную зону. Отношения с учителями испортились. Не сами: кто-то помог, подмахнув, где надо, рыжим пушистым хвостом.
Физик в портфеле обнаружил карикатуру: пузатый гуманоид, похожий на него, катит в летающую тарелку тележку с трудами Коперника. Об увлечении физика уфологией знали все, как и то, что он стесняется этой, недостойной ученого, страсти. На обратной стороне картинки была моя контрольная.
Химик обвинил меня в разбазаривании реактивов. Я была ни при чем: моя домашняя лаборатория в разы превосходила школьную по оснастке.
Дребезжащим от обиды голосом учительница литературы заявила, что мои суждения о Бунине она находит нигилистическими. Надо ли добавлять, что о почтенном классике я даже не заикалась?
На экстренном педсовете учителя решили, что так драматически у меня протекает пубертат, и дело замяли.
Но осадок остался.
Как-то на перемене наш класс вышел во двор. Я увидела, как на газон вскарабкался, неуклюже перебирая бородавчатыми лапами, великолепный экземпляр Bufo melanostictus и наклонилась, чтобы лучше его рассмотреть.
Кто-то толкнул меня в спину, и я полетела вперед, растянувшись под дружный хохот. Весь класс стоял надо мной. Лиска сказала:
– Чудная картина! Вы с этой жабой созданы друг для друга! – и под общий смех протянула мне руку.
Я встала. Когда мои глаза встретились с ее голубыми льдинками, сказала тихо:
– Иду на вы!
– Что? – переспросила она, но я развернулась и ушла.
Холодный огонь разгорался в моей груди. То было белое пламя мести.
В конце весны мы все ждали бал. Две школы – наша и соседняя, устраивали театральный конкурс и маскарад. Несложно угадать, кто стал нашей примой.
Лиска репетировала круглые сутки. Я бы вообще предпочла пропустить эту клоунаду, но директриса настаивала, чтобы были все.
– Кем ты будешь? – спросил меня кто-то.
– Бабой Ягой, – ответила я.
Мысль, и вправду, была неплохая: на фоне фей, принцесс и цыганок, в которых нарядятся другие девчонки, этот костюм хотя бы не будет банальным.
Одной из моих одноклассниц позарез нужна была годовая пятерка по физике, а бедняжка не могла отличить ускорение Кориолиса от банального «g». Я помогала ей разобраться с векторами, когда она вдруг шепнула мне:
– Эльза…
Я говорила вам, что матушка назвала меня Эльзой? Потрясенная кончиной канарейки, мама решила, что лучше будет сразу назвать вещи своими именами. Популярная когда-то песня решила мою судьбу. Безобразная Эльза. Мама всегда питала слабость к рок-музыкантам.
– Эльза, – сказала мне девочка, – я хочу предупредить тебя. Она задумала вот что…
Узнав, что я хочу нарядиться Бабой Ягой, лиска и тут решила меня уесть. В финальной репризе она выбрала себе именно эту роль! Она не терпела соперничества даже здесь! Мне пришлось срочно менять свои планы.
В тот майский вечер школа гудела, как улей. Все готовились к маскараду.
Я тоже. Кроме костюма, было несколько технических приготовлений и разговор с директором школы:
– Эльзочка, – сказала Анна Францевна, сжимая в руках платок, – Эльзочка, ты уверена, что эта музыка подойдет для финального шоу?
– Анна Францевна, это Вагнер, – ответила я, – что может быть лучше классики?
– И еще… твой… костюм, – директриса бросила нервный взгляд.
– Он мне не идет?– я искренне огорчилась, – поверьте, я очень старалась. Он плох?
– Не то, чтобы плох, – она замялась, – но как-то слишком уж… однозначен.
– Однозначен, это хорошо, – ответила я. – Терпеть не могу двусмысленности.
Я вышла на школьный двор. Близилась ночь, но майская темь была разметана вспышками цветных гирлянд. Декорации на сцене, с избушкой на курьих ногах, темным лесом и ступой были освещены. Лиске оставался финальный выход.
Я ощутила в кармане тяжесть: в крошечной коробочке заключались плоды кропотливой работы многих недель.
Принцессы и коты, пришельцы, человек-паук и Белоснежка, пираты и даже один гигантский хотдог – все танцевали и ждали финального шоу.
Но я увидела только его.
Наверное, этот мальчик учился в соседней школе – раньше мы никогда не встречались. Но его костюм поразил меня в самое сердце.
Он стоял, длинный и тощий, в обшарпанном сюртуке и шарфе, завернутом вокруг шеи. Чудовищные башмаки-развалюхи были обмотаны бечевой. Длинный нос поник. В руках он сжимал портфель, безучастно глядя вокруг.
Он увидел меня. Его глаза расширились.
Я шла к нему через двор, и все: короли, трубочисты, бэтмены и стрекозы, смолкали и уважительно расступались. Я подошла и сказала:
– Здравствуй, Ганс-Христиан. Я узнала тебя с первого взгляда.
– Здравствуй, – пробормотал он, – удивительно, что ты поняла, кто я…
– Так я и представляла себе великого сказочника в начале пути.
– А другие решили, что я нарядился нищим, – и мы засмеялись.
Слова были не нужны.
Представление началось. Баба-Яга давала свой бенефис.
– Отойдем, Ганс-Христиан, – сказала я.
Мои одежды были белы, как вечность. Глубокий капюшон отбрасывал тень. Коса была остра, а шаги – бесшумны, и никто не смел заступить нам дорогу. Только какой-то Хомяк крикнул вслед:
– Смотрите, Смерть забирает Бомжа! – но я обернулась, и его сдуло, как ветром.
Мы стояли на пригорке, глядя на школьный двор. Грянул «Полет Валькирий». Пора. Я повернула тумблер на крошечном пульте.
– Как ты относишься к теореме Ферма? – спросила я.
– Я считаю ее талантливой мистификацией, – ответил он и взял меня за руку. – Ой, смотри!
Ступа с бабой Ягой тяжело подпрыгнула и окуталась вонючим дымом.
Бессонные ночи, тайные вылазки к папе в институт, гигабайты поглощенной информации, эксперименты с тротилом и пикриновой кислотой дали свои плоды. Если не летать, то, во всяком случае, прыгать этот агрегат я научила.
– Моя работа, – похвасталась я.
Дым валил, ступа скакала, Вагнер неистовствовал, едва выдерживая соперничество с истошными воплями. Запутавшись в собственных лохмотьях, лиска-баба Яга никак не могла вырваться на свободу. Трудовик и несколько старшеклассников тащили огнетушители.
– Только актриса переигрывает, на мой вкус. Слишком громкий, противный голос.
– Не суди ее строго. Вообще-то, она не знала, что эта штука захочет влететь…
– Эффектный финал, – заметил он.
– Спасибо, – я немного смутилась.
Мы стояли на холме. Под нами простирался школьный двор и весь мир. Миллиарды звезд сияли только для нас.
В саже и клочьях пены незадачливая валькирия, наконец, покинула летательный аппарат и скрылась в ночи. Звезды невозмутимо внимали затихающему вдали визгу.
Аквариум
Господи, ну зачем болеют дети? Сейчас бы не ему, а ей лежать пластом и колоть уколы. Бледный какой. До синевы. Накачали таблетками, Ольга в жизни не видела такой температуры на градуснике – думала, сломан. А сын уже и сказать ничего не мог, только головенкой мотал в беспамятстве…
Прибежали все – и из поликлиники, и скорая, и все кололи, поили, тормошили его тельце. Все спорили – ветрянка или скарлатина… Господи, да какая разница! Хоть что-нибудь сделайте, и она металась с бесполезными своими уксусными компрессами, а в голове стучало на истерике – сволочь, гадина, не уберегла…
Напичкали его Бог знает чем. Доехали до больницы, температура с сорока упала до тридцати шести. В приемной пожали плечами, но когда рассмотрели, глаза вытаращили – уникум, пару лет им такой ветрянки не привозили. Покатили в инфекционный бокс.
А вдруг… обмерло сердце, захотелось взвыть от страха. Закусила губу. Не сметь, дура! Даже думать не моги! Медсестра, глянув мельком, накапала пахучей какой-то дряни, протянула. Она проглотила, не чувствуя вкуса.
– Вот ваша палата, – остановились под вывеской «Бокс№5» – располагайтесь! – и уже запирала за ними дверь, оставив в четырех стенах, пропахших дезинфекцией.
Ольга всю ночь просидела у постели, суетилась, поправляла одеяло, трогала лоб. Все уже было в порядке, ей сказали, что опасности нет, но, неся бесполезную свою вахту, не на секунду не сомкнув глаз, она словно отбывала самой на себя наложенною повинность, и казалось, что именно в этом и заключается главная цель ее пребывания здесь.
Сперва даже не заметила, что они не одни. Детская кроватка в углу казалось, пуста, лишь ком одеяла белел посредине.
Сын заметался, попросил пить. Вскочила, налетела в сумраке на кроватку, и тут увидела. Спал ребенок, годков двух-трех. Странно. Таких малышей не оставляют в одиночестве в пустом боксе. Человечий детеныш – мальчик, девочка ли, не разберешь. Сопит себе в обе дырочки. Не до этого. Сашка. Больше всего она боялась, что завтра ее выгонят и оставят сына одного, как этого малыша.
Разъяснилось утром. Медсестра пояснила – девчушка из отказничков, зовут Викой.
– Из кого? – переспросила, тупая от бессонницы и нервотрепки.
– Отказничок. Из дома малютки. Уже на поправку пошла, пусть побудет пока, и вашему компания, кивнула на Сашку. Тот с утра был вялый, с трудом ворочал глазами, а после укола сразу заснул.
Ольга с сомнением посмотрела на малышку – всего-то пара прыщиков на мордашке, перевела взгляд на Сашку – на его физиономии не осталось свободного места – ветряночные язвы теснились одна на другой, и казалось, за ночь их только прибавилось.
– А мы ее не заразим?
– Что ей сделается. Переболела уже. Полежит с вами, давно бы выписали, да жалко. Тут питание, витамины ей колем. Кстати, это – вам. Развлекайтесь, – сестричка протянула пузырек с зеленкой.
Каждую язву надлежало прижечь зеленой меткой, не пропустив ни одной. Ни в коем случае не давать расчесывать, иначе шрамы останутся на всю жизнь.
Глянув на сына, Ольга заметила, что проще окунуть его в чан с раствором бриллиантового зеленого, чем покрыть россыпью точек каждый квадратный миллиметр кожи.
– А чем вам тут еще заниматься, – философски заметила медсестра, – рисуйте, время есть.
Зеленый. Пузырек они с Сашкой извели на раз. Он даже не морщился от прикосновений, крась хоть вдоль, хоть поперек. Проклятые волдыри вылезли даже на пятках.
Закончив работу, она не узнала свою кровинушку – на больничной койке лежал инопланетянин, классический зеленый человечек, и лишь родные глаза синели на его, теперь почти негуманоидной, физиономии.
Скоротали время до завтрака. Сестричка принесла тарелки и кружки. Спросила:
– Малышку сами покормите, или я зайду попозже, мне еще надо в другие палаты разнести?
Ольге стало неудобно. Дурацкий вопрос предполагал, что она, белоручка, откажется покормить чужого ребенка.
Она быстро ответила:
– Конечно, сами. А она кушать-то будет?
– Не переживайте, – хохотнула сестра, и выпорхнула в холл.
Ольга посадила ребенка на колени и с сомнением зачерпнула ложкой серую овсяную размазню, чтобы отправить малой в рот. Но кроха выхватила орудие из рук и крепко зажала в кулак. Урча и отфыркиваясь, принялась методично опустошать тарелку. Измазалась по уши.
Ольга попыталась было ложкой подобрать с физиономии остатки каши, но выдрать столовый прибор из детской руки ей оказалось не под силу. Девчушка за две минуты опустошила тарелку, и сурово потребовала кружку.
Слово, произнесенное ей, напоминало «кружка» лишь отдаленно, но жест был конкретный и недвусмысленный.
– Мам, – подал голос Сашка, – Я не буду. Точно, – и вторая тарелка также отправилась в маленькое пузо. Кроха моментально осоловела, была препровождена в кроватку и почти сразу заснула.
День прошел сумбурно. Заходили врачи. Сашку кололи, брали анализы. Ольге звонили с работы, и она отвечала шепотом, чтобы не мешать.
Сынуля к вечеру оклемался, встал с кровати и выглянул в окно, не обнаружив там ничего, кроме серого больничного двора с голыми деревьями под редкой метелью.
Девочка сидела в кровати и наблюдала за соседями, не проявляя, впрочем, особого интереса. Ночью Ольге удалось подремать, но рваный сон прерывался, заставляя вскакивать от каждого звука и метаться по палате, проверяя, все ли в порядке у малышей…
Следующий день немногим отличался от первого: бесконечные звонки с работы, процедуры, осмотры. Вывод был неутешительный – неделя заточения в боксе, и это в лучшем случае…
К вечеру ее отпустило. Малыши заснули. Она сидела, глядя в окно, и поняла, наконец, что больше не надо никуда бежать, и делать ничего не нужно – Сашка под контролем, на работе смирились с ситуацией, и ей остается только ждать и потихоньку приходить в себя…
Живуч человек. Еще вчера была на грани, не понимая, что и как должно делать.
Сегодня, наконец, можно успокоиться и перестать грызть себя. Спешить некуда. Просто плыть. Как рыба в аквариуме. Казенный бокс с зелеными стенами в выморочном свете и в самом деле напоминал аквариум – пара мальков и она, потрепанный вуалехвост…
И сны приходили душные, вязкие: с масляной водой, водорослями и пучеглазой рыбой со стетоскопом. Она просыпалась, вскакивала и не сразу могла понять – сон ли, явь перед ней. Зеленоватый сумрак, отсветы на стенах, зарешеченное окно…
Утром жизнь вошла в колею. Градусники, обеды, уколы. Ежедневный зеленочный ритуал. Сашка оклемался, и, несмотря на слабость и редкостный цвет, потихоньку возвращался к своему обычному состоянию – шустрого пятилетнего сорванца, любопытного и до жути общительного. Неожиданно образовалась бездна времени, и они заполняли ее, как умели.
Крапчатая зелень ребячьей кожи украсилась экзотическими картинами. Рисовали слона, парусник на волнах, футбольный мяч и собаку. Хохотали над Сашкой и зелеными Ольгиными руками.
Заинтересовавшейся крохе на животе изобразили ромашку, и она погрузилась в созерцание, явив боксу №5 позу маленького Будды.
Непростой разговор с сыном пришлось выдержать Ольге, чтобы объяснить, как получается, что у Вики нет ни мамы, ни папы. Вертелась, как уж на сковороде, мягко обозначая возможные жизненные ситуации.
Сашка наседал, как делал всегда, если чувствовал, что мама темнит, но в итоге отцепился от Ольги, сделав собственный бесхитростный вывод, потрясший ее настолько, что она не нашла, что возразить:
– Ну, ведь у меня папы теперь нет, вы с ним разошлись и меня поделили. А у Вики – мама с папой разошлись, а ее делить не стали. Вот так все и получилось.
С этого момента Сашка взял над малой шефство и развлекал ее и себя в меру детской фантазии. Стоя над кроваткой, корчил уморительные рожи, которые в сочетании с зеленоватой физиономией смотрелись жутковато. Кроха отнеслась к нежданному напарнику настороженно, потом, сообразив, что обижать ее не собираются, с азартом включилась в игру и пыталась не отстать от партнера, выделывая такие кульбиты, что Сашка покатывался со смеху.
В один из дней Ольгу навестил начальник – как ни крути, а недельное отсутствие главбуха на работе событие если не из ряда вон, то неординарное. Вместе с кипой документов, требующих Ольгиной подписи, шеф передал Сашке коробку с автомобилем, а Вике, прознав о нечаянной их соседке, неваляшку и роскошный белый бант.
Благодаря начальство за чуткость, Ольга не знала, плакать ей или смеяться. Только бездетный мужик мог всерьез предположить, что на трех волосинах пигалицы сможет удержаться такая конструкция. Бант можно было прикрепить разве что на пластилине.
Тем не менее, она честно попыталась придать девчонке элегантный вид. Вика наотрез отказалась менять прическу, и бантом украсили изголовье кроватки.
Персонал заглядывал все реже, зная, что в этом боксе за ребенком присмотрят без их участия, переключившись на другие, менее удачливые палаты. Ольга догадывалась, что Вика – не единственный гость из детдома в больнице.
На ночь читала им сказку, бесконечную историю про Ежика и Медвежонка, и подозревала, что по выходе из больницы милое слово «Трям!» на всю оставшуюся жизнь будет нести привкус зеленки и хлора.
Не могу больше, думала злобно, захлопывала осточертевшую книжку. На ходу сочиняла собственную сказку, продолжая историю до тех пор, пока малыши не засыпали.
А ей не спалось. Вынужденное безделье и изоляция от работы не давали той усталости, к которой она привыкла, и толкали на беседу с тем, с кем разговаривать решительно не хотелось – с ней самой…
Смотрела на спящую кроху. Вспоминала, как безучастно глядела она на них вначале. Сидела в кроватке, перебирала больничные игрушки. В ее мирке сперва не нашлось места пришельцам. Она ничего от них не ждала. А сейчас жадно пьет внимание, и берет его ровно столько, сколько они могут ей дать.
Они скоро уйдут. И кроха выключит за ненадобностью то, что может причинить ей боль: воспоминания об играх, людях. И опять вернется в свой маленький мирок, с казенными игрушками и овсяной кашей.
Больно. Она закусила губу. Слава богу, малышка сможет выключить эту боль. Природа милосердна – отбирая одно, всегда дает что-то взамен. Адаптация. Природная способность.
А что она сама? Да все то же, только на другом уровне. Была любовь – теперь нету. Выключить. А работу – включить, и с перегрузом, чтоб не впускать воспоминания, не давать боли жечь себя изнутри. Есть Сашка, остальное не важно.
Да, черт его подери, любой человек именно так и устроен. Когда совсем плохо – выключить, не пускать то, что ранит. Жаль, никак ей не удается выключить обиду. А радость – взять и включить. И слава богу, что, как не крути, не выключается совесть. Иначе совсем кранты…
Сидела у окна, рисовала на запотевшем стекле. Человечек. Треугольник платьица, ручки-палочки. В руке цветок. Вышло четыре лепестка. Не любит. Опять. Как не кинь, всюду клин…
Мотнула головой упрямо, дорисовала внизу еще один лепесток. Как будто упал. Теперь пять. Теперь любит. Кто-нибудь, когда-нибудь, да любит. Засмеялась тихонько, спохватившись, глянула. Ничего. Спят сопливые.
Видел бы кто со стороны. Вот дура, прости господи! Сама себе поревела, похохотала… Хорошо, что ночь. Двор пустой. Фонарь. От стекла дует, не просквозило бы малых.
Редкий снег. Тихо. И не спится, как назло. Как есть время лишнее, обязательно придет бессонница. И читать нечего.
Сопит курносая. Вот человечий детеныш. Зверенок. Включить-выключить. Спать. Спать обязательно! Впрок. Нет, не выходит. Человек идет по двору. Что он тут забыл? Доктор с ночного дежурства…
Тихо как. И стены стеклянные. Как рыба в аквариуме. В такой тишине никуда не деться от мыслей, стучат в голову, тикают часами, отмеряя бесцельно уходящее время.
Тик. Так.
Сашка уже вовсю носился по боксу, давая выход появившейся энергии. Вика наблюдала за ним из кровати.
– Мам, а она что, не ходит? – неожиданно спросил он.
Ольга растерялась.
– Почему? Наверное, ходит.
– А чего мы ее не выпускаем?
Действительно. Ольга осторожно взяла кроху и поставила на пол. Та стояла, покачиваясь, внимательно глядя по сторонам.
Спустя секунду по боксу несся маленький торнадо. Нерастраченная энергия вынужденного арестанта нашла, наконец, выход. Как заведенная, девчонка топала по палате. Сашка не отставал.
Скоро у Ольги зарябило в глазах. Сидела, поджав ноги, и думала, какой надо быть идиоткой, чтоб не сообразить выпустить малышку раньше! Привыкла, что ее собственный ребенок слезами и воплями легко сумеет донести до мамы все свои пожелания.
С этого момента покою пришел конец. Просыпаясь, кроха немедленно требовала свободы, и водворение обратно в кровать воспринимала как личное оскорбление, заходясь в крике.
– Сейчас мама придет и тебя возьмет, – объяснял Сашка.
– Мама придет, – послушно вторила кроха.
Все когда-нибудь кончается. В день выписки Ольга носилась как ошпаренная. Полис. Карточка. Рекомендации врача. Теперь – собираться. Ничего не забыть. Сашка что-то пытается объяснить Вике. Пятилетний уже человек понимает, что есть вопросы, которые задавать не стоит. И один из этих незаданных качается в воздухе, тенью стоит в глазах сына.
Наконец открывается дверь. Та самая, вечно запертая на замок, барьер внешнего мира перед инфекцией.
Дверь открыта. Сашка закутан по уши. Ничего не забыли, книжки оставлены в боксе – пригодятся новым арестантам. И Вике. Сашка молчит, прижимает к себе подаренную шефом машину.
Главное – не обернуться. Поблагодарить доктора, медсестер. Попрощаться.
Завалена игрушками детская кроватка, Вика сидит среди этой горы и молча наблюдает за столпотворением в палате.
Улыбнуться. Присесть на дорогу.
Пора. Не сметь оглядываться. Сашка молчит. На выход. Взять сына за руку.
Он вдруг мотает головой, вырывается, и бежит обратно в палату. Через окно видно, как он кладет машину в кроватку, девочка хватает игрушку, и, поглощенная новой забавой, тут же забывает о его существовании.
Парень выходит, смотрит упрямо и отвергает протянутую руку. Идет один.
Они уходят. Девочка остается в аквариуме, и ее мирок вновь замыкается, впустив блестящую игрушку и отрезав все остальное, ставшее вдруг ненужным и лишним.
Они уходят. Так тихо, что слышно, как скрипит под ногами снег.
Муравейник
– А теперь они держат меня за ноздри, – сказала Ира.
– Как это? – удивилась я.
– Ну, представь быка с кольцом в носу. Куда его за это кольцо дернут, туда он и идет.
– А ты-то здесь причем? Ты же не бык. И кто такие они?
– А все! – она махнула рукой, – мама. Сестра. Работа.
Я не видела ее с прошлого лета. Это же обычное дело – жить в соседних домах и встречаться раз в год. Она изменилась. Повзрослела, что ли? Короткие волосы, обычно взлохмаченные, были причесаны гладко и аккуратно. Это сразу добавило ей лет шесть или семь. Вместо джинсов и шузов на толстой подошве – каблуки и брючный костюм. Была Ирка, бесшабашная, своя в доску, стала – офисная мышь, каких легион.
Мы сидели с ней во дворе на скамейке.
– А ты изменилась, – я кивнула на костюм, – я б тебя не узнала. За ум взялась?
– Мимикрия, – сказала она и поморщилась.
Она стала тоньше за этот год и как будто бы выше. Во взгляде, движениях, в том, как скоро пальцы вытянули из пачки сигарету, чудилось новое, незнакомое. Суетливое.
– А как же походы-байдарки? – спросила я, – прошла любовь?
Она посмотрела и спросила:
– Помнишь, на Малуксе в прошлом году?..
Я кивнула. Ира меня туда затащила. Ненавижу рюкзаки и палатки, но чертов город так меня к тому времени вымотал, что я согласилась.
Это был поход к месту силы, как объяснила она. Собиралась компания человек десять, и командовал нами Палыч – бородатый дядька лет пятидесяти, маленький, смуглый и поджарый, не то контактер, не то экстрасенс. Гуру, короче.
Мы долго и тряско ползли в электричке, затем нудно пылили пешком, потом, сидя на поваленном дереве, наблюдали, как Палыч что-то выколдовывает своими гнутыми рейками.
Дальше был костер, комары и гитара – все, как положено. Кроме, разве что, странного запрета на алкоголь до поры.
Ближе к вечеру Палыч решил устроить сеанс групповой медитации. Долго гонял нас между сосен по склону, шершавому от хвои, наконец, велел лечь и закрыть глаза.
– Муравейник помнишь? – уточнила Ира.
Так назывался этот транс. Гуру рассказывал, как мы, легкие, будто пушинки, скользим вместе с облаками, потом плывем по реке… приближаемся к муравейнику и смотрим на насекомых…
– Частично, – призналась я. – До муравейника не дотянула – вырубилась и продрыхла весь сеанс черной и белой магии.
– Повезло, – Ирка вздохнула, – а я, блин, все помню. Как сейчас.
Темные глаза, нервные жесты делали ее похожей на дикую птицу. Или не птицу?
– Мне так понравилось! – продолжала она, – вдруг стало получаться все, что он говорил: и лететь, и видеть. А раньше никогда не выходило. Я тогда подумала – наконец-то! что-то открывается, и будет теперь не так, иначе… я видела этих муравьев, и стала маленькой, как они…
Ее блестящие волосы облегали голову, будто панцирь.
– Те, что крупные, были со страшными жвалами. А маленькие обязательно что-то тащили: хвоинку, ягоду, или, несколько сразу, гусеницу. Она еще шевелилась… брр, – ее передернуло.
– Кошмарная муравьиная самка… от одного вида тошно. А мне нравилось!
Резко очерченные скулы и тонкие, подвижные брови над черными глазами. Нет, не птица. Скорей, насекомое.
– Вот ведь, – огорчилась я, – сколько интересного, оказывается, пропустила. Дрыхла как сурок. Может быть, даже храпела.
Она не улыбнулась, продолжала:
– А потом он сказал: – Выходим. На свет, на поверхность. Я стала подниматься, летела этими лабиринтами, видела ниши, в которые были впечатаны омерзительные яйца, и желтый свет дробился на огоньки в фасеточных круглых глазах. Они шевелились, скрипели хитином, а я летела к вершине, и под куполом видела открытый свод, с клочком неба, с бахромой веток по краям…
Ира замолчала.
А я вспомнила. Как кто-то потряс меня за плечо, я проснулась и увидела, что ребята уже расходятся. И только Палыч колдует над Ирой, делая пассы вокруг ее головы.
А она сидит неподвижно, почти так, как сейчас.
Кто-то потянул меня прочь, к костру, мы ушли пить вино, а потом появились и эти двое. Вечер покатился в ночь, а утром все уехали в город. И с той поездки до сих пор мы с Ирой не пересекались.
– Над тобой еще Палыч руками махал…
– Голова разболелась адски, – она отвечала рассеяно, думая о своем.
– И что это ты вдруг вспомнила?
– Ничего, – она пожала плечами, – просто я так и осталась. Там.
– Где?
– Внутри.
Пористый земляной пол, утоптанный тысячей ног. Похожий на мощеную мостовую, только вместо сглаженных круглых камней – острые грани светлых кристаллов. Слепые коридоры и тупики. Неожиданные патерны, провалы на несколько уровней вниз, вертикальные шахты воздуховодов. Желтоватые отблески в выпуклых мозаичных глазах. Повороты, подъемы…
И свет. Голубой, неяркий, надежный. В гостях хорошо, дома лучше? Небесный проем все шире, и запахи, новые, вместо земли и пронзительной кислятины: кожи, нагретой на солнце, свежести от воды, дыма. Еще чуть-чуть, и…
– Купол закрылся, – она рассказывала, не открывая глаз. Будто опять была там.
– Я почти успела. Я видела, как они это делают. Мелкими, мизерными штрихами, словно мусор сыплют на паутину… песчинками-камушками, иголками-листьями, ветками, травой… – она говорила тихо и быстро, будто бредила:
– Но очень скоро, скоро и споро, моментально, прямо на глазах… затянуло, закрыло, будто заштриховало – сперва карандашами, потом – углем. И – тупик. Тупик, понимаешь?
Ира смотрела на меня.
Я молчала. Наверно, это было правильным, потому что она продолжила:
– Голова поболела и прошла. Я возвращалась домой на метро…
Пробираясь сквозь жвала турникетов, словно впервые, разглядывала черные тоннели со змеями кабелей, синие гусеницы поездов с отложенными внутри людскими личинками, вслушивалась в хитиновый скрип башмаков.
– Но самое главное, появилось новое. Чувство. Что постоянно опаздываю. Словно сотни маленьких губ шептали в ухо:– торопись! торопись! Торопись!..
Она, которая все время бежала из города, теперь могла существовать только здесь.
Устроилась на постоянную работу. Ее девизом всегда было «трать последние деньги, не бойся, будут еще».
Никогда не волновалась из-за финансов: то позирует в Мухе, то в Тихвине помогает реставраторам, а то вдруг случайно добудет партию заводных медведей и продает в переходе Рыбацкого…
– А мне вдруг стало казаться, что еще ничего не сделано. Во сне снились эскалаторы, да и сейчас… Они летят то вверх, то вниз, все быстрее, и меняют направление, и надо перескакивать, успевать. Пригибать голову, если свод, подпрыгнуть, если лавина…
Старые знакомые удивлялись: Ирка, и вдруг взялась за ум? А новые – не верили, что Ирина когда-то могла болтаться без дела.
Родные смотрели с подозрением: очередная блажь? Потом пригляделись и выдохнули: наконец-то!
– Во сне бегу, просыпаюсь – опять бегу, а рядом – такие же, серенькие и суетливые. И знаешь, понимаешь, что ты не одна, но от этого почему-то еще страшнее. Вот мои раньше не знали, что я – такая, как они, и не трогали. Думали, что я другая. А теперь поняли. Взяли за ноздри, и крутят, как захотят…
– И опять нет просвета. Как там: закрыло небо, сперва паутиной затянуло, потом хламом засыпало… и еще город, мосты, машины, дождь этот вечный…
Ира провела рукой по лицу и будто очнулась:
– Ладно, заболтались мы что-то, – сказала она. – Рада была тебя повидать, – и поднялась, надевая очки. – Да, кстати! Если понадобится надежное турагентство, обращайся!
Она улыбнулась, и я увидела, как блики заплясали на фасеточных стеклах ее очков.
Лунные узелки
Черная повязка давила на глаза. Лежать на спине было неудобно. И зачем я сюда пришла, досадливо думала Татьяна. Три тысячи рублей. Да и не в них даже дело. От раздражения не спасало ни журчание музыки, ни мягкий бас психоаналитика.
Проблемы, по большому счету, не было. Насочиняла ерунды. Поддалась на уговоры, и вот теперь лежи и болтай впустую.
– Вы очень хорошо рассказываете, – прозвучало из темноты.
Она чувствовала себя собакой Павлова: специалист отрабатывал на ней, как по нотам, все приемы, о которых упоминалось в популярной литературе.
Если бы Юрка знал, что я тут лежу, думала Татьяна. Жена у психолога – диагноз мужу…
Они даже не поругались. Просто опять случился тягучий, выматывающий силы разговор ни о чем. Никто не кричал. Так, рассуждали. Друг о друге. Об отношениях. Отстраненно, как о чужих. Но чем дальше, тем выше, по кирпичику, вставала стенка. А после засыпали спиной друг к другу и не могли отделаться от липкой обиды.
И что самое гадкое, в таком настроении Юрка отправился в рейс.
Мысли плыли, как сонные рыбы. Но желание говорить в пустоту пропало. Доктор, чувствуя ее неуверенность, предупредил, что во время сеанса может возникнуть сопротивление, и с этим чувством надо работать. Басок успокаивал, и если бы не поза, которую Таня ненавидела, она непременно бы задремала.
Плохо, что все невысказанное висело теперь в его сухих отчетах: «Еду. Дорога нормальная». После таких телеграфных бесед она не могла заснуть.
Догнать бы, договорить. Бросить в лицо: погоди, дослушай! Бесполезно. Сразу замкнется, пожмет плечами: что за истерика? Как она устала биться в стеклянную стенку!..
Ворочалась ночами, не успев додумать, проваливалась в сон. В последний раз она убегала в кисельных сумерках от черной женщины. Та неслась за ней гладко, не касаясь земли. Скользила, тянула руки. Следом шли три стеклянных девушки на одно лицо. Шептали: быть пусту.
Быть пусту – так и приснилось. Слово ширилось, кляксой вплывало в сон. Твоя очередь, улыбнулась клякса. Таня проснулась и позвонила психотерапевту.
– Разумеется, в один сеанс проблема не решается, но ваше взрослое, взвешенное желание заняться терапией… – опять отвлек ее доктор в том смысле, что Таня стоит на пути к гармонии.
Ошибся док. Вместо гармонии пациентка озверела окончательно. В первый и последний раз, решила она и сняла с глаз повязку…
– Ну, и зачем ты к нему поперлась?! – хором спрашивали девчонки, – а мы на что?!
Они сидели в кафе с видом на площадь Бехтерева. Их офис был двумя этажами выше.
– Бес попутал, – оправдывалась Татьяна, – Лежу и гадаю: чем доктор занят? Перед ним на столе ноутбук, мобильник… Может, он пасьянс раскладывает? Или в «Одноклассниках» чатится?
– Точно, – откликнулась Юлька, – это не наш формат, не российский. У них в Буржуинии, психолог оканчивает университет, получает диплом и вешает его на стенку. Потом пишет пять монографий, которые читают пять его коллег, и получает отзывы, которые тоже вешает в рамочку. Чем больше рамочек, тем круче. Потом надевает клиенту повязку на морду, открывает комп и садится резаться в «Фалаут».
Разговор о нюансах психоанализа был примечателен тем, что через дорогу от собеседниц располагалась психиатрическая клиника. Их начальница заметила как-то в сердцах, что при таких нагрузках логичным венцом бухгалтерской карьеры будет пеший переход всего отдела через площадь и добровольная сдача в руки санитаров.
– Ага, – подхватила Марина, – а у нас как? «Вася, наливай!» – и весь психоанализ. И терапевтический эффект налицо!..
Такие посиделки бывали не часто, но сегодня сложилось: и вечер свободный, и поговорить есть о чем.
Как заметила Марина, их троих беспокоили разные стадии одной проблемы. Так и обсуждали по порядку: свадьбу Маринки, Танины попытки поправить семейную жизнь и…
– Мне бы ваши заботы, – вздыхала Юлька.
Ее беда была обратной: она не знала, как отделаться от парня. Жили вместе два года, если постоянные выяснения отношений можно назвать жизнью. В итоге, пройдя сквозь череду бурных ссор, вконец задерганная Юлька решилась указать сожителю на дверь. И – откуда что взялось – ее немедленно атаковали букетами, подарками и чутким вниманием к каждому жесту.
– Долго это не продлится, мне кажется, – сказала Татьяна. – Не хватит ему пороху на всю оставшуюся жизнь.
– А, может, он исправился? – Маринке очень хотелось верить в счастливый конец, – может, зря ты так жестко, Юль?
– Я не могу с ним больше. Я не чувствую его запах. Надо еще объяснять? – ответила Юлька.
Повисла пауза.
– Не надо. Куда уж понятнее, – сказала Татьяна.
– Тань, а, в самом деле, – попыталась Марина разрядить обстановку, – что тебя к аналитику-то понесло?
– Поссорились. Так некстати. Юра уехал, вот и раскисла. Надумала ерунды, тошно стало. Хотела разобраться, что у нас с ним происходит.
– У вас наложение кризисов, – подала голос Юлька, – у него сейчас завершается кармический полуцикл.
– Чего?
– Кармический полуцикл. Один жизненный этап уходит, начинается новый. А у тебя, – Юлька кивнула на Таню, – лунные узлы. Тоже кризис. Хочешь, моя знакомая астрологиня… или астрологица? тебе гороскоп составит?
– Не хочу гороскопов! – сказала Татьяна, – надоело все, – и, неожиданно для себя, добавила:
– Хочу танцевать.
– Дело! – заорала Маринка, – и я хочу! Скоро жизнь семейная, и прощай, молодость. Извините, конечно, дамы, – спохватилась она.
– А мне – пофиг, – меланхолично заметила Юлька, – лишь бы домой попозже…
– Я одно местечко знаю, – Маринка засобиралась. – Классное! У меня там мальчик знакомый работает. Только… ничего, что это – гей-клуб?..
Так и вышло, что спустя три часа Татьяна сидела в полумраке за столиком, щурилась на утопавшую в свете эстраду и размышляла, как неудачно вышло, что из всех девчонок она одна водит машину. Гремела музыка, на танцполе было людно. За соседним столиком целовалось двое парней.
– Лунные узел..ки, – заплетающимся языком объясняла Юлька, – это, когда проходит один период, приходит другой. И ты уязвима… Так говорит моя астроло.. гица…
У шеста танцевала Маринка. Гнулась, кружилась, текла. Взлет, поворот, рыжее пламя волос. Ни на кого не глядя, отдавшись танцу. Арабский скакун не должен тащить крестьянскую телегу. Танцовщица от Бога не должна печатать платежки. Вот и отрывалась на всю катушку.
– Узелки, узелки, – рассеяно кивала Татьяна.
Трезвая, как стекло. С каждой минутой ей становилось грустнее. Вечер катился к полуночи, и впечатлений от этого дня ей хватило, пожалуй, с лишком.
Они еще танцевали, болтали и пили, растворяя в бокалах усталость. Даже мрачная Юлька оживилась, глядя на одного из гостей:
– Боже, какой мальчик!
Таня обернулась: на Юльку насмешливо, но сочувственно поглядывал невысокий темноволосый парень, одетый сдержанней, чем большинство посетителей.
Юлька выдралась из диванных объятий и качнулась:
– Я должна его понюхать! – Не удержавшись на ногах, плюхнулась обратно, – только понюхаю, и все!
– Пора делать ноги, – шепнула Маринка, – Юльчика надо эвакуировать.
– Да ладно, – засмеялась Таня, – брось ты… Он первый от нее сбежит с воплем «Уберите от меня это существо!»
– Она, Танюш. Она. Посмотри внимательно.
Пригляделась. Действительно – небольшие ступни и ладони, ни следа косметики на лице. И взгляд, которым «парень» мазнул всю их компанию – чересчур понимающий. Девушка. Н-да. Юльке только этого не хватало в коллекцию неприятностей.
Поднявшись, девчонки подхватили упирающуюся коллегу:
– Хорошего понемножку. Пора по домам!
На обратной дороге Маринка баюкала подругу и говорила в трубку:
– Уже еду. Да, – и в этой сдержанной девушке трудно было признать сумасбродную танцовщицу.
Ночью опять не спалось. Таня завернулась в одеяло и побрела на кухню. Вертела в руке телефон. Наконец, не выдержала, набрала номер мужа:
– Да, – настороженно сказали в трубке.
Устал. Сколько он уже за рулем. Что сказать? Дуется, конечно. А спросишь – отмахнется, и говорить вроде не о чем.
– Юра. Ты про лунные узелки слышал? – неожиданно для себя спросила Татьяна. И съежилась, предчувствуя резкий ответ.
– Лунные? У меня тут луна над дорогой висит. Огромная, желтая. Смотришь – аж мурахи по коже, – и добавил: – поболтай со мной, Тань. Мне еще рулить. Дорога пустая, не заснуть бы.
На секунду зашлось, застучало сердце. И отлегло. Окатило теплой волной. Она заторопилась, стала рассказывать: про сумасшедший вечер, про девчонок, про лунные узелки…
Юрка слушал. Хорошо так, она чувствовала, что улыбается. Не злится совсем, наоборот. Скучает. Так же, как и она.
– Ладно, узелки… давай-ка на боковую, – сказал он спустя полчаса.
– А ты как? Не заснешь? – испугалась Таня.
– А я доехал. Вон мотель, там и заночую.
Масляно желтела луна в окошке. Таня ворочалась, засыпая. Придумают же люди на свою голову… астрология, карма, психологи. Вспомнила утро, фыркнула. Вот ведь бред!
Засыпая, уткнулась лицом в Юркину подушку, чтобы теплом дыхания разбудить впечатанный в наволочку запах.
Полдень, в котором…
– Девочки, все в автобус, – услышала Валентина крик, – уезжаем! Учения начались.
Опять учения, подумалось утомленно. Тело плавилось, растворялось в жарком июньском мареве. Солнце висело в зените, тонкое платьице не спасало от зноя. Дочь, трехлетняя кроха, в панамке и трусиках сидела в тени на меже.
Женщины прислоняли грабли к копне и неохотно тянулись в автобус, ворча на ходу. В приграничном городке к учениям привыкли, но трястись в духоте никому не хотелось.
– Аллочка, иди к маме, – позвала Валя, – едем кататься!
Они ехали четвертый час в направлении от границы. Так уже бывало, но сегодня дорога казалась очень уж длинной. Дочка спала. Водитель с хмурым лицом на расспросы не отвечал.
– Валя, поговори с ним ты, – тормошили девушки.
Она, жена офицера, могла сослаться на мужа и попробовать выяснить, долго ли еще их будут возить и когда, наконец, можно будет вернуться домой.
Но делать этого не пришлось. Автобус остановился, шофер повернулся к ним и сказал угрюмо:
– Вылезайте. Дальше не повезу.
Шум, возмущенный гвалт и расспросы он перекрыл одним словом. Короткое и резкое, оно оборвало шум и ледяной коркой покрыло упавшую вдруг тишину.
Война.
– Бесплатно не поеду. Не нанимался, – огрызался водитель, понимая, что сейчас, в этой неразберихе, среди напуганных женщин никто не сможет найти на него управу.
– Возьми, бессовестный, – Валентина стянула с пальца золотое кольцо.
Кто-то из женщин снимал цепочку, кто-то сережки. Водитель сгреб украшения, взвесил их на ладони и завел мотор.
На станции они были к вечеру.
Тут начинался ад. Валя не знала, что делать: денег у нее не было, документов тоже. Все осталось дома, там, откуда увез их автобус с водителем-крысой. Там, где через сутки уже были немцы.
Но никто не о чем не спрашивал. Поезда заполнялись и шли, отправляя беженцев от границы подальше, в тыл. В давке и суете люди штурмовали вагоны и ехали, неизвестно к кому и куда.
Уже сидя в поезде, как в тумане, она вспоминала, как кто-то их подсадил, кто-то – подвинулся, освобождая место. Алла хныкала:
– Кушать хочу!
Валя баюкала дочь. Ребенка кормить было нечем. Кто-то протянул им яблоко, кто-то отрезал хлеб. Стыдно ей было невыносимо – она же комсомолка! А получилось, будто бы попрошайничает. Хороша же она: босая, в мятом несвежем платье, с голенькой, в одних трусах, дочкой. Кто признает в ней сейчас смешливую певунью, первую красавицу гарнизона…
Так и ехали. Поезд нес их от дома все дальше. Мысли теснились – как быть? Где муж, Саша? Жив ли? Как он найдет их? И куда ей теперь?..
День, ночь, второй день пути, третий. Их вагон перецепляли несколько раз. И уже никто не мог точно сказать, куда они едут…
Москва встретила веселым дождем. Они босиком шли по городу, мама и дочь. Алла, словно в рясу, была закутана в кем-то подаренную блузку из крепдешина.
– Где тут горком комсомола? – обратилась Валя к первому же милиционеру.
В горкоме им помогли. Война только начиналась, еще не пошел поток беженцев, он захлестнет страну позже.
К ним отнеслись с пониманием. Накормили, выслушали, выделили угол. Валентине, комсомолке и активистке, нашлась работа.
Война катилась по стране, разбрасывая, растаскивая, отрывая людей друг от друга.
Валя ходила в военкомат, стучалась по кабинетам, разыскивая мужа. Где Саша? Что стало с его частью? Жив ли? Отправляла письма, искала родных.
В январе получила письмо от мамы. Жива. Отлегло. Они с дочкой стали собираться туда, в Костромскую.
Опять поезда. Люди, холод, кислый чад от немытых тел. Кипяток в жестяных кружках.
На том дальнем полустанке сходили только они. Долго брели по снегу, постучали в узорное от мороза окошко. Мама выглянула, схватилась за сердце:
– Родные мои…
Стали жить. И вскоре, туда же, в апреле, пришел треугольный конверт. Ухнуло вниз, заколотилось сердце. От Саши! Жив! Какой молодец, догадался, что нужно на мамин адрес писать!
В деревне остались одни женщины. Валентина, хоть и ростом была птичка-невеличка, работы никогда не боялась. Конечно, тяжело было. Но не тяжелее, чем остальным. Дни складывались в месяцы, очерчивая страницы войны сухими сводками Информбюро.
Редкие письма с фронта становились короче и суше. Словно и не жене Саша писал.
Валя думала – конечно, до нее ли ему сейчас? Главное, что живой. Но почему не найдет теплого слова для нее и для дочки? Вкрадчиво, змеей, вползала мыслишка, нашептывало чутье женское, неистребимое: да в войне ли дело?..
В тот день, морозный и ясный, Валя чистила на дороге снег. В трех кофтах, в ватнике, одетом поверх, в рукавицах и пуховом платке, закутана была так, что и на себя не похожа – круглая и неуклюжая. Услышала крик:
– Орлова! Валюша! Тебя на станции спрашивают!..
Оказалось, подошел военный состав. Полчаса стоянки, и один капитан назвал ее имя. Забилось сердце, понеслась было к полустанку и – остановилась. Надо же домой, переодеться! Что же она, так и пойдет? Как же муж ее такой и увидит? Да бабы руками замахали: беги, глупая! Времени и так в обрез.
И она побежала. Рванулась было к эшелону, узнать, расспросить и – остановилась.
Увидела.
Он всегда был хорош собой. Высокий, широкоплечий, с безукоризненной выправкой, теперь, казалось, еще больше возмужал. Она смотрела, распахнув глаза.
Они считались самой красивой парой – миниатюрная, кудрявая Валя, всегда по моде одетая, и он, орел-капитан. Совсем недавно, в маленьком приграничном городке, который остался там. За войной.
Она так и не подошла. Стояла и смотрела.
И он не подошел.
Холеный, с гладко выбритым подбородком, он шел мимо нее так близко, что в хрустком морозце она почувствовала теплое облако его запаха: с нотками табака и одеколона, и самого его, крепкого, здорового мужчины, и пряный дух купейного вагона, и чуть-чуть, но почему-то очень резко – медикаментов и сирени. И эти две последние ноты вдруг перечеркнули все и сделали его, самого ей близкого на свете мужчину, чужим.
Он прошел мимо. Скользнул взглядом, лишь на секунду дрогнув лицом, и прошел.
Как будто бы не заметил. Постоял у вагона, докурил, сплюнул под ноги окурок и нырнул, не оборачиваясь, в натопленное нутро поезда.
А лицо, женское, белое и круглое, с ямочками улыбки, внимательно следило за его променадом из соседнего вагона. Занавески в вагоне были белыми, и нарисован был на них красный крест. И почему-то Валентина точно знала, что женщина эта пахнет сиренью.
Валя смотрела, как поезд вздрогнул и тронулся. Колеса закрутились, набирая ход.
Посреди войны, на забытом богом полустанке, стояла маленькая женщина в телогрейке и провожала свою бывшую жизнь, глядя в мелькающие окошки.
Вот и все, тикало в голове, перекликаясь со стуком колес. Вот-и-все.
Никто не подошел к ней. Никто ничего не сказал. А ей было невыносимо стыдно в тот миг, стыдно и страшно, что скажут люди. Но люди не заметили или сделали вид. И потом никогда не сплетничали у нее за спиной. Потому что они были – люди.
И никто в этот миг не мог подойти и сказать ей – нет, не все. Война кончится. Ты окажешься с мамой и дочкой в маленьком шахтерском поселке. А серая бумажка с уведомлением о разводе будет гоняться за тобой по стране и найдет, наконец, тебя на Донбассе. И больше не будет слез, вместо них – богатые алименты от папаши-капитана.
Вокруг тебя окажется много новых людей, счастливых, от того, что война закончилась. А Николай, черноволосый и белозубый танцор, Колька с Моховой, переживший немецкий плен, побег, дознания чекистов, добьется шахтерским потом и кровью у Родины права вернуться в любимый город, и увезет тебя, с мамой и дочкой, к себе в Ленинград.
И вместе вы будете жить на Неве, долго и счастливо. У тебя родится еще одна дочь, они с Аллой вырастут и подарят вам внучек. А дед Коля станет ворчать, что он опять один среди семи девок.
Младшей внучке ты, уже старенькая, расскажешь однажды эту историю. А Юлька, конечно, ее до поры позабудет…
Но это будет потом. Сейчас она еще ничего об этом не знает, маленькая женщина на богом забытом полустанке. Ей холодно. Она стоит, кутаясь в ватник, и кусает губы.
Она готова отдать что угодно, чтобы повернуть время вспять и вытащить из стылого воздуха тот злополучный летний день. Переиграть его заново, остановив стрелки часов ровно в полдень. И оставить их там навсегда – в полдне, в котором нет и не может быть боли. В котором только жара и лето.
В полдне, в котором ничего не случилось.



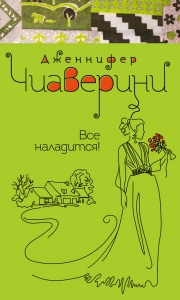


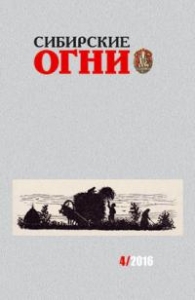


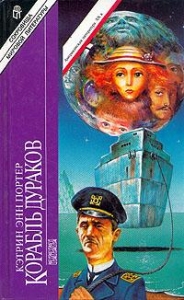


Комментарии к книге «Нескучная книжица про…», Юлия Бекенская
Всего 0 комментариев