Владимир Михайлович Шпаков Песни китов
Часть I. Черный мухобой
1
Ожидание затягивалось. Казалось, огромные серые двери никогда не разъедутся, а значит, зря лезли через забор, скрывались от мухобоев, падали в заводскую пыль, пробирались на карьер… Севке-то не жалко треников и старую футболку, а у Лорки на новом платье — грязные разводы, отчего ему делалось стыдно. Все могла бы искупить машина, если бы показалась из дверей цеха, только створки оставались неподвижными. «Ну, выезжай, я тебя прошу!» — взмолился Севка, видя: терпение подружки не бесконечно.
— Сколько можно ждать?!
Когда Лорка намерилась сбежать, Севка придержал ее за руку.
— Еще подождем, а? У них по пятницам испытания, я помню! И папаша так говорил, он в этот день всегда на работе задерживается…
Неожиданно створки дрогнули, и между ними образовалось черное зияние. Сердце замерло, а зияние увеличивалось, открывая темное нутро цеха, и вот, наконец, раздался рык могучего зверя, который вскоре покажется наружу и поначалу замрет на открытом пространстве. Он будет принюхиваться, вертя локатором и поворачивая башенку со спаренным пулеметом; потом рык усилится, и зверь, переваливаясь по белым барханам, двинется в сторону карьера.
— Я же говорил?! — торжествующе воскликнул Севка. И, вскочив, взялся быстро стягивать одежду.
В одних плавках он бежал по белому песку, слегка проваливаясь и, как всегда, удивляясь: откуда такой цвет? На реке песок был желтым, на стройках вообще коричневые кучи лежали, а рукотворное озерцо на окраине завода окружал ослепительно белый, не иначе, завезенный откуда-то мелкий песок. Хотя больше волновал устремленный в спину взгляд. Он буквально чувствовал легкое жжение между лопаток, оно подталкивало, ускоряло его движение наперерез ползущей через барханы машине. Иногда Севка пригибался, чтобы остаться незамеченным, или вообще падал животом на горячий песок. Он знал, что перехитрит бронированного зверя (не впервой), но дразнить его — себе дороже. Зверь может остановиться, из его нутра вылезут обозленные мужики, позовут охрану…
Добравшись до карьера, Севка выждал, пока железное чудище заползет в воду, вприпрыжку преодолел прибрежную полосу и тоже бултыхнулся в озерцо. Он долго плыл под водой, раскрыв глаза и пялясь в мутноватую воду. Когда же вынырнул и с шумом всосал воздух, до защитного цвета брони было рукой подать.
Севка подгреб сзади, уцепился за скобу и лишь потом оглянулся, отыскав глазами ложбину между травянистыми холмами — там находился схрон. Лоркина голова не просматривалась среди травы, но Севка-то был оттуда виден, он это знал. И их совместное с машиной движение по кругу было видно, а значит, не зря падали в пыль. Какое платье, когда он приручил стального зверя, тяжелого, бронированного и при этом плавающего, как моторная лодка! Зверь тихо урчал, где-то под водой месил воду зарешеченный винт, и Севка отдавался мерному движению, подчиняясь воле стального существа…
Вскоре проснулось недовольство: что тут особенного — таскаться за машиной? Так и дурак сумеет, ему же надо выдать нечто особенное, иначе вряд ли оценят лихость. Он никогда не взбирался на броню — наверняка обнаружили бы испытатели, а тогда пиши пропало. Мухобои здесь — натуральные фашисты, если отдадут им на растерзание, мало не покажется!
И все-таки Севка начал перебирать руками, цепляясь за скобы, чтобы вскоре выползти наверх. Он распластался на броне, чувствуя под собой горячий металл — еще горячее песка, по которому бежал недавно. После прохладной воды тепло было приятным, а еще убаюкивающий звук мотора… Машина утюжила озерцо, поворачивала влево, вправо, а прилипший Севка был безбилетным пассажиром, которому выпало невероятное счастье. Подумаешь, «Москвич», «Жигули» или даже мотоцикл «Ява»! На них любой может прокатиться, а вот на машине, которая и по суше, и по воде, катается только Севка! А главное, за ним сейчас наблюдают, возможно, даже сравнивают с Женькой Мятлиным. И думают: а вот Женьке такое слабо!
Изменившийся звук мотора пробудил беспокойство. Обычный человек ничего бы не уловил, но Севка нутром почуял сбой, едва намечавшийся, проявленный в рваном ритме движка. Под броней билось сердце, и с этим сердцем явно что-то происходило; а если так, и легкие перестанут работать, и печень с селезенкой. То было знакомое чувство, позволявшее без труда ремонтировать мопеды, мотоциклы и прочую немудрящую технику, разъезжавшую по двору или тикающую на запястье. Часы тоже были живыми существами, и когда существо умирало, хозяин вместо мастерской тащил его к Севке, который запросто реанимировал «покойника», получая за это полкило халвы или сетку груш. Позволь ему, он бы и движок отремонтировал; да кто позволит? По шеям надают за его геройство или в детскую комнату милиции отведут!
Когда звук под броней затих, сердце рухнуло. Не от страха — от сочувствия к тому, что только что жило, билось в ровном ритме, и вдруг умерло, пусть даже на время. Он пропустил момент, когда откинулся люк, оттуда высунулась лысая потная голова, и в Севку уперлись близко посаженные колючие глазки.
— Опять ты здесь?! Ну, погоди…
Пока из люка вылезало толстое неуклюжее тело, Севка успел проплыть полпути до берега. Теперь его гнал вперед страх, он даже не сразу заметил, что на берегу поджидает парочка охранников.
— Лови его! — донеслось от машины, на которой маячил выбравшийся наружу лысый испытатель. Севка повернул, изо всей силы заработал руками, краем глаза видя, как охранники трусцой направились туда, где он собрался вылезти. И на другом берегу паслись мухобои, а значит… Он еще раз оглянулся на ложбину между холмами. Лорки не было видно, возможно, она вообще струсила и сбежала. «Ну и ладно…» — подумал Севка и перевернулся на спину.
Он уже не видел, как к берегу притащили лебедку, завели трос и начали подтаскивать заглохшую машину к берегу. В это время он сидел в каптерке охраны и односложно отвечал на вопросы. Где одежда? Не было одежды, так пришел. Зачем пришел? На машине покататься. Знает ли он, что это закрытый объект, и сюда запрещено проникать посторонним? Да вы что, первый раз слышу! Севка врал, он не раз слышал от папаши: «закрытый объект», «секретная зона» и т. п. Он утверждал, что и слово «бронетранспортер» не знает, и вообще, дядя, чего ко мне привязались?!
— А ну, цыц! Дядю нашел… Не первый раз тебя на карьере вижу! Надо тебя в милицию сдать, там быстро все расскажешь!
Допрашивал пожилой охранник с загорелым морщинистым лицом, затем присоединился более молодой.
— С ним еще девка перелезла. Михалыч говорил: двое через забор перемахнули, одна в платье.
— Михалыч говорил! — раздраженно отозвался пожилой. — Если видел, почему не задержал? Почему эта шпана вообще через забор шастает?!
— Колючку по верху пустим, не будут шастать…
Повернувшись к Севке, молодой ухмыльнулся.
— Где напарница? На территории? Колись, пацан: имя, фамилию говори, адрес проживания…
— Не было никакой напарницы… — опустив голову, забубнил Севка. — Один я был…
Он понимал: даже если будут резать на части или, положим, стрелять в него из пистолета, он все равно не выдаст Лорку. Внезапно он ощутил, как по спине сползает холодная струйка — так явственно вдруг увиделся черный зрачок ствола, направленный в лоб. Проследив его взгляд, молодой опять растянул рот в ухмылке и похлопал по кобуре.
— Боишься? Правильно боишься! Мы таких к стенке ставим! Пиф-паф, и в дамки!
— Хватит языком молоть! — оборвал пожилой. — А ты давай, называй фамилии — свою и этой хулиганки! Учти: все равно дознаемся!
— Не знаю никаких фамилий… — упрямо нудил Севка. Спустя минуту дверь каптерки распахнулась, и на пороге появился еще один обладатель фуражки с зеленым околышем.
— Слышь, мужики, испытатели пособить просят. БТР на мель сел, а мотор не заводится…
Севка шмыгнул носом и тихо произнес:
— Там топливный насос не в порядке. Он солярку медленно подкачивает, потому и глохнет движок.
— Ах, насо-ос… — протянул пожилой. — Помолчал бы, сопля! Это из-за таких, как ты, машины ломаются!
— Не виноватый я, это насос…
Вновь пришедший взял Севку за подбородок.
— Погодите, это ж Ваньки Рогова сынишка! В нашем дворе живет!
Севка похолодел, будто еще раз нырнул в карьер. Он ни за что не назвался бы, мычал бы и хныкал, но вот обитатель соседнего подъезда (кажется, дядя Саша) его признал, и теперь наверняка доложат отцу!
— Вот и выяснили твою личность! — заржал молодой. — В общем, хватит из себя корчить, выкладывай все!
— Зря накидываетесь на пацана, — проговорил дядя Саша. — Его во дворе Кулибиным зовут, он у нас все чинит. Недавно даже старый «Запорожец» починил, хотя хозяин его уже в металлолом хотел сдавать.
— Ага, — отозвался молодой, — из-за таких Кулибиных машину год до ума довести не могут! Они ж запчасти тырят! Короче, пацан, пока сиди тут, потом в милицию поедем!
Когда обитая жестью дверь захлопнулась, Севка понял, что попал. К беспокойству за себя добавилась тревога за Лорку, которая вряд ли найдет обратную дорогу. В схроне ее не обнаружат, только не будет же она там до конца смены сидеть…
Он подергал дверь — глухо. Обойдя каптерку, покрутил ручки радиоприемника, хлебнул воды из чайника, стоявшего на выключенной электроплитке. А затем обратил взор к окну, выходящему в глухую стену.
Свободой запахло, когда просунул голову между прутьями оконной решетки. Решетка расходилась веером: совсем узкая в левом нижнем углу, в правом верхнем она ощутимо расширялась, образуя прогал аккурат напротив форточки. Старое правило — если пролезает голова, пролезет и остальное туловище — сработало. В форточке Севка застрял на минуту-другую, но, подергавшись, все-таки вывалился во внутренний двор. Ворота наружу оказались незапертыми, и вскоре он уже мчался к схрону.
Одежда лежала на месте, а вот Лорки нигде не было. Севка быстро натянул треники на успевшие высохнуть плавки, надел футболку и стал вертеть головой во все стороны. Лорка обнаружилась возле муравейника, с другой стороны травянистого холма. Она сидела на корточках, в одном купальнике, и внимательно за чем-то наблюдала.
Неслышно приблизившись сзади, он застыл в смущении. Спина Лорки была пунцовой, наверное, она загорала, пока Севка совершал свои «подвиги». Трусики чуть опустились, открыв белизну ниже талии, а на границе розового и белого, где виднелся едва заметный след от резинки, отчетливо выделялась овальная коричневая родинка…
— Чего зыришь? — кашлянув, проговорил он.
— А-а, это ты… Накатался на своей машине?
— А ты разве не…
— Я смотрела, а когда стало неинтересно, сюда ушла.
Он замолк, удрученный. Его геройство, пусть и с оттенком поражения, оказалось напрасным — муравейник интереснее! Наверное, ему следовало обидеться. Следовало оставить ее здесь, чтоб попробовала в одиночку выбраться за территорию и оценила незаменимость друга Севки. Но, поразмыслив, он решил не обижаться. Лорка, можно сказать, своя в доску, и еще будет возможность доказать, что он — классный пацан.
Присев рядом, он тоже взялся наблюдать за мурашами, облепившими трупик мелкого животного, возможно, мыши. Трупик валялся в стороне, но насекомые взяли его в оборот основательно: от кучи протянулись две живые цепочки — одна текла к мыши, другая к муравейнику. А плотность муравьиного племени на трупике была такая, что шерсть не просматривалась.
— Как ты можешь на это смотреть?! — скривился Севка. — Тошнит же!
— Ничего не тошнит, — отозвалась Лорка. — Просто странно как-то…
— Что мышь сдохла? Ничего тут странного, они у нас дома в мышеловках все время дохнут. Но я к ним даже к мертвым не подхожу, их папаша в ведро выкидывает.
Лорка помолчала.
— Странно, что она умерла, а муравьям — радость. Видишь, как они оживились? Жизнь все время побеждает, я так думаю.
Чувствуя рвотный позыв, Севка отвел глаза. Фига на эту мышь пялиться?! То ли дело машина с ее теплой броней и могучим железным сердцем! Красота, само совершенство, можно сказать!
Неожиданно Лорка выпрямилась. Теперь Севка наблюдал снизу крепкий, чуть округлый живот и две небольшие выпуклости на груди, спрятанные под верхней частью синего купальника. Они давно не купались вместе, и эта верхняя часть была чем-то новым, пробуждающим неясное беспокойство…
Севка отвернулся, затем тоже встал и огляделся. Вокруг никого не было. На карьере, не видном из-за холма, слышались крики, там вытаскивали машину, и Севкино исчезновение, похоже, оставалось пока незамеченным.
— Опять через забор полезем? — спросила Лорка.
— Нет, там заловят. Я знаю потайную дырку в заборе, идем к ней.
2
Толпа в центре двора смотрелась странно. Мужчины, женщины, старики со старухами, дети — все стояли с мусорными ведрами, стыдливо прикрытыми бумажками, и глядели в сторону улицы. На лицах читалось раздражение либо усталость, а под бумажками виднелись отходы, предназначенные на выброс.
Все это Женька мог разглядеть с балкона благодаря биноклю. Припекало солнце, отчего на лысине пенсионера (даже такое было видно!) выступили капельки пота. Переведя бинокль на проезжую часть, он увидел цистерну «Молоко», рейсовый автобус № 10, желто-синий милицейский «уазик», только мусоровоза видно не было. Он теперь, видите ли, раз в день приезжает, и к этому часу изволь выходить с накопленными отходами!
Женьку тоже обязали вынести мусор, — а он не мог отлипнуть от окуляров. Теперь исследовал чужие балконы. У Ходакова, как всегда, поблескивает на солнце батарея пустых бутылок (в основном с этикеткой «Водка „Московская“»). А на остекленном балконе прапорщика Клыпы, конечно же, высятся ящики с чем-то съедобным. Женька не раз наблюдал, как к подъезду толстомордого прапорщика подкатывает крытый брезентом «Урал», и солдаты-срочники таскают на третий этаж ящики со сгущенкой и тушенкой, яйца, окорока с копченой колбасой и т. п. Ага, на балкон выскользнул Клыпа, роется в одном из ящиков и, достав шоколадку, тут же ее сжирает. Потому, наверное, младший Колька такой же мордастый, как старший; да и остальные Клыпы худобой не отличались…
Презрительно усмехнувшись, Женька перенаправил бинокль на балкон четвертого этажа, где виднелись ящики с цветами. Желто-фиолетовые цветы (незабудки? анютины глазки?) день ото дня делались пышнее и красивее. Этот балкон был гораздо любопытнее пенсионерского или Клыпиного, и Женька пялился туда, ожидая, когда мелькнет сиреневое платье. Еще имеется розовое платье, брючный костюм синего цвета, школьная форма, всякие танцевальные штуки вроде балетной пачки, но сиреневое — это обновка, сама сказала, когда в последний раз провожал из школы. Жаль, учебный год кончился, считай, а других поводов для встреч не имелось. То есть он придумал бы, но везде на пути вставал Севка Рогов, который таскает ее в такие места, что и представить трудно. Вот зачем ей лазить на завод? Таскаться в гаражи? Конечно, нелепые «ухаживания» можно было высмеять, да вот незадача — она не позволяла. Провожать из школы позволяла, а только обзовешь Рогова Самоделкиным — обрывает, мол, не смей так говорить про моего друга!
Следующим объектом наблюдения стал балкон соперника, где топорщила железные усы огромная антенна. Соорудивший ее Севка утверждал, что может ловить радиостанции со всего мира, что наверняка было враньем. Тоже мне, Кулибин! Вечно измазанный, пахнущий машинным маслом и канифолью, ковыряющийся в заводских отходах…
Вскоре Севка вышел из подъезда с матерчатой сумкой, похоже, направлялся на свалку. Когда он проходил мимо картежного стола, его подозвал уголовник Земелин по прозвищу Зема. Поздоровался за руку, подвинулся, приглашая сесть, отчего в душе шевельнулась зависть. Над ним Зема насмехался, мог запросто подзатыльник отвесить; а Самоделкина, видишь ли, приблизил!
Раздосадованный, он ушел с балкона. Сунул бинокль в чехол, плюхнулся на тахту и взял с полки «20 тысяч лье под водой». Плевать ему на двор, потому что он — капитан Немо, властитель подводного царства, навсегда покинувший несправедливый и презренный сухопутный мир. В его распоряжении несметные богатства, неслыханные возможности, а здесь чего ловить? Промышленная окраина, загазованный кусок пространства, где среди мрачных заводских корпусов дымят черные трубы, а вокруг выстроены похожие друга на друга, будто близнецы, панельные пятиэтажки. Убогий пейзаж, примитивная архитектура, потому, наверное, район и назвали — Новый Городок. Не город в полном смысле слова, а именно городок вроде строительного, из вагончиков.
Городок пыжился, желая сделаться городом: обзавелся кинотеатром «Металлург», а еще парком культуры и отдыха, где вдоль аллей наставили бронзовых литейщиков и оборудовали танцплощадку, именуемую «клеткой». Однако телодвижения пьяных людей под лязг самопальных электрогитар трудно было назвать танцами, это больше напоминало ритуальные пляски первобытных у костра. И пусть Женька не видел первобытных, зато он читал Рони-старшего, «Борьбу за огонь», и представлял ритуал в таких красках, что и кино не надо. Он и себя в роли капитана Немо представил настолько живо, что комната буквально превратилась в отсек подводного корабля: окна из прямоугольных сделались круглыми иллюминаторами, и за ними вместо банальных акаций и берез плавно закачались водоросли. Куда нам плыть? А-а, куда угодно — в Новую Гвинею, в Патагонию, на острова Зеленого Мыса, лишь бы подальше от пряжской пыли и скуки, от тех, кто не может по достоинству оценить Женьку Мятлина. Его оценят, когда он вернется во всем блеске и красоте, чтобы за все отомстить. Это будет уже не капитан Немо, а граф Монте-Кристо, и вот тогда они узнают!
Мечты прервала мать, вошедшая в комнату.
— Все лежишь?
Выложив на стол стопку тетрадок, она ушла в кухню. Шлепок двери холодильника, скрип дверцы под раковиной и второе появление, с ведром в руках.
— Почему мусор не выносишь? Я же просила… Иди, там уже машину дожидаются.
Женька с неохотой отложил книжку. Но с дивана вставать не спешил.
— А машина не приедет! — неожиданно выпалил он.
— Почему это?! Нет уж, поднимайся!
— Да я тебе говорю: не приедет!
— А я говорю: бери ведро и марш на улицу!
Собираясь на улицу, он представлял, как мусоровоз, выруливая на их улицу Советскую, попадает колесом в люк. Он сочинил эту историю полчаса назад, вроде как записал ее в виде рассказа, и теперь расцвечивал деталями воображаемую аварию, чтоб была убедительней. Наполовину прикрытую крышку оставили те, кто ремонтировал канализацию. А водитель был пьян: как будешь трезвым, если каждый день возишь вонючие отходы?! В итоге крышка перевернулась, колесо ухнуло в дырку, где и застряло. Мусоровоз мог бы вытащить трактор, да приехавший инспектор ГАИ унюхал, что от водителя пахнет водкой. А тогда — в отделение! А машину до завтра оставить, пока трезвый сменщик не придет!
Спускаясь по лестнице, он продолжал усиленно дописывать в воображении историю, которая могла бы освободить от постылых домашних обязанностей. Мать почему-то считала его бездельником, обязанным выносить мусор, выбивать коврики и бегать за молоком и хлебом. Вот наверняка же заходила после школы в гастроном; но молока с хлебом — никогда не купит, Женьку пошлет!
У детского грибка толпились раздраженные люди. Машины по-прежнему не было, слышался глухой ропот, но Женька, не желая вливаться в общий хор, встал в сторонке. Трудно был представить графа Монте-Кристо или капитана Немо с мусорным ведром, чье содержимое прикрыто газетой «Труд». Другое дело, если бы вышла Лорка — им нашлось бы о чем поговорить. Прочитала ли ты книжку Фраермана «Дикая собака Динго»? По-моему, очень интересная история. Да, отношения там описываются деликатные, но такое в жизни тоже бывает. Что именно бывает? Ну, как тебе сказать… Наверное, это называется…
— Тьфу ты, черт! — послышался голос пенсионера Ходакова. Рядом с ним стоял человек в робе, которого обступила взволнованная толпа.
— Расходитесь! Завтра будет машина!
— А что случилось-то?! — нервничали хозяева ведер. — Почему не сегодня?!
— Авария! На Советской люк был открыт, вот мы туда колесом и… Ремонт, короче, требуется.
Когда все разошлись, Женька остался у грибка. Требовалось переварить услышанное, он ведь сам не очень верил в свою фантазию, а что вышло?! То, что ярко представил, воплотилось в реальное событие, и как прикажете такое понимать?! Ошарашенный, он даже не смог испытать в полной мере торжество, мол, я же говорил?! Мать устало махнула рукой: обычное разгильдяйство! А Женька, пройдя в комнату, взялся вспоминать похожие случаи. Он всякий раз поражался тому, что воображение может поворачивать события. Помнилось, не хотелось писать контрольную по физике, и на тебе — учитель заболевает! А как оказался в Москве прошлым летом? Билетов не было на месяц вперед, но Женька буквально бредил Красной площадью и Третьяковкой, в итоге — неожиданно два билета из брони!
Расскажи он об этом кому-то, его бы засмеяли, мол, обычное совпадение. Да и некто ехидный внутри возражал: почему тогда Лорка с Севкой бегает? А Зема почему тебе леща дает? Ему, однако, удобнее было чувствовать себя хозяином положения, всесильным режиссером, меняющим ход жизни по своему усмотрению. Еще посмотрим, что дальше будет! Любые способности развиваются, и если очень захотеть, можно даже научиться летать, как Ариэль из книжки Беляева, или жить под водой, как Человек-амфибия…
— Снова за всеми подглядывал?
Мать стояла на пороге комнаты, держа в руках бинокль.
— Не подглядывал я, — забормотал Женька, — просто смотрел…
— На тебя уже соседи жалуются. Ты что — вуайерист?
— Кто-кто?! — не понял Женька.
— Есть такие люди — не очень приличные, скажу тебе. Уроки готовы?
— Готовы…
— Тогда заканчиваю с тетрадями, и едем на дачу.
Следующие полчаса его воображение работало, будто мартеновская печь на сталелитейном заводе. Женька напрягался так, что лицо делалось пунцовым, однако мать, похоже, не попадала под его влияние. Наверное, решил он, эта сила не действует на родственников, значит, придется тащиться на дурацкую дачу…
3
Заводы в Пряжске тянулись вдоль реки на много километров, вздымая в небо черные трубы и огромные серые корпуса цехов. Промежутков не было — заводские территории разделяли общие каменные заборы, поверх которых вилась колючая проволока. Выглядели заводы по-разному. Грязноватый сталелитейный дымил вагранками и жутко шумел, когда включали обрубочные машины. Автомобильный был чище, шумел меньше, а охранялся тщательнее (сталепрокат домой не потащишь, и с автомобильного было что слямзить). Еще пуще охраняли электромеханический, потому что: а) было что слямзить, б) там производили что-то очень секретное. На автомобильный при желании можно было проникнуть, на электромеханический — шиш, везде колючка, да еще под током. За высоченным выбеленным забором высились чистенькие корпуса, изобилующие стеклом и бетоном, но продукцию, что производилась, покрывала завеса тайны.
Завеса приподнималась на свалке, располагавшейся за территорией между забором и лесом. Выходящие к свалке ворота охраняли не меньше, чем парадные, где на серебряном фоне красовались большие синие буквы ПЭМЗ. На задних воротах ничего не красовалось, зато оттуда время от времени выезжали крытые брезентом грузовики. Проехав до ближайшего свободного пятачка, грузовики останавливались, после чего из кузовов сбрасывали на землю аппаратуру. То ли брак уничтожали, то ли устаревшую электронику — было неясно, к свалке в этот момент было не подобраться. А подобраться ой как хотелось! Стальные корпуса лязгали друг о друга, корежились, но все равно уцелевала масса радиодеталей, из которых можно было сделать приемник, усилитель, цветомузыку — много чего. Только охранники этого не понимали: облив аппаратуру бензином, чиркали спичкой, и груда сокровищ (да-да!) спустя минуту превращалась в обугленный холм. Десятки черных терриконов покрывали выжженное пространство до самого леса, откуда с бессильным сожалением на варварские костры смотрело множество глаз.
Выждав, пока корпуса охватит пламя, охранники запрыгивали в кузова, и грузовики направлялись обратно. Когда же двери закрывались, к догорающим кострам устремлялись пацаны с кусачками и пассатижами. Проволочными крюками они выдергивали приглянувшийся аппарат, после чего тушили его песком, водой или просто струей мочи. Внутри сохранялись жалкие остатки былой роскоши, но и они являли собой ценнейшее приобретение: таких транзисторов или диодов хрен найдешь в магазине, у них даже наверху специальная метка в виде звездочки имелась, мол, деталь оборонной отрасли.
Чаще других везло Севке. Вот и сегодня интуиция подсказывала, что в ближнем к лесу терриконе содержится нечто ценное. Груда источала жар, воняла горелой резиной, а Севка уже орудовал крюком, выдергивая один за другим почерневшие корпуса. Второй, третий, пятый, и вот, наконец, лишь наполовину обгоревший прибор. Севка плеснул на корпус водой из банки и, отклонившись от струи пара, переждал несколько секунд. После чего достал пассатижи и сорвал верхнюю крышку.
Требовались полупроводниковые триоды, подходящие для «Спидолы». В магазине их не сыщешь, на радиотолкучке покупать дорого, а ремонтировать придется — Зема попросил. Точнее, просто сказал, мол, приемник накрылся, а я «Голос Америки» люблю слушать. И поставил «Спидолу» перед носом у Севки. Тот быстро смекнул, в чем заковыка, только где найдешь подходящие детали?
В приборе, вопреки ожиданию, ничего ценного не оказалось. Он выкусил пару конденсаторов, после чего взялся исследовать другие кучи. Увлекшись, он не замечал времени, благо конкурентов сегодня не было. Одна куча, другая, и вот она, долгожданная находка! Транзисторы были почти не обгорелые, просто сажей испачканные. Севка обтер их, сунул в сумку, но остановиться не мог. Что-то гнало его от кучи к куче, заставляя раскидывать черные вонючие останки аппаратуры, чтобы найти… Севка сам не знал, что хочет найти, но чувствовал: здесь таятся настоящие ценности. Выудив из очередного террикона металлический корпус, он заглянул внутрь и обалдел: все целехонькое! Огонь будто обошел стороной прибор, лизнул пару раз, а внутри оставил все невредимым.
Внезапно охватило странное чувство, как всегда, если оказывался тут в одиночестве. Вокруг простиралось кладбище, где хоронили отработавшие срок технические устройства. Кто-то мог сказать: да это всего лишь железки! — но Севка бы отмахнулся от дурака. Железки! На самом деле это живые существа, которые рождаются, живут, а потом завершают свой путь на кладбищах-свалках. В чреве существ что-то крутилось, вертелось, там текло электричество, будто кровь по венам; бывало, и инфаркты случались в виде коротких замыканий, в общем, все, как у людей. И жалко их было так же, как умерших людей, во всяком случае, Севка всегда переживал, если телевизор внезапно гас, а приемник погружался в молчание. Если можно было реанимировать «покойника», он в лепешку разбивался ради этого, так что Зема мог не пугать, Севке самому было интересно оживить «Спидолу».
Он не стал работать кусачками — достал отвертку и начал аккуратно отвинчивать платы. Это не какие-то детальки, целые блоки, может, даже от передатчика. Сделать своими руками передатчик было давней мечтой, хотя Севка знал: за такое по головке не гладят. Приемники почему-то не запрещалось делать, а вот выходить в эфир считалось преступлением, за это и посадить могли.
Промахнувшись отверткой раз-другой, Севка обнаружил, что уже основательно стемнело; а еще тучи набежали, и свалка быстро погрузилась в темноту. Обугленные терриконы сразу выросли в размере, подул холодный ветер, значит, пора было возвращаться.
Когда вскинул сумку на плечо, вдалеке что-то звякнуло. Он тут же замер, прислушиваясь. Раздался еще один звяк, будто кто-то шел, задевая по пути металлические корпуса. Душа ушла в пятки. Черный мухобой?! Севка пригнулся, спрятавшись за дымящуюся груду и чувствуя, как бегут мурашки по спине. Тут же вспомнились страшилки, какими пугали друг друга «искатели сокровищ», мол, по свалке ночами бродит охранник, с виду обычный, в шинели и фуражке, а на самом деле — мертвец. Он вроде как выходит из заводских ворот, только сами ворота при этом не открываются. И если кого-то застанет на свалке, тому капец!
— Этот черный как посмотрит на тебя, — округлял глаза рассказчик, — сразу ноги к земле прирастают! Не сдвинешься с места, даже если захочешь! Он уводит пацана в каптерку, запирает его и ждет, пока пацан ослабеет. Потом приходит с большим пистолетом и стреляет прямо в лоб!
— А потом чего?
— А потом съедает, ясное дело! Говорят, он на этой свалке погиб, сгорел вместе с приборами. Может, пьяный был или не успел от кучи отойти, а теперь, значит, мстит за это…
Скорее всего, это была выдумка для отпугивания конкурентов; но одно дело — слушать байки на скамейке во дворе, другое — оказаться после заката на свалке. Слева высилась пятиметровая заводская стена, справа темнел лес, а единственный путь домой пролегал как раз там, где звякало. Севка вжался в землю, забыв, что наверняка изгваздает одежду сажей. И, когда услышал еще один звяк, пулей рванул в лес.
Севка помнил: черный мухобой имеет силу только на свалке, в лесу его чары не действовали. И все равно он несся по лесной тропинке, не чуя под собой ног. В полутьме, которая вскоре сгустилась до полной темноты, тропинка белела спасительной ниточкой; вот только тянулась ниточка очень долго. Севка, наконец, перешел на шаг и, несколько раз оглянувшись, стал успокаиваться. Зря он, наверное, углубился в лес, не самая близкая дорога домой. Когда же деревья расступились, и он вышел на открытое пространство, стало ясно: очень не близкая.
С перепугу его занесло на аэродром ДОСААФ, что располагался уже за городом; теперь предстояло пересечь огромное поле, на котором виднелись нечеткие в сумраке силуэты «кукурузников» и «яков-восемнадцатых», и сесть в электричку. Севка запустил руку в сумку — вроде ничего по дороге не потерял. И, нахлобучив кепку на лоб, двинул в сторону станционных огней.
В электричке он смотрел на заводские заборы и корпуса, что ползли за окном. Забор электромеханического давно кончился, зато сиял огнями автомобильный, работавший в две смены. Где-то там, в одном из корпусов, пропадал папаша (так говорила мать: ты пропадаешь на работе). Намечалась сдача очередного опытного образца, Рогов-старший отсутствовал дома сутками, что тоже можно было расценить как удачу. После происшествия на карьере Севка находился в ожидании: его заложат? Или дядя Саша окажется нормальным мужиком и смолчит? Пока, во всяком случае, Севку драть не собирались, и он мог спокойно отдаваться любимым развлечениям.
Когда электричка остановилась на станции «Литейная», Севка выпрыгнул на платформу и зашагал к дому.
К вечеру следующего дня он вынес во двор «Спидолу». Дворовой вожак с другими блатными сидел за столиком под акацией, раскидывал картишки и, когда перед ним поставили приемник, с удивлением воззрился на Севку.
— Так быстро?!
— А чего тут ремонтировать-то? — с деланной беспечностью отозвался Севка. — Всех дел: триоды заменить.
— Ну-ну, Кулибин… — скривился блатной по кличке Мурлатый. — Ты, Зема, сам проверь!
С недоверчивым видом включив приемник, Зема стал искать станции. Вначале послышалось шипение, но одно лишь движение — и двор огласил рок-н-ролл.
— Шизгара… — растекся в улыбке Зема. Сияя фиксой, он взял «Спидолу» в руки, вроде как не верил, что молчащий желто-черный ящик вновь ожил, и теперь можно слушать хоть «Голос Америки», хоть радиостанцию «Маяк».
— Выручил! — Вожак торжественно пожал Севкину ладонь. — Чего хочешь? На «Яве» хочешь прокатиться? Могу прокатить, если есть желание!
Севка поднял взгляд на Лоркины окна, увы, завешанные шторами. А было бы неплохо, если бы она видела, как Севке пожимает руку тот, перед кем двор бегал на цырлах! Но шторы висели неподвижно, наглухо отделяя подружку от триумфа, переживаемого Севкой.
— На «Яве» хочу, только…
— Только что?
Севка сглотнул комок.
— Сам хочу. Чтобы я вел мотоцикл.
— А ху-ху не хо-хо?! — влез Мурлатый. — Этому шкету халяву предлагают, а он делового корчит!
— Заткни хайло! — оборвал Зема и повернулся к Севке.
— Сам, говоришь… Ладно, приходи в гаражи, покатаешься. — Вожак обвел взглядом картежников. — В общем, если этого пацана кто пальцем тронет… Яйца оторву, ясно?!
В субботу он болтался на пустыре с Лоркой — та выгуливала овчарку Грету. Когда собака ткнулась в ногу, Севка инстинктивно пнул ее, и овчарка оскалила зубы.
— Эй, чего пинаешься?! Что она тебе сделала?!
Лорка встала между Севкой и Гретой, хотя крепкая черно-коричневая «немка» могла сама за себя постоять (и еще как!).
— А чего она лезет?!
— Она играть хочет! А ты, дубина, не понимаешь!
Севка не выносил, когда ругают даже за дело, но этой длинноногой позволялось все.
— Играть… — скривился он. — Куснуть она хочет, я ж вижу. Только у меня такая штучка есть, что ни одна собака не укусит!
— Будешь пинать — укусит! Без штанов домой пойдешь!
— А вот и не пойду!
И Севка, захлебываясь, начал рассказ об устройстве из конденсаторов, соединенных в блок. Конденсаторы заряжались от сети, а два провода от них выводились на палку из эбонита. Тут человек к тебе пристает или пес — неважно, главное, палкой к нему прикоснуться: сразу искры из глаз! Конечно, надо столько конденсаторов подбирать, чтобы не укокошило, а просто вышибало мозги, давая время спокойно уйти.
Севка даже забыл, что еще не собрал устройство, только схему набросал. Потребуй Лорка демонстрации в натуре, он бы опростоволосился, но та повернула разговор иначе.
— Тебя самого когда-нибудь током дернет!
— А вот и не дернет!
— Дернет, дернет! Ожог получишь — будешь знать!
— Ничего я не получу! Меня вообще электричество не берет!
— Ой-ой-ой, не берет! Схватишься за провод — затрясет как миленького!
— Меня затрясет?!
Севка внезапно вспотел: вот он, звездный час! Он никогда не говорил Лорке о своей способности не чувствовать тока. Иначе говоря, он мог запросто браться за оголенный проводник; вот только как это доказать?
— А пойдем в подвал? Там лампочка битая есть, так я за усики руками возьмусь — и ничего не будет!
Лорка устремила на него зеленые глазищи.
— За усики, значит… — ответила после паузы. — Ладно, пойдем!
Пока Лорка отводила Грету домой, Севка сбегал за фонариком. Дожидаясь подружку, он едва не приплясывал в предвкушении победы. Неделю назад сам разбил эту лампочку, после чего долго разглядывал поблескивающие в свете фонаря тонкие стальные усики. Безобидные с виду, они несли в себе страшную энергию, которая обычного человека могла ударить или вовсе убить. Папаша как-то рассказывал про убитого током на заводе, говорил: мужик прямо почернел, схватившись за провод в триста восемьдесят вольт! Тут было всего (всего?!) двести двадцать, и Севка таки рискнул. Взялся за усики, ожидая трясучки, — а почувствовал лишь легкое пощипывание: так щипало язык, когда пробовал лепестки батарейки. Ощущение было даже приятным, поэтому Севка не сразу отпустил электроды, словно хотел зарядиться от сети. Конечно, узнай про эти «эксперименты» Рогов-старший, Севке надрали бы задницу. Другой вопрос: кто доложит? Севка не станет во вред себе языком чесать, а Лорка будет помалкивать.
Самая симпатичная во дворе, да и в школе, Лорка мало общалась с другими девчонками. То в школьном живом уголке сидит, то на балете своем скачет, то с Севкой приключений ищет, как нормальный пацан. Когда-то она и воспринималась пацаном, который даже в платье полезет с тобой через забор. Но в последнее время Севка все больше начинал чувствовать разницу. У пацанов не было бугорков, требующих сокрытия; и того, о чем нередко вспоминали взрослые в базарах за картами, тоже не было. Название этого потаенного места звенело, отдаваясь в мозгу ударом железной палки по рельсе. Иногда в это место кого-то посылали (и сам Севка, случалось, посылал), но почему требовалось туда посылать — оставалось загадкой.
Лорка выскочила во двор в спортивных штанах, еще больше похожая на пацана. Короткое «пошли!» подхлестнуло будущего триумфатора, и тот быстро пошагал вперед. Вход в подвал располагался в угловом подъезде пятиэтажной хрущевской панельки. Взрослые думали, что дверь закрыта на висячий замок, но подростки знали: тот болтается на одной петле, а ключ давно потерян.
В первом отсеке подземелья стоял картежный стол — за ним сиживали зимой или в осеннюю непогоду, играли в «буру» и в «секу». Тут всегда горела лампочка, разбил же Севка другую, висевшую в тупичке, куда и затащил Лорку. Он высветил свисающий с бетонного потолка шнур с черным патроном.
— Видишь, блестят?
Из патрона торчала стекляшка с двумя тоненькими стальными проволочками.
— Сейчас я за них возьмусь, и…
Сделав шаг, он остановился. А вдруг способности пропали, и он почернеет, как мужик на заводе? Севка утер выступивший на лбу пот, оглянулся на Лорку.
— Фонарик подержи, что ли…
Он протянул руки вперед, чувствуя, как дрожат пальцы. Осторожно взялся за холодный металл, чтобы через секунду убедиться: все нормально. Электричество струилось через его тело, приятно покалывая внутренности. Он победно оглянулся, но темнота скрывала Лоркино лицо, на котором, по идее, должно было отразиться восхищение. Смотри, Лорка, что я могу! Твоего очкарика с книжками давно убило бы, в лучшем случае сопли бы размазывал, дуя на обгорелую ладонь. Я же повелеваю электричеством, оно для меня родное, как для остальных — кровь, струящаяся по жилам! Он так явственно представил Женьку Мятлина, сидящего в углу и скулящего после удара током, что не расслышал Лоркину реплику.
— Что ты сказала?
— Я говорю: твоя лампочка, может, и не включена!
Ошарашенный, Севка отпустил усики.
— Не включена?! Да я сейчас…
Он отобрал фонарик, направил луч в угол. Ага, железка! Схватив что-то похожее на ржавый велосипедный руль, он шваркнул им по электродам, осветив подвальный тупичок снопом искр.
— Убедилась?!
Железка улетела обратно, а Севка еще раз схватился за проволочки. Он представил себя большим конденсатором, который напитывается электричеством. Заряд становится все мощнее, и если так пойдет, ему, пожалуй, и не понадобится палка с проводами — он сам будет шибать током и наглых собак, и оборзевших людей. Ка-ак шарахнет — сразу глаза на лоб!
Внезапно он почувствовал, как в спину уперлись два бугорка, а возле щеки послышалось ее дыхание. Почему-то она прижалась к нему всем телом, даже руками обхватила. Стало зябко? Или захотелось танцевать парой? Мысль была дурацкой — как танцевать, если стоишь спиной?! Он застыл, боясь пошевелиться и чувствуя, как щеки заливает жар. Бугорки жгли спину, гибкое теплое тело прилипло к нему, и вновь обретенное свойство медленно, но верно начало улетучиваться. Никакой он не конденсатор, так, перегоревшая лампа от приемника…
— Отодвинься… — хрипло проговорил он. — Ток передается: если одного трясет, то другого тоже.
Это был выход: он вроде как проявлял заботу и вместе с тем избавлялся от мучительной неловкости. Когда чужое (и одновременно — очень близкое!) тело отлипло, Севка отпустил электроды и перевел дыхание.
— Ладно, идем отсюда…
Он так и не понял: произвел ли впечатление? Когда вылезли, Лорка заговорила о какой-то чумке, которую подозревают у Греты, о ветеринарной клинике, а про Севкин подвиг — молчок. Да и его, если честно, другое волновало. Может, стоило повернуться? Обнять Лорку, как на танцах, поцеловать? Он не умел целоваться, вообще не понимал, зачем люди слюнявят друг друга, но так, наверное, положено, если ты с девчонкой, и она к тебе прижимается.
Даже катание на «Яве» после этого прошло без удовольствия, как-то дежурно. Он сразу догадался: один из цилиндров забит копотью, нужно менять кольца, но не стал зарабатывать этим авторитет. Мотоциклы, спидолы, часы были для Севки открытой и прочитанной книгой, а вот хозяйка гибкого тела и обладательница зеленых глазищ оставалась загадкой. Эта книга не просто была закрыта, она еще оказалась написана незнакомым языком, который хотелось выучить, и одновременно — было боязно заниматься его изучением…
4
По приезде на дачу мать, как обычно, полила цветы, выдернула траву на грядках и улеглась в гамак, натянутый между яблонями. Женьке предложили позагорать на газоне, но он удалился в домик. Забыв недочитанную книжку, он маялся от скуки и, когда увидел через окно задремавшую мать, выскользнул из дома.
Бесцельно гуляя вдоль участков, где почти не было народу (будний день), он вскоре оказался возле кирпичного домика с закрытыми ставнями. Ноги сами привели сюда, хотя делать здесь было нечего: дача пустовала второй сезон, с тех пор, как Лоркины родители собрались разводиться. Женька лишь однажды видел раскрытые ставни, вынесенный на улицу стол с бутылками и пылающий мангал; но Лорки тогда не было, был только ее отец с какой-то женщиной.
Нерешительно постояв у калитки, он вошел внутрь. Присел на скамейку под вишней, закинул нога за ногу, и в голове привычно зазвучали воображаемые диалоги.
— Ну как, прочитала Фраермана? — мысленно спросил Женька.
— Да, — ответили, — за одну ночь!
— И как тебе?
— Очень интересная книжка! Особенно понравилась сцена, где мальчик на своей груди имя Таня написал. То есть не написал, а оставил в виде белой кожи на фоне загара. Значит, любил ее!
— В общем, да, — снисходительно отозвался бы он. — Хотя настоящая, взрослая любовь — это что-то другое.
— Что же это?! — округлила бы она глаза.
— Трудно объяснить. Есть книжки, в которых все это описано — Мопассан, к примеру… Слышала про Мопассана?
— Нет, не слышала.
— Я дам почитать — в следующий раз. Правда, с одним условием.
— Какое условие?! Я все готова выполнить!
— Прекрати вязаться с этим Самоделкиным. Что ты в нем нашла?! Ростом маленький, все время грязный, особенно руки…
Женька знал: его внешность выигрышней. Он на полголовы выше, и волосы у него черные и вьющиеся, а не какие-то блондинистые вихры. Его портили очки, прописанные еще в третьем классе, но Женька надевал «линзы» только на уроках, после чего моментально срывал с носа.
— Придется с ним расстаться… — грустно сказала бы Лорка. — Но ты ведь не дашь мне скучать?
— Со мной, Лариса, не соскучишься!
И — открылись шлюзы, Женька едва не захлебнулся в бурном словесном потоке, хлынувшем на воображаемую собеседницу. О-о, сколько он мог бы рассказать! Его голова была переполнена знаниями и образами, впитанными из книг, вот только делиться было не с кем. Взять, к примеру, последнюю прочитанную книгу под названием «Могила Таме-Тунга», где писалось о тайнах одного древнего племени и пришельцах, которые, возможно, снабдили это племя тайными знаниями. Никто не читал такой книжки, Женька справлялся у школьных знакомых, а вот он — читал! Даже в Мопассана кто-то из ровесников уже заглядывал; и «Декамерон» кое-кем был изучен, а «Могила Таме-Тунга» словно была издана в одном экземпляре. Возможно, он бы поведал о том, как воображаемая история превращается в жизнь (разумеется, под большим секретом). И в итоге Лорка…
Когда он вернулся, мать по-прежнему спала. Надо лбом барражировала одинокая пчела, Женька отогнал ее, после чего поднял выпавшую из рук роман-газету. На обложке было написано: Юлиан Семенов, «ТАСС уполномочен заявить». «А меня Толстым мучает, — усмехнулся он, — хочет, чтоб „Войну и мир“ начал читать. А я буду — „Войну миров“!» Женька аккуратно подложил детектив в гамак и отправился загорать.
Возвращались под вечер, когда на Советской зажгли фонари. По освещенной части широкого тротуара, как всегда, неспешно фланировала публика, из-за чего за улицей закрепилось название: Бродвей. Здесь демонстрировали «фирмовые» наряды, включали на полную катушку «Спидолы», знакомились и т. п. Женька про себя смеялся: тоже мне, Бродвей! Напялил джинсы, врубил приемник, и вот — уже в Америке! Но, когда мать решила идти по освещенной части, утащил ее на темную. Здесь почти не было людей, значит, никто не увидит его с дурацкой кошелкой в руках, да еще под опекой матери. «Учительский сынок» и «очкарик» были самыми мягкими из прозвищ, которыми его награждали, и заработать еще одно не было никакого желания.
Дома он дождался, когда мать удалится в кухню, чтобы тут же ринуться к книжным полкам. На уровне его роста стройными рядами теснились одинаковые корешки с золотым тиснением: «Большая советская энциклопедия». Это были залежи разнообразной информации, живительный кастальский ключ, к каковому Женька приникал, если в жизни возникало белое пятно.
Он раскрыл «БСЭ» на букве «В». Судя по приведенной статье, ничего хорошего слово «вуайерист» не заключало; хотя мать, конечно, не права. Ему нужна лишь пища для воображения, а сама по себе дворовая жизнь неинтересна. А жизнь матери? Тоже неинтересна, хотя она и пыталась что-то читать, куда-то ходить, и сына к этому приучала. Но это ведь Пряжск, он и человека со столичным образованием раскатает в блин, как прокатный стан — стальную болванку. Их класс водили на экскурсию на сталелитейный завод, где Женька видел эти чудовищные машины, с легкостью формующие раскаленные заготовки. Вот и здесь тебя подминает и плющит жизнь, заставляя возиться с дебилами, потом либо в колонию попадут, либо в ПТУ. Бессмысленно таким разжевывать образ Онегина, не в коня, как говорится, корм…
Он хотел было еще раз выйти на балкон, чтобы посмотреть сквозь окуляры на вечерние окна, потом раздумал. Мать вряд ли такое одобрит, да и волновало сегодня другое. Может, Лорку в кино пригласить? На классный какой-нибудь фильм, чтобы «детям до шестнадцати»? Но как быть, если купишь билет (об этом всегда можно взрослых попросить), а на контроле тебя не пустят? Размышляя на эту тему, Женька ждал, когда мать отправится спать. А когда дождался, взял стоявшую в углу стремянку и, стараясь не шуметь, приставил к книжным стеллажам.
На самой верхней полке, почти под потолком стоял ряд книг, которые Женьке было рано читать. То есть так считала мать, он же регулярно туда лазил, подтверждая известное высказывание о запретном плоде. Сейчас, впрочем, он забрался на верхотуру с иной целью. Лорка просто обязана была прочесть затрепанную книжку с простым названием «Жизнь». Нельзя сказать, что вся она была интересной, но от отдельных сцен буквально бросало в жар…
Женька засунул книжку за пояс, быстро спустился вниз и, вернув стремянку на место, отправился к себе в комнату.
5
На выходных папаша не вылезал из мастерской: что-то сверлил, шлифовал, стучал молотком, даже на обед не выходил.
Гул станка прекратился в воскресенье вечером. Старший Рогов вышел из комнаты с поднятыми на лоб очками, задумался, после чего отправился мыть руки. Мать позвала ужинать, но тот молча оделся и куда-то ушел. А спустя час вернулся с Борисом Сергеичем, одноногим школьным трудовиком.
Преподаватель по труду был старым папашиным другом: когда-то они вместе учились в технологическом, вместе устроились на автозавод, вообще были не разлей вода. Судьбы разошлись, когда Сергеич (так называл дружка папаша) угодил под гильотину, рубящую металлические детали. Полез ее ремонтировать, все наладил, а какой-то мудак возьми и включи раньше времени! Ногу выше колена отхватило, будто бритвой, а значит, прощай, родная проходная, хорошо еще, в школу работать взяли. Что Севке, вообще-то, было выгодно. Обтачивать гайки или выстругивать деревянный автомат Калашникова было скукой смертной, а тут — знакомый учитель, водочку пьет на Севкиной кухне, да и вообще души в нем не чает. «Учитесь, остолопы! — показывал он, бывало, Севкину продукцию. — Золотые руки у парня, а у вас?! Руки-крюки, какую пользу вы можете людям принести?!»
Больше часа отец с приятелем торчали в комнате, страстно о чем-то споря. Севка не мог всего расслышать, но слова «перпетуум мобиле» расслышал, как и слово «патент». Первое, насколько он знал, означало «вечный двигатель», какового, по утверждению ученых, не может быть, второе было документом, удостоверяющим право на изобретение. У Рогова-старшего имелось несколько свидетельств, удостоверявших его рацпредложения, только Севка запросто заткнул бы его за пояс (если б дали развернуться, конечно).
— …Короче, он не может работать!
Весь красный, Борис Сергеич вывалился из комнаты и похромал в кухню.
— Но он же работает?! — не отставал папаша. — Ведь работает?!
— Значит, есть какая-то хитрость!
Спор продолжили за бутылкой, купленной по дороге. А Севке тут же захотелось ознакомиться с плодами родительских трудов. Убедившись, что выпивать сели надолго, он приблизился к дверям мастерской. Рогов-старший вообще-то не приветствовал визиты сына в святая святых, но дверь все-таки не запирал.
Мастерская оказалась завалена инструментами, промасленной ветошью, только верстачок с маленькими тисками был чистым. На верстачке стояло некое металлическое устройство, вроде как система противовесов, собранная из металлических шаров на небольших штырях. Один из штырей служил маятником и — качался. Без всякого привода, качался сам собой! Не поверив поначалу глазам, Севка внимательно обследовал «мобиле». Устройство не имело мотора; и батарейки не было; и провод к сети не тянулся, а шар между тем ритмично двигался влево-вправо! Значит, не прав физик Гром? Это же он говорил, что вечного двигателя быть не может, но вот, работает прямо на глазах!
Его позвали на кухню, когда бутылка была опорожнена. Вытянув в сторону протез и сияя пьяным румянцем, Сергеич потрепал Севку за плечо:
— Этому ставлю только пятерки с плюсом! Разрешали бы ставить шестерки — ставил бы без размышления! Твое, Ванька, семя! Этот себе всегда кусок хлеба заработает, на паперти не окажется!
— Главное, чтоб в не столь отдаленных местах не оказался… — усмехнулся папаша.
— Это еще почему?! — округлил глаза трудовик.
— Шляется, где не положено. А? Чего молчишь? Я ведь правду говорю.
Севка опустил глаза.
— Не шляюсь я нигде…
— Шляешься, шляешься! И девчонку соседскую с собой таскаешь! Хорошо, Сашка охране сказал, что обознался, и никакой ты не Рогов…
Достав из буфета вторую бутылку, папаша разлил водку по рюмкам.
— Давай, прекращай партизанщину, а то задницу надеру.
Трудовик провел рукой по Севкиному загривку.
— Не трогай парня, он умница… Вырастет — гордиться будешь! Твои маятники для него будут — семечки!
— Ну, ты-то, положим, секрет не разгадал!
— Я не разгадал, а он — разгадает!
— Что из тебя вырастет? — вопрошал папаша. — А? Ты какой-то другой. Знаешь, Сергеич, что с ним в младенчестве было? Он шпильку материну в розетку сунул. Короткое замыкание, искры, а этому хоть бы хны! Даже пальцы не обжег, держался до последнего, хотя тут и взрослых убивает на раз! Его к электричеству тянет, как муху на говно!
Скажи Севка, что та шпилька была не единственной, да еще прибавь про лампочку в подвале, гореть бы заднице огнем. Да только он не дурак — себя раскрывать.
Оба собутыльника с интересом рассматривали юного феномена. Тот, в свою очередь, оглядывал протез Бориса Сергеича и представлял, что остальное тело тоже неживое, то есть состоит из протезов. А что? Есть ведь роботы, о них даже в технических журналах пишут. Искусственные ноги, руки, голова, а управляет этим электроника, помещенная хоть в голову, хоть в задницу (полупроводники много места не занимают). Он понимал: человек — не мотоцикл и не приемник, он гораздо сложнее, но при желании и его можно разобрать на составляющие. А потом опять собрать, только в более совершенном варианте. Где-то подточить, подправить, вставить новую пружину, усилить моторчик, глядишь — как новенький будет! Что такое, если разобраться, любой человек? Он ведь тоже в каком-то смысле робот, очень сложная машина; а человечество, выходит — сборище машин, которые перемещаются с места на место и что-то делают.
Размышляя об этом позже, Севка решил, что понял о жизни что-то важное. А потом и вовсе дух захватило, когда задумался о бессмертии. Не то, чтобы он боялся смерти — редко об этом думал, голова была занята другим. Но во дворе время от времени играла траурная музыка, из какого-нибудь подъезда выносили обитый красным гроб, и процессия погруженных в печаль людей отправлялась на кладбище по пути, усыпанному еловыми лапами. Из-за этого Севка терпеть не мог еловый запах; даже украшенная новогодней мишурой и фонариками, елка автоматически пробуждала мысли о похоронах. Но если человечество снабдить искусственными частями тела, похорон вообще не будет! Ведь если есть вечный двигатель, то и вечное тело может существовать!
Ради подтверждения мысли Севка иногда заходил в мастерскую, где наблюдал одну и ту же картину: маятник качался с той же амплитудой, хотя с момента запуска прошла уже неделя. Потом еще неделя прошла, а амплитуда не уменьшилась даже на миллиметр. Что означало: бессмертие не за горами!
Мысль утратила четкость, когда в очередной раз отправился к ДК автозавода. У дома культуры с колоннами и гербом на фронтоне имелась остекленная пристройка — сюда Севка нередко пробирался тайком и глазел через стекла на происходящее внутри. Первый ряд стекол был матовым, поэтому приходилось взбираться на цоколь, да еще приподниматься на цыпочках, чтобы увидеть зал с зеркалами и деревянными поручнями, где полтора десятка одетых в черное трико девчонок махали ногами, плавно двигали руками или приседали, раздвигая коленки. Это называлось «хореографический кружок», в котором занималась Лорка. Севка считал, что она тут — лучшая, ее движения были настолько точными, будто руки с ногами управлялись сверхсложной электроникой. Носки врозь, рука вверх, нога в сторону — и все так здорово, согласованно, как у совершенной машины! Вот только самые красивые в школе (а может, и в городе) ноги почему-то не хотелось менять на протезы, пусть даже ради ее бессмертия. Без сомнения, Лорка его заслуживала, но как тогда дотронуться до бугорков на груди, если они будут протезными?! А если к тебе прижмется собранное из искусственных частей существо, как недавно в подвале — замрешь ли от предвкушения чего-то запретного и сладостного? В итоге Севкин мозг оказывался в тупике, и выстраданная доктрина, можно сказать, трещала по швам.
На этот раз он наблюдал прыжки, когда девчонки по очереди проходили диагональ, выпрыгивая и растягиваясь в воздухе в шпагат. Лорка классно прошла диагональ первый раз, во второй, а вот на третий — упала! Она сидела на паркете, схватившись за ступню, рядом суетилась руководительница кружка, Севка же пребывал в недоумении. Ее было жалко, конечно, а с другой стороны: совершенная машина не должна ломаться! Она призвана работать вечно, как «перпетуум мобиле»!
— Опять подглядывал? — спросила Лорка, когда встретились на ступенях ДК.
— Почему подглядывал? Просто смотрел, как вы там… — Он указал на ее ногу.
— Болит?
— Терпеть можно. А ты лучше бы на спектакль приходил. Чего интересного в репетициях?
По дороге домой он представлял, как из сумерек выходят двое, нет, лучше трое блатных. И, конечно же, просят закурить. Севка лениво лезет в карман, будто за пачкой, на самом же деле достает эбонитовую палку с двумя проводами. Бац! — и первого трясет! Бац! — у второго искры из глаз! Третий сам обращается в бегство, а Севка незаметно прячет палку в карман.
— Как ты это сделал?! — округлила бы глаза Лорка.
— Очень просто, — ответил бы он, не раскрывая секрета. Он так явственно представил героическую сцену, что прослушал какую-то важную реплику.
— Не понял… Какой еще кислород?!
Лорка остановилась.
— Уши мыть надо. Я говорю: в аквариум кислород перестал подаваться, без него рыбы погибнут!
— А-а… Так это… Надо компрессор починить.
— А сможешь?
— Спрашиваешь!
Забыв про ее ушибленную ногу, Севка даже шагу прибавил, предвкушая очередную победу. Пусть блатных нет (да и «электрошок» по-прежнему только в проекте), зато он сможет обеспечить живительным воздухом всех этих гуппи и вуалехвостов, от которых Лорка без ума. Настоящий зоопарк развела: овчарка Грета, две кошки, черепаха между окон шебуршит, да еще целый аквариум разноцветных рыб, за которыми глаз да глаз! Севка привык, что на усыпанном камушками дне что-то булькает; но теперь, кажется, нужны его руки, чтобы забулькало опять.
Разобрав крошечный компрессор, Севка выискивал причину поломки. Он старался дышать ртом, хотя запах псины и кошатины в квартире едва чувствовался. Ну, не любил он животную вонь. То ли дело запах канифоли или металлической стружки — не надышишься, как говорится, а здесь что?! Он с удовольствием зажал бы нос, да руки были заняты.
Подойдя к аквариуму, Лорка бросила туда корм.
— Ты скоро? — спросила с тревогой. — А то мой барбус уже еле плавниками шевелит…
— Сделаю, не беспокойся…
Поначалу он был уверен, что сделает. Но прошло десять минут, полчаса, а причина поломки оставалась неясной. Севка попросил найти машинное масло, Лорка принесла, только спасительных пузырьков по-прежнему не появлялось.
— Давай, дыши, дыши…
Она стучала по стеклу, пытаясь расшевелить крупную полосатую рыбку, приникшую снизу к зеркалу воды. Рыбка медленно шевелила жабрами, затем стала поворачиваться набок.
— Что же ты?! — обернулась Лорка с отчаянным выражением лица.
— Сейчас, сейчас… — бормотал он. Неожиданно из руки выскользнул крошечный винтик, закатился под диван, так что пришлось ползать и искать его на ощупь. Когда Севка поднялся, барбус уже завис кверху брюхом.
— Вот, винтик… — вытянул он ладонь. Лорка ничего не ответила — по ее щекам текли слезы. По счастью, в этот момент хлопнула входная дверь. Это была тетя Света, Лоркина мать, она работала медицинской начальницей и приходила домой поздно. Тетя Света много и часто курила, вот и сейчас, войдя в комнату и кивнув Севке, сунула в рот сигарету.
— Мам, я же просила… — хлюпнула носом Лорка.
— Что? Ну да, забываю…
Не став прикуривать, мать бросила взгляд на аквариум.
— У нас, вижу, трагедия… Может, отдашь их в хорошие руки?
Лорка отвернулась к окну.
— У меня самой хорошие руки!
— А вот аквариум никудышный. Отдай Говоровым, у них и аквариум больше, и воздух исправно подается…
Севка выступил вперед.
— Это я во всем… В общем, не смог починить, потому она и сдохла…
— Умерла! — еще раз хлюпнула Лорка.
— Еще скажи: погибла смертью храбрых! — насмешливо проговорила мать. Приоткрыв дверь на балкон, она встала у образовавшейся щели и щелкнула зажигалкой.
— А ты, значит, не справился? Странно, о тебе рассказывают такое… Прямо технический гений!
— Кто рассказывает-то? — пробормотал Севка.
— Да вот она.
— Никакой я не гений… Просто не успел, мне время надо, чтобы разобраться.
— Так разбирайся, — пыхнула дымом тетя Света. — Сам видишь: рыбок она не отдаст; а если воздуха не будет, остальные тоже героически погибнут.
— Мама! — дернула головой Лорка.
— Молчу, молчу…
Как когда-то он молился о том, чтобы из цеха появилась машина, так и сейчас, перебирая детальки, просил своего бога о скорейшем исправлении механизма. За время работы кверху брюхом всплыли сом с вуалехвостом, что вызвало новый прилив Лоркиных слез, — и тут пузырьки пошли! Опущенный в воду компрессор бодро забулькал, причем Севка сам не понял: почему? Вроде он ничего особенного не делал, механизм включился сам по себе, вроде как его молитва была услышана…
— Ты заработал чай, — сказала тетя Света. — С наполеоном и вареньем.
Севка и сам был готов праздновать победу. Он ожидал слов благодарности, но подружка лишь беззвучно рыдала, вылавливая сачком погибших рыбешек.
— Чего ревешь-то? — скривился он. — Вон у тебя их сколько осталось!
— Ты что — совсем тупой?! Они же были живые! А теперь мертвые! Это твой дурацкий компрессор можно остановить, включить, а с ними так нельзя!
Поразмыслив, Севка решил не обижаться. В нем даже шевельнулась жалость к Лорке, которая переживает за каких-то сдохших рыб. Видела бы она, как пацаны на Пряже динамитом рыбу глушат — там полреки кверху брюхом всплывает! Причем не барбусы какие-нибудь, а лещи по килограмму, судаки да щуки! Что-то ему подсказывало: здесь кроется слабость острой на язычок подружки; а чего спорить со слабыми? Их жалеть нужно…
Только жалеть пришлось себя — чуть позже, когда хрустел наполеоном, пребывая на верху блаженства. Речь зашла о какой-то собаке, что не удивляло. И пусть собака была дикой, и звали ее не Грета, а Динго — какая разница? Но когда выяснилось, что говорят о книжке Женьки Мятлина, пирожное застряло в горле.
— Ты дочитала или нет? Он интересуется. Встретил меня на улице и говорит: если дочитала, я кое-что новое принесу.
— Скоро дочитаю, — отвечала Лорка.
— Давай, давай, образовывайся, а то одни танцы на уме…
Он поглощал сладкое, не чувствуя вкуса. Казалось: напротив уселся этот чернявый хлыщ и, заложив ногу за ногу, затрындел о своих книжках.
— А кто это жует наполеон?! — вскинул бы он бровь, сделав вид, что не сразу заметил Севку. — Самоделкин?! Да гоните его отсюда в шею!
У Севки даже скулы свело, когда представил такое. Он твердо решил: еще раз услышит прозвище — даст в зубы. Еще в прошлый раз дал бы, да Лорка их развела, мол, нечего тут петушиться!
Он так и сидел с одеревеневшей спиной, хотя тему давно сменили. Тетя Света вдруг сделалась серьезной, заговорила о каком-то обмене; а Лорка опустила голову, замолчав. Воспользовавшись этим, он выскочил из-за стола, мол, дома ждут, и прошмыгнул в прихожую. Последнее, что уловил, было:
— …может, нам придется уехать.
— Почему?! Я не хочу!
— Поведение твоего отца невыносимо, ты это понимаешь?!
Он вышел на лестницу и тихо прикрыл за собой дверь. Уфф… Вот так всегда: сделаешь ей что-то хорошее, а потом не знаешь, как ноги унести!
По пути домой он размышлял о странных отношениях ее родителей, которые находились в разводе, но пока не разъехались. Лоркин отец иногда жил в их квартире, иногда не жил; бывало, вообще надолго исчезал, чтобы вдруг появиться во дворе с какой-нибудь красивой и нарядно одетой женщиной. Он вел очередную фифу под руку, заводил в подъезд, и если тетя Света была дома, за дверью квартиры начинался скандал. Иногда ссора выплескивалась на балкон, но чаще либо отец с фифой покидали дом, либо взвинченную тетю Свету увозила куда-то вызванная служебная машина. А Лорка в такие дни даже лицом чернела, потому что любила и мать, и отца. Только рассказывать об их отношениях не хотела; да и слушать чужие сплетни — тоже. Если бы хотела, Севка давно бы рассказал историю, свидетелем которой стал на эти майские праздники.
Получилось все случайно, во время возвращения со свалки через лес. Этот лес славился тем, что сюда нередко наведывались парочки: прихватив бутылку вина или водки, мужчины и женщины вроде как отправлялись на прогулку, чтобы исчезнуть в густом березняке. Когда спустя час-другой они выходили обратно, женщины поправляли платья, подкрашивались на ходу, делая вид, что ничего не произошло. Только пряжские пацаны были отлично осведомлены о том, чем они занимаются. Парочки выслеживали, ныряя за ними в глубь леса; подчас и глуби не требовалось — газеты или прихваченные покрывальца расстилали едва ли не на опушке. Дальше нужно было лишь занять удобную позицию для наблюдения. Если же не смог — слушай рассказы очевидцев, собиравших благодарных слушателей, что хихикали, ощупывая вздутия в штанинах. «А он ее… А она у него…» Севка всегда был слушателем скабрезных историй, свидетелем же сделался совершенно неожиданно.
Он сразу узнал высокого черноволосого мужчину, которого дворовые бабки именовали: кобель. Закинув за плечо пиджак, тот вел незнакомую женщину в цветастом платье, целуясь с ней на ходу. Иногда они останавливались, приникали друг к другу, и следовал такой засос, будто каждый хотел выпить другого. Севка, понятно, тут же спрятался за куст. И хотя мог бы спокойно слинять (парочка ничего вокруг не видела), почему-то остался. Пиджак вскоре полетел на траву, женщина повернулась спиной, чтобы расстегнули платье; потом сама его стащила, оказавшись без лифчика, и начала расстегивать ремень на брюках мужчины. Странно было видеть, как двое взрослых раздеваются догола, судорожно пытаясь гладить один другого, дотрагиваться губами до разных мест, будто оба сбрендили.
Жаль, не хватило духу досмотреть до конца — стараясь не хрустеть сучьями, Севка удалился в лесную чащу. А потом полночи не спал, вспоминая увиденное и размышляя: доложить обо всем Лорке? Или не стоит?
Он решил не рисковать, но сейчас вдруг подумал: если будет с Женькой вязаться, он ей все выложит. Еще и тете Свете расскажет, чтобы ей тоже было обидно до смерти, вот тогда-то Лорка пожалеет о своем выборе!
Но мысли о мести вскоре вытеснило смутное телесное желание. Севка даже рубашку специальную надел, навыпуск, чтобы не докапывались насчет заметного бугорка на месте ширинки. В их доме это вообще не обсуждалось. Наверное, родители тоже занимались этим (иначе откуда бы Севка взялся?), но как-то незаметно, втайне от него.
Он слонялся по квартире, не зная, чем себя занять. Протравленная печатная плата сиротливо лежала на столе без единой впаянной детали, а он маялся от тяжести в паху, что была готова выплеснуться неконтролируемым фонтаном. Когда забрел в кухню, стоявшая у плиты мать озабоченно взглянула на ходики.
— Полвосьмого, а его нет! Ему что — медом на этом заводе намазано?!
— У них конец месяца, — снисходительно пояснил Севка. — В это время всегда напряженка…
— А у тебя конец учебного года! Ты уроки сделал?!
— Да сделал я все…
— Смотри мне!
Пользуясь отсутствием отца, Севка пробрался в мастерскую. Маятник по-прежнему ритмично ходил туда-сюда, доказывая, что небывалое — бывает, только «перпетуум мобиле» почему-то мало волновал. А вот вздыбленная плоть — волновала. Севкой тоже завладела непонятная сила, как теми сумасшедшими в лесу, подталкивая воображение и заставляя представлять сладостные картины. По сути, она подчиняла, командовала Севкиным телом, отчего было неприятно и одновременно — приятно…
Ночью он двигался по лесу с девчонкой, одетой в балетную пачку. Она была не похожа на Лорку, но Севка почему-то был убежден: это именно она. Он крепко держал Лорку за талию, пытаясь целовать на ходу, точнее, тычась губами в ее сомкнутые губы. А глаза шарили по сторонам, выискивали местечко, где можно заняться тем самым делом.
Найдя укромную ложбинку, Севка взялся стаскивать с подружки пачку, — да не тут-то было! Дурацкая балетная одежда будто прилипла к телу, не оторвешь, а значит, и до заветного места не доберешься.
— Не спеши… — проговорила Лорка. — Там кто-то идет.
Севка вполуха прислушался.
— Брось! — отмахнулся он. — Лучше сними эту ерунду — сама!
— Нет, — покачала головой Лорка. — Сюда идет черный мухобой!
— Да перестань ты! — злился Севка, приплясывая в нетерпении. — Снимай сейчас же!
Лишь когда совсем близко раздался хруст, он обернулся. Среди деревьев виднелся черный силуэт того, кто пожирает пацанов и вряд ли побрезгует девчонкой. А тогда ноги в руки — и вглубь леса, подальше от этого урода, жаль, что Лорка (или кто-то похожий на нее) так медленно перебирает ногами. Давай быстрее, ты не на балете! Он тянул ее за руку, петлял между деревьями, чтобы вскоре оказаться на огромном летном поле.
— Убежали… — проговорил, отдышавшись. Не сразу дошло, что на аэродроме укромного места не найдешь, так что его планы накрылись. А тут еще самолет в небо поднялся, и девчонка в пачке задрала голову:
— Я знаю, кто там летит!
— Кто же? — скривился Севка, заранее зная ответ.
— Женя! А вон бегут дикие собаки Динго!
Обернувшись, Севка заметил, как от самолетных ангаров отделилось несколько черных точек и, подпрыгивая, понеслось к ним. Не в силах терпеть, он изо всей силы прижался к Лорке (не похожей на Лорку), и вдруг почувствовал сладостное облегчение…
6
Лето вступило в свои права незаметно, по сути, границы между маем и июнем не было. Вот только школа не кончилась, потому что после седьмого класса полагалась практика, то есть еще десять дней ходи в те же классы и крась подоконники.
— Тебе, Мятлин, спортзал доверяю, — говорил одноногий трудовик, вручая ведро с краской и кисть. — Оправдаешь доверие?
— Доверие… — с тоской отзывался Женька. — Зал же большой очень!
— Так и практика не завтра заканчивается. Иди, короче, работай. Только нормально — не так, как автомат делал…
Борис Сергеич намекал на Женькин «шедевр» — деревянный автомат Калашникова, который он делал вместе со всеми в первом полугодии. Худо-бедно ему удалось выстругать цевье, ствол и закругленный магазин; вот только соединяться вместе отдельные части отказывались. Точнее, соединялись, но целое напоминало, скорее, оружие для стрельбы из-за угла (ствол основательно уводило влево). Когда трудовик поднял Женькино изделие над головой, класс грохнул от хохота. Потом, говорили, испорченную заготовку отдали Рогову, тот в два счета довел автомат до ума, только от этого было не легче. Вот уж кто ухохотался, наверное; еще и Лорке потом наверняка рассказал, этого Севка не упустит…
Радовало одно: он работал в одиночку, значит, мог сколько угодно воображать и сочинять, разделывая недоброжелателей под орех. Трудовика он представил одноногим пиратом Джоном Сильвером; тому разве что попугая не хватало, только вместо слова «пиастры» он бы орал: «Работай! Работай!» Себя же он воображал Томом Сойером, хитроумным и находчивым, между прочим, сумевшим с легкостью увильнуть от обязанности красить забор. Вот если сейчас кто-то войдет в зал, он сделает так, что тот будет красить вместо него. Размазывая вонючую краску, Женька поглядывал на вход, но никто в дверях не показывался.
Оставив подоконник недокрашенным, он вышел в коридор, чтобы вскоре оказаться у двери, на которой висело мультяшное изображение зайца с волком и табличка: «Живой уголок». Из-под двери тянуло животным запахом, и Женька затормозил, размышляя: зайти? Или ну его? Среди четвероногих (а также летающих и плавающих) друзей проходила практику Лорка, но пахнет в этом уголке… «Ладно, перехожу Рубикон!» — подхлестнул он себя крылатыми словами.
Ни Лорки, ни еще кого-то за дверью не оказалось. Жевали клевер кролики, щелкали крючковатыми клювами клесты, а вот люди отсутствовали.
Лорка появилась внезапно, с прикрытой материей клеткой в руках.
— Привет. Тебя уже отпустили?
— Ушел на перерыв. А ты скоро заканчиваешь?
— Не скоро, — ответила озабоченно. — У нас хамелеон заболел.
— Хамелеон?!
Когда она сдернула материю, взгляду открылась травяная подстилка, на которой лежала странного вида серая ящерица. Она сохраняла неподвижность, огромные в сравнении с тщедушным тельцем глазницы были прикрыты, из-за чего складывалось ощущение, что рептилия приказала долго жить.
— Он живой вообще-то?
— Живой, но болеет. Я его на солнце сейчас греться носила: это же южная ящерица, ей тепло нужно…
Поставив клетку на подоконник, Лорка постучала по ней пальцем, но хамелеон не среагировал. А Женьке почему-то вспомнился рассказа Чехова. В принципе, можно было блеснуть — Лорка-то «Хамелеона» только в будущем году будет проходить, он же осваивал школьную программу с упреждением. Только форс был вроде не к месту, ее явно другое заботило…
— А чего он серый? — спросил Женька. — Хамелеон должен цвет менять.
— Это здоровый хамелеон цвет меняет. А больному не до того.
Эврика! Он расскажет о своей способности представлять разные цвета, когда видел буквы или цифры! Например, буква «Л» была желтой, а цифра «2» вызывала стойкую ассоциацию с лиловым цветом. Когда математичка или физик Гром влепляли Женьке двойку, перед глазами плыло лиловое марево, даже стены в классе обретали сиреневый оттенок. Если верить «БСЭ», такая способность именовалась: «синестезия». И было очень жаль, что учителям она до лампочки, им главное учеников мучить, уж это Женька знал, как никто…
— Надо же… — качнула головой Лорка. — А буква «Ж» какого цвета?
— «Ж» — зеленого. Точнее, темно-зеленого.
— А буква «С»?
— А-а… При чем тут «С»?
— Просто спросила.
— Нет, при чем тут «С»?! — загорячился он.
— Притом. Хвастаться вы любите — что ты, что Сева… Он недавно про черного охранника со свалки рассказывал, ну, вроде тот мертвец, но все равно ловит ребят. Так вот Севка хвастал, что нисколько его не боится. А чего тут бояться? Это ведь выдумки, не может мертвый живых ловить. Живое — это живое, а мертвое — это мертвое.
Она взглянула на клетку с хамелеоном.
— Гляди, глаз открыл! Видишь? Он еще поправится!
— Куда он денется… — пробормотал Женька.
Полудохлая ящерица мало интересовала, а вот черный мухобой… О нем трепали языком те, кто любил ковыряться в заводских отходах. Мол, ближе к ночи тот выходит через заводские ворота (запертые на замок!) и бродит по свалке, выискивая припозднившихся искателей сокровищ. И если солнце зашло, хватает ротозея и утаскивает с собой. Сказка? Это с какой стороны посмотреть. Выдуманная кем-то история постоянно обрастала подробностями, тех, кто видел черного охранника, становилось все больше; был даже случай, когда исчез отправившийся на свалку подросток. Получалось, что выдумка оживала, история превращалась в реальность, и оставалось только сожалеть, что выдумал это не Женька.
Договорить не дал трудовик, заглянувший в живой уголок.
— Вот он где! — воскликнул. — Смотрю: ведро стоит, а маляра след простыл! Давай-ка, отправляйся работать!
После окончания выпускных экзаменов матери потребовалось съездить в Каменск-Уральский, Женьку же отправляли в лагерь.
— Не хочу в лагерь! — заныл Женька, только мать была непреклонна. Иногда она уезжала в этот самый Каменск-Уральский, к какой-то родне, сына с собой не брала, и тому приходилось отбывать смену в пионерском лагере.
Всучивание запретной книжки произошло незадолго до автобуса. Книга была изъята с верхней полки несколько дней назад, и, поскольку изъятия не заметили, можно было смело отдавать Мопассана на прочтение. Понятно, Женька подстраховался: впихнул книгу в кожаную суперобложку, надежно скрывавшую имя автора и название.
— Что за книжка? — поинтересовалась Лорка, когда встретились возле грибка.
— Да так… Если хочешь, могу дать почитать.
Женька замер: вдруг откажется? Но Лорка молча взяла книгу и сунула в сумку (она шла из магазина).
— Значит, через месяц вернешься?
— Через месяц… — вздохнул Женька.
Она могла сказать: а давай я к тебе приеду! Ты сбежишь после обеда, мы пойдем на пруд, будем купаться до самого вечера и говорить, говорить…
Но Лорка этого не сказала.
Спустя два часа он уже стоял в строю на стадионе лагеря «Костер». Шло распределение по отрядам, и Женьку по какому-то недоразумению отправили в третий, где все были на год (а то и на два) младше. Отойдя с чемоданом вместе с отобранной группой, Женька озирал строй, флагшток, суетящихся вожатых, представлял дурацкие выкрики на линейке: «Наш отряд… Наш девиз…» и все больше погружался в тоску. Отчасти успокаивало то, что в лагере имелась неплохая библиотека. Он уже прикидывал: можно сымитировать болезнь, попасть в изолятор и, обложившись книжками, провести там полсмены. Тогда линейки, пение у костра и прочая пионерская фигня будут побоку.
В первый же день их заставили убирать территорию. Лагерь был выстроен в сосновом лесу, сверху постоянно сыпались шишки, значит, очищай территорию, пионер! Женька лениво наклонялся и бросал шишки в корзину, прибавляя темп, лишь когда появлялся вожатый Вазген Микаэлович, чернявый и шустрый.
— Как дела, Еугений? — хлопал тот по плечу. — Нормално? Смотри, ты тут старший!
После этого вожатый исчезал, а Женька, хочешь не хочешь, должен был играть роль «старшего». Оттащив две собранных корзины шишек к помойке, он посчитал роль исполненной. Библиотека еще не работала, и он, прихватив бинокль, уединился на лесной проходной. Главная проходная была открыта, там постоянно торчали дежурные, лесной же пост был на замке, и будка без стекол пустовала, представляя собой идеальный наблюдательный пункт.
На стадионе гоняли мяч ребята постарше, похоже, из первого отряда. Среди играющих выделялся один — длинный, с блондинистыми волосами, он умело обводил соперников и то и дело посылал мяч в ворота. Посмотрев игру, Женька перевел бинокль на изолятор, куда так желал попасть. Желтое строение с красным крестом на стене стояло на отшибе, с задернутыми занавесками и запертой дверью. «Ничего, — думал Женька, — еще не вечер. Будут и отравившиеся, и простудные, и повредившие суставы на футболе, так что отопрете двери, как миленькие…» Третьим объектом наблюдения оказалась столовая, благо, дело двигалось к ужину, и под ложечкой уже сосало. Отсюда просматривалась ее тыльная часть: там стояли тележки, фляги для молока и большие алюминиевые котлы.
Неожиданно возле черного дверного проема возникла фигура вожатого. Скрывшись в проеме, Вазген Микаэлович вскоре появился со стаканом компота и с рыжей раздатчицей (в обед именно она расставляла по столам кастрюли с гороховым супом). Попивая компот, вожатый что-то ей говорил, она же хихикала, прикрывая рот ладонью. А Женька почему-то подумал, что с таким начальником отряда хорошей жизни не жди…
Вечером он играл с Вазгеном Микаэловичем в пинг-понг.
— Опа! Опа! — азартно кричал тот, нанося удары. — Почему такой медленный, Еугений?! Как вареный, честное слово, прямо смотреть на тебя не могу!
— Я шишки собирал! — отбояривался Женька. — Устал очень!
— Пионер не должен уставать! Он это… Всем пример! Опа!
Дважды выиграв, вожатый в очередной раз похлопал его по плечу.
— Можешь называть меня просто Вазген. Вижу, ты парень умный, так что будешь мне помогать. Скоро отбой, значит, в десять все должны лежать в кровати. Проследишь, хорошо? А я тебе разрешу не спать на тихом часу!
После этого он опять исчез, чтобы появиться уже после отбоя, в компании с рыжей раздатчицей. Они сидели под окнами, тихо смеялись, потом надолго ушли гулять. А Женьке пришлось успокаивать почуявший волю отряд. Окрики не действовали, и он решил утихомирить разбушевавшуюся шантрапу байками.
— Кто-нибудь читал «Квентина Дорварда»? — задал он вопрос в темноту, полную гвалта и хихиканья. В ответ раздалось нестройное «не-ет».
— Тогда всем по койкам, и слушать меня!
Этот рыцарский роман Вальтера Скотта был прочитан еще год назад, но почему-то застрял в памяти. Шантрапа, навострив уши, тут же успокоилась, а Женька, когда закончил болтать, в очередной раз отметил для себя великую силу историй. Это как масло на воду лить, или, допустим, дудеть в дудочку Крысолова, который сумел получить власть над целым городом.
Следующим вечером история была продолжена. По ходу Женька умудрился плавно перескочить на Марка Твена, вспомнив «Янки при дворе короля Артура», причем подмены почти не заметили. Кто-то из темноты спросил: это тот же роман? И Женька без труда уверил, мол, тот же самый, только речь уже о других рыцарях, увиденных глазами человека будущего.
Вазген Микаэлович действительно разрешил не спать на тихом часу, даже уходить за территорию позволял. Это были минуты свободы: Женька тут же срывал постылую «селедку», то бишь, галстук, и превращался в обычного подростка. Бывало, он прятался от местных пацанов в кустах, даже драпал однажды от многочисленной кодлы, но выходить за ограду все равно продолжал.
Во время тихого часа не спал не он один, первому отряду тоже делалось послабление. Однажды возле станции он наткнулся на старших ребят, тащивших к магазину большую сумку. Один, в синей футболке с номером 99, остановился и подозвал Женьку.
— Привет… Гуляешь?
— Ага, мне вожатый разрешил.
— Вазген, что ли? Ничего мужик… А ты, говорят, травишь классно?
— Кто говорит?
— Твои маломерки. Зайди-ка к нам завтра, Белый с тобой познакомиться хочет. Спросишь Потапа — это я.
Женька хотел было дернуть плечом, мол, знать не желаю вашего Белого (равно как и Потапа), но передумал. Белым называли того самого белобрысого футболиста — за цвет волос. Он был переростком, попавшим в пионерлагерь то ли по недосмотру, то ли по блату, и ставшим тут королем. В сумке, судя по стеклянному перезвону, находились пустые бутылки, собранные в окрестностях лагеря; их должны были сдать, чтобы купить в станционном магазине всяких вкусностей и сигарет. Белый, как замечал Женька, курил почти открыто, общался в основном с вожатыми и физруком, короче, был абсолютно вольным человеком.
На следующий день Женька оказался в палатке первого отряда. Шел тихий час, но все были одетые — кто раскидывал карты, кто просто базарил, Белый же в паре с Потапом склонился над настольным футболом.
— А вот тебе! Еще! Получи! Го-ол!
Девяносто девятый держал оборону, однако опыт и напористость побеждали. При появлении Женьки Потап оставил игру.
— Явился, значит?! Ну, иди сюда… Белый, это он. Который травить умеет.
— Вижу, не слепой…
Белый смотрел на Женьку с прищуром, вроде как оценивал.
— Курить хочешь?
— Не курю, — ответил Женька.
— И не пьешь?
— Нет, не пью…
— Тогда, наверное, дрочишь. Дрочишь ведь, а?
Насельники палаточного жилья дружно захохотали, а Женька почувствовал, как щеки заливает краска.
— Ладно, садись… И расскажи нам чего-нибудь.
— Чего рассказывать-то? — выдавил Женька, сожалея о своем визите.
— Да чего хочешь. Ты же всякие байки знаешь, так поделись с пацанами…
Белый улегся на койку, остальные тоже устроились поудобнее. Можно было уйти, вряд ли его удерживали бы. Но если он сумеет завладеть вниманием…
Вряд ли этих обалдуев увлек бы Вальтер Скотт, а «Графа Монте-Кристо» они могли видеть в кино. Он остановился на истории, которую стопроцентно не знали: «Могила Таме-Тунга». Гости с других планет, таинственное племя, необъяснимые способности… Одна из способностей, к слову сказать, как раз и заключалась в возможности выстраивать жизнь по своему хотению. Для этого члены племени высекали на камне письмена на языке, которому обучили пришельцы; затем камень летел в бурную реку, исчезая в волнах, а жизнь выстраивалась так, как было начертано на каменных скрижалях. Любая война, даже с превосходящими силами противника, выигрывалась племенем без особых усилий, лишь благодаря освоенной магии. И повествуя в красках о всесильных обитателях джунглей и могиле их вождя Таме-Тунга, Женька ощущал себя одним из них. Молотил языком так, будто высекал письмена на камне, даже вспотел от усилий, так что в финале почувствовал, как по спине сбегает теплая струйка.
— Складно базлаешь! — крутанул головой Потап. Он взглянул на Белого, вроде как ища поддержки.
— Годится… — осклабился тот, после чего замершие обитатели палатки задвигались, тоже выражая одобрение. На завтра его пригласили опять, попросив страшное. Он пересказал «Падение дома Эшеров» Эдгара По, да только палатка старших, похоже, жила другими интересами.
По окончании на физиономии Белого вдруг заиграла сальная ухмылка:
— Видели, как медсестра Лидка за физруком бегает? Вчера на танцах прямо висла на нем, сучка!
— Не светит ей, — скептически отозвался Потап. — Физрук на старшую вожатую глаз положил.
— А я бы засадил этой Лидке! Только не даст же, дура!
Женька одеревенел. Вроде пройдя теоретический курс «науки страсти нежной», на практике он был неопытным юнцом, и ему совсем не хотелось слушать о том, как армяшка Вазген таскается в березняк со столовской раздатчицей. Чем они там занимаются?! Да уж не соловьев, бля, слушают! Бараются они, на весь лес крики слышны!
В тот раз он сбежал, чтобы не поддерживать тему, но спустя пару дней гром таки грянул.
— А про е…лю слабо? — ехидно ухмыльнулся Белый. — Читал, небось, такие книжки? Вижу: читал! А тогда — базлай! — Он заполз под одеяло. — Давай, давай! Хоть вздрочнем, если уж Лидка не дает…
Женькин язык буквально замерз. Да, в запасе был и Боккаччо, и Мопассан, только «сказитель» просто не владел речью, к которой привыкли насельники палатки. Да и Белый, шаривший руками в паху, был так омерзителен…
— Не знаю я ничего такого!
Он вскочил с табуретки и пулей вылетел на воздух, успев услышать взрыв хохота за спиной.
Пришлось отсиживаться в будке лесного поста. Попав во власть игры воображения, он пытался подзывать дятлов, дробно стучавших по стволам, говорить с лисицей, на которую наткнулся однажды, да вот беда — лесная живность шарахалась от него и тут же убегала или улетала. Похоже, лес жил своей жизнью, о которой Женька имел слабое представление. Представление имела Лорка, и если бы та была рядом… Они вообще могли бы навеки поселиться в лесной глуши, в стороне от гнусных людишек. Лорка научила бы его общаться с братьями меньшими, собирать дары леса, и они бы сделались лесными властителями.
Однажды на полянке в березняке он едва не налетел на Вазгена: тот лежал на клетчатом одеяле, какое выдавали пионерам третьего отряда, и обнимал рыжую раздатчицу. Женька тут же шмыгнул за куст. На карачках отполз подальше, потом встал в полный рост, пошагал прочь, — и вдруг остановился. Происходящее за спиной притягивало, настойчиво требуя: вернись и досмотри! Поколебавшись, он решил взобраться на дерево, благо с собой был бинокль. Выше, еще выше, и вот, наконец, удобная развилка, где можно устроиться.
Приложив к глазам бинокль, он разглядел сквозь ветви клетчатое одеяло, полуголого Вазгена и раздатчицу, что возилась с молнией на юбке. Откидывая ее, рыжая тряхнула полной ногой, но тут подул ветер, ветви заколыхались, и картина исчезла. Усмирив дрожь в руках (еще бы!), Женька прильнул к окулярам, чтобы вскоре увидеть волосатую спину, ходившую ходуном. Рыжие локоны были разметаны по одеяльным клеткам, треугольником торчал запрокинутый белый подбородок, а спина двигалась все чаще.
И тут снизу прозвучало:
— Как там, клево бараются?
— Что?! — очнулся Женька.
— Во что! Я спрашиваю: вставил ей армяшка? Расскажи, тебе ж оттуда виднее…
Внизу под деревом торчали Потап и еще парочка ребят из первого отряда. Троица ухмылялась, запрокинув головы, и как-то сразу стало ясно — Женька пропал. Его несостоявшийся рассказ был мельчайшей мелочью в сравнении с этим позором, уж лучше было умереть…
— Как, большой у Вазгена? — похохатывал Потап. — Наверное, с полметра ялда!
— Ты уж приди, расскажи обо всем! — подпевали приятели. — Сам-то подсекать любишь, а рассказывать — не хочешь!
— А потом мы тебе «пять на пять» устроим! Да, пацаны?
— Такому подсекальщику — обязательно!
А Женька выискивал площадку для приземления. Не хотел сползать по стволу, лучше было сигануть подальше, чтобы перелететь через головы и скрыться в лесной чаще.
Он так и сделал. Но отсиживаться в лесу не стал: возвращаться-то придется, а тогда первоотрядники наверняка устроят публичную порку.
Вернувшись в отряд, Женька вытащил из-под койки чемодан, быстро покидал туда содержимое тумбочки. После чего рванул к ограде. Перекинуть чемодан, перелезть самому, и — бегом к автостанции.
7
В начале июня, когда школа закончилась, а впереди, переливаясь всеми цветами радуги, маячили три длиннющих месяца, его заловил во дворе Мурлатый.
— Слышь, шкет… Дело к тебе есть.
— Какое дело?
— Такое… На сто рублей.
Оценивающе оглядев Севку, Мурлатый цвиркнул слюной.
— Хотя не знаю, потянешь или нет?
— Почему не потяну?
— Ты же ссыкун!
— Я ссыкун?!
— Конечно! Почему на махаловки не подписываешься?
— Мне Зема говорит, чтоб драться не ходил…
— Зема говорит! Короче, подходи завтра за столик, базар будет.
Севка действительно не ходил махаться с кладбищенскими, с которыми враждовали испокон веку. Жили заклятые враги за кладбищем, отделявшим Новый Городок от обширного квартала разномастных частных домов, где прогуливаться было смертельно опасно. Из-за любого штакетника могла высыпать кодла с пиками и кастетами и, опознав чужака, избить или подрезать (бывало, и до смерти забивали). Городок отвечал по принципу «око за око», с его улиц кладбищенские тоже попадали когда в больницу, а когда и на то самое кладбище. Если же градус вражды подскакивал до кипения, районы схлестывались стенка на стенку, и тут уж в ход шли цепи, заряженные гвоздями «поджиги», даже обрезы. Севка сделал, наверное, десятка полтора «поджиг», используя прочные металлические трубки, что слямзил со сталелитейного. Хотя дело было не столько в трубках, сколько в том, как сделана самодельная стрелялка. Севка знал особую пропорцию расплава свинца и олова, которым заливалась сплющенная с одного конца трубка; и отверстие для запала он делал особым образом. Поэтому его самопалы были безотказны, стреляли кучно, а вот другие «поджиги», случалось, разрывались прямо в руках, увеча незадачливых стрелков.
С самого утра Севка пребывал в тревоге. За столиком, как он видел из окна, в карты не играли, там страстно о чем-то базлали. Когда Севка вышел во двор и приблизился к компании, взрослые подвинулись, освобождая место.
— Ну что, выручишь? — спросил Зема.
— А чего делать-то?
— Сейчас покажем. Ну-ка, достань!
Оглядевшись, Мурлатый вытащил из стоявшей в ногах сумки ржавый предмет обтекаемой формы и выложил его на стол.
— Вот эту х…вину надо распотрошить. Сможешь?
Севка быстро опознал мину-крылатку, в местном лесу они попадались часто. В оставшихся еще с войны минах находился тол, который можно было при желании оттуда достать. По идее, тол без взрывателя — не опаснее кирпича, его можно было даже в костер кидать, все равно не взорвется. Но порой ни с того, ни с сего он детонировал, и тогда…
Взяв в руки тяжелую крылатку, Севка вдруг почувствовал, как пересохли губы. Внутри мины было что-то тревожащее, какое-то нарушение имелось под этой ржавой сталью, но какое именно — Севка не понимал. Может, взрывчатка сместилась, или еще что, главное — в нее нельзя было лезть. То есть можно, только опасно очень, все ж таки минометный заряд, рванет — мало не покажется!
Севка осторожно положил мину на стол.
— Нельзя ее развинчивать. И пилить нельзя, лучше обратно в лес отнести или отдать этим… Саперам!
— Еще скажи: ментам подарить… — усмехнулся Мурлатый. — Не можешь, так и скажи! Без тебя достанем, понял?
Когда крылатка исчезла в сумке, Зема закурил.
— Хотелось бы, конечно, взрывпакетов парочку. Но если пацан говорит, что не стоит…
— Что ты его слушаешь, Зема?! Шкет маломерный, что он понимает?! Я сам достану тол. Если все сделаем, кладбищенским хана!
Идея сводить Лорку на танцы возникла внезапно. В клетку, огораживающую округлый дощатый помост, пускали только взрослых; публика «до шестнадцати» глазела на танцующих сквозь решетку. Но Севка был знаком с гитаристом Жорой Красиным, игравшим на танцах, что давало шанс на попадание внутрь.
— Нас же не пустят, — сказала Лорка, выслушав предложение. — А стоять и прутья обнимать — не хочу!
— Мы внутрь пройдем, — кашлянув, проговорил он.
— Как?!
— Это неважно. Ты, главное, к семи во двор выйди.
Севкин гардероб был не предназначен для «выхода в люди». Какие-то неказистые ковбойки, серые неклешеные брюки, хотя кое-кто из ровесников уже разгуливал в Levis и Super Rifle. Однажды он тоже заикнулся насчет джинсов, но глаза Рогова-старшего, когда озвучили сумму, полезли на лоб. Зарплату за штаны?! И думать забудь! Только Севка не отказался от мечты. Ему уже предлагали за починку техники деньги, и он теперь не станет отказываться. Зачем быть олухом? К примеру, Клыпа давно фарцовкой занимается, морда толстая; а Севка этой семейке чинил стереомагнитофон «Астра» бесплатно!
Все эти мысли будоражили голову, на которой никак не хотели укладываться светлые непослушные вихры. Севка сделал челку налево, потом подумал: как у Гитлера из кино, и перечесал направо. Наряд получился компромиссным: брюки серые, зато футболка ярко-желтая, с черными «битлами» на груди. «Битлов» он напечатал сам, нитролаком через трафарет. Итогом был очередной скандал с родичами (новую футболку изгваздал!), но Севка эту обновку ценил более всего.
В парк отправились по Бродвею, залитом светом фонарей. В светлом летнем сарафане, с распущенными волосами и в босоножках на каблуках, Лорка выглядела взрослой, на нее даже оглядывались парни. Что, с одной стороны, было лестно, с другой — заставляло мучиться: а он-то как выглядит? Достоин ли он такой девчонки? Ко всему прочему из-за каблуков Лорка стала выше него, так что приходилось вытягиваться вверх, чтобы не позориться. Лишь когда оказались в парке, Севка вздохнул с облегчением. Темнота сделала всех одинаковыми, тут что брюки (даже без клеша), что джинсы — один фиг. Главное, он сможет провести Лорку на танцы!
В клетке бурлила людская масса: играли быстрый рок, и наполнявшая помост молодежь ритмично колыхалась, как единый организм. Севка провел подружку туда, где прутья кончались, и начиналась деревянная стена. За стеной находилась эстрада, поэтому музыка слышалась здесь особенно громко.
— Джордж импровиз выдает! — прокричал он в ухо Лорке, когда начала солировать Жоркина гитара.
— Кто-кто?!
— Жора Красин! Он мой друг! Он нас проведет, когда перерыв будет!
Пришлось ждать две песни, пока объявили перерыв, и музыканты вышли перекурить. Среди патлатых, одетых в джинсы и одинаковые кожаные куртки парней Красин выделялся высоким ростом.
— Привет! — подкатил к нему Севка.
— Привет… — Гитарист всмотрелся в его лицо. — А-а, это ты! Электроник, мальчик из чемоданчика?
— Никакой я не Электроник, — пробурчал Севка, забыв, что вполне спокойно отнесся к прозвищу, которым наградили музыканты. Он был один, когда ремонтировал им фузз, а сейчас — с Лоркой, и такое обращение…
— А Леннон у тебя — прямо как живой! — указал Жора на черный силуэт на футболке. — Фирма?
— Не, по трафарету делал. А мне это… Пройти надо.
— Надо так надо. Ты, я вижу, с девушкой?
— Ага, мы вдвоем.
— Что ж, пошли!
Севка повеселел. Они миновали черный ход, эстраду, спустились по ступеням и растворились в толпе. Чтобы не потеряться, Севка держал Лорку за руку, но та вскоре освободилась. Пройдя к решетчатой ограде, она с любопытством озирала публику, курившую в ожидании музыки. Севка вдруг подумал: было бы здорово, если бы Лорка станцевала то, чему научилась в своем хореографическом кружке. Все рты поразевали бы, потому что сами умеют только на месте топтаться, как придурки. А это разве танец?!
Когда на эстраде опять показалась группа, танцплощадку огласили звуки блюза. Севка застыл, косясь на Лорку. Пока он играл роль лидера, проводившего в запретную зону, все было нормально; а тут что делать? По идее, надо пригласить на танец, но Севка, никогда не танцевавший, пребывал в ступоре.
— Можно вас?
Напротив возник долговязый хлыщ в джинсе. Почему-то Севка был уверен, что Лорка откажет, однако та протянула руку, даже не взглянув на своего «кавалера». Встав неподалеку, пара сблизилась и начала медленно, в такт аккордам раскачиваться. Танец отличался от того, что Севка видел поверх матовых стекол, как небо от земли. Тут, собственно, и танца-то не было: люди просто прижимались друг к другу и для виду наклонялись влево-вправо.
«Почему она на нем виснет?! — с досадой думал Севка. — Козел ведь, за километр видно!» Только приказать подружке он не мог; да и права, похоже, не имел.
— Чего толкаешься, корова?!
Задевшая его полная рыжая девица резко обернулась.
— Это кто корова?!
— Сама знаешь, кто…
Севка отреагировал грубо, очень уж хотелось выместить на ком-нибудь обиду. Но извиняться было западло, этому в пряжских компаниях не учили.
— Вы посмотрите на этого шибздика! Ты как сюда попал?! Кто тебя пустил, сопляка?! Сейчас контролерам скажу, тебя вообще отсюда вышвырнут!
— Да пошла ты!
Махнув рукой, Севка перебрался в другое место, чтобы продолжить наблюдение за слипшейся парочкой. Он вдруг почувствовал, что Лорка отдаляется, уходит туда, куда он не может (пока, во всяком случае) попасть. Вот этот хлыщ может, а Севка не дорос, и «по блату» сюда раньше времени не пропустят…
Он дождался конца и помахал рукой, мол, я здесь! Лорка приблизилась, румяная, с блестящими глазами, и тут же обернулась на толпу. Ее взгляд, похоже, выискивал очередного партнера, в теле чувствовалась жажда движения, а может, какая-то другая жажда — в общем, мучения только начинались. Севка уже жалел о необдуманном приглашении, только как теперь уйдешь?
Внезапно рядом возник Зема и полдесятка блатных. Физиономии были суровыми, парни отрывисто переговаривались, и к этой группе подходили новые и новые люди.
— Что-то случилось? — обернулась Лорка.
— Сейчас узнаю. Не уходи никуда, ладно?
Как выяснилось, блатную публику возбудило известие о гибели Мурлатого. Он таки взялся пилить мину ножовкой, распил поливал водой, как положено, но тол непредсказуем, в итоге половину черепа, говорили, снесло. Все это Севка узнал, внедрившись в возбужденную толпу, внутри которой бродила темная, пока что безадресная энергия.
— Он же это… Ну, за нас… — проговорил кто-то неуверенно.
— Точняк, за всех пострадал! — отозвался другой. — Он же кладбищенским мочилово готовил!
— А они тут? — резко спросил Зема.
— А то! Каждую субботу приходят, суки…
Кладбищенским позволялось ходить на танцы в Новый Городок, по негласной договоренности их не трогали, но пришедшим в этот вечер не повезло. Парни уже выискивали глазами врагов, из карманов вытаскивали кастеты и ножи, а на входные ворота отряжались собственные «контролеры».
— Чтоб ни одна падла не выскользнула, ясно? — приказал вожак. — Из клетки не разбегутся!
Дело пахло керосином. Музыка на эстраде замолкла, осведомленная публика потянулась к выходу, подальше от кровавых разборок, а Севка заспешил назад. Схватил Лорку за руку и потащил к эстраде, чтобы убраться тем же путем.
— Мы уходим?! — спрашивала та. — Но почему?!
— Так надо!
Выскочив за пределы «клетки», Севка тут же приник к прутьям. Он опять стал лидером, значит, Лорка должна была подчиняться, разделять его чувства и выслушивать то, что он сбивчиво проговаривает.
— Знаешь, из-за чего это?!
— Понятия не имею.
— Отомстить хотят за одного нашего! Ну, который погиб!
— Его убили?
— Да нет, сам подорвался, по дурости!
— И за это хотят других побить?!
— Ну да! Может, даже насмерть кого забьют…
Было что-то притягательное в этом кружении парней со сведенными скулами и мстительным огнем в глазах. Они передавали друг другу бутылки с портвейном, прихлебывали из горлышка, поигрывая оружием, выточенным или отлитым на пряжских заводах. Севка знал, что кастеты выплавляли из дюралюминия, а заточки изготавливались из закаленной стали. У одного мелькнула в руках «поджига» (не Севкой ли изготовленная?), еще кто-то вытащил из кармана и спрятал под куртку винтовочный обрез.
Чуя расклад, противник начал кучковаться. Внезапно одного, не успевшего влиться в кодлу, сбивают подсечкой и пинают ногами. Потом окружают второго, стоявшего с девушкой, которую тут же выкидывают из круга (женский пол в драках не при делах). Девушка визжит, а парня долбят со всех сторон, и явно не одними руками. Ну, а теперь стенка на стенку. Кладбищенские отошли к решетке, поскольку их стенка малочисленная, зато Новый Городок представляла, можно сказать, вооруженная толпа.
— Глянь, чего придумали! — воскликнул Севка. — Ногами отбиваться будут!
И верно: опытные участники драк, осознав перевес со стороны противника, просунули руки сквозь прутья, крепко схватились за стальную ограду, а ноги, обутые в подкованные ботинки, оставили в качестве оружия. Бах! — одному в морду. Другому — трах по яйцам! Толпа зачинщиков внезапно остановилась, наткнувшись на эффективную оборону. И что делать? Продержись кладбищенские минут пять-семь, приедут ментовские «уазики» (они всегда запаздывали), и придется драпать и тем, и другим. Но тут один из врагов заорал и отвалился от прутьев; потом второй сделал то же самое…
— Пойдем домой! — дернули за рукав Севку.
— Да подожди ты! Видишь, наши их ножами пыряют? С другой стороны клетки?!
— Не вижу и видеть этой гадости не хочу!
Она повернулась на каблуках. Севка бросил прощальный взгляд туда, где началось нещадное избиение врагов, и поплелся вслед за подружкой.
Столик под акацией, за которым обычно сидела урла, сегодня пустовал. В этом темном местечке можно было бы присесть, Севка закинул бы руку ей на плечо, как это делали взрослые, не исключено, что и поцеловал бы (он уже не столь неприязненно относился к поцелуям). Но как присядешь, если такой облом?
Лорка остановилась возле подъезда.
— Ну, до завтра?
Севка молча сопел, тянул паузу.
— Странные вы. И ты, и Женя…
— Чем же странные? — скривился он.
— Он мне книжку оставил странную… То есть интересную, только не знаю — зачем? Все ведь без книжек понятно.
— Ладно, пока… — повернулся он на деревянных ногах и пошагал к подъезду.
В ту ночь он долго не засыпал: ворочался, вставал пить воду, даже на балкон выходил и таращился на звезды. Хотелось выстроить космический корабль с фотонным двигателем и улететь куда-нибудь на Альфу Центавра. Нет, лучше к Туманности Андромеды отправиться, это все-таки два миллиона световых лет, не хухры-мухры. Вот тогда кто-то горько пожалеет об отсутствующем, да поздно будет. Другого такого корабля нет, только Севка смог бы изобрести двигатель, способный разгонять корабль до скорости света; а значит, ему одному предстоит пересекать бездонный космос, оставляя за кормой мегапарсеки и безутешную Лорку, которая будет стоять на своем балконе и со слезами озирать звездное небо…
Во сне он в очередной раз цеплялся за плавающую машину. Двигатель работал из рук вон плохо, пришлось взобраться на броню и постучать в люк: эй, козлы! Вы же сейчас заглохнете посреди озера! Когда крышка отвалилась, Севка оторопел: черный мухобой! Он вылез из люка, громадный, с бесформенным обожженным лицом, и навис над Севкой, сжавшимся в комок.
— Узнал? — прогремел над головой хрипловатый голос.
— Конечно, узнал… — заскулил Севка. — Только нет же тебя! Это пацаны тебя придумали, чтоб детали воровать легче было!
— Ха-ха-ха, придумали! Да я живее всех вас! И знаю столько тайн, сколько вам и не снилось! Хочешь, покажу тебе машину?
— Не знаю даже, хочу ли.
— Не дрейфь, полезай внутрь! Ты давно этого хотел, я помню!
Подчинившись, Севка скользнул в люк и услышал, как крышка захлопнулась. Ну и фиг с ним, подумалось, зато здесь столько интересного! Севка озирался, удивляясь, что в бронетранспортер влезло такое количество приборов: приемников, передатчиков, усилителей, даже цветомузыка была (причем работающая)! Пройдя дальше, он увидел мотоцикл «Ява», десяток мопедов, и опять поразили размеры машины. Это был скорее корабль, в трюме которого запросто разместился бы небольшой автопарк.
Вскоре он оказался в просторном помещении: там высился постамент, на нем стоял механизм из шарниров и противовесов, а в его центре раскачивался маятник. «Перпетуум мобиле!» — вспыхнуло в мозгу, вот только отца не было видно. «Ну и ладно…» — подумал Севка, отправляясь дальше в недра машины.
Самое странное заключалось в том, что вылезать из трюма не хотелось, и одиночество совсем не пугало. Севка вроде как обрел рай, в который неосознанно стремился, а тогда зачем его покидать? Жалко, Лорки здесь нет; но можно, в принципе, и без нее обойтись. Движок машины работал ровно, без малейшего сбоя, они куда-то двигались, и Севка чувствовал себя счастливым…
8
После побега из лагеря он несколько дней не выходил из дому. Мать еще не вернулась, поэтому приходилось самому жарить яичницу, варить пельмени, хотя чаще ограничивался бутербродом или консервами. Чтобы не чахнуть от одиночества, Женька зарывался в книги, только библиотека, увы, не была уже спасательным плотом, державшим на плаву. Жизнь шарахнула об острые камни так, что плот перевернуло, раскидало на бревна, и теперь Женька напоминал персонажа с картины «Девятый вал» (эта репродукция висела на стене в большой комнате). Время от времени он приближался к картине, пялился на нее и чувствовал себя потерпевшим такую же катастрофу. Он проиграл по всем статьям — и кому?! Австралопитекам, которых и людьми-то назвать нельзя. Разве Белый — это человек? А Потап? Недочеловеки должны были получить какой-то ответ, и они его получили.
Он придумал историю, где враги корчатся от боли, заболев неизвестной болезнью. То ли оспой, то ли чумой, как бывало в средние века, и лекарства от болезни — нет. Точнее, есть, но находится у одного Женьки, который излечивает страждущих, как доктор Айболит. Измученные враги подползают к доктору, тянут руки, мол, исцели нас! — но тот с презрением отворачивается.
Он по-прежнему наблюдал тайком за Лоркиным балконом, даже пару раз ее там видел. Однако зазывать к себе было неудобно. Не овсянкой же ее угощать; а на кафе-мороженое Женькиных авуаров явно не хватало.
Когда не спалось ночью, он выходил на балкон в трусах и майке и задирал голову. Звездная россыпь мерцала и переливалась; будто специально придуманная для украшения черного неба, она казалась близкой и родной. Над головой раскинули лапы обе Медведицы, чуть в стороне загадочно мерцали Волосы Вероники и, будто яркий глаз Вселенной, светил Сириус в созвездии Большого Пса. Древние греки, думал он, молодцы, они населили темное небо живыми существами, иногда — фантастическими, но все равно это хорошо! Вон сияет Персей, а вон — Андромеда. Если ты не дурак, сразу вспомнишь миф, где герой вырывает красавицу из лап чудовища, после чего побеждает Медузу Горгону. Если же дурак — вспомнишь чушь, что несет физик Гром, говоривший про какие-то мегапарсеки, газовые туманности и пояса астероидов.
Блатная компания в эти дни кучковалась у картежного стола. Жарким летом двор обычно пустел, а тут вдруг оживился: сползаясь со всей округи, молодежь потребляла портвейн, нагло огрызалась на замечания жильцов и вела некое толковище. Когда набиралась внушительная кодла, все вдруг снимались, куда-то уходили, чтобы вернуться уже в темноте и под музыку из транзисторов допоздна орать. Однажды ночью во дворе случилась драка, прозвучал выстрел, но никого вроде не убили. А может, и убили, Женька в точности не знал, отстраненный от войны, что разгоралась в районе.
Мать вернулась неожиданно, осунувшаяся, с озабоченным лицом, даже за побег из лагеря не стала ругать.
— Худой какой стал… Вас что там — не кормили?
Женька горестно махнул рукой.
— Кормили, но такой едой…
Результатом жалоб были домашние котлеты, приготовленные в духовке пирожки с капустой и вафельный торт, который купили по случаю «воссоединения семьи». Это мать так выразилась: устраиваем чаепитие в честь воссоединения семьи, и почему-то скривила лицо.
В последующие дни Женька не раз наблюдал эту странную гримасу, будто в душе у нее живет что-то болезненное, чего нельзя высказывать. Иногда мать задумывалась, глядя в одну точку, но хуже всего было, когда она устремляла взгляд на сына, ничего не говоря.
— Чего так смотришь? — нервничал Женька. — У меня все в порядке…
— Вижу. И хочу, чтобы дальше было в порядке.
— Я сам хочу.
— Тогда из дому — ни ногой! Там черт знает что творится! Кого-то, говорят, подстрелили, в реанимации лежит… Кошмар!
Хотя на самом деле волновало ее что-то другое. Ночами она нередко перебирала фотографии, вытащенные из секретера, сидела над ними, иногда — плакала, после чего опять прятала под замок. Женька не раз пытался подобрать ключ к этому ящику, увы, безуспешно.
Однажды мать усадила его на стул, что подразумевало серьезный разговор.
— Значит, так: я хочу тебя попросить…
— О чем?
— Точнее, ты должен пообещать…
— Что пообещать?
— Что ты отсюда уедешь, когда получишь аттестат. Я уже не могу стронуться с места, возраст. А ты должен уехать в Москву.
Женька даже со стула вскочил.
— Да я… Сразу же! Как только школу закончу! Сразу же!
Он так разволновался, что матери опять пришлось его усаживать.
— Вот и договорились… — говорила она, успокоенная. — Вот и договорились…
В эти дни часто вспоминался отец. Точнее, его образ — некто в штормовке и с шелковистой русой бородой. Совсем еще маленький Женька бесцеремонно дергает за бороду, но ее обладатель не раздражается, наоборот, смеется. Еще воспоминание: лодка на озере, на корме — Женька, а перед ним тот же человек с бородой, умело работающий веслами. Лодка мощными рывками движется вперед, и вдруг — стоп! Человек говорит: «Сиди смирно!», сам же наклоняется так, что кончик бороды погружается в темную маслянистую воду. Он рвет кувшинки — одну, другую, пятую, после чего бросает их на дно лодки. Они выглядят, как зеленые змеи с ярко-желтыми головами. Лодку разворачивают, и они возвращаются к берегу, где их ждет черноволосая женщина в красном сарафане — молодая Женькина мать…
Человек с бородой исчез из жизни в том возрасте, когда только начинаешь себя осознавать, поэтому Женька не поручился бы, что явленные памятью картинки — что-то всамделишное. Со временем он столько нафантазировал, что перестал отделять выдумку от реальности. Да и где она, реальность? Мать всегда говорила об отце скупо, мол, уехал в экспедицию, изучать фольклор. Далеко уехал, за Урал, где произошел несчастный случай: плот перевернулся на реке Белой. Он что, плавать не умел? — спросил однажды Женька, но мать промолчала. На единственной черно-белой фотографии была штормовка, борода, остальное пришлось досочинить.
Согласно Женькиной версии, отец долго и упорно пробирался по крутым отрогам Уральского хребта, чем-то напоминая мужественных и бесстрашных героев Джека Лондона. Стрелял диких коз и оленей, отбивался от медведей и браконьеров, ночевал у охотничьего костра. И тут — водная преграда, то есть бурная река, через которую ни одного моста. Пришлось делать плот, но на середине реки он налетел на камень. Бревна — в россыпь, а вода ледяная, тут даже умеющий плавать обречен.
Именно отец собрал их библиотеку. Мать как-то сказала: это его заслуга, он ведь часто ездил, а в республиках издается много хорошего. Женька понятия не имел, почему в республиках, но места изданий раритетных книжек говорили сами за себя: Алма-Ата, Минск, Вильнюс… Жаль было одного: что отец не мог его защитить (а защитник ой как требовался!).
С другой стороны, Лорке еще хуже. Его отец пребывал вроде как в братской могиле, о нем никто не судачил, ее же папаша был притчей во языцех. Женькина мать называла его «постаревшим Дон Жуаном», дворовые старухи — бл…ном, и отсвет сомнительной славы, естественно, падал на Лорку. Та старалась не реагировать, хотя на самом деле переживала…
Он увидел ее на Пряже, куда отправился в субботу. Лорка была в компании с каким-то загорелым парнем: их подстилки располагались рядом, и они оживленно болтали. Женька с недовольством оглядел свою бледную кожу — увы, заточение на пользу не пошло. Когда же те направились к реке, и вовсе приуныл — парень был натуральный Аполлон, видно, спортом занимался. Быстро разогнавшись, он оттолкнулся от песка и, перелетев мель, изящно вошел в воду. После чего, вынырнув метрах в десяти от берега, повернулся и помахал рукой, мол, давай сюда! Лорка вошла в воду осторожно, нырять не стала (хотя умела) и поплыла к своему знакомцу.
Пока они купались, Женька неотрывно следил за двумя головами над водой. Это был не Самоделкин, однако в груди все равно билось ревнивое чувство, а воображение вмиг нарисовало картину: загорелый крепыш вдруг начинает тонуть, а Лорка пугается и кричит: «Спасите его!» Только героев нет, на Пряже ведь и омуты, и водовороты, а жизнь каждому дорога. И тут к воде направляется Женька. Лениво так, без суеты; войдя в реку, он плывет неторопливо и, когда Аполлон уже начинает пускать пузыри, хватает его за волосы. Подгребает к берегу, вытаскивает полуобморочного крепыша на песок и говорит Лорке: «Ну вот, делай ему искусственное дыхание — если хочешь!» Но Лорка не хочет, она приникает к Женькиной груди и обливает ее слезами благодарности…
Когда парочка вышла на берег, Женька вдруг осознал: а Лорка-то стала другая! В таком виде он ее с прошлого лета не наблюдал, а тут понял, что подружка повзрослела, начала оформляться в девушку, а тогда стоит ли к ней вообще подходить?
Женька решился на это, лишь когда спутник помахал полотенцем и скрылся за палаткой с мороженым. На всякий случай он купил две порции пломбира и не спеша, зажав под мышкой подстилку с книжкой, направился к Лорке.
— С кем это ты отдыхала? — спросил, когда мороженое было вручено, а подстилка расстелена. Спросил ровным голосом и тут же улегся, отвернувшись к реке (голос не дрогнул, но глаза могли выдать). Спутником оказался некий Коля Барский, который занимался в хореографической студии центрального Дворца культуры. Лоркин кружок на лето закрыли, и она, чтобы не проводить время впустую, ездила туда.
— Там не только девчонки занимаются, — пояснила она, — ребята тоже.
— Балетом? — усмехнулся Женька.
— Хореографией. И танцами — народными, бальными…
— Понятно… — проговорил он. — А я из лагеря уехал.
— Почему?
— А надоело!
Он тут же сочинил историю о смертной пионерской скуке, когда с утра до вечера заставляют ходить строем под горн и барабан и собирать шишки, объявляя соревнование: кто больше наберет. Рассказывая, он косился на Лоркино плечо: гладкое, покрытое ровным загаром, оно касалось иногда его бледного тела, отчего накатывало непонятное возбуждение. Вдруг вспомнилось: лес, клетчатое одеяло, рыжая раздатчица и лежащий на ней Вазген. Никакой связи вроде, но стоило скосить взгляд и вдохнуть аромат ее волос, собранных в пучок, как мерзкая (и магнетическая!) сцена вставала перед глазами. Внизу тоже что-то вставало, и хорошо, что он лежал на животе.
— Пойдешь купаться? — спросила она, поднимаясь.
— Купаться?! Нет, я позже… — пробормотал он и отвернулся.
Про книжку Мопассана Лорка вспомнила, когда стояли у подъезда.
— Вернуть хочешь?
— Ага.
Сердце вдруг учащенно забилось.
— Только ты здесь подожди, у меня дома такое…
Когда ее сарафан скрылся за дверью, Женька прошелся взад-вперед. От ее оценки зависело многое (если не все), однако томик сунули в руки без комментариев.
— Ничего книжка? — спросил Женька. Лорка подняла глаза на свой балкон.
— Давай об этом в следующий раз? У нас опять папа живет, мне сейчас не до этого…
То лето запомнилось пышными похоронами молодых ребят. Гибель Мурлатого была началом, за ней последовала целая череда смертей, понятно, не от старческой дряхлости. Процессия двигалась обычно по Советской, превращавшейся в этот момент из Бродвея в скорбную Via dolorosa, на которой слышался плач и стенания родственников. За родней шла молодежь, прятавшая под просторными рубашками и куртками то или иное оружие. Бывало, прямо у свежей могилы формировалась кодла, совершавшая стремительный рейд по тылам противника и оставлявшая за собой когда увечных, а когда и убитых кладбищенских.
— Это какой-то ужас… — говорила мать, глядя из-за шторы на очередную процессию. — Не смей соваться на улицу, слышишь?! Дома сиди!
Женька выбрался из дому лишь в начале августа, когда дело запахло миром. Авторитетный народ с двух сторон решил: баста, пора устраивать перемирие. Заключение мирного договора обставили солидно: выбрали для сборища лесную опушку неподалеку от ПЭМЗа, привезли туда несколько ведер разливного вина, даже милицию поставили в известность. Милицейские начальники, с одной стороны, возмущались такой наглостью, с другой — приняли к сведению и дали обещание никого не забирать. А что делать? Показатели молодежной преступности в районе зашкалили за все мыслимые пределы, на что угодно согласишься…
Собравшийся в библиотеку Женька был замечен одним из дворовой урлы.
— Эй! — крикнули. — Куда намылился? В сортир? Вон сколько подтирки прихватил!
Сжав под мышкой стопку книжек, он ускорил шаг, но отвязаться не удалось.
— Иди-ка сюда, салабон… — поманил пальцем Зема. Когда Женька приблизился, его смерили взглядом.
— Ну что? Отсиделся за мамкиной спиной? Пацаны махались, пики в бок получали, а ты книжки читал? Нехорошо… Может, на перемирие сходишь? Махаться не любишь, но портвешка-то тяпнешь за мир и дружбу?
— Слабо ему тяпнуть… — зазвучали реплики. — Забздит пойти — даже на перемирие…
Во взглядах читались насмешка и презрение. Один из парней зашел за спину, и Женька понял: либо он получит унизительный пендель, либо стоящий сзади опустится на четвереньки, а спереди его толкнут. В любом случае позора не избежать; а ведь за ним, возможно, с балкона наблюдает Лорка…
— Почему же слабо? — пожал он плечами. — Спокойно могу сходить. А на махаловках ваших я не был, потому что в лагерь отправили.
— Ах, вот что… Причина уважительная. Ладно, тогда идем с нами!
Зема подмигнул кому-то из урлы и, указав на Женьку, щелкнул себя по горлу. Ответом была понимающая ухмылка, но Женька, уже жалевший о своем согласии, этого не заметил.
Опушку заполняла молодежь из враждующих районов, причем особое бурление наблюдалось возле ведер с разливухой. К ведрам на цепочках были прифигачены эмалированные кружки, из них и пили дешевый портвейн. Напротив друг друга вставали попарно представитель Нового Городка и парень с кладбища: они опрокидывали по кружке, братски обнимались и уступали место следующим. Кто-то, приложившись раз-другой-третий, уже пошатывался, но менты, что прохаживались по периметру опушки, бездействовали.
— Гля, а эти че тут делают?! — зубоскалили пришедшие. — Охраняют нас, что ли?
— Договорились с ментами… — снисходительно пояснял Зема. — Мы не бузим, они нас не трогают. Ладно, я к старикам, а вы давайте, бухните за мировую.
С этими словами он направился к кустам, где, доставая из ящика марочное вино, разговлялись блатные авторитеты. А Женьку уже тянул к ведру некто белобрысый, с наколкой «СЛОН» на предплечье.
— Давай, давай сюда… Эй, расступись! Основняк идет, за мир и дружбу пить будет!
Парень был из чужого двора, по всему видно — наглый, только ослушаться незнакомца не представлялось возможным. Сколько Женька выпил в своей жизни? Пару раз от силы, и то шампанского; а тут портвейн, да еще огромными кружками…
— Стань тут. Кто с кладбища? Ты? Подходи!
Белобрысый командовал, подгонял, и Женька, давясь, влил в себя вонючее пойло. Он хотел было обняться с парнем из другого лагеря, как другие, но ему зачерпнули вторую кружку.
— Потом целоваться будешь, а пока — пей! Как не хочешь?! Ты основняк или нет?! Тогда давай пей — вот с этим! Братан, бухни с ним, он у нас в авторитете, ага, видишь, сколько книжек прочитал?
Из стопки, что Женька по-прежнему держал под мышкой, одна книжка вдруг выскользнула, за ней посыпались остальные.
— Да ладно, потом соберешь! Ну, опрокинул! Во-от, молодца… Теперь рукавом занюхай и пошли отдыхать.
Женька наклонился за книжками трезвый, а выпрямился уже пьяный. Ведра, силуэты парней, кусты — двигались по кругу, вроде как устраивая хоровод. Наконец перед глазами мелькнуло знакомое «СЛОН», и Женька двинулся вслед за обладателем наколки. Когда присели на траву, он ткнул в синие буквы.
— Это аббревиатура?
— Чего?! — вытянул физиономию белобрысый.
— Я спрашиваю: что это означает? Как рашиф… рашсив… расшифровывается?!
— А-а, вот ты о чем… Это означает: с малых лет одни несчастья.
— Да? А где буква «эм»?
— Какая еще «эм»?
— Не хватает «эм» — чтоб было правильно!
Белобрысый крутанул головой.
— А ты, вижу, грамотей… Пойдем еще бухнем, грамотей! Я ж пока не пил, ты разве не заметил?! Так что должен еще со мной, ага, а то обижусь!
Опрокинув еще кружку, он получил от кого-то вареное яйцо на закусь и, пошатываясь, двинул, куда глаза глядят. Кажется, он с кем-то целовался. Потом помочился возле кустов и, забыв застегнуть ширинку, отправился дальше, чтобы вскоре налететь на чей-то мотоцикл. Кто тут ковыряется в моторе? Ба, Самоделкин!
— Работаешь? — тупо спросил Женька.
— Работаю, — ответил Севка, не поднимая головы.
— А я мириться пришел. С этими… Ну, ты знаешь.
Очистив яйцо, он сунул его в рот.
— Иня Жема озвал! А ты пши… — он сглотнул. — Паши! Работай, негр, солнце еще высоко!
Высказывание показалось остроумным, он захохотал, после чего отправился дальше. Он падал, поднимался, шел непонятно куда, и все это время перед глазами мелькали разноцветные пятна, которые складывались в буквы. Вот ослепительно-желтая «Л», сияет, будто солнце. Вот зеленая «Ж», похожая на узор из ярких листьев. Только буква «С» серая, унылая, никакая! Неожиданно буквы завертелись, закружились, и перед глазами образовалось слово ТАМЕ-ТУНГ. А где слово, там и тело: вождь загадочного племени соткался из воздуха, встав на пути нетрезвого Женьки.
— Что, напился? — прищурился вождь.
— Это они меня напоили… — забормотал Женька. — Зема и его хулиганье…
— А наколку на руке тоже они тебе сделали?
Взглянув на левую руку, Женька оторопел: там синела большая надпись СЛОН!
— Хочешь сказать, что у тебя — с малых лет одни несчастья? Ну, во-первых, аббревиатура неправильная, не хватает одной буквы. А во-вторых… Какие несчастья могут быть у тебя? У человека, обладающего тайным знанием?
Женька поник головой.
— Какие-какие… Постоянно ведь издеваются! То очкастым назовут, то другую гадость сделают… Может, я и обладаю знанием, только не работает оно!
Таме-Тунг усмехнулся.
— Ты плохо его используешь. Воли не хватает, настоящей злости. Силу словам на камне придает сильное чувство, разве ты не понял?
— А если слова на бумаге?
— Разницы нет. Ты должен всего себя вложить в эти слова, и тогда они перевернут мир!
Женьку мутило, силуэт Таме-Тунга раздваивался (как и положено), так что было неизвестно: к левому вождю обращаться? Или к правому?
— А может, мне прославить Зему? — нерешительно проговорил он. — Сочинить про него такую историю, чтоб через годы вспоминали, как героев Куликовской битвы?
Он обращался к правому, однако ответил левый:
— Тоже вариант. Но тогда ты будешь в подчинении. А тебе ведь хочется самому подчинять других, верно?
Икнув, Женька махнул рукой.
— Да куда там! Даже девчонку одну не могу подчинить, она то с Барским вяжется, то с Самоделкиным… А его давно нужно послать нах!..
— Ты почему ругаешься?! — произнесли оба Таме-Тунга голосом Лорки.
— Хочу ругаться! — капризно занудил Женька. — Они все ругаются, как сапожники, а я что — рыжий?!
— Ты не рыжий. — произнес тот же голос. — Ты хамелеон!
Кажется, его куда-то вели, но кто вел и куда — он не отражал.
— Ха! — пьяно восклицал он. — Вы бы почитали его изложения! Он же слово «корабль» с двумя «а» пишет! А в слове «металл» вторую «л» забывает! Я своими глазами видел — мать не прячет ваши тетрадки, можно полистать и выяснить, кто какой «грамотей»!
— Ты и в мои тетрадки заглядывал?! — спросили с удивлением.
— А ты кто?! Лорка, что ли?!
— Лорка, Лорка… Так заглядывал или нет?
— Ну, было один раз… Или два.
Раздался вздох.
— Ты точно хамелеон. Ну, ладно, лежи пока, отдыхай.
Когда осознал, что находится у Лорки, ужас происходящего (произошедшего?) обрушился на него, словно тот самый «девятый вал». Он почти ничего не помнил. Как говорили во дворе, он нажрался и теперь валялся на чужом диване, чувствуя собственное смрадное дыхание и мучаясь от головной боли. Внизу стоял тазик с блевотиной; и на полу она виднелась, и на диване…
В комнате, по счастью, никого не было. На минуту вошла Грета, понюхала воздух и удалилась. А Женька в бессилии уставился в потолок. Лучше бы его зарезали на той опушке или застрелили из какой-нибудь «поджиги». Главное, не оторвать голову от дивана и не сбежать по-тихому. Когда щелкнула входная дверь, он натянул до подбородка плед, вскоре увидев Лорку.
— Я марганцовку купила, — сообщила та, показывая маленький пузырек.
— Зачем? — хрипло спросил Женька.
— Желудок промывать. Ты отравился, это ж видно…
Он следил за выражением ее лица, пытаясь обнаружить гримасу брезгливости, но видел лишь озабоченность. Лорка прошла в кухню, вернувшись с банкой, наполненной бордовой жидкостью.
— Пей. Надо всю банку выпить, чтобы потом стошнило.
— Не хочу, чтобы тошнило!
Он снова начал натягивать на себя плед, желая одного: поскорее сбежать отсюда.
— Пей, тебе говорят!
В конце концов, он выпил, и опять из него лезла немыслимая гадость, которая отвратительно воняла. Лорка же, как ни в чем не бывало, унесла блевотину в туалет, откуда вскоре послышался шум воды. Вернувшись с вымытым тазиком, она поставила его перед диваном.
— Если захочешь еще — не стесняйся. Неприятно, конечно, зато все яды из желудка выйдут.
Это было ужасно. Его тошнило, он бредил, и черт знает, что могло по ходу высказаться! Вот зачем она его подобрала?! Если бы он мог раздвоиться, то вряд ли подошел бы к себе, лежащему на земле, как алкаш; и уж точно не подставил бы себе тазик. Она же делала это спокойно, словно Женька был больным стариком, за которым требуется уход. Но он не старик, он граф Монте-Кристо (капитан Немо и т. д.), необычный и загадочный персонаж, им должно восхищаться, а жалеть его — нельзя!
— Твоих-то нет? — спросил, поднимаясь.
— Мать уехала в санаторий на неделю. А папа здесь живет. Ну, они так всегда делают, если ему захочется тут пожить.
— А сейчас он…
— На работе. Может, он вовсе не появится, так что отдыхай спокойно.
— Нет, надо идти…
Они помолчали. Лорка была какая-то грустная, точнее, взрослая, он же выглядел мальчишкой, которому первый раз в жизни дали попробовать водки.
— Надо идти, — повторил он и поплелся в прихожую.
Он быстро понял: теперь на нем клеймо. Тупоголовые уроды будут над ним ржать, бросать реплики в спину, будто камни из рогатки, только тут — не лагерь, отсюда не сбежишь, собрав барахлишко в чемодан. Он скрипел зубами, чтобы не завыть от стыда, и внутри копилась мстительная злоба, каковая обязана была найти выход.
Одной лишь игры воображения было мало — следовало записать выдумку, ведь написанное пером, как известно, не вырубишь топором. Перо, бумага, стол, круг света от настольной лампы, и вот уже чужая смерть (и какая смерть!) воплощается в строчках, которые представляются вовсе не выдумкой, а чем-то весомым и зримым. Он представлял себя членом загадочного племени, что по завету вождя Таме-Тунга склонился над каменной скрижалью, чтобы высечь нужные слова. «Ваши копья — ничто! — завещал вождь. — Ваши стрелы — детская забава! Но вам дали могучее слово, которым вы убьете любого врага! Пользуйтесь этим словом, оно сокрушит горы!» Женька даже вспотел, будто и впрямь орудовал молотком и примитивным зубилом, вгрызаясь в каменную плоть.
Поставив точку, он встал, прошелся по комнате. Так и оставить? Но ведь в книге выбитые на камне слова скидывали в реку, вроде как включая их в общее течение жизни. Он приблизился к столу, пробежал глазами аккуратные (на удивление) строки, и тут озарило — сжечь листок! Что он и проделал над кухонной раковиной. Кажется, он что-то приговаривал во время ритуала, а дальше на него сошел покой. Обидчиков стерло из памяти, будто ластиком, и Женька, добравшись до подушки, тут же провалился в сон.
9
Вечный двигатель продолжал мерное раскачивание, не останавливаясь ни днем, ни ночью. Поначалу техническое чудо могли видеть лишь члены семьи, затем в комнату-мастерскую повалили заводские. В их квартире постоянно возникали малознакомые (или вовсе незнакомые) люди, они прищелкивали языком, крутили головой, после чего, как правило, выставляли водку. Мать молча накрывала на стол, а после хваталась за голову, утверждая, что Рогов-старший сопьется, и что у них дома не склад продуктов. Каждого отец выспрашивал о возможностях застолбить изобретение, и гости посылали кто в Академию наук, кто в Центральное патентное бюро.
Собрав, наконец, бумаги и взяв отгул, он надел лучший (из двух имеющихся) костюм, прихватил командировочный чемоданчик и отправился в столицу. Возвратился воодушевленный, тут же уйдя с головой в работу. Автозавод получил заказ на какой-то мощнейший тягач, предназначенный, по слухам, для перевозки баллистических ракет, а это означало, что старший технолог будет занят по уши.
Ответ из Москвы вмиг уничтожил воодушевление. Одновременно пришло сообщение руководству завода, последовал вызов на ковер, где отцу устроили проработку. Да как он смел?! Он же опозорил целое оборонное предприятие, гордость отрасли! Такому кадру мало выговора, нужен строгач, а может, вообще стоит подумать об увольнении!
— Так и заявили?! — вопрошал трудовик, которому плакался на кухне Рогов-старший.
— Ну да! Меня, который заводу двадцать лет жизни отдал, уволить?! Суки, Боря! И там — суки!
Севка видел в щелку, как отец тыкал пальцем в потолок, указывая, где именно угнездились суки, мешающие техническому гению.
— Я тоже физику учил, знаю закон сохранения энергии. Но вы хоть присмотритесь, что предлагают! Может, там есть что-то полезное! Что стране поможет, людям… Эх, разломаю все к чертовой матери!
Мужчины пили, ругались, а Севка вдруг заплакал. Он привык к тому, что в мастерской что-то постоянно движется, теперь же это чудо умрет и окажется на кладбище-свалке! Он поспешил в последний раз взглянуть на обреченный «перпетуум мобиле», что раскачивался как ни в чем не бывало, даже не предполагая о своей горькой участи. Или предполагая? Каждое устройство, думал юный технарь, обладало разумением и, по идее, должно было чувствовать скорую гибель. Некоторые механизмы даже кончали с собой, иначе говоря — ломались по неизвестной причине без шанса на восстановление. Но вечный двигатель, похоже, рассчитывал на вечную жизнь — он беззаботно раскачивал свои шары, и пофиг ему был какой-то Севка, хлюпающий носом…
Исчезновение вечного двигателя прошло незаметно, если кто и страдал по поводу этой смерти, то один лишь Севка. В эти дни он зачастил на свалку, озабоченный созданием передатчика — для этого не хватало лишь нескольких деталей. И хотя он упорно раскурочивал внутренности горелых аппаратов, детали пока не давались в руки. А воплотить давнюю мечту ой как хотелось! Передатчик — это ж не «Спидола» какая-нибудь, ты сам можешь выйти в эфир, а не просто слушать дурацкий «Маяк».
В один из вечеров работа над передатчиком, наконец, была закончена. Завинтив заднюю крышку, Севка вытер руки, после чего осторожно щелкнул тумблером. Вроде ничего не произошло, да и не должно было произойти: это приемник тут же начинает шипеть и базлать дикторскими голосами, а передатчик помалкивает. Зато дает такие возможности! Вот Севка возьмет сейчас в руки микрофон, выйдет на волну радиолюбителей и скажет: «Всем, всем, всем! В эфире радиостанция Севки Рогова…» Нет, выдавать себя нельзя, если засекут — кранты! Он лучше скажет: «В эфире радиостанция СЛ-2!» И пусть попробуют догадаться, что это означает: Севка, Лорка, а в сумме их получается двое. Ни в жизнь не допрут!
Первый выход в эфир вроде прошел нормально, если не считать какого-то въедливого радиолюбителя из Новосибирска, требовавшего официальный позывной. А кто его даст Севке? Он даже паспорта не имеет! И передатчики собирать не должен, да только охота пуще неволи.
Назавтра он опять вышел в эфир, наткнулся на такого же радиохулигана и протрепался с ним не меньше часа. И на следующий день трепался, в общем, вошел во вкус.
Спустя неделю сгорела радиолампа, и передатчик онемел. Значит, опять тащись на свалку, где в последнее время зверствовала охрана. В один из дней, когда Севка лениво ворошил старые кучи, он увидел, как распахнулись ворота, и скрылся в лесу. Выехало сразу семь машин, что было удачей — конкуренты отсутствовали, значит, ему доставались сливки.
Новые кучи подожгли, как обычно, бензина не жалели, и пламя взметнулось вверх, раздуваемое ветром. Когда повалил густой черный дым, грузовики вернулись на территорию, а Севка рванул к ближайшей куче.
Та полыхала, нещадно чадя, и захлестывала обида: испепеляются дефицитнейшие детали! Закрыв рубашкой рот и глаза, он запрыгивал в дымные облака, не глядя, хватал что-то крюком и выдергивал из куч. Несколько раз он вдохнул горячий дым, отчего глаза полезли на лоб, потом закашлялся и упал на землю…
…Он летел над свалкой, будто ястреб, высматривающий добычу. Как и положено ястребу, он видел мельчайшие подробности пейзажа, без труда различая с высоты, где транзистор, а где — диод. Ему была нужна радиолампа, та самая, со звездочкой, уж она-то не подведет. Ястреб Севка делал круги, приземлялся на кучи, рылся в них, только тщетно. Он вообще не мог схватить ни одной ценной детали: лапами нельзя, потом не сможешь приземлиться, а клювом не получается, из него все выскальзывает.
Требовался помощник. Ястреб крутил головой, однако свалка была безвидна и пуста. Или не совсем пуста? Ну, конечно, здесь черный мухобой! Почему-то не было никакого страха, Севка взмахнул крыльями и полетел туда, где маячила черная фигура. Подлетев, он уселся на рукав шинели, будто ручная охотничья птица, и начал просительно заглядывать в глаза. А глаз не видно! Одно черное пятно вместо лица, уголь, чистейший антрацит! Севка хотел было опять взмыть вверх, да лапы будто прилипли к шинели, не взлетишь!
— Вы меня съедите? — удивленно заклекотал (точнее, прочирикал) ястреб Севка. В ответ раздался утробный хохот.
— Зачем ты мне нужен?! Тебя съест другое!
— Что другое?!
— То, что в тебе живет. И заставляет бегать на это кладбище, где отдают концы твои любимые железки!
— Тогда отпустите меня!
— А тебя никто не держит. Ты сам не хочешь отсюда улетать!
Ястреб Севка задумался.
— Верно, не хочу…
— Лампа, значит, нужна? — спросил мухобой.
— Очень нужна! — зачирикал Севка. — Позарез!
— Держи две, одна про запас.
Сунув руку в карман, черный извлек оттуда две лампы, которые тщетно искал Севка.
— Спасибо… Только как я их возьму?
— Как всегда. В карман положи, а то потеряешь.
Осмотрев себя, Севка поразился — он опять был пацаном! С сумкой, кусачками, в общем, такой, как раньше. А черный мухобой повернулся и двинулся к воротам. Севка смотрел вслед, ждал (все-таки ждал), что откроются створки; но черный то ли в щелку протиснулся, то ли проскочил сквозь стену.
Он очнулся, когда уже смеркалось. И тут же зашелся в кашле: в горле дико першило, будто внутри прошлись железной щеткой для очистки слесарных верстаков. Наверное, он наглотался ядовитого дыма, там же оплетки проводов горят, резина, краска…
— Кха! Кха-кха-кха! — выкашливал он смесь, от которой дико болела голова. Выбросить все к чертям собачьим, и вон отсюда! Севка шарил по карманам, освобождаясь от набранного из жадности хлама, когда вдруг наткнулся на что-то гладкое. Раскрыв ладонь, он увидел две радиолампы. Нужной модификации, новенькие и такие чистенькие, что даже маркировка просматривалась…
Он долго стоял, тупо перекатывая в ладони вожделенные детали. Откуда они взялись? Было такое чувство, что их только что сняли с магазинной полки и выдали покупателю. Только здесь не магазин, и если сцапает охрана, потом доказывай, что не своровал лампы на заводе!
Отдаленный звук шагов заставил вздрогнуть. Опять человек без лица?! Или мужики в шинелях?! Севка спрятался за черный террикон, но не выдержал — пулей помчал по свалке, виляя между кучами. Судя по тяжелому буханью ног, за ним явно бежали. Впереди чернел лес, но буханье приближалось, и когда до спасения оставались считанные метры, его крепко схватили за плечо.
— Хорошо бегаешь, паршивец… — произнес знакомый хриплый голос.
— Не трогайте, дяденька! — заныл Севка, опускаясь на землю. — Я нашел это, на свалке!
— Чего нашел? — спросил тот же голос.
— Детали нашел…
— Для аппарата запрещенного?
Подняв глаза, он опешил — отец! Тот стащил с головы берет, тяжело дыша и озирая усеянное железками пространство.
— Как вы ноги-то не переломаете?! А воняет тут… Ладно, показывай трофеи!
Он мельком взглянул на лампы, забрал их и, размахнувшись, зашвырнул в лесную чащу.
— Теперь домой.
— А-а…
— По дороге все объясню.
Как выяснилось, отца вызывали в милицию, интересовались «творчеством» сына. Говорили, мол, радиохулигана какого-то засекли, вроде в нашем дворе, а кто там главный изобретатель? Севка Рогов! Обыска, правда, пока не было, но могли явиться в любой момент, а тогда…
Отец говорил это на удивление ровным голосом, но Севка знал, что кроется за подчеркнуто спокойной интонацией. Когда пришли домой, отец сразу направился в его комнату и полез под кровать.
— Спрятал твой аппарат от греха подальше…
Он вытащил передатчик.
— Эту штуку ищут?
Севка кивнул.
— Тогда клади в сумку и пошли на улицу.
Помойку во дворе полгода назад убрали, мусоровозка сама к ним приезжала, так что пришлось тащиться на пустырь за котельной. Отец прихватил лопату с коротким черенком, и, когда добрались до цели, коротко приказал: копай! Вонзив лопату в песчаный грунт, Севка косил глазом на передатчик, вытащенный из сумки. Отец достал молоток, но сразу бить не стал — все-таки ценил сделанное руками.
Когда он нанес первый удар (не очень уверенно), Севка вздрогнул, прекратив копать. И тут же — второй удар! Раз от раза они делались ожесточеннее, вот и корпус разбит, и от деталей только брызги; казалось, отец лупил по головам врагов, на самом деле попадая в сына, который всхлипывал, размазывая слезы…
Отец успокоился, лишь когда «могилка» была засыпана. Утрамбовав образовавшийся холмик, он прижал Севкину голову к груди.
— Ладно, сын, не тужи. Мне тоже не сладко. Воздуху не хватает, воздуху! А на твоей улице еще будет праздник. Про мою — не знаю, а на твоей будет, точно тебе говорю!
Лето, такое длинное и разное, катилось к финалу. Еще было жарко, в Пряже продолжали купаться, но впереди уже маячили ненавистные уроки, которые ведут скучные училки. Радовало лишь то, что в сентябре откроется станция юных техников, куда Севка наконец-то мог записаться — раньше не подходил по возрасту. Говорили, там не просто кружки технические, ребята серьезную аппаратуру собирают, и право на выход в эфир имеют. В общем, как всегда: одиночка пропадает, побеждает — кодла; но в эту «кодлу» Севка с удовольствием бы влился…
Однажды он увидел Лорку из окна: та бежала от Бродвея, в платье, почему-то заляпанным красным. Двор был пуст, летний выходной, все или на речке, или на дачах; только пенсионер Ходаков, набрав в авоську пустых бутылок, двигался в сторону пункта приема стеклотары. К нему Лорка и кинулась. Ходаков, покачиваясь (с утра был подшофе), внимал ей, а та бурно жестикулировала, указывая в сторону улицы. Когда пенсионер развел руками, мол, не могу помочь, Лорка побежала обратно. А спустя пару минут появилась с Гретой на руках. Она едва ее тащила, все ж таки овчарка, но главное — собака была в крови! Вся задняя часть была красноватого цвета, и лапы висели безвольно, вроде как парализованные…
Первым желанием было: броситься вниз, чтобы помочь. Собственно, он и бросился, даже дверь в квартиру забыл закрыть. По дороге вспомнил, вернулся и запер на два оборота ключа. После чего уже не побежал вниз, а медленно пошел, чтобы на выходе из подъезда остановиться. Не иначе, собака угодила под машину. Или под мотоцикл, но в любом случае дело швах, наверняка лапы размолотило в труху. А тогда зачем ее таскать? И еще эта ужасная кровища, переломанные кости… Когда он представил белые кости, торчащие из рваных ран, ему сделалось дурно, даже рвотный позыв почувствовал.
Он вышел во двор, но Лорки уже не было. Вроде как прогуливаясь, Севка бросил взгляд на ее окна, подумал — и направился к станции юных техников.
Они встретились во дворе через пару дней. Как выяснилось, Лорка притащила Грету домой, перевязала, потом сама понесла в ветеринарку. Но о том, что был свидетелем, Севка не сказал. Он лучше сделает ей чего-нибудь, может, протез какой-нибудь собачий. А что? Трудовик Сергеич ходит с протезом, причем много лет, почему собаке не ходить с искусственной лапой?
— Ладно, мне в лечебницу надо, — сказала Лорка.
— А как там… Ну, дела?
— Сегодня вторую операцию делают.
— Понятно…
Он мог бы сходить вместе с ней, но не решился. А спустя пару дней узнал, что собака не проснулась после очередного наркоза. Ее похоронили на даче, и Севку, по счастью, на собачьи похороны не пригласили. Он вообще пугался всего, что связано со смертью. Помнится, когда умирала бабушка, он, второклассник, убегал из дому и шатался на улице до позднего вечера, лишь бы не видеть пергаментной кожи, открытого рта, из которого вырывается частое (и несвежее) дыхание, не чувствовать запахов тела, которое заживо разлагалось…
А Лорка, интересно, смогла бы такое вытерпеть? Судя по всему — смогла бы. Но тогда получалось, что Лорка какая-то другая, она может то, чего не может Севка, и от осознания этого на душе делалось неуютно. За лето она вообще стала другой. Разница в росте (не в Севкину пользу) сделалась очевидной; и округлости стали видны невооруженным глазом, так что не верилось, что всего лишь в мае с этой девицей они лазили через забор на завод. Заканчивалось последнее лето детства, чтобы спустя месяц окончательно кануть в прошлое…
10
Перед окончанием школы Женька отпустил волосы — пусть не до плеч, как хотелось, но все равно получилось классно. Темные и вьющиеся, они придавали ему романтический облик; а еще замшевая куртка, привезенная матерью из Польши, джинсовая рубашка на кнопках, стильный шейный платок… Он знал, что нравится многим одноклассницам, и умело подогревал интерес записками с ироничными стишками. Распознав в себе умение рифмовать, Женька вовсю им пользовался, высмеивая и преподавателей, и тупоголовых учеников. На этой почве он даже обрел небольшую славу, поскольку стишки потом ходили по рукам и кем-то даже переписывались.
Но в практическом смысле «наука страсти нежной» продвигалась ни шатко ни валко: пара попыток добраться до пышной груди Танюши Завадской, несколько поцелуев в темном подъезде, и все. Оставалась привычная игра воображения, когда, вглядываясь в зеркало, ты видишь не себя, а некоего героя-соблазнителя. Кого именно? Эрастом быть не хотелось (скучно), Онегиным — банально, как и Печориным. Порочный Анатоль Курагин мелковат, уж лучше быть порочным Дон Жуаном. А еще лучше — порочным Казановой, о котором мало кто знал, а вот Женька знал и бравировал своим знанием, смущая ту же Завадскую. Пока та отбивала шаловливую руку, стремившуюся проскользнуть под лифчик, но крепость при умелой осаде вполне могла пасть…
Другой вопрос: хотел ли Женька падения этих ничтожных крепостей? Его энергия, в сущности, адресовалась второй парте у окна, где обычно сидела та, ради которой и рвался в десятый «Б». Когда формировали два выпускных класса, его записали в «А», как и Рогова, но Женька использовал домашний ресурс (что делал крайне редко), упросив мать пойти к завучу Раисе Степановне. В итоге они с Ларисой оказались если не за одной партой, то хотя бы в одном классе, а тогда обратить на себя внимание проще. Дерзким поведением, экстравагантным видом, да хоть флиртом с Завадской. Знала бы эта дура круглолицая, что служит лишь ширмой или, если угодно, раздражителем для той, что склоняет над тетрадью голову с балетной кичкой…
После школы Лариса направилась к автобусной остановке, чтобы ехать в балетную студию. Женька решил ее проводить, а заодно похвастать плодами последних вдохновений.
— Как это у тебя получается? — спросила она, когда тот выдал стишок, сочиненный вчера вечером.
— Не знаю, — пожал он плечами. — Само собой как-то.
— Здорово! В балете не так: столько усилий нужно ради того, чтобы легкость появилась…
Женька приврал: он рифмовал с мучениями, обычно дома, а в школе делал вид, что едва ли не импровизирует. Только стишки, увы, не пробивали этих крепостных стен. Лариса его выделяла, бесспорно, так ведь и Самоделкина выделяла! То на его драндулет усядется, чтобы носиться по Бродвею, то позовет магнитофон ремонтировать… Интересно, дотрагивался ли тот до ее груди? Хотя округлости под водолазкой были в два раза меньше Танюшиных, притягивали они гораздо сильнее; беда в том, что Лариса — не Завадская, за здорово живешь не подступишься…
Когда подошел троллейбус, Лариса вдруг сказала, что ее мать переводят работать в Ленинград.
— Да? — озадачился Женька. — И ты с ней уедешь?
— Конечно. А ты в Москву?
— Не знаю, не решил пока…
В последнее время мать настойчиво интересовалась: ты готовишься к поступлению в вуз?
— Я выбираю! — отмахивался Женька.
— Чего тут выбирать?! Филфак МГУ — самый лучший выбор! Я уже своей однокурснице написала, у нее там связи!
— Мам, я же просил!
— Помолчи, пожалуйста. Да, у тебя хорошая подготовка, но без поддержки нельзя, пойми. Были люди, пытавшиеся в одиночку…
— Какие люди?! — раздражался Женька.
— Неважно, какие. Хорошие! Так вот, они пытались, и ничего у них не получилось!
Он не мог признаться, что ничего не выбирает, а находится в ситуации мучительного выбора. И что московское направление, скорее всего, сменится другим.
На следующий день на уроке военного дела Завадская обернулась к Женьке.
— Слушай, может, про военрука напишешь? Ужас, как надоел!
Про майора Жуклевича заготовок не имелось, и Женька неопределенно пожал плечами. С другой стороны, военрук постоянно придирался к его внешности, видя в ней вопиющее нарушение устава, а значит, майора требовалось проучить.
— Ученик Мятлин! — военрук постучал указкой по столу. — Опять лясы точишь?! А противогаз кто будет изучать?!
На доске были развешаны плакаты с устрашающими изображениями химической атаки. Люди в масках с вмонтированными шлангами успешно противостояли нападению, те же, кто не успел напялить противогаз, валялись мертвыми трупами.
— И вообще, Мятлин, как ты выглядишь?! Ты же призывник! А потом кто? Боец! А какой ты боец, если носишь это все! Ну-ка встань!
Подошедший вплотную майор Жуклевич тыкал пальцем в шейный платок.
— Что это, призывник Мятлин?! А волосы почему как у девчонки?! Может, ты вообще такой… Ну, такой…
— Какой?
— Который не такой. Не мужик, в общем. А?
Военрук подмигивал то ли Женьке, то ли классу, приглашая поржать над окопным юморком.
— Я в бойцы не собираюсь, — усмехнулся Женька. — И в военное училище тоже. Какой смысл быть интендантом? На передовую не пошлют, значит, героем не станешь. Можно разве что военное дело преподавать, но это меня не привлекает…
Класс прыснул — все знали, что закончивший интендантское училище военрук на службе заведовал складом, а в пенсионном возрасте пристроился преподавать. Покрывшись краской, майор поправил китель.
— Ну, и хорошо, что не собираешься, — сказал. — Без такого бойца нашей армии только лучше!
Довольный своей отповедью, Жуклевич вернулся к доске, а Женька понял: просижу ночь, а стих про этого идиота напишу! Он был на волне, чуял это по одобрительному гулу, поэтому взялся за дело прямо на уроке истории.
Историчку Раису Степановну отличали две вещи: повышенная идейность и умение входить в мужские туалеты. Идейность была врожденным качеством: судя по всему, Раиса Степановна с детского сада шагала строго вдоль линии партии, в туалеты же толкала должность завуча. На переменах в мужских «толчках» топор можно было вешать, дым выходил даже в коридор. И тогда навстречу дыму шагала завуч, чтобы визгливым голосом посылать заядлых курильщиков за родителями. На уроках она не визжала, конечно, но время от времени пафос прорывался, как и сегодня, поскольку речь шла о Конституции.
Пока историчка распиналась о том, что последняя принятая Конституция — шаг вперед и символ настоящей свободы (в отличие от фиктивной свободы Запада), Женька сосредоточенно портил листы бумаги.
Он смял очередной лист, вырвал из тетрадки другой, когда над ухом прозвучало:
— А что делает Мятлин? Конспектирует мою речь? Так Конституцию конспектировать не надо — этот основной документ выпущен огромным тиражом!
С этими словами Раиса торжественно потрясла книжицей бледно-розового цвета.
— А скажи-ка нам, Евгений, что говорится в Конституции про учеников средней школы? — Женька встал, взбешенный. — Ну? Что им полагается?
Он сделал вид, что задумался.
— Насколько я помню, им полагается молоко за вредность. И в первую очередь на уроках истории.
— Как это?!
— Как на сталелитейном дают. Тем, кто по горячей сетке.
— По горячей сетке…
Мозг Раисы не сразу осознал степень наглости, до коей дошел не самый последний (точнее, один из первых) ее учеников. Да и Женька не тотчас понял, что над его кудрями занесена секира — слишком хотелось выпендриться, прямо зудело в одном месте. Лишь когда раздался визг, какого и в туалетах не слышали, до него дошло: попал!
— …немедленно вон! И без матери чтобы не приходил! Не ко мне — к директору!!
Покидая класс под одобрительный гул, он поймал заинтересованный взгляд Ларисы. Ура, игра стоила свеч! Ему наверняка придется несладко; и на мать шишки посыплются, но пока Женька чувствовал себя победителем.
Он отсиживался дома, примеряя ореол гонимого. Несколько раз забегали одноклассники, рассказывали, мол, Раиса просто визжит, когда слышит фамилию Мятлин. Активисты из школьного комитета комсомола стенгазету повесили, где нарисовали карикатуру на Женьку, но ее быстренько сорвали, а второй раз вешать не решились. Лариса тоже зашла, правда, ореола не оценила — говорила о другом. По ее словам, уже был подписан приказ о переводе матери в Ленинград, они уедут сразу после выпускных экзаменов. Что означало: Женьке придется осваивать питерский филфак.
Они помолчали.
— Севе я тоже сказала.
— Да?
— А ты считаешь, не надо было?
Хотелось закричать: не надо! Пусть Самоделкин едет в Москву, поступит в самый лучший технический вуз, станет великим изобретателем или даже академиком. Но рядом его быть не должно!
Понятно, что он ничего такого не произнес. А с ее уходом и чувство победы куда-то исчезло; да и была ли победа? Мать в эти дни несколько раз ходила к директору школы, писала объяснительные, а дома глотала корвалол вперемешку со слезами и умоляла вначале обрести свой круг общения, а уж потом высказывать спорные мысли.
— Почему сейчас нельзя? — хорохорился Женька.
— Потому! Уже пытались прыгать выше головы, только ничего не получилось!
— Кто пытался?
— Неважно кто! Хороший человек! А теперь от этого человека что осталось?! Тень, пародия! И ты можешь стать тенью, если получишь волчий билет. Знаешь, что это значит? Что дороги перекрыты, а значит, бери лопату — и в дворники!
Ей с трудом удалось отстоять сына. Наблюдая за ней, Женька видел подрагивающие руки, что перелистывают тетрадки, и думал: когда он уедет, матери будет плохо. Те же тетрадки, та же дача, и надо все самой, даже в магазин никого не пошлешь. Она, конечно, будет писать письма, и точно так же станет просиживать часами на переговорном пункте, но единственная опора все-таки исчезнет. Жалел ли он мать? Жалел, но отдаваться слезливому чувству себе не позволял. Жалость подрезала крылья, стреноживала, навсегда привязывая к ненавистному пространству с его заводскими трубами, убогим парком и Советской улицей, по недоразумению именуемой «Бродвеем».
Новый круг общения он обрел в среде букинистов. Время от времени Женька ездил в центр, где возле магазина старой книги толпились любители словесности, обмениваясь раритетными изданиями. А поскольку в его библиотеке имелись «дубли», он тоже активно ввязался в книгообмен, обретя в короткий срок и «Моби Дика» Мелвилла, и «Мастера и Маргариту» Булгакова.
В расположенном по соседству сквере Олеко Дундича тоже обменивались книгами, но, как выяснил Женька, совсем другими. На укромных скамейках из рук в руки передавались запрещенныеиздания. Передавались, понятно, проверенным людям, в числе которых Женьке очень хотелось оказаться.
К посвященным его приобщил библиофил по фамилии Стоцкий, всучив затрепанную роман-газету с публикацией «Одного дня Ивана Денисовича». Роман-газета была завернута, в свою очередь, в газету «Правда», но везти ее в открытую Женька не решился — спрятал за пазуху. Стоцкий наказал: никому не показывать, в чужие руки не давать; только Женька и сам был не дурак. Увидь такое мать, пришлось бы вызывать неотложку, поэтому роман-газета была надежно запрятана в недра раздвижного дивана.
От осознания того, что затрепанное издание, из которого вываливались листы, было запрещенным, пересыхало во рту. Всего-то буквы на бумаге, а какая сила! Автора запрещают? Значит, боятся; а тогда тот, кто умеет сочинять — велик и могуч, он почти бог, жрец и маг!
Само чтение, однако, разочаровало. Лагерь, его вонь и тлетворный дух вызывали отторжение — Пряжск и без того был заполнен блатарями, как старая мебель клопами. Осталось разве что убежденность, что слова обладают скрытым могуществом, главное — уметь ими пользоваться.
Потом опять был сквер, Стоцкий и быстрые взгляды по сторонам, дескать, не пасут ли нас? Эта игра взрослых людей завораживала, поднимала Женьку в собственных глазах и увеличивала весомость изданий, по каким-то причинам опасных для власть предержащих. Получив завернутую в очередную «Правду» (то была тонкая игра символов) книгу Анатолия Кузнецова с комментарием: «Это перебежчик», Женька тут же ее спрятал. Он вроде как получил на время бомбу с часовым механизмом, которая может рвануть в любое время. А значит, получил могущество, пусть и неочевидное для других.
Пока же он поинтересовался книжкой «Могила Таме-Тунга», точнее, ее продолжением. Библиофил взглянул на него с удивлением.
— Что вы так смотрите? — смутился Женька. — Я понимаю: книжка детская, я так просто спросил…
— Да не такая уж детская… — проговорил Стоцкий. — Просто я не знал, что вы интересуетесь оккультизмом.
— Оккультизмом?! Но это же обычная беллетристика!
— Не обычная. То есть на первый взгляд все нормально, а копнешь глубже — такое найдешь… Поэтому ее тоже из продажи изъяли. И первый том, и продолжение, о котором вы спрашиваете.
Сбитый с толку, Женька задумался. Он чувствовал, что в книге таится что-то необычное, дающее то самое могущество, силу, но в глубине души в это не верил. Оказывается — так и есть!
— Так нужен второй том или нет? Если честно, я думал: вы — представитель инакомыслящей молодежи. Но если так…
Женька сглотнул комок.
— Нужен, — проговорил глухо. — Очень хочу почитать.
Втиснутая в безликий коричневый «супер», книга не привлекала внимания. Ее не требовалось заворачивать в газету «Правда» и при желании можно было читать даже в троллейбусе, когда возвращался в Новый Городок. Но в троллейбусе он читать не стал — раскрыл книгу дома. И просидел до позднего вечера, вычитывая между строк то, что хотел сказать хитроумный автор, запрятавший в беллетристический кокон иное содержание. Во втором томе разъяснялось, что мир, согласно учению Таме-Тунга — это большая книга, и писать ее волен любой человек. Петроглифы на камнях, сброс их в бурную реку, символизирующую бесконечный поток жизни — и есть род такого писания. Высеченный текст входил в мировой кругооборот, и в итоге все, что было написано — сбывалось. А если не сбывалось, значит, писавший не вложил душу в то, что высекал на кусках известняка.
Прочитав об этом, Женька задумался. А он в свое время — всю душу вложил? Или то было обычное мстительное чувство подростка, которого обидели? Он не забыл, как его опозорили, хорошо помнил бумагу с текстом и огонь, уничтожавший написанное над раковиной. Вошли, интересно, те писания в мировой кругооборот? Месяц за месяцем он наблюдал в бинокль омерзительного Зему и с удовлетворением отмечал, как спивается вожак и лишается в бесконечных драках зубов. Скоро, думалось, наступит час расплаты, недолго ждать!
Хотелось еще одного могущества, только здесь Таме-Тунг, увы, был не помощник. Женька проштудировал книжку от корки до корки, но ничего, что касалось бы умений завладевать женщинами, не обнаружил. А таких умений ой как не хватало! Если честно, про Ларису он тоже кое-что писал и тоже с ритуальным сожжением над раковиной. Однако последствий пока не было. Та была очень близкой, казалось, еще чуть-чуть — и Сезам откроется; и в то же время оставалась далекой, непознанной и таинственной…
Такую книгу, понятно, возвращать не хотелось, и он обдумывал варианты обмена. Однако предлагать оказалось некому: возле магазина старой книги было пусто, в сквере он тоже не увидел Стоцкого. Спустя полчаса, правда, появился его приятель — старичок по фамилии Филимонов.
— Извините, а вы не знаете, где Борис Семенович?
Опершись на палку, Филимонов с подозрением вгляделся в лицо вопрошателя. Затем повернулся и, пробормотав: «Идите за мной, только в отдалении», направился к лестнице, что спускалась к реке.
Когда дорога нырнула в густые заросли кустарника, старичок остановился.
— Бориса Семеновича, значит, ищете… Не надо его искать.
— Почему?
— Потому что он сейчас вон там!
С этими словами Филимонов указал на утыканное большущими антеннами здание из красного кирпича, что торчало в отдалении на взгорке.
— Знаете это богоугодное заведение? Туда его взяли, и других наших тоже. Так что не надо сюда приходить, юный друг, можете подпортить себе биографию.
Женька вернул книгу старику. Вернул торопливо, так что Филимонов, наверное, подумал, что «юный друг» испугался и хочет поскорее избавиться от «вещдока». В чем была доля правды: это не в школе выпендриваться, в здании с антеннами наверняка выдают «волчьи билеты», а может, и по этапу отправляют.
Спустя час он уже жалел: дурак, надо было себе оставить! — но было поздно. Вообще стало как-то тоскливо и противно. Все вокруг внезапно изменилось, и это была перемена к худшему, темному, страшному, будто он навел любимый бинокль на жизнь, и проявились подробности, каких вовсе не хотелось видеть…
11
В выпускном классе Севке было не до школы. Физик Гром постоянно нудил: мол, надо готовиться к экзаменам, загнал на факультатив, только Севка, сходив раз-другой, больше туда не показывался. Он пропадал (как папаша на заводе) на станции юных техников, давно сделавшись местной «звездой». С ним советовался сам начальник радиоклуба, а члены многочисленных технических кружков с уважением говорили: «Рог — это сила!»
Счастью мешали лишь сердечные страдания, возникавшие по разным поводам. Почему-то для всех он оставался Севкой, ну, еще именовали: «Рог», что для Пряжска было в порядке вещей. Она же стала Ларисой, даже Ларисой Степановной — так ее называл руководитель балетной студии центрального ДК, куда она недавно перешла. И хотя в обращении престарелого балеруна Германа Валерьевича было что-то манерное, возможно, даже шуточное, несправедливость отзывалась неприятным эхом в душе.
— Уж вы, Севочка, довезите драгоценную Ларису Степановну до дому, хорошо? — напутствовал балерун. — Мотоцикл — опасное средство передвижения!
— Не опаснее трамвая… — бурчал Севка, не терпевший уменьшительно-ласкательных (Севочка, бля!). Он регулярно подкатывал к ДК на «Яве», сверкающей хромированными частями. Вряд ли бы кто догадался, что мотоцикл собран из разнокалиберных деталей; да и сам он в шлеме и черных перчатках смотрелся круто. Только внимание все равно уделялось ей. То Герман выйдет провожать, то некто Барский с ней шушукается, то подружки зовут в кафе-мороженое…
Обиднее всего было, когда она исчезала. Где Лариса? Не знаю, пожимала плечами вахтерша, попрощалась с улыбочкой — и в парк поскакала. Вскочив на железного коня, Севка мчался к парку, кружил вокруг, бывало, и внутрь закатывал (что было запрещено), и если ее не видел, не находил себе места. Однажды он увидел, как та вылезала из вишневой «копейки», вернувшись с занятий. За рулем был какой-то деятель в пиджаке и очках, как выяснилось позже — директор собаководческого клуба. В руках она держала белый пушистый комочек — щенка болонки, которого ей подарили. Почему подарили? А за выступление! Этот дядечка (так его назвала Лариса) пришел в ДК на нашу «Феерию ночи», ему понравилось; когда же он узнал, что я люблю собак, решил подарить породистого щенка. После гибели Греты она долго не заводила собак, болонка Марфа была первой. Севке же казалось: она крутит с директором клуба. А может, с Мятлиным крутит…
Про телефон Севка вспомнил, болтаясь по школе в ожидании, когда «Б» закончит биологию. Хорошо, думал он, что их дома до сих пор не телефонизировали. Недавно Севка высказал идею: давай подключу вас к ближайшему телефону-автомату! Что тут же заинтересовало Светлану Никитичну, очень страдавшую без телефона.
— А это, — спросила она, — не противозаконно?
— А никто не заметит, — сказал Севка. — Я так подключусь, что автомат не будет работать, когда вы разговариваете. А когда не разговариваете — будет работать, как обычно.
— Ну да, ну да… С другой стороны, почему они кабель в другие кварталы уводят?! Я семь лет в очереди стою, это же безобразие!
До звонка оставалось пять минут, когда в коридоре показалась Горюхина, активистка и комсомольская секретарша. Поравнявшись с Севкой, та обратила к нему веснушчатое лицо.
— Здравствуй, Рогов. Когда в комсомол собираешься вступать? До окончания школы два месяца, а ты даже заявление не подал!
— Заявление? Да, не подал…
— А на субботнике почему не был?
— Так если я не вступил, то субботник…
— Все должны участвовать! Даже этот ужасный Мятлин пришел, хотя лучше бы не приходил!
Активистка намекала на недавний скандал, когда Женька сказанул на уроке такое, что историчку валерьянкой отпаивали. Чем он напугал завуча, которая сама кого хочешь напугает, было непонятно, но Мятлин вроде как сделался знаменитостью, что опять пробудило ревность.
— Никакой он не ужасный, твой Мятлин… — пожал плечами Севка. — Он… Обычный.
— Во-первых, он не «мой», — с достоинством ответила Горюхина. — А во-вторых… Знаешь, что он на субботнике выдал? — Горюхина оглянулась, потом приблизила лицо настолько, что стала видна каждая веснушка. — Он Солженицына защищал! — проговорила свистящим шепотом.
— Кого-кого?
— Ну, этого… Который сидит за границей и гадости про нас рассказывает! Мятлин сказал, что этот Солженицын — серьезный писатель! А какой он писатель?! Он враг советской власти, так во всех газетах пишут! Я вот думаю: может, директору школы об этом сказать? Этот Мятлин, по-моему, совсем распоясался, пора его из школы выгонять!
Исключение соперника из школы было, по идее, на руку: Женька в этом случае зависал в Пряжске минимум на год, Севка же и Лариса уезжали на учебу (разумеется, вместе). Но конопатая толстуха с жабьим ртом была настолько омерзительна, что Севка из брезгливости даже отступил назад.
— Так что думаешь, Рогов? Сказать? Он об этом Лариске Беловой говорил, по секрету, но я все равно расслышала!
Говорил Ларисе?! Что ж, тогда вопрос решался однозначно.
— У тебя хороший слух… — проговорил он, усмехнувшись.
— У меня все хорошее — и слух, и зрение!
— Но доносчицей быть все равно плохо. И если ты настучишь…
— Выбирай выражения, Рогов!
— … я подобью твой класс на бойкот. Хочешь, чтобы с тобой разговаривать перестали?
— Ой, ой, ой, страшно как! — покачала головой Горюхина, однако в глазах мелькнула тревога.
— И вообще я сам за тобой слежку буду вести. У меня есть один приборчик — мы его на станции юных техников сделали, — который может наблюдать за человеком. Где угодно может следить, даже в туалете!
— Свистишь, Рогов… — облизнула губы активистка.
— Выбирай выражения, Горюхина!
— Ты просто за Лариской бегаешь, поэтому и заступаешься! Ты ведь ее ждешь, правда?
— Не твое собачье дело. Но я тебя предупредил. Бойкот и слежка — вот чего ты добьешься.
Лицо Горюхиной сделалось пунцовым.
— Ладно, Рогов, еще подашь заявление, никуда не денешься… Ни за что не пропущу на комитете!
Повернувшись, она затопала по коридору, а Севка перевел дух. Не настучит, подумалось, все-таки напугалась…
После звонка в классе послышался глухой гул, но никто не выходил. Наконец, дверь со стеклом распахнулась, и в коридор выкатились Генка с Вадиком, два закадычных дружка-курильщика, которых то и дело вылавливали в школьном туалете. Заметив Севку, Вадик метнулся к нему.
— Здорово! Закурить будет?
— Я не курю, ты ж знаешь…
— А тут такое было… Шапито, бля!
Следом подскочил Генка, и они, закатываясь от смеха, наперебой принялись рассказывать, как на уроке сцепились новая биологичка и Белова. Они давно конфликтовали из-за живого уголка, ликвидированного в начале года. Кролики подхватили какую-то инфекцию, но вместо того, чтобы отвезти их на ветстанцию (Лариса сама вызвалась это сделать), директор решил закрыть уголок, а биологичка поддержала, мол, я на чучелах могу все объяснить! Но сегодня случилось что-то из ряда вон, что ржущая парочка никак не могла растолковать.
— Да не трындите на пару! — с досадой проговорил Севка. — Что было-то?
— Белову раком хотели поставить! — в очередной раз заржал Генка.
— Чего-о?! — вытянул лицо Севка.
— Да не в том смысле! — захлебывался Вадик. — Юбка не понравилась училке, ну, знаешь ведь, как Лариска ходит…
Вскоре ситуация прояснилась. Ларису вызвали к доске, поставили перед ней чучело совы и предложили рассказать об этой птице. А та возьми и вспомни про сову, что в живом уголке жила! Мол, жила, никому не мешала, а тут явились живодеры и всех животных усыпили!
— Так и сказала: живодеры? — спросил Севка.
— Ага! — отозвался Вадик. — Биологичка: ты кого имеешь в виду?! А Лариска: вас и имею! Училка аж посинела от злости, а потом говорит: ты, Белова, лучше бы на внешний облик внимание обратила! Посмотри на свою ужасную юбку! Вот попробуй повернуться спиной к классу и наклониться — у тебя же все исподнее будет видно!
— А Лариса?
— Ну, она ж не дура спиной поворачиваться! Она ногу на стул — раз! Юбку вверх, и ногу по самое не балуйся заголяет!
— Ножка будьте-нате! — крутанул головой Генка.
— А потом говорит: вы это хотели увидеть? Так смотрите! Биологичка даже отвернулась, ну, сама-то страшная, как атомная война, и ноги кривые… Короче, еле урок закончила, я думал, ее кондрашка хватит!
Все это время Севка косил взглядом на дверь, откуда, хихикая и перешептываясь, выходили учащиеся десятого «Б». Уже и биологичка выползла с каменным лицом, засеменив к учительской (что там будет!), а Ларисы все не было.
Она вышла последней в сопровождении Мятлина. Они о чем-то разговаривали, поначалу не заметив Севку.
— …советского образования, — донеслась реплика Женьки. Когда они встретились глазами, тот усмехнулся и придержал Ларису за руку.
— Твой эскорт наготове… Ладно, не буду мешать, договорим в другой раз.
То, что Мятлин легко отвалил, радовало и обижало одновременно. Вдруг показалось, что между ними сложились столь доверительные отношения, что личное присутствие роли не играло. Вообще получалось, что они оба — смелые, не боящиеся дерзить учителям, а Севка прячет голову в свою электронику, как страус — в песок. Знала бы она, как он только что спасал этого придурка, который точно допрыгается со своим Солженицыным…
О случившемся Лариса почему-то не распространялась, заговорив на обратном пути про гастроли. Мол, балетная студия едет на неделю в Севастополь, на фестиваль хореографических коллективов.
— И что?
— Ничего. Экзамены на носу, надо учиться, учиться и еще раз учиться…
— Как завещал великий Ленин? — усмехнулся Севка. — По идее, надо…
— Нам с Женей будет трудно на экзаменах.
— А кому легко?
Усмешка сделалась скептической, если не сказать — желчной. Точно, с Мятлиным крутит, а значит…
— Но я все равно поеду, Герман Валерьевич чуть ли на коленях не стоит. Как думаешь, пропустить неделю — это ничего?
— Тебе же справку в ДК выпишут… — пробормотал он, отворачиваясь. Мелькнула дикая мысль: может, ее хахаль — старый балерун? Кто угодно, в общем-то, мог с ней крутить, потому что она — такая. Он вдруг ощутил полную беспомощность перед этой ногастой, с выпирающей из-под жакета грудью, чьи губы приоткрыты, а зеленые глаза смотрят требовательно, ожидая ответа. Севке нужно водить мотоцикл, делать телефоны, Женьке приходится стишки строчить, а ей ничего не нужно, чтобы привлечь и покорить, потому что — такая.
— Поднимешься? — спросила, получив портфель. — Ты вроде собрался что-то для телефона вымерять…
Он вяло пожал плечами, но подчинился.
Рулетки не нашлось, поэтому вымерял неудобным портняжным метром. От балкона до столика в прихожей с учетом всех поворотов и изгибов нужно было восемь метров провода. От балкона до земли — еще семь, плюс тридцать (он вчера проверил) до автомата на углу дома. Итого сорок пять метров провода, который нужно отмотать от бухты на станции юных техников. Севка знал: за такое даже Рог может получить в «рог», но ради длинноногой на что только не пойдешь…
— Порядок, в общем. Придется, правда, стену насквозь прошить, чтоб на балкон проводку сделать.
Реплика осталась без ответа. Оглянувшись, он заметил приоткрытую дверь в Ларисину комнату. Осторожно приблизился, заглянул в щелку и, увидев Ларису перед зеркалом, замер.
Закинув руку за спину, она расстегнула молнию на платье. Медленно стащила его через голову, оставшись в трусиках и лифчике, но халат сразу не надела. Поправила сбившуюся набок кичку, быстрым движением сняла лифчик, затем слегка повернулась влево-вправо, вроде как оценивая фигуру. Или оценивая бледноватый загар, что к апрелю почти сошел? Самым смелым предположением было: она ждет Севку, который ковыряется с проводами, как идиот, вместо того, чтобы распахнуть дверь в комнату и, подойдя сзади, взять в руки ее грудь. Как рассказывали парни постарше, надо сжимать соски, чтоб баба возбудилась, дальше можно и на койку валить. Он знал, что дома никого нет, им никто не помешает, однако тупо стоял у двери, боясь пошевелиться и глядя на пятнышко, что темнело чуть выше голубых трусиков. «Родинка…» — прошелестело в мозгу.
То, что он ходит с Ларисой (или, если угодно, бегает за ней), не было секретом, но похвастаться ему пока было нечем. Он мог бы замутить со взрослой, дешевок хватало, да вот беда — не хотелось начинать с грязи, как в подвале, когда прошлой осенью налетел на Зему с его подружкой.
Его занесло в подвал случайно, искал знакомого, обещавшего отдать на детали старый магнитофон. Но за картежным столом сидел только пьяный Зема в одних трусах.
— Кого это несет? А-а, это ты…
Свет был тусклый, глаза привыкли не сразу, но вскоре Севка разглядел, что за спиной блатаря на панцирной сетке раскинулась женщина.
— Чего маячишь? Садись…
Зема протянул руку за бутылкой.
— Портвешка хочешь? Давай, выпей с нами…
Стакан портвейна Севке был не страшен, тем более Зема набулькал лишь две трети. Неловко стало из-за другого — женщина была голой! А главное, она прямо в таком виде уселась рядом с Земой и, как ни в чем не бывало, подвинула стакан!
— И тебе, курва, плеснуть? — осклабился блатарь. — Плесну, не жалко…
Движения Севки моментально сделались скованными, вроде как шарниры-суставы утратили смазку. Он машинально протянул руку за стаканом, упершись взглядом в щербатый стол, однако две обвислые груди с розовыми пятнами сосков сами лезли в глаза, как и рыжая кудрявость внизу живота. Почему она в таком виде?! Что-то рушилось, привычный мир уничтожался, потому что так быть не должно!
— Чего застремался? — спросил Зема. — П…ды живой не видел? Нин, не видел, точно!
Когда голая парочка заржала, у Нины обнаружилась дырка между зубами. Она вообще была противная — складки на животе, отечное лицо, размазанная помада…
Севка залпом выпил, не почувствовав вкуса. На газете лежала нарезанная колбаса, но закусывать он не стал, обуреваемый одним желанием — сбежать.
Неожиданно блатарь перегнулся через стол.
— Бараться хочешь?
— Я?! Да я как-то…
— Хочешь, по глазам вижу! Что ж, Нинка даст. Дашь ему?
Щербатая расплылась в ухмылке.
— Если хорошо попросит…
Когда она, раздвинув ноги, взялась оглаживать вислую грудь, подкатила тошнота. Вот овца! В то же время он не мог уйти, получилось бы, что он позорно сбежал, как пацан неопытный…
— Че зыришь? Давай, снимай штаны и на сетку… Вон, Нинка уже пошла!
Щербатая и впрямь поднялась и, пошатываясь, вернулась на ложе. Улегшись на спину, она раскинула колени, после чего помахала рукой, мол, приглашаю!
— Да не ссы, я подглядывать не буду!
Зема захохотал так, будто высказал что-то невероятно остроумное. Севка с силой сжал скулы. На столе валялся нож с наборной рукояткой, им, наверное, и резали колбасу. Но таким ножом не только закуску настругивают, им можно и под ребро сунуть! Как бы между дел Зема взял со стола финку и начал ею поигрывать. А Севка придвинул к себе пустую бутылку.
— Давай, пацан, сделай бабе хорошо…
Взяв бутылку за горлышко, Севка постукивал донышком о край стола. Одно движение — и в его руке «розочка», она против ножа вполне годится. Может, еще и круче будет, ею можно так морду расписать, что мало не покажется!
— Делай ей сам хорошо, — сказал жестко, не поверив собственной интонации.
— Чего-о?
— Чего слышал. Барайся с ней сам.
— Да я тебя, шкета…
Зема привстал, чтобы тут же шмякнуться обратно. А Севка вдруг успокоился. Несмотря на кичливые наколки, тело блатаря было костлявым и бледным, Севка же был плечистым крепышом (к тому же трезвым), он наверняка бы вышел победителем.
Зема это понял. Рука с финкой внезапно обвисла, он сгорбился, вроде как сделавшись меньше в размере, а на лице заиграла кривая ухмылка.
— Не хочешь пачкаться, Кулибин… Понимаю. Ты вообще свалишь отсюда, я знаю. Потому что голова есть, руки… Уезжай, все правильно. Иначе капец, Пряжск — место гиблое!
В тот раз Севка почувствовал не просто уверенность — превосходство, он был выше, сильнее, имел перспективы! Здесь же, у Ларисы, никакой уверенности и в помине не было. И превосходством не пахло, и перспективы если и просматривались, то с трудом…
Когда родинку закрыл красный шелковый халат, Севка задом отошел от двери и уселся на диван. Он уже переставал понимать — чего ждет? Была одна неуклюжая попытка сближения, и Лариса, он чувствовал, ответила на поцелуй (неумелый, надо признать). Но потом вдруг отстранилась.
— Сегодня нельзя, — сказала.
— Почему?! — удивился он.
— Потому что у женщин бывает так, что нельзя.
И что тут скажешь? Если не считать убогих инструкций, что преподносили старшие, он мало чего знал в этой области. Электронику видел насквозь (почти в буквальном смысле), а вот здесь шарил в потемках, как только что родившийся котенок.
— Ну как, сделал? — спросила она, выйдя из комнаты.
— Да, все нормально… — ответил он хрипло.
Обстановку разрядила показавшаяся из кухни Марфа. Она замерла, разглядывая гостя из-под нависающей на глаза шерсти, — и тут Севка потряс портняжным метром. Болонка включилась в игру, и Севка, выждав паузу, проговорил:
— Только провод нужно выше пустить, у тебя ведь животное.
— Животные не грызут провода.
— Мало ли что… Глупые они по жизни.
Лариса внимательно на него посмотрела.
— Не глупее нас. Знаешь, как киты переговариваются друг с другом? Вот тут об этом написано!
С этими словами она бросила на диван номер «Вокруг света» с раскрытой статьей.
— «Песни китов»… — прочел заголовок Севка. — Прямо песни?
— Самые настоящие. Ученые говорят, они на сотни километров под водой разносятся.
— Сама-то их слышала?
— Слышала в записях, они называются: «Звуки дикой природы». Грустные песни, если честно. Только о чем грустят киты? Непонятно…
12
Появление у Ларисы телефона Женька воспринял двояко. Аппарат подключил Самоделкин, что означало: тот опять на полшага впереди. С другой стороны, теперь Ларисе можно было звонить, не ища повода для встреч. Звонить-то можно в любое время, да и вообще по телефону легче на что-то намекать, делать многозначительные паузы и т. д. Не было зеленых глаз, что устремлялись на тебя, Лариса помещалась в трубке; он же был только голосом, произносящим слова.
Особое действие производили слова, соединенные ритмом и рифмой. Вполне себе лирические, рассчитанные на душевный диалог, не на ржачку одноклассников, его стихи изобиловали общими местами и штампами (что сам осознавал), но — действовали! После этого и в глаза было легче смотреть, теперь не они подчиняли, а он подчинял.
Все это напоминало таинственные ритуалы, описанные в «Могиле Таме-Тунга». Женька не высекал петроглифы, не топил камни в реке, но сходство ощущал, как и перекличку с книгами, за которые упрятывали в «богоугодные заведения». Слово представлялось силой, чем-то вроде ветерка, казалось бы, малозаметного и несерьезного, а потом вдруг обретающего энергию урагана…
Когда Лариса обмолвилась, что одна отправляется на дачу, Женька сделал вид, что пропустил реплику мимо ушей (азбука: не проявляй навязчивого интереса к объекту желания!). Лишь через полчаса, будто вспомнив, он спросил:
— Кажется, ты говорила про дачу?
— Да, я туда в субботу поеду, вещи отвезти.
Он возвел очи горе.
— Меня тоже на дачу гонят — проверить, как там после зимы. Может, вместе? Заодно помогу с вещами…
Все складывалось как нельзя лучше. Мать удивилась: помнила, что сын и дача — вещи несовместные; но таки набила баул хозяйственными мелочами, благо дачный сезон был на носу.
— Гамак еще возьми, — вспомнила перед выходом. — И не задерживайся, пожалуйста.
— Да я только туда и обратно!
Погода выдалась классная: солнце, безветрие; и народу в электричке немного — не то что в пик сезона. В электричке он прочитал кое-что свежее, и получив похвалу, пообещал продолжить, когда приедут.
По дороге от платформы «Дачи» Женька тащил ее и свои вещи, отмахиваясь от попыток помочь. Он играл роль мужчины — сильного, независимого, берущего тяготы жизни на свои плечи. И пусть спина взмокла, а руки отваливались, он шагал сзади, отметая, опять же, предложения отдохнуть.
— Смотри, прилетели!
На высоком столбе, увенчанном шапкой гнезда, стоял аист. Вскоре из гнезда поднялась еще одна аистиная голова, повернулась в их сторону и тут же скрылась. А стоящая на страже птица взялась шарить длинным клювом в своих перьях.
— Вижу… — выдохнул Женька.
— Может, передохнешь?
— Да я не устал вовсе! Идем!
Вначале зашли на ее дачу, та располагалась ближе. Калитка, мощеная дорожка, усыпанная истлевшей листвой, а вот и дом, в котором Женька был лишь однажды, еще в детском возрасте. Эта дача была из кирпича, с просторной верандой — не то, что «скворечник», выстроенный Женькиной матерью.
Затхлость, правда, чувствовалась, поэтому Женька предложил разжечь печку. Желая чем-то себя занять, он тут же побежал колоть дрова, чтобы спустя несколько минут ввалиться в дом с охапкой поленьев. Накидав в чрево буржуйки влажноватой бумаги, он с трудом ее подпалил и стал запихивать туда дрова.
Печка, однако, не желала разгораться.
— Ты не так делаешь. — Сбросив плащик, Лариса присела рядом. — Нужно щепу наколоть. Не топором — ножом. Потом положить на бумагу щепочки, дождаться, пока разгорятся, а после поленья укладывать.
— Конечно, сейчас наколю…
Он суетился, спешил, откидывая кудри с мокрого лба, а глаза косили на Ларису. Он пребывал в растерянности: как себя вести? Читать стихи — глупо, бравировать начитанностью еще глупее. Он потерял дорогу, точнее, никогда ее не знал, разве что воображал, но игра воображения — одно, а если вот так, рядом, когда соприкасаются бедра…
— Вот, уже лучше… — донесся ее голос. Женька закашлялся будто бы от дыма, сочившегося из-под дверцы.
— Разгорится, никуда не денется…
Он не заметил, как первенство перешло к ней. Мужчина — сильное плечо остался где-то у столба с аистами, а здесь пребывал лунатик, подчиняющийся всему, что предложат. Открыть нижнюю дверцу буфета? Хорошо. Достать консервацию? Сей момент. Пока он возился с крышкой, под которой находилось что-то замаринованное (помидоры, кажется), Лариса поставила на стол пузатый графин с бордовой жидкостью.
— Это наливка, с прошлого года осталась. Выпьем?
— Почему нет? — пожал он плечами. Внезапная мысль, мол, то же самое могли предлагать Рогову, на время отрезвила. «Выпьем, Севочка?» «С удовольствием, Ларочка!» «А потом что будем делать?» «Неужели непонятно, друг мой?!» Отрезвление, однако, было минутным, он попал в поток, который нес непонятно куда, и не было сил выбраться на берег (да и не хотелось выбираться).
— Что ты сказала?!
Шум потока, кажется, сделал его глухим.
— Я говорю: куртку сними, тепло уже…
И верно: тепло от печки наполняло дом и заползало внутрь, превращаясь в томительный жар. Женька сбросил куртку с джемпером, оставшись в одной футболке, но жар не проходил. Потом в граненые рюмки, которые она достала из-за буфетного стекла, лилась бордовая наливка, и зубы сводило от ее сладости, а по пищеводу будто спускался огненный комочек. Странным образом комочек снизу поднимался вверх, распухал и проникал в мозг, начинавший гореть. А что взять с горящего мозга? Он же неуправляем, спрашивает такое, чего по трезвости никогда не спросишь…
— А как… — Женька сглотнул комок. — Как твои любимые аисты размножаются?
Лариса вскинула глаза.
— Почему любимые?
Он тряхнул кудрями.
— Ладно, пусть нелюбимые. Так как же?
— Как и другие птицы: яйца откладывают. Потом высиживают по очереди…
— А перед этим что делают?
— Перед этим самки воюют за самца.
— Самки?!
— Ага. А он гуляет себе в сторонке и в ус не дует…
Женька качнулся, пытаясь осмыслить необычность аистиной брачной игры. Когда воюют самцы — все ясно, так положено, но конкуренция женского пола?! Он представил, как ради него выходят на поединок Завадская и Лариса, встают перед школьной доской и начинают фехтовать на указках. Но картина тут же померкла: Завадская, возможно, и фехтовала бы, но эта, что сидит напротив и улыбается, как Джоконда, не станет биться. За нее будут копья ломать, чем Женька, собственно, и занимался.
Улыбка (усмешка?) Джоконды не сходила с ее лица, она будто говорила: пойми этот намек, Женечка, своими горящими мозгами. А если не понимаешь, дурачок, я сниму свитер и буду сидеть за столом в маечке-безрукавочке. Если же и этого не поймешь, расстелю белье на двуспальном диване.
— Матрас вроде не сырой, можно застилать… Помоги, а?
Поднявшись на деревянных ногах, Женька взял в руки два конца простыни. Зайдя с двух сторон дивана, они взмахивали куском белой материи, и маечка всползала вверх, оголяя темную выемку пупка; и руки взмывали, открывая белые бритые подмышки, и в паху уже было горячее, чем в мозгах.
Когда простыня улеглась на место, и подушка тоже обрела одеяние, Лариса уселась на край дивана и провела ладонью по белью.
— Совсем не сыро…
Он же продолжал стоять столбом.
— Может, еще наливки? — спросила, отвернувшись.
— Давай… Кха-кха… Извини, дыма наглотался…
Он откашлялся, сел на стул.
— Давай еще. Наливки.
Как-то неправильно все развивалось, не по его сценарию, он плясал под чужую дудку. А тогда можно налить и раз, и другой, чтобы совместить себя, неуверенного, с кем-то уверенным и сильным, вроде ландскнехта, ворвавшегося в побежденный город. Да, он — ландскнехт, которому достались плоды победы: скарб, золото, женщины. А как себя ведут наемные вояки с женщинами? Грубо ведут, не церемонятся и не сюсюкают, а просто срывают одежду, чтобы вонзить в слабую самку могучую возбужденную плоть…
Кажется, он пошатнулся, когда вставал из-за стола, да так, что едва не упал. Но это уже было неважно: оседлав волну воображения, он лапал чужое тело, стараясь быстрее его оголить, а тело сопротивлялось, отбивалось, и почему-то слышалось: «Перестань, я сама!» Как это — сама?! Кто тут воин-победитель, чей законный трофей — чужое лоно?! Он упорно вжимал свой рот — в ее рот, чувствуя, как течет слюна, блестевшая перед ним и делавшая матовую кожу Ларисы — глянцевой. Внизу тоже было влажно, и он тыкался членом в эту влагу, не умея попасть, куда надо. Наконец, сопротивление было сломлено, он таки вонзил плоть, совершив несколько конвульсивных движений, после чего тут же обмяк.
Он не предполагал, что исторжение семени обернется маленькой смертью, когда не в силах не то что встать — оторвать голову от дивана. Или то действовала наливка? Он лежал, словно придавленный к простыне прессом, и был не в силах осознать случившееся. Он даже не сразу понял, что лежит в одних трусах, приспущенных до колена. Быстро натянув трусы, Женька накрылся одеялом, и вдруг захотелось исчезнуть, как представители загадочного племени, возглавляемого Таме-Тунгом. Они обладали этим умением — исчезать, когда требуется, буквально растворялись в воздухе, а он? Тоже мне — ландскнехт…
Все было не так, спектакль, который долгое время репетировал, оказался сорван по его же вине! В идеале он видел себя свободным, раскованным, остроумным, умеющим удержаться на тонкой грани между пошлостью и пуританством, когда словесная игра плавно перетекает в любовные ласки. А в жизни? Он столкнулся с неуправляемой стихией, с хаосом, когда пряные животные запахи, слюни, вздохи и стоны смешиваются во что-то головокружительное и одновременно пугающее, от чего хочется тут же сбежать.
Нет, ему слова упрека не сказали, даже по голове гладили, когда он натягивал на себя одеяло, желая исчезнуть. Только лучше бы не гладили. Он сочинил бездарную историю, а может, не проникся ей, как проникся идеей мщения (здесь-то «пепел Клааса» стучал в сердце со страшной силой!). История должна захватывать, сделаться идеей-фикс, лишь тогда из эфемерной сферы воображения она способна перенестись в жизнь…
Внезапно захотелось в туалет, но он лежал, как идиот, дожидаясь, пока Лариса уйдет. А когда дождался, почему-то взялся исследовать ложе скоропалительной любви, где ничего, кроме пары влажных пятен, не обнаружил. И тут же вспышка: я не первый?! Он знал, что первое совокупление сопровождается следами, а тут — девственно белая простыня!
На обратном пути он с трудом сдерживался, чтобы не высказать колкость (простыня!), Лариса же смотрела в окно электрички. Что она там видела? Точнее, кого? Наверняка Севку, мужлана, который совокупляется грубо и без эмоций, лишь бы удовлетворить похоть. Что ж, если такое лучше — попутного ветра! А он еще найдет ту, кто оценит богатство его воображения, умение выстроить любовный ритуал и т. п.
Похоже, она угадала его состояние, иначе не заговорила бы о породе бабочек, что спариваются странным образом. Самец после брачных игр вроде как запечатывает самочку специальной вязкой жидкостью.
— Зачем запечатывает? — недоуменно спросил Женька.
— Как зачем?! Чтобы другой не смог сделать то же самое. Полюбить то есть.
Он остановился, уловив издевку.
— А-а… К чему это ты?
— Тебе же интересно, как размножаются животные, вот я и вспомнила.
Это был удар под дых. Да, хотелось, чтобы там было запечатано, но роль мелкого собственника?! Унизительно… Они в молчании дошли до дому, а расстались почти сухо.
В те дни возникло еще одно несоответствие между мечтой и жизнью. Это несоответствие имело обличье человечка в круглых нелепых очках, с растрепанной седой бородой и слезящимися глазами. И пусть глаза слезились от счастья, и вообще человечек был исполнен любви, Женька с самого начала его не принял. Если честно, он даже не поверил поначалу, что это его отец. Слово «отец» пробуждало совсем другой ряд ассоциаций, а тут — полная противоположность образу, который сделался почти реальным воспоминанием.
— Ну, чего смотришь?! Не узнаешь?! Валь, не узнает! Может, зря я из Каменска-то сорвался? Может, не надо было?
— Надо! — отвечала мать дрожащим голосом. — Он школу заканчивает, можно сказать, в жизнь выходит! Поэтому должен знать, что у него есть отец!
— Ну да, ну да… Может, за стол сядем? Выпьем по рюмочке, я с собой привез…
Умом Женька понимал: этот человек (человечек?) действительно имеет отношение к его появлению на свет, с чего им врать? И волнение матери, и праздничные закуски на столе — все говорило о том, что готовилось «воссоединение семьи». А душа вставала на дыбы, мол, вынь да положь голубоглазого бородача, что пробирался по крутым отрогам, как Смок Белью, и стрелял диких коз и оленей. Разве этот, чья рука дрожит, предательски расплескивая водку, попал бы в оленя?! Отбился бы от медведя?! Про водопад и речи нет, этот на спокойной воде утонул бы, пуская пузыри. И хотя Женька старался не отдергивать плечо, когда по нему похлопывали, резиновая улыбка выдавала, заставляя родителей в растерянности переглядываться. А отца — чаще наливать, так что спустя минут сорок он уже основательно нагрузился.
— Надо много тебе рассказать… — говорил он, устремляя на сына слезящийся взгляд. — Тогда ты поймешь, а значит, простишь…
— Чего прощать-то? — кривился Женька. — Не понимаю, о чем вы говорите…
— Обращайся ко мне на «ты». Да, я виноват. Наверное… Давай в этом разберемся?
С каждой следующей рюмкой, однако, шансов разобраться становилось меньше. И рассказывать, в итоге, пришлось матери, уральский гость в это время храпел на Женькином диване. Отец не всегда был таким, говорила она, он действительно ездил в экспедиции, занимался фольклором, вот только пробиться не получалось. Диссертацию защитить не дали, а потом и вовсе закрыли Пряжский филиал института, в котором тот работал. Уехал в Каменск-Уральский, где филиал оставили, но там тоже не сложилось; с той поры и начал опускаться. Он мог бы вернуться, только мать ставила условие — брось пить. А бросить не получалось, отсюда и вся эта партизанщина с поездками якобы к родственнице…
По идее, следовало полюбить храпящего на диване. А он испытывал лишь неловкость. Тот, кто называл себя отцом, воплощал неудачный жизненный сценарий, и Женька не хотел быть тут второстепенным персонажем. Они с матерью не пропали, он встал на крыло и готов к вылету из гнезда, чтобы писать свою, более звездную биографию.
Отец прогостил три дня, несколько раз пытался говорить с сыном, но без особого успеха. Когда простились на вокзале, Женька испытал облегчение. А мать, глядя вслед поезду «Пряжск — Свердловск», тихо проговорила:
— Не получилось воссоединения…
После чего внимательно посмотрела на сына.
— А ты жестокий, Евгений.
— Почему это? — пробормотал он.
— Не понимаешь? Тогда объяснять не буду.
Вскоре тот эпизод стерся из памяти. Жизненный небосклон освещала заря новой жизни, и на этом фоне неудачливый научный работник из заштатного городишка выглядел тенью, каковую можно не брать в расчет.
К Ларисе тянуло по-прежнему, что Женька обнаружил с некоторой тревогой. Тяга была не порывом, не сиюминутным желанием, а чем-то глубинным и горячим, как торфяной пожар. В окрестностях Пряжска находилось немало торфяников, они частенько загорались, и военрук на занятиях по гражданской обороне подробно говорил о том, что глубоко под землей тлеют многометровые горючие пласты, и как их трудно тушить. Вот и внутри Женьки что-то такое тлело — мощно и необоримо, с чем и десяток пожарных расчетов вряд ли справились бы. Или это Лариса напоминала горящий торфяник? Перебирая в памяти подробности той поездки, он припоминал теплоту, в которую погрузился, будто под ним была печка. Жаль, быстро отскочил, боясь обжечься. Но теперь что-то подсказывало: это тепло могло греть и греть, он и на процент не взял (и не дал, опять же) того, что можно было взять.
В эти дни у него состоялся странный разговор с Германом Валерьевичем, возглавлявшим балетную студию в центральном Дворце культуры. Прознав, что туда мотается на своем драндулете Рогов, Женька в приступе ревности явился однажды к концу занятий, но никого, кроме руководителя студии, не застал.
— Ларисы не было на занятии. Почему? Возможно, заболела. Или… — Герман Валерьевич, хитро на него взглянув, рассмеялся. — Или амурные дела не позволили!
— Какие еще амурные?! — растерялся Женька.
— Самые обыкновенные. Вы ведь Евгений?
— Евгений…
— Она про вас говорила. Хорошо говорила, не бойтесь. Но это не значит, что вы ее понимаете. Лариса — это, знаете ли…
Он закатил глаза в потолок, покрытый лепниной.
— У нее совершенное тело. И развитое не по возрасту, поверьте, я в этом понимаю.
— И что? — напрягся Женька.
— У тела свой язык. И своя логика, мы ее тут, собственно, и пытаемся разгадать. Но иногда этот язык становится совсем непонятен, и тогда… Понимаете, о чем я?
— Не очень, если честно…
— Ничего, с возрастом поймете, — он опять рассмеялся. — Эх, где мои юные годы!
Женька тоже пытался разгадать эту логику, да получалось не очень. Просто язык — понятен, им Женька владел в совершенстве. А что такое — язык тела? Если с ним и пытались говорить на этом языке, то он ни черта не понял, тут требовался переводчик. Или нужно было кропотливо его учить, как язык древних египтян или майя.
Он сдавал экзамены без особого рвения — знал, что «уд.» по поведению (завуч настояла) все равно испортит аттестат. Он больше переживал за Ларису, чья выходка на биологии сделала ее первейшим врагом преподавателя. Наверное, дура-биологичка тоже не понимала язык тела. Или вообще никогда им не владела, уродина, потому и завидовала той, на кого даже учителя мужского пола заглядываются.
Сдав биологию раньше, Женька вышел на улицу, где увидел «Яву», припаркованную у школьных ступеней. Надо же, выпендрился! А доволен-то как, что его окружила мелюзга и уговаривает покатать. Вскоре показалась Лариса, взглянула на Женьку, но направилась почему-то к мотоциклу. Они поговорили с Севкой, после чего та уселась на заднее сиденье, и «Ява» с треском выкатилась со двора.
И как такой язык расценивать? С какого боку подступаться к его освоению? Ясное дело, захлестнула обида, а еще мысли разные полезли… Женька ведь не самец бабочки, «запечатать» ничего не может, а значит, сопернику ничего не мешает проделать то же самое, может, даже с большим успехом.
Оставалось уповать на свои необычные способности, которые еще оценят в будущем. В эти дни Женька внимательно присматривался к блатному вожаку, что таскался по двору в сопровождении очередной «шмары».
— Че зенки пялишь, очкастый? — сказал Зема, заметив эти взгляды. — Нинка понравилась? Нин, на тебя вылупился, точно!
К тому времени Женька уже не стеснялся «линз», даже щеголял ими, достав по знакомству стильную металлическую оправу а ля Джон Леннон. Ржущего вожака он тоже разглядывал без стеснения, скорее, с интересом антрополога, наблюдающего угасание неандертальского человека. Ты обречен, неандерталец, тебя вытеснит человек разумный, обладающий другими возможностями. Несовершенное существо, ты подохнешь, и смерть твоя будет ужасна. Какая смерть? Никто не знает, знаю только я, Женька Мятлин, прописавший ее черным по белому…
Само будущее, наконец-то, определилось. Пришлось выдержать слезы матери, которая уже договорилась с московской приятельницей, а затем взять билет на ленинградский поезд. Светлана Никитична уже отправляла контейнеры в Ленинград и однажды попросила Женьку забрать часть книг и журналов, что не влезли.
— Да куда нам?! — вяло возражал он. — У нас с матерью и так полквартиры книгами забито…
— Бери, бери! — нагружали его. — Глянь, какие журналы интересные!
Она совала в руки журналы «Вокруг света», один упал, раскрывшись на какой-то статье.
— Песни китов… — прочел он заглавие, подняв журнал. — Ну и зачем мне эти песни?
— Тебе — незачем! — неожиданно проговорила Лариса. Она забрала у него журнал и запихнула в свою сумочку. — Это мне нужно, ясно?
Еще не отпустив, здешняя жизнь уже отдалялась, становилась не всамделишной, как в мультике. Люди, двор, школа — превращались во что-то ненастоящее; подлинная жизнь, как думалось, начнется за линией горизонта. И уйдут они за эту линию, конечно же, вместе…
13
Ее отъезд на гастроли не прибавил спокойствия, наоборот, Севка будто сошел с ума и гонял так, что автоинспекторы не успевали засечь номер. «Ява» был отдушиной, настоящим железным другом, позволявшим не чувствовать себя дерьмом на палочке. Как здорово, когда выжимаешь сто сорок! Севка сам форсировал движок, поэтому его мотоцикл летел стрелой, обгоняя «Волги» с «Жигулями» и давая возможность выйти за привычные пределы бытия. Утратив всякий страх, в эти дни он залезал в приборы, не дожидаясь отключения от сети, будто нарочно хватался за оголенные провода. Он был богом техники, королем электронных устройств, и фиг ли ему песни каких-то китов? Эти плавучие монстры были всего лишь кусками мяса, обреченными на смерть и разложение, техника же сулила то самое бессмертие, о котором нередко думал.
В один из вечеров он гнал по Бродвею, как обычно, вставая на заднее колесо. Накануне он снял глушитель, поэтому прохожие шарахались, заслышав вдали треск мотора: когда же видели вздыбленный мотоцикл, вообще отбегали с обочины на тротуар.
Он пропустил момент, когда переднее колесо задралось выше допустимого угла — дальше двухколесная машина заваливалась на седока, калеча или унося жизнь. И хотя шансов удержаться в седле не осталось, и «Ява» по всем расчетам должна была накрыть мотоциклиста, этого не случилось. Позже Севка вспоминал, что увидел сбоку черный силуэт, вроде как человек в шинели. Он, похоже, и помог мотоциклу опуститься на переднее колесо, как положено, а потом закрутил волчком, когда ударил по тормозам…
— Эй, придурок, ты цел?! — послышался голос сквозь треск мотора.
— Да цел он, цел, — ответили. — Дуги спасли…
Очнувшись, Севка обнаружил, что лежит на боку, с прижатой к земле ногой. Если бы не хромированные дуги, приваренные неделю назад, левую ногу расплющило бы или оторвало при ударе о землю, а тут — повезло!
— Дуй отсюда, идиот! — сказал тот же голос, и Севка, увидав вдали мигающий синий огонек, быстро вскочил. Поднял машину, включил передачу и, пригнувшись, помчал в ту сторону, где кончались фонари Бродвея.
Ночью его буквально трясло, видимо, что-то нервное приключилось. Он должен был разбиться в лепешку, а остался без единой царапины! И от ментов ускользнул! Наверное, и впрямь его поддерживала невидимая сила, прикрывая, будто зонтиком от дождя. Что за сила? Можно было гадать сколько угодно, только она была, к бабке не ходи…
Лариса вернулась из Крыма, полная впечатлений (посетила дельфинарий!). А Севка поглядывал на загорелые лодыжки, торчавшие из-под платья, и представлял ее на пляже. А там как? «Здрасьте, девушка, хотите мороженого?» Слово за слово, и вот уже кафешка, теплое шампанское и предложение свалить «на хату». Она рассказывала про умных морских львов, дельфинов, он же думал о том, что опять все пойдет по кругу. На этом фоне его геройство — ребячья шалость, яйца выеденного не стоит. Вот появилась она — и что? Опять он мучается, переживает, и никакой темный не в силах ему помочь.
Телефон уже работал, Севка даже пробовал звонить Ларисе из автоматов, но раскованной болтовни не получалось. Когда находились лицом к лицу, слова выскакивали без особых усилий; а вот когда вместо Ларисы говорила пластмассовая трубка, язык деревенел. «Как дела? Хорошо. Готовишься к экзаменам? Готовлюсь, хотя и не хочется…» Почему-то он был уверен, что Мятлин тоже ей названивает — наверняка ему сказали номер, присвоенный, между прочим, Севкой. Ни в одном телефонном справочнике Пряжска номер не значился, но работал, обеспечивая бесперебойную связь и давая возможность трепачу Женьке ездить Ларисе по ушам!
Проверить не составляло труда — нужно было всего лишь подсоединить клеммы к проводу, ползущему вдоль стены. Севка понимал, что за такое по рылу дают в нормальных компаниях, но ревность била в мозг, как местная самогонка крепостью пятьдесят градусов…
Подсоединение произошло, когда соперник направился к телефонной будке (Севка специально его пас).
— Моя маман тоже мечтает о телефоне, — похрипывала трубка голосом Мятлина, в мыслях не державшего, что его слышит повелевающий техникой человек-невидимка. — А зачем он? Ее же в школу, чуть что, выдергивать начнут!
— Все равно с телефоном удобнее… — отзывалась Лариса. — У нас в Ленинграде квартира, между прочим, уже с телефоном будет, даже в очереди не надо стоять.
— Да? А номер ты не знаешь?
— Пока нет. Я и адреса не знаю, сказали только — в центре где-то.
— Да уж, скорей бы закончить эту бурсу идиотскую и уехать отсюда.
Вроде ничего особенного не говорилось, никаких тебе «сю-сю-сю», а внутри все переворачивалось. Иногда просто подмывало сделать «щелк» кусачками, чтобы заткнуть этого пряжского соловья. Номер телефона его интересует! Неизвестно еще, кто чаще будет звонить по этому номеру!
Майский воздух ударил в легкие, словно веселящий газ: деревья покрылись клейкой листвой, и в лесной массив опять потянулись парочки. В эти дни Севка не раз проносился по лесной грунтовке — этот путь до аэродрома ДОСААФ, где устраивали гонки мотоциклисты, был самым коротким. Заслышав стрекот мотора, из травы поднималась голова (или две головы), и всадника на железном коне провожали недовольным взглядом, матерясь вдогонку. А всаднику вовсе не хотелось гонок. Будь его воля, он соскочил бы с мотоцикла, нырнул в заросли и тоже слился бы с чьим-нибудь телом. С кем зря, правда, не хотелось, а с кем хотелось — пока не получалось.
И тут удача — авиационный праздник на аэродроме, куда направился весь Новый Городок. Пригородные электрички были забиты народом, Ларисе же было предложено заднее сиденье.
— Там с парашютами будут прыгать, высший пилотаж показывать… Поехали?
Она на секунду задумалась.
— Хорошо, только переодеться надо.
Для поездки были выбраны обтягивающие синие брюки и легкий свитер в полоску. Мини-юбку оставили дома, хотя Севке было без разницы — обнажены самые стройные ноги Городка или скрыты материей. Главное не выказать возбуждения, что рвалось из него, заставляя непотребно суетиться: он долго застегивал шлем, не попадая на кнопку, а потом (тоже мне, гонщик!) дважды промазал мимо педали стартера.
В себя он пришел, когда разогнался. Квартал, еще квартал, а там и до леса рукой подать. Минута езды, поворот, и вот уже зелень мелькает с обеих сторон, причем так быстро, что не успеваешь разглядеть отдельные деревья. За рулем он был король, знал: они поедут туда, куда повернет колесо его мотоцикла. И на знакомой развилке свернул направо, хотя табличка со стрелкой и надписью «Аэродром ДОСААФ» указывала в другую сторону.
Вряд ли Лариса это заметила. А может, и заметила, да не подала виду: как и прежде, она прижималась к его кожанке, буквально прилипла к нему, так что жгло лопатки. Он же никак не мог остановиться, выискивая подходящее местечко. Тут слишком открыто, там — бурелом…
Он затормозил возле небольшой поляны. Когда звук мотора заглох, в уши ударила тишина.
— Куда мы приехали? — прозвучал вопрос.
— На кудыкину гору… — пробормотал Севка. Сняв шлем, он огляделся.
— Похоже, заблудились.
— Вот как? Тогда надо выбираться!
— Да ладно, передохни…
Когда Лариса соскользнула с сиденья, он откинул подножку, не без сожаления оставив стального друга. Кто он без него? Тихоход, который отсюда будет полдня до города тащиться…
Лариса тем временем спокойно шла по поляне, поросшей травой и цветами. Наблюдая за ней, Севка перевел взгляд на «Яву», и вдруг мысль: вскочить в седло, и по газам! Как она выберется из леса? Как-нибудь, не маленькая; зато поймет, как с другими крутить!
Тут же устыдившись, Севка сглотнул комок. Нет, не для того заехал в лесную глушь, чтобы позорно сбежать! Он двинулся по полянке вслед за Ларисой, ощупывая в кармане кожанки бумажный пакетик с резиновым кругляком внутри. Необходимая вещь, как утверждали опытные товарищи, без нее баба может залететь, чего нормальному мужику на фиг не надо. И пусть слова «баба» и «мужик» абсолютно не подходили к ситуации, пакетик грел ладонь, будучи чем-то предметным, частью отработанного процесса, каковой должен пройти по инструкции. Слово «инструкция» тоже не подходило, зато было понятно, поэтому Севка надорвал по ходу пакетик (необходимую вещь нужно натягивать в одну секунду, говорили опытные!).
Остановившись за два шага до Ларисы, он зачем-то сунул руку в другой карман, нащупав прямоугольный предмет с округлыми ручками. Это был портативный приемник, сделанный год назад; его Севка и достал.
— Вот что у меня есть… — проговорил, сглотнув комок. — Если хочешь, включу.
— Включи, — пожала она плечами, и Севка щелкнул тумблером. Раздался эфирный шум, и тут же голос диктора с новостями. В лесу все это звучало дико, чужеродно, разрушая звенящую тишину, но почему-то успокаивало.
Они двинулись ближе к деревьям. Лариса глядела под ноги, Севка же искоса поглядывал на округлости под полосатым свитером, каковые (согласно инструкции) требовалось теребить, мять и лишь затем приступить к главному. Но для этого нужно, во-первых, стащить свитерок, во-вторых, расцепить застежку на лифчике. Есть ли у нее лифчик? Наверняка; а застежки, по словам опытных, бывают очень заморочные. Главное же, это надо будет проделать под взглядом зеленых глаз, что смотрят на него с непонятным прищуром…
Когда приблизились к березовому пню, что торчал в центре полянки, Лариса в очередной раз посмотрела под ноги.
— Мать-и-мачеха… — пробормотала задумчиво.
— Что?! — отозвался он хрипло.
— Я говорю: интересное название у растения.
Наклонившись, она сорвала желтый цветок вместе с листьями.
— Знаешь, почему его так называют?
— Понятия не имею.
— Потому что лист снизу теплый и пушистый. А сверху — жесткий и холодный. Потрогай!
Севка проделал это без всякого удовольствия. На миг показалось: она издевается, чуя нерешительность, а тогда…
Он правильно сделал, что не смотрел в глаза. Резко развернул ее спиной и, схватив за грудь, принялся тискать. Раз, другой, затем руки вниз, к пуговице, расстегнуть ее, стянуть брючки до колен и дать понять, что нужно упереть руки в пень (кстати подвернулся!). Теперь свитер вверх, шелковые трусики вниз; да и себя не забыть: ремень, джинсы, на которых всегда заедала молния, а тут расстегнулась на раз!
Запомнилась родинка на пояснице: она двигалась, как живая, пока Севка совершал ритмичные движения, и перед глазами всплывало что-то далекое, кажется, они лазили на завод, где и увидел впервые этот коричневый овал…
Все было сделано по инструкции. Или почти по инструкции: с молнией-то он справился, а вот достать резинку забыл! И приемник не выключил, поэтому в наступившей тишине слышалось лишь учащенное дыхание и голос диктора: «Вы слушаете радиостанцию „Маяк“. На нашей волне прозвучит передача…»
Отвернувшись, он быстро натянул брюки и удалился к мотоциклу. Когда бросил взгляд назад, Лариса тоже была одета: сидя на пеньке, она прятала лицо в ладонях, так что волосы свешивались почти до желтых цветков мать-и-мачехи. «Вот незадача…» — подумалось. Может, она плакала, может, стыдилась того, что произошло — в любом случае инструкций тут не было; или Севка их не знал.
Он быстрыми шагами вернулся к ней и встал, как вкопанный. Слов не находилось; и тут (о, счастье!) где-то вверху застрекотал мотор. В синем проеме неба, что виднелось между кронами деревьев, показался самолет «Кукурузник»: от него отделилась черная точка, и тут же раскрылся белый купол. Еще точка, еще купол, что означало — праздник начался.
— На аэродроме гуляют… — пробормотал он. — Поедем туда?
Лариса долго молчала.
— Нет, поедем домой.
Двигающаяся туда-сюда родинка еще долго стояла перед глазами. Удовлетворение (достиг цели!) быстро ушло, заноза же в душе осталась, потому что понял: Ларисе не нужны были инструкции. Она давно всему обучилась, иначе бы сопротивлялась и не подавалась умело навстречу, будто опытная женщина. Перебирая в памяти подробности, Севка осознавал: управляла, скорее, она, ему лишь позволялось делать то-то и то-то. А дальше, понятно, ревнивое бурление в груди и нелепые поступки.
На заседании школьного комитета комсомола (пришлось таки вступать!) он запутался в принципе демократического централизма, чем воспользовалась подлая Горюхина. Вспылив, Севка послал ее вместе со всем комитетом, так что физику Грому и трудовику Сергеичу пришлось лично ходить к директору, чтобы обеспечить юному скандалисту столь необходимую корочку. Отец по старой памяти начал было грозить ремнем, но Севка просто укатил на мотоцикле на станцию юных техников, где и заночевал в каптерке охранника. Когда же вернулся, Рогов-старший махнул рукой: живи как знаешь!
Когда в один из дней закончили сборку приемника с какой-то немыслимой чувствительностью, руководитель сказал, что такой аппарат мог бы, по идее, принимать сигналы с Марса — если бы там жили разумные существа. Но, поскольку на Марсе никого нет (как и на Луне), придется ограничиться приемом отдаленных станций планеты Земля. С этими словами он ушел, спеша по своим делам, а подопечным было разрешено остаться до позднего вечера.
Центровым был Севка, чей вклад оказался самым весомым — он и крутил ручку, выискивая в эфире то, чего никогда не ловили.
— Это обычная морзянка… — переговаривались ребята. — Это позывные кораблей… А это что?!
Из динамика донесся набор сигналов разной длительности, явно искусственных, но не совпадавших со знакомой азбукой Морзе. Рука Севки замерла на черном пластике, пальцы лишь слегка подкручивали ручку влево-вправо, обеспечивая лучший прием. Сигналы вроде несли некий смысл, только какой?
— Рог, что за фигня?!
— Подождите, подождите…
На миг показалось, что он дешифровал загадочные сигналы. Адресовались они ему, Севке Рогову, которому когда-то будет суждено оказаться на другой стороне планеты в некой долине, где будет очень кайфово. Он вслушивался в сигналы, которые складывались в его мозгу в буквы и слова, но пока не понимал: с чего он будет кайфовать на другой стороне?
— Так ты понял чего?!
— Я?! — Севка вздрогнул. — Да… То есть, нет. Наверное, это военные чего-то передают. Или просто глушилка такая, чтоб вражьи голоса забивать.
Сигнал исчез также внезапно, как и появился. Они несколько раз попытались его выловить, но из динамика раздавался лишь эфирный шум…
В том году вода в Пряже долго была холодной, и Севка, перекупавшись, заболел. Ночью в очередной смеси кошмаров и яви возник огромный, в человеческий рост приемник. Антенна тоже была, напоминая ту, что Севка установил на балконе, только раз в десять больше. Когда Севка включил питание, панель вспыхнула разноцветными огоньками, из динамиков послышалось шипение, затем голос диктора произнес с легким акцентом:
— Вы слушаете «Голос Америки». Сегодня у нашего микрофона мистер Рогофф. Хай, Всеволод!
— Хай!
— Расскажите слушателям о ваших успехах!
— С удовольствием! Для начала скажу, что всеми своими успехами я обязан черному мухобою…
— Черному мухобою?! Ху из?!
— Это долго объяснять. Он живет на свалке. Или не живет? Это неважно, главное, он помогает таким, как я.
— Таких, мистер Рогофф, больше нет!
— Ну, может быть… Зато есть другие, которые для меня непонятны.
— О, мы знаем, кого вы имеете в виду! Они вам предлагают слушать песни китов, верно?
— Да, вы правы…
— Но это же смешно! Киты не поют песен!
— Вот и я так говорю. Но меня не хотят слушать!
Севка с удивлением внимал самому себе, вроде узнавая свой голос и одновременно чувствуя, что из приемника вещает чужой человек, каковым Севка никогда не был. Когда он переключил приемник в другой диапазон, из динамика раздался голос — робкий, дрожащий: «Сынок, ты не заболел? Севочка, слышишь меня?»
Ему клали влажное полотенце на лоб, а Севка почему-то плакал…
Еще раз тесно пообщаться с Ларисой удалось, когда в пойме Пряжи отмечали последний звонок. В тот вечер на влажном песке у воды расположились оба выпускных класса и, раскупорив шампанское, принялись танцевать под музыку из переносного магнитофона. Тот постоянно жевал пленку, Севке приходилось его налаживать, хотя более всего он хотел сойтись с Ларисой в медленном танце, обнять ее, поговорить… Он мог бы рассказать о странных сигналах из приемника, например. Или о том темном, что его охранял и выручал. Причем все это будет правдой, не вычитанными байками, как у трепача Женьки, то и дело приглашавшего Ларису.
И тут Танька Завадская объявляет «белый танец». Включается Демис Руссос, Завадская сразу вешается на Мятлина, чем Севка и воспользовался.
Но стоило прикоснуться к Ларисе, как опять бросило в жар, как ночью, когда болел. Все задуманные истории моментально вылетели из башки, Севка топтался на песке, и спина у него была деревянной, а язык примерз к нёбу — ну, полный дебил.
Молчание нарушила Лариса, сказавшая, что на заводской свалке обнаружили труп странного человека. В черной шинели, в фуражке, вроде как охранник, этот человек не был в полном смысле человеком. То есть, внутри не было человеческих органов, существо обладало лишь пустой оболочкой.
— Как это — не было органов?! — опешил Севка. — Не может быть!
— Я тебе слухи пересказываю. Неужели еще не слышал?
— Не слышал, занят был… Другим.
— Странно. Ты же сам когда-то рассказывал про какого-то охранника, что эту свалку стережет.
На ее лице играла усмешка, и было непонятно: его подначивают? Или впрямь нашелся загадочный черный мухобой?
— Но без органов, сама понимаешь…
— Можно жить. То есть нельзя, но кое-кто прекрасно обходится без некоторых органов.
Потом пили шампанское, кто-то выкатил большую бутыль домашнего вина, и в вихре веселья странное известие утонуло, как монетки, что бросали в Пряжу уезжавшие поступать в другие города.
Слухи о странном существе, найденном на свалке ПЭМЗа, одно время действительно циркулировали по Городку. Но проверить их истинность было трудно, благо началась спешная ликвидация свалки — за городом открыли новый полигон для захоронения вредных отходов. Сошлись на том, что был найден бомж, живший в лесу и вышедший к людям. Понятно, что пил он всякую гадость, вплоть до антифриза, оттого печенки с селезенками и отвалились.
Как ни странно, Севку происшествие не сильно задело. Он сам — особенный! Незадолго до отъезда, оказавшись в одиночестве в мастерской СЮТ, он вдруг схватился за проводники, подключенные к сети 380 вольт. Поначалу пальцы зажгло, по телу побежали жгучие мурашки, будто его усадили на сковородку и тут же сунули в холодильник. Но вскоре он пообвыкся, даже стал получать удовольствие. Эта сеть питала станки, крутившие шпиндели со скоростью тысячи оборотов в минуту, а оказалось, она может питать и Севку, добавляя энергию, растраченную на людей. Был черный мухобой на самом деле, не был; помер он или остался жив — не очень волновало. Севка запросто мог бы встать на его место, он чувствовал силу, что-то нечеловеческое, зато надежное, почти родное…
Часть II. В пасти «Кашалота»
1
Новая жизнь началась со спирта. Его количество было устрашающим, что называется, море разливанное. И пусть «море» имело скромное обличье двух пластиковых канистр емкостью двадцать литров каждая, убойная сила содержащейся жидкости не подлежала сомнению. Начальник отдела Хромченко сомневался в другом: хватит ли «горючего» на ходовые, да плюс к тому государственные испытания? Лоб начальника прорезали складки, говорящие о мучительной работе мысли, рука же замерла над бланком с надписью «Расходные материалы». То был последний бланк, дающий возможность выписать специальную амуницию, приборы, ну и, понятно, C2H5OH.
— Эх, гори все огнем!
Быстрый росчерк пера, и к имеющемуся количеству добавилось два десятка литров.
— Куда столько? — пожал плечами Рогов. Во взгляде начальника отразилось даже не удивление, Хромченко будто ужалили.
— Думаешь, что говоришь?! Это ж живая вода! Это валюта! Знаешь, сколько на «Дельфин» было выписано?! А на «Косатку»?!
— Понятия не имею.
— Вот именно! А это не «Косатка» какая-нибудь, это «Кашалот»! Если б не занятость, сам бы отправился… — Хромченко замахал руками: — Короче, беги на склад, пока не передумал!
О новом заказе с придыханием говорили на всех уровнях, вплоть до Министерства. Мощь турбин, вооружений, сумасшедшая скорость летающего корабля поражали воображение, заставляя скептиков недоверчиво крутить головой, а разработчиков с пеной у рта доказывать, мол, приведенные цифры не блеф, а чистейшая, как очищенный спирт, правда! Рогов и сам порой делался скептиком, хотя лично участвовал в разработке важнейших узлов. Он влился в проект поздно, когда «Кашалот» обрел виртуальные очертания, обзавелся нарисованными ракетами-торпедами-артустановками, да и системы управления были проработаны. Внесенные Роговым предложения оценили, внедрили, но сути это не меняло — корабль, как идея, уже существовал. И надо сказать, идея была смелая. Кто ее породил, теперь уже не выяснишь, говорили, маршал Устинов, приглашенный на маневры с участием «Косаток». Десантные корабли на воздушной подушке очаровали маршала: тот не верил своим глазам, глядя на то, как морские громадины с легкостью выползают на берег. А эффектная высадка из чрева кораблей БМП с морской пехотой на броне потрясла министра до глубины души.
— А тяжелые танки эти корабли могут доставлять? — поинтересовался Устинов. — На потенциальный плацдарм?
— Эти — не могут, — отрапортовал генеральный конструктор. — Но если разработать новый проект…
— Разрабатывайте. Эскадра таких кораблей Швецию за два дня завоюет! А Японию — за три!
Сказано — сделано, причем с перебором (на всякий пожарный). Подумаешь, тяжелые танки! В недрах «Кашалота» еще и парочка вертолетов помещалась, правда, со сложенными лопастями; и ракетно-бомбометные установки имелись, и суперскоростные торпеды, на которые можно было монтировать ядерные боеголовки. Там вообще имелось столько всего, что Рогов, впервые попав на стенд, буквально обалдел (почти как маршал Устинов). На стенде «Кашалот» был всего лишь контуром, изображенным на стене, но мощь корабля и сложность его конструкции ощущались даже в масштабе один к двадцати. Многочисленным пультам было тесно в стендовом зале, а под ногами змеились сотни (если не тысячи) кабелей, за которые то и дело цеплялись сдатчики систем.
«Кабелевоз» — иронически именовали подобные корабли, но в отношении «Кашалота» ирония не срабатывала, тут речь шла, скорее, о скрытом благоговении. И Рогов благоговел в числе других, поскольку столкнулся с чем-то, превышающим возможности его разума. Не то чтобы он вообще не представлял нюансов функционирования корабля — в общих чертах представлял. Однако тут имелось множество белых пятен, темных мест, сливавшихся в область тайны, а тайна, как известно, и привлекает, и пугает.
«Чудо, тайна, авторитет…» — всплыло в голове Рогова нечто чуждое и в то же время знакомое. Вроде об этом говорил Мятлин во время их последней встречи. А может, раньше говорил; или вообще говорил не он. Какая, в сущности, разница? Это всего лишь слова; а тут — нечто невиданное, порождение рук и мозгов человеческих, плод коллективного усилия (и какого усилия!). Слова меркли на таком фоне, теряли вес и ценность; и Мятлин мерк, а их встреча полгода назад представлялась чем-то нелепым и случайным. Рогову вдруг остро захотелось увидеть «Кашалота», что называется, во плоти. Так хотят видеть явленную мечту, воплощенное божество, которое представлял долгие годы, грезил встречей с ним, и вот, протяни лишь руку…
Сокращая расстояние до мечты, Рогов метался по этажам НИИ, подписывал бумаги, прощался со знакомыми и в глазах большинства прочитывал затаенную (а когда и явную) зависть. Прощайте, сидельцы душных комнат, рабы кульманов и пленники планерок! Вы остаетесь скучать с девяти до шести, перекидываться в шахматишки, бегать в обед в пивную, я же отправляюсь в морские дали на таком плавсредстве, о каком вы и не мечтали! Он был еще незнаком со сдаточной командой, но уже чувствовал свою принадлежность к тайному ордену — к тем, кто шагнул за пределы унылых диссертаций, воплотив дерзкую теорию в невиданную практику.
Получая на складе спирт, он еще раз ощутил принадлежность к ордену.
— Ты это… Правда «Кашалота» будешь сдавать?
Вопрос задал Выхин, м.н.с., переведенный завскладом. То ли захотел быть поближе к спирту (его нос, во всяком случае, по цвету приближался к недозрелой сливе), то ли его умственные способности не соответствовали родной оборонке.
— Правда.
Выхин крутанул головой.
— Везет тебе! Охрененный, говорят, корабль; и бабок заплатят немерено…
— Вроде обещают, — ответил Рогов.
— На таких заказах не экономят. В срок уложитесь — озолотят. Может, медаль на грудь повесят…
Рогов оглядел свою грудь, вроде как подыскивая место для медали. В сущности, неважно, получит он награду или нет; главное, сама командировка. Жаль, отец не дожил, он бы оценил его достижение. «Государственные испытания» — эти слова не раз звучали в их доме, и тогда все менялось: отца не трогали, не обращали внимания на его круглосуточное отсутствие, случалось, мать даже обеды-ужины носила на завод (если отец, конечно, был на заводе, а не в какой-нибудь глуши). Тому тоже обещали орден за какой-то проект, но так и не удосужились дать обещанную награду. Впрочем, награда моментально улеглась бы пылиться в сервант, отца интересовало другое. Рогов не смог бы сформулировать, что им двигало, какой мотор, на каком горючем тащил его по жизни, но сейчас чувствовал эту энергию, бившуюся в груди торжественным метрономом…
Микроавтобус свернул с Тучкова моста, вырулил на Смоленку, чтобы вскоре еще раз свернуть и остановиться перед массивными железными воротами с табличкой: НПО «Алмаз». Грузный краснолицый охранник долго проверял документы, осматривал спрессованную в плотные кипы амуницию, а особенно канистры. Ноздри жадно втягивали сочившийся из-под пластиковых пробок запах, рот же кривила ухмылка.
— Спиртяга? — подмигнул охранник. Рогов кивнул. — Что ж, тогда будем дружить.
— В каком смысле? — вежливо осведомился Рогов.
— В любом. Мало ли чего захочется: выйти раньше времени, к примеру. Гаечку вынести для дома, для семьи…
— У меня нет семьи, — сухо ответил Рогов, решив (пока, во всяком случае) не налаживать шатких мостков. Первый отдел не дремлет, а вылететь с «Кашалота», не успев его даже увидеть, было бы непростительной глупостью.
Когда зашли на проходную, в застекленной будке раздался телефонный звонок. Трубку поднял второй охранник.
— Чего?! — донеслось сквозь полуоткрытую «амбразуру». — Ах, «скорую»… Пропустим, хорошо!
Охранник высунул голову.
— Михалыч, ЧП на «Кашалоте»!
— Опять?!
— Не опять, а снова. Жмурик на этот раз…
— А «скорая» тогда зачем? Лучше сразу труповозку вызвать.
— Положено так…
Поставленные рядом, слова «Кашалот» и «труповозка» неприятно резанули. Находясь в соседстве, они не лезли ни в какие ворота: корабль все-таки был возвышенной грезой, а тут «жмурики» какие-то!
— Как проехать к стапелю «Кашалота»? — спросил Рогов, запрыгивая в машину.
— Прямо до Невки, потом направо. Только ваша бытовка в другом месте, налево…
Носовая часть корабля вылезала из ангара на четверть корпуса. Сходня была откинута, отчего «Кашалот» напоминал огромное существо, что высунулось наружу из убежища, раззявив пасть. Зацепившись взглядом за корабль, Рогов лишь потом обнаружил у ангара людей — на фоне могучего серого корпуса они смотрелись несерьезно, если не сказать жалко. Рогов попросил водителя подвезти ближе, вылез и направился к группе.
Обтянутые робами спины мешали обзору, он разглядел лишь край светлой ткани, покрытой бурыми пятнами.
— … да хватит уже! — донеслось. — Унести его надо!
— Но «скорая»…
— Приедут — разберутся! Короче, подхватили!
Мужчины в рабочей одежде подняли тело, ткань отвалилась, под ней мелькнула окровавленная плоть. Но Рогов, сглотнув комок, почему-то устремился со всеми к дверям ангара. Ловя обрывки реплик, он уяснил: рабочего накрыло куском обшивки, соскользнувшим с корабля. На палубе проводились сварочные работы, бедолага стоял внизу, и тут сверху огромный кусище дюралюминия!
— Родным-то сообщили? — спросил кто-то вполголоса.
— Сообщат, куда денутся…
Бездыханное тело потащили в каптерку, Рогов же приотстал, чтобы еще раз взглянуть на корабль, теперь уже вблизи. Корпус серел буквально в двух шагах, убегая влево и вправо ладным округлым массивом. Вблизи «Кашалот» казался невероятно огромным, натуральный «Титаник» военного назначения! И хотя полагалось переживать (все же человек погиб), Рогов не мог не восхититься совершенными обводами серой громадины. «Кашалоту» было тесно в этом загоне, его турбинные мышцы желали сокращаться, а просыпающийся мозг (часть которого создал Рогов) хотел полноценно мыслить, чтобы управлять сотнями механизмов и устройств, распиханных в его чреве. Впрочем, когда метафора почти оформилась, Рогов опустил взгляд на цементный пол, где обнаружил свеженькое бурое пятно. И, ощутив рвотный позыв, заспешил прочь.
Возле микроавтобуса топтался некто в тельняшке, длинный и небритый.
— Ты, что ли, из ЭРЫ? — мрачно спросили Рогова (в лице «матроса» проглядывала похмельная тоска).
— Допустим.
— Хрен ли тогда не показываешься? У нас трубы горят, ясно? Он бесцеремонно забрался на место рядом с водителем. — Поехали!
Человек в тельняшке указывал дорогу, подгонял водителя, приказав остановиться возле спаренных вагончиков.
— Пришли на базу… — он обернулся. — У тебя три емкости? Тогда две тебе, одна мне!
Рогов ввалился в вагончик, пыхтя под тяжестью двух двадцатилитровых канистр. Бытовка была пустой, только на подоконнике, забравшись туда с ногами, дымил худой чернявый сотрудник.
— А мы уже все глаза проглядели… — проговорил он насмешливо. — Где там, думаем, наше шило застряло?
— Какое шило? — настороженно спросил Рогов.
— Так на флоте спирт называют. Что ж, теперь затарились, это хорошо…
Когда чернявый спрыгнул с подоконника, то оказался на полголовы ниже Рогова.
— Жарский, — он протянул узкую ладонь. — Ответственный сдатчик систем движения. Это Гусев, он по монтажу главный. С остальными познакомишься, когда твой нектар будем пробовать. Выпьем на брудершафт, задружимся…
А Гусев уже сливал содержимое канистры в трехлитровую банку. Заполнил на две трети, сыпанул туда что-то из крошечного пузырька, и жидкость тут же сделалась багрово-лиловой.
— Первая стадия очистки, — пояснил Жарский. — Нектар, увы, содержит технические примеси, поэтому марганцовочка, активированный уголек… О-о, ты и униформу привез?!
Он достал из кипы форменную куртку.
— Вы посмотрите на эту кичливую надпись! ЭРА! Мы-то знаем смысл, но что подумают окружающие?! Эра чего? Светлых годов? Так их не было и не будет. Эра Водолея? Фигня полная, астрологическая обманка. Может, эра технических монстров? Вроде нашего «Кашалота»? Видел, кстати, монстра?
— Видел, — кашлянув, сказал Рогов.
— И впечатление, надо полагать, незабываемое?
— Еще бы! — отозвался Гусев. — Сегодня первый трупешник — работягу прихлопнуло!
— Ну, первый — не последний… — пробормотал Жарский. Он внимательно вгляделся в лицо Рогова.
— Что, зацепило? Ну-у, так не пойдет! Если на каждого жмурика реагировать, даже ходовые испытания не пройдешь, не говоря о государственных. Привыкай, родной. На каждом таком заказе — несколько трупов, такова статистика.
Он обернулся к Гусеву.
— Сколько на «Косатке» гикнулось?
— Пятеро, кажется…
— Ага! На «Дельфине» было три, то есть тенденция налицо.
— Какая тенденция?! — ошарашенно спросил Рогов.
— Увеличения смертности. Если угодно, это можно расценить, как определенное количество жертв, которое требует каждый морской монстр. Одному достаточно трех, другому и пяти мало. Количество определяется водоизмещением и мощью вооружений…
— Не гони, а? — проговорил Гусев. — А то молодой сбежит, не взойдя на борт… Ну вот, кажется, оседает.
Когда багровая муть улеглась на дно, Гусев вставил в другую банку воронку, насыпал в горловину черных таблеток (уголь?), после чего взялся осторожно, тонкой струйкой переливать жидкость.
— В общем, все узнаешь по ходу… Как, к вечеру справишься?
Вопрос был обращен к «алхимику» в тельняшке.
— Обижаешь. Напиток будет — высший класс!
Вечером на стол был торжественно водружен трехлитровый «пузырь», в котором плескалась янтарная жидкость и плавали какие-то растения. Цвет, пояснил Гусев, обеспечил корень чаги, а плавающая флора гарантировала вкусовые качества. Народу набилась куча, рука Рогова даже устала от рукопожатий, жаль, имена тут же выскакивали из головы. Вон тот, в сером свитере, вроде бы сдаточный капитан Булыгин. Как объяснили Рогову, на время испытаний главный тут не военный командир, а гражданский, потому, наверное, и физиономия у того мрачная (первый трупешник, за него надо отвечать!). А вон тот военный, судя по звездам россыпью, каплей, военпред по фамилии…
— Деркач, — напомнил Жарский, сидевший слева. — Зверь, защищает интересы оборонного ведомства, как цепной пес! Но имеет слабое место: любит бухнуть. Заметил, он первый сегодня прибежал? У Деркача нюх на шило, как только оно объявляется у подрядчиков — буквально несется на запах. Поэтому используй эту зависимость.
Справа толкал локтем Гусев, исполнявший роль разливальщика, а за Жарским высился громила Зыков, тоже из ЭРЫ, ответственный за навигацию. Он единственный напялил на себя униформу, и новенькая куртка, похоже, готова была разойтись по швам. Когда он наваливался на соседа, Жарский вскрикивал:
— Эй, нечего меня плющить! Даже молодой норовит придавить ответственного сдатчика! А у меня только тело маленькое, а душа — очень даже большая!
Рогов не обижался на «молодого»: это и возрасту соответствовало, и опыту. Он в очередной раз повернулся влево.
— А точно на каждом проекте… Короче, про жертвы — это правда?
Жарский усмехнулся.
— Испугался?
— Просто много нового, с толку сбивает. Я думал, что ЭРА означает: НИИ «Электро-Радио-Автоматика». Что спирт — это спирт, а шилом дырки прокалывают. Что…
Рогова похлопали по плечу.
— Есть многое на свете, друг Горацио, чего не понимает наше рацио. Ты еще белого мичмана не видел, а это, брат, покруче шила будет!
— Хватит, а? — встрял в разговор Гусев. — Язык у тебя, как помело. Может, и не увидит он никакого мичмана. То есть обычных мичманов тут — завались, а белый раз в год по обещанию появляется.
Жарский уже тянул руку за банкой.
— Что-то я действительно базарю много… Ты давай, пей да закусывай. Знаешь флотский афоризм? Если б шило было твердым, я бы его грыз!
Под занавес, когда за окном основательно стемнело, в дверях возникла женщина.
— О-о, какие люди! — оживилось застолье. — Алка, садись со мной! Нет, со мной! Да ты что — Гусев же убьет!
Рогов почувствовал, как сосед справа напрягается, устремив глаза на позднюю гостью. Вроде в той не было ничего особенного — невысокая, круглолицая, разве что вырез платья нагловат, полгруди наружу. Особенность заключалась, скорее, в уверенной манере, когда женщина может кого-то погладить по голове, кого-то потрепать по щеке или легко отбить шаловливую руку, обхватившую талию. Она двигалась по кругу, быстро производя все эти действия, и Рогов вскоре почувствовал ее ладонь на своем плече.
— В нашем полку прибыло? — склонилась она к уху, обдав запахом терпких духов.
— Да, сегодня только… — смутился Рогов.
— Вижу, вижу, вчера тебя не было. Что ж, вливайся в коллектив. Только знай: шило — не самое главное в жизни.
— Что же главное, Аллочка? — игриво спросил Жарский.
— Сами знаете что.
Гусеву досталась главная ласка — поцелуй в губы, но присела Алка не рядом, а напротив Гусева, чтобы упереть в него взгляд блестящих, чуть навыкате глаз. Всколыхнувшееся застолье входило в прежнее русло, только справа по-прежнему чувствовался напряг. Эта парочка ни слова не говорила, диалог был молчаливый, но за этим молчанием чувствовалось столько!
Неожиданно Рогов почуял, как по ноге что-то скользит, вроде как чья-то ступня. Настал его черед напрягаться, однако ногу быстро оставили в покое, возможно, перепутали. Скосив глаза, Рогов увидел, как в промежность Гусева уперлась светло-коричневая, обтянутая капроном ступня. Она шевелилась, живя между гусевских ног своей жизнью и порождая на лице главного по монтажу непередаваемую мимическую игру. Рогов отвернулся, чувствуя, как багровеет (хотя с чего бы?). Застольная болтовня, казавшаяся крайне интересной (и даже познавательной), утратила смысл. Рогова опять захватывала в плен стихия, разрушавшая выстроенную картину мира, повергавшая в непонятную тоску — на него накатывало то, чего он всегда боялся, и к чему все равно стремился…
Он не поехал домой, остался ночевать в плавучей гостинице, как и большинство сдаточной команды. В доме на воде имелись пусть крошечные, зато отдельные номера, в один из которых втиснулись Гусев с Алкой. Рогова хотели разместить в соседнем номере, но он предпочел удалиться подальше от парочки — ближе к корме.
Несмотря на изрядное количество употребленного шила долго не спалось. В борт плавучки била легкая невская волна, немного покачивало, и под этот водяной ритм наплывали воспоминания о жизни, которая вроде бы исчезла. Он появился в этом северном городе семь лет назад, можно сказать, юношей, и вот уже заведует частью мозга новейшего и секретнейшего корабля, выпивает с коллегами, готовится к испытаниям… Или Рогов всего лишь хотел, чтобы та жизнь исчезла, а на самом деле ничто никуда не исчезает и догоняет тебя при любой попытке утратить контроль над ситуацией?
2
Перемещение из Пряжска в Питер оказалось на удивление быстрым: суток не прошло, а поезд уже подползал к перрону Московского вокзала. Еще полчаса, и вот уже беседа в приемной комиссии, направление в общагу, подготовительные курсы, лихорадочная зубрежка, экзамены и ступеньки института, на которых сидит Рогов, прикуривая одну сигарету от другой и не веря, что поступил. Только что пыхтел над дополнительной задачкой на расчет электромагнетизма, но с получением финальных пяти баллов судьба сделала крутой зигзаг. Рогов еще не знал, что преподаватель, отметивший блестящее решение, порекомендует его в СНО[1]; и первыми успехами на выставках студенческих изобретений он тоже будет обязан этому странному существу с сизым носом и всклокоченной шевелюрой. Доцент Рудольф Карлович Зуппе внешне более походил на бомжа, а не на автора трех монографий и сотен научных статей, являясь воплощенным противоречием между внешностью и сущностью. Хотя важнее было другое — он почуял в Рогове нечто родственное и одновременно другое. Карлович блистал на научных симпозиумах, прозревая новые горизонты электроники еще тогда, когда в ходу были «Фортран» и «Кобол». Рогов же буквально видел приборы насквозь, чуял их нутро и распознавал принцип работы на ощупь. На первых порах, правда, он предпочитал проверять интуицию практикой и на лабораторных нередко влезал внутрь какого-нибудь устройства.
— Рогов! — хватался за торчащие вихры Зуппе. — Ты опять сломал прибор! Вон из лаборатории!
— Да я же сам и починю, Рудольф Карлович…
— Завтра починишь! А сегодня — вон!
От доцента постоянно пахло водочкой, на что начальство закрывало глаза — голова-то оставалась светлой даже подшофе. Одно время он и Рогова пытался приохотить к застольям в ресторане «Приморский» (который Зуппе называл «Чванов»), только юнец оказался неважным собутыльником: употреблял горькую без пафоса.
— Специалист подобен флюсу… — вздохнул как-то Зуппе после очередной рюмашки. — Но тебе, Рогов, можно быть похожим на флюс. В каком-то смысле ты — гений.
— Это вы гений, Рудольф Карлович. В институте все так говорят.
— Я теоретик. Можно сказать, пишу письмена на песке, и когда они станут скрижалями — одному богу известно. А ты можешь двинуть нашу область вперед в практическом смысле. Не поверишь, но иногда так хочется пощупать руками то, что мы представляем лишь в воображении…
Все это, впрочем, произойдет позже. А тогда Рогов отправился на Университетскую набережную, где тоже висели списки поступивших, только на филологию. Возле списков, как и положено, толпились возбужденные абитуриенты, издавая то радостные визги, то горестные вздохи. Когда Рогов пробился к стене с прикнопленными листами, сердце судорожно застучало. Не найдя поначалу нужной фамилии, он с облегчением перевел дух, но, как выяснилось, рано. Внизу стояло несколько фамилий под шапкой «Прошли вне конкурса», и «Мятлин Евгений» тоже был среди этих счастливчиков. Рогов напрочь забыл о какой-то работе, посланной Женькой еще в десятом классе и отмеченной приемной комиссией (таких «вундеркиндов» принимали по двум экзаменам). Вообще было трудно представить, чтобы Женька не поступил — кому тогда учиться на этом идиотском филфаке?! И все же охватило разочарование: он-то рассчитывал, что начинается новая жизнь, без прежнего постоянного соперничества, а тут опять «заклятый друг»! Да, это был другой вуз, с иным кругом общения, но сам факт, что Мятлин будет топтать те же гранитные набережные, шататься по тем же улицам, раздражал. Самое же главное, что он будет пребывать вблизи той, которая и вытащила их обоих в этот бесприютный Питер.
Географически Пряжск отстоял от северной и южной столиц на равном расстоянии. Но Москва, конечно, была приоритетом, именно туда направляли стопы самые башковитые уроженцы провинции, и Рогов с Мятлиным тоже собирались в главный город страны.
— Тебе нужно в Бауманку! — наставлял Рогова физик Гром. — Можно, конечно, в МФТИ, но они книжные черви, это не твое. А в Бауманке ты выдающимся конструктором станешь!
Мятлину прочили легкое поступление в МГУ, и он поначалу был однозначно настроен на Воробьевы горы. Планы изменились, когда стало известно, что Лариса переезжает в Питер. Не просто едет поступать куда-то, а переезжает на ПМЖ, вслед за матерью, которую перевели на работу в медицинский комитет при Смольном. Мать, понятно, была довольна, переезд уничтожал шлейф нехорошей славы, тянувшийся за семейством, а Лорке вроде как было все равно. Она не рвалась ни в какой вуз, планировала вначале поработать, возможно, в ветеринарной клинике, но самое главное — она уезжала в Ленинград. И хотя оба соперника могли бы на этом успокоиться, пребывая на равноудаленном расстоянии от объекта желания, они не успокоились. Первым поменял решение Мятлин, проговорившись во время выпускного насчет работы, посланной в питерский университет. И Рогов, проведя бессонную ночь, наутро объявил, мол, еду поступать в ЛЭТИ. Там есть классный факультет корабельной радиотехники и автоматики, образован всего несколько лет назад, и все самое передовое и современное — именно там! В семье возражать не стали, и спустя месяц Рогов с чемоданом учебников и справочников оказался на перроне Московского вокзала.
Дальнейшая жизнь не развела троицу, хотя могла бы. И Рогов, и Мятлин в своих вузах были на хорошем счету, их выдвигали и продвигали, ну и, естественно, на перспективных кадров (а перспективы им сулили блестящие) обращали внимание сокурсницы. Когда Рогова однажды зазвала в гости Фаина Глазкова, блондинка с румяными щечками, он даже не сразу сообразил, откуда ветер дует. Обычно блондинка просила списать лекции — забирала на день-другой, после чего возвращала. А тут — приглашение домой, шикарный стол с выпивкой, хлопотливая улыбчивая мама, папа-полковник, разговоры о работе в Генштабе на Дворцовой… Сидевшая рядом Фаина прижималась бедром, обдавая жаром, проникавшим через его джинсы и ее кримплен. А Рогов, слегка отодвигаясь, обдумывал пути отступления. Он хлопал коньячок рюмка за рюмкой, кивал в такт басовитой папиной речи, пока не вспомнил о заседании СНО, дескать, через час собираемся под знамена доцента Зуппе, пора откланиваться!
В этот же вечер он оказался под окнами старого дома на улице Чайковского, подойдя к нему со стороны Таврического сада. И еще издали увидел, как от Летнего сада движется знакомая фигура Мятлина. Их вроде как специально сталкивала судьба, одновременно приводя туда, где на третьем этаже, в квартире с изящным балконом жила та, из-за кого они оказались в мрачном северном городе. В окнах не было света, что означало — и Лариса, и ее мать отсутствуют. Они разыграли неожиданную встречу старых знакомых, отправились в бар «Медведь», где под пиво и раков беззастенчиво хвастались своими достижениями. У метро «Чернышевская» они расстались, и каждый наверняка отправился искать телефон-автомат, чтобы сделать звонок в квартиру, где, возможно, уже зажегся свет. Вряд ли их обоих пригласили бы на чай (только по одному!), однако метку в отношениях оставить хотелось. Изредка появляясь в гостях у Ларисы, Рогов всегда судорожно шарил глазами по квартире, ища «метки» соперника, который тоже здесь бывал. И, не находя очевидных следов присутствия, мучился от неведения и неопределенности.
Иногда встречались в присутствии матери. В Питере Светлана Никитична расправила крылья, зачастила в театры и рестораны и даже (судя по репликам Ларисы) завела роман. Домой она приходила поздно, распространяя вокруг аромат дорогих духов и элитного алкоголя и, по своему обыкновению, насмешничая.
— О-о, у нас гости! — восклицала, появляясь в комнате. Тут же дым коромыслом («БТ», правда, сменили на «Мальборо»), а дальше мелкие, но болезненные уколы, причем не жалели ни гостя, ни родную дочь. — У тебя та же свита! — пыхала сигаретой Светлана Никитична. — Неизменные два кавалера, такое ощущение, что никуда не уезжали!
— Мама, не лезь в мою жизнь!
— Я и не лезу. Просто пора выбрать, хотя… Лучше вообще с этим не торопиться.
— Почему же не торопиться? — напрягался Рогов.
— Потому что ничем хорошим это не кончается. Я поторопилась в свое время, и что? Считай, воспитывала дочь одна! Только сейчас жизнь почувствовала, свободу…
Заканчивалось это, как правило, побегом из дому. Они гуляли то в Летнем саду, то в Таврическом, болтали о студенческой жизни, однако посеянные Светланой Никитичной зерна не гибли, напротив, прорастали в душе ядовитыми ростками, не давая покоя. Казалось, она специально устраивала некие качели, качавшиеся то в одну сторону, то в другую. Если в твою — сразу виделся шанс, ты выпячивал грудь колесом, для упрочения успеха устроив какую-нибудь эффектную авантюру. Допустим, истратив последние деньги, чтобы достать билеты в Кировский театр.
— У Колпаковой премьера… — вздыхала она, глядя на афишу «Баядерки» и давая понять, мол, видит око, да зуб… А вот и нет! Институтские фарцовщики, не блиставшие в учебе, нередко обращались к Рогову за помощью, в обмен поставляя любой дефицит, включая театральные билеты. Он выкладывал козырь на стол, уже видя, как срывает банк, только куда там! Спустя месяц он мог узнать (спасибо ехидной мамочке), что она умотала с Женькой в какие-нибудь Пушкинские горы, значит, банк сорвать предстояло сопернику.
И тут начинался скрежет зубовный вперемешку с безумствами. Мотоцикл он продал еще в Пряжске, но однажды ночью завел чужой «Ковровец» и помчал по Приморскому шоссе куда-то в сторону Финляндии. За ним гнались гаишники, на одном из виражей он едва не улетел в кювет, однако вышел сухим из воды. Оставив мотоцикл возле станции Зеленогорск, вернулся на электричке, чтобы спустя месяц-другой совершить что-то не менее абсурдное.
Он устраивал разборки, как без этого? Даже изменял ей, хотя другие девчонки были как портвейн после элитного коньяка: ты из принципа совершаешь дежурные телодвижения, распалив себя алкоголем и не получив в итоге никакой отдачи. Партнерши были машинами для секса, средствами удовлетворения мстительного чувства, которое требовалось чем-то заглушить. Представляя, что совокупляется с Ларисой, он, бывало, проявлял грубость, мучил и истязал ни в чем не повинную партнершу, отчего у той глаза лезли на лоб.
— Садист какой-то… — бормотала неповинная, лихорадочно натягивая белье. — Мы любовью пришли заниматься, а это что?! Пыточная камера?!
С Ларисой такое было невозможно. Все вдруг исчезало, когда она обвивала руки вокруг шеи: упреки забывались, месть испарялась, и казалось: это только для тебя, причем навсегда. И умения твои побоку, она их разрушала, меняя позы, впиваясь губами в живот ли, в пах или оставляя красные полоски вдоль спины. Мозг (его гордость!) беспомощно останавливался в эти моменты, и мысли замирали, будто многочисленные беспомощные бандерлоги под взглядом грозного и безжалостного Каа. Его обволакивало что-то пахучее, скользкое, источающее жар — то, что существовало задолго до Рогова, некий первобульон, откуда все мы появились в незапамятные времена. А самое странное, что из этого бульона не очень-то хотелось выбираться. Слабые попытки упорядочить их неистовство заканчивались ничем, он погружался обратно в царство бездумья, словно в материнское лоно, где не пропадешь.
Не имея языка для описания этого, он довольствовался «пиджин-инглишем», на котором студиозусы разговаривали о телках. Посиделки за пивом не обходились без перченых историй, когда на арену выходил очередной Казанова, бахвалясь количеством «палок». Цифры назывались разные, порой вполне фантастические, но Рогова это не сильно интересовало. Он и рад был бы сосчитать, только никогда этого не делал, не до того было. Гораздо больше он интересовался поведением женщин в постели, о чем тоже не умалчивали. Оказалось, одна кончала, другая имитировала оргазм, а третья вовсе была фригидной, вроде как отбывала дежурство. Иногда он задавал уточняющие вопросы, в конце концов уяснив: Лариса — особенная. Об имитации тут речи не было, о фригидности тем более, а кончала она, можно сказать, непрерывно. Это был проснувшийся вулкан, который содрогался без остановки, заливая кровать так, что простыни потом хоть выжимай. Он и сам превращался во что-то похожее, а тогда можно было лишь усмехаться подростковому бахвальству.
— А Севыч чего помалкивает? — вопрошали иногда. — Так нечестно, тоже расскажи!
Но он пожимал плечами, делая вид, что смущается. Ему вполне хватало славы «светлой головы», в гиганты секса он не стремился. Когда же мучения возобновлялись, он выпадал в прострацию, а тогда держись, лабораторная аппаратура!
— Юноша, что с вами?! — лезли на лоб глаза Зуппе. — Вы, извините, в своем уме?!
— Простите, Рудольф Карлович, я все поправлю…
— Такое бывает в двух случаях: либо человек с бодуна, либо…
— Либо что?
— Либо, как нынче выражаются, втюрился.
— Ничего не втюрился… — бормотал Рогов, презирая себя за то, что попал в унизительную зависимость. Вроде бы самостоятельный, уважаемый, кем-то даже превозносимый, он оказывался «козлом на поводке», и оскорбленное достоинство бурлило, будто брага в бочке, так что крышку порой срывало.
Порой его заносило в такие дебри, что самому делалось страшно. Рациональный и практичный Рогов, случалось, вспоминал главную страшилку детства и жаждал заключить некий союз, а может, просто попросить помощи. Блажь, казалось бы, а поди ж ты — на полном серьезе призывал иногда черного охранника, чью поддержку когда-то ощутил. Покажи, где моя ошибка! Разруби узел, я не справляюсь! Но черный не отзывался, наверное, был бессилен в этих делах…
Этот мучительный абсурд выворачивал кишки, поэтому не раз хотелось плюнуть и начать как-то устраивать жизнь. После очередного их разбега Рогов едва не женился, благо подвернулась очередная «Фаина». Она была светловолосой, с мощными бедрами, которые с готовностью раздвигались и сжимали Рогова так, что косточки похрустывали. Она умела варить борщи и готовить котлеты, сама шила себе наряды, причем такие, что толстоватые ноги умело скрывались тряпичными складками, короче, готовая супруга, которую судьба преподносит на блюдечке с каемочкой. Рогов даже кольца купил и начал изучать объявления о сдаче комнат внаем. Но что-то остановило. Очутившись в одной из таких комнат, он встал у окна, выходившего на брандмауэр. Глухая стена из красного кирпича закрывала солнце, небо, двор, людей, и вдруг показалось: женись он, вся жизнь останется там, за стеной, а он будет до пенсии торчать у этого облезлого подоконника и пялиться на выщербленную кладку… Или вспомнилась Лариса? Связавшая их с детства пуповина тянулась непонятно для чего, но ведь тянулась!
У Мятлина, как выяснилось позже, была похожая история. В него втрескалась дочь профессора, и дело покатилось к свадьбе. Профессор в будущем зяте души не чаял, тому светил диссер вне очереди, а дальше, не исключено, и заведование кафедрой.
— Только я сбежал, как Подколесин.
— Как кто?
Мятлин усмехнулся.
— Ты, Всеволод, не меняешься. И что она в тебе… Впрочем, неважно. Мы зашли подать заявление в ЗАГС, только там, как и везде, очередь. Полчаса сидим, час, уже потребовалось выйти на минутку. Я вышел, но возвращаться не стал — к метро побежал, бегом!
Рассказанный эпизод пробудил ревность, вроде как Женька вырос вровень с Роговым, хотя должен был, по идее, облажаться. Рогов с неимоверным облегчением воспринял бы известие о счастливо сложившейся семейной жизни соперника, еще и согнулся бы в поклоне: совет, дескать, да любовь! Не в тот ли раз прозвучал пассаж про «чудо, тайну, авторитет»? Им обоим требовалось какое-то объяснение, и Мятлин, кривовато ухмыляясь, взялся говорить о Достоевском, мол, без этой триады человеку не живется спокойно, а Лариса и чудо, и тайна, и — в каком-то смысле — авторитет! А если учесть, что еще красота присутствует, каковая мир спасет, то все ясно как божий день!
— Чего тебе ясно? — спросил Рогов, отхлебывая из кружки.
— А все!
— Не трынди, как говорят в Пряжске. Ничего тебе не ясно, как и мне.
К тому времени оба уже закончили вузы: Рогов осваивал ЭРУ, Женька проходил стажировку в «Пушкинском доме». Многие сочли бы их просто везунчиками и баловнями судьбы, они же чувствовали себя шагающими по тонкому льду. И, хочешь — не хочешь, вынуждены были постоянно возвращаться в жизнь, что, казалось бы, давно исчезла.
В тот раз Женька тоже вспомнил Пряжск.
— Давно был на родине? — спросил с язвительной улыбочкой.
— Два года назад.
— Слышал, что Зема погиб?
— Да, дошел слух.
— А как погиб, знаешь? Не знаешь… А я вот знаю. И всегда знал.
— Откуда же ты знал? — поинтересовался Рогов. Пауза была длинной, причем в это время Мятлин смотрел на него, как на младенца.
— Оттуда. Я бы, может, и объяснил, только вряд ли ты поймешь. Потому что ты — Самоделкин! Был им и останешься, понял?!
Похоже, он нарывался, а может, выпил лишнего — в любом случае Рогов не собирался плескать пивом в физиономию. Они бы сто раз могли набить друг другу морду, еще в детстве, только на мордобой было наложено табу. Нельзя им было так выяснять отношения, оба это прекрасно понимали.
Возможно, отношения вообще не требовалось выяснять, ведь была и другая возможность прикоснуться к чуду. Рогов лежал на верхней полке в плавгостинице, намертво пришвартованной к берегу, а казалось: он отправляется в дальнее плавание, туда, где масса интересных (а главное, более простых!) вещей. Неплохая альтернатива жизненным заморочкам, всем этим человеческим взаимоотношениям, запутанным и опостылевшим. Его домом будет «Кашалот». Корабль примет Рогова, а значит, ему не суждено стать жертвой, наоборот, он сделается повелителем суперсложного механизма…
3
Обследование будущего дома началось на следующий день. Это было что-то вроде экскурсии, которую проводил Жарский до начала рабочего дня, пока дюралюминиевое чрево не наполнилось рабочим людом.
— Когда народ набьется, ничего не увидишь, — пояснил. — Да и вообще на пустом «Кашалоте» особая атмосфера.
— Прямо-таки особая?
— Сам почувствуешь, если не тупой.
Рогов проявлял скепсис из боязни, что морской монстр отринет одного из его создателей. Не самого последнего из создателей, между прочим — автоматика общекорабельных систем была основой живучести, без нее, что называется, ни тпру ни ну. Залить топливо в баки? Извольте включить разработанный Роговым блок. Поднять на палубу ракетно-бомбометные установки? Те же действия, только в части управления гидравликой. А уж когда пожар или затопление, то здесь без роговских алгоритмов ни одна помпа не заработает, а значит, кирдык могучему «Кашалоту». Если сравнить с живым организмом (а сравнить ой как хотелось!), то его автоматика была тем участком мозга, что ведает сокращением сердечной мышцы, работой легких, да еще и иммунной системой командует. Удали этот участок, и монстр окажется парализованным, минуты не проживет, даже пасть не сможет раскрыть, чтобы издать предсмертный стон.
— Носовой сходней твоя система управляет?
— Моя, — ответил Рогов.
— Тогда вон там пульт, дублирующий центральный. С него можно в ручном режиме управлять этой махиной.
Они находились в танковом трюме, где по левому и правому борту тянулись ряды серых закругленных дверей; на одну из них и указал Жарский.
— Можно попробовать?
— Не терпится? — хохотнул «экскурсовод». — Понимаю, понимаю… Пробуй, конечно, хозяин — барин.
Забравшись через дверной проем в крошечную пультовую, Рогов не сразу нажал кнопку. Когда же решился, нажатие получилось робким, как у пианиста, что опробует клавиатуру незнакомого рояля. Многотонная сходня вздрогнула, опустившись на несколько сантиметров, и в образовавшуюся щель пробился утренний свет. Рогов долго разглядывал светящуюся полоску, так что Жарский не выдержал:
— Чего застыл? Жми смелее!
Со второго нажатия сходня пошла вниз, открывая взгляду территорию завода. Когда в поле зрения показались их вагончики-бытовки, Рогов отпустил кнопку. Странное было ощущение: вроде как он находился в чреве огромного животного, глядя на мир из его пасти. Животное было, без сомнения, хищником, только Рогова его плотские аппетиты почему-то не пугали. Он пребывал в симбиозе с монстром, являлся частью его микрофлоры, неким необходимым организмом, а значит, животное кровно заинтересовано в его существовании.
Рогова провели к задней сходне, более скромной по размерам, после чего начали показ других помещений. Они поднимались по трапам, спускались, протискивались в проходах, оказываясь то в машинном отделении, то в ракетном отсеке, то вообще непонятно где.
— Почему здесь пусто? Потому что в этой конуре боезапас хранится. А его, сам понимаешь, еще не завезли. Вот начнем стрельбы во время испытаний, тогда коробушку и заполнят торпедами.
Двигаясь вслед за проводником, Рогов постепенно утратил ориентацию — так бывает, если тебя водят по незнакомому городу, и ты отдаешься на волю более осведомленного провожатого. Корабль казался лабиринтом, заполненным бесчисленными пультами, механизмами, локаторами, системами вооружений, и не было всему этому конца и края. Когда провожатый внезапно исчез, Рогов остановился. Постоял минуту-другую, покрутил головой, после чего двинулся в один из проходов. Он не должен был заблудиться, «Кашалот» хоть и огромный, но не авианосец же, всего лишь летающий десантный корабль.
Трап увел вниз, где обнаружилось просторное помещение, сплошь увешанное желтыми ящиками с аппаратурой. Обнаружив свой системный блок, Рогов повеселел и прибавил шагу — рассчитывал в скором времени оказаться в трюме. Но перед глазами мелькали все те же пульты, турбины, ракетные установки, и уже представлялось, что он забирается глубже и глубже, в то место, откуда нет возврата.
По ходу движения Рогов крутил головой направо-налево, что-то вспоминая, и вдруг озарило — сон! Был такой сон в детстве, когда человек в черной шинели впустил его внутрь машины, оказавшейся на удивление огромной, и там в середине просторного зала на постаменте стоял изобретенный отцом «перпетуум мобиле». Сейчас происходило нечто похожее. Он погружался в корабельное чрево, как во что-то родное, всплывшее из глубин памяти, и опять не хотелось отсюда выбираться…
Выбрался он неожиданно, после очередного трапа оказавшись в рубке. Там торчал Жарский, копался внутри РЛС[2].
— А-а, нашел дорогу… Молодец, нюх есть. Тут, знаешь, без нити Ариадны можно месяц блуждать.
— Без какой нити?
Жарский вскинул на него удивленные глаза.
— Что у нас было по гуманитарным дисциплинам?
— Не было у меня таких дисциплин, я ЛЭТИ заканчивал.
— Ну, есть же семья и школа… Ладно, неважно. Иногда кажется: конструкторы устроили здесь какую-то каверзу с пространством. Не самый большой корабль, согласись, а ощущение, что это целый город. И что где-то внутри сидит Минотавр, ну, чудище такое с головой быка, и ждет того, кто забредет в его отсек… Собственно, это я и имел в виду, когда говорил про атмосферу. Почувствовал ее?
Рогов задумчиво кивнул.
— Почувствовал… Только меня минотавры не пугают, если честно. Я бы тут жить мог, если бы разрешили.
— Увы: жить тут будет личный состав дважды краснознаменного Балтийского флота. А мы так, временные приживальщики.
Он не стал спрашивать про загадочного «белого мичмана», как и про статистику смертности. Хотелось сохранить частичку атмосферы, исчезавшей на глазах — «Кашалот» наполнялся людьми, начинали стрекотать шлифовальные машинки, а где-то уже посверкивала сварка. Окончательно развеял ауру военпред Деркач, чья красноватая физиономия возникла перед носом.
— Рогов? — ткнул он пальцем в грудь. — Давно тебя дожидаюсь! Готовься к проверке систем пожаротушения, без этого акт не подпишу!
Вперед выступил Жарский.
— Вы бы, товарищ капитан-лейтенант, дали осмотреться новичку. Пусть в курс дела войдет, освоится…
— Некогда осваиваться! Сроки сдачи сокращают, слышал об этом? Послезавтра — спуск на воду, а через неделю уходим в Кронштадт.
— Своим ходом, что ли?!
— На буксире. Так что, новичок, в 16–00 жду на этом же месте с бумагами.
По пути в бытовку Жарский бурчал насчет идиотской штурмовщины, мол, сложнейший заказ норовят сдать к очередной годовщине Октября! А ведь пора от такого отказываться, жизнь-то в стране меняется! Воодушевившись, Жарский заговорил о переменах, хвалил академика Сахарова, которому наконец-то дали возможность выступать публично, только Рогов слушал вполуха. Страна действительно отвалила от причальной стенки, у которой томилась семь десятилетий, и куда-то поплыла. Ее ожидали бури и шторма, возможно, даже оверкиль со всеми вытекающими, но Рогова перипетии этого «плавания» мало интересовали. Был, допустим, маршал Устинов, которому очень нравились «Дельфины» и «Косатки»; в итоге — появился «Кашалот». И где теперь маршал? Оборонное ведомство возглавляет кто-то другой, потом его сменит следующий, Роговы же будут нужны всегда.
— Але, гараж! Я тебя, кажется, спрашиваю!
— О чем? — остановился Рогов.
— О последнем съезде. В воздухе чем-то пахнет, чуешь?
— Может и пахнет… — пробормотал он рассеянно. — Извини, но я бумаги должен подготовить. Сам же говорил: Деркач — зверь.
Жарский крутанул головой.
— Не переусердствуйте, молодой человек. «Кашалот» — не самое главное в жизни.
— А что главное?
— Что? — он засмеялся. — Об этом Аллочку спроси!
Выйдя на порог вагончика, Алка распечатывала пачку «Родопи». Жарский тут же скрылся за дверью, оставив их наедине, а Рогову сделалось неуютно. У них были нормальные отношения с чертежницей; как и другие, он обращался к ней, когда требовалось внести изменения в схемы, только Алка не работой единой жила.
— Покурим? — спросила, оглядев «молодого». Взгляд был нагловатый, его вроде как оценивали, дескать, годишься ли на что-то, салага? И Рогов, безуспешно бросавший курить, протянул руку за сигаретой.
— На свои не заработал?
Она спрятала пачку за спину.
— Я бросить хочу… — смущенно пробормотал Рогов.
— Что ж, хороший способ! Ладно, кури…
Это была вроде как игра, где правила изобретала Алка и она же в любой момент могла их нарушить. С момента, когда заметил ступню, упертую в пах Гусева, он что-то понял про женщину, распространявшую вокруг эротические волны подобно камню, брошенному в водоем. Алка не оставляла равнодушным никого из сдаточной команды, так что Гусев постоянно пребывал на «боевом дежурстве». Не был равнодушен и Рогов, слегка пугавшийся непредсказуемой Алки-пулеметчицы (так ее называл зубоскал Жарский).
— Скучно с вами, мужиками, — говорила она, пыхая дымом. — Не с кем поговорить по душам, одна выпивка на уме.
— Ну почему же… — пожимал плечами Рогов. — Иногда и что-то другое на уме…
— О-о, и что же? Скажи, скажи, не стесняйся!
Стоя буквально в шаге, она игриво толкала его плечом, вроде как подвигая к откровенности, только Рогов знал: поведись, и насмешкам не будет конца.
— Ладно, скоро Ритка приедет, будет мне собеседница. Не успеваю одна вносить ваши исправления; а пахать, как папа Карло, не хочу. У меня ведь тоже на уме такое…
Внезапно захотелось прикоснуться к ее груди. Если смотреть сверху (а Рогов так и смотрел), то Алкины полусферы открывались почти полностью — она вроде как специально надевала просторную кофточку, а лифчик не носила. Будь его воля, он сдернул бы эту вязаную нелепость; и джинсовую юбку, плотно облегавшую крепенькие бедра, сдернул бы, ну а дальше понятно что.
— Кстати, насчет Ритки. Девушка одинокая, общительная, так что…
— А я тут при чем?
— Ты-то? Тоже неженатый, насколько знаю. Значит, надо вас познакомить.
Глупость, подумал он, не до того сейчас. Да и Алкино кокетство — всего лишь игра, на самом деле та присохла к Гусеву, и остальным, по большому счету, не светило. Чем ближе был спуск «Кашалота» на воду, тем чаще они задерживались после работы — якобы вносили изменения в документацию. И, надо полагать, зажигали так, что могли запросто спалить любовным пламенем бытовку…
Перед свиданием с Деркачом Гусев сунул в карман роговской униформы шкалик со спиртом.
— Всякое может быть, — сказал. — Вдруг система не сработает? Тогда гаси конфликт вот этой жидкостью. С другой стороны, и баловать нельзя, поэтому емкость не поллитровая.
Военпред был мрачен, немногословен, и если к такому состоянию приплюсовать отказ системы, шкалика бы явно не хватило. Автоматика, однако, работала безукоризненно. Рогов с Деркачом методично обходили отсеки, закорачивали датчики, имитируя сигнал пожара, после чего подавали питание. Трах-бах-пшш!! — и только потоки воды по переборкам, когда, переждав минуту, опять навещали отсек. Не хотел бы Рогов оказаться в такой момент внутри — крошечные форсунки выбрасывали воду под давлением в несколько атмосфер, запросто с ног собьет! Но живучесть корабля важнее всего. На подлодках инструкция вообще требует наглухо задраивать отсек, если пожар; а есть там живые или нет — дело третье…
Настроение Деркача менялось в обратной пропорции к успехам: он становился все мрачнее, под конец сделавшись просто угрюмым. Рогов же раз от разу веселел, разливаясь соловьем, мол, сбой вообще исключен, в систему заложено столько «ноу хау», что она дает стопроцентную гарантию срабатывания!
— Что заложено? — кривил лицо каплей.
— Оригинальные технические решения. Два из них мои, я на них авторские свидетельства получил!
— Понятно… А что у тебя из кармана торчит?
По идее, поить военпреда было не за что, Рогов выиграл встречу всухую. Но настроение было отменное, и он с удовольствием им поделился.
— Сработаемся… — пробормотал Деркач, пряча шкалик в недра бушлата.
Спуск на воду производился спустя два дня. Проходила церемония не совсем обычно: летающий корабль нельзя было спускать принятым способом, когда корпус скользит по специальным рельсам и с шумом плюхается в воду. Требовалось выкатить «Кашалота» из цеха, приподнять, а затем нежно опустить в Большую Невку, для чего к «Алмазу» пригнали три мощных плавучих крана. Буксиры подтащили их ночью, и когда утром могучие механизмы обнаружили у причальной стенки, восхищению заводских не было предела.
Носившие имена «Витязь», «Богатырь» и «Титан», тройка кранов напоминала известную картину Васнецова. Когда многометровые ажурные стрелы зависли над корпусом корабля, Рогова охватила смутная тревога. Перед глазами встало раздавленное тело стропальщика, ставшего первой жертвой «Кашалота»; и хотя пасть монстра была закрыта, вряд ли его аппетит удовлетворен. Вдруг один из толстенных тросов оборвется?!
Тросы с крюками цепляла за специальные петли целая бригада стропалей. По команде загудели моторы, стальные струны натянулись, и Рогов физически ощутил напряжение механизмов — в момент отрыва корабля один из кранов, показалось, даже накренился. Когда моторы вдруг замолчали, «Кашалот» и «три богатыря» несколько секунд боролись друг с другом в полной тишине.
Вопреки закону тяготения в воздухе парила многотонная громада, на фоне чего рассыпанные вокруг люди выглядели крошечными мурашами (одним больше, меньше — неважно). Краны между тем отходили от стенки, громаду несло к воде, а следом, не желая пропустить ни секунды зрелища, двигалась толпа.
— Гулливер и лилипуты… — пробормотали сзади.
— Что?! — обернулся Рогов. Стоявший за спиной Жарский прикуривал сигарету.
— Эффектная картинка, говорю. Запоминай, может, никогда больше такого не увидишь.
— Да, такого я не видел…
Опять гул моторов, «Кашалот» погружается в родную стихию, и народ, облегченно вздохнув, начинает поздравлять друг дружку. Жертва не состоялась, думал Рогов, или отложена. Хотя, скорее всего, это всего лишь красивые слова. На самом деле все проще: грамотный проект, точное исполнение работ плюс правила техники безопасности — и никаких жертв!
Потом, как водится, хлопали «Шампанским» о борт, директор завода и сдаточный капитан толкали речи, Рогов же с коллегами, отойдя в сторонку от митингующих, прикладывались к шилу.
За добавкой послали Рогова, который безропотно исполнил роль посыльного. Стоит ли права качать? В любом случае праздник, еще неделя — и в море! Вначале Финский залив, но со временем вырвутся на простор, для такого корабля Маркизова лужа — несерьезно!
В бытовке кто-то был, поскольку из чертежной, отделенной от большой комнаты тонкой переборкой, доносились непонятные звуки. Было ощущение, что за хлипкой стеночкой возится некое существо, издающее хрипы и стоны то ли в экстазе, то ли в агонии. Переборка подрагивала, будто существо желало вырваться на свободу; и тут же пришло понимание: вот куда исчез Гусев!
По идее, полагалось открыть по-тихому тумбочку, взять приготовленную бутылку и, пятясь, покинуть бытовку. Но убегать не хотелось. В двух шагах билась и пульсировала стихия, противоположная той, где стальные «Титаны» вздымают в небо дюралюминиевых «Кашалотов»; и Рогов подчинился стихии, поплыл по ее волнам…
На время затихнув, существо вновь распалилось, завозилось, запыхтело, покрикивая:
— Еще… Еще… А-а! А-а-а!
В переборку что-то с силой ударило, зависла пауза, затем послышался плач.
— Уйдете теперь… — прорывалось сквозь всхлипы. — Надолго уйдете, я знаю! — Мужской голос возражал, а ему в ответ: надолго! Помню эту дурацкую «Косатку», полгода тебя не видела! Смотри: в следующий раз вернешься с испытаний, а тебя лялька ждет!
Вынимая бутылку, Рогов хлопнул дверцей тумбочки, и голоса за переборкой затихли.
— Погоди со своими ляльками… Эй, кто там?!
Рогов на цыпочках пробрался к двери и, выскользнув наружу, быстрым шагом направился к стапелю. Он даже испугался острого желания сделаться частью такого же существа, стонать, всхлипывать, хрипеть, хотя это однозначно было слабостью, чем-то не мужским…
На следующий день происходило «великое переселение» из вагончика на корабль. Уже обжитое пространство, где столько было выпито, съедено, переговорено, оголялось, становилось неуютным и чужим. Но если мужчины паковали документацию и приборы со смешками-шуточками, то Алка откровенно страдала, едва сдерживаясь, чтобы не зареветь. И ведь не сдержалась, заревела, размазывая тушь по лицу, Гусеву даже пришлось ее успокаивать.
— Заплачет рыбачка, упав ничком… — промурлыкал Жарский. — Классика жанра. На первом моем заказе, помню, два семейных союза образовалось, но здесь, увы, не получится.
— Почему? — спросил Рогов. — У них вроде…
— Гусев — отец семейства. Изменщик коварный, иначе говоря. Но как устоишь против таких глаз? Алочка — это же оружие массового поражения, просто наш обер-монтажник узурпировал девушку.
— Ты это… — обернулся обер-монтажник. — Базарь поменьше, ладно?
— Пардон! — Жарский сделал шутовской поклон. — Владейте, никто не посягает на вашу избранницу! Тем более, что завтра мы все, так сказать, уйдем в предрассветный туман…
Первый переход планировали в Кронштадт, а после окончания ходовых испытаний был намечен бросок в Балтийск, что на другом краю холодного северного моря.
4
От заводского причала «Кашалот» отваливал под бравурно-щемящее «Прощание славянки». На лицах работяг и итээров читалась грусть, кто-то даже слезу пустил — из их жизни уходило нечто уникальное, во что вложен многомесячный труд рук и мозгов, то есть корабль уносил частичку их тел и даже душ. У Рогова же настроение было приподнятое. Его мозги и тело оставались на корабле, и впереди ожидала масса интересного. Вот сейчас, положим, они тащатся на буксире, выдавая узла четыре. Темп морской черепахи, но это пока не включили наддув и не врубили маршевые двигатели. Тогда не четыре, а все сорок четыре узла можно выжать! Семьдесят четыре! Черепаха, таким образом, превращалась в торпеду, летящую над водой с немыслимой скоростью…
Дождавшись, когда причал скроется из виду, Рогов направился в ракетный отсек. Кубрики оккупировала матросня, жилые каюты заняли офицеры, а сдаточную команду разместили там, где чернела пустыми трубами РБУ[3]. В отсеке находился один Гусев, тоскливый и со стаканом в руках.
— Отвалили? — спросил сумрачно.
— Ага!
— Ясненько… А ты там не видел…
— Кого?
— Неважно кого. Шило будешь?
— Не хочется что-то…
Настроение и впрямь было такое, что поднимать его не требовалось. Рогов глазел в иллюминатор на скользящие мимо заводские корпуса, яхт-клуб, новостройки Васильевского, что вскоре сменились водной гладью залива. Добив бутылку, Гусев сунул пустую тару в одну из труб.
— Начинаем отсчет, — усмехнулся. — К финалу все эти дырки будут заполнены, поверь моему опыту.
— А как стрелять?
— Боезапас позже завезут. Тогда в этом отсеке не только бутылок — и нас не будет.
Он помолчал, затем с ожесточением проговорил:
— Вот кто сказал, что баба на корабле — к несчастью?
— Это древнее поверье, — отозвался Рогов. — Но автор высказывания неизвестен.
— Мудак был этот автор. Наоборот, баба могла бы что-то человеческое сюда внести, уют создать… Разве это место для жизни?! — он пнул дюралевую переборку. — Металлический сарай! Ты бритву с собой взял? Ах, взяал… Напрасно. Через неделю-другую здесь кончится вода. И электричество будет не всегда подаваться, так что лучше отпускай бороду.
— Да? — Рогов озадаченно потер подбородок. — Я подумаю…
Буксир не торопился, делая близкий Кронштадт отдаленным островом. В таком режиме половина механизмов не работала, электроника спала, а те, кто наполнял «Кашалот», были праздными пассажирами. Праздность же подвигает понятно к чему.
Вначале Рогов, Жарский и Гусев выпивали втроем, затем отсек начал наполняться гостями. Быстро устав от гвалта и дыма, Рогов вспомнил, что обязан проставить Палычу, бригадиру алмазовских монтажников. За прошедшую неделю тот дважды перевешивал по просьбе Рогова пульты и блоки, что требовало отдельной благодарности.
В поисках Палыча он поднялся в рубку, спустился в машинное отделение, однако бригадира нигде не было. Наконец, знающие люди послали Рогова под второе дно.
— Палыч всегда там логово устраивает. Где именно? Вон за той дверцей лючок — в него и ныряй!
Пространство между первым и вторым дном для обитания не предназначалось, только Палыч, как всегда, клал на это с прибором. Этот седовласый угрюмый работяга чем-то напоминал отца: и характеры были схожие, и руки могли мастерить такое, что другим не снилось. Главное же, Палыч проникся к Рогову и безропотно исполнял его просьбы, что окружающих несколько удивляло.
— Приглянулся ты старику! — качал головой Жарский. — Когда «Косатку» сдавали, я неделями его упрашивал что-то сделать, а тебе, смотрю, сразу навстречу пошли!
Нырнув в лючок, Рогов скрючился в три погибели — низ от верха отделяло расстояние в метр, не больше. Вдалеке, если смотреть по левому борту, горел одинокий фонарь, мелькала чья-то тень, и Рогов, придерживая бутылку за пазухой, пополз в ту сторону.
— Притащил свою отраву? — пробурчал бригадир. — Ладно, сгодится на черный день…
Забрав бутылку со спиртом, он сунул его в облезлый рундук. Рядом валялись два бушлата и стоял ящик с инструментами — Палыч, похоже, занимался обустройством «логова». Он усадил гостя на один из бушлатов, после чего достал «Столичную».
— Мы, считай, еще на берегу. Вот когда нормальная выпивка кончится, можно и шило потреблять…
Когда бутылку ополовинили, Рогов начал привыкать к скрюченному положению и свету фонаря. Было что-то мудрое в решении опытного работяги сгинуть с глаз долой. Там, наверху, мельтешили итээры, нес службу экипаж, отдавало распоряжения начальство, а тут — тишь да гладь, только слышно, как дюралевый корпус обтекает вода. Если же учесть, что Палыч еще и нахваливал гостя…
— Насмотрелся я на вашего брата, — говорил бригадир, закусывая воблой. — И кандидатов, и докторов видал, только для меня ваши звания — тьфу! Я за милю чую, на что человек способен. В тебе вот хватка есть, я сразу понял. Ты сквозь железо видеть можешь, значит, наш человек.
Пунцовый от похвал, Рогов плескал в кружки, они выпивали, и накатывали мысли о том, чтобы плюнуть на ЭРУ (поду-умаешь!) и перейти руководить такими, как Палыч. Диссертация, считай, была у Рогова в кармане, только кандидатская степень меркла в сравнении с трудами рук человеческих. «Теория суха, — не раз повторял доцент Зуппе, — а древо жизни шелестит ветвями, и плевать ей на наши умозаключения».
— Скажите, Палыч… — Рогов запнулся. — А вы про белого мичмана слышали?
— Чего?!
У бригадира даже кусок воблы изо рта выпал, настолько он был встревожен.
— Нет, ничего… — забормотал Рогов. — Просто говорят про него, я думал: пугают…
Пристально на него посмотрев, Палыч отвел взгляд.
— Пугают… — проворчал. — Не буди лихо, пока оно тихо. Если уж он появится, то…
— То что?
— Жмурика жди. Или аварии. На этой посудине вроде не появлялся пока, но ходовые только начались. Да и Сашку Митина уже прихлопнуло, стропаля нашего. Слышал об этом?
— Видел — когда начинал работу…
— Значит, где-то поблизости чертов мичман. Говорят, его самого в свое время за борт смыло — во время таких же испытаний. И теперь он предупреждает, мол, что-то случится! А может, к себе забирает — хрен их разберешь, мертвяков…
Зависла долгая пауза.
— Сами-то верите в эту байку? — выдавил Рогов. — Ну, видеть его приходилось?
— Мне другое приходилось видеть.
Запустив руку в рундук, Палыч извлек оттуда еще одну «Столичную».
— Например, корабельных крыс размером с две таких поллитры. На крейсере «Непобедимом» водились, подлюги, оплетки кабелей жрали. Представляешь?! Им еда вообще не нужна! И вот сидишь ты, значит, ночью в пультовой, паяешь, и вдруг эта зараза серая вползает. Встанет на задние лапы, как суслик, и смотрит на тебя! А у тебя по спине мурашки бегут, потому что кажется: это вообще не живое существо, а что-то другое…
— Мутант?
— Да хрен его разберет. В общем, ничему я уже не удивляюсь: если такие крысы появляются, почему белому мичману не появиться?
Рогов с тревогой оглядел поддонную темноту.
— Здесь-то крыс нет?
— Пока нет. Тут кабели в металлических каналах проложены, возможно, крыс вообще не будет. Ладно, пошли-ка в рубку!
Когда вышли на корму, вокруг царила ночь, только мерцали вдалеке огни покинутого города. Пошатываясь, они поднялись в рубку, где на высоком стуле сидел сдаточный капитан и таращился в темноту. На его лице читалась тоска, даже вытащенная бригадиром бутылка ее не рассеяла.
— Здорово, Палыч… — пробормотал капитан, протягивая могучую ладонь. — Не могу, знаешь, привыкнуть к такой скорости. Предлагал пойти своим ходом, а они: сто двадцать децибел от движков, жилые кварталы проснутся! Не успели бы проснуться! А мы бы не тащились, как беременная корюшка, давно в Кронштадте были бы!
Он в досаде махнул рукой, едва не опрокинув расставленные стаканы. Палыч разлил водку.
— Погоди, будет тебе скорость. Только бы на Балтику выбраться… Ну, за «Кашалота»? Задницей чувствую: будут нам приключения!
Вылив водку в рот, Булыгин не стал закусывать.
— Типун тебе на язык. Эти испытания нормально пройдут, набрались уже опыта…
Они заговорили о чем-то своем. А Рогов уже перестал что-то понимать, он просто смотрел вперед, где все ярче делались огни Кронштадта. Это были огни новой жизни, манившей своей неизвестностью, что-то обещавшей, ради чего можно было отпускать бороду, воевать с крысами, встречаться с белыми мичманами…
Он не помнил, как добрался до ракетного отсека, чтобы тут же отключиться. Во сне он продолжал кружить по кораблю, двигаясь среди причудливых агрегатов, оружейных установок, и ничуть при этом не боялся. Неожиданно впереди мелькнул и скрылся за дверью белый китель. «Ага!» — сказал себе Рогов, устремляясь вслед. Китель мелькнул еще раз, потом еще, но догнать его обладателя не получалось. Еще бы, этот призрак любой корабль как свои пять пальцев знает, поди догони! И все же Рогов продолжал преследование. Они опускались все ниже, под второе дно, за которым, как ни странно, оказалось следующее дно, и так несколько раз. Наконец, Рогов выбрался в просторный, будто танковый трюм, отсек; здесь-то и можно было прищучить мичмана. Но вместо него Рогов увидел восседающее в центре существо с туловищем Палыча и с головой быка. Минотавр?!
— Он самый! — заколыхалось от утробного смеха существо и протянуло бутылку «Столичной». — Пей! Но дело — разумей!
— Не хочу пить… — бормотал Рогов, отступая. — Так совсем сопьешься, а мне еще систему сдавать…
— Нормально пройдет сдача системы. И вообще это не главное.
— А что же главное?
— Что? А это ты у нее спроси!
— У Аллочки?
— У какой Аллочки?! Глаза-то разуй!
Только теперь Рогов заметил женскую фигуру в углу. Стройная, в легком летнем платье, женщина отделилась от переборки и вдруг закружилась в танце. Платье раскрылось, будто зонтик, волосы разметались, из-за чего лица не было видно, только Рогову этого не требовалось.
— Узнал? — подмигнул Минотавр. Он еще раз протянул Рогову бутылку, пожал плечами и присосался к ней сам.
— Ты, наверное, и танцевать не любишь… — проговорил, добив спиртное. — А я так не откажусь!
Молодецки вскочив, он принялся выделывать «па» вокруг танцующей Ларисы. Лишь она умела так грациозно и одновременно стремительно двигаться; да и стрижка была ее…
Накатило ревнивое чувство, но Рогов, как в свое время на танцплощадке, не мог сдвинуться с места. Внезапно осенило: это Мятлин! Переоделся, хитрец, еще и бригадирское тело сымитировал! Только не выйдет! Приблизившись к танцующим, он схватил Минотавра-Мятлина за край одежды и с силой рванул. Они начали бороться, упали на металлический пол, и Рогов внезапно почувствовал пальцы на лице.
— Да отвали ты! Лариса, Лариса… Нет тут никакой Ларисы!
Перед ним маячила недовольная физиономия Жарского. Из полутьмы выплыли черные дырки РБУ, тельняшка Гусева, серое пятно неба в иллюминаторе…
— Мало того, что притащился под утро, так еще меня лапает! Бром надо пить, понял?!
— Бром?! — тупо спросил Рогов. — При чем тут бром?!
— При том! Прекрасный пол остался на берегу! А мы, считай, выполняем боевую задачу! Далеко ли, кстати, до цели путешествия?
Поднявшись, Жарский взглянул в иллюминатор.
— О, Кронштадт! Подъем, коллеги! Сходим на берег!
Оказалось, воспоминания о Ларисе лежат в памяти ближе, чем хотелось. Корабль, новая должность, маячившие блестящие перспективы — все это было попыткой самоутвердиться в глазах той, кто остался за горизонтом. Конечно, если бы состоялась встреча, он бы много рассказал, даже на подписку о неразглашении плюнул бы. Но когда состоится встреча?
Их последний телефонный разговор получился скомканным. В трубке слышался смех, гомон гостей (Светлана Никитична отмечала именины), но даже когда Лариса перешла к другому аппарату, общение оставалось натянутым.
— Переводят в Кронштадт? Поздравляю.
— С чем?! Это закрытый остров, оттуда, наверное, не вырвешься…
— А ты хочешь?
— Чего?
— Вырываться?
Рогов помолчал.
— Ну да, наверное… То есть хочу, конечно! Но режим есть режим.
— Тогда подчиняйся режиму, — сказала она и повесила трубку.
Еще одно воспоминание догнало, когда приближались к причалу судоремонтного завода — это была их новая база. В доке стояли два летающих корабля, выделявшиеся большими винтами вроде самолетных. Корабль побольше имел три винта; тот, что меньше — два. И хотя на бортах не было ничего, кроме номеров, опытный глаз сразу опознал бы в них «Косатку» и «Дельфина».
— Грехи молодости… — пробормотал Жарский, глядя на проползающие мимо серые корпуса. — О, нас приветствуют!
Стоящий ближе «Дельфин» издал свистящий гудок, вслед за ним загудела (чуть ниже) «Косатка». Рогов прислушивался, гадая: отзовется ли старший в семействе? Или продефилирует мимо в высокомерном молчании? Когда «Кашалот» басовито прогудел младшим собратьям, Жарский засмеялся:
— Натуральная туба! «Косатка» — это саксофон, а «Дельфин» — так, жалкий кларнет!
А Рогову вдруг вспомнились песни китов, в свое время увлекавшие Ларису. Она даже раздобыла где-то записи «песен», коими потчевала Рогова, воспроизводя их на магнитофоне. Странные были звуки, тоскливые и абсолютно непонятные. Они были записаны в глубинах океана учеными, что-то понимавшими, возможно, в этих загадочных протяжных стонах, Рогов же внимал им тупо. Лучше битлов поставила бы, думал, или советскую эстраду. Ну, что это?! Уханье и завывание какое-то, совсем неинтересно…
Наутро в Кронштадт заявился Хромченко, которого пришлось вести обратно на корабль и показывать, что и как. Начальник отдела напоминал кота, которому перед носом поставили банку со сметаной, а крышку снять забыли. Он плотоядно оглядывал железные внутренности, поглаживал блоки автоматики, а кнопки на пульте нажимал так, будто прикасался к соскам девственницы. Эх, бормотал с тоской, ничего-то ты не понимаешь! Знаешь, с каким бы удовольствием я бросил баб, сидящих за кульманами?! С какой радостью ушел бы в море вместе с вами?! Увы, руководство требует присутствия на месте, хотя место конструктора — там, где испытываются его разработки… Рогов понимал Хромченко, даже проникался к нему сочувствием, благо тот относился к молодому специалисту покровительственно и всегда защищал от завистливых сплетниц, коих так хотел покинуть.
— В общем, заказ серьезный, — подвел итог начальник. — А если так, то и спрашивать с тебя будем всерьез. Жизнь меняется, шум какой-то вокруг, но оборона — она и в Африке оборона.
— Я понимаю.
— Молодец, если понимаешь…
Хромченко выдержал паузу.
— Еще пойми: несмотря на перемены, первый отдел работает. Так что ждите засланного казачка.
— Кого-кого? — не понял Рогов.
— Стеклянный глаз за вами будет следить, так всегда делается. Фамилию назвать не могу, сами его вычислите.
Перспектива была мерзковатой, хотя особо не пугала. Диссидентов в команде не водилось, так, трепали языком на скользкие темы, а на самом деле были заняты другим.
Несколько дней пролетело в подготовке к выходу на морские просторы. Особое внимание уделялось системе навигации, так что Зыкову только успевали отливать шило. А Деркач в эти дни ходил по кораблю, пошатываясь и светя сизым от пьянства шнобелем.
В эти дни каплей потерялся среди других черных бушлатов. Если раньше его форма выделялась на фоне спецовок и комбинезонов, то сейчас люди во флотской амуниции сновали там и тут, пытаясь совать повсюду нос. Сдатчики же щелкали по носу, мол, хозяевами станете по завершении испытаний, а пока, любезные вояки, изучайте матчасть! Тем не менее, с появлением флотских стало ясно, что «Кашалот» — могучая военная машина, рассчитанная на скорейшее уничтожение какой-нибудь Швеции, коей вряд ли что светит, если к ее берегам двинется армада таких монстров. Гангут покажется детским лепетом, Полтава — игрой в солдатики, ведь одна РБУ-3 выжигает до пепла полста квадратных километров вражеской территории…
Рогов только теперь почувствовал, что прикоснулся к войне, мимо которой всегда проскакивал. Служба в армии была? Не было, после военной кафедры он получил «бумажные» лейтенантские погоны, даже на флотские сборы не попал. Были разве что драки в Пряжске и уголовная публика, которая подкатывала с предложениями, за которыми виднелось небо в клеточку. Помнилось, как однажды зимой его зазвали в подвал, где сидели Зема и незнакомый стриженый кент. Кажется, тот жил в соседнем дворе и не так давно откинулся с зоны.
— Не настучит?
Кент сверлил Севку глазами, придерживая что-то под пальто.
— Свой пацан… Верно же, Кулибин?
Юный Рогов кивнул, дескать, свой в доску.
— Смотри, Зема, если что…
С этими словами стриженый вытащил из-под полы нечто, сверкнувшее вороненой сталью. «Обрез!» — вспыхнуло в мозгу, когда ствол лег на карточный столик.
— Починить надо… — хрипло проговорили. — Он осечку дает через раз, а у нас тут кое-что назревает…
— Серьезные дела назревают, — поддакнул Зема. — А ты, я знаю, сможешь починить.
Перед тем, как унести ствол домой, Севка клятвенно пообещал никому его не показывать, не трепать языком, а работать только когда родня отсутствует. Так он и сделал. Рогов-старший даже не подозревал, что младший давно научился включать станки; и на «склад запчастей» заглядывал, делая это так, чтоб все оставалось шито-крыто. Но если б узнали, что ремонтируется в домашней мастерской… У Севки даже начинались фантомные боли ниже спины — наверняка били бы пряжкой, для науки. Последствия могли быть и хуже, на них намекнул кент, сказав на прощанье: «Трепанешь языком — статью на себя повесишь. Я отмажусь, моя хата с краю, а ты на малолетку загремишь!»
Ремонтируя обрез, он, помнится, буквально чувствовал темную энергию, что исходила от простенького механизма, состоящего из десятка деталей. Эта крошечная машинка (не машина даже) могла плеваться огнем, выбрасывая свинцовые капсулы с гигантской скоростью, и те рассекали со свистом воздух, чтобы вонзиться в чье-то тело, неся смерть. Конечно, Севка не желал никому смерти. Но обуревал спортивный интерес, мол, неужели я, Рогов-младший, не налажу такую мелочь? Да и понимал он, что есть предложения, от которых невозможно отказаться.
В тот раз он вернул оружие в абсолютно исправном состоянии, даже хотел идти на городской каток, где замышлялась очередная махаловка. Но почему-то передумал. Потом дошли слухи: была стрельба из обрезов, пару человек увезли с ледяного поля в морг, отчего на душе стало мерзко и тоскливо. Он успокоился лишь мыслью: стреляли другие машинки, не та, которую чинил.
Сейчас его состояние напоминало пережитое в детстве. Рогову было интересно доводить до ума систему; если же «Кашалот» начнет сеять смерть, всегда можно сказать: спрос с тех, кто выше. Государство представлялось неким гигантским Земой, от чьих предложений при всем желании не откажешься…
5
Последним приветом береговой жизни был визит Алки с подругой: выправив пропуска на закрытый остров, те прикатили с кучей гостинцев домашнего приготовления. Пирожки, квашеная капуста, печеночный паштет — все это было выставлено на стол в кают-компании плавучей гостиницы.
Застолье получилось душевным, наверное, благодаря женщинам, что сновали по кают-компании, как заправские хозяйки. Теперь, когда Алка присаживалась кому-то на колени, Гусев не бросал ревнивых взглядов, вникал в ситуацию. Рогова хитрая Алка усадила рядом с подругой. Волосы Риты отливали рыжим золотом, кожа была белой, почти без пигментации, а лицо покрывала еле заметная россыпь веснушек. Но ее это не портило, а «нордическая» внешность явно не отвечала сущности — и темперамент, и жестикуляция выдавали, скорее, южанку.
— Ничего, что я руками машу? — вопрошала она. — Я дома половину посуды перебила из-за этой привычки!
— Здесь тарелки алюминиевые, им это не грозит…
— Но стаканы-то стеклянные!
Рита кокетничала: ее руки умело сновали между тарелок, стаканов и банок с «чагой» гусевского разлива, не забывая подложить соседу то пирожок с яйцом и капустой, то домашнюю котлетку. Что поначалу раздражало, как всегда, если навязывали что-то или кого-то. Рогов не давал согласия ублажать разведенную даму, что елозила рядом, прижимаясь и давая понять: я готова! Ему и так была навязана (кем, интересно?) страсть, которая представлялась веревкой, что вдевают в кольцо у буйвола в носу. Буйвол здоров, крепок, но покорно идет вслед за тем, кто даже слегка потянет за веревку. Получается, и здесь он обречен делать то, чего в душе не хочет?! Он какое-то время с неприязнью поглядывал на Алку, даже колкость отпустил, а затем вдруг успокоился.
Он уловил взгляд Риты — не наглый, не исполненный банальной похоти, скорее, робкий, просящий. Ну да, говорил этот взгляд, я баба, и мне нужно то, что нужно всем бабам, только я не буду тащить тебя в постель, я хочу, чтобы ты сам меня пригласил. Не лежит душа? А ты выпей, родное сердце, расслабься и отпусти себя на свободу, глядишь, и желание проснется!
Плавгостиница в Кронштадте обладала никудышней звукоизоляцией. Прислушавшись к ахам и вскрикам, что доносились из каюты Гусева, Рита покачала головой: ну, Алка… Отличницей ведь была — и в школе, и в институте. Образцовой девушкой, активисткой; и замуж вышла правильно — за комсомольского секретаря факультета. И тут, когда устроилась в ЭРУ, Гусев повстречался! Прямо с катушек съехала, хотя у самой ребенок, у Гусева — двое, ну, и прочие отягчающие обстоятельства…
Она не спешила раздеваться, хотя явно хотела. Вокруг того, что должно было произойти (причем неизбежно), она напускала туман, создавала облако смыслов, а может, облако бессмыслицы — чего-то, делавшего незряшным и оправданным слияние двух тел. А Рогов вдруг понял, что не хочет погружаться в это облако, он не сможет там дышать или вовсе отравится. Он уловил сигнал, даже подыграл, прослушав новеллу о жизни двух подруг. Разных подруг; и жизнь у них разная, но обеим чего-то не хватает. Рогов выключил свет, а Рита продолжала говорить о том, чего не хватает, опять какими-то намеками, хотя на самом деле не хватало лишь того самого слияния. Для простоты он вообразил что-то вроде двух половинок урановой сферы: они слипаются, образуется критическая масса, далее стремительный разогрев, взрыв, — и все. Ах, не все?! Требуется еще что-то?! Не преувеличивайте, не так сложен хомо сапиенс: его конструкция расчислена, желания объяснены, и не надо напускать тень на плетень.
Чтобы не напускать тень, Рогов занялся пуговицами на блузке, молнией на юбке, успокаиваясь и одновременно возбуждаясь от механических действий. Последний барьер — застежка на лифчике, но с этим Рогов научился справляться (как-то даже чинил такую застежку). И вот уже белое, буквально светящееся в темноте тело укладывается на нижнюю полку, и Рогов, конечно же, ложится рядом, ведь без него критической массы не образуется.
Взрывов было два, один сильнее другого. Рогову хватило бы одного, но его не отпустили: Рита приникла к его паху, разметав по животу рыжую шевелюру; когда же накрыла вторая волна возбуждения, устроилась сверху. Над ним ритмично покачивалось что-то белое, фарфоровое на вид, горячее на ощупь, а главное, издававшее стоны. В сравнении с Алкой — негромкие, только Рогов все равно думал: зачем она это делает? От подлинной страсти или нарочно, чтобы завести партнера? Он вообще по ходу думал, что о чем-то говорило. Мысли кончились лишь в пиковый момент, когда белое тело выгнулось дугой, и, издав самый громкий стон, опрокинулось навзничь.
Потом Рогов курил, пуская дым в иллюминатор, Рита же натягивала и застегивала то, что было недавно расстегнуто и стянуто. Она не торопилась, что тоже о чем-то говорило. Выйдем на воздух? Вообще-то, пора спать, завтра с утра на заказ…
— Мы ненадолго, просто подышим.
— Разве что ненадолго…
Они вышли на ту сторону, что была обращена к Ленинграду, видневшемуся вдалеке обширной россыпью огней. Палубу продувал ветерок, в борт била легкая волна, и Рогов спросил: не холодно ли ей? Спросил дежурно — горячка прошла, но оставался ритуал, коего воспитанные люди должны придерживаться.
— Ничего, нормально.
Пауза, затем нервный смешок.
— О другой, наверное, думаешь?
Рогов вздрогнул.
— С чего ты… Ни о ком я не думаю!
— Да не переживай — ты хороший, ну, как мужчина. Только и я ведь думаю о другом.
Он как чувствовал, что не следует покидать каюту. Останься — не слушал бы про капитана третьего ранга, служившего на «Комсомольце», что ухнул в морскую пучину. Слышал ли Рогов об аварии этой субмарины? А то! Новостные каналы о ней молчали, но он-то работает в конторе, где такие происшествия обсуждают в курилках. Другой вопрос: хотелось ли ему слышать о человеке, который любил ее до беспамятства и, как только возвращался из автономки, сразу бежал на телеграф. Почему не на переговорный? Потому что в аспирантской общаге, где жила Рита, не звали к телефону, зато телеграммы доставляли сразу. Что любопытно: через месяц после аварии она получила однокомнатную квартиру; и телефон сразу провели, вот только звонить было некому…
В общем, опять удушливое облако слов, пусть искренних, исповедальных, но все равно заслоняющих ясную картину жизни. В чем, собственно, вопрос? Разрабатывайте подводные ракетоносцы тщательнее, повышайте живучесть, и не будет дрожания в голосе женщины, что едва не плачет. Или она делает это специально? Про квартиру доложила (Рогов-то жил в общаге!), про одиночество, осталось лишь уткнуться в его плечо и обмочить бабскими слезами!
— Извини, я пойду.
— Я тебя…
— Не надо провожать, спасибо.
Похожая бессмыслица сквозила в разговорах с Ларисой. Не разговоры, а «песни китов», не имеющие смысла. Внятность-то где? Где четкость, разумность, где давно напрашивающийся выбор? Наверное, права ее мать, все дело в генетике. Как-то они остались со Светланой Никитичной тет-а-тет, и та раздраженно высказалась, мол, папина дочка!
— Даже если вскользь вспомнишь этого, извините за выражение, кобеля, тут же на дыбы: оставь отца в покое! А это, дорогой Сева, всего лишь гены, от них никуда не денешься. Вы знакомы с генетикой?
— Это примерно как язык ЭВМ? Ну, программа такая человеческая, верно?
— Можно сказать и так. Так вот у них с этим человеком… Короче, у них похожая программа. Нравится им это, ну, вы понимаете, о чем я. А что другие при этом страдают, их не волнует! Вы вот страдаете, и Женя по-своему страдает, а ей хоть бы что!
Если вычесть Мятлина, страдающего «по-своему», остальное было понятно. Программа, алгоритм, все объяснимо — кроме того, пожалуй, что Лариса все-таки переживала, оголенный нерв, а не молодая красивая женщина. Слезы внезапные, реплики типа: «Ты меня не понимаешь! И вообще ничего не понимаешь!» Тут и не захочешь, а взалкаешь простоты, даже примитивности, чтоб все было как у людей. Пряжская формула немудрящего обывательского счастья, прежде отвергаемая Роговым, вдруг обрела притягательность, сделалась сермяжной, так сказать, правдой. А если другой правды не предлагают, не следует ли отчалить от такого берега?
Оставшись в одиночестве, Рогов долго стоял на палубе, бросая в темную маслянистую воду окурки и наблюдая, как вдали мерцает огнями Ленинград, отпустивший свое создание, над которым корпели тысячи людей в разных закрытых организациях. Этот город, собственно, и предназначался для того, чтобы ковать военно-морской щит, а заодно и меч; Петр лишь для блезиру разбивал Летние сады и вычерчивал Невскую «першпективу». То есть творенье Петра было не столько городом Эрмитажа, сколько конгломератом секретных контор, за стенами которых без устали работают трудяги-гномы, создавая технические шедевры вроде «Кашалота». Что ждет создание дальше? Все будет нормально, они не повторят судьбу «Комсомольца», и пусть Жарский не каркает! Никакой смерти, они вернутся триумфаторами и сделают что-то еще более грандиозное…
«Засланец» первого отдела возник на заказе незадолго до выхода в море. Как и положено бойцам невидимого фронта, он имел безликую физиономию, типовую фамилию Сидоров и, по легенде своих кураторов, был обязан вносить изменения в схемы. Поскольку ранее этим занималась Алка, Гусев принял новичка в штыки.
— Где поселились? — с презрением вопрошал он. — В ракетном отсеке? Там, родной, о-очень неуютно!
— Ничего, — пожимал плечами Сидоров, — я к трудностям привычный.
— А мы, извини, нет! Полна коробушка, ищи другое спальное место!
— Но мне сказали…
— Да наплевать на то, что тебе сказали! Иди к начальству, пусть тебя поселяет.
Сидорова отправили таким путем, чтобы тот, не знающий о каверзах пространства, блуждал подольше. В конце концов, он определился в одну из офицерских кают, что для выполнения задания было минусом, зато в отношении комфорта — безусловным плюсом.
Над «засланцем» подшучивали, давая понять, что его задание ни для кого не секрет. Но Сидоров переносил насмешки на удивление спокойно, даже посмеивался вместе со всеми, мол, надо же, как остроумно! Возможно, реплики сдатчиков потом фиксировались, только делалось это в глубокой тайне, в обыденном общении Сидоров оказался покладистым.
— Светлая у тебя голова! — похвалил он Рогова, упростившего алгоритм управления сходней. — В жизни бы до такого не додумался!
Когда же Рогов реанимировал систему, работая под током, восхищению Сидорова не было предела. В тот раз «молодой» вообще удивил коллег, проявив качества, коими человеческое существо не должно обладать по определению.
Необходимость реанимации возникла в связи с предстоящим выходом в море. Аккурат перед выходом на пульте ЭРЫ летит блок! Важный блок, без него «Кашалот» — как человек без мозжечка или гипофиза, инвалид (если не труп). А самое главное, для ремонта пульт уже не отключишь, потому что обесточишь корабль. Тут-то Рогов и вызвался разобраться, что поначалу привело сдатчиков в недоумение.
— Да ты понимаешь, куда лезешь?! — кипятился Гусев. — Там же напряжение 380, и работать нужно пальчиками, не в резиновых перчатках!
— Знаю, — отвечал Рогов, — и что с того?
— То! От тебя головешка останется, а мне потом отвечай?!
Монтаж и ремонт вообще не входили в обязанности Рогова, это была зона ответственности Гусева. Но раз пошла такая пьянка…
— Что ж, ждите Деркача, он вас за это так по головке погладит…
Тень военпреда перевесила чашу в пользу Рогова, и он, забравшись в недра пульта, завис головой вниз, будто йог. Не самое удобное положение, хотя главную опасность таили маячившие перед носом латунные контакты. Хочешь не хочешь, а надо браться за них голыми руками…
Он не сразу решился: давно не проверял своих способностей. Может, они утрачены? С осторожностью коснувшись холодного металла, он почувствовал легкое покалывание в кончике пальца, и тут же успокоился. «Кашалот» принял его, позволив копошиться в своих внутренностях и давая возможность хотя бы на полчаса почувствовать себя единым целым с кораблем. Паяльник дать? Отвертку? Вопросы задавали негромко, едва ли не шепотом, Рогов же молча работал, отрешившись от уязвимых живых. Живые мешали, они были несовершенны; ремонтируй их или нет — толку не будет. А вот это устройство, где слева и справа — смерть, поможет вернуть «Кашалот» к первоначальному проектному идеалу. По ходу ремонта вдруг вспомнился черный, что прикрывал во время сумасшедших гонок на мотоцикле. Рогов вроде как призвал того в помощь, и он появился, сказав: не дрейфь, миссия выполнима! Представь: ты не имеешь внутри человеческих органов, они исчезли. А тогда пусть подключают хоть шесть тысяч вольт — тебе по фигу!
Из-за прилившей к голове крови Рогов едва не потерял сознание, когда его вытащили обратно. Если бы пультовая дала возможность подбрасывать героя в воздух, коллеги непременно бы это проделали. Но пространство позволяло лишь хлопки по плечу: ну, брат, даешь! Жарский даже ладони Рогова исследовал: остались ли ожоги? Когда же убедился в их отсутствии, развел руками: есть многое на свете, друг Горацио…
Итоги вмешательства в систему должна была отразить документация, только Сидоров никак не мог врубиться, что и где исправлять.
— Ты по жизни тупой? — раздраженно интересовался Гусев. — Мама роняла в детстве с четвертого этажа?
— Наверное… — натянуто улыбался Сидоров.
— Не наверное, а точно! Вот что, Рогов — разбирайся с ним сам, а то я за себя не отвечаю!
Во время «разборок» на него и вылили ведро елея, мол, ты здесь самый-самый, остальные погулять вышли!
— Не стоит преувеличивать… — скромничал Рогов, Сидоров же махал руками: брось, ты еще в ЛЭТИ выделялся! А ты тоже там учился?! Ну да, разве не помнишь?! Но Рогов не помнил безликую физиономию того, кто наверняка был «полупроходником», не добрав балл-другой при поступлении. Потом к неудачнику подходили люди в штатском и сочувственно улыбались: не повезло, брат? Печальное дело, но… Поправимое. Неужели?! Далее кабинет с портретом Феликса Эдмундовича, доверительная беседа с просьбой оказывать незначительные услуги, и вот уже птичка в силке. Увлеченный другими делами, Рогов мало внимания уделял серости, коей везде хватало, но кое-что знал от того же Зуппе, предупреждавшего: смотри, Всеволод, умный всегда под колпаком!
Деркач узнал о случившемся поздно. Когда он примчался в пультовую, следы ЧП уже замели, Сидоров же помалкивал, все-таки работал не на Министерство обороны, на другое ведомство.
— Да мы из-за вас в море не выйдем! — бушевал военпред. — А вы знаете, чем грозит срыв сроков?!
— Знаем, товарищ капитан-лейтенант. Только мы-то тут при чем?!
— Да у вас же что-то сгорело!
— Бог с вами, у нас все работает, как часы!
Когда Рогов продемонстрировал безукоризненную работу системы, Деркач потух: понял, что содрать канистру шила (а плата была бы именно такой) не удалось. Но гром таки грянул, и здесь уж точно не обошлось без Сидорова. Чем еще было объяснять внезапный визит гендиректора Войтецкого? В первый отдел доложил «засланец», те сигнализировали начальству, и оно, разъяренное, вскоре расхаживало в пультовой, изрыгая отборную матерщину.
— Работнички, вашу мать… Нахрен такую сдаточную команду! Накроется заказ медным тазом, и что тогда?! В тюрьму Войтецкого?! Не-ет, мудозвоны, это вы в тюрьме окажетесь!
Задев за кронштейн, Войтецкий едва не порвал пиджак и в очередной раз матюгнулся.
— Тут присесть-то можно?! — спросил с досадой (это была, кажется, единственная цензурная фраза). Сидоров притащил из рубки стул, что было кстати: толстый, с багрово-красным лицом, генеральный был похож на человека в шаге от инфаркта. Утерев взмокший лоб, он произнес:
— Короче, работнички. Обо всех неполадках я должен знать первым. Всю информацию о сбоях аппаратуры — мне на стол! И никакого, бля, геройства! Кто тут героизм проявлял? Ты? — Войтецкий ткнул пальцем в Рогова. — А ну, подойди… — Он смерил его взглядом. — С одной стороны, честь организации спас… С другой — мудак отменный! Вот если б тебя током ухайдакало, кто бы отвечал?! Войтецкий бы отвечал, а оно ему надо?!
Рогов не счел нужным разъяснять, что ему ток не страшен. Не поверили бы, да и генеральный, вопреки статусу, вдруг показался пигмеем, кричащим от бессилия и непонимания. Никто не будет отвечать за Рогова, он сам за себя ответит! А начальство сегодня орет, а завтра его и след простыл…
Еще смехотворнее начальник выглядел, когда застрял в люке. Решив сократить путь в соседний отсек, тучный Войтецкий не учел собственных габаритов, и вот уже ни взад, ни вперед! Лишь тогда стало ясно, что предыдущие лексические конструкции — детсад в сравнении с тем, на что способен гендиректор ведущего оборонного НИИ. Был шокирован даже Рогов, с младых ногтей слышавший блатную «феню».
— Это у них понт такой… — усмехаясь, пояснил Жарский. — Говорят, на планерках в Министерстве такой мат стоит — хоть святых выноси!
Вызволял начальника Палыч, в итоге генеральный даже пуговиц не лишился. Лишился авторитета, так что пришлось быстренько свернуть инспекционную поездку и укатить в Ленинград. Для Рогова же происшествие означало одно: «Кашалот» не принял того, кто руководил проектом с самого верха. Корабль не задушил начальника, лишь слегка придавил челюстями, но сигнал был понятен: ты не наш, уходи.
А через пару дней дошло известие: Войтецкий скончался после вызова в Министерство! Кто настучал в Москву, было неизвестно (мало ли бойцов невидимых фронтов!), только генеральный, выйдя в коридор после разноса за «Кашалот», пошатнулся — и носом в ковровую дорожку!
— Вот и второй трупешник… — пробормотал Гусев, когда выслушали гонца из ЭРЫ. Рогов напрягся, не желая думать про жертву — тот же был сердечник, к бабке не ходи! Но по спине все равно поползли мурашки. «Кашалот» неумолимо набирал свою чудовищную статистику, и кто будет следующий — известно только морскому монстру…
Нового генерального назначили без промедления — им оказался какой-то «варяг» из Москвы. Сдаточной команде пришла телеграмма от руководства с пожеланием удачи на ходовых и государственных испытаниях, а спустя день корабль уже вставал на воздушную подушку.
Сдаточная команда ЭРЫ пребывала в ракетном отсеке, когда включились двигатели наддува. Вначале раздался гул, перешедший в рев, потом в ужасающе громкий свист. Наблюдая за выражением лица Рогова, Жарский протянул ему наушники вроде тех, в каких слушают стереомузыку.
Надев наушники, он приник к иллюминатору, но желающих в него взглянуть хватало, и Рогов выскочил вон. Проскочив танковый трюм, что буквально вибрировал, Рогов быстро взобрался по трапу наверх и вскоре вышел на воздух.
Снаружи звук был не столь громким, как в закрытом объеме, можно было даже снять наушники. Рогов взглянул вниз и увидел, что поверхность воды, вроде близкая, начинает отдаляться и одновременно — бурлить. Было такое ощущение, что они поднимаются на воздушном шаре, и вскоре весь Котлин окажется внизу!
Движение остановилось, когда поднялись над водой метров на пять. Темную воду вокруг корабля покрывала мелкая рябь, из-под резиновой «юбки» вырывалась пена; и тут «Кашалот» двинулся вперед. Вначале тихо, чтобы не задеть другие корабли, стоявшие в доках, потом все быстрее. Когда проходили мимо «Косатки» и «Дельфина», опять начались «песни китов». Младшие собратья будто вопрошали: куда направился? Мы тебе завидуем, могучий и летучий, ты вскоре окажешься далеко, но все-таки не забывай, что без нас ты не появился бы на свет! «Кашалот» же басовито отзывался: отвянь, мелочь пузатая, отправляюсь в дальний поход!
В дамбе, которую начали строить не так давно, имелся прогал — в него и направился набиравший ход корабль. Две длинные полоски земли, что тянулись к Кронштадту, навеки приковывали остров военных моряков к берегам. Но корабли не прикуешь, они уплывут или, если хотите, улетят…
6
Выход в море воодушевил военных, убежденных, что именно они подлинные хозяева корабля. Беда была в том, что военморы слабо представляли устройство «Кашалота», напоминая человека, купившего автомобиль, а водить не научившегося. Человек включает стартер, жмет педали, с умным видом лезет под капот, однако машина не заводится. А тогда будем тормошить инструктора, дескать, учи, дяденька, скорей, очень уж прокатиться хочется!
— Так на что жать-то? На это?
Мичман Тимощук указывал на кнопку управления носовой сходней, что вызывало гомерический смех Жарского.
— Ага, жми! Чтобы на полном ходу воды нахлебаться и сразу под воду! А что? «Кашалот» — он же нырять должен, а не летать аки птица небесная!
— Извините, перепутал… — багровел моряк.
— Рогов, почему плохо обучаешь личный состав?! Хорошо, защита от дурака предусмотрена, но не ровен час…
Приставленный мичман, по идее, обязанный давно освоить систему, до сих пор в ней путался. Да и остальные путались: уровень техники был такой, что мозги выпускников военных училищ буквально вскипали в процессе ее освоения.
Между тем «Кашалот» резвился и поигрывал мускулами, не обращая внимания на человеческий фактор. Сдаточный капитан словно брал реванш за тихоходную буксировку в Кронштадт, гоняя корабль на таких скоростях, что и не снились обычным плавсредствам.
— Ты как пацан… — усмехался Палыч, глядя на Булыгина, хотя было видно: бригадир доволен. Недоволен был капитан первого ранга Востриков, который номинально командовал кораблем, но за штурвалом сидел редко. Небольшого росточка, верткий и нервный, Востриков расхаживал по рубке, то и дело прикладывая к глазам бинокль или бессмысленно пялясь в экран локатора.
— Не понимаю, — бормотал он, — почему в рубке посторонние?!
Бригадирские брови тут же ползли вверх.
— Это кто посторонний?! Мы?! Да ты, сынок, еще под стол пешком ходил, когда я такие корабли клепать начал! И они, — Палыч указывал на итээров, что толпились в святая святых, — не посторонние, потому что своими ручками здесь все сделали! Короче, командовать будешь, когда госиспытания пройдем!
Униженный каперанг покидал рубку, что полностью развязывало руки штатским, получившим такую классную игрушку, как летающий суперскоростной корабль. Любимым развлечением были гонки вдоль береговой линии — там, где к заливу выходило Приморское шоссе с мчащимися по нему «Жигулями» и «Волгами». Булыгин приноравливался к режиму самой быстрой машины, шел с ней вровень, когда же замечал, что водила прибавляет (азарт!), тоже прибавлял. Скорость автомобиля во время гонок могла дойти до 140–150 километров в час, и все равно корабль, наигравшись, как кошка с мышкой, с легкостью вырывался вперед, чтобы скрыться в облаке мелких водяных брызг…
«Кашалот» пересекал Финский залив, затрачивая на это не часы, как другие корабли, а минуты: тесноватая была акватория. Вырваться на простор Балтики, однако, мешал приказ не покидать территориальные воды. Как покинешь, когда не пройдены испытания с полной загрузкой техники?
Теперь корабль базировался на полигоне: нарезвившись, перед закатом он выползал на пустынный песчаный пляж возле Приморска, где и проводил ночь. Из расположенной неподалеку воинской части должны были прибыть тяжелые танки для загрузки внутрь, но техника по каким-то причинам задерживалась, и сдатчики коротали время в меру изобретательности. Гусев зачастил в лес, откуда приносил грибы и незабываемые впечатления.
— Здесь же запретная зона, — говорил, развешивая сушиться боровики, — Грибников нет, поэтому дары леса хоть косой коси! А еще тут остатки укреплений финских, ну, линия Маннергейма. Если хотите, могу показать.
А Жарский полюбил удить рыбу с камней. Раздобыв где-то снасти, он прыгал с валуна на валун, чтобы оказаться подальше от берега, закидывал удочку и стоял, как статуя, до темноты. Его трофеи были скромнее, нежели гусевские, но тут важен был сам процесс. Рогов же увлекся фотографированием, причем подпольным. Он давно мечтал сделать несколько эффектных кадров «Кашалота», и вот, наконец, представилась возможность, каковой не было ни на стапеле, ни в Кронштадте. Секретный, как ни крути, объект, а значит, фото нужно делать в таком же секретном режиме.
Рогов прогуливался вдоль берега, швыряя камушки в воду, всем своим видом изображая безмятежную праздность. Когда же убеждался, что за ним не наблюдают, доставал «ФЭД» из-под куртки и, направив объектив на корабль, нажимал кнопку спуска. Он фотографировал от живота, не прикладывая аппарат к глазам (что было бы наглостью), но надеялся на хорошее качество снимков. Хотелось оставить память о своем первом корабле, красавце «Кашалоте», который особенно выигрышно смотрелся именно на берегу. Серая громада, выползшая из моря, выглядела сюрреалистически. Это действительно был морской зверь, улегшийся брюхом на песок, чтобы передохнуть, а завтра опять подняться над землей, вздымая тучи песка, и уйти бороздить родную стихию…
В обеденное время, когда корабль пустел, удалось сделать несколько снимков прямо на борту (жаль, света было маловато). А вскоре ему посчастливилось снять единственную в своем роде сцену.
Пляж, на котором ночевал «Кашалот», с одной стороны ограничивался водой, с другой — плотной стеной хвойного леса. И когда однажды утром из-за елок на желтый песок выехали танки, очевидцам стало не по себе. Вроде технику ждали, даже ругали танкистов, мол, кота за хвост тянут, однако шеренга боевых машин, ощерившихся пушками, пугала: казалось, на морского зверя решила напасть стая зверей сухопутных, и на чьей стороне окажется перевес, было непонятно.
По счастью, фотоаппарат был заряжен: Рогов сфоткал технику на исходной позиции, на пути к кораблю, а «флагманский» танк удалось снять на сходне, когда тот заползал в танковый трюм. Эти звери, по замыслу создателей, должны были жить в симбиозе. Есть рыбы, что вынашивают мальков во рту; вот и здесь наблюдалось что-то похожее: базируясь в чреве корабля, танки могли выползать на берег, но в случае чего имели возможность нырнуть обратно в корабельную пасть.
Когда Рогов взошел на борт, машины крепили тросами к специальным скобам, а экипаж уже знакомился с танкистами. Черные и цвета хаки военные общались с шутками-прибаутками, как и положено представителям разных родов войск.
— Не утонем вместе с вами?
Танкисты озирали темный объем огромного трюма.
— Нет, — отвечали военморы, — не утонете. Разобьетесь — мы же летающий корабль!
За шутками прятались реальные происшествия: на «Косатках», говорили, БМП во время шторма запросто рвали крепления, круша все на своем пути; и людей давили, и обшивку пробивали. А одна на всех беда (пусть пока гипотетическая) сближает, как ничто другое.
Штатские тоже внесли свою лепту в процесс сближения, выкатив спирт, по достоинству оцененный командиром танкового подразделения Корягиным. Коренастый майор с обветренным красноватым лицом крякнул, когда поднесли, и пробормотал:
— Сила…
— Шило, — поправил Гусев. — Еще порцию?
— Ребят моих угостите, они из машин несколько часов не вылезали…
Следующий выход в залив был самым серьезным — «Кашалот» испытывался при полной загрузке техникой. И прошло испытание блестяще. Тяжеленные машины лишь слегка подрагивали, натягивая стропы крепления, ни одна даже с места не сдвинулась. А сам корабль, казалось, и не заметил, что проглотил сотни тонн брони, по-прежнему порхая над волнами и обгоняя несущиеся на полной скорости автомобили.
Этот аттракцион особенно поразил Корягина.
— Сила… — бормотал он, оглядываясь на безнадежно отставшие «Жигули». А Булыгин победно усмехался:
— Это тебе не на гусеницах ездить! Воздушная подушка — не хухры-мухры!
Если в море соблюдали сухой закон, то береговая жизнь сопровождалась возлияниями. Бывало, и двое суток отсиживались на полигоне, и трое, ожидая радиограммы, а чем тогда заниматься? Закуски в окрестных лесах и в заливе водилось немерено, а насчет выпивки просвещали танкисты, благо их часть располагалась неподалеку, и все окрестные деревни были под контролем.
— В Лужках отличный магазин! — утверждал Корягин, маханув очередную порцию спирта. — Водка есть, вино крепленое, даже пиво свежее завозят!
Военные и штатские вроде не страдали от недостатка спиртного, но майору, который был вроде как на подхвате, требовалось вылезти на авансцену.
— Не верите? Щас смотаемся, тут близко!
Во время простоев танки, бывало, выползали на берег, имитируя высадку десанта, да там зачастую и оставались. Нетвердым шагом приблизившись к одной из машин, майор посовещался с водителем, махнул рукой: за мной! — и полез на броню.
— Не хочешь прокатиться? — толкнул плечом Жарский.
— А ты?
— Я накатался в свое время, а тебе в новинку…
— Я хочу! — поднялся громила Зыков. — Внутрь не заберусь, а на броне — можно!
Рогов был нетрезв, да в том-то и задор — по трезвости и майор сидел бы на заднице ровно. А тут прямо комдив Чапаев: высунулся по пояс из башенного люка и машет танкистским шлемом, будто папахой!
Спустя минуту боевая машина была облеплена желающими ехать в Лужки. Майор хлопнул по крышке люка.
— Вперед!
Езда была веселой. Пассажиры перешучивались, когда подпрыгивали и ударялись задами, а Зыков, светя красной физиономией, напевал что-то типа: «Пое-едем, красо-отка, ката-аться…» Рогова внезапно унесло в прошлое, где он догонял плавающую машину и влезал на броню, чтобы распластаться на разогретом металле и вместе с железным чудищем плавать по карьеру. В глубине успокаивающе гудел могучий мотор, а издали за ним наблюдала самая лучшая в мире девчонка. Хорошо бы, чтоб и сейчас наблюдали, конечно же, с восхищением. Только откуда взяться женщине? Здесь воцарилась мужская стихия, в воздухе пахло соляркой, разогретым железом, спиртом, смертью — чем угодно, только не женщиной…
«Т-90» тормознул у одноэтажного дома с вывеской «Продукты». Броня оголилась, башня вздрогнула, начала вращаться влево, чтобы устремить ствол в магазинные окна.
— Заряжай! — прокричал Корягин. — По складу горячительных напитков… Бронебойным… Пли!
Дверь приоткрылась, в проеме мелькнуло испуганное женское лицо и тут же скрылось. Когда ввалились в магазин, там было пусто. На полках теснился немудрящий продуктовый набор: хлеб, каши, килька в томате, маргарин, само собой — водка и портвейн, только людей не было видно.
— Где продавцы, мать вашу?! — стучал майор по прилавку. — Советская армия за провиантом приехала!
— Чтоб эта армия провалилась! — отвечал из магазинных недр визгливый голос. — Не выйду, пока пушку вашу не уберете!
Военные гоготали (шутка удалась!), снимали с полок выпивку-закуску, а Корягин, взяв счеты от кассы, подсчитывал нанесенный торговой точке ущерб. Мы, говорил, не какие-нибудь партизаны, мы регулярное подразделение! А значит, все должно быть по-честному, копеечка в копеечку! Высыпав на прилавок груду мятых купюр и мелочи, майор крикнул:
— Хозяйка, мы в расчете! Не веришь — иди считай!
— Да чтоб вам пусто было с вашими деньгами! Уматывайте отсюда, дармоеды!
Зыков укладывал запасы в сумку.
— Вы не правы, уважаемая! — басил он. — Мы не дармоеды, мы — кузнецы оборонного щита!
— А мы, — вторил Корягин, — хозяева оборонного меча! Щит и меч! Иначе говоря: с чего-о начинается ро-одина?! С картинки в твоем букваре-е-е…
— С хороших и верных това-арищей, — подхватили незваные гости, — живущих в соседнем дворе-е…
На танк взбирались под аккомпанемент задушевной советской песни. По ходу пели «Броня крепка, и танки наши быстры», «Три танкиста, три веселых друга», а еще детскую песенку «Голубой вагон», где слова переиначили на милитаристский лад. Помнилось, Рогов прихлебывал портвейн из горлышка, и тянул козлетоном припев: «Ска-атертью, скатертью хлорциан стелется, и забирается под противогаз. Каждому-каждому в лучшее верится, падает-падает ядерный фугас…»
В тот момент женщина исчезла, растворилась в атмосфере веселого беспредела. Они были чем-то вроде пряжской кодлы, осознавшей свою силу и безнаказанность: вроде взрослые люди, со звездами на погонах, дипломами и степенями, а копни глубже, найдешь того же приблатненного подростка с поджигой или обрезом, готового стрельнуть просто так, забавы ради. А может, потому, что у мужчин так было принято испокон веку…
Остального Рогов не помнил, очнулся уже утром. Он не сразу понял, почему в его вещах роется Востриков и какой-то лейтенант.
— Нашел?
— Три кассеты, товарищ капитан первого ранга… И в фотоаппарате еще одна.
— Изъять! — скомандовал каперанг. — А вы потрудитесь встать и пройти с нами!
Принюхавшись, Востриков приложил к носу платок.
— Ну и запашок у вас… А это что?!
Только теперь командир заметил бутылки, торчавшие из тыльной части РБУ.
— Безобразие полное… Ладно, одевайтесь, ждем вас за дверью.
А с Рогова даже хмель вчерашний слетел, в мозгу пульсировало одно: попал! Не заметил опасности, фотограф хренов, теперь поди докажи, что не имел никакого умысла, для памяти снимал…
«Тройка» собралась в кают-компании: кроме Вострикова, за столом присутствовали Булыгин и Жарский, представлявший ЭРУ. Двое против одного, если разобраться, зато у этого одного такие аргументы за пазухой — мама не горюй! Сидевший в сторонке Рогов поглядывал на капитана первого ранга, и видел, что ничего хорошего ему не светит. «Ужо я вам!» — было написано на лице начальника, который даже ладони потирал в предвкушении экзекуции. Похоже, за унижения Вострикова, так и не ощутившего себя командиром, расплатиться должен был утративший бдительность Рогов…
Обсуждение превратилось, по сути, в торг. Востриков делал вид, что крайне озабочен утечкой секретов, и давил на то, чтобы передать информацию о проступке (проступке ли?) в соответствующие органы. Сдаточный капитан морщился и крякал: да парень сдуру это нащелкал! Засветите вы эти пленки, и дело с концом! Жарский же давил на то, что цена вопроса — сроки вхождения в ряды ВМФ новейшего ударного корабля. Почему? Потому что незаменимые люди есть, и один из них сидит перед вами. Не обращайте внимания на испуганный вид, на его дрожащие конечности, на самом деле они сделаны из драгметалла высшей пробы! И если мы выведем этого неопытного юношу из состава сдаточной команды, я снимаю с себя всякую ответственность. А тогда, товарищ Востриков, вряд ли вам светит командование новейшим ударным кораблем, срыв сроков вам не простят!
— Но надо что-то делать! — нервничал каперанг. — Что-то же делать надо?!
— А вы проявите пленки, убедитесь, что это любительская съемка, и оставьте человека в покое. А? Вы же изъяли кассеты с вашим штатным фотографом, пусть он этим и займется…
Тот офицер действительно фотографировал «Кашалота», делая это, понятно, легальным образом. Ему и передали кассеты, чтобы спустя несколько часов напрочь забыть о проступке.
Почти на всех снимках, предоставленных военным фотографом, просматривался характерный белый силуэт, вроде как человек в парадной морской форме, стоящий рядом с кораблем на берегу. Или в трюме; или на трапе, ведущем из трюма наверх. Подробностей (черт лица, обмундирования и т. п.) разглядеть было нельзя, так что при желании силуэт можно было счесть бликом или следствием брака при обработке. Но очень уж абрис был четкий, и практически на всех фотографиях — одинаковый по размеру.
— И что это значит? — говорил Востриков, раскладывая снимки на столе. — Откуда это пятно?
— То и значит… — проворчал Булыгин. — К неприятностям надо готовиться.
— К каким еще неприятностям?!
— К серьезным. Белый мичман просто так не появляется…
— Ничего не понимаю… Где вы видите мичмана?! Да еще белого?!
Жарский указал на силуэты.
— Вот он. И здесь тоже он. И здесь… Неужели не слышали о том, что он появляется на летающих кораблях?
— Чушь какая-то… Брагин, что это такое?
Вопрос адресовался фотографу, что держал в руках пачки со снимками.
— Может, проявитель плохой? — пробормотал тот. — Но ведь остальные части снимков — четкие!
Востриков обвел всех понимающим взглядом.
— Сговорились, значит? Решили отмазать этого сопляка? Ну, Брагин, от кого-кого, а от тебя…
— Да я ничего, товарищ капитан первого ранга… Честное слово, проявитель! Или закрепитель; вот только непонятно, почему пятно везде одинаковое…
Сошлись на том, что пятно появилось во время сушки снимков на глянцевателе. Это, мол, след от дефекта на зеркальной поверхности, потому и форма схожая. А Рогов с тоской чувствовал: объяснение явно дежурное. Дефект предполагал нахождение пятна в одном и том же месте, силуэт же мог располагаться и посередине, и с левого края, и с правого…
— Ну ладно, — примирительно сказал Жарский. — Главное, вы убедились, что фотографии любительские, да еще бракованные. Уничтожьте их, и дело с концом!
— Я подумаю, — поколебавшись, проговорил Востриков. — Пока не будем давать делу ход, но если обнаружится что-то подобное…
Когда вышли из кают-компании, Жарский потрепал Рогова по плечу.
— Поздравляю. С другой стороны — с чем поздравлять?
— Вот именно… — озабоченно проворчал Булыгин.
К вечеру корабль гудел слухами о дурном предзнаменовании. Прошедшие сдачу «Косатки» и «Дельфина» качали головами: или взрыва жди, или утопленника, или еще чего. Помнишь, как было? Тогда турбина наддува сорвалась с креплений и такого наделала!
Палыч специально пришел взглянуть на Рогова, сделавшегося героем дня.
— Разбудил лихо? — спросил бригадир.
— Я-то при чем? — смутился «молодой».
— Ладно, шучу. Ты, главное, осторожней будь. Беда — она дурака ловит, умный краем отходит…
Теперь «Кашалот» представлялся загадочным и пугающим, он что-то в себе таил, и кого следующего он выставит дураком, было неясно. Испытания на заливе продолжались, было несколько ночных выходов с полной загрузкой, но никаких ЧП не случалось, и «знак свыше» постепенно забылся…
7
Это было возвращением в юность, когда Севка Рогов гонял по улицам Пряжска, поплевывая на гаишников. Только мотоцикл был другой, намного мощнее, да еще вооруженный пушкой. Песок, грязь, болото — мотоциклу по фигу, он наверняка достигнет заветной цели, к которой стремится. Далеко ли до цели? Рогов притормозил возле указателя с надписью «Лужки 3 км» и опять дал по газам. Рукой подать! Денег, правда, не было, но зачем деньги, когда есть пушка?
Подъехав к домику с вывеской «Продукты», Рогов развернул ствол в окна.
— Эй, есть кто-нибудь?!
Никто не отзывался. Пришлось слезть с мотоцикла и, приложив ладони к стеклу, заглянуть в окно. Различив силуэт за прилавком, Рогов отпрянул — черт, он-то откуда?! Здесь должна быть продавщица, а белому мичману в магазине делать нечего!
Оглядываясь, Рогов быстрым шагом направился обратно, залез на сиденье и резко надавил педаль стартера. Не заводится! Раз за разом он давил педаль, боясь взглянуть на дверь, из которой в любой момент могла показаться беда. Мотор, наконец, затарахтел, и Рогов рванул с места так, что грязь фонтаном брызнула из-под колес.
Он мчал по лесной дороге с сумасшедшей скоростью, на поворотах почти касаясь земли. Что там в зеркале заднего обзора? Надо же: «Кашалот»! Откуда он взялся в лесной глуши?!
Рогов прибавил газу, только амфибия не отставала: не умещаясь на узкой грунтовке, она ломала по обочине сосны, будто спички, и, похоже, приближалась. А тогда и пушка не выручит, перед корабельным вооружением она как «поджига» перед пушкой! Он выкручивал ручку до максимума, но когда оглядывался, видел корабль все четче, уже различая в рубке человека в белом кителе. Догоняет, сукин сын!
Вскоре впереди мелькнул просвет. Рогов ожидал, что выскочит на песчаный пляж, а оказался на огромной свалке, по которой бродил — кто бы вы думали? Жарский!
— Эй, ты чего тут делаешь?! — прокричал Рогов, соскакивая с мотоцикла.
— Я? Сторожу этот ад. Мы же договорились: создания наших рук после утилизации попадают в технический ад.
Рогов повернулся к лесу.
— Не до этого сейчас! Там белый мичман!
— Так он тоже здесь сторожем. Вроде как сменщик мой.
Жарский взглянул на часы.
— Кстати, сменщик что-то задерживается…
— Ну да, задерживается! Знаешь, как он меня сейчас по лесу гнал?! Он же корабль захватил!
— Не перегибай палку, Рогов. Он просто ведет «Кашалот» на кладбище, потому что пора.
— Как, и «Кашалоту» пора?! А я думал…
Пробуждение было мгновенным, причем спал он явно не в отсеке. Где? Понимание пришло, когда пытаясь встать, звезданулся головой. Похоже, залез под второе дно. Что не удивляло: накануне крепко поддали гусевской настойки, от которой крышу сносило на раз. Придумал, ботаник хренов, ягоду какую-то в спирт добавлять! А что это за ягода, не сказал, может, волчья, после нее в башке такое творится!
Кажется, о техническом аде, куда попадают после гибели плоды рук человеческих, вчера говорил Жарский. Мол, когда-нибудь и «Кашалот», и танки, наполнявшие трюм, попадут на свалку или пойдут под автоген, а в том мире окажутся в своем аду! А майор Корягин полез в бутылку: не трожь наши «Т-90», лучшие танки в мире! И бабы наши — лучшие в мире! О бабах речь зашла потому, что к военным в гости зачастили молодые женщины из соседней деревни, кажется, тоже принимавшие участие в пьянке. Или женщины были позавчера? Треклятая ягода вытворяла с воображением такое, что выдумка или сон делались ярче и убедительней реальности. Вот с чего вспомнились гигантские крысы, о которых говорил Палыч? Их на «Кашалоте» не видели, а кажется, в дальнем углу, за шпангоутом поблескивают светящиеся глазки. Ну да, стоит, зараза серая, чего-то ждет, и страх холодком по спине, будто за ворот плеснули холодной воды…
Когда глаза привыкли к темноте, он различил абрис люка и поспешил вылезти. Спустя минуту он утолял жажду, приникнув к кранику котла на камбузе. А еще минут через пять сбежал по сходне на берег.
Они все больше отдалялись от жизни, привычной для большинства, погружаясь в свою особенную жизнь. Проверка аппаратуры, рев турбин, выход в море, эксплуатация на предельных нагрузках, вибрация корпуса, дрожание натянутых тросов, которыми крепились танки; и опять рев, вибрация и курс на берег, на который морское чудище выползало, ничуть не устав. Чудище могло летать над волнами денно и нощно, только керосин в емкости вливай; и люди, будто стесняясь своей усталости, немощи, бренности, устремлялись вдогонку, подхлестывая себя спиртом (да еще и дурь в него добавляли). Они не должны были отставать, по сути, превратившись в ходячие придатки механизма, который сами же создали.
Следующий выход в залив омрачился неожиданным происшествием. Рейс был ночным, хотя разгонялись не меньше, чем в дневное время. Залогом безопасности были: а) точнейшее навигационное оборудование, б) предупреждение об опасности, которое рассылалось другим плавсредствам. Гражданским судам вообще нельзя было заходить в тот район, но ведь нашим людям писаные законы — не указ.
Удара не почувствовали, просто мелькнуло что-то в луче носового прожектора, вроде как лодка. На всякий пожарный сделали разворот, вернулись обратно на малом ходу, а на воде — ошметки от «Казанки» (как выяснится позже), и какой-то придурок с окровавленной башкой среди них плавает! Тут же спустили мотобот, придурка подняли на борт, радуясь, что уцелел; да только рано радовались: двое других, удившие с ним рыбку, отправились ее кормить.
Скандал, понятно, переговоры по рации с берегом, вызов водолазов, ментовский катер, на который пересадили незадачливого (удачливого?) рыбачка, а еще ругань между Востриковым и Булыгиным, едва не перешедшая в драку. Капитан первого ранга по-прежнему был отлучен от штурвала, но в навигацию влезал, предлагая тот или иной курс. Роковой ночной маршрут тоже разработал Востриков, из-за чего сдаточный капитан обложил его матюгами.
— Этот квадрат запрещен для гражданских судов, — нудил Востриков, утирая трясущейся рукой пот. — Они сами виноваты! А на вас я напишу рапорт за оскорбления!
— Пиши, что хочешь, только не лезь, куда не просят! Здесь всегда судака ловят, причем на таких корытах, какие ни в один локатор не углядишь!
Рогов же, слушая перепалку начальников, все больше уверялся: корабль просто-напросто сожрал еще парочку жизней. Это были посторонние жизни, только «Кашалоту» все равно, кого хавать, на то и хищный кит.
Когда под утро выползли на берег, спать никому не хотелось. Гусев вытащил из рундука настойку.
— Будете? Созрела вроде…
— Давай… — отозвался Жарский. Когда темно-красная жидкость была разлита, он поднял стакан:
— В общем, рекорд «Дельфина» побит.
— В каком смысле? — не понял Рогов.
— Там было три покойника, у нас четыре. Да, не зря на твоих снимках этот белый мелькал…
— Хочешь сказать, я накаркал?
— Ничего я не хочу сказать. Просто валить надо на морские просторы, а то еще кого-нибудь в этой луже утопим…
Лесная ягода плюс бессонница со стрессом превращали опьянение в сюрреалистический аттракцион. Количество стволов РБУ, из которых там и сям торчали бутылочные днища, удвоилось, потом утроилось, да и Жарских тоже стало трое. А главное, эти Жарские говорили по-разному! Один утверждал: кораблю пора на Балтику! Другой возражал, мол, программа еще не завершена! Какая еще программа?! — горячился третий. Программа по «жмурикам», отвечал первый. Надо ведь не только «Дельфина», еще и «Косатку» опередить! А потом грянуть песню китов на три голоса, когда тубе подпевают саксофон с кларнетом!
Не обращая внимания на Рогова, троица продолжила спор, он же незаметно покинул отсек. Он бродил по кораблю и не мог понять: страшно ему, или, напротив, он восхищен этой безжалостностью? Легче было пасть ниц, сказав: воля твоя, могучий «Кашалот», бери свои жертвы, если без них нельзя, только меня, сирого да убогого, не трожь. Но где гарантия, что молитва зачтется?!
Наружу выгнал победивший страх. Вскоре Рогов стоял у просеки, что клубилась утренним туманом, из-за чего лес казался таинственным и опасным. На прошлой неделе, встретив вышедшего из леса Гусева, Рогов поинтересовался:
— С трофеями?
— Есть маленько… — ответил тот. Кошелку наполняли ягодки, от которых мир вставал с ног на голову. А может, наполнялся подлинным смыслом, на сей счет Рогов пребывал в сомнении.
— Где, ты говорил, линия Маннергейма? Доты, траншеи, весь этот укрепрайон…
— Прямо иди, вдоль просеки. Через полкилометра вправо сверни, вглубь леса, там и увидишь.
Зачем было смотреть бетонные развалины, Рогов не понимал, но все равно двинулся в лес, как сомнамбула.
Он ступил на тропку неуверенно, чтобы вскоре остановиться. Надстройка и винты с насадками маячили над зарослями кустарника и будто взывали: ты куда, Дедал? Научил летать Икара-Кашалота, а теперь сбегаешь?! Решительно двинувшись вперед, он прошагал примерно полкилометра, после чего свернул в чащу. И сразу движение замедлилось: тропка исчезла, под ногами захлюпало, а по лицу стали хлестать колючие ветки. Он отводил руками еловые лапы, выбираясь туда, где посуше, только и там — кочки да валежник, не разгонишься.
Лес поредел, когда путь пошел в гору. Это был холм, на вершине которого серело что-то бесформенное, но если приглядеться — явно сотворенное человеком. Могучие бетонные перекрытия покрывал зеленый мох, поверху рос мелкий кустарник, но сомнений не оставалось: это были развалины дота, установленного в правильном месте — на высоте. Не дураки были финны, да и Маннергейм, надо думать, не филонил занятия в царской военной академии. Рогов обходил сооружение по периметру, понимая: тут с какой стороны ни зайди — везде смерть найдешь.
Внезапно он почувствовал чье-то присутствие: вроде силуэт впереди мелькнул, чтобы тут же скрыться за развалинами. Облизнув пересохшие губы, Рогов двинулся следом, и опять показалось, что увидел кусок камуфляжа. Еще не выветрившийся дурной хмель притуплял страх, и Рогов кружил вокруг развалин, стремясь догнать того, кого, возможно, вовсе не было. Надо взобраться наверх! Рогов залез на первую плиту, послужившую гигантской ступенью, на вторую, и вскоре уже озирал окрестности с вершины бывшей огневой точки. Справа никого, слева тоже, но стоило повернуться, как увидел, кого хотел.
— Эй!
В лесной тишине крик прозвучал громко, однако человека в брезентовой штормовке, медленно уходившего в глушь, не остановил.
— Я к вам обращаюсь! Стойте!
Силуэт исчезал, сливаясь с деревьями, хвоей, листвой, так что пришлось спешно спрыгивать с плит. По ходу Рогов долбанулся коленом, только некогда разглядывать ушиб: прихрамывая, он устремился за беглецом.
— Стойте, вам говорят!
Он почти догнал того, кто шагал впереди. Догнал, а вот перегнать не мог, так и плелся сзади, видя перед собой лишь накинутый на голову капюшон штормовки.
— Вы что здесь делаете?! Отвечайте!
— А ты что здесь делаешь? — прозвучал ответный вопрос. Голос был на удивление спокойный, в то время как Рогов нервничал.
— Я сдаю корабль!
— Кому сдаешь?
— Кому, кому… Кому надо! У меня пропуск есть в запретную зону! А у вас есть?
— Мне не нужно пропусков.
— Как это — не нужно?! Здесь всем нужно, даже жители Лужков — и те с отметкой в паспорте!
Незнакомец продолжал двигаться ровным шагом, не останавливаясь и не оглядываясь. Кто он — грибник? Охотник? Егерь? Рогов несколько раз делал попытку вырваться вперед и встать на пути, только битая коленка, увы, мешала. Утомившись, он остановился, чтобы выкрикнуть в спину:
— Вам не положено здесь находиться!
Идущий впереди тоже встал.
— Мне не положено?! Это тебе, родной, не положено здесь находиться. Ты здесь чужой. Посмотри вокруг: это все не твое. Жизнь — не твое, тебе хорошо только на твоем корабле. Поэтому тебе лучше вернуться, иначе пропадешь.
— Да кто вы такой, чтобы давать мне советы?! Я сам знаю, что для меня лучше! И вообще повернитесь, когда с вами разговаривают!
Но загадочный грибник не оборачивался, он уверенно двигался своей дорогой, уходя дальше и дальше. Напрягшись изо всех сил, Рогов ринулся вперед, прямо по валежнику, даже ветви, хлеставшие по лицу, не отводил. Догнать лесного человека, встряхнуть за грудки и отвести к Вострикову, пусть выслуживается за счет таких нарушителей режима! Внутри же зрела отчаянная мысль: это не нарушитель, кто-то другой, говорящий на ином языке, из-за чего диалог не просто труден — невозможен!
— Постойте! — беспомощно прокричал он в спину, уже еле заметную среди стволов. — У меня есть вопрос… Он часто будет являться?
— Кто? — донеслось из чащи.
— Сами знаете кто.
Последовала пауза.
— Часто. И не только тебе. Но ты не поймешь, почему будет являться, пока…
Последние слова были съедены ветром, налетевшим внезапно и начавшим раскачивать кроны деревьев. Рогов вслушивался в ожидании заветных слов, но ответом был только шум волнующегося леса. И силуэт пропал; и уже накатывали сомнения: а не глючит ли его после адовой настойки?
На обратном пути внезапно накатил страх, какого не было даже во время погони. Вокруг действительно шумела и шелестела чуждая стихия, каковую он давно забыл, а может, и не знал никогда, с детства предпочитая пугающему Пряжскому лесу — горелую свалку. Запахи теплого железа и жженой резины были роднее, чем ароматы прелой листвы, хвои, смолы на сосне, и сейчас тоже хотелось на корабль, с которого вроде недавно сбежал. Прибавив шагу, Рогов двигался наугад, не разбирая дороги, оглядывался, будто за ним гналась стая волков, в себя же пришел только на просеке.
«Жизнь — это не твое…» — всплыло в мозгу. Рогов вытер со лба пот вместе с налипшей паутиной. Да, не мое! Гори она огнем, жизнь, если от нее только кровь на коленке да дрожащие исцарапанные руки!
Еще больше он уверился в отвращении к этой стихии, когда почти добрался до берега. В негустой лесополосе, что тянулась вдоль пляжа, он заметил группу матросов-срочников, что стояли, плотной стеной обступив что-то или кого-то. Все были увлечены настолько, что подошедшего никто не заметил, так что первым желанием было пройти мимо. Рогову уже приходилось наблюдать за разборками старослужащих с молодняком, один раз он даже вмешался, и здесь, похоже, было то же самое.
Его остановил стон, вроде бы женский. Он нарушил тишину леса, заставив приблизиться к стене из черных бушлатов, за которой что-то происходило. Неожиданно стена раздвинулась, и оттуда вышел, пошатываясь, матросик: рассупоненный, он натягивал полуспущенные штаны, затем взялся запихивать в них тельняшку. В просвете мелькнуло белое тело, распяленное на земле, точнее, на таком же бушлате. Спустя несколько секунд на белое улеглось черное, и это совмещенное существо начало ритмично двигаться, постанывая и провоцируя выкрики окружающих. Еще один протяжный стон, и опять смена черного на белом, в то время как остальные приплясывали в нетерпении, подстегивая возбуждение скабрезными репликами.
Наверняка это была одна из деревенских, таскавшихся к военным за понятными утехами. В окрестных деревнях нормальных мужиков не осталось, либо алкаши, либо в город свалили на заработки, а женщина есть женщина, у нее зудит в одном месте, а значит, можно отдаться сразу взводу или, если по-корабельному, целой БЧ[4].
Об этом, впрочем, Рогов подумает позже, а в тот момент он вдруг почувствовал неодолимое отвращение к жизни, что пыхтела, хрипела, выпрыскивала сперму, в общем, всячески стремилась себя продолжить и приумножить. Это была грязь, несовершенство, какое-то бурление биомассы, а не жизнь, по большому счету. Молодые парни (оказалось, и танкисты тоже) по очереди укладывались на неутолимую давалку, Рогов же ощущал рвотные позывы, как когда-то в подвале, где ему предложили поиметь Нинку. Такое же отвратное быдло подмахивало сейчас одуревшим от похоти военным, и брезгливость мешалась с возмущением, и хотелось одного — поскорее сбежать…
Он с трудом сдержался, чтобы не доложить обо всем Тимощуку, что по-прежнему путался в кнопках. Не можешь — не мучай, занимайся своими прямыми обязанностями: воспитывай личный состав! Бром наливай в компот, гоняй их по плацу до смертельной усталости (хотя где на полигоне — плац?), в общем, работай, мичман!
— Вы что-то сказали? — поднял голову Тимощук — он записывал химическим карандашом полученную минуту назад информацию (так мичман лучше запоминал).
— Я сказал?! Ничего я не сказал…
— А почему в закрытой зоне по лесу ходят посторонние? Тут же секретные объекты!
— Понятия не имею, — пожал плечами Тимощук. — Мне по лесу ходить некогда, дай бог с этим железом разобраться…
Спасением, как всегда, послужили перемены. Программа испытаний на Приморском полигоне была выполнена, и вскоре они уже прощались с танкистами, с неохотой покидавшими «Кашалота». «Т-90» медленно скатывались по сходне, опустив пушки — вроде как носы повесили от уныния. А Корягин, что командовал выгрузкой машин, прощался с экипажем.
— Пока, братки… Если понадобимся, вы только свистните…
— Свистнем, а как же! — отвечали военморы. — Как без вас Швецию завоюешь?
— Вот именно! — майор хлопал каждого по плечу. — Хотя для начала надо финнов к ногтю. Они с нами еще за зимнюю войну не расплатились!
Веселья добавила милицейская машина, выехавшая на пляж и застрявшая в песке. Двое милиционеров, что вылезли оттуда, поначалу замерли в изумлении. Гигантский корабль, полтора десятка бронированных машин — и жалкий «уазик», смотревшийся посиневшим цыпленком рядом с соколами и орлами!
Но вскоре милиция уже трясла бумагами перед носом начальства.
— Какой магазин?! — отмахивался Востриков. — Какая продавщица?! У меня выход в море через полчаса! Майор, разберитесь с претензиями!
— Разберемся… — отвечал Корягин.
Когда «Кашалот» вставал на «подушку», разборки на берегу на время прекратились. Рогов видел из рубки, как придерживали фуражки милиционеры, махали пилотками танкисты, и по пляжу неслись песчаные вихри.
— Ну что, скоро будем в Балтийске? — спросил он Палыча, по случаю отплытия тоже поднявшегося наверх. Бригадир хмыкнул.
— Скоро только кошки родятся! Не знаю, когда придем в этот Балтийск. И придем ли вообще?
8
И в то же время на берегу оставался Мятлин. А он дремать не будет, наверняка опять зазовет куда-нибудь Ларису, чтобы изображать из себя крутого. Раньше тот примерял ореол гонимого (диплом не давали защищать), теперь же, почуяв запах перемен, воспарил, и на лбу читалось: падай ниц перед звездой андерграунда!
— Давай-ка в одно место сходим, — сказал он во время последней встречи.
— В какое место?
— В хорошее. Тут недалеко, не бойся.
Он притащил Рогова в подвал на улице Салтыкова-Щедрина, где сидели бородатые и волосатые люди. Здороваясь с Мятлиным, они приглядывались к спутнику: что за фрукт? А Женька с усмешкой пояснял: «друг детства», косясь на Рогова, мол, не возражаешь против друга? Подвальная публика, если верить Мятлину, обладала невероятными талантами, являясь солью земли, а заодно честью, умом и совестью эпохи.
— Этот кто? Художник. Очень интересный! На Западе его работы очень ценят, а вот в совке не дают выставляться… А это один из самых известных поэтов. Не слышал?! Да ты что, он же звезда самиздата!
— Я не читаю самиздат.
— Ах, да, я же забыл… Ладно, могу подкинуть, если с возвратом.
— Спасибо, как-нибудь в другой раз.
В подтексте сквозило: и я не пальцем деланный, тоже соль, ум, честь, а также путь и истина. А на сборище тем временем шли сумбурные выступления: бородачи камлали насчет новых возможностей, каких-то выставок, коллективных сборников… Энергия в подвале бурлила, напоминая брожение браги в банке, на которую надета резиновая перчатка. Вначале та вялая, обмякшая, потом начинает надуваться, а в стадии созревания уже вовсю сигналит: напиток готов! Глаза людей горели, они спорили и даже ругались насчет доверия нововведениям. То есть одни призывали оседлать новые тенденции и воспользоваться послаблениями, другие высказывались скептически, мол, очередная замануха власти, каковая на самом деле ничего хорошего дать не может. Женьку тоже просили высказаться, но тот махал руками: потом! Он то и дело поглядывал на часы, затем вдруг попросил две копейки, чтобы позвонить из автомата.
Все объяснилось, когда в подвале возникла Лариса. Она сразу привлекла внимание: женщин было мало; да и будь их много — все равно привлекла бы. С каждым годом в Ларисе все больше проявлялась женщина, она делалась ярче, притягивая взгляд, будто магнит, а самцы — они ж на внешность клюют. Помахав рукой, Мятлин вскочил, помог раздеться, даже исхитрился место на вешалке найти. После чего усадил ее слева от себя (Рогов сидел справа), так что стало ясно, для кого берегли место.
Женька тут же стал тянуть руку, просясь на подиум. Выступил он, надо признать, с огоньком, придав затихавшей уже дискуссии новый толчок. С развевающимися кудрями, в богемном красном шарфике, небрежно обмотанном вокруг шеи, Женька неплохо смотрелся, да и авторитетом, похоже, пользовался. Он говорил о том, что появился шанс раскрыть настоящие возможности слова: художественного, философского и т. д. Ранее они лишь подступались к возможностям, а вот теперь на подходе эпоха словократии!
Выражение сорвало аплодисменты, лишь один черноволосый толстячок вскочил и начал возражать. Говорил что-то о слове, которое было в начале, что не нами первыми оно произнесено и т. п.
— Марк, не горячись! — поднял руку Мятлин. — Ты прекрасно понимаешь, о чем речь! То слово было в начале, а наше будет — в конце! И прозвучит оно не менее звучно!
Рогов же следил за реакцией той, что сидела от него через пустующий стул. На время выступления он мог бы запросто подсесть: как, мол, дела? Какие новости? Но он сидел, зажатый, потому что, как говорится, чужой монастырь, ситуация двусмысленная, Лариса тоже это чувствовала.
Потом перешли в соседнее помещение, где располагалось что-то вроде кафе, и можно было выпить. Рогов купил пива, Женька выставил «Алазанскую долину», только алкоголь не снял напряжения.
— Как прошло? — интересовался Мятлин, что следовало понимать: как я выглядел?
— Бойко говорил, — отвечал Рогов. — Только непонятно: что означает «словократия»?
Снисходительно усмехаясь, Женька пояснял: это означает «власть слова». Слова были обесценены, девальвированы, а вот сейчас они обретают подлинную значимость, силу, а значит, и власть над умами. Надо лишь выйти из тени на дневной свет, чтобы тебя увидели все, а не один лишь круг избранных.
— Избранные — это они?
Рогов кивнул на присутствующих.
— Если угодно, да. Но если сидишь в подвале, никакая избранность не выручит. Надо всплыть, как подводная лодка… Ты же лодками занимаешься, верно?
— Я занимаюсь кораблями на воздушной подушке.
— Неважно. Так вот если лодка под водой, никто не понимает, насколько она сильна и красива…
— А вы сильны и красивы?
— Именно так. В общем, только когда лодка всплывет, она может предстать Urbi et Orbi во всей красе!
— Ошибаешься. Лодка может и из подводного положения такой залп дать, что мало не покажется! Но это, как я понимаю, не ваш случай.
Они долго пикировались, вроде как призывая Ларису выступить в роли рефери. А потом и вовсе забыли о ней, поглощенные конкуренцией, что переехала вместе с ними в северный город и вылезала по любому поводу.
— Я не мешаю? — справилась Лариса, когда спор набрал обороты. — Вообще-то я ненадолго из лаборатории отлучилась, а сижу с вами…
На минуту разойдясь по углам ринга, на улице сцепились опять. Пошел дождь, который мог бы, по идее, примирить — зонт-то был только у Ларисы! Но никто не захотел залезать под него. Женькины кудри обвисли, Рогову тоже текло за шиворот, но они упорно шагали под дождем, да еще что-то вякали.
— Надоели вы мне. — сказала Лариса перед тем, как скрыться в метро. — Оба.
Слово «оба» усмирило, поставив их на одну доску: хуже, когда кто-то счастливчик, а кто-то неудачник. Чтобы оказаться в статусе счастливчика, каждый был готов делать даже то, к чему душа не лежала. Рогов, например, подумывал о том, чтобы преподнести ей какие-нибудь «песни» обитателей подводного мира. Почему нет? Технические-то возможности имеются, Рогов выяснил это, когда в нейтральных водах начали проверять акустическое оборудование.
— Это что за звук? — поинтересовался он.
— Субмарина.
— Чужая?
— Нашенская.
— А что еще можете слышать?
— Шум надводных кораблей, приближающуюся торпеду…
— А-а… пение китов можете?
Акустик с удивлением на него воззрился.
— Откуда на Балтике киты?!
— Ну, если б водились, смогли бы услышать?
— Если б водились — конечно!
— И записать смогли бы?
— Два пальца об асфальт. А зачем это тебе?
— Просто так спросил.
Позволь ему, он бы сделал такую запись и подарил бы ей на день рождения. Все придут на праздник с цветами, тортами и прочей мурой, он же принесет в подарок скромную магнитофонную кассету.
— Это записи из серии «Звуки дикой природы»? — спросит Лариса. — С пластинки?
— Нет, — скажет Рогов, — Записи сделаны в море. Записал лично для тебя. Поставь гостям, пусть послушают…
Когда началась цепочка аварий, мечтать стало некогда. Вначале полетел маршевый двигатель, его чинили прямо в море, затем вышел из строя вспомогательный дизель-генератор. Только наладили — в прорезиненной «юбке» дыра засквозила, значит, ставь заплату. А когда вознамерились дать залп из РБУ, она лишь наполовину вылезла на палубу, а дальше — стоп. Начиненные ракетами-бомбами трубы частью находились в отсеке, частью торчали снаружи, и ни туда — ни сюда. А в таком положении установку уже не разрядишь! А ракеты с боеголовками! Понятно, что ремонт вели ювелирно, будто операцию на сердце; только поломка оказалась не последней.
Вертолетная площадка в эти дни не отдыхала: винтокрылая машина то взлетала, чтобы скрыться в низкой облачности, то возвращалась спустя несколько часов, привозя очередного начальника. Из чрева вертолета выпрыгивали адмиралы, директора оборонных заводов, ну и, понятно, призванные реанимировать монстра специалисты. Неработающий маршевый двигатель — это ж, считай, омертвевший плавник, вышедший из строя «вспомогач» — посаженная печень. Корабль качало на волне, пока длилась реанимация, после чего вертолет опять разгонял лопасти, чтобы умчать варягов на материк.
Слово «материк» стало привычным, символизируя иной мир, более обустроенный и надежный. Их же мир представлялся зыбким, неустойчивым, а местонахождение было непонятным. Миль двести от родных берегов, прикидывал Зыков, имевший отношение к навигации. Далее было триста миль, пятьсот, когда несколько дней паслись в нейтральных водах Ботнического залива. Погода в эти дни не радовала, с серого неба то и дело проливался мелкий дождь, а видимость была нулевая. Когда разгоняло тучи, где-то на горизонте показывались абрисы танкеров и сухогрузов, но вблизи «Кашалота» даже корабли «супостата» пока не появлялись.
— НАТО совсем мышей не ловит! — иронизировал Гусев. Жарский махал руками:
— И пусть! А то прицепится какой-нибудь наблюдатель, хрен отвяжешься!
— Оторвемся, если потребуется…
— Это когда на ходу! А когда болтаемся, как говно в проруби?
При такой аварийности очередной трупешник мог появиться в любую минуту. А если бы рванул боезапас на застопоренной РБУ? Вообще была бы гекатомба, только мясо собирай!
Такие перспективы пугали Сидорова, стращать которого стало одним из развлечений. Истории о погибших на «Косатке» и «Дельфине» пересказывались в красках, и не раз; другие истории выдумывали по ходу, так что у Сидорова, хоть тот и крепился, начинал подрагивать голос.
— Хватит, а? — просил он распоясавшихся коллег. — Это не смешно, в конце концов!
— А мы и не смеемся! — наезжал Гусев. — Ходовые испытания, брат, опасны, а государственные тем более. Тебя, конечно, наградят — посмертно. Но захоронят в море.
— Сейчас в море не хоронят… — резиново усмехался Сидоров, а ему: как это? Если ты гикнешься, ради тебя вертолет за полтысячи миль гнать? Да он столько топлива сожрет, сколько десять твоих жизней не стоят!
Зубоскальством маскировали тревогу. Когда корабль был без хода, Палыч обследовал винты, что-то замерял, после чего обеспокоенно бурчал, мол, насадки смещаются. А что тут удивительного? В открытом море постоянно дует, парусность у насадок будьте-нате, вот они и сместились чуть-чуть. Опасность заключалась в том, что внутри этих кругов вращались винты со скоростью шесть тысяч оборотов в минуту, и если смещение продолжится…
Короче, оснований для тревог было предостаточно, и оставалось лишь гадать, кого именно скинет с доски случай.
Радиосвязь оставалась единственной ниточкой, связывающей насельников «Кашалота» с материком. Но и эта связь истончалась, делалась иллюзорной, потому что сухопутных людей волновало иное: страна бурлила политическими страстями, а «Кашалоты» были всем до лампочки. Если даже «Буран» их не волнует, какой может быть летающий корабль?!
О том, что космическая программа остановлена, сообщил Жарский.
— Ну и что? — пожал плечами Гусев. — Одно дело «Буран», другое — наш корабль. На этот космос знаешь сколько денег требуется?!
— А я думаю, это тенденция.
— Какая еще тенденция?
— Экономить на сложном, чтобы получить элементарное. Слышал, о чем радио говорит? В стране не хватает банальной жратвы! Ты вот тут сухпайки с тушенкой-сгущенкой потребляешь, а народ лапу сосет!
— Да тьфу на твои сухпайки! Нашел, чем попрекать!
— Я не попрекаю. Просто задницей чувствую, что и на нас это отразится…
Именно тогда Рогов впервые услышал о базе на северном флоте. Мол, есть (вроде бы) база технического обслуживания кораблей последнего поколения, несколько лет назад выстроенная то ли под Североморском, то ли под Северодвинском. Классная база, оборудованная по последнему слову: с современными лабораториями, напичканными новейшей аппаратурой; с испытательными стендами, даже с отделом фундаментальных исследований. И «Кашалот», если на то пошло, должны были доводить до ума именно на этой базе, а не гонять по Балтике.
— Ты там был? — скептически вопрошал Жарский. — Видел эту аппаратуру своими глазами?
Зыков, который и завел разговор, запальчиво отвечал:
— Сам не видел, но ребята из седьмого отдела там работали! Это, говорили, вообще сказка! Все там есть, понимаешь? Все последние достижения вбиты в эту технику, во как!
— Ну, если все достижения… Только как до этой базы доберешься-то?
— Через проливы, вокруг Скандинавии. Был бы приказ — добрались бы!
Жарский закатывал глаза в потолок.
— Зунд, Скагеррак и Каттегат, потом на Север, огибаем Нордкап… Кстати: она на Баренцевом море? Или на Белом?
— Да хрен его знает… — отзывался Зыков. — Там секретность полная, ребята подписку давали, так что… Но база есть, это точно.
Этот разговор возникал еще не раз, постепенно обрастая подробностями, то ли почерпнутыми откуда-то, то ли придуманными. На базе имелись замечательные условия для работы, но при этом практически не было начальства. Им же что нужно? Столичные условия, комфорт, доступность благ цивилизации, а тут холодное море, тундра и северные олени. Быт, конечно, устроен по высшему разряду (никаких общаг, у каждого отдельное жилье!), и все равно начальники оттуда бегут. А вот спецы благоденствуют, имея возможность заниматься любимым делом без понуканий и ограничений. Там люди сами остаются сверхурочно, не требуя премий и надбавок, они просто кайфуют от работы!
— Но деньги-то платят? В принципе? — спрашивал кто-нибудь недоверчивый.
— Да платят, платят! И полярную надбавку, и за секретность, в общем, на круг набегает не слабо, на большой земле можно запросто дом купить. Только на фиг эта большая земля? Там же таких условий для работы никогда не предоставят!
Рогов представлял базу как некий городок на побережье. Вокруг тьма, холод и мрак, а внутри — расчищенные от снега дороги, море электрических огней, и везде корпуса лабораторий из стекла и бетона. Он ни разу не был в каком-нибудь Арзамасе-16, где тоже ковали оборонный щит, но по рассказам опытных товарищей примерно так представлял себе закрытые города. Здесь добавлялись разве что причальные стенки и доки, где располагались бы морские громадины, пришедшие на профилактику или встающие на плановый ремонт. Подводные ракетоносцы, авианесущие крейсеры, «Косатки» с «Кашалотами» — все должны найти приют, получить новое сердце или прочищенные мозги, чтобы опять уйти в мировой океан на боевое дежурство. Хотел бы Рогов трудиться в таком месте? Конечно, жаль только, что добраться туда пока нет возможности…
Кроме геликоптеров, запах материка доносили танкеры, несколько раз заправлявшие «Кашалот» в открытом море. Они вливали кровь в плавучий организм, способный после этого пройти (пролететь?) сотни миль без дозаправки.
Во время очередного марш-броска заполыхала насадка. В ту ночь дуло так, что сносило с палубы. Плюс разгон по максимуму, в итоге лопасти коснулись насадки, а шесть тысяч оборотов — не шутка.
Первым заметил огненное кольцо Тимощук. Ворвавшись в рубку, он поначалу только жестикулировал, изображая руками нечто округлое и ужасное, лишь потом выдохнул: «Горим!» Все ринулись на мостик, чтобы увидеть пылающий круг, отчетливо выделявшийся на фоне темного, сплошь затянутого тучами неба. Зрелище было пугающее, а главное, сидевший за штурвалом Булыгин даже обороты не сбросил! Лишь спустя время двигатель отключили, корабль опустился на воду и на корму потащили пожарные шланги.
Сделанная из легкого пластика насадка загасла не сразу. А еще ветер, раздувавший пламя и бросавший во тьму снопы искр — эффектная картинка, даже пресловутый белый отдыхал (хотя Рогов все равно ожидал его, боязливо вглядываясь в темноту). Волны, огонь, ветер — стихии дружно объединились против людей и создания их рук, а значит, жатва могла быть изрядной, тут одним жмуриком не отделаешься…
То, что обошлось без жертв, он расценил как счастливый случай. Урон, впрочем, был серьезный — лишились маршевого двигателя, что сулило возвращение на берег. Начальство планировало вернуться в Кронштадт, но вскоре пришла радиограмма с приказом взять курс на Таллин. И «Кашалот» на малом ходу, без подъема на воздушную подушку, отправился в пункт назначения.
На полпути привязался натовский наблюдатель, безликий маломерный кораблик, набитый под завязку народом с камерами и фотоаппаратами. Пользуясь небольшой скоростью «Кашалота», кораблик заходил с левого борта, с правого, с носа и кормы — со всех удобных ракурсов.
— Совсем обнаглели… — бурчал Деркач. — Врезать бы им ниже ватерлинии — сразу бы отстали!
— Нельзя, скандал будет, — отзывались гражданские. — Да не переживайте так, товарищ капитан-лейтенант. Вы же знаете, у нас главное не снаружи, а внутри!
— Да знаю, просто за державу обидно…
Операторам из вражеского блока кто-то махал рукой, кто-то показывал неприличные жесты, в общем, развлекались. Лишь когда наблюдатель совсем уж притерся к борту, решено было пугануть наглеца. Включили турбины наддува, в стороны пошла волна, и маломерку будто ветром отнесло на пару кабельтовых.
— Ссут, когда страшно! — заключил Палыч. Прибывший тральщик сопровождения отогнал кораблик, а там и нейтральные воды кончились, значит, здравствуй, Родина…
9
Родина имела обличье города, не считавшегося советским: Таллин воплощал средневековье, имитировал Европу, но совком там почти не пахло. Зато пахло веселой жизнью, и когда на горизонте проявились шпили Олевисте и Нигулисте, сердце радостно затрепыхалось в груди.
Чистенький эстонский буксир втащил «Кашалот» в док. Когда военные и гражданские сошли на берег, показалось, что монстр утратил невидимую власть над людьми. Экипажу предстояло пережидать ремонт во флотских казармах, специалистов поселяли в настоящих (не плавучих!) гостиницах, что еще больше отдаляло от корабля, сиротливо застывшего внутри огромного серого дока. Рогов оглядывался, пока шагали к проходной, и с каждым шагом чувствовал, как опадают цепи, которыми был окован; да и другие сдатчики переживали что-то похожее.
Когда в гостинице Гусев по привычке вытащил разбавленное шило, Жарский скривился, мол, какое плебейство! Если волею судеб оказались в эстонской столице, забудьте эту огненную воду, пейте «Вана Таллин» и вкусное пиво! Чем тут же и занялись, опустошив прилавок ближайшего магазина Liviko[5].
Во время пьянки и созрело решение. Рогов прихлебывал тягучий сладкий ликер, горячими струями стекавший по пищеводу, и нарисованная в воображении картина становилась все более красочной. Он пригласит Ларису сюда, благо имеет возможность снять отдельный двухместный номер, причем в любой гостинице. А тогда бегом на переговорный, чтобы через полчаса томительного ожидания услышать ее голос.
Она не сразу согласилась, сказала, что должна сдать важную работу. Но Рогов наседал, понимая уникальность ситуации. Западный город, свобода, деньги в кармане — все сошлось для того, чтобы классно провести время и, чем черт не шутит, расставить наконец точки над i.
Он буквально вырвал обещание приехать на ближайших выходных. Или она вспомнила что-то неотложное? Судя по голосу, Лариса размышляла в ходе разговора, вроде как прикидывая «за» и «против», а потом внезапно согласилась.
— Жди в субботу утром.
— А в воскресенье — назад?
— Ты хочешь, чтобы я задержалась?
— Конечно, хочу!
Лариса помолчала.
— Ладно, я возьму отгулы.
В ожидании ее приезда Рогов восстанавливал утерянные связи. В Таллине обитал старый знакомый Серега Машинский, распределившийся после ЛЭТИ в военно-морской центр подготовки иностранных моряков. Ни адреса, ни телефона не было, так что искать Серегу в полумиллионном городе было еще той задачкой. Но поскольку контора была единственной в своем роде, кто-то из здешних военных мог помочь найти приятеля, который надел погоны, чтобы преподавать представителям дружественных флотов азы электроники.
Вскоре выяснилось: центр находится в Копли. Это слово было единственным, что запомнилось; остальные улицы Рогов попросил записать на бумажке (эстонский язык всегда представлялся ему абракадаброй). Спустя сутки, проехавшись на четвертом трамвае до кинотеатра «Раху», он двинулся по записанному маршруту, разыскал неприметное двухэтажное зданьице, разумеется, без вывески, и вошел на КПП.
Постовой моряк согласился вызвать Машинского только после предъявления паспорта. Потом были объятия, гогот, хлопанье по плечу, словом, встреча оказалась бурной. Взглянув на часы, Серега попросил подождать часок, после чего щелкнул по горлу, мол, вмажем, как в лучшие времена!
Вмазывали вплоть до конца недели: вначале на холостяцкой квартире Машинского, потом в офицерской гостинице, сплошь заполненной желтыми и черными людьми. Цветной контингент представлял страны, считавшиеся стратегическими партнерами советской империи: Алжир, Вьетнам, Эфиопию, Индию и т. п. Были и представители белой расы, те же поляки или югославы, но главное — никто не брезговал выпивкой. Эти дни слились в одну нескончаемую пьянку, менялись только партнеры. Ты кто? Тадеуш? Выпьем, Тадеуш, за дружбу советского и польского флотов! Если что, Швецию будем брать вместе, вы с юга, мы с севера! А ты кто? Рамакришна?! Смуглый мужик в кителе и синей чалме кивал: мол, так точно. Мы тоже морская держава, а на чалму не обращай внимания, у каждого своя военная форма.
Машинский поглядывал на них сверху вниз, потому что преподаватель, а они всего лишь ученики. Склоняясь к уху Рогова, он характеризовал каждого; а порой, пользуясь языковым барьером, давал характеристики вслух. Из его слов выходило, что эфиопы туповатые, индусы — трудолюбивые, поляки склонны к раздолбайству. А самые перспективные — вьетнамцы, они всех за пояс заткнут.
— Не веришь?! Заткнут узкопленочные, они хитрые! Видишь, как улыбается этот хренов Кыонг?
Серега указывал на крошечного вьетнамца, который пил раздобытую где-то рисовую водку и растягивал рот в лукавой улыбке. Оказалось, Кыонг копался в электронных недрах захваченных американских кораблей, можно сказать, разбирал их на части, но об увиденном помалкивает. Почему? Потому что они хотят лучшее от всех взять! От нас лучшее, от америкосов, а в итоге всех нас сделают!
Это был единственный вариант общения с иностранцами, который мог себе позволить Рогов. Подписка о неразглашении выводила его за пределы тех, кому позволялось видеть большой мир, но тут особая статья, можно расслабиться, заодно расширив кругозор.
— Слушай, Кыонг… — пристроился он к улыбчивому вьетнамцу. — Ты, говорят, на кораблях супостата бывал?
— На каких кораблях? — не понял тот.
— На американских. Что в качестве трофеев на войне захватили.
— Бывал, бывал… — закивал Кыонг.
— И что там видел? Передатчики видел?
— Видел, видел… И приемники видел.
— А системы управления вооружением?
— Тоже видел. Этими руками все разобрал.
Он протянул тонкие ручки с тоненькими пальчиками, которые могли запросто копаться в чужих секретах.
— Разобрал, значит… И что скажешь?
— Хорошая техника.
— А наша разве плохая?!
— Ваша хуже… — лучился улыбкой Кыонг, вроде как извиняясь за то, что произносил.
— Ну да, хуже! Знаешь, что такое «Кашалот»?!
— Рыба такая есть. То есть кит такой.
— Кит! Это корабль, причем самый современный! Рассказать о нем не могу, это военная тайна. Но если ты расскажешь про американские корабли…
Кыонг улыбался еще шире.
— Американская техника — хорошая. Но можно сделать лучше.
Серега ухмылялся: мол, выкусил? Вот такие юго-восточные братья, которые когда-нибудь пошлют нас далеко и надолго!
Нагрузившись, Рогов вполуха внимал Кыонгу, бубнившему что-то о погибших друзьях.
— Их американцы убили? Твоих друзей?
Вьетнамец замахал тоненькими ручками:
— Нет, не американцы! Они ушли, мы их прогнали! Техника убила, корабли убивали…
Он произносил «товарисей», «товарися», что вроде было смешно. Но Рогову вдруг расхотелось смеяться, да и Кыонг был серьезен, даже испуган. Знакомая тягостная атмосфера внезапно сгустилась в гостиничном номере, будто «Кашалот» опять схватил своей пастью, чтобы проглотить.
— А белого мичмана не видел? — усмехнулся Рогов. — Или твой мичман — желтый? Ну да, вы сами желтолицые, значит, и вестник должен быть в масть!
— Вестник? — не въезжал вьетнамец. — Я не понимаю, плохо знаю язык…
— Все ты понимаешь! Желтый мичман на американском фрегате — это класс!
Кыонг с Машинским переглянулись.
— Кажется, допился… — проговорил приятель, — «Вана Таллин» коварный: сладенький, а в голову шибает!
На следующий день купили три сухого и отправились в коплинский ДК на концерт группы «Рок-отель». После второй бутылки приспичило в туалет, и Рогов посреди выступления отправился его искать, заплутав в глубинах старого ДК. Он не мог отойти от вчерашнего разговора: думал про чуждую технику, что точно так же требует жертв, а уж кто подает о них весть — дело третье…
Когда в глубине подвального коридора он заметил желтую фигуру, захотелось протереть глаза. Только вчера он язвил, заглушая страх, и на тебе — желтый мичман во плоти! Заставив себя приблизиться, он перевел дух: это оказался уборщик в униформе, молодой парень в очках и с ледяными серыми глазами.
— Показалось, ты — вестник… — скривился в улыбке Рогов.
— Я — кто? — холодно спросил желтый с эстонским акцентом.
— Есть такие на военных кораблях. Когда они появляется, хорошего не жди…
Уборщик достал из каптерки влажную швабру и взялся тереть кафельный пол.
— Русский, да? — спросил после паузы.
— Русский. А что?
— Сразу видно, что русский. Вот что я скажу тебе, русский. Уходите отсюда. И военные корабли уводите с собой. Вам тоже не надо ждать здесь хорошего. Не будет хорошего, понимаешь?
Все это время он приближался, тер буквально под ногами, причем так яростно, будто хотел протереть кафель. Рогов отступал, потом остановился.
— Ну, это мы еще посмотрим, уходить или нет. Тебя не спросим. Скажи-ка лучше, где гальюн?
— Что такое гальюн?! — раздраженно отозвался желтый.
— Это означает: туалет. Можешь не отвечать, но тогда придется еще и лужу в коридоре подтирать. Ну? Я жду.
Метнув в пришлеца ненавидящий взгляд, националист указал вглубь коридора. А Рогову тут же расхотелось слушать концерт. В перерыве они ушли, взяли еще по бутылке и, прихлебывая из горлышка, двинулись к центру.
— Чему удивляешься, старик?! — говорил Серега. — Я тут такого наслушался: мама не горюй! На них же флотская форма действует, как красная тряпка на быка! Поэтому в город, как видишь, в цивильном, а то грохнут чем-нибудь по голове, кураты…
Дойдя до «Линна-халле», они поднялись на крышу: архитектура комплекса, утопленного в земле, такое позволяла. Перед ними простиралась серая морская гладь, на ней маячили силуэты кораблей на рейде.
— Что-то меняется, Сева… — проговорил Машинский, прихлебывая вино. — Здесь это особенно чувствуешь, все-таки советский Запад. Главное теперь: вскочить на подножку, когда начнутся перемены. Куда наши мозги пристроить? Они ведь заточены специфически, под военную продукцию. Хотя твои — заточены под любую продукцию…
— Ну, скажешь!
— Не спорь, это так. И думай, Рогов, оно полезно!
Отсюда просматривалась часть ремонтных доков, в одном из которых прятался «Кашалот». Сейчас он представлялся лишь одной из ступенек, коих впереди — не меряно. Насколько прочными будут следующие ступеньки, Рогов не знал, только чувствовал: шагать придется.
Незадолго до приезда Ларисы удалось попасть на территорию учебного центра. Рогова водили по аудиториям, что-то показывали, но даже невооруженным глазом было заметно: везде старье, ни одной новой разработки.
— На этом и учите союзников? — усмехался Рогов. — Слабовато…
— А ты хотел, чтобы мы новейшую технику показывали? Обойдутся! Это они сегодня друзья, а завтра, глядишь, в НАТО вступят!
Тогда-то и зашел разговор о загадочной базе на Северном флоте. Когда Рогов ее упомянул, Машинский даже замолк на время, пораженный.
— Чего смотришь? Знаешь что-то про нее?
Серега прокашлялся.
— Я-то знаю. А вот ты откуда знаешь?
— От верблюда. А вот откуда — ты?
— Говорили, наш центр туда переведут. Или то, что от него останется. Кураты, если что, сразу нас ликвидируют и все передадут известно кому. А даже это старье, как ты выражаешься, жалко, на него деньги тратились, мозги…
Потом он водил пальцем по карте, что висела в одной из аудиторий, пытаясь показать месторасположение загадочной базы. Такие объекты даже на картах «для служебного пользования» не всегда указывают, только шила в мешке не утаишь, база существует и находится примерно здесь.
— Значит, на берегу Баренцева? — уточнил Рогов.
— Ага. Хотя какая разница? Там, говорят, системы жизнеобеспечения — по высшему разряду, про условия работы вообще не говорю. Туда попасть — счастье!
Не придававший значения деньгам, Рогов обрадовался тому, что перевели зарплату за два месяца, да еще премию подкинули. Таллин город недешевый, теперь же он мог и подарок купить, и номер снять в «Олимпии», и столик в «Норде» заказать.
С «Олимпией», правда, получилось не сразу — он мог вообще пролететь, если бы не Рамакришна. Поначалу Рогова вообще не пустил швейцар, мол, свободных номеров нет! Когда, преодолев заслон, он дорвался до администратора, его ожидала не менее холодная отповедь. И тут из ресторана спускаются индийские военморы! В чалмах, в синей униформе с золотыми позументами, они смотрелись экзотически, и в то же время явно чувствовали себя как дома.
— Хочешь в отель? — воззрился на него Рамакришна.
— Очень хочу! Девушка приезжает, понимаешь?
— Жена?
— Да… Считай, жена.
— Так жена или нет? С женой у тебя будет один номер. А с девушкой нельзя, ваши правила запрещают.
— А-а… Договориться можно?
Индус загадочно усмехнулся.
— Попробую…
Диалог у стойки продолжался минут пять, после чего Рогова поманили пальцем.
— Все в порядке, будет номер.
Склонившись к уху, Рамакришна вполголоса проговорил:
— Но ты должен заплатить Райво десять рублей.
— Да я и двадцать могу! Спасибо!
Как оказалось, индусы не раз устраивали сюда прилетавших гостить родственников. «Олимпия» считалась самой фешенебельной здешней гостиницей, а иностранцев у нас любят даже эстонские снобы, и вмиг становятся покладистыми при виде человека из-за бугра.
— Ну, выручил… — тряс смуглую ладонь Рогов. — Встретимся в Индийском океане — будет салют из всех калибров!
Рамакришна усмехнулся еще раз.
— Не надо салют. Просто помаши мне рукой.
Сдаточная команда, и так потерявшая Рогова из виду, восприняла известие о переселении спокойно. Разве что Гусев разволновался, помчался звонить Алке, однако в Таллин ее не отпустили. Критически оглядев Рогова, Жарский поправил ворот его рубашки.
— Вид помятый, но командировочному простительно. Предъявишь пассию коллегам?
— Там видно будет… — пробормотал Рогов, запихивая вещи в сумку.
10
На следующий день он стоял на перроне Балтийского вокзала с букетом тюльпанов, приобретенных на грандиозной выставке цветов, что открылась на днях. Это было что-то малознакомое, опять же, не советское, пришедшее из Европы и наверняка интересное Ларисе — вот почему выставка значилась одним из первых пунктов программы.
Только программа полетела к черту с самого начала. Лариса почему-то нервничала, оглядывалась, будто высматривала кого, а по приходе в гостиницу тут же улеглась в койку, свернувшись калачиком. Не выспалась? Да, ответила, ужасный был поезд. То есть, хороший, но соседи попались ужасные: двое пили всю ночь, третий храпел. Рогов сам подрезал тюльпаны, взяв ножницы у горничной, ставил их в вазу, а в душе пухла обида на то, что не оценили ни букет, ни отель, ни номер с удобствами.
Для начала он планировал попасть в Нигулисте, послушать орган. К музыке он был равнодушен, а орган представлял, скорее, в виде трубчатой конструкции, через которую продувают насосами воздух. Зато Лариса замирала при звуках этих труб, значит, ей можно было сделать приятное. Но она ушла из собора за десять минут до концерта. На Вышгород идти отказалась, мол, устала, давай завтра, и потащила его на Ратушную площадь. Где (ну и ну!) купила пачку сигарет «Таллин» и, встав возле Ратуши, взялась нервно курить, продолжая рыскать глазами по открытому пространству.
— Ты куришь? — удивился Рогов.
— Редко. Тебе неприятно?
Он пожал плечами.
— Мне все равно.
Его слушали невнимательно, и он, поначалу без устали моловший языком, вскоре замолк. В «Норд» они явились раньше времени, долго топтались в фойе в ожидании, пока освободят заказанный столик, и опять она курила, а он копил раздражение.
Обычно равнодушная к спиртному, Лариса несколько раз подвигала бокал: хочу еще вина. Рогов охотно наливал (себе тоже), а в итоге только шум в голове и досада в душе.
— Мы, — сказал после очередного бокала, — как твои киты. Которые поют. Но при этом почему-то не слышат друг друга.
— Тебя это удивляет? — усмехнулась Лариса.
— Удивляет. Если бы мы находились далеко друг от друга — не вопрос, звук в воде затихает. Киты на большом расстоянии тоже ничего не слышат…
— Слышат. Даже на большом расстоянии. А вот люди не всегда — даже вблизи.
Не найдясь с ответом, он привязался к официанту — показалось, тот подал неразогретое мясо. Тут же стало стыдно, в порядке компенсации он оставил большие чаевые, о чем через полчаса уже жалел.
В гостиницу возвращались в молчании. Внутри разгоралась обида на то, что стараний не оценили. Проклятые киты в очередной раз вставали на пути, будто они были — всё, а Рогов, человек разумный — ничто! Поэтому разумным быть не хотелось — хотелось отдаться тупому природному чувству и, как положено, покрыть самку.
Он рассчитывал на хорошо знакомую механику, когда система отработанных действий ведет к однозначному результату. Главное — не сбиваться с ритма, не реагировать на женские уловки, уводящие с торной дороги в дебри, созданные для того, чтобы запутать, завлечь вглубь, где топи и болота. А если попал в топь, тебе кранты. Тебе протянут, пожалуй, хворостину, но вытаскивать не станут, и ты всю жизнь проведешь, погруженный в трясину, пока, пустив пузыри, окончательно не уйдешь на дно…
Это была не трясина, скорее, водоворот. Не успели включить свет, как рот оказался залеплен, и его повлекли на двуспальную кровать, по пути расстегивая рубашку. Он стаскивал с себя одежду, не прекращая целоваться, даже не понял, что остался в носках. Успел разве что удивиться горячему (ну очень горячему!) телу, чтобы тут же свиться с этим телом в клубок, раствориться в нем и опять сделаться бандерлогом, который смотрит в глаза гигантскому питону. Сверху, снизу, упав на палас — он плохо соображал, когда и что происходило, все это мелькало, как в калейдоскопе. А на пике он и вовсе утратил чувство реальности, только искорки мелькали перед глазами, будто он на несколько секунд ослеп.
Она всегда отдавалась, как в последний раз, но тут был выход за обычные пределы, что слегка пугало. И Рогов, утишая дыхание, отодвигался от пышущего жаром тела, подсознательно боясь то ли сгореть, то ли получить ожог. Что это было? «То и было…» — ответил он себе, втягивая ноздрями витавший в воздухе запах. Ему не хотелось вдыхать этот аромат, возбуждавший до неистовства, и он накрыл лицо одеялом, а потом и вовсе встал, прошлепав в ванную.
Только там он обнаружил, что на нем носки. Снял их, повесил на радиатор и, взглянув в зеркало, увидел там нечто взъерошенное, с потной физиономией, вроде как в душевую после смены зашел шахтер. А тогда и надо быть шахтером — грубоватым, даже циничным, иначе не устоять.
— А помнишь, — сказал, закуривая перед балконной дверью, — как ездили сюда лет пять назад? И я презервативы купил? Думал: прибалтийские, качественные — не то что наши. А они рвались один за другим…
Он скабрезно хихикнул. Свет не включали, и оставалось лишь гадать о реакции: лицо могло быть недовольным, даже с гримасой брезгливости, но его бы это устроило — нарочно играл на понижение.
— Не помню… — прозвучало после паузы. — Помню, как мы в подвал спускались, в детстве. Ты тогда за усики брался, показывал, что тока не боишься. А я прижалась к тебе, потому что испугалась. Ты был какой-то… Не совсем человек, что ли.
Рогов еще раз хихикнул, теперь нервно.
— Кем же я был?
— Не знаю. И никто не знает, я интересовалась этими вещами. Но что-то с такими людьми происходит, в них что-то меняется. А мне очень не хотелось, чтобы мой друг Севка менялся…
Темнота вдруг сделалась пугающей, и Рогов, выбросив окурок, включил свет. Лариса лежала на животе: лицо спрятано в подушку, волосы раскинуты по цветастой простыне, вполне можно было вообразить, что в номере находится какая-то незнакомая женщина. Лишь родинка на пояснице была знакомой, она успокаивала, примиряла с жизнью и в очередной раз заводила, сигнализируя: сейчас начнется вторая серия. Будет и третья, скорее всего, потом они вообще собьются со счета — и черт с ним!
На второй день ноги сами привели в Вышгород, где долго молчали, расположившись на смотровой площадке. Лариса рассеянно скользила взглядом по рыжим черепичным крышам, а Рогов исподволь любовался ее профилем. Он вдруг подумал, что мало говорил о ее красоте, которая стала жгуче нестерпимой, даже пугающей. Причем сама она, похоже, не обращала на это внимания, думая о чем-то постороннем. Намекнуть? Но как? «Ты очень красивая!» — прозвучит банально, а других слов почему-то не подбиралось…
— Видишь церквушку? — неожиданно спросила она.
— Какую?
— Вон ту, слева.
— Ну, вижу…
— В ней когда-то венчался Ганнибал, прадед Пушкина.
— Который негр?
— Ага.
— Понятно…
На самом деле было непонятно. Может, она намекала на то, что отношения следует узаконить? Так ведь сама не хотела! Когда же вспомнился Мятлин, будто яд, потекла мысль: конечно, Лариса была здесь с Женькой, он-то ее и просветил. Кто еще?! И хотя все могло быть совершенно не так, ядовитая мысль пухла и крепла, превращаясь в стойкое убеждение.
— Пойдем отсюда, здесь холодно… — пробормотал Рогов и, не дожидаясь ее, пошагал по дорожке вниз.
Теперь и он начал озираться, с подозрением окидывая взглядом рослых черноволосых особей мужского пола. Вон тот, что идет впереди в кожаной куртке — не Женька ли? А тот, что свернул в переулок? В этих таллинских улочках-закоулочках скрыться легче легкого, и следить за ними в Старом городе тоже нетрудно.
На цветочной выставке морок продолжился, среди лилий и хризантем то и дело блазнилась характерная Женькина усмешка. Яркое праздничное многоцветье скрывало нечто угрожающее, здесь пахло опасностью, и Рогов не переставал крутить головой.
— Знаешь, что это такое? — дернула за рукав Лариса и указала на розовое соцветие необычной формы. — Это орхидея. Орхидея-фаленопсис, ее цветки чем-то напоминают бабочек.
— Действительно, похоже… — пробормотал он, озираясь.
— Это странный цветок. Летом его нужно защищать от избытка солнечного света, иначе зимой, когда света недостает, орхидея погибнет. А еще она может скинуть бутоны, если рядом поставить засохший букет. Удивительно, правда?
— Да уж… — выдавил из себя Рогов. Погруженный в шпионские страсти, он не обращал внимания на то, что ее голос подрагивает, и вообще она не в себе.
— Пестики-тычинки… — бормотала она. — Помнишь школьную биологию? Все очень просто: пестик, тычинка, пыльца, цветоложе… На самом деле нет ничего сложнее этого. — Встав по другую сторону цветочного лотка, Лариса скрылась за гигантским букетом желтых роз.
— Верно же? — донесся ее голос.
— Верно, верно…
Он бросил взгляд влево, потом вправо. И, убедившись, что ничего подозрительного нет, направился вслед за ней.
Но за букетом Ларисы не оказалось. И в проходе ее не было видно, она исчезла, заставив его растерянно озираться. Когда вдалеке мелькнул ее плащ, Рогов быстрым шагом направился туда, обнаружил другую женщину, после чего стал бессмысленно носиться вдоль лотков. Он толкал людей, задевал букеты, однако цветочное царство не отдавало Ларису, поглотило ее, превратив в один из тюльпанов, а может, в ту самую орхидею с незапоминающимся названием.
Выскочив к выходу, он понял, что потерял спутницу. И ринулся наружу, чтобы утюжить улочки-переулочки, заглядывая в витрины магазинов и в окна кафе. Теперь он был убежден, что не зря опасался, Ларису умыкнули, причем из-под носа! И если он сейчас увидит Мятлина, разговор будет короткий. Рогов скрежетал зубами, сжимал кулаки, и со стороны, наверное, выглядел сумасшедшим, иначе бы от него не шарахались прохожие.
Остановился он только на Ратушной площади, инстинктивно встав на то место, где Лариса недавно курила. Казалось, она тоже должна подойти к отправной точке их прогулки, чтобы начать сначала. Он не будет закатывать сцен, просто попросит выложить карты на стол, мол, проболталась, да? Рассказала о поездке, а Женька, конечно, не мог усидеть на месте, потащился следом, чтобы испортить встречу, точнее, подло увести Ларису…
Лариса так и не объявилась, зато встретился Зыков, выходящий с пакетом из магазина Liviko.
— Чем озабочен? — поинтересовался.
— Да так… — уклончиво отозвался Рогов. — А вы опять по алкоголю ударяете?
— А что еще делать? — отозвался Зыков. — Надоело в этом городишке, если честно, в море хочется… Ты со мной или как?
И хотя Рогову очень хотелось оказаться в привычной компании, он не поддался соблазну. Лучше отправиться к Машинскому, тот уже должен был закончить службу.
Узнав о происшествии, Серега потащил в пивбар, где заказал полдюжины пива.
— Исчезла, значит… А я ведь помню, как она тебя в институте мучила. Ты из-за нее на третьем курсе чуть сессию не завалил, на грани отчисления был! Нонсенс: чтобы Рогов завалил сессию! И из-за кого?! Из-за бабы!
— Она не баба! — морщился Рогов. — То есть в каком-то смысле баба, конечно, но не это главное.
— А что главное? Нет, ты скажи: что в ней такого особенного?! Две руки, две ноги, одна эта самая…
— Серега, допрыгаешься!
Приятель ухмыльнулся.
— Я имел в виду: душа. Но у тебя ведь тоже душа! И у меня душа, а не хрен собачий!
Заглотнув полкружки пива, Рогов задумчиво воззрился на стену с кованым панно. Бронзовая чеканка изображала панораму старого Таллина с характерными доминантами: Длинный Герман, Олевисте и т. п.
— Думаешь, у меня есть душа?
— А то!
— А мне вот иногда кажется, что я похож на эту картинку. Вроде город, дома, а на самом деле: железо. Холодное железо, изображающее жизнь.
— Ну, так мы далеко зайдем! Да и железо нынче важнее, чем эта человеческая лабуда. Сам это прекрасно знаешь! Ну? Давай-ка споем нашу: «Важнее душевный поко-ой, а бабы — последнее де-ело!»
Когда заказали еще полдюжины, сомнения покинули хмельную голову. Пьянку продолжили в офицерской гостинице: вокруг мелькали поляки с югославами, с которыми Рогов спорил до хрипоты, а о чем — не помнил. Помнилось только, как возвращался из Копли по трамвайным путям и, когда грохочущий сзади вагон светил фарами в спину, не спешил уступать дорогу. Казалось, он вполне мог бы потягаться с трамваем, коль скоро тоже из железа. Поду-умаешь, трамвай! Он может потягаться с самим «Кашалотом»!
Надежда на то, что Лариса в гостинице, растаяла, когда вошел в номер. Не раздеваясь, он рухнул на диван, чтобы в беспокойном сне бежать по Таллину, грохоча ботинками, потому что мостовые из металла, и стены домов из металла — город был железный. По нему ходили железные люди, так что было даже неловко спрашивать про ту, которую потерял, все равно не ответят. И он кружил от Толстой Маргариты до Вышгорода, пока не осенило: надо взобраться наверх!
Добравшись до смотровой площадки, он тяжело дышал, но перерыва себе не позволил. Где она скрывается? Какая из этих рыжих черепичных крыш ее спрятала? Он жадно шарил глазами, пытаясь разглядеть тех, что двигались по звенящим мостовым, пока не зацепился взглядом за церквушку. Здесь венчался Ганнибал?! Тогда и они там скрываются, потому что тоже хотят повенчаться!
Он несся вниз с дикой скоростью, боясь опоздать на церемонию. Плохо представляя обряд венчания, он понимал одно: если опоздает, эти двое соединятся навсегда, а тогда Лариса будет потеряна!
Однако вместо церкви он почему-то попал на военный корабль, похоже, американский, поскольку на флагштоке развевался звездно-полосатый флаг. Вот только американцев на борту не было, сплошь вьетнамцы с индусами. Когда на одной из палуб повстречался Рамакришна, Рогов сделал попытку скрыться за надстройкой, но человек в чалме успел его заметить и, загадочно усмехаясь, поманил пальцем.
— Что же ты? — спросил с упреком. — Я тебе номер сделал, а ты девушку потерял!
— Она сама… — забормотал Рогов. — Сама потерялась! Она хотела потеряться!
— А может, этого хотел ты? А? Признайся!
— Нет, Рамакришна, ты что! Я не хотел! Хотя… Может, ты и прав. С ней трудно, потому что она…
— Не железная, верно? В смысле — живая?
— В смысле да.
— С живыми всегда трудно. Поэтому иди, займись любимым делом — тебя ждут.
В дверях маячил Кыонг, он улыбался и махал рукой, мол, добро пожаловать! Поколебавшись, Рогов вошел внутрь и тут же обалдел. Корабль был буквально напичкан техникой непонятного назначения, а внутренние его объемы просто поражали. Вьетнамец вел по бесконечным коридорам, заполненным пультами, блоками, приборами, мигающими лампочками; они спускались по трапам вниз, поднимались вверх, а корабль и не думал заканчиваться. Каверзы пространства? Да нет, никаких каверз, просто этот авианосец огромен, настоящий плавучий город!
— Вот, — проговорил Кыонг. — Пришли.
— Куда?
Рогов озирался, видя ту же технику, только раскуроченную.
— Здесь мы разбираем вот этими руками приемники с передатчиками. Хочешь попробовать?
— Не знаю даже… — замялся Рогов.
— Попробуй, у тебя получится.
Не без робости он залез внутрь одного из приборов, но быстро успокоился. Он понял принцип работы раньше, чем устройство было включено, значит, мастерство не пропил. Он отвинчивал крышки, всматривался в хитросплетения проводов, и в мозгу словно отпечатывались схемы — очень сложные и одновременно понятные.
— Ты наш человек, — радостно закивал вьетнамец. — Ты можешь видеть сквозь железо! А тогда ты должен отправиться на базу в Баренцевом море. И поведут тебя — они!
В помещение по очереди вошли два мичмана, судя по звездам на погонах. Только выглядели они по-разному: один белый, будто посыпанный сахарной пудрой, другой желтый, вроде как выкрашенный под канарейку.
— С ними пойдешь, они знают дорогу.
Рогов попятился, упершись в холодную переборку.
— С ними?! Но я не хочу с ними! Они будут убивать!
Кыонг развел руками.
— Что делать — надо! Но тебя убивать не будут, поверь.
Из странного сна его вырвал телефонный звонок. Что? Ты в баре?! В каком баре?! Наконец, дошло: Лариса в баре гостиницы, просит спуститься. Положив трубку, он долго пялился в потолок, вспоминая сон, когда же взглянул в зеркало, понял, что спустится не скоро.
Ледяной душ, бритье, обильное орошение туалетной водой заняли полчаса, так что в голове успела созреть суровая, но справедливая отповедь. Он был обижен, унижен, опозорен, значит, должен высказать правду в лицо. А потом швырнуть на стол ключи, мол, номер снят для тебя, пользуйся и води кого хочешь! Я даже знаю, кого ты приведешь, но не хочу произносить это имя!
Обличительному пафосу помешал выплеснуться стоявший на столе букет. Он был знаком, вот только похмельный мозг не мог осознать: откуда?
— Орхидея-фаленопсис… — проговорила Лариса, уловив его взгляд.
— Успела купить? — желчно усмехнулся он. — А я думал: сразу убежала…
— Мне подарили. Но она вянет на глазах, так что зря деньги потратили.
Розовые лепестки и впрямь кукожились, загибаясь и темнея по краям, так что жить этим цветочкам оставалось недолго.
— И я сюда приехала зря. Я тоже вяну, как этот букет. Ты не заметил?
В этот момент Рогов обнаружил за цветочной вазой бутылку «Вана Таллина», похоже, заказанную Ларисой. На столе стояли два фужера, он быстро наполнил оба и, не тратя время на слова, выпил. Налил еще, опять выпил, и тут прорвало. Нет, говорил он, не заметил! Наоборот, заметил, что ты цветешь и пахнешь! Весело провела ночку? Вижу, что не грустно, на лице написано! Если бы он внимательнее вгляделся в лицо, вряд ли обнаружил бы веселье, только вглядываться не было ни времени, ни желания: он обличал и оскорблял, дерзил и хамил, потому что имел право. Она вроде пыталась вставить слово, да куда там, пальба шла из всех калибров — так, что звенело в ушах, а одинокий бармен за стойкой (бар был пуст) замер с выгнутыми дугой бровями.
— Вы слышите только себя… — пробормотала она и поднялась из-за стола.
— Ты куда?! — схватил он за руку. — Не-ет, я еще не все сказал!
— Отпусти, мне надо собрать вещи.
— Тогда будем это делать вдвоем!
Взяв со стола бутылку, он обернулся к бармену.
— Это оплачено?
— Что?!
Вздрогнув, тот принялся бодро протирать фужер.
— За ликер, спрашиваю, расплатились?
— Да, да, можете забрать!
В другое время он вряд ли одолел бы такое количество приторного пойла, а тут глотал его прямо из горлышка, без закуски. Когда ввалились в лифт, он сделал очередной глоток, не обращая внимания на пожилую пару, вошедшую следом.
— А что значит: вы? С каких пор мы стали обращаться другу к другу официально? Или имеется в виду кто-то еще? А-а, понял! Имеется! Я даже знаю, как его зовут! А может, еще и третий имеется? И даже четвертый?
— Прекрати, здесь люди!
Она попыталась встать спиной, но он резко ее развернул.
— Ничего, пусть слушают! Так я спрашиваю: сколько их у тебя в списке? Вряд ли ты остановилась на двоих. Ты же… Как бы это сказать… Потрясающая давалка! Гениальная, точнее!
Влепленная после лифта пощечина не охладила пыл, скорее, раззадорила. В номере он вспомнил всех, кто хоть когда-то приближался к Ларисе, упомянув даже старого балеруна Германа Валерьевича. Он добивал бутылку, когда Лариса, лихорадочно пихавшая вещи в сумку, внезапно села на кровать.
— Герман… Он умер буквально на днях.
— Печальное известие!
— Мне позвонила из Пряжска его дочь, просила приехать на похороны. А я поехала сюда.
— Зачем такие жертвы?! Надо было навестить преданного воздыхателя!
— Потому что… Потому что я тоже скоро, наверное… Мне так кажется, во всяком случае.
— Когда кажется, крестятся!
— Я серьезно… Ты же должен знать про крыс, бегущих с кораблей, которые утонут. Или про кошек, что выбегают из дому перед землетрясением. Они предчувствуют события, понимаешь?
— Да при чем тут кошки! — с досадой отмахнулся Рогов, решив: бьет на жалость (женщина!). Он опять что-то нес, пьянея все больше, все-таки бутылку в одно жало засосал, а она не могла застегнуть сумку, и хотя полагалось помочь, он не делал этого, злорадно наблюдая, как она мучается с неподатливой молнией…
Дальнейшее память выдавала порциями, как будто он сидел в темном кинозале, где на экране время от времени появляется картинка. Кажется, он все-таки решил проявить благородство, поймал для нее такси и зачем-то влез в него сам. А потом тащил сумку по перрону, еще раз показывая, насколько он велик душой, и насколько ничтожна она, нанесшая своему благодетелю смертельную обиду. Она же говорила о беременности, точнее, о прерванной беременности, а он в очередной раз обрушивал на нее град упреков, мол, ты же не советуешься! Ты же бежишь в абортарий, будто ужаленная, при малейшей задержке месячных! И вообще: почему ты мне об этом говоришь?! Может, автор исторгнутого плода — кто-то другой?
Самая отчетливая картинка представляла собой темный прямоугольник тамбура, и в нем — ее изломанная фигура. Она говорила… Что же она говорила? Ага:
— Я сама не знала, от кого ребенок. И это, скажу тебе, не первый случай.
— Ах, не пе-ервый… — протянул он удовлетворенно.
— Я это делала, потому что… Потому что от вас не может быть жизни. Вы живете чем-то другим, не совсем человеческим.
— Что-о? Мы еще и виноваты?!
Он сам не понял, как проговорилось «мы», ведь минуту назад был готов уничтожить любого соперника. С одной стороны были «мы», объегоренные коварной преемницей Евы, с другой находился тамбур с самой преемницей.
— Виновата я, больше всех. Но от вас, повторяю, не может быть жизни. От вас пахнет смертью.
Имелась масса доводов, чтобы ее оспорить, да только расписание поездов это не учитывало. Поэтому спорил мысленно, глотая пиво в вокзальном буфете, а потом валяясь в гостиничном номере. Всех срочно вызвали на «Кашалот», ему же дали возможность отлежаться («Ну и рожа у тебя, Шарапов!»), и он мог вдоволь наговориться за двоих.
Тоскливое чувство накатило позже, когда припомнились подробности. Можно было с самого начала взять другую ноту, да захлестнула обида, будто удавка, вот он и дал петуха. Теперь, увы, не сделаешь оверштаг, не ляжешь на обратный курс, а что впереди — неизвестно…
Успокоило, как ни странно, возвращение на корабль. Израненный железный кит задышал, задвигал плавниками и вскоре, как утверждали ремонтники, был готов вырваться на морской простор. Рогов проверял систему, тестировал приборы, с удовлетворением отмечая их безукоризненную работу. В эти минуты жизнь с ее бессмысленным копошением, вонью, хаосом — отдалялась, опадала, будто короста, и он приникал к чему-то иному, более чистому и осмысленному. Жизнь, по сути, омерзительна. Вспоминая эпизод из детства, когда пробрались на завод, и он обнаружил подружку, наблюдающую за муравьями на трупике животного, Рогов всегда испытывал тошнотворное чувство. Это жизнь идет рука об руку со смертью, если на то пошло, а он, Всеволод Рогов, создает нечто, дающее шанс на бессмертие!
В эти дни много говорили о базе на Северном флоте, где лучше всего было бы доводить до ума заказ. Там возможности, спокойная обстановка, в Таллине же стало вдруг тревожно: город забурлил, в скверах и на площадях заголосили ораторы, призывая отделяться от империи, военным даже порекомендовали не показываться на улицах. Но и гражданские слуги «Кашалота» чувствовали свою неуместность. Город-игрушка выжимал незваных гостей, мол, отваливайте в моря, на базы — куда угодно, лишь бы с глаз долой!
Сидоров добился списания на берег, сделав липовую медицинскую справку, и вскоре уже паковал баул. Прощаться с ним никто не захотел, но к Рогову он подошел сам — помнил нормальное отношение.
— Ну, пока… — сказал.
— Счастливо, — отозвался Рогов.
— Остаешься на этом плавучем гробу?
— Остаюсь. Но это не гроб, тебе с перепугу показалось.
— Может, и с перепугу…
Оглядевшись, Сидоров склонился к уху и сбивчиво заговорил:
— Но я бы на твоем месте линял! Видишь, что вокруг творится?! Открой глаза, другая жизнь наступает! И возможности другие! Да если бы мне твои голову и руки… Ни дня бы в этой конторе не задержался! Перед тобой весь мир открывается, беги отсюда!
После разговора взыграло ретивое, но перспективы, что открывала новая эпоха, пока скрывал туман. Когда же началась штурмовщина и бесконечные проверки систем под надзором начальства, беседа вовсе забылась, как и многое другое.
Они покинули Таллин с наступлением первых холодов. Провожали их ремонтники, да еще Машинский, получивший по просьбе Рогова пропуск на завод. Проникнув на корабль, он залезал в каждую дыру, цокал языком, выражая восхищение, а в финале резюмировал:
— Классный корабль, и если б разрешили… С вами бы отправился! Все равно нас выпрут отсюда, это ты понимаешь?
— Нас скоро отовсюду выпрут… — пробормотал Рогов.
— Вот именно! А тогда нужно на базу курс держать. Это место не тронут, оно обязательно останется! Может, там и встретимся?
— Может, и встретимся.
Когда Серега сбежал по трапу, сорвал с головы «мицу» и замахал ею, слева вдруг защемило. И Рогов поспешил скрыться в недрах «Кашалота». С человеческими отношениями был явный перебор, хотелось от них отделаться, и он долго ходил по кораблю, проверял аппаратуру, в общем, приходил в себя. Отойдя подальше от берега, «Кашалот» загудел могучими турбинами, встал «на крыло» и вскоре скрылся за линией горизонта.
11
За последующие недели самым привычным пейзажем сделалась морская гладь. Корабль пожирал милю за милей, курсируя в нейтральных водах, где ему не было конкурентов. Суда, шедшие встречным курсом или в том же направлении, представлялись «беременной корюшкой»: «Кашалот» молнией пролетал мимо любого флага, за считанные минуты пропадая из виду, так что любопытствующие из НАТО могли утереться.
Аварий стало меньше. Механизмы прирабатывались, аппаратура входила в оптимальный режим — пройдя стадию детских болезней, «Кашалот» возмужал. Иногда казалось, что он лечит сам себя, как бы фантастически такое ни звучало. Сбои в работе устройств исправлялись без вмешательства людей, что вскоре даже удивлять перестало. И тревога насчет будущих жертв куда-то пропала, вроде как восприятие притупилось. Когда один из матросов сломал позвоночник, свалившись с трапа, и с материка прилетел санитарный вертолет, Рогов курил на палубе. И вдруг поймал себя на мысли: не подходишь ты сюда, парень. Не по Сеньке шапка, иначе говоря, и моли бога, что жив остался.
Полученная радиограмма донесла: парень умер в госпитале. Но Рогов особой печали не испытал. Во время коротких заходов в порты неподходящие то и дело сбегали по трапу с чемоданами, будто те самые крысы. Двое списались на берег в Вентспилсе, трое — в Лиепае, а в Балтийске (до которого все же добрались) сразу полдесятка штатских и военных под благовидными предлогами покинули «Кашалот».
Оставались самые стойкие, а может, те, кому нечего было терять. Из НИИ «ЭРА» доходили слухи о сокращении сотрудников, об урезании окладов: империя потуже затягивала пояс, экономя на святая святых — на обороне. Но до «Кашалота» экономия пока не дошла: заправляли его исправно, и денежное довольствие вместе с пайками поступало в полном объеме. Подкармливали морского монстра, хотя порой казалось: он может жить на внутренней энергии, не нуждаясь ни в горючке, ни в обслуге. И люди служили ему по своей воле, их никто не держал. А чтобы заглушить чувство обреченности (оно таки накатывало), люди ежедневно употребляли, пребывая все время то подшофе, то с бодуна.
В море выходили даже на плохом прогнозе. Это обычные корабли боятся штормов, мы же перелетим и пятибалльную волну! А тогда вперед и с песней, чтобы дрожал корпус, и турбины радостно выли, и электронные глаза буравили ночь, видя на десятки миль вперед. Куда летишь, «Кашалот»? Дай ответ! Только не дает ответа, летит себе и летит, куда — неизвестно…
Скорость возрастала с каждым днем, будто внутри корабля были заложены ресурсы, не предусмотренные конструкторами. Полста узлов, семьдесят, девяносто, и вот она, долгожданная сотка! Когда Булыгин выжал эту немыслимую скорость, каперанг Востриков хлопнул с размаху фуражку об пол, взмолившись:
— Ну, дай же мне, наконец! Не могу больше!
И он получил в руки штурвал; и опять корабль дрожал от скорости; и неважно было, попадется ли кто на пути. Может, и попадались, только им, очумевшим от азарта и невиданных возможностей, было пофиг. Спаянная (еще как!) команда уже томилась на тесной Балтике. Что Балтика? Пруд для монстра, ему бы трансатлантические маршруты осваивать, а не курсировать от Финляндии до Польши и от Швеции до Литвы! Такие разговоры все чаще вспыхивали на борту, однако ожидаемого приказа пока не приходило.
То один, то другой сдатчик переставал бриться, зарастал щетиной, потом и вовсе отпускал полноценную бороду. Вода действительно исчезала из гальюнов, да и будь она — перед кем красоту наводить? И в выбритых ли щеках красота? Растительность колосилась даже на лицах военных, что вроде запрещал устав; но здесь жили по особому уставу, «кашалотскому».
Рогов тоже забурел, так что однажды, взглянув утром в зеркало, не сразу себя узнал. Светлые заросли на физиономии, нечесаная голова, и глаза, сосредоточенные на чем-то крайне важном. Спроси его: на чем именно — не ответил бы, однако важность поставленной задачи обсуждению не подлежала.
— Ну, я ж тебе говорил, чтоб выбросил бритву? — напомнил Гусев давний разговор. В его взгляде тоже читалась озабоченность, он даже Алку не вспоминал, не говоря о законной жене. Жены с подружками остались за горизонтом, суровое мужское царство служило иному богу, и он был явно не Гименеем.
Царство сближалось, сплачивалось, уже не нуждаясь в словах для общения. Они понимали друг друга без слов, как на дне рождения Тимощука. Из-за работающих на пределе турбин в мичманской каюте шум стоял адский, и поздравлять приходилось жестами. Но понимание было полным, словно команда «Кашалота» освоила еще одну сигнальную систему. А главное, они переставали чувствовать холод. По ночам на корабле был такой дубак, что бутылка «Тархуна», купленного в Балтийске, замерзла и лопнула. На том празднике они чокались шилом, ставшим их горючим, а закусывали зеленой сосулькой в форме бутылки.
Выйдя однажды проверять приборы, Рогов обнаружил, что он в легкой рубашке. За бортом был изрядный минус (накатывал декабрь), в трюме тоже не пахло Африкой, он же спокойно занимался своим делом, совершенно не чувствуя холода. Огляделся — а неподалеку Палыч ковыряется, вообще в майке на голое тело! И Деркач разгуливал в расстегнутом кителе, так что складывалось впечатление, будто внутри у каждого работает некий реактор, не позволяющий мерзнуть. И электрический ток был нипочем, в этом Рогов убедился, когда подстраивали систему навигации. Корабль и не думали останавливать, подстройку вели на ходу, и Зыков своими толстыми пальцами смело лез в приборы с подключенным питанием! Помогавший ему Гусев тоже запускал руки туда, где можно было сгореть заживо, а поймав удивленный взгляд Рогова, подмигнул:
— Щиплет чуть-чуть, но в общем — даже приятно…
Наверное, они утратили бдительность, войдя в кураж, в итоге — один из матросов выпал за борт и, пока его вылавливали, превратился в ледышку. Его так и оставили в окоченевшем виде, поместив в неотапливаемый отсек. На берег пока решили не сообщать, и Рогов, опять же, лишь вяло удивился тому, что очередная жертва не пробудила в душе ни ужаса, ни даже сочувствия. Зайдя как-то в отсек, он озирал вытянутое на столе замерзшее тело и вспоминал, как хоронили отца. Тот был ссохшийся, с тонкими костлявыми руками, с исхудавшими ногами, было видно, что похоронный костюм ему велик. А ведь при жизни был крепышом, гирю даже тягал, тут же — плоть исчезла, будто перетекла туда, где клепали тяжелые армейские машины. Совсем ничтожен человек, получается, он просто деталь большого механизма, и если деталь сточилась — изволь в утиль, на свалку или, как минимум, на переработку…
Чтобы заправиться и передать окоченевшее тело в морг флотского госпиталя, зашли в Калининград. Поколебавшись, Рогов отправился на переговорный пункт (когда еще удастся!) и во время разговора тоже окоченел. Трубка, которую держал, будто прилипла к уху, хотя он имел огромное желание швырнуть ее на рычаг и сбежать, заткнув уши. Но он слушал ровный бесцветный голос Светланы Никитичны, сообщавшей о нелепой катастрофе, когда два поезда сошлись в низине возле Уфы, и скопившийся газ вспыхнул смертоносным протуберанцем…
— Не пойму, почему именно она? — прошелестел в трубке голос.
Он не нашел, что ответить. Тут же вспомнились ее предчувствия, и показалось: он не сможет выбраться из тесной кабинки, где на стекле была нарисована перевернутая слева направо цифра «7».
Сквозь стекло было видно, как юная пигалица в беличьей шубке пишет на бланке телеграмму, макая ручкой в чернильницу. Текст не получался, она комкала бумагу, чтобы вновь макать и выводить слова. Когда к ней приблизился парень в мохнатой шапке, та отмахнулась, мол, не мешай! Парень, улучив момент, отодвинул чернильницу, пигалица промахнулась ручкой и, вскочив, взялась гонять парня вокруг стола, причем оба закатывались от смеха.
Рогов наблюдал сцену с недоумением, затем с тоскливой злостью. Как они смеют веселиться, когда случилось такое?! Трубка говорила: на похоронах был Женя, он рыдал, но ревности не было — фигура Мятлина, закрывавшая полнебосвода, внезапно скукожилась, превратившись в ничто. Да и сам он превратился в пустое место, в оболочку, внутри которой вакуум. Шел по улице, под ноги падал снег, а под курткой, казалось, ничего нет, ни тела, ни того, что называют душой. Он долго стоял у проходной судоремонтного завода, приютившего «Кашалот», пробегал глазами надпись над бетонным козырьком: «Завод „Янтарь“», но буквы не складывались в слова, смысл ускользал. Он знал только, что не сможет сейчас прийти к своим, больше того — что своих у него вообще не осталось…
Потом был шалман, где он хлопал рюмку за рюмкой, скандал на проходной, и запоздалые слезы в закутке на корме. То была последняя вспышка человеческого. Отчаяние вскоре обернулось скорбным бесчувствием — терять было нечего. И цепляться за береговую жизнь не имело смысла, его маршрут туда, куда полетит «Кашалот» со своей командой.
В команде настроения были похожие, что доказала случайно услышанная беседа двух капитанов — Вострикова и Булыгина.
— Больше в порты не заходим, — говорил Булыгин. — Заправляемся под завязку, и полный вперед! А если опять жмур будет, в море похороним.
— Не по Уставу, конечно, — отзывался Востриков, — но какие тут уставы? Разваливается все на глазах, так что не возражаю.
Именно в те дни, когда готовились уходить из Калининграда, Рогов взялся вести некое подобие дневника. То, что его переполняло, требовалось кому-то или чему-то доверить, и он выбрал тетрадь, на которой было написано: «Отчет о ходовых испытаниях». Тетрадка оказалась чистой (заполненную отослали в ЭРУ), и он принялся туда записывать то, что удержала память. Рогов с трудом справлялся с письменной речью, спотыкался на каждой фразе, но все-таки двигался вперед, фиксируя события последних месяцев. Оглядываясь назад, он удивлялся: сколько же всего произошло! И, мусоля химический карандаш, заносил на страницы пережитое.
Писать мешали лошадиные дозы спирта, каковой уже не разбавляли и не ароматизировали — просто заливали внутрь, будто керосин в корабельные емкости. Почерк уползал, хотя тетрадь была линованная, буквы делались то больше, то меньше, а еще вибрация корпуса! Они привыкли к тому, что «Кашалот» на ходу дрожит, да только рука не привыкла, из-за чего в записях появлялись некие иероглифы, лишь отдаленно напоминающие кириллицу.
Когда приближался кто-то из коллег, Рогов заслонял каракули, чтобы не быть пойманным на сантиментах.
— Пишешь письма на тот свет?! — удивились бы коллеги. — В то время как мы достигли поистине невиданных возможностей?! Да это позор! Очнись, Рогов, влейся обратно в мужское братство! Неужели ты не знаешь, что мы получили приказ уходить на базу?! Там будет счастье, там будет все, о чем ты мечтаешь!
Приказ действительно был вскоре получен. А может, его выдумали два капитана — неважно; главное: корабль устремился к Зунду. Причем на такой скорости, что вибрация делала невозможным не то что писание — ложку ко рту было не поднести. Но никто не жаловался, напротив, лица сдатчиков и военморов были озарены неким горним светом, в их жизни вновь возникал смысл, и пусть страна, оставшаяся за сотни миль от них, летит в тартарары, рушится и тонет в мелких и крупных проблемах — они не пропадут! Подумаешь, ложка! Не надо ее подносить, они и на сухпайках проживут, лишь бы шило не переводилось!
Вибрация размывала контуры людей, они делались нечеткими, будто привидения, да в каком-то смысле и были привидениями. Кого колышет, если исчезнет такой фантом? Их и не колыхало, хотя кто-то падал за борт, загибался от холода — все это были неподходящие. Зато остальные должны были пройти проливы, обогнуть Нордкап и прийти в технический рай, где могли остаться до скончания века.
За бортом бушевала ледяная вьюга. Тщетно пытаясь записать хоть пару мыслей, Рогов оставил вскоре это занятие и взялся глазеть в иллюминатор, за которым кружили белые вихри. Неожиданно один из вихрей уплотнился, образовав нечеткий человеческий силуэт. «Мица» на голове, форменный китель — ну, конечно, он! А главное, манит, мол, выходи наружу, дружище, поговорим! Рогов зачем-то огляделся, хотя пультовая была пуста. Бросил еще один взгляд в иллюминатор, затем отложил тетрадь и, как сомнамбула, двинулся к ведущей на палубу двери.
Корабль летел над темным морем, рассекая тьму носовым прожектором. Ветер едва не сбивал с ног, пронизывал до костей, только Рогов не чувствовал холода: схватившись за обледеневший леер, он пялился во тьму, где виднелся белый силуэт. Сквозь свист ветра пробилось: — «… ойди!» — что он расценил как «Подойди!» Но как тут подойдешь, если навстречу дует, будто во время урагана? Перебирая руками леер и отворачивая лицо от бьющей в лицо снежной крупы, он преодолел несколько метров, чтобы вскоре четче различить того, кто его позвал. Он стоял спиной, глядя вперед, как и полагалось настоящему командиру корабля.
— Ты меня звал?! — прокричал Рогов.
— Нет, ты сам пришел.
— А мне показалось…
— Неважно, что тебе показалось. Главное, вы двигаетесь нужным курсом.
— А что… — Рогов опять отвернул лицо. — Что нас ждет?!
— Если дойдете — увидишь сам.
— А мы дойдем?! Мы же не такие… Ну, не такие, как ты. Мы всего лишь люди!
— Не совсем люди. Посмотри на себя!
Рогов оглядывал свои руки, ноги, туловище, но видел лишь налипший снег со льдом, из-за чего он тоже сделался белым. И корабль становился белым, потому что в воздух взметывались мириады холодных брызг, оседавших на палубе и моментально превращавшихся в лед. «Кашалот» покрывался ледяным панцирем, так что силуэт, сливавшийся с этим фоном, спустя время было уже не разглядеть.
Он с немалым трудом вернулся обратно. Внутри корабля тоже все промерзло насквозь и покрылось белым инеем. Самое же странное ожидало в рубке, куда поднялся Рогов. Там царил полумрак, мигали сигнальные табло, и все смотрели туда, где в луче света вихрилась снежная взвесь. Вот застыли Гусев с Жарским, белые с ног до головы; вот такой же Зыков, а вот Деркач, чья извечно красная физиономия внезапно побелела. И сдаточный капитан Булыгин напоминал снежное изваяние, и каперанг Востриков вроде как сменил повседневную черную форму на ослепительно белую парадную. То же самое проделал Тимощук, другие члены экипажа, даже Палыч, не снимавший черной телогрейки, сделался подобием Деда Мороза.
Никто не шевелился, все глядели вперед. «Кашалот» пожирал пространство, оглашая пустынное море ревом турбин и унося людей в неизвестность…
Часть III. Ящичек Пандоры
1
Самолет мягко оторвался от земли и устремился в темное ночное небо. Не дожидаясь набора высоты, пассажиры устраивались поудобнее, задремывали, Мятлин же глазел в иллюминатор. На взлете он всегда цеплялся взглядом за земную поверхность, что уходила вниз; вот и сейчас наблюдал россыпь огней, мерцающих по ту сторону стекла.
— Огромный город… — проговорила сидящая рядом пожилая пассажирка. Несмотря на безупречное произношение, в голосе просквозил акцент, что на пражском рейсе было неудивительно.
— Пять миллионов жителей… — пробормотал Мятлин, не придумав ничего умнее.
— Половина населения Чехии, — отозвалась попутчица. Далее она сказала, что Петербург напоминает Прагу, наверное, своей потрясающей красотой, что ее сын Вацлав влюбился в жительницу этого замечательного города, женился, они родили двух сыновей, и потому ей приходится летать сюда несколько раз в году. Еще она сказала, что зовут ее Тереза, и Мятлин тоже назвал себя. Почему нет? Банальная болтовня попутчиков: такие откровения не обязывают, зато дают видимость сближения, мол, человек человеку — друг и брат, если уж оказались в одном купе или кресла рядом. Ко всему прочему общение заглушало привычный страх. Леденящий, поднимающийся снизу, он захватывал ноги, живот, сковывал грудь и шею, и ни мягкий свет в салоне, ни приветливые улыбки стюардесс не могли растопить этот лед. Могучая железная машина не внушала доверия, словно отправлялся не в ближнюю Европу, а в космическую бездну без шанса на возвращение.
— Вы в порядке? — поинтересовалась Тереза. Мятлин ответил: все нормально. И уставился в иллюминатор. В светящемся море огней, убегавшем к невидимому горизонту, отчетливо различались абрисы Васильевского, Петроградской, русло Невы… Знакомая топография, однако, не успокаивала. «Аэрофобия…», — вспомнилось словечко. Наверное, его мучил этот страх, хотя и поезда, если честно, не внушали доверия, да и автомобили тоже.
Сделав круг над городом, самолет почему-то не спешил взмывать под облака. Когда Мятлин сообразил, что пошли на второй круг, охватила тревога. Мимо торопливо прошагала озабоченная стюардесса, скрывшись за шторкой, где кабина пилотов. Когда туда же направилась ее напарница, тревога переросла в панику — что-то случилось! И точно: спустя минуту по трансляции передали: не закрываются шасси, поэтому кружим на высоте трех тысяч метров, выжигаем керосин, после чего посадка в Пулково (откуда взлетели десять минут назад).
— Цо си стало?! — округлила глаза соседка. Не сразу сообразив, что та перешла на родной язык, Мятлин хрипло ответил:
— Шасси…
— Цо то йе — «шасси»?!
— Это колеса… У самолета есть колеса, они не хотят складываться… В общем, мы никуда не летим.
— Мы не летим в Прагу?!
Не в силах ответить, он замотал головой.
— А-а… куда же мы летим?!
— Не знаю… — обреченно проговорил он, будто заключенный, который знал про смертный приговор и, наконец, его услышал. Не зря он боялся всего летящего, едущего, несущегося с дикой скоростью — эта сила гонялась за ним и таки догнала. Он представлял себя мухой на стекле, за которой некто невидимый, но безжалостный охотится с мухобойкой. Бац! Мимо… Бац! Опять не попали… Но удары мухобойки все ближе, и ты, муха, напрасно жужжишь и лихорадочно трепещешь крылышками, жизни тебе осталось на чуток!
Салон между тем наполнялся гулом, криками, одни вскакивали, другие, как Мятлин, вжимались в кресла. Публика была разношерстная, проскакивали английские словечки, чешские, а вот и русские матюги донеслись. И хотя обе стюардессы метались от носа к хвосту, пытаясь усадить в кресла ополоумевших пассажиров, им это плохо удавалось.
— We are done for![6] — выкрикнули в хвосте, и тут же — звук падающего тела. Соседка наклонилась, чтобы выглянуть в проход.
— Там лежит женщина… — пролепетала Тереза, бледная, как чехол на кресле. Если бы она встала, то, наверное, тоже грохнулась бы в обморок, так что лекарства, вытащенные из сумочки дрожащими руками, оказались кстати. А Мятлин остро пожалел, что не заскочил в Duty-free. Обычно он приобретал фляжку Johnnie Walker, на двух- или трехчасовой рейс вполне хватало, но в этот раз решил пораньше пройти в самолет.
— Врач есть?! Среди пассажиров есть медики?!
Одна из стюардесс выкрикивала это срывающимся голосом, чем лишь усилила панику. Из передних рядов поднялся некто в берете и очках, его увлекли туда, где в отключке лежала американка, а может, англичанка, в то время как салон продолжал тревожно пульсировать. Если помыслить трезво, ничего страшного не произошло. Ну покружат над городом, ну выжгут керосин, после чего, обезопасив себя, приземлятся в пункте отправления. Вот если бы шасси не выпустились в пункте прибытия, тогда и впрямь готовься к коллективным похоронам (хотя, бывает, и на брюхо самолет сажают).
Увы, трезво мыслить не получалось. Как и остальные насельники стальной сигары, что кружила в черном небе в трех километрах над матушкой-землей, Мятлин чуял близость гибели, ощущал дыхание смерти и если бы в иллюминаторе показалась каноническая картинка: череп, черный балдахин, коса на плече — он бы не счел это галлюцинацией. «Чем мы провинились?! — вырвался из груди мысленный вопль. — Разве эти люди — плохие?! Они хорошие; у них есть родители, супруги, дети, и лишать их близких — верх несправедливости!» Он не знал, к кому обращен этот глас вопиющего в воздушной пустыне; знал только, что бессилен что-то сделать, значит, должен заменить действие работой воображения.
Оно включилось помимо воли, как бывало в детстве, если очень хотел чего-то избежать. Сейчас он, Евгений Мятлин, а не какой-то Вася Пупкин (объявленные по трансляции имя-фамилия пилота выскочили из памяти) был командиром железной сигары. В этой сверхсложной машине что-то разладилось, но сила мысли была призвана устранить роковую ошибку, тот огрех в хитросплетении проводов и железных конструкций, что вел их в могилу. Гекатомба отменялась, потому что сломавшийся винтик чудесным образом вставал на место, шасси с характерным стуком складывались, и лайнер устремлялся к столице Чехии, чтобы через пару часов осуществить мягкую посадку. Не получается? О’кей, тогда покружим над городом, полюбуемся мириадами огней, темной невской излучиной (где еще такое увидишь?), после чего так же мягко, без малейшего толчка приземлимся на ВПП пулковского аэропорта. Самолет оперативно меняют на другой, пассажирам приносят извинения, возвращая половину стоимости (типа моральные издержки), после чего реализуется сценарий номер один…
Только бездна, что разверзалась буквально в метре-другом под креслом, возражала против воображаемого расклада. Извини, говорила бездна, все будет совершенно иначе. Вместе с другими несчастными, набившимися внутрь этой небесной колымаги, ты грохнешься с высоты Монблана, чтобы твоих костей не нашли. Не хочешь?! Ну извини, сами наклепали летающих колымаг, я тут не виновата! Я нормальная бездна, даю вам возможность попрыгать-поскакать по не лучшему, но все-таки прекрасному миру, дожить до старости и мирно умереть в постели. Так нет же, вы сами спешите в меня провалиться! Прямо норовите ухнуть с концами, разбившись ли на самолете, утонув ли на теплоходе, про статистику автокатастроф я вообще молчу!
Воображение тоже не сдавалось, вытягивая за волосы Мятлина и летевший с ним интернационал. Оно служило бочкой масла, которую он в спешном порядке выливал на разбушевавшийся океан жизни. Или смерти? Привыкший к образам, мятлинский ум судорожно рыскал в поисках аналогий — тут и держащий небо Атлант всплыл (ни к селу, ни к городу вроде бы), и Давид, выходящий на бой с Голиафом. В роли Давида, понятно, выступала придуманная история с хорошим концом, в роли его противника — безликое мрачное нечто, грозившее стереть в пыль пару сотен человеческих существ. Вот только результат боя пока неясен: попадет камень в башку Голиафа, не попадет — одному богу известно.
Воспоминание о боге (Боге?), не раз обсмеянном агностиком Мятлиным, тут же обернулось волной покаяния. Зря насмешничал, вот божья кара за дерзость твою! Он даже был готов перекреститься, но отвлек полноватый пассажир, сидевший через проход.
— Эй, мужик! Коньяк будешь?
— Что?! — вздрогнул Мятлин.
— Вижу, тебе не очень… Выпей, полегчает.
Пассажир протягивал поллитровую бутылку. Сдерживая дрожь в руке (я же мужчина!), Мятлин с благодарностью принял подношение. Борясь с желанием тут же отхлебнуть половину содержимого, он великодушно протянул бутылку даме, похоже, впавшей в ступор.
— Декуйю… — она прокашлялась. — Это для меня крепко…
Лишь тогда с чистой совестью он залпом влил в себя грамм сто пятьдесят лекарства от аэрофобии, да и от фобии перед жизнью, если на то пошло.
Дальнейшее помнилось смутно: откачав упавшую в обморок, стюардессы вдруг засуетились, замельтешили, по проходу поехали каталки с закусками и вином, которое разливали, не экономя, лишь бы успокоить обреченных. Мятлин заполировал коньяк бутылкой сухого, с облегчением влившись в общую вакханалию бесконтрольного жранья и неумеренного питья. В другой раз он бы, по обыкновению, отстранился от стада, приникшего к дармовой кормушке, еще бы и поязвил на сей счет, но инстинкт выживания победил, превратив на время записного интеллектуала в частичку общей биомассы. Потом была долгожданная посадка, шатание в предполетной зоне «Пулкова-2», несколько рюмок в баре, перепившаяся пассажирка, снятая с рейса полицией и, наконец, другой самолет, благополучно поднявшийся на высоту десять тысяч метров и устремившийся в юго-западном направлении.
Из второго рейса, где тоже кормили-поили на убой, надо полагать, компенсируя моральные издержки, запомнился лишь бэйджик на лацкане стюардессы. Принимая очередной бокал, Мятлин зацепился взглядом за имя на пластиковой карточке: Лариса. Фамилию он читать не стал, чтобы не нарушать правил очередной игры воображения. Нетрезвый ум, нерезкий взгляд, и вот уже по проходу шагает она, благо фигурка у воздушной служительницы была такая же точеная, да и походка напоминала балетную, когда ногу выносят вперед, немного выворачивая носок. Выработанная в далеком детстве походка сохранилась у Ларисы до самой…
Ни до какой «самой»! Не было смерти, во всяком случае, он не видел ее мертвой, гроб был закрытый, а значит, она вполне могла сменить род занятий, наплевав на тайны жизни и уйдя обслуживать международные рейсы. А что? Вполне в духе времени, вояжи в зарубежье выгодны, а мир сейчас построен именно на выгоде.
— Вот ты чем занимаешься… — грустно усмехнулся бы Мятлин. — Значит, бросила биологию? Похерила генетику, забила на клеточные процессы…
— Похерила! — ответила бы та хлестко (характер — не род занятий, не сменишь просто так). — И забила. А ты недоволен? Брось, какие, к черту, тайны жизни? Ты же видел совсем недавно чавкающее стадо, что летело с тобой и заедало страх смерти халявной выпивкой и едой! Вот и вся тайна — ларчик, то есть, просто открывается…
— А помнишь, я называл тебя — Ларчик? И говорил, что ты, Ларчик, открываешься непросто…
— Опять играешь словами? Ну-ну. А насчет просто или не просто… Ты и не пробовал открывать.
— Как это? Я думаю…
— По-настоящему не пробовал. И твой вечный антагонист тоже не особо старался. Вы больше занимались собой, пыхтели, как два быка, стоящие друг напротив друга… А на меня вам было, по большому счету, наплевать!
— Нет-нет, начнем сначала! — мысленно замахал руками Мятлин. Это, в конце концов, его игра воображения, значит, и правила игры устанавливает он. Да и вообще это неправда! Он очень хотел открыть ларчик, а если не удалось подобрать ключик, тут не вина его, а беда…
— Лариса… — прочел он вслух шестибуквенную комбинацию на бэйджике.
— Что вам, пассажир? — остановилась обладательница имени.
— А голос другой… — пробормотал Мятлин.
— Чей голос?
— Неважно…
Он взял стюардессу за руку.
— И рука другая — холодная. Все другое!
— Да что с вами, пассажир?! — вырвала та руку. — Не надо вам больше пить!
И пошла по проходу, если приглядеться, совсем не балетной походкой.
В очереди на паспортном контроле он наблюдал усталые серые лица тех, «кто выжил в катаклизме». Впереди оказалась Тереза, сказавшая, что после этой ночи просто валится с ног. И добавила:
— Это Кафка какой-то… Знаете, кстати, что в Праге жил Кафка?
Мятлин усмехнулся.
— Знаю. Я прилетел на конференцию по его творчеству.
Первой обо всем узнала Жаки, выскочившая из включенного ноутбука, как черт из табакерки. Поселившись в апартаментах (Мятлин выбрал вариант с доплатой, чтобы не толкаться среди коллег в гостинице), он подключился к Wi-Fi и ушел в душ. Когда же вернулся, обнаружил тревожно мигавший значок, означавший получение послания.
«Ужжос, ужжос, ужжос! Чуть не расфигачился на своем самолете, и молчит!»
Скорее всего, Жаки выудила новость о самолете из Интернета. Мятлин отстучал ответ:
«Ну, ужас. Но не ужас, ужас, ужас!»
«Ржешь?! Это несмешно!»
«Не смешно — пишется раздельно».
«Пишецца», — встречно поправила Жаки, любившая олбанский извод русского языка. Мятлин тоже мог бы перейти на эту новомодную хрень (дурное дело — не хитрое), однако филологическое достоинство не позволяло падать столь низко.
«Ладно, что хочешь узнать?»
«Не напрудил ли ты в штаны? Если с такой высоты шмякнуцца — по клочкам будут собирать!»
«Сейчас кажется, что нет. Хотя… Жутковато было, конечно».
«Еще бы!»
«Но там было много людей. А скопом, как известно, помирать не страшно».
«Не факт. Помирать всегда не кайф».
«Я, собственно, и не собирался этого делать. Что-то подсказывало: все будет хорошо».
«Все будет хорошо — фуфлыжная истина для нажористых обывателей. А ты вроде как философ?»
«Вроде как. Но все равно изрядно выпил, пока кружили в воздухе».
«Еще бы!»
«Короче, ты хочешь знать правду?»
«А ты сразу не понял? Правду, правду и только правду! Колись, философ!!!»
Он колебался недолго, взявшись лихорадочно стучать по клавиатуре, благо подробности были живы, выпуклы и требовали немедленного воплощения. Текст никак не правился, он тут же выбрасывался в сетевое пространство. Хотя еще удивительнее было то, что участники переписки были друг с другом абсолютно незнакомы — визуально, во всяком случае. На страничке Live Journal перед носом Мятлина красовалось фото улыбающейся Жаклин Кеннеди; но кто скрывался за изображением, Мятлин понятия не имел.
Он тоже представал в чуждом образе, возникая пред очами Жаки в виде памятника Аристотелю. Он сам сделал это фото, когда был на конференции в Салониках, поймав в кадр сияние большого пальца левой ноги, отполированного прикосновениями тех, кто жаждал приобщиться к мудрости великого старца. Потому его и называли философом; он же предпочитал называть корреспондентку: Жаки. Какая разница, если общаются в личке? Мятлин вообще никакой реальной информации о себе не выкладывал и под маской Стагирита мог предаться таким откровениям, каких не позволял себе даже с закадычными собутыльниками.
«Аффтор, быстрее бей по клаве!» — возникла реплика в окошке обмена. Мятлин быстренько закончил фрагмент (объемный, надо сказать!) и кликнул на «Отправить». Ответа ждал долго, уже самому захотелось поторопить визави, и тут опять выскочила россыпь буковок. Жаки вволю поглумилась над америкосами, что возвращаются через Прагу на бюджетных рейсах, а потом грохаются в обморок! И Терезе досталось, лишь хозяин бутылки коньяка получил однозначное одобрение.
«Правильный чел. Мог бы в одно жало высосать, а дал другим расслабицца!»
«Согласен. Жалко, я забыл имя спросить».
«Патмушта напрудил в штаны!»
«Да нормально у меня было со штанами…»
«Напрудил, напрудил, напрудил!»
Но самый большой интерес вызвала история про бэйджик с именем Лариса. Мол, столько вдруг вспомнилось, перед глазами поплыли картины, — и Жаки этой щелкой в святая святых тут же воспользовалась.
«Хочу исчо про Ларису!»
«Что значит — исчо?!»
«Кто она, как выглядит, какой была любовницей. Мы ж договаривались писать по чесноку!»
Мятлин притормозил. Ему очень хотелось написать про Ларису — подробно, с тончайшими деталями, однако что-то сдерживало. Не стыд перед Жаки, довольно бесстыжей и до неприличия откровенной (за что и ценил). Мятлин берег этот материал для другого, он собирал его по крупицам, как скупой рыцарь свои сокровища, и вываливать содержимое сундука вот так, в никуда — совсем не хотел.
«Я тебе позже об этом напишу».
«Хочу сейчас!»
«Извини — позже!»
Последовала череда издевательских смайликов, но вскоре Жаки сменила гнев на милость, попросив описать заоконный пейзаж. Это была ее привычка — узнав об очередном перемещении Мятлина, она всегда просила описать то, что виделось из окна.
«У меня за окном Вышгород. И Карлов мост».
«А подробнее?»
«Это один из самых красивых видов в мире!»
«Подробнее!»
На следующие минут двадцать Мятлин сделался пейзажистом, которому дали задание описать видимую картину вербально. Закончив (по ходу работы «аффтора» постоянно теребили и подстегивали), он утер пот со лба и в очередной раз отправил послание. «Прям Гоголь!» — одобрили усилия. После чего неожиданно задали вопрос насчет воображаемой истории, которая может менять ход событий. Он действительно в это верит? Или прикалывается?
«Я прикалываюсь».
«Нет, ты веришь в эту фигню! А почему? Неужели ты считаешь, что спас самолет?!»
Помогла ли в этот раз его выдуманная история, Мятлин не знал. У него с детства осталась привычка включать в критических ситуациях воображение, каковое могло, по идее, горы сдвигать. Но с определенного момента одновременно включался тормоз, и связан он был вовсе не со смертью блатного вожака, предсказанной (запрограммированной?) Мятлиным. Зема — человеческий мусор, годом раньше или позже он все равно отправился бы в мир иной, такова железная логика судьбы. Тут же было нечто другое, некая боязнь вкупе со стыдом и чувством вины; связывалось это, опять же, с Ларисой, а тут существовали информационные табу.
«Я очень хотел спасти самолет, — написал он после паузы. — Но в первую очередь хотел выжить сам».
«Вот! Свою задницу спасал! За честность — пять баллов!»
Однако пора было в музей Кафки, на другой берег Влтавы…
2
На конференции Мятлин сделался «ньюсмейкером» — происшествие попало в новости на TV, и его участник автоматически стал центром внимания. Транслируя в очередной раз историю, Мятлин умалчивал о животном страхе, не отпускавшем вплоть до посадки: в его изложении эпизод выглядел даже комично, а сам он был остроумен и находчив (если и напугался, то самую малость). И ему верили; и опять он убеждался в том, что событие и его версия — очень разные вещи.
Общаясь, он отмечал тех, с кем можно нескучно провести время за кружечкой пива. Среди новых лиц была отмечена Дарья Кладезь: вначале в программе (глаз зацепился за фамилию), затем во время знакомства. Дарья не покоряла эффектной внешностью, но была вполне миловидна. Не фонтанировала остротами и репликами, зато общения не чуралась. Золотая середина, что и было нужно: яркая внешность или острый ум отпугивали, он интуитивно шарахался от таких женщин, потому что — водоворот, омут, засосать может, а оно ему надо?
Приехавшая из Берлина Дарья докладывала в первый день. Она перевела для какого-то русского издательства несколько глав биографии Кафки, одну из них, посвященную отношению писателя к институту брака, и подвергла анализу. По ее словам, писатель благоговел перед этим институтом, хотел быть и мужем, и отцом, что однозначно доказывает рассказ «Одиннадцать сыновей». Однако в жизни ему не довелось сделаться ни тем, ни другим, помолвка с Фелицией, как известно, закончилась быстрым разрывом, после чего последовали роман «Процесс» и рассказ «В исправительной колонии», где однозначно прослеживаются мотивы самонаказания. Автор вроде как бичует себя за нерешительность, неуверенность, неумение дать любимой счастье, что косвенно подтверждает версию о мазохистских наклонностях.
Полемике по поводу мазохизма развернуться не дали — регламент не позволял. Тему удалось развить на фуршете, где выставили вино, пиво и местные кнедлики. Мятлин аккуратно оттеснил Дарью в уголок, для начала обыграв фамилию, дескать, вы просто кладезь бесценной информации. И хотя фамилия оказалась от мужа, пыл не охладился. Как показал более тщательный обзор, других претенденток на легкий романчик не было, а без оного поездка — не поездка, так, болтология вкупе с головной болью от пьянок.
— Что же главное в этом феномене: мазохизм или гениальность? Где курица, а где яйцо? Или, может, эти два качества органично уживались в Кафке?
Мятлин бомбардировал ее вопросами, Дарья же посмеиваясь, пригубливала вино. Насчет курицы и яйца она не знает, а вот место в Берлине, где произошла помолвка Франца с Фелицией Брауэр — знает. И бывший отель Askanischen Hof, где спустя несколько месяцев случился разрыв, тоже знает, даже может это место показать.
— Приедете в Берлин — покажу!
— Приехать в Берлин… — Мятлин сделал вид, что задумался. — А как же муж с такой звучной фамилией?
— Как говорят у вас в России — объелся груш. Мы развелись пять лет назад.
В тот момент и возникла уверенность, что все состоится. Если женщина столь легко говорит (а призналась она без малейшего намека на переживание) о разрыве с мужчиной, то она не только свободна — она хочет сближения. Потом была прогулка по вечернему Вышгороду, открытое кафе с видом на Влтаву, одним словом, романтик, который не стоило тут же опошлять постельными делами. Проводив Дарью до отеля, расположенного в Градчанах, Мятлин вернулся в свои апартаменты в Старе Място и тут же завалился спать.
На второй день звучал его доклад о Новом Замке. При всем величии Кафки его сумрачный гений не мог предвидеть появления этого Замка — невидимого и в то же время существующего. Это виртуальный Замок, размытый по поверхности планеты, бегущий по проводам, пронзающий эфир, и имя ему — Мировая паутина. Вы не можете обнаружить хозяина Замка, как не было его и в знаменитом романе. Всплывающие на поверхность Цукербергеры, Касперские и прочие Биллы Гейтсы не в счет, это господа Кламмы, лишь намекающие на принадлежность к власти, но не олицетворяющие ее. Кто же тогда олицетворяет власть? Кто двигает рычагами? Как ни странно, никто, а если точнее, двигает нечто. Этот Замок создали люди, однако то, что в итоге получилось, имеет нечеловеческую природу, что развязывает руки нынешним романистам. Такой жанр, как киберпанк, родился из предощущения тотальной механизации, из предчувствия заката биологического человека. «Матрица» в каком-то смысле выросла из Кафки, хотя ни автор книги, ни братья Вачовски, сделавшие на ее основе популярный кинопродукт, похоже, этого не осознавали…
Месседж вызвал оживление в зале, кто-то даже зааплодировал, однако обсуждение столь экстравагантной, по выражению ведущего, точки зрения было предложено перенести в кулуары.
Усевшись на место, Мятлин выкрутил регулятор громкости наушников, в которых бубнил синхронист, и погрузился в благодатную тишину. По счастью, в зале работал Wi-Fi, он подключился к Сети, чтобы обнаружить мигающую иконку: хочу общения! Открыв страничку, увидел скорбное лицо Жаклин Кеннеди. Похоже, это было фото после убийства супруга-президента (а может, после кончины супруга-миллиардера), то есть Жаки демонстрировала, что не в духе.
«Ты хде?»
«На рабочем заседании».
«А почему молчишь?»
«Так со мной все в порядке».
«Неинтересно — когда в порядке».
«Тебе опять нужен аварийный самолет?!»
«Нужен! Чтоб он загорелся, потом упал, но чтоб ты при этом остался жив».
«А остальные?»
«По барабану остальные, я их не знаю».
«А меня знаешь? Ты же меня никогда не видела».
«Зато я тебя чувствую. Даже догадываюсь о твоих желаниях».
«Да что ты говоришь!»
«Ты наверняка хочешь кого-нибудь трахнуть. Хочешь ведь?!»
«Ну, даешь!»
«Точно хочешь! И есть кого? Там же стопудово одни старые вешалки!»
Мятлин бросил взгляд влево, чтобы увидеть в конце ряда точеный профиль Дарьи. С такого ракурса она выглядела более выигрышно: анфас лицо было грубовато, а тут даже дурацкие черные наушники ее не портили.
«Не все вешалки, есть помоложе».
«Тогда флаг в руки, философ! Плюнь на скукотищу своего заседания, тащи в койку ту, что нравицца!»
Сетевая подружка всегда была, по ее собственному выражению, отмороженной, но тут был важен контекст. Если бы почтенные ученые мужи узнали о содержании переписки, в зале раздался бы возмущенный гул, и на пяти языках (конференция была международной) прозвучало бы единогласное: «Вон!! Изгнать нарушителя конвенции!» Да и Кладезь вряд ли одобрила бы такие вольности…
Когда Мятлин еще раз посмотрел на Дарью, то обнаружил встречный взгляд. Ее губы тронула усмешка, после чего, отвернувшись, она обратила глаза к сцене. «А может, и одобрила бы, — подумалось. — Сама ведь тоже думает, наверное, не о докладах…»
Спустя полчаса выяснилось, что она поддерживает его особую позицию. Фигурант их исследований, в конце концов, тоже стоял наособицу, лишь после смерти сделавшись классиком, а при жизни был изгоем!
Об этом и многом другом говорили, гуляя по старой Праге.
— И Ян Гус занимал особую позицию, верно? — говорил он, стоя перед памятником в центре Староместской площади. — Хотя, говорят, тут не только его — еще кучу народу сожгли?
— Да, в 17-м веке здесь казнили 27 знатных протестантов.
— Тоже за особую позицию?
— Можно сказать и так. Вот эти белые кресты на брусчатке нарисовали в память о них.
— 27 знатных протестантов… — Мятлин внезапно засмеялся. — Почти как 26 бакинских комиссаров!
— Бакинские комиссары? — удивилась Дарья. — Кто это?
Он вскинул брови.
— Мы филонили уроки истории?!
— Просто я эмигрировала еще в детском возрасте. И школьные уроки забылись, как страшный сон.
— Это хуже, чем страшный сон. Это Кафка какой-то!
Вспомнив скандал с завучем, он поведал о том, как едва не был изгнан из школы из-за невинной, можно сказать, реплики. Анекдот рассмешил Дарью, и он выдал следом еще несколько баек, закрепляя успех.
Часы на площади смотрели, уже обнявшись. В окошке проплывали фигурки апостолов, крутил головой турок, дергал за веревочку скелет, Мятлин же скользил рукой по женской пояснице, опускаясь все ниже. Дождавшись финального петушиного крика, они нырнули в переулок, чтобы вскоре оказаться перед домом у Карлова моста, где на третьем этаже замечательная двухкомнатная квартира с шикарным видом из окна.
Дарья оказалась старательной. Пройдя через немалое количество партнерш, Мятлин научился разделять их на а) никаких, б) старательных, в) отдающихся по вдохновению. Первых, по счастью, в его практике насчитывалось немного, но и третьих, к сожалению, по пальцам можно было перечесть. Основной контингент случайных или долговременных постельных связей отмечался добросовестным исполнением обязательной программы, на произвольную, увы, у большинства пороху не хватало. После вроде как страстных объятий и содроганий полагалось выразить дежурное восхищение процессом (хорошо было, правда?), однако без вдохновения блюдо оказывалось пресным, недосоленным, что ли, и возникал вопрос: как часто понадобится его употреблять? До финала их болтологии оставалось еще три дня и, соответственно, три ночи, что вполне можно было выдержать (хотя в Берлин — если бы пригласили — он вряд ли бы поехал).
— Говорят, ты чуть не разбился, когда сюда летел? — внезапно спросила Дарья.
— Такой финал не исключался.
— Страшно было?
Мятлин сделал вид, что задумался.
— Экзистенциальные моменты, — раздумчиво проговорил он, — отмечаются целой гаммой чувств. Причем довольно противоречивых.
Дарья рассмеялась.
— Ты не на конференции! Я задала простой вопрос: было страшно?
Но Мятлин опять вывернулся, уведя разговор в сторону.
Он сам удивлялся тому, что с живым человеком не смог перешагнуть порог откровенности, а вот с виртуальной Жаки — перешагивал без проблем! По ходу утреннего сеанса связи давешняя партнерша оказалась разложена по полочкам, просвечена рентгеном, после чего с биркой на шее была отпущена на свободу (пока). Визави подстегивала («Аффтор жжот!», «Хочу исчо!»), и он не жалел «клаву», стуча по ней, как дятел. В этом исторжении из себя слов было что-то неприличное, грязное и одновременно до жути притягательное; а причина подобной «гаммы чувств» крылась в пластиковом ящичке с экраном и клавиатурой. Ящичек был подлинным кладезем, он представлялся волшебной шкатулкой, таящей в себе невиданные возможности…
В последующие два дня Мятлина не оставляло ощущение необязательности, если не сказать — бессмысленности происходящего. Выходящие на трибуну довольно сухо и рационально препарировали чувства и намерения того, кто гулял по жизни с содранной кожей; они копались в исподнем пражского невротика, принюхивались, развешивали белье на веревочках, приклеивали бирочки, не забывая отмечать: он был великий писатель. А вот если бы рядом не оказалось Макса Брода, тогда как? Сжег бы закомплексованный гений свое наследие («Аффтор жжот!»), и не было бы никакого великого Кафки! И бесчисленных диссертаций не было бы; и конференций, куда приглашают на халяву болтологов-филологов со всего мира; и грантов.
Эта категория научных людей напоминала персонажа, увековеченного в пражском памятнике писателю. Некто в шляпе и с вытянутым вперед пальцем (подразумевалось, что это Кафка) восседал на ожившем костюме. Костюм вроде как облегал чье-то тело, но головы не было, руки тоже отсутствовали, и создавалось впечатление, что внутри — пустота. Вот и они вроде как оседлали пустоту, изымая из нее, впрочем, вполне ощутимые дивиденды.
Может, потому и вспоминалась Лариса? В последнее время та начала все чаще оживать в памяти: занимала мысли, влезала в сновидения, и поделать с этим Мятлин ничего не мог. Очередной глюк догнал на Карловом мосту, когда вместе с Дарьей слушал музыкантов. Репертуар предлагался на любой вкус, от джаза до Баха, а уровень исполнителей явно говорил о наличии консерваторского диплома. Неожиданно в поле зрения возник силуэт молодой женщины в белом брючном костюме. Балетная «кичка», покатые плечи, стройные ноги… И ведь не был пьян, как в самолете, а устремился следом; музыка сделалась тише, а толпа, заполнявшая мост, будто превратилась в теней.
— Эй, ты куда?!
Окрик Дарьи заставил обернуться.
— Здесь чардаш!
— Кто?!
— Не кто, а что! Венгры замечательно чардаш играют!
— А-а… Очень интересно.
Он проводил глазами силуэт. На время морок оставил, чтобы догнать в ночные часы: он тискал и мял женское тело, через осязание пытаясь оживить в памяти ту, что являла собой одно лишь вдохновение. С ним такое случалось, спустя пару лет после трагедии Мятлин даже закрутил с одной из приятельниц Ларисы из института цитологии. Та и не догадывалась, что была лишь ступенькой, что призвана приблизить к другой женщине — лишь удивлялась тому, что партнер всегда выключал свет, да еще и шторы задергивал. В темноте можно было отпустить воображение на волю, создать химеру и самому же в нее поверить. И пусть получалось не очень (оригинал не заменишь бледной копией), он время от времени повторял эксперимент…
Эксперимент закончился неудачей: он так и не догнал ту, чей образ им завладел. Не высший класс оказалось воображение, Мятлин — не Кафка, что Дарья почувствовала.
— Ты где-то далеко, — сказала, откинувшись после ласк, что ничем не закончились.
— Я близко, — вяло возразил он. — Протяни руку — и достанешь.
— Думаешь? А вдруг…
Дарья выдержала паузу.
— Что — вдруг?
— Вдруг я протяну руку — и наткнусь на пустоту?
Неожиданная реплика сбила с толку. Почему-то подумалось: хорошо, что в номере темно. Его физиономию (он буквально чувствовал это) свела судорога — то ли от страха, то ли от стыда, а такую мимическую игру посторонним лучше не видеть. Он ведь и сам иногда чувствовал внутри леденящий вакуум, будто из него вынули не только душевную субстанцию, но и всю требуху: легкие, печенку, сердце… В такие минуты он являл собой тот самый оживший костюм, когда реален лишь силуэт, а наличие чего-то внутри — под большим вопросом.
Расставались с прохладцей. Мятлин искоса поглядывал на часы внизу большого электронного табло и ждал, пока Дарья поставит ногу на ступеньку автобуса «Прага-Берлин». Она же не спешила ставить, вспоминала прошедшие дни, смеялась (натянуто), а финальный поцелуй смазала, чмокнув Мятлина куда-то в шею.
— Пиши мне на e-mail, — сказала, хотя до этого просила звонить. Мятлин послушно кивнул, подумав, что e-mail лучше, потому что безличнее. Голос выдает, да и разговор обрывать не всегда удобно, а цепочку значков на экране ты можешь оборвать в любой момент.
Вылет опять был ночной, оставалась уйма времени, и он решил убить его привычным способом. Жаки наверняка изнывала от тоски, потому что ее философ коварным образом исчез из поля зрения. А нечего давать дурацкие советы! Флаг в руки! Тащи в койку! Обо всем этом Мятлин планировал написать с блеском, с иронией и, естественно, предельно откровенно. Тут-то вдохновения хватало; а если еще бутылку «Бехеровки» поставить рядом с ноутбуком…
Внутри что-то щелкнуло, когда готовился отослать первый пассаж. Мятлин наставил курсор на «Отправить», приготовился кликнуть, но внезапно сдвинул мышку в сторону. Налил в рюмку зеленой пахучей жидкости, выпил — и опять отправка не состоялась. Ужас вползал в него медленно: захватил ноги, поднялся к животу, сдавил сердце. С чего он, собственно, взял, что Жаки — это милашка со средним интеллектом, каковой можно безбоязненно сливать то, что течет по трубам внутренней канализации? Она может быть кем угодно, даже особью мужского пола! Хуже всего — если особью из числа врагов; но ведь и «друзья» могли покуражиться над Мятлиным, который всегда был себе на уме и с Urbi et Orbi общался, как правило, иронически. Ату записного ирониста! Залезем ему в штаны, вытащим тайные мыслишки и порочные желания, благо он сам их предоставит на блюдечке с голубой каемочкой!
Он опять не мог мыслить здраво, как и в самолете. Теперь обуял страх перед черным ящичком с экраном — в нем могла храниться бомба, способная напрочь уничтожить его реноме и растоптать репутацию (какая-никакая, но она таки была!). «Ящичек Пандоры…» — подумал Мятлин и еще раз налил «Бехеровки». Местный ликер, однако, не успокоил, с каждой последующей рюмкой страх охватывал все сильнее. Эти ящички только с виду ручные, на самом деле их наполнение загадочно, и на что способна эта клятая мировая паутина — одному богу (точнее, черту!) известно…
На экране в рамочке красовалась традиционная реплика: «Ты хде?» Только Жаки осталась без ответа. Выключив компьютер осторожно, будто в нем и впрямь гнездилась «адская машина», Мятлин взялся собирать вещи. Дух Кафки взял в плен и не собирался отпускать. Мятлин с подозрением приглядывался к таксисту, что вез в аэропорт, будто этот молчаливый чех мог залезть в его мозг, чтобы провести инвентаризацию мыслей. И в аэропорту, протягивая паспорт на регистрацию, он боялся, что доброжелательная служащая авикомпании, окинув его проницательным взглядом, громогласно заявит: «Позор Евгению Мятлину! В черный список его, не пустим больше этого монстра в Шенгенскую зону!»
Добив «Бехеровку» еще в номере, он не забыл про Johnnie Walkerа, так что перелет почти не помнил. Дух ожил дома, когда, ввалившись в три часа ночи в квартиру, он плюхнулся на диван и, не раздеваясь, отключился.
В том кошмаре за ним, как за его тезкой из знаменитой поэмы, гонялся оживший памятник. Только не кумир на бронзовом коне, а Кафка верхом на костюме. Он гонял бедолагу по безлюдной Староместской площади, и напрасны были взывания к медному Яну Гусу, равно как и к 27 погибшим протестантам — памятники, похоже, сговорились. Метнувшись к часам с движущимися фигурами апостолов, он обратил взор вверх.
— Защитите! — возопил. — Это ж прямая ваша обязанность — защищать невинных от нечисти!
Движение фигур остановилось, даже скелет повернул череп в его сторону, а турок перестал качать головой.
— Это кто невинный?! — раздался сверху голос апостола Петра. — Ты, что ли?! Ну, насмешил! Ты виновен!
Остальные фигуры закивали головами, мол, виновен, а как же! А скелет проскрежетал:
— Если виновен, начинайте процесс!
— Эй, какой еще процесс?! — вскрикнул растерявшийся Мятлин.
— Тот самый… — плотоядно усмехнулся турок. — Только подсудимого будут звать не К., а М. За что его будут судить? Это неважно, важно — что М. виновен!
Памятник между тем приблизился вплотную, и Мятлин наконец разглядел, что наверху сидит Дарья Кладезь, а оживший костюм — не кто иной, как Жаки. Именно такой, безликой и жуткой, и должна быть госпожа инкогнито, а тогда ничего хорошего ждать не приходится…
Он побежал дальше, пытаясь скрыться в переулках, но за спиной по-прежнему слышалась звенящая поступь памятника. Не уйти! Выскочив на Карлов мост, он услышал зажигательный чардаш, что играли венгры, взялся было плясать (зачем, спрашивается?!), а памятник уже тут! Значит, надо на другой берег, потом ступеньки Вышгорода, еще ступеньки, и вот уже какой-то Замок (не тот ли?), куда он вбежал в последней попытке скрыться от монстра.
Большой зал Замка оказался заполнен людьми. Приглядевшись, он узнал в них участников конференции, на которой недавно выступал. Когда памятник ввалился следом, Кладезь ловко соскочила с костюма и устремилась к трибуне.
— Обвиняемый доставлен!
Проговорив это, она подняла колокольчик и трижды в него позвонила.
— Теперь начинаем процесс! Где первый свидетель обвинения?
Оставшийся в дверях костюм поднял рукав, мол, я!
— Очень хорошо. Кому, как не вам, уважаемая Жаки, знать всю подноготную М.? Сам все выложил, трепач сетевой… Еще кто?
Когда в дальнем ряду поднялась мужская фигура, Мятлин с удивлением узнал старого (ну очень старого!) знакомого. Что здесь делает Самоделкин?! То есть Рогов?!
— Я протестую! — вскинул он руки. — Никакой он не свидетель! Он тоже обвиняемый, если на то пошло!
— Ну, это не вам решать, ху из ху. У нас ведь еще один свидетель найдется. Точнее, свидетельница.
Дарья всмотрелась в зал.
— Свидетельница, вы здесь?
— Здесь! — ответил голос, который Мятлин узнал бы из тысячи. А потом повторилось то самое: балетная кичка, покатые плечи, стройные ноги, только теперь никакой ошибки не могло быть. Когда она выходила к трибуне, сердце упало вниз, выкатившись из Мятлина, будто яйцо, прямо на каменный пол.
— Обвиняемый, — строго проговорила Дарья, — вы потеряли сердце!
— А оно ему не надо! — влез (влезла?) костюм-Жаки. — Раньше нужно было о нем думать!
Лариса двигалась к трибуне, а Мятлин чувствовал, как жизненные силы покидают его — нужно сердце или нет, а жизнь без него останавливается. «Не успеют…» — подумал он, падая на пол…
3
Погружение в прошлое начиналось со дня похорон, служивших своеобразным рубежом: до того была одна жизнь, после — другая. Именно похороны врезались в память, а не известие о гибели в страшной катастрофе под Уфой, когда в низине сошлись два состава, и скопившийся там газ превратился в огненный смерч, за несколько секунд унесший сотни жизней. То было событие мирового масштаба (такая гекатомба!), и дикторы СМИ вещали об этом несколько дней. Ему же запомнилось не трехзначное число жертв — запомнился лакированный гроб, мать в черном и совершенно седой отец, вдруг возникший на похоронах. Светлана Никитична не могла скрыть застарелой ненависти к тому, с кем давно рассталась. Она не дала ему сказать слово у гроба, а когда отец задержался на могиле, скомандовала водителю: едем на поминки! Растерянная физиономия этого высокого породистого мужчины тоже запомнилась: в расстегнутом пальто, он стоял по щиколотку в снегу, провожал глазами автобус, и холодный ветер трепал седые волосы…
Загадка заключалась в том, что воспоминание не умерло, хотя по закону жанра под названием «жизнь» должно было погрузиться в пучину повседневности и благополучно забыться. От той жизни отделяла целая эпоха, вместившая десятки новых знакомых, два брака, несколько мест работы, множество поездок — уйму всего! А поди ж ты, былая привязанность оживала в памяти все отчетливее, даже сказочная Прага не усмирила воспоминания.
Почему-то запомнилось ощущение сиротства, что внезапно накрыло после поминок. Знакомая до мельчайших подробностей квартира со шторами-маркизами, натюрмортами на стенах, хрусталем в стенке — вдруг начала растворяться в воздухе, исчезать, ведь даже если он появится здесь на девять дней, на годовщину, прежней атмосферы не застанет. Не будет их разговоров, ее фирменного кофе со сливками, телевизора, куда утыкались оба, если вспыхивала ссора… На Чайковского не было безоблачно, но сюда тянуло, и не одного Мятлина. Только теперь делить нечего, а значит, тень тоже вряд ли объявится. Он тогда вышел на балкон, где обычно курил, дожидаясь ее реплики «чего застрял?» — а потом упорно совал в рот одну сигарету за другой в ожидании, что свершится чудо, и реплика прозвучит опять.
Воображение служило противовесом жуткому «ничто», которое вползало в душу, вымораживая внутренности и перешибая хмель. Порой думалось: может, она не погибла? Тела он не видел, хоронили в закрытом гробу, и мать могла имитировать похороны, чтобы избавить дочь от тягостной двусмысленности, в коей та пребывала. Он не раз слышал от Светланы Никитичны: «Буриданова ослица» — намек на невозможность выбора, что было чревато отсутствием нормальной семьи, детей и т. п. А тогда на что угодно пойдешь, чтобы вытащить кровинушку из болота, куда та угодила в юном возрасте, а с годами увязла еще сильнее. И хотя фантазия была кощунственной, становилось легче, «ничто» отступало, и ледышка внутри начинала оттаивать…
Не так часто они встречались (слава богу!), в основном дуэль проходила заочно или вообще в шпионском варианте, как это было в столице советской Эстонии. Мятлин никогда в жизни не помчался бы туда, где по улицам города-стилизации разгуливают Рогов с Ларисой — это было бы унижением. Но она сама позвонила, мол, вечером еду в Таллин.
— А мне зачем сообщаешь?
Во время повисшей паузы показалось, что Лариса на том конце провода мучительно усмехается.
— Думала, тебе тоже захочется. Надо же когда-то ставить точки над i.
Фактически его приглашали, потому и рванул на вокзал, схватив в кассе едва ли не последний билет.
Он представлял себя кем угодно — от графа Монте-Кристо до Ивана Карамазова, но Джеймсом Бондом стал впервые. На нем был черный кожаный плащ, длинный шарф, голову украшала шляпа-стетсон (настоящий шпионский прикид). А с учетом местного колорита нетрудно было вообразить себя где-нибудь в Швейцарии, исполняющим секретную миссию. В крошечном историческом центре найти Ларису с Роговым не составило труда. Надвинув шляпу на глаза, он мог пройти мимо, кося глазом на парочку, или встать на другой стороне улицы, чтобы курить и исподволь наблюдать, как они сидят в кафе. Чувствуя его присутствие, Лариса нервно озиралась, этот же простофиля ни сном ни духом не догадывался, что каждый их шаг под надзором. Случалось, Мятлин шел им навстречу, зарыв нос в шарф, а на глаза надвинув шляпу, грубо задевал соперника плечом, чтобы услышать в спину: «Поаккуратнее можно?!» Он не оборачивался, удаляясь по заполненной праздным людом улице, чтобы спустя час в зале кирхи Нигулисте, на органном концерте сесть на два ряда сзади и сверлить взглядом затылок Ларисы. «Обернись! — приказывал он мысленно. — Немедленно обернись!» В те дни на экраны вышел фильм Лилианы Кавани «Ночной портье», и можно было воображать себя героем Дирка Богарда, наблюдавшего на концерте за бывшей возлюбленной, каковая должна с ним сбежать от глупого мужа. Как и в кино, Лариса чувствовала его взгляд, но оборачиваться было неудобно. Потом они двигались к гостинице, и Мятлин двигался следом, чтобы на пороге «Олимпии» быть остановленным швейцаром: есть визитка? Нет? Тогда, «таракой, тосфитанья!» В этот момент в сердце стучал пепел Клааса, и он готов был по пожарной лестнице взобраться на небоскреб, чтобы ввалиться в гнездышко в самый неподходящий момент и обломать любовникам кайф.
В той «бондиане» вообще проглядывало что-то рогожинское: иногда во время слежки (нелепой, если разобраться) хотелось выковырять из старинной мостовой булыжник и, запустив в затылок Рогову, однозначно решить вопрос. То есть рано или поздно терпение должно было лопнуть; и оно таки лопнуло на выставке цветов, где Мятлин выскочил, как цветочный дух, из-за гигантской корзины с хризантемами, чтобы схватить ее за руку и увлечь к запасному выходу. Фильм «Ночной портье» вспомнился еще раз, когда остались на сутки в его гостиничном номере. Зайдя в ванну, Лариса вскрикнула, чтобы вскоре выйти оттуда с обмотанной полотенцем ладонью. Полотенце набухало кровью, но вместо того, чтобы перебинтовать ладонь, Мятлин слизывал кровь языком, а Лариса хохотала, правда, хохот был какой-то жутковатый; потом она повалилась навзничь, и он входил в нее, а кровь стекала на сиреневую гостиничную простыню, и почему-то их это абсолютно не волновало…
Из той эпопеи запомнилось, как выбирали подарок. Мятлину взбрело в голову купить ей что-то на память (подразумевалось: на память о том, как хитроумно он объегорил Рогова). Предлагал сувениры, шмотки местного производства, она же потащила обратно на выставку.
— Вот это подари, — указала на невзрачный цветок.
— А что это?
— Орхидея-фаленопсис.
— Может, лучше розы?
— Нет, мне нужно это. Купишь?
Подарив орхидею, он собрался провожать ее на вокзал, но по дороге Лариса исчезла. И хотя разыскать ее было нетрудно, он не стал этого делать — уехал в Питер. Победное чувство испарилось, поездка представлялась чудовищной глупостью, а сам он выглядел полным идиотом.
Остальная жизнь тоже вспоминалась порой, пусть и не так остро. Вспоминался университет, лекции любимых профессоров, всячески поощрявших молодого филолога, что жадно осваивал материк под названием «мировая литература». Если Мятлин чего-то не читал, он расшибался в доску, чтобы достать неизданную или раритетную книжку. За что получил прозвище «Женька-энциклопедист». Он читал то, с чем и профессора не всегда были знакомы. А если и были, то помалкивали в тряпочку — не каждая книга служила ступенькой вверх, за некоторые можно было запросто покатиться по служебной (а заодно и социальной) лестнице вниз, чтобы оказаться в резервации для неудачников. Даже записные факультетские вольнодумцы предпочитали умеренность в высказываниях, они крепко держались за свои места, что «энциклопедист» и осознал примерно к третьему курсу. После чего заскучал, стал искать другие пути, обретя их в лоне независимой культуры. «Виват, андерграунд! Мир подвалам, война казенным аудиториям!» Под этими лозунгами он встретил перемены в стране, к окончанию университета став едва ли не в оппозицию к тем, кто его поощрял и поддерживал. Опознав ниспровергателя устоев, профессура сменила отношение к прежнему любимчику, но заваливать не стала. Не в духе времени было уничтожать на корню свежие ростки, так что диплом после небольшого скандала состоялся, и в аспирантуру (хоть и в другом заведении) он поступил, и диссертацию защитил. Вот только работать на одном месте долго не мог — то скука одолеет, то коллеги начнут раздражать, то личные отношения разрушат карьеру, начавшую налаживаться.
Его две женитьбы оказались дежурными, неяркими и закончились известно как. Что любопытно: переживая очередной разрыв, он всегда сравнивал ощущения с главным разрывом, ведь очередная супруга тоже уходила из жизни навсегда, в каком-то смысле умирала. Но наблюдал лишь бледную копию той смеси боли, тоски, стыда и еще черт знает чего, пережитого после гибели Ларисы. Своих жен он довольно быстро просчитывал, понимал внутренние пружины их просьб, капризов и т. п., а вот про Ларису такого сказать бы не смог. Может, просто не успел? Обзаведись они общим бытом, детьми, погрузись в обывательскую стихию — он бы сумел ее понять? Теперь не выяснишь, поезд ушел, точнее, направился в сторону Уфы, а там…
В последнее время чувство вины стало обретать извращенные какие-то формы. Кажется, после приезда из Таллина он едва не возопил, воздев руки к небу: доколе?! Уберите ее от меня, пусть исчезнет! Адресовалось обращение непонятно кому, но желание было искренним, если не сказать — жгучим. Ему хотелось замазать эту страницу биографии, опрокинуть на нее склянку с чернилами, чтобы ни одна буковка не прочитывалась. А лучше всего вообще вырвать страницу и сжечь! «Пусть она исчезнет!» — на время сделалось заклинанием, мантрой, которая повторялась иногда даже вслух, после чего, как водится, включалось воображение, не знающее ни руля, ни ветрил. Перед глазами мелькали некие катастрофы, воображались несчастные случаи, когда никто не виноват (трагическая случайность!), зато итог закономерен.
Он не считал, что вообразил в подробностях гекатомбу под Уфой, однако и обратного утверждать бы не стал. С течением лет все чаще стало казаться, что выдумка сыграла роль, заклинание сработало, а значит: встать, суд идет. Видение после возвращения из Праги было вернейшим тому подтверждением, апофеозом сюрреализма, в который погрузился Мятлин, не отличавшийся склонностью к самоистязанию. Тем не менее, застарелая рана саднила, кровоточила, и требовались какие-то способы лечения.
Терапия обрела форму почеркушек: набросков, эпизодов, разбросанных по обрывкам бумаги, по файлам компьютера, или вывешенных в Сети под псевдонимами. Ничего целостного, так, черновой портрет безымянной героини. На время помогло, но недавно нахлынули новые фобии, как будто в его сугубо личную историю влезал кто-то еще. Да, он вел себя безответственно, откровенничал с незнакомками (незнакомцами?) из сетевого эфира, только дело было не только в этом. Интуиция подсказывала: рядом появился кто-то другой, и он затаскивал Мятлина в ад, выражаясь философски. Ведь ад, как сказал Сартр — это другие…
4
Пребывая в хорошем расположении духа, Мятлин, наконец, ответил Жаки, уже неделю его домогавшейся. Зря он тогда испугался, девушка была без второго дна, она тосковала и, дождавшись ответа, засыпала его «чмоками» в виде ярко-красных женских губ.
«Куда пропал, философ?! Молчишь, как рыба об лед!»
«Я работал».
«А я страдала! Может, даже плакала!»
«Скажешь тоже…»
«Ладно, не плакала. Но мне было скучно».
«А со мной весело?»
«С тобой тоже скучно, патамушта долго не отвечаешь. А над чем ты работал?»
«Над статьей».
«Над какой статьей?»
«Ты вряд ли это поймешь».
«Философ, забаню! Колись немедленно: о чем статья?»
Мятлин задумался, затем отбарабанил:
«О фаллическом начале».
«Это от слова „фаллос“?»
«Ага».
«О-о, ты считаешь, я не пойму?! Очень даже пойму! Я люблю фаллическое начало, философ! А еще больше люблю фаллический конец!»
Оценив остроумие собеседницы, Мятлин внезапно захотел увидеть ее воочию. Прикоснуться к ее коже, провести рукой по волосам, почувствовать их запах… Он едва не предложил это, но вовремя одумался. Еще в начале виртуального диалога договорились: никаких встреч и анкетных данных, только откровенно-сокровенные истории и желания. Приколы (любимое выражение Жаки) тоже приветствовались, и он, поразмыслив, выдал в эфир ту бредятину, что накрыла после прилета из Праги.
«Круто! — оценили пассаж. — Особенно про сердце. Может, оно действительно тебе не нужно?»
«Может быть. А тебе нужно?»
«Не, без него прикольнее!»
Но вскоре опять проснулся страх: перед глазами вставали бесчисленные «ящички Пандоры», соединенные между собой невидимыми нитями, и в этой гигантской паутине возникал он, Мятлин, в виде попавшей в тенета мухи. Не так давно он докладывал научному сообществу, мол, хозяина паутины нет, тут каждый червь и раб, и одновременно — царь и бог. Однако в его воображении хозяин обнаруживался, паук где-то сидел, подтаскивая к себе бессмысленно трепыхавшуюся муху.
Он уже собрался отключаться и пить снотворное, когда звякнула почта. Оказалось, прислали приглашение на юбилей — 25 лет школьного выпуска. Стиль был провинциально-высокопарный, мол, глубокоуважаемый Евгений Батькович, Вы окажете нам честь, если посетите наш праздник, который состоится тогда-то в школе, которую Вы окончили. Вы достигли больших успехов в жизни, пишете серьезные научные работы, участвуете во всероссийских и международных конференциях, поэтому организаторы праздника хотели бы попросить Вас выступить на юбилейном мероприятии.
Послание было трогательным и одновременно нелепым. Судя по фамилии директора, подписавшего приглашение, руководство школы сменилось (прежнее начальство вряд ли пригласило бы). Откуда узнали адрес? Возможно, на сайте «Одноклассники», где Мятлин год назад отметился, тут же сбежав. Следы в Сети, однако, стереть непросто, они множатся и ветвятся, разлетаясь по планете, а тогда, родной, изволь пожаловать на торжества. Или хотя бы отписаться, дескать, благодарю покорно, дорогие педагоги, спасибо, что не забыли, но по причине сугубой занятости моя речь, исполненная ностальгии по замечательным (лучшим в жизни!) школьным годам на юбилее не прозвучит.
Заканчивая набивать вежливый отказ, он получил еще одно послание:
«Едем на празднег?»
Адрес был незнакомый, а подпись вообще отсутствовала. Судя по стилю, реплика могла быть приколом Жаки, но та не знала личной почты — Мятлин для нее был кантовской «вещью в себе», человеком без лица. Тогда кто написал? Кто-то из одноклассников? Пряжск остался в прошлом, из старых знакомых его навещал разве что Клыпа, заделавшийся «бизнесменом»; а сам он в городе детства был семь лет назад, на похоронах матери…
Он не ожидал, что разволнуется. Мало ли кто, кому и что напишет в этой, по Маршаллу Маклюэну, большой деревне? Пиши, губерния, нынешнее тотальное экраномарание — лишь следствие поголовной грамотности. Но доводы не убеждали. Он нутром чуял паука, который где-то в отдалении тянет за паутинку. Муха не видит его, но понимает: паук есть, и хозяин ситуации, конечно, он. Были же еще послания, бравшиеся вроде ниоткуда, но цеплявшие личную жизнь, говорившие о том, что автору что-то про Мятлина известно. А тогда — аккуратно кликнем на «Завершить работу» и закроем прямоугольный светящийся глаз, что внимательно нас изучает. Спи, машина, баюшки-баю, а я (если сумею) забудусь тревожным сном неврастеника.
Выход в реальный мир произошел не сразу. Наступающее утро проявило книжные стеллажи, занимавшие две стены, музыкальный центр в углу, картины и фотографии на стене. В однокомнатном жилье, доставшемся после развода, интерьер был продуманным, но, как выражался Мятлин, с двумя белыми пятнами. Первое пятно — пустая тумбочка по диагонали от тахты, где в «приличных домах» находится телеящик. Располагая средствами, он пока не решался приобрести модную плазменную панель. Последняя супруга очень любила сериалы, они просто в печенках сидели; и хотя имелся еще канал «Культура», кинопоказы с Гордоном и т. п., превозмочь идиосинкразию к слову «телевизор» Мятлин не смог.
Второе пятно красовалось справа от фотографии матери. Именно она приезжала обустраивать гнездышко ветреного сыночка и поначалу водрузила на это место портрет единокровного отца. Тот давно пропал в своем уральском регионе, то ли спился, то ли был убит — Мятлин особо не интересовался. Умом он понимал, что родителей не выбирают, только детскую обиду так и не преодолел: что-то было украдено у него, чего-то было недодано. Или отпугивал пример неудачной судьбы? Сам-то Мятлин числил себя удачливым: ученая степень, место преподавателя в коммерческом вузе, публикации, зарубежные гранты, поездки… Но почему-то не отпускало ощущение шаткости этого всего, будто он мог в одночасье потерять наработанное годами, оказавшись у разбитого корыта, как тот, со слезящимися глазами, что возник однажды на пороге пряжской квартиры.
Белое пятно, тем не менее, являлось визуальным укором и провоцировало на то, чтобы его закрыли. Выпив чашку кофе, Мятлин взялся рыться в кипе фотографий, чтобы выбрать себя, любимого. Ага, вот снимок после защиты диссера. Здесь он молод, в волосах ни малейшей седины, а в лице уверенность и целеустремленность. Сейчас уверенности поубавилось, зато появились круги под глазами, белые нити в черной шевелюре… «Едем на празднег»? Увы, любые праздники (юбилеи особенно) уже имели оттенок горечи, пятый десяток все-таки, пора к земле привыкать.
Дела служебные воспринимались в этом контексте без пафоса, как тяжкая обязанность. Мятлин взглянул на часы и, вздохнув, засобирался на Университетскую набережную. Требовалось отнести распечатку статьи на филфак, и эта необходимость удручала, если не сказать раздражала. Один щелчок мышки — и статья улетела бы по e-mail, однако профессор Клименко не считал нужным приобщаться к прогрессу, а значит, тащи на кафедру бумажную версию, каковую если и прочтут, то через месяц, а потом еще и откажут в публикации.
Тоненькая стопочка листов, лежавшая на краю стола, смотрелась анахронизмом, символом старообрядчества. Не зря Клименко дали прозвище Аввакум: неистов был профессор в защите консервативных идей, ни дать ни взять — опальный протопоп. «Я не пользуюсь электронной почтой! — отмахивался он от любого, желавшего наладить связь через Интернет. — На кафедру приносите ваши труды!»
Яблонская соткалась из воздуха, когда Мятлин ожидал открытия кафедры. Сотрудники почему-то не спешили появляться на рабочем месте, и тут она со своими прыжками на грудь, лобзаниями и громогласным хохотом, из-за чего сновавший по коридору университетский люд с удивлением на них оглядывался.
— Чего тут забыл, Женечка?! Изменщик коварный, ты же променял альма матер на теплое местечко, а все бегаешь на кафедру? Статейки в «Вестник» таскаешь? Ну, конечно, вот очередная!
С этими словами она выхватила стопочку из рук Мятлина и принялась бесцеремонно листать.
— О-о, фаллическое начало! И в роли фаллоса — техника?! Это новое слово, Мятлин! А главное, ты прав! Техника нас буквально изнасиловала и продолжает насиловать ежедневно, если не сказать — ежечасно! Но ты все-таки изменщик. Хочешь, как говорят в народе, и рыбку съесть, и сесть?
Она опять захохотала, причем как-то утробно, что удивляло. Телосложением Яблонская напоминала тростинку, а звуки издавала как оперная певица с необхватной грудной клеткой.
— Потише можно?! — попытался урезонить Мятлин. — Изменщик… Сама-то давно из Штатов?
— Буквально на днях. Но мои полставочки в родном универе сохраняю, и за это ничтожное вознаграждение продолжаю сеять разумное-доброе-вечное. Не молюсь, короче, Мамоне, как некоторые!
— Что ты говоришь?! Америка сделалась божьим царством, выходит?!
— В Америке, как ты знаешь, мои маменька с папенькой, а старичков навещать — святое дело!
— Может, ты сама сделалась святой? А? Святая Мария Яблонская — неплохо звучит!
На Мятлина посмотрели с прищуром.
— Главное, чтобы ты в святые не подался. И не утратил это самое… Фаллическое начало!
Когда она опять захохотала, Мятлин запечатал эту иерихонскую трубу ладонью. По ходу разговора он оттеснил ее в закуток возле буфета, где можно было не особо стесняться. Их колкости вообще были дежурными, на самом деле оба явно обрадовались случайной встрече, каковая вряд ли оборвется в университетском коридоре.
— Хорошо пахнешь, Женечка, — сказала Яблонская, освободив рот. — Как всегда, впрочем.
— Ты еще помнишь, как я пахну?
— А то ж! Надеюсь, и ты не забыл?
— Не забыл, не забыл… А ты, кстати, собралась сеять разумное-доброе-вечное? Или уже свободна?
— Уже свободна. А ты разве не будешь дожидаться Клименко?
— В следующий раз! — махнул рукой Мятлин. — Надо отметить встречу, не возражаешь?
Яблонская не возражала. Ей только требовалось зайти в книжную лавку, оставить книгу какого-то американского филолога, а дальше она даже согласна где-нибудь выпить, хотя пить в такое время суток — очень не по-американски!
Провожая ее, Мятлин говорил, что от штатовских привычек пора отвыкать, а сам прикидывал: в какое кафе забрести? Их «встреча на Эльбе» закончится известно чем, но до этого будет продолжительный треп, много смеха, шуточек, подколов: с Яблонской вообще было интересно, она только на первый взгляд напоминала бесцеремонную базарную бабу, а так — ума ей было не занимать. Она была права — Мятлин действительно сбежал с филфака. Он устроился в менее престижную контору, зато с четкой ориентацией на модные «тренды», а это значит, что постоянно капает денежка, поступают приглашения за рубеж, то есть жизнь можно считать налаженной.
Когда зашли в полуподвал, где располагалась лавка, Яблонская исчезла в глубине, а Мятлин обратил взоры на книжные корешки, что выстроились на многочисленных полках. Картина почему-то навевала уныние — наверное, из-за огромного количества печатной продукции, заживо похороненной в этом колумбарии. Каждый корешок — как отдельное захоронение в общей могильной стене; человек тратил здоровье, время, можно сказать, жизнь положил на создание книжки, и вот название красуется на полке, будто надпись на плите, прикрывающей прах!
«И могильщик тут же…» — подумал Мятлин, обнаружив бродящего вдоль полок Гену Бытина, который вглядывался в корешки, после чего делал какие-то записи в своем блокнотике. Бывший однокашник, подавшийся в издатели и сделавший на этом неплохое бабло, то ли изучал продукцию конкурентов, то ли отмечал книжки своего маленького, но крепкого издательства. Хотя в данном случае он был, скорее, зверем, бегущим на ловца.
— Не дошли рученьки, не дошли… — заюлил Гена, услышав заданный вопрос. — Где время взять, Женечка? Посмотри, сколько моих тут расставлено! А сколько стучится в ворота? Возьми денежки, говорят, мы согласны за свой счет, только издай, Гена! А ведь у Гены есть вкус, согласись. Он тоже в аспирантуре учился…
— Но соскочил. И ушел в бизнес.
— Что делать? — развел руками Бытин. — Ты ведь тоже захотел хлеба с маслом, потому и устроился в правильное место.
— Ладно, не о том речь. Когда прочитаешь?
— В самое ближайшее время! Ты ведь принес не полноценный продукт, так? Только фрагмент?
— Понравится — принесу остальное.
— Понимаю, понимаю… А это что? — указал он на листки в руках. — Еще фрагмент?
— Статья для Клименко.
— Старик еще заведует «Вестником»? Отстаивает свой последний бастион?
Мятлин не успел ответить, потому что налетела Яблонская, тут же взявшись подтрунивать над Бытиным.
— Вот кто у нас Мамоне-то молится! Вот кто акула капитализма! А ведь хороший мальчик был, да, Женя? По Тургеневу диссер хотел защищать, надо же! И где теперь, Геннадий, ваши «Вешние воды»? Где ваша «Клара Милич»? Продали, за грош продали певца заливных лугов и дворянских гнезд!
Бытин опять развел руками.
— Извините, Маша, такова наша волчья жизнь. Но если вы лично принесете книгу, обещаю серьезную скидку. И Женя получит скидку, когда донесет остальные фрагменты своего… Романа, верно?
— Вроде того… — неохотно отозвался Мятлин (при Яблонской тему развивать не хотелось).
— А Женя заделался романистом? — встрепенулась та. — Очень интересно!
— Никем я не заделывался, — пробурчал он. — И вообще нам пора идти.
Идею посетить кафе Яблонская отвергла, мол, хочу к тебе в гости! Когда зашли в магазин, она первым делом ринулась к полкам с винно-водочной продукцией, в раздел «Виски». Мятлин протянул руку за бутылкой Johnnie Walker, однако спутница указала на Jameson.
— Я этот сорт люблю. Может, возьмем две?
Выпивка была ее слабостью, Мария еще в студенчестве, будучи под градусом, отжигала так, что едва не вылетела из университета.
— Одной хватит! — решительно сказал он.
— Но ведь запас карман не тянет…
— Знаем мы твои запасы. Тут литр, в конце концов!
Она таки взяла прицепом 0,25 того же виски, хитро улыбнувшись: я свободная американская женщина, не могу за счет мужчин выпивать!
Ее развезло быстро: Мятлин глазом не успел моргнуть, как увидел перед собой Иду Рубинштейн — так он когда-то назвал Яблонскую, обнаружив телесное сходство с той, кого изобразил на знаменитом «ню» Серов. Тонкое, ломкое, с просвечивающей кожей тело обладало, тем не менее, фантастической сексуальной энергией, коей хватило бы на трех пышнотелых кустодиевских купчих.
— Ну, чего сидишь?! Пошли на тахту!
Мятлин усмехнулся.
— Свободная американская женщина сама тащит в койку мужчин?
— А то ж! Не затащишь вашего брата — он же заснет после третьей, проверено!
В ее худосочном теле словно работала динамомашина, заряжая заодно и партнера, так что Яблонскую можно было помещать в разряд тех, кто отдается с вдохновением. Или кто очень сильно старается, создавая иллюзию вдохновения, что было, пожалуй, точнее. Она выгибалась, хрипела, будто соитие происходило последний раз в жизни, но через пять минут, скрестив по-турецки тоненькие ножки, уже могла рассказывать анекдот или подшучивать над тем, кого только что зацеловывала. Такое больше характерно для мужчин, чей разум после завершающих содроганий быстро приходит в норму: пока женщина слушает эротическое эхо, пробегающее от макушки до пяток, партнер и в туалет сбегает, и перекурит. В этом смысле Яблонская была «своя в доску», что делало общение легче и одновременно — труднее.
— Не утратил фаллического начала, молодец! — пыхала она дымом. — Жаль, оценить некому.
— Почему же некому?
— Так ты ведь один живешь!
— С чего ты взяла? А вдруг я женился, а жена просто уехала в командировку?
— Брось, женская рука в доме видна. А твоя квартира — жилище бобыля. И вообще ты никогда не женишься.
— Почему же? Вот возьму и женюсь… На тебе!
Яблонская расхохоталась.
— Волк на волчице не может жениться! А? По-моему, в рифму получилось: волк на волчице…
— Рифма есть, смысла нет! — парировал он.
— Не скажи, Женечка. Себя я хорошо знаю, потому все мужья и сбегали от меня через полгода. А тебя… Хорошо не знаю, но догадаться могу.
— О чем же?
— О травматическом опыте. Есть у тебя какой-то скелет в шкафу, о котором ты никому не рассказываешь. Ведь есть, правда?
Внезапно вскочив, она приблизилась к шкафу в углу и осторожно открыла дверцу.
— Эй, скелет! Покажись на свет! Кажется, я опять в рифму, да?
— Пробило на вирши… — пробурчал он.
— Каждому свое: одну на вирши пробивает, другого романом проносит.
Сунув голову в шкаф, она с разочарованием захлопнула дверцу.
— Нет тут скелета, наверное, он в твоем романе поселился. Может, дашь почитать? Тогда я сразу все пойму, я ж теперь психоанализом занимаюсь. А это, Женечка, очень серьезная штука!
— Да никакой это не роман… — забормотал Мятлин. — Так, наброски мыслей… И вообще это не закончено.
— Ну, хозяин-барин! — она провела пальцем по дверце шкафа. — Убраться у тебя, что ли?
Он замахал руками — не надо! Если тут и был беспорядок, то после ее «уборки» он наверняка превратится в хаос, поэтому в качестве альтернативы Мятлин предложил Jameson. Они выпили, потом опять оказались на тахте, потом еще выпили, после чего Ида Рубинштейн, пошатываясь, отправилась в ванную.
Наверное, она была там долго, потому что вышла, изрядно потолстев. Да что там — натуральная кустодиевская купчиха, в которой едва узнавалась прежняя Машка Яблонская.
— Что это с тобой?! — вздрогнул Мятлин.
— А тебе скелеты подавай? Из шкафа? Что ж, хозяин — барин!
Купчиха хлопнула в ладоши, и тут же из шкафа выпрыгнул скелет.
— Вот он, родной… — с удовлетворением проговорила она. — Ну, расскажи нам про этого персонажа, — указала на Мятлина. — Всю его подноготную, так сказать, весь его травматический опыт. Сможешь?
— Попробую, — прошамкал череп. — Этого персонажа, как вы изволили выразиться, в юности ударили пыльным мешком по голове. То есть он утратил невинность в таких обстоятельствах, что это отразилось на всей последующей жизни. Не встречал он больше подобных женщин, понимаете?
— Как это?! — подбоченилась Яблонская. — А я?!
— Вы же хотите правду? Тогда, увы, должен вас разочаровать. К той женщине у него сохранялась постоянная тяга, и он ничего не мог с собой поделать. Убегал, пытался рвать отношения, а вот не получалось, и все! А тут еще соперник постоянно маячит на горизонте, представляете? Тоже травматик еще тот, и с такой же неуемной страстью к той же самой женщине!
— Что-то многовато травматиков… — пробормотала купчиха.
— Да их вообще сейчас пруд пруди! Такое время, знаете ли, гармоничная психика — редчайшее исключение. В общем, заработал юноша крест, который и тащит с переменным успехом. Какую-то классификацию женщин себе изобрел: старательные, никакие, вдохновенные…
Яблонская махнула рукой.
— Это я знаю! Но для романа всего этого маловато, как считаешь?
— Так у него же вроде роман.
— Типа наброски мыслей?
— Типа воплощение памяти. Хочется воплотить то, что было, восстановить детали, подробности, нюансы… Чувство вины не дает покоя.
— А у него чувство вины?
— Еще какое! Это по-нашему, по-достоевски — напортачить вначале, загнать человека в угол, а потом «наброски мыслей» на бумагу выкладывать!
На время утративший дар речи Мятлин вскинул руки.
— Я протестую! С какой стати вы занимаетесь этим идиотским психоанализом?! Кто вам дал право?! И вообще я знаю этого скелета — он вовсе не из моего шкафа!
— Откуда же?! — в два голоса воскликнули незваные гости.
— Со Староместской площади! Он сбежал с колокольни с часами, так что пусть возвращается обратно!
Череп прямо перекосило от возмущения.
— Ну, знаете ли… Я всю жизнь просидел в этом шкафу! И вернуться могу только туда!
С этими словами он запрыгнул внутрь и хлопнул дверцей так, что со стены сорвалась фотография матери, брызнув стеклянными осколками.
— Не любишь правду, Женечка… — качала головой Яблонская, с трудом нагибаясь (телеса, однако!) и подбирая осколки. Она взяла в руки фотографию.
— Хорошая была женщина. Всеми силами старалась вытолкнуть тебя в другую жизнь, интересную, насыщенную… Только зря она пригласила этого неудачника из Каменск-Уральского. Тебе удобнее было жить с выдуманным отцом. Вообще игра воображения заняла слишком большое место в твоей жизни, ты не находишь?
Она вдруг начала сдуваться, уменьшаться в размерах и покрываться серой шерстью. И Мятлин стал покрываться шерстью, вскоре обернувшись матерым хищником; напротив стояла такая же серая самка.
— Волк на волчице не может жениться! — оскалила та острые клыки.
— Еще как может! — отвечал волчара Мятлин, набрасываясь на женскую особь. Он хотел вскочить на нее по всем правилам животного соития, то есть сзади, однако волчица Яблонская умело увернулась, повторяя:
— Не может, не может, не может!
Когда она запрыгнула в шкаф, одуревший от звериной похоти, Мятлин сиганул туда же. Вопреки ожиданиям никаким скелетом там не пахло, зато было очень просторно. Собственно, это был не совсем шкаф, скорее, большая комната, где в углу стоял аквариум с рыбками, а на стене висели балетные тапки. Интерьер был смутно знаком, он напомнил о какой-то давно забытой жизни, которую Мятлин безуспешно силился вспомнить.
— Ты тут бывал, верно? — спросила волчица.
— Вроде бы… Не помню.
— Здесь живет та, на которой ты должен был жениться. Но не стал этого делать.
— А где она сама?
— Она сейчас придет.
С этими словами серая Яблонская сделалась прозрачной, а потом и вовсе растворилась в воздухе. А Мятлина вдруг обуял страх. Он метался по комнате, судорожно выискивая ход в обратную жизнь, только хода не находилось, а в соседней комнате уже слышались шаги. В отчаянии кинувшись на стену, чтобы ее прошибить, он очнулся на полу.
— Как посадка? — раздался голос Яблонской. — Мягкая?
Та сидела в его любимом вращающемся кресле, перед раскрытым ноутбуком, причем в своем привычном обличье.
— Ты когда успела… — спросил ошарашенный Мятлин. — Ну, это…
— Вискарь приговорить? — она подняла пустую литровую бутылку. — Так дурное дело не хитрое.
— Нет, похудеть…
На него вытаращили большущие черные глаза.
— Издеваешься, Мятлин?! Обидеть хочешь хрупкую женщину?! Я ж сто лет такая!
Слава богу, хватило ума не спрашивать, куда делась серая шерсть. Он прошлепал на кухню, выпил воды из-под крана, когда же вернулся, увидел, как в рюмку вытряхивают остатки из маленькой бутылки. Похоже, Яблонская держалась на автопилоте, сохраняя видимость трезвости, лишь пока сидела в кресле. Если бы встала — точно рассыпалась бы на отдельные косточки, которые пришлось бы собирать с пола.
— А ты говорил: много будет! Стареешь, Женя, и вообще ты напуганный какой-то, как я поняла из твоего опуса.
Она указала на стопочку листов.
— Я тут ознакомилась и поняла: ты боишься техники, как девственница боится грубого волосатого мужика, который должен распялить ее и забрать самое ценное. Сам же и пишешь: технику можно уподобить мужскому половому органу, который желает изнасиловать природу, а по завершении акта вообще ее прикончить.
Он опять улегся на тахту.
— Ты с этим не согласна?
— Согласна, наверное. Но в Нью-Йорке, где я регулярно живу по полгода, этого уже не замечаешь. Железный Миргород, знаешь ли, его уже не представишь без этих протезов — без грохота метро, без желтых такси, без огня реклам… Мои маменька с папенькой в шумном месте живут, и я там поначалу плохо засыпаю. Час не сплю, два не сплю, потом выхожу на балкон вот с такой бутылочкой в кармане халата — и смотрю на город. Он гудит, горит огнями, в нем все движется, но это движение не человеческое. Это перемещается железо, это текут машины, электрические сигналы, прочая искусственная фигня… Я делаю пару глотков, но глюк не проходит! Наоборот, я кажусь себе единственным живым существом в этом мертвом — и одновременно живом царстве. Просто это другая форма жизни. Она не имеет никакого отношения ко мне, Машке Яблонской, которая из плоти и крови, наоборот, он хочет поглотить мою плоть, сожрать меня с потрохами!
— Значит, ты тоже напуганная!
— Нет, Женечка, мне от этого весело. Сожрут, и поделом! Только лучше бы эта стихия вначале сожрала вас. Это же вы все придумали, разве не так? От нас — жизнь, а от вас что? Смерть одна! «Смерть — это все мужчины!» — как писал некий житель Железного Миргорода, которого ты, кстати, цитируешь. Совесть, что ли, заела? Заела, судя по твоим наброскам мыслей! Кого ты там взялся описывать? Да еще так подробно, с деталями, нюансами… Глаза зеленого цвета — раз! Стройные ноги — два! Родинка на пояснице — три! А-а, еще балетная осанка! И умение крутить фуэте! Это кто, Мятлин? Один из грехов твоей молодости?
Он вскочил с тахты так, будто оттуда вылезла пружина и пребольно уколола в зад. Похоже, гостья покопалась в содержимом компьютера, и это уже был не бред (мало ли что в бреду происходит!), а самая настоящая реальность. Подбежав к столу, он оттолкнул кресло, которое откатилось к стене с фотографиями.
— Эй, я ж упасть могу!
А он уже шарил по файлам, выставленным на рабочий стол, и определял окна в программе Google chrome, которые открывала Яблонская. О, боги, она прошерстила все, что находилось в доступе!
— Так ты, значит, влезла… — проговорил он дрожащим голосом.
— Ну да, пошарила немного в твоем компе. А что? Ты спишь, что-то бормочешь во сне, а я наливаю по чуть-чуть и читаю всякие забавные штучки. Ничего особенного вроде, но если взглянуть на это с точки зрения психоанализа…
Яблонская вдруг громко икнула.
— Что-то в горле пересохло… Там ничего не осталось? Жаль. Так вот если взглянуть внимательно, увидишь — как там у классика? Что Онегина душа себя невольно выражает то кратким словом, то крестом, то этим… Вопросительным крючком, вот! Я это фигурально, ну, ты понимаешь.
Мятлин в этот момент, почти не слушая пьяного бормотания, падал в бездну. Все потаенное, что было доверено этому мерзкому ящичку (а доверено было ого-го сколько!), вдруг стало достоянием другого человека, а значит, всеобщим достоянием. Проклятое железное устройство, которое он ненавидел, опять подставило ему подножку, и какую! Оставалось надеяться лишь на то, что Яблонская ничего наутро не вспомнит — обычно в таком состоянии ей отшибало память напрочь. А если вспомнит? Тогда позора не оберешься, значит, надо обеспечить амнезию беспардонной визитерше…
Открыв бар, он обнаружил грамм сто коньяку, которые тут же перекочевали в ее рюмку.
— А ты?
— Я не хочу, выпей сама. Ты же хочешь?
— Что ж, хозяин — барин… За тебя, Онегин!
Спустя минут десять она уже лыка не вязала.
— Чего так разволновался, родное сердце? Не волнуйся! Я сама такая! Я луддит, понял? Есть сейчас такие — и в Нью-Йорке, и у нас… Я тебя с ними познакомлю. Это новые луддиты, они раздолбают на фиг это железо, уничтожат все это безумие, и мы будем жить в первозданном раю, как Ева с Адамом! Хочешь жить, как Ева с Адамом?
— Конечно, хочу… — говорил Мятлин, перенося легкое тельце из кресла на тахту. — Ты только змея не слушай, когда виски будет предлагать.
— Это будет сложно. Но я постараюсь… Я буду очень сильно стараться!
Надежда оправдалась — наутро Яблонская практически ничего не вспомнила. Напрасно, то есть, не спал до утра, перепрятывая заветные материалы в потаенные папки, расставляя пароли и помещая «под замок» информацию, раскиданную по разным ресурсам. Или все-таки не напрасно? Перед тем, как заснуть, Машка пробормотала про какого-то белого мичмана, чем поставила Мятлина в тупик.
— Какой еще мичман?! — удивился он. — По-моему, это горячка у тебя — белая…
Тоненькая ручка протянулась к экрану компьютера и тут же опала.
— Тебе пришли фоты.
— Что за фоты?
— С белым мичманом.
Он обнаружил много любопытного после лихого рейда Яблонской по его виртуальной территории, например, реплику Жаки: «Ты че, философ, грибов на ночь объелся? Что за хрень ты несешь?!» Пиратка Машка, оказывается, успела вступить в переписку с его тайной корреспонденткой, вдоволь над той поиздевавшись, написала кучу писем в Америку и даже успела по ходу поскандалить с заокеанскими родителями. Но все это было понятно и, в принципе, исправимо. Непонятно было послание с этим странным мичманом. Несколько фотографий запечатлели то ли бункер, то ли трюм корабля, и на всех виднелся белый силуэт, который при желании можно было счесть морским офицером в парадной форме. Мичман он был или адмирал — разглядеть не представлялось возможным, оставалось только верить подписи: «Белый мичман». Разглядывая фото, Мятлин опять почуял подергивание той самой паутинки, но кто за нее дергает — по-прежнему оставалось непонятным.
5
Несколько дней он осторожно проверял почтовые серверы, ожидая очередной каверзы. Было ощущение, что над ним насмехаются, только неясно: со злостью? По-доброму? Белая фигура на фото выглядела несколько зловеще, будто привидение. А приглядишься — нормальный мичман, наверное, участвовал в построении на палубе, торчал на жаре час или два, после чего спустился в прохладный трюм. Другой вопрос: какое отношение офицер имеет к Мятлину, который терпеть не мог армейского (или флотского) духа, по счастью, проскочив мимо срочной службы.
Однако ничего неординарного, кроме письма от Дарьи Кладезь, не пришло. Не выдержав, девушка сама написала, но Мятлин решил не отвечать. Берлин — дело мутное, а вот если Дарья набьется в гости (говорила, что мечтает посетить Петербург), хлопот не оберешься. Он уже подумывал опять отправиться на Университетскую набережную, когда пришло сообщение с текстом в черной рамке: «Умер профессор Клименко. Гражданская панихида пройдет на филологическом факультете…»
Известие огорчило. Забавный был старикан, жаль, теперь не узнаешь, что он сказал бы насчет мятлинского опуса, так и не попавшего в редакцию «Вестника».
— Извините, дружище, это не по нашей части, — возможно, изрек бы профессор. — Вы тут философию развели, а это дисциплина холодная. Мы же, филологи, люди горячие, нам живое слово подавай!
— Не такие уж философы холодные, если вспомнить Ницше…
В этом месте Клименко наверняка бы утробно захохотал, вздрагивая необъятным телом.
— Так он, дружище, никакой не философ! Он гениальный филолог, как сказал о нем Соловьев. Хотя желал быть — ни больше ни меньше — главой религиозного течения!
Чуждый лукавой дипломатии, профессор наверняка бы не выдержал и рубанул правду-матку, мол, сбежали вы, дружище, с нашего корабля! Денежек захотелось, да? Злата-серебра? Что ж, понятная страсть, только кто же, позвольте узнать, будет живое слово выискивать в море литературной серости? Кто его исследует, кто предъявит «городу и миру»?
Странно, что после смерти в мозгу зазвучали фирменные обороты Клименко: «дружище», «живое слово», что там еще? Кажется, слово «косный», в которое он вовсе не вкладывал отрицательного смысла, скорее, наоборот. «Косной цивилизацией» он называл допетровский российский мир, отличавшийся от изменчивого европейского мира, прозванного им «цивилизацией Протея». Лекции он читал страстно, его слово с кафедры уж точно было живым, а с оппонентами спорил, задорно выставив вперед длинную, как у Энгельса, бороду. Хотя комплекцией он был как Маркс и Энгельс, собранные воедино — если бы не большой рост, его можно было счесть даже толстяком.
Спустя два дня это тело лежало в конференц-зале факультета, обложенное венками, цветами, вокруг змеились черные траурные ленты с неразборчивыми золотистыми надписями, а над гробом, конечно же, звучали речи. Мятлина всегда поражал этот бессмысленный жанр, в котором немалое количество живых (пока!) изрядно преуспело. Рождение, свадьба, крестины — еще нуждаются в вербальном оформлении, в этих виньетках из словес, поскольку впереди — хоть какая-то перспектива. А тут что впереди? Черная земля, придавленная холодным мрамором, и процессы разложения, что тянутся годами? Тогда нужно молчать: заткнуться — и рот на замок до самого погребения. Да и после на замок: молча разошлись, повторяя про себя сакраментальное memento more, и все.
Но коллеги придерживались иного мнения, добросовестно упражняясь в красноречии. По их словам выходило, что Иван Павлович был человек с большой буквы, отец родной всему факультету, а значит, потерю мы понесли невосполнимую — трюизм, помноженный на трюизм, хотя все вроде логично, последовательно, грамотно. Не от этого ли в ноздри вдруг ударил запах мертвечины? Волна запаха, впрочем, могла идти от гроба, до него было рукой подать. Клименко был грузным человеком, который обильно потел, шумно сморкался во время лекций, пил чай с «прихлюпом», в общем, был какой-то навязчиво телесный, плотский, а плоть, как известно, после кончины входит в вечный круговорот материи. До поры до времени неуемная энергия профессора, его обаяние компенсировали телесное начало, теперь же перед склонившей головы публикой лежала лишь никчемная биомасса, готовая к тому самому «круговороту». «Провонял старец…» — всплыла очередная цитата, после чего Мятлин начал аккуратно выбираться из плотной толпы.
В отдалении от гроба бурлила жизнь (или что-то на нее похожее). В первом кольце застыли живые надгробные изваяния, во втором топтались «искренне переживающие», в третьем уже шушукались, обменивались мнениями, даже решали какие-то делишки. Мятлин сдержанно здоровался со знакомыми, замечая, что кое-кто охотно бы его обнял, улыбнулся во всю ширь, да только обстановка требовала сдержанности. «Знакомые все лица…» — тихо проговорил он, здороваясь с Бытиным. На секунду тот сделал постное лицо, чтобы тут же отвернуться и продолжить тихую беседу с кем-то лысым.
— Значит, двадцать листов? И еще иллюстрации? Тогда дороже будет. А если твердая обложка, то еще дороже…
Мятлин наклонился к его уху.
— На ходу подметки режешь!
Извинившись перед лысым собеседником, издатель увлек Мятлина в сторону.
— А что делать? На такой церемонии только и поговоришь, на похороны все приходят! Кстати, я сегодня свободен, и если ты не собираешься на кладбище…
— Не собираюсь.
— Тогда в три часа подъезжай в издательство. А пока — извини!
Сборище и впрямь было представительным. Из старых знакомых удалось перемолвиться с литератором Яшкиным, тут же всучившим книженцию своих эссе, и с бывшим сокурсником Пуховым, который явился на похороны в форменной куртке с надписью «Теплоэнерго» на спине, удрав со смены в котельной, где подрабатывал на суточных дежурствах. На него у Мятлина были свои виды — Пухов немного разбирался в электронике, профессионально занимался ремонтом автомобилей, в общем, был с миром железа на «ты». Но в этой замогильной обстановке ангажировать человека, похоже, искренне переживавшего кончину мэтра, было неудобно.
Присутствующая тут же Машка Яблонская, судя по захлюпанной физиономии, тоже переживала искренне. Она не ржала, как обычно, не подкалывала, только тихо утирала платком катившиеся слезы. Как выяснилось позже, когда стояли на ветреной набережной и курили, с Клименко дружили ее родители.
— Письма друг другу писали… — говорила она, обратив лицо к Неве. — Не такие, как мы пишем — настоящие, причем каждое на нескольких страницах. Я-то своих приучила к этому электронному язычеству, но с Иван Палычем они только так переписывались. Не знал об этом?
— Понятия не имел.
— Ну да, откуда тебе… Жалко их. Хотя больше жалко нас.
Мятлин усмехнулся.
— Нас-то чего жалеть? Мы приспособлены к среде обитания…
— Не уверена. Помнишь картинку из школьного учебника биологии? Где человек вначале на четырех точках, потом встает на две ноги, выпрямляется, и, наконец, гордо шагает в обличье высокого и статного гомо сапиенса? Так вот смотрю я на ушедших, и видится мне совершенно обратное. Будто мы уменьшаемся от поколения к поколению. Сгибаемся помаленьку, становимся карликами, глядишь, скоро на четыре точки опустимся и завоем…
Швырнув сигарету в Неву, Мятлин поежился.
— Это доктрина твоих луддитов?
— Каких луддитов? — насторожилась Яблонская.
— Которые хотят раздолбать эту цивилизацию, чтобы вернуться в первозданный рай.
— Я тебе про них говорила?
— Ну да…
Ее сигарета тоже улетела за парапет.
— Пить надо меньше. Ладно, пока, я на кладбище.
Бытина удалось вырвать из паутины неотложных дел не тотчас: приятель-издатель расхаживал среди книжных завалов, стопок и штучной россыпи, вынимая из кармана то один мобильник, то другой. Прижимая к уху первый телефон, Бытин использовал второй в качестве калькулятора, произнося по ходу беседы каббалистические цифровые заклинания: «Тридцать тысяч… Семь с половиной тысяч… Да где я возьму триста?! Сто пятьдесят, и сворачиваем базар!» Далее гаджеты менялись местами, и опять начиналась каббала, которая потом переносилась в огромный кондуит на столе Бытина.
Оторвавшись на секунду, он наставил на Мятлина близко посаженные глазки.
— Чего время теряешь?! Ходи, знакомься с продукцией… Может, прикупишь чего-нибудь?
— С души воротит от твоей продукции.
Бытин опять склонился над кондуитом.
— Ты циник, мой друг. Люди старались, тратили мозги, выплескивали души, чтобы…
— Чтобы ты получил прибыль.
— И это тоже. Но ведь я одновременно помогаю реализоваться вашему брату-интеллектуалу. К кому они бегут, когда пронесет очередной монографией? К Бытину бегут! Потому что Бытин — это бренд. Бытин — это…
— Сытин. Замени одну букву, и брат-интеллектуал попрет сюда рядами и колоннами.
— Шутка с бородой, Женя, только ленивый не обыгрывал мою фамилию. А насчет вашего брата… Не знаю про ряды и колонны, но ты-то явился! Значит, ценишь бренд. И покойный профессор, между прочим, не брезговал сюда заходить. Вон там лежат его два тома — жаль, не дожил старик до третьего…
Двинувшись в указанном направлении, Мятлин увидел стопку синих «кирпичей» с золотым тиснением на обложке: «ИВАН КЛИМЕНКО». Когда взял в руки увесистый том, в груди вдруг защемило, и в очередной раз показалось абсурдом, что жизнь живого существа, которое ходило, радовалось, шутило, выпивало (изрядно!), закусывало (смачно!), растило детей и внуков — перетекла в сброшюрованную стопку бумаги. Что-то было в этом несправедливое, чудовищное; и если книжный магазин представлялся колумбарием, то склад издательства выглядел, как морг. Именно здесь узаконивалась смерть того, что пульсировало в сером веществе имярека, а книжные полки — это уже торжественное захоронение. Ну да, шанс ожить есть, если стопка попадет в руки читателя, но, во-первых, поймут ли имярека? Во-вторых, где они, прямоходящие, что толпятся у книжных полок? Они все больше в виртуальном пространстве пребывают, плывут по волнам Мировой Сети, а там приятно, волны так классно баюкают…
Об этом, собственно, и говорили. У Бытина нашлась в сейфе початая бутылка коньяка, они помянули покойного профессора, после чего вернулись к делам насущным. Бытина страшно волновала экспансия Интернета, каковой фактически уничтожал его бизнес. Конечно, можно перестроиться, начать выпускать книжки на электронных носителях, но люди-то вообще перестают читать!
— Перенести эту целлюлозу в цифровое пространство — два пальца об асфальт! Я бы даже кредит взял, копирайтеров нанял, только кому это нужно?! А ведь как мечтали в свое время, как мечтали! Помнишь, времечко было? Казалось, вот-вот наступит новая эра, и мы, сидящие по подвалам и занюханным мастерским, выйдем на манеж под свет прожекторов…
— Ну да, все в белом… — пробормотал Мятлин.
— А хоть бы и в белом! Выйдем, всплывем, как подводная лодка среди арктических льдов, и все увидят, кто чего стоит!
— Увидели. И послали нас известно куда.
Издатель развел руками.
— Увы! А я ведь помню твое выступление на Кирочной, то бишь на Салтыкова-Щедрина, как она тогда называлась. Ты говорил про «словократию», и глаза у тебя горели, и зал поддерживал…
— Да ладно, это уже быльем поросло… Да и не все поддерживали.
— Ну да, наш правдолюбец Марк тебя оспаривал. Всегда выступал под лозунгом: мне Мятлин друг, но истина дороже! Где, кстати, твой дружок пребывает?
— Где и положено: на земле предков. В Иерусалиме он, в тамошнем универе.
Бытин набулькал еще.
— С другой стороны, чего жаловаться? Все как-то устроились, верно? Научились конвертировать свои умения в звонкую монету, в выгодные контракты, в поездки… Ну, за нас!
Опрокинув рюмку, он подвинул гостю вафли.
— Угощайся… Чешские, кстати. Ел такие в Праге? Ты же там про Кафку доклад делал, я знаю… Рекомендую вот эти — с ореховой начинкой: очень вкусные! В общем, мастера культуры оказались на высоте: научились торговать литературным наследием, да и тамошние тренды-бренды освоили, быстро смекнув, что модно в Европах, да и в Азиях тоже… Сопелко помнишь? Который защищался где-то в Урюпинске, потому что здесь не пропускали? Уже год из Сеула не вылезает, читает там курс! Пишет, что бабки офигенные, «мерс» точно заработал! В общем, как ты тогда говорил, словесные конструкции могут влиять на материальный мир. Слова, мол, это реальная сила, она способна горы сворачивать!
— Я такое говорил?!
— С пафосом говорил! И ты прав! Сопелко уж точно гору свернул своей болтовней перед корейскими студентами. Бла-бла-бла, а глядишь, как подкатит к родному филфаку на сверкающей иномарке, как распахнет дверцу перед любимыми профессорами… Садитесь, прокачу с ветерком, даже денег не возьму — на первый раз! Вот такая, блин, словократия…
«А Бытин не дурак, — подумалось. — Он просто дает понять: нечего в него пальцем тыкать, каждый нынче — частный предприниматель, только торгуем разными вещами…»
— Ладно, давай о наших баранах. Что скажешь про текст?
Задав вопрос, Мятлин замер в ожидании. Он сам не предполагал, что разволнуется: ни реноме, ни заработки от этого не зависели, а поди ж ты…
Бытин захрустел вафлей.
— Что скажу… Ну, ты же никогда не имел писательских амбиций, верно?
— Не имел.
— Всегда был грамотным исследователем, мастером парадокса, ну, эссе писал, да кто их не пишет, так?
— Так.
— А здесь ты, брат, в какие-то дебри полез. Я вначале подумал: денежек хочет срубить, очень уж тема популярная: любовь-морковь и т. п. Там же про любовь, правильно?
— Не совсем. Там про человека.
— Ну да, ну да… Там вообще про что-то такое, что за пределами устремлений обычного литератора. Не писательские, короче, задачки ты себе поставил. Чего-то другого тебе хочется, как в свое время французским натуралистам хотелось. Они выписывали подробности жизни, реестры составляли, хотели жизнь за одно место ухватить — и на бумагу перенести. Или взять Бунина Иван Алексеича. Помнишь, что о нем Клименко покойный говорил?
— Что трагизм Бунина вовсе не в плоскости замыслов лежит, а…
— А в том, что он тщился описать жизнь во всей полноте, тратил бездну цветистых слов, ярких образов, а жизнь, зараза, все равно ускользала! С другой стороны, итогом было, по выражению покойника нашего — живое слово. Помнишь эту фишку? Живое, понимаешь, слово… Не нужно оно никому, поверь мне.
Бытин обвел рукой полки.
— Ты в этих анналах будешь рыться о-очень долго, пока это самое живое найдешь. Мертвяк выгоднее, потому его и производят тоннами.
Мятлин кашлянул.
— А у меня, по-твоему, что?
Ответом был изучающий взгляд, сопровождаемый мхатовской паузой.
— Я тебя издам, — сказал Бытин, отводя глаза. — Ну, когда допишешь. За счет автора, понятно, лишних денег я не имею. А там дело твое, что делать с тиражом.
О нарушении жанровых правил Мятлин знал и сам. Он ваял нечто вроде портрета, который, по идее, тоже требует сюжетного воплощения, подачи в виде развивающейся во времени истории. Но в том-то и дело, что сюжет не увлекал: до лампочки ему была структура, событийная динамика, фабульные повороты etc. На все эти признаки профессиональной (сиречь, читабельной) словесности он положил с прибором, взявшись собирать черты и черточки характера, особенности внешности, даже те мелочи жизни, что почти не имели отношения к Ларисе. Ну ладно, балетные тапки, источавшие запах одеколона и одновременно девического пота (однажды, провожая Ларису из ДК, он их понюхал, запомнив запах на всю жизнь). Ладно — рыбки в аквариуме, которых она аккуратно рассаживала по банкам, когда чистила замутившийся домашний пруд. Но при чем тут коричневая рукоятка сачка? Ради чего перечислять ее платья, брючные костюмы, пальто или шубейки? Он сам себе напоминал некоего Плюшкина, что подбирает жизненное барахло и с маниакальным упорством тащит в текст, похоже, не имевший шанса обрести читателя.
Домой он спешил в тревоге, будто в его квартиру кто-то пробрался и там похозяйничал. Все было на месте (еще бы!), только включенный компьютер преподнес сюрприз: в правом нижнем углу обнаружился силуэт дельфина. Черно-белое веретено грациозно изгибалось, ныряя в невидимые волны, возносясь над водой, причем убрать эту безобидную вроде бы картинку не представлялось возможным. Мятлин и так, и этак пытался «убить» изображение, однако дельфин оказался неуязвим.
Беспомощность породила досаду, только делать нечего, пришлось работать под надзором морского животного. Он опять собирал и нанизывал на нить текста жизненные безделицы, почему-то убежденный, что количество когда-нибудь отразится на качестве, произойдет скачок, и появится нечто невиданное. Он вроде как создавал куколку, в которой жила и ворочалась невидимая бабочка, но когда-то же она выпорхнет на свет! Затрепещет крылышками!
По ходу письма Мятлин боковым зрением наблюдал за дельфином, что в какие-то моменты начинал нырять и летать над волнами особенно бойко, вроде как реагировал на особенности текста. А порой вообще замирал, будто в удивлении, одним словом, вел себя непредсказуемо. Кажется, такая визуальная программа называлась «плагин». У кого-то из знакомых по экрану разгуливал кот Леопольд, у кого-то пульсировали часы, изображенные в духе Сальвадора Дали текучими и изогнутыми, но такую программку, если она надоедала, уничтожали парой кликов. Дельфин же, выскочив из недр ящичка, жил сам по себе. «Надо с Пуховым встретиться, — думал Мятлин, выключая компьютер. — Он поможет уничтожить нахала».
6
Резвящийся на экране дельфин за это время вроде поправился. Или Мятлину казалось, что тот сделался толще? Попытка еще раз уничтожить незваного гостя кончилась неудачей, после чего он решил связаться с Жаки. Переписка с ней успокаивала: ты вроде исповедовался, но оставался в тени, за кадром.
Когда написал про дельфина, Жаки долго молчала, так что пришлось ее подстегнуть:
«Эй, куда пропала?!»
Вскоре прислали смайлик с искаженной от страха мультяшной физиономией, а следом вопрос:
«Он в углу экрана возник? Маленький такой?»
«В углу и маленький. Хотя сейчас вроде стал больше».
«Это ужжос, ужжос, ужжос!»
«Почему это?!»
«Патамушта, философ! Лучше триппер подцепить, чем твоего дельфина! Все, заканчиваю общение, начинаю проверять комп антивирусом!»
Мятлин догадывался, что в недрах ящичка поселилась бяка, теперь же полностью в этом уверился. Но разъяснений не получил — Жаки закрыла доступ на страницу. А вскоре закрыли доступ и другие ресурсы — то ли подружка расстаралась (предательница!), то ли проявлял свою каверзную сущность вирус.
Визит к Пухову оказывался неизбежен, причем лучше всего было навещать того в котельной, подгадав суточное дежурство.
— Завтра заходи, — назначил приятель. — Если сумею — помогу. Хотя есть спецы, в сравнении с которыми… О, я Башкира позову!
— Можешь хоть татарина, — ответил Мятлин, — хоть друга степей калмыка, главное, помоги.
— Да он не башкир никакой, просто фамилия у него — Башкирцев. В общем, жду.
А дельфин продолжал расти. Это была незаметная метаморфоза, вроде как морское млекопитающее врезалось в косяк сардин и от души пировало, прибавляя в весе. Вскоре тело стало значительно крупнее, превратившись в мощное веретено, на спине вырос треугольный плавник, а на голове проявилось белое пятнышко. Но главное, компьютер по-прежнему не работал, был не помощником, а бесполезным куском железа! Точнее, коварным врагом, бомбой, что, того и гляди, рванет…
Котельную в недрах Адмиралтейства Мятлин нашел, опознав автомобиль, который стоял возле спускавшейся вниз лестницы. Это был ЗИМ — та самая машина, что возила советских шишек, включая членов Политбюро. Пухов приобрел ее по дешевке, разбитую, не на ходу, и целый год доводил до ума. Теперь ЗИМ сверкал хромированными детальками, блестел зеркалами, поэтому не удивляло, что Пухов возил на этой тачке иностранцев по городу трех революций, чем неплохо подрабатывал.
Когда он ввалился внутрь, одетый в униформу Пухов ковырялся в котле. Башкир, оказавшийся блондином небольшого роста, был уже на месте.
— На меня внимания не обращайте, — сказал приятель. — У меня отопительный сезон на носу, занимайтесь своими делами.
Башкира проблема почему-то рассмешила — Мятлин волновался, даже голос подрагивал, а тот закатывался, будто перед ним чемпион сезона КВН.
— Значит, растет? Пухнет, вроде как жирком обрастает? Ха-ха-ха, ну, класс! — он поворачивался к Пухову. — Вникаешь? Растет, как на дрожжах!
— Опять, выходит, этот вирус появился?
— А он и не исчезал! — отвечал Башкир. — Он ведь живет во многих машинах, а вот активизируется только у избранных. Поздравляю!
С этими словами Башкир встал с лавки и пожал Мятлину руку.
— С чем меня поздравлять?! — ошарашенно спросил тот.
— С тем, что вирус под названием «Дельфин» активизировался в твоем компе. Видать, чем-то насолил создателю этого монстра виртуального мира. Хотя, может, ты просто жертва случая.
— Ничего не понимаю… — пробормотал Мятлин. — Объясните, что к чему!
— А что тут объяснять? — отозвался Пухов. — Хапнул ты вирус, причем не простой, а…
— Золотой! — захохотал Башкир. — Эти вирусы недавно появились, и пока никто ничего сделать не может! Они ведь развиваются, вот в чем закавыка. И раз от разу делаются все страшнее и неуязвимее. Начинается с «Дельфина», который творит мелкие пакости: в переписку влезает, начинает всякую фигню от твоего лица распространять… Было такое?
— Было… — в замешательстве ответил Мятлин.
— Потом этот «Дельфин» становится больше, толще и, в конце концов, превращается в хищную «Косатку». Как я понимаю, у тебя именно эта стадия, верно? Плавничок появился? Пятнышко на голове, а это значит: вирус обрел новую силу. «Косатка» уже на такое способна, что лучше вообще не включать комп. Почему? Потому что в один прекрасный день к тебе могут заявиться киберполицейские и заявить: ты, мол, хакер, поэтому лицом к стене, а мы будем проверять содержимое жесткого диска! Вникаешь? Это ведь срок, причем реальный, хотя ты — честный юзер, даже в мыслях не держал что-то там взламывать! Но хуже всего третья стадия, когда «Косатка» становится «Кашалотом». Вот это точно зверь, рвет нутро компа, как Тузик грелку! Одни ошметки остаются, которые еще и разлетаются по Инету, заражая другие машины!
Мятлин утер внезапно вспотевший лоб.
— Что же тогда… — проговорил растерянно. — Что же делать?!
— Не знаю! — развел руками Башкир. — Против лома, как говорится, нет приема! Потому, наверное, создатель вируса и не скрывает его, как это принято. Обычно ведь трояна или другую вирусную хрень подкидывают втихаря, как нелегального агента. А этот парень будто издевается над всеми, показывая: вот одна стадия, вот вторая, а на третьей я вас просто на ноль помножу! Ну, блин, голова…
Взяв в руки большую «поджигу», Пухов сунул ее в раскрытую дверцу котла, повернул рукоятку, и в топке вспыхнул огонь. Дверца захлопнулась, и вот уже пламя успокаивающе гудит, а в помещении делается теплее.
— А по-моему, ничего делать не надо, — раздумчиво проговорил Пухов. — Видите все это? Котел, огонь, горячая вода — это понятно, а главное, нужно людям. Я четко понимаю, что в нескольких домах по соседству ждут, чтобы я дал людям тепло, и я его даю. Другим людям нужно, чтобы я провез их по городу на своем ЗИМе, и я их вожу. Эти машины — нужны, а вот то, о чем вы базарите…
Башкир махнул рукой.
— Бессмысленная философия, рожденная твоими дураками-луддитами!
— Луддитами?! — удивился Мятлин.
— Есть такие, — отозвался спец. — С ними наш друг общается. Не любят они виртуальный мир, хотят нас вернуть к первозданности, но с этим парнем им не справиться. Говорят, это наш человек. Слышь, Пухов? Из «рашки», говорят, изобретатель вирусов! Хотя сейчас он где-то в Силиконовой долине сидит — то ли в «Google», то ли в «Microsoft»… Толковый чел, не зря его вторым Стивом Джобсом зовут и даже вторым Николой Теслой!
Вспомнив про компьютер в кейсе, Мятлин пожелал предъявить рассказанное в натуре, но в котельной не было Сети.
— Луддиты посоветовали не включать? — ехидно ухмыльнулся Башкир.
— Сам решил.
Пухов повернулся к Мятлину.
— А тебе советую вспомнить классика: молчи, скрывайся и таи. То есть не включай какое-то время машину, глядишь, что-то прояснится.
— Что-то прояснится, — влез Башкир, — если мы вот это употребим!
Он вытащил полиэтиленовый мешочек, набитый вроде как мелко нашинкованным сеном.
— Классная дурь, мне ее такой же страдалец презентовал. «Косатки» его комп не грызли, правда, тот просто завис, когда хозяин на порносайт залез. «Стоп, машина! — командует такой сайт. — Порадовался голым жопам? Теперь плати бабло, иначе не сможешь работать!» Мужик сразу ко мне, потому что компьютер-то — жены! Ха-ха-ха, врубаетесь? Она его включает, а там порнушная картинка и надпись: система заблокирована, за снятие блокировки — 100 баксов! В общем, выручил чела, так он не только денег, еще и премию дал… Забьем косячок?
У Пухова назревал пересменок, он отказался, Мятлину же терять было нечего. Лучше бы на экране навсегда зависла чья-то голая задница, не велика беда; да и сто баксов — не деньги. У него было ощущение, будто выпал за борт в океане, родной корабль скрылся за горизонтом, а где-то рядом появился хищный кит. Выпавший отчаянно работает руками-ногами, плывет к невидимому берегу, а кит уже делает круги, готовясь схавать придурка, попавшего не в свою стихию…
Трава шваркнула по мозгам, будто кувалдой. Пространство котельной вскоре расширилось, и тесноватое помещение превратилось в просторный зал, который подметал человек с надписью «Теплоэнерго» на спине. Потом надпись показалась где-то высоко вверху, кажется, человек забрался на котел, чтобы смахнуть оттуда пыль.
— Хватит метлой махать! — задирал голову Башкир. — Слезай, курни с нами!
Он закатывался от смеха; Мятлин тоже, а человек не слезал, и тогда Башкир схватил «поджигу». Эта штуковина была своего рода огнеметом, исторгавшим огненный факел, который вполне мог достать человека наверху. Однако цель была другая: Башкир высыпал содержимое пакета на цементный пол и, включив огнемет, направил факел на образовавшуюся горку.
— Говна не жалко, — приговаривал, — зато сейчас кайф будет — зашибись!
Когда горка зачадила, и под потолок взвился столб пахучего дыма, сверху прозвучало:
— Охренели, что ли?! Сейчас сменщица придет!
— Ей тоже достанется, не переживай… — бормотал Башкир, погружая голову в дымный шлейф. — И тебе достанется… Всем будет хорошо!
Проделав то же самое, Мятлин помахал здравому сознанию ручкой. Он будто смотрел мультфильм, в котором нарисованный человек с метлой пытался тушить чадящий холмик, кашлял, глотая дым, а потом лихорадочно листал журнал, бормоча:
— Я забыл показания приборов… Что я сменщице скажу?!
— Что ей не повезло! — отзывался Башкир. — Тебя вот вставило, а до ее прихода, пожалуй, все выветрится!
Выветриться не успело, и вскоре очередной мультяшный персонаж в женском обличье открывал форточки и зажимал нос: чем вы тут навоняли?! Пухов что-то говорил, кажется, просил принять смену, а Мятлин взял в руки «поджигу». Если ее включить на полную мощь, то, пожалуй, можно поджечь дом. Или поджарить какого-нибудь дельфина, нагло влезающего в его жизнь. А лучше всего — свалить в кучу миллион компьютеров и направить на них струю пламени, то-то весело будет! Утрись, второй Стив Джобс, да и первый пусть не радуется: мы это дерьмовое железо в одну секунду уничтожим! А начнем, как советовали мудрецы, с себя — сожжем ноутбук!
Вытащив компьютер, Мятлин положил его на табуретку и взялся искать кнопку включения огнемета.
— Натуральный луддит… — пробормотал двумерный Башкир. — Но с этим пока погоди!
Он отставил обреченный на заклание комп в сторону.
— Эй, ты чего?! Я его приговорил! Без суда и следствия, именем научно-технической революции… В расход!
— В жестком диске надо покопаться. Вот когда покопаюсь, тогда — в расход!
Мятлин опустился на скамейку.
— А что это вы все луддитов каких-то поминаете?
— Про них Пухова спрашивай. Можешь даже попросить к ним отвезти! О, идея! Он щас закончит, мы сядем в его «членовоз» и поедем к этим придуркам!
Далее был двумерный ЗИМ, куда они умудрились, тем не менее, втиснуться. Хотя чему удивляться? Они ведь тоже нарисованные, им самое место в такой машине, которая понеслась по нарисованному, опять же, Петра творенью. Они вырулили из глубин Адмиралтейства, сделали вираж и вскоре оказались на Дворцовом мосту.
— Кто это все нарисовал? — спросил Мятлин, обводя рукой окоем.
— Вот это? — Башкир уставился на Петропавловку, затем перевел взгляд на Зимний. — Так ты ж его знаешь! Он вон там на лошади сидит!
— Тогда его тоже в расход! — жестко проговорил Мятлин. — С него же все началось! Царь-плотник, черт бы его побрал, царь-кораблестроитель… На фига было устраивать индустриализацию? На фига был нужен европейский путь? Теперь вот пожинаем плоды, боремся с косатками и кашалотами… Кстати — вон они!
Он указал на речной разлив между мостами.
— Кто? — спросил Башкир.
— Где? — спросил Пухов.
— Косатки, — отозвался Мятлин. — А может, кашалоты, хрен их разберешь… Останови, разглядим!
Они уже ехали по Биржевому. Свернув с моста, Пухов затормозил у плавучего ресторана «Каравелла», после чего двумеры высыпали из «членовоза» и поспешили к Неве.
— Где они?
Пухов озирал водную гладь, мерцающую тысячами неверных огней.
— Да вот же! — указывал Мятлин. — Прямо у Стрелки бултыхаются! Смотри, какие огромные!
— Может, это «Метеоры»? — сомневался Пухов, но Башкир поддержал:
— Какие, на фиг, «Метеоры»?! Косатки, к бабке не ходи! А там, возле моста, кашалот плавает!
— И хрен с ними! — махнул рукой Пухов. — Они плавают, а мы поедем!
Далее мультфильм сделался черно-белым. За окном машины проносились черные силуэты строений на фоне белого света от бесчисленных светильников, будто в самом умышленном городе умышленно перемешали день и ночь. И просторный двор, в который въехали, был черно-белым, а еще — забитым покореженными остовами каких-то механизмов. Груды черного металла, смятого и выгнутого неведомой силой, валялись там и тут, освещенные ослепительно белым сиянием от прожекторов. Свалка? Не-ет, подумал Мятлин, это не совсем свалка! Это рукотворное кладбище, здесь созданных человеком технических монстров превращают в пыль, в первоначальную руду, из которой они были изготовлены!
— Я понял! — хитро подмигнул он Пухову.
— Что ты понял? — отозвался тот, запирая машину на ключ.
— Здесь живут луддиты! И они обладают силой, способной уничтожить хоть пылесос, хоть паровоз! Значит, не все безнадежно? Как бы это сказать… Сила духа, короче, может противостоять Железному Миргороду?!
— Ты гонишь, Женя. Какие луддиты?! Не слушай ты этого наркомана!
Он кивнул на Башкира, который неторопливо раскуривал очередную самокрутку.
— А «членовоз» они могут уничтожить? — раздумчиво проговорил он. — Или им помочь?
Он пнул ногой колесо, подергал дверную ручку.
— Надо бы принести в жертву твою тачку. Превратить ее в такой же металлолом. А? Это будет по чесноку!
— Эй, хватит! Меня тоже вставило, но надо ж и границы знать!
Пухов встал между ЗИМом и Башкиром. Тот заржал:
— Испуга-ался! То-то же! Ладно, этот гусь нам не товарищ. — Башкир обнял Мятлина. — Затянись — и идем со мной!
Финальная затяжка, а дальше — черный ход, ступени и подвал, на удивление, огромный и наполненный людьми. Люди сидели на стульях или стояли за верстаками, ковыряясь внутри механических и электронных устройств. Вращались отвертки, стучали молотки, звенели пилы-болгарки, медленно, но верно разрушая то, что было собрано на неких конвейерах или склепано вручную. Раскуроченная техника погружалась на тачки, после чего увозилась, чтобы вскоре оказаться в том самом дворе.
С Мятлиным местные деятели здоровались приветливо, а вот на Башкира поглядывали с неприязнью. Он тоже источал одно лишь ехидство и высокомерие.
— Придурки! — говорил с усмешкой. — У них нет шанса!
— Это у тебя нет шанса! — отзывались из-за верстаков. — Чего вообще явился? Вали отсюда, только человека нам оставь! Он — наш!
Мятлин растерянно улыбался, не очень-то соображая — чей он? С кем он, мастер, так сказать, культуры? Потом перед глазами все закружилось, кажется, подступила тошнота, и картинка исчезла…
Очнулся он в одежде и в обуви, на своей кровати. В голове было на удивление ясно, только мир по-прежнему оставался черно-белым. Цветное зрение вернулось лишь после того, как оприходовал грамм двести виски, стоявшего в баре. Анализировать недавний кошмар не хотелось, и он опять провалился в сон.
7
Спустя несколько дней на пороге возник Башкир — хмурый и недовольный. Уселся перед компьютером, включил и, не дожидаясь загрузки, вытащил из кармана полиэтиленовый мешочек.
— Тут осталось кое-что… Хочешь?
— Убери свое «кое-что»! — замахал руками Мятлин. — Я даже запаха переносить не могу!
— Зря, — философски ответил визитер. — О, мутировал! — указал он на экран, где зловеще помахивал хвостом тупорылый хищный кит. — Видишь, даже Windows не грузится? Это кашалот его сжирает. И данные все сжирает, короче, пипец компу. Ну что ж, земля пухом, и как там еще? Ага, царствие небесное!
Он встал и театрально перекрестился.
— И что теперь делать? — растерянно проговорил Мятлин. — Если земля пухом?
— Все менять на фиг, включая IP-адресок. Не возражаешь, если жесткий диск выну? Это опасная штука, но кто не рискует, как говорится…
С этими словами он в мгновение ока раскурочил ноутбук, вынул какую-то детальку и спрятал в кейс.
— Погляжу на досуге, что там эти китеныши натворили… Так ты точно не хочешь? — указал он на свой карман.
— Точно не хочу. Не до этого, честное слово.
Виртуальная морская живность заставила не слабо раскошелиться: пришлось менять и компьютер, и провайдера. Но Мятлин пока не решался включать новую технику, опасаясь, что ее тоже порвут, как Тузик грелку. Он предпочитал заходить в Сеть осторожно, с чужих машин, больше как наблюдатель, а не участник.
Письма на свой адрес он не открывал, так что вскоре скопилась внушительная «стопка» корреспонденции. Но письмо, озаглавленное «Песни китов», он не мог не открыть. Он понимал: никаких посланий с того света быть не может. События вдруг выстроились в логическую цепочку, и таинственная тень, мелькавшая там и тут, обрела плоть.
В письме не было ничего особенного, лишь приложенный звуковой файл. Во избежание порчи казенного оборудования Мятлин не стал его прослушивать, да и зачем? Он прекрасно помнил странные звуки, исторгаемые магнитофоном «Яуза», которые не мог понять ни тогда, ни сейчас. Они сидели с Ларисой на диване, по комнате плыли то ли жалобные стоны, то ли завывания, а юный Мятлин пытался уловить в них смысл. Он привык к тому, что в словах, произносимых или начертанных на бумаге, есть смысл — если не логический, то хотя бы эмоциональный, запрятанный между строк. Звуки же издавало нечто непонятное, непознанное, плавающее в темной глубине, попробуй тут дешифруй!
Что думал об этом Рогов? Вряд ли что-то положительное, этот «железный Феликс» находился от живого мира еще дальше эстета Мятлина, значит, послание было издевательской шуткой.
На следующий день он позвонил Башкиру.
— Я знаю, кто этот новый Тесла.
— Ну да?! — удивился тот. — И кто же?
Башкир все выслушал, но разделять возмущение Мятлина не спешил.
— Я тут исследую твое железо, и хочу тебе сказать… Он крут! Очень крут! В общем, если разыщешь его…
— Зачем я буду его искать?!
— В общем, если найдешь этого Рогова, передай привет от Башкира. А лучше познакомь!
Естественно, разыскать Рогова хотелось. Другой вопрос: как? Мятлин потерял того из виду в эпоху перемен, когда жизнь играла в чехарду; а еще гибель Ларисы, обессмыслившая их соперничество… От Клыпы он знал, что Рогов пропал во время испытаний какого-то секретного корабля. Но еще через пару лет дошел слух: всплыл где-то за бугром, то ли в Германии, то ли в Швеции. Жизнь и дальше разводила и отдаляла, так что со временем Самоделкин почти стерся из памяти. И тут здрасьте, воскресает!
Поиск Всеволода Рогова в Интернете оказался делом неблагодарным, как поиск Васи Иванова или Вани Сидорова. «Яндекс» предлагал железнодорожника, юрисконсульта, студента мединститута, художника-мультипликатора и т. п. Море разливанное кандидатур, и все мимо кассы. Не лучше обстояло дело и с фамилией Rogoff, вброшенной в англоязычный поисковик, который упорно подсовывал некоего Кеннета Рогоффа, экономиста и шахматиста. Да и зачем Рогову в открытом доступе светиться? Он наверняка спрятался за каким-нибудь пошлым ником, а тогда поиск становится вообще безнадежным делом…
В эти дни на работе, как по заказу, предложили поездку на конгресс в Филадельфию. В докладе, как сказал директор вуза, можно было бы развить ту самую тему про фаллическое техническое начало, только требовалось больше иллюстраций из жизни. Поначалу Рогов загорелся идеей — во-первых, никогда не посещал Америку, во-вторых, у него там было важное дело. Но вскоре понял, что главная иллюстрация к его работе — он сам. И, если быть честным, следовало вылить на головы публики именно собственную историю. А оно ему надо? И вообще поездка лишь отсюда казалась привлекательной, на самом деле он будет ходить по этой Филадельфии, озираясь по сторонам и видя в каждом прохожем Рогова. И ни в какую Силиконовую долину, конечно же, не поедет, потому что а) командировочных не хватит, б) искать там человека — как искать иголку в стоге сена. Короче, он отказался, чем привел директора в явное недоумение.
Он отправился поближе, на улицу Чайковского. Решение далось нелегко, он даже не стал звонить — вдруг не захочет переступать порог? Если же захочет, то сделает звонок прямо от парадной, мол, случайно оказался поблизости, и вот решил… Потом пил бы чаек и внимал бесконечной саге безутешной матери, жадно ловя детали и подробности. Светлана Никитична выкладывала их более чем охотно, цепляясь за воспоминания, как за соломинку.
— А помните ее любимую кружку? С собачкой была кружка, ага, вон там стоит!
Она указывала на верхнюю полку застекленной стенки с посудой.
— Она специально эту кружку купила, сказала, что собачка на ее любимую Грету похожа.
И тут же — рассказ про сбитую грузовиком собаку, как ее оперировали, как Лариса трое суток не спала, а когда утратила верного друга, просто лицом почернела, погрузившись в депрессию. Мятлин раз семь слышал этот рассказ. Но если раньше это был просто ностальгический треп, вполне объяснимая попытка вернуться в золотую пору жизни, то теперь беседа могла обрести иную подоплеку. Чем больше нюансов и подробностей, тем лучше, можно было бы даже диктофон прихватить. А что? Светлана Никитична оценила бы его порыв и, возможно, напряглась бы и выдала нечто оригинальное.
Волнение нахлынуло, когда оказался у парадной. Деревянная дверь сменилась стальной, с кнопочным домофоном. Но он не стал набирать код, дождался, пока выйдет кто-то из жильцов, проскользнул внутрь и долго стоял у порога, озирая арку перед лестничным пролетом и двух кариатид слева и справа.
Ранее парадная была неказистой: облезающая синяя краска на стенах, потолок с подпалинами от приклеенных спичек — в таком контексте полуголые женские фигуры смотрелись нелепо. Теперь же стены покрасили в мягкий желтоватый цвет, потолок побелили, и кариатиды вроде как оказались на месте.
Приблизившись к одной, Мятлин вспомнил, как на ее животе увидел изображение грубого хирургического шва и надпись: «кесариво сичение». Он долго потешался над творением хулигана-двоечника, призывая Ларису посмеяться вместе с ним, мол, вот образчик внедрения современности в творения предшественников, по сути, постмодернистский микст. Лариса же просто достала платок и вытерла следы фломастера. Через неделю на выпуклом животике опять появилось изображение надреза с подписью «апиндицит». Лариса стерла изображение еще раз, после чего делала это регулярно, пока вандал не сдался, а может, просто потерял свой черный фломастер.
«Надо бы эту деталь тоже записать…» — подумал Мятлин перед тем, как начать подъем по ступеням. Он не стал входить в лифт — на третий этаж можно было подняться и пешком, что всегда и делал. Раньше, правда, прыгал через две ступени, теперь же поднимался осторожно, по-прежнему не имея уверенности в том, что визит необходим.
Когда до квартиры остался один пролет, щелкнул замок, и на площадку кто-то вышел. Успев спрятаться за лифтовой короб, Мятлин вскоре услышал:
— Спасибо, большое вам спасибо! Если бы не вы…
Это был голос Светланы Никитичны — надтреснутый, почти старушечий. Мятлин не был здесь давно, последний раз звонил года два назад, чтобы поздравить с Новым годом, и уже тогда по голосу можно было судить: она основательно сдала.
— Да что вы, ей-богу… — отвечал мужской голос. — Я через неделю еще раз зайду.
Мелькнула дикая мысль: Рогов?! Но откуда?! Нет, это полный бред, Рогова здесь не может быть! Тем не менее, когда хлопнула дверь, Мятлин замер: войдет в лифт? Или спустится по лестнице? Незнакомец выбрал второй вариант, значит, изобразим непринужденность, типа: я в другую квартиру.
Из-за короба вначале показалась рука с палочкой, затем и ее обладатель — некто в черном берете и плаще. Этот человек хромал и вообще был слегка перекошен влево, как те, кто перенес в детстве полиомиелит. Отметив эту особенность и скользнув взглядом по лицу незнакомца, Мятлин направился было вверх, но его придержали за рукав.
— Туда направляетесь?
Хромец указал на дверь, из которой только что вышел.
— А вам, собственно, какое…
— Никакого, если честно. Но лучше бы вы туда не ходили.
Мятлин только теперь вырвал рукав из цепких пальцев.
— А… с чего вы вообще взяли, что я иду сюда?
— Потому что я вас знаю. Вы меня вряд ли вспомните, а я вас запомнил хорошо. И еще тогда понял: от вас не дождешься ничего хорошего.
— Очень любопытно… — пробормотал Мятлин. — Вам, значит, можно сюда ходить, а мне нельзя?
— Как же я могу запретить? Не рекомендуется — так будет точнее. Вы оба ничего не поняли в Ларисе. А тогда зачем тревожить память?
— Что значит — оба?!
— Вы прекрасно понимаете, что это значит. Оба — значит, оба. Другой сейчас где-то далеко, но не исключено, что и он здесь когда-нибудь появится.
Хромец смотрел на Мятлина то ли с жалостью, то ли с презрением, что было, по меньшей мере, странно.
— Впрочем, решайте сами, — усмехнулся тот. — С лестницы я вас не смогу спустить при всем желании.
Незнакомец похромал вниз, Мятлин же застыл на месте. Минуту-другую он колебался, стоя перед лестничным пролетом в двенадцать ступеней (он хорошо помнил это число). Несколько шагов вверх — и он все выяснит, расставит точки над i, и в растревоженную душу сойдет покой. А если не выяснит? Если вместо покоя лишь усилится тревога, в которой он и без того пребывал?
Так и не набравшись мужества, он с унынием стал спускаться. Незнакомца на улице не было, и Мятлин, обнаружив в соседнем доме рюмочную, завернул туда. Выпил сто коньяку, подумал — и купил еще сто. Хромец в берете вынырнул из прошлого, будто кашалот, и пребольно куснул. «Вы ничего не поняли… А ты, значит, понял?! Да пошел ты знаешь, куда?!» Коньяк расслабил, потянуло выговориться, но затрапезная публика к душевной беседе не располагала. Да и другая публика вряд ли бы расположила — для этого была припасена особая жилетка, к которой он приник в ближайшем интернет-кафе.
Обнаружив вышедшую на контакт Жаки, Мятлин обрадовался, будто встретил старую знакомую, которую не видел много лет. Та осторожно выспрашивала про его дела (если у него, бедненького, могли быть какие-то дела), и давала ссылку на сайт, где можно было скачать антивирус под названием «Китобой».
«И как — удачно охотится этот „Китобой“»?
«Некоторым помогает. А как вообщее дела? Как личная жиссь?»
Можно было, как всегда, в ироничном ключе описать последние события своей жизни, с одной стороны, облегчив душу, с другой — оставшись анонимом. Но после пережитого внезапно и остро захотелось войти в кадр. Жизнь — короткая и зыбкая штука, не успеешь оглянуться, как уляжешься на Южном или Северном, и кто тогда будет стучать по клаве? Кто будет язвить и пикироваться в сетевых сообществах? А тогда выходим из тени, делаем шаг под софиты и, утирая струящийся по лицу пот (жарко светят, гады!), начинаем горькую исповедь.
Он признался во всем — раскрыл имя, биографию, прикрепил настоящее фото, если чего и утаив, то лишь по забывчивости. Жаки несколько раз подгоняла, мол, чего молчишь, он же, не обращая внимания на пинки, лихорадочно заполнял значками экран. Перед отправкой послания закончилось оплаченное время, пришлось еще раз тащиться к кассе, но вот, наконец, дело сделано, и можно выйти на перекур.
Мятлин успел выкурить еще одну сигарету, пока дождался ответа. Хотя лучше бы не дожидался. На него обрушился письменный ор: на фига, философ?! Сидел в виде памятника с блестящим пальцем, никому не мешал, и на тебе! Не нужно мне твоей постной физиономии; и признаний твоих не нужно! Ты же, козел двурогий, хочешь сочувствия, так?! И ответного признания, верно?? Наверняка встречи в реале попросишь, цветочки принесешь на свиданку, а дальше — кафе, бухло, постель! Но ты спросил: а хочу ли я всей этой фигни?! Так я отвечу: не хочу! Меня интересовала жизнь неизвестного мужика, которого я могла вообразить таким, могла — этаким, а какой-то Мятлин (ну и фамилия!), у которого болит левая почка, две брошенные жены и запыленная однокомнатная квартира — мне на хрен не нужен!
Закончив чтение, Мятлин в очередной раз утер взмокший лоб. И правда: зачем писал про почку? Про пыль в квартире? Хотел деталей прибавить ради убедительности, а на самом деле гиперреализм какой-то получился. Впрочем, и без пыли любимая жилетка исчезала, пропадала навсегда, и он сам был в этом виноват. Она угадала: хотелось попросить о встрече, купить букет, пригласить в кафе и т. п. Но та, что пряталась за разгневанной физиономией Жаклин Кеннеди (где только фотку такую нашла?), похоже, проходила такое и не желала наступать на те же грабли.
Поездка в Пряжск вроде была не мотивирована. Он давно покинул место рождения, связывающие с городом нити — друзья, родители etc. — оборвались, короче, ехать вряд ли имело смысл. Но Мятлина тянуло, и сила притяжения, похоже, имела ностальгическую основу. Да и о Рогове, быть может, удастся что-то узнать, все же одна ниточка имелась — Клыпа, который не прекращал мелькать на горизонте. Еще в эпоху перемен он занялся «гешефтом» в варианте купи-продай. А покупать, понятно, удобнее в больших городах, чтобы перепродавать в маленьких. Чаще Клыпу заносило в «южную» столицу, но не брезговал он и «северной», закупая товар то в порту, то на Апраксином дворе, то в каких-нибудь Шушарах. И всякий раз звонок: «Можно у тебя остановиться?» Вряд ли «гешефтмахер» не имел денег на гостиницу, но, во-первых, он всегда был прижимистый, во-вторых, укреплял контакт со своим человеком в мегаполисе. Мятлин и так и эдак давал понять: никакой он не свой, его сфера интересов иная, но потомок прапорщика был непробиваем. Пряжский — значит, свой; свои должны поддерживать друг друга, а чужих — гасить.
Телефон Клыпы с последнего визита не поменялся, и Мятлин, договорившись о дне прибытия, отправился покупать билет.
8
Клыпа встречал его на своем Mitsubishi Pajero. И машина, и личный водитель, и коньячок в бардачке — все намекало на непростой статус старого знакомого. По дороге с вокзала тот молол всякую чушь, дескать, надо навещать малую родину, а друзей забывать — не надо, в глазах же читалось: видишь, как я поднялся? Мы не столица, но тоже кое-что значим: у нас бизнес, уважуха, и вообще все схвачено!
По просьбе Мятлина его высадили на окраине Городка.
— Хочу подышать воздухом малой родины, — сказал он, покидая джип.
— Подыши, полезно…
Договорились встретиться в ресторане «Пряжа», что в пойме реки, после чего Мятлин отправился бродить по знакомым местам.
Все внезапно уменьшилось, будто пейзаж детства сжался, как сдувшийся воздушный шарик. Панельные пятиэтажки выглядели на удивление маленькими; и школа стала крошечной, и парк с кинотеатром; даже заводские корпуса вроде сделались ниже. Объективно они оставались огромными, как и прежде, но проходные были намертво заколочены, на территории царило запустение, что превращало индустриальные гиганты в декорации прошедшего спектакля. Декорации разбирали, растаскивали, через многочисленные дыры в заборах шнырял темный народец и что-то тащил, тащил…
— Здесь это единственный источник дохода, — докладывал Клыпа, когда сели обедать. — Вначале несли цветмет, теперь — все, что плохо лежит. Хотя там, если честно, уже ничего не лежит, один металлолом остался. А ведь какую технику делали! Какую аппаратуру!
Они сидели в элитном, по меркам Пряжска, ресторане, где Клыпа заказал себе половину меню: два салата, холодец, украинский борщ, свиную котлету… Наверное, поэтому из деталей прежней жизни лишь потомок прапорщика увеличился в размерах, сделавшись вторым изданием покойного папаши.
— Чего будешь? Заказывай, не стесняйся, я в этом кабаке скидку имею! Я в городе вообще кум королю, так что в случае чего — мою фамилию называй!
— Стал авторитетом? — усмехался Мятлин.
— Типа того. А что? Бандюков, что мазу держали, перестреляли давно, теперь нормальные люди дела крутят…
Нормальный человек привирал, имелись и другие источники дохода: сам он владел тремя торговыми точками, пунктом приема плохо лежащего металла, складом стройматериалов, а еще коттеджем в пойме реки, который очень хотел показать гостю. Но Мятлин сказал, что хочет посетить могилу матери.
Кладбище тоже увеличилось. Оно и раньше не было маленьким, занимая большой лесной массив, окруженный с одной стороны частной застройкой (где и жили злейшие враги), с другой — огромным пустырем. А поскольку дома не снесешь, расширение происходило за счет пустыря: могилы выползали из-за стоящих в ряд деревьев, заполняя травяное замусоренное поле сотнями новых крестов, оград и памятников. То есть переселение на погост шло ударными темпами, глядишь, кресты к Городку скоро подступят, любуйтесь из окон…
Он не был на могиле со дня похорон. И до сих пор не мог понять, почему мать не захотела, чтобы ее прах перевезли в Питер. Никакого завещания та не оставила, просто знакомые (учителя на пенсии) сказали, мол, изъявила желание быть погребенной на родине. Как, почему?! Она же терпеть не могла провинцию, выгоняла его отсюда чуть ли не силой! Но пойти против воли той, кого уже нет, он не решился.
С трудом разыскав могилу, Мятлин остановился у ограды. Он удивился, увидев памятник, хотя сам пересылал деньги на изготовление и установку. Черты матери на темном граните были знакомыми и в то же время незнакомыми, вроде как две ипостаси — потусторонняя и земная — объединились в высеченной на камне фотографии. Ограда была выкрашена, перед стелой красовалась вазочка с искусственными цветами, не иначе, коллеги-пенсионерки постарались. Что успокаивало и вместе с тем заставляло стыдиться — он вроде как оказывался неблагодарным потомком, презревшим «любовь к отеческим гробам». Он почти не надеялся получить ответы на вопросы, что когда-то повисли в воздухе, и, конечно, ничего не получил. Вставил в вазочку бордовые розы, не без облегчения закончив ритуал, и отправился к выходу.
Клыпа сказал: отдашь долг памяти, приходи в развлекательный центр, что на площади, в боулинг поиграем. Но Мятлин отправился туда, где некогда шастал юный Рогов. Чем-то он напоминал себе Иванушку, который ищет дуб, под ним сундук, в сундуке зайца и т. п. Проще говоря, нащупывает уязвимое место соперника, который в этом контексте уже и Самоделкиным-то не был, вырастая до престижного статуса Кощея Бессмертного.
Проникнув через дыру в заборе на территорию автозавода, он двинулся мимо длинных серых корпусов, черневших оконными проемами с разбитыми стеклами. Людей на заводе не было видно, попалась только парочка местных мародеров. Поворот, еще поворот, и вот — ослепительно белый песок, окружавший рукотворный карьер для испытания плавающих БТРов. Мятлин приблизился к воде, оказавшейся медно-ржавой. Что не удивляло: посреди озерца торчали два наполовину утопленных металлических каркаса. Что тут вообще особенного?! Когда-то Лариса рассказывала, как Севка цеплялся за машины, проходившие испытания на карьере, плавал за ними, так ведь глупость это!
Мятлин бродил по мрачным темным цехам, наблюдал раскуроченное оборудование, груды проржавевших деталей — ну прямо иллюстрация к антиутопии. Здесь прошел смерч, случилась уэллсовская «Война миров», в которой некие пришельцы нанесли смертельный удар миру земной техники. Она проиграла по всем статьям, оказалась никому не нужной материей, хотя раньше оборонные монстры, можно сказать, подчиняли себе жизнь Пряжска. И в пресловутой Америке немногим лучше, да, да, поезжайте в Детройт, чтобы убедиться! Увидите такие же мертвые корпуса, такое же запустение, хотя некогда город гудел конвейерами и сиял огнями заводов, выпускавших миллионные табуны железных коней. Утрись, Рогов, в своем американском далеке, ты все равно раб мертвого железа, у которого один путь — на это кладбище, выглядевшее еще более жутко, нежели кладбище с человеческими останками.
Рогов же ехидно ухмылялся из-за океана: если ты такой умный, почему тогда не заглядываешь в свой верный комп? Почему боишься его, словно это гремучая змея? Увы, крыть было нечем. Как ни убеждал себя Мятлин, что ничего экстраординарного здесь появиться не может, реальное бытие его опровергало. То есть дуб он, может, и свалил, но до зайца внутри сундука, тем более до заветной иглы, в коей крылось могущество Кощея, пока не добрался.
И все-таки из этой провинциальной банальщины родилось что-то невероятное, перепрыгнувшее океан и утвердившееся в самой могучей стране земного шара. Из грязи в князи, со свалки в Силиконовую долину, где можно безнаказанно творить гадости, упиваясь тем, что Железный Миргород победил. Претерпел мутацию, обрел новое обличье и поглотил все и вся, задавил своим ползучим могуществом.
Вернувшись во двор, Мятлин уселся на скамейку возле стальной перекладины, на которой выбивали пыль из ковров и паласов. Вдруг вспомнилось, как Рогов, обозлившись на что-то, рассказал, как подслушивал их с Ларисой разговоры. Пользовался тем, что Мятлин лох, подключался к их локальной сети, как теперь бы сказали, и наглым образом слушал то, что для чужих ушей не предназначалось. Да и сейчас он занимался тем же, использовал возросшие возможности, чтобы в очередной раз отомстить…
Воспоминания прервала седая женщина в цветастом халате, вышедшая с ковриком в руках. Перекинув его через железную перекладину, она взялась выбивать пыль — по старинке, без всяких пылесосов, как это было в детстве. Облик женщины был смутно знаком, только откуда? Она тоже поглядывала на Мятлина, когда же закончила, сама подошла, оказавшись его преподавателем математики. Она жила в крайнем подъезде, даже иногда бывала у них, поскольку работала в одной школе с матерью. Но имя-отчество Мятлин забыл, благо математика никогда не относилась к числу любимых предметов.
Людмила Григорьевна сама напомнила, как ее зовут. Дежурно поспрашивав про жизнь, она взялась рассказывать о школьном празднике, что состоялся в мае, и куда Мятлина тоже приглашали.
— Что же вы, Женя, не приехали? — пеняла она. — Вас так не хватало! И Севы Рогова не хватало, но он, говорят, где-то далеко живет?
— Далеко, — кивнул Мятлин (ему вдруг стало неприятно).
— Мы отправляли ему приглашение, но ответа не получили.
Мятлин усмехнулся.
— Важным человеком, наверное, стал…
— Ну да, ну да, вы все кем-то стали. Жаль, что Лариса…
— Она погибла, — быстро проговорил он и полез в карман за сигаретой. Он не любил это обсуждать, предпочитал воспоминания наедине с самим собой, и сейчас жалел, что не откланялся с ходу.
— Я знаю… — отвела глаза Людмила Григорьевна. — Хотя до сих пор не могу поверить. В том выпуске вы трое были самыми интересными ребятами. Разными, но интересными. И меня, если честно, не удивляет, что у вас образовался треугольник.
— А он образовался?! — изобразил удивление Мятлин.
— Конечно, об этом многие знали. Вначале я считала, что он равносторонний, но сейчас думаю: равнобедренный.
— Извините, для меня эти математические термины не очень понятны…
— А тут и понимать нечего. Лариса была отдельной вершиной, отличной от вас.
Позже он понял: его не собирались обижать, скорее, хотели сказать хорошее о Ларисе. Но это позже, в тот момент он обиделся, поэтому свернул общение под каким-то надуманным предлогом, даже начал тыкать в кнопки телефона (дела, мол!).
Еще одна встреча состоялась в пивной, куда Мятлин забрел успокоить нервишки. Расположенная под открытым небом, пивная напоминала ушедшее время — то ли пузатыми гранеными бокалами, то ли пролетарским контингентом вперемешку с урлой. Когда Мятлин встал в очередь к стойке, сзади пристроился некто с костылем и с обилием наколок на предплечьях, похоже, вечный обитатель тюремных нар, задержавшийся на воле между ходками.
— А я тебя знаю, — тронул тот за плечо. — Ты с Советской, учительский сынок, верно?
Мятлин что-то пробормотал, взял бокал и поспешил за столик. Обладатель костыля направился следом и, поставив свое пиво, уселся рядом.
— Видишь, что написано? — сунул под нос предплечье. На бледной коже, прорезанной бугристыми венами, красовался сонм надписей непонятного содержания. Мятлин пожал плечами.
— Что написано?
— СЛОН. Что означает: с малых лет одни несчастья.
В памяти всплыло: лесная опушка, ведра с разливным вином, и некто, подносивший кружку за кружкой…
— Вспомнил, да? Ты тогда набухался вусмерть, книжки свои потерял, потом блевал…
Мятлин скривил лицо в вежливой улыбке.
— Что ж вы букву «М» не добавили? — спросил. — Так и ходите с грубой ошибкой…
Визави и сам был грубой ошибкой, то есть доходягой: худой, с просвечивающей кожей, без передних зубов, он наверняка имел кучу болячек внутри тщедушного тела, которое вряд ли переживет очередной срок. Сколько ровесников закончили так — и не сосчитаешь; хотя Мятлин, собственно, и не собирался считать.
— А мы тебя тогда накачали! — щерился в ухмылке доходяга. — Тебя ж до желчи выворачивало, я помню! А почему? Потому что не тренированный был! Бормотуха — она тренировки требует, к ней желудок приучить нужно. А как приучишь, если книжки читать? Слабаком ты, выходит, оказался, опустили мы тебя…
Он раз за разом повторял подробности, смаковал их, видно, упивался давно прошедшим звездным часом, когда кого-то грамотно опустил. Но Мятлина, как ни странно, это не взволновало. Он понял, что разговаривает с живым трупом, тут даже воображение включать не требовалось — жизнь сама пропишет этот сценарий до логического конца.
Он допивал свою кружку, когда рядом притормозил Mitsubishi Pajero, оттуда выбрался Клыпа и, грузно переваливаясь, направился к столикам.
— Отдыхаешь в благородной компании? — прищурился, озирая публику.
— Нормальная компания, Николай Захарыч! — обнажил беззубый рот компаньон. — Присоединитесь?
— Я в таких шалманах не пью.
— Тогда, может, на кружечку пожертвуете?
— Перебьешься. — Клыпа повернулся к Мятлину. — Ну, допил? Тогда пойдем, есть новости.
Оказалось, Клыпа времени зря не терял, все ж таки человек дела. Он помнил просьбу разузнать кое-что о Рогове, который действительно сидел где-то в американских штатах, по всему видать, зашибая неслабые деньги. Откуда это известно? От матушки его, она еще жива, хоть и переехала в другой район.
— Он ей бабло оттуда присылает. Сколько — она не сказала, но мои знакомые в «Пряжа-банке» говорят: тетка по нескольку штук баксов укладывает на счет. И жалуется при этом: «Куда мне столько? На царские похороны, что ли?»
— Действительно важным стал… — пробормотал Мятлин.
— А то! Он там тоже типа авторитет, если столько имеет… А ведь придурок был, верно? Вечно в своих мотоциклах ковырялся, чумазый, как черт… И папаша его такой же чудик был: все какие-то вечные двигатели изобретал, помнишь?
Мятлин помнил смутно, да и не интересовал его покойный Рогов-старший.
— А поговорить с его матушкой можно?
— Не хочет она ни с кем говорить. Но с моими девушками из банка общается, только им, можно сказать, и доверяет. Короче, она сама его из виду потеряла, деньги приходят с адреса какой-то посреднической конторы. Так что где он сидит — неизвестно. Хотя одна зацепочка есть.
— Какая же?
— Рано об этом говорить. Пусть мои девочки поработают с мамашей, они ей проценты начисляют, а по ходу могут побазарить насчет сынка.
На следующий день Клыпа явился в тот же ресторан и выложил на стол тетрадь. Старую, потрепанную, в коричневом дерматиновом переплете — в такие общие тетради Мятлин когда-то записывал конспекты.
— Девочки правильно поработали, — поглаживал Клыпа облезлый дерматин. — Пообещали тетке отдать тетрадку в хорошие руки, может, даже что-то опубликовать… На этом ее и подловили: бабки ей не особо нужны, но сыночка, похоже, хочется прославить. Короче, это его записки.
У Мятлина екнуло сердце. Внутри этой неказистой тетрадки, возможно, крылись ответы на мучающие его вопросы, иначе говоря, яйцо и игла были найдены.
— В общем, разбирайся, если хочется. Я посмотрел — вроде ничего особенного, иногда вообще бредятина. Жертвы кораблю, какой-то белый мичман…
— Белый мичман?! — встрепенулся Мятлин.
— Ага. Пурга полная, похоже, бухал он на своих кораблях со страшной силой. Но мозги не пропил, если сумел респект в Штатах заработать…
Он знал: за подарок придется платить, как минимум, свободным временем. Но пока об этом не хотелось думать. Пряжск оказался Сезамом, подарившим заезжему гостю сокровище, так что задерживаться не имело смысла.
На другой Мятлин сидел в купе, наблюдая, как мимо ползет индустриальный пейзаж с мертвыми заводами. Несмотря на бойкость отдельных местечек, организм города гнил заживо, будто тело огромного животного. Когда-то животное имело шанс, пухло, как на дрожжах, подогреваемое имперскими амбициями и оборонными заказами, и вот — коллапс, превращение в труп. Как и положено, труп облепили падальщики вроде Клыпы, только их бойкая суета — свидетельство смерти, а не жизни.
Внезапно подумалось: «Ларисе было бы жалко умирающий город — не выносила, когда что-то погибает». А ему? Нет, ему жалко не было. Наблюдая мелькающие в окне кирпичные корпуса, он чувствовал, как освобождается от шкуры пряжского жителя, вылезает из нее, словно змея из мертвой оболочки, и устремляется вперед…
9
Даже беглого пролистывания хватило, чтобы прибавилось уверенности. Текст был стихией, в которой Мятлин плавал, как дельфин, и нырял, как кашалот; он резвился на просторах, заполненных словами и фразами, свободно дышал в этой среде, оппонент же не был приспособлен к обитанию в ней. Зачем ты, сирый и убогий, пытался выразить себя словами? Зачем напрасно мучил бумагу? Ты допустил прокол, бумага — она как проявитель, тут ничего не скроешь, а значит, я возьму твою душонку за ушко и вытащу на солнышко!
Так думал Мятлин, погружаясь в дешифровку (иначе не назовешь) каракулей, сделанных химическим карандашом. С первых строк было заметно волнение, владевшее «аффтором». О том, что Севка не дружит с изящной словесностью, Мятлин знал со школы, когда пролистывал его сочинения, стащив тетрадь со стола матери. С годами дружбы не возникло, фразы по-прежнему звучали коряво, а попытка слепить сложное предложение с парочкой причастных оборотов, как видно, выжимала из Рогова семь потов.
Лишь спустя время Мятлин начал различать за каракулями смысл. Рогов писал про то, что они все — жертвы, которые приносятся непонятно кому и ради чего. Что их корабль — это машина, которая питается человеческими жизнями, они ей нужны даже больше, нежели авиационный керосин для турбин. А вот и название корабля всплыло: «Кашалот», что было вполне логично и объясняло кое-что из последующих делишек. Типа юмор такой, хотя в то время, что описывалось в тетради, Самоделкину было не смешно. Страшно ему было на корабле, по которому невидимой тенью бродил пресловутый белый мичман. А ведь могли и белые кони ходить, как в анекдоте про алкоголика. Что тут удивительного, если пили отраву под названием шило, и явно в изрядных количествах?
Спасением могла быть некая База, которую Рогов описывал с явной надеждой на лучшее. Расположенная где-то на Севере, База собирала под крыло остатки советской технической интеллигенции, которая могла бы в изолированных условиях продолжить свою работу на благо непонятно кого и чего. Страна разваливалась, трещала по швам и летела в тартарары, а эти о технической Мекке мечтали, черт бы их побрал! База была светом в окошке, путеводной звездой, а еще предметом ожесточенных споров, например, с неким Жарским, который в тексте иногда обозначался инициалом Ж. «Не знаю, есть ли на самом деле эта База, — сказал недавно Ж. — А я верю: есть! Должна быть! Без нее мы умрем в этом море, в одной большой холодной могиле…»
Дальше, однако, тональность менялась, автор вроде как примирялся с неизбежностью, поскольку обнаружил странные изменения в себе и своих коллегах. И про белого мичмана писал теперь без страха, вроде как сроднился с этим посланцем загробного мира. «Мы разговаривали на палубе с белым мичманом…» «Он приведет нас на Базу…» «Мы спасемся с его помощью…» Это была уже клиническая картина, «делериум тременс», и все же Мятлин не бросал чтения. Каракули завораживали, сквозь них проглядывала иная картина мира, недоступная гуманитарию. Или это всего лишь иллюстрация бесчеловечности системы, доведшей людей до маразма? Ответа в тетради не было, увы, писал не аналитик, обычный хроникер с не очень здравой психикой…
В конце концов, Мятлин сделал выбор в пользу бреда, мол, допился, голубчик, свалившись в дурную мистику и примитивную мифологию. Память услужливо подсовывала схемы, по которым строилась горячечная выдумка — например, миф про Моби Дика, за которым гонялся неистовый капитан Ахав. Здесь сам корабль назывался «Кашалотом», капитанов было два, но кто сказал, что схему копируют один к одному? И «Одиссея» просматривалась, поскольку обреченному кораблю не светило вернуться к родным берегам, он должен был сгинуть в морской пучине. Судя по записям, экипаж все время пребывал где-то между Сциллой Ивановной и Харибдой Моисеевной, разве что вынужденный заход в Таллин был долгожданным (но кратковременным) отдыхом подобно остановке на острове Цирцеи. А База была чем-то вроде выдуманной Касталии, где интеллектуалы-электронщики могли вести беззаботную жизнь, изобретая невиданные устройства и аппараты. Или тут все проще, то есть Рогов просто зачитался фантастической повестью «Понедельник начинается в субботу»? Похоже на то, техническая камарилья всегда мечтала самозабвенно трудиться, не отвечая за чудовищные результаты своих трудов.
Мятлин вроде как раскапывал культурный слой, пытаясь в его глубинах обрести противоядие от стихии, к которой прикоснулся его оппонент. Но получалось плохо. «Мертвое поглощает живое, — писал Рогов. — И с этим надо смириться. Надо служить мертвому, только в этом шанс». И Мятлин скрепя сердце вынужден был соглашаться: поглощает, ничего не попишешь. Мертвая материя сделалась гибкой, изобретательной, стала настолько похожей на живую, что многие уже не отличают одну от другой. А тогда, может, стоит поклониться стихии?
Ближе к концу по сердцу резанула фраза: «Если бы она осталась жива, все было бы по-другому. Потому что она…» Далее синева химического карандаша расплывалась смутными пятнами — на бумагу то ли попала морская вода, то ли пролились слезы. Впрочем, Мятлину не требовалось продолжение, он мог и сам продлить фразу. Если бы она была жива, все действительно могло повернуться иначе. В ней было то, чего так не хватало им обоим, у нее внутри жила невидимая сила, на поверку оказавшаяся слабостью. А ведь им не хотелось быть слабыми! Они стремились обустроить свои плацдармы, физик, блин, и лирик, а самое важное — проглядели!
В финале опять застучала в мозгу фраза: «Смерть — это все мужчины». Не из Рогова, он вряд ли читал этого автора, просто подумалось: справедливо. У мужчин не жизнь, а вечный бой, покой им только снится, а в бою что делают? Разрушают и убивают, больше ничего!
После чтения в голове долго теснились странные образы, что означало: записки взволновали. Но не сильно продвинули в главном — он не получил «джокера», с которым можно выиграть партию. Может, разузнать что-то об этом корабле? Не фикция же он, Рогов действительно трудился в оборонной отрасли, а она никуда не делась, хоть и стала скромнее.
Здесь помог сориентироваться Пухов, в последние год-два освоивший оригинальный экскурсионный маршрут: он усаживал в ЗИМ иностранцев и возил их по заброшенным предприятиям оборонного комплекса. Кораблестроительные заводы тоже входили в маршрут; на одном из таких предприятий они вскоре и оказались.
Забрались в такой медвежий угол острова Голодай, где блистающему хромом «членовозу» было уже не проехать. ЗИМ встал перед огромной рытвиной в асфальте; справа серел полуразрушенный бетонный забор, слева текли воды замусоренного канала.
— Индастриал-туризм нынче популярен, — пояснил Пухов. — От таких мест иноземцы балдеют, это тебе не Эрмитаж. Привезу их на ЗИМе в такой анус — только треск фотоаппаратов стоит! А если на территорию попасть, память на всю жизнь останется! Ну, пошли?
Оставив машину, двинулись вдоль забора, чтобы вскоре оказаться перед лазом в рост человека.
— Прошу! — вытянул руку Пухов. Мятлин оглядел заводские корпуса из красного кирпича.
— Недавно я что-то похожее видел — на родине. В Пряжске такого добра завались, все заводы умерли. Может, туда возить твоих клиентов?
— Может, и туда. Здесь-то завод не умер, это просто старая территория. А на новой в режиме совершенной секретности по-прежнему что-то производят.
— А охраны здесь нет?
— Может, и есть. Но для охраны у меня припасено вот это.
Пухов вытащил из кармана бутылку коньяка.
— Действует безотказно. На крайний случай бабок дашь — и отстанут.
От корпусов тянулись мощные ржавые рельсы к Неве, куда, надо полагать, спускались изготовленные морские посудины. Перешагивая рельсы, они миновали один корпус, другой, после чего свернули к реке. Берег был усеян искореженным железом, остовами брошенных катеров и кораблей, так что Пухов даже присвистнул.
— Вот куда надо народ возить! Это ж такой индастриал, от которого кипятком будут писать!
Но если у приятеля был резон играть в «Сталкера», то Мятлин не видел в этом смысла. Как и в Пряжске, не отпускала мысль: что может родить этот склад металлолома?! А поскольку склад все-таки родил нечто особенное, опять накатывало чувство беспомощности.
— Идем дальше? — предложил Пухов. — Или достаточно?
В этот момент сзади прозвучало:
— Стоять на месте! Руки вверх!
Что-то в реплике было киношное, не всамделишное, и все же Мятлин поднял руки. То же, увидел он краем глаза, сделал приятель.
— Кто такие? Как сюда попали? Что делаете на территории?
Вопросы звучали отрывисто, жестко, вроде как начальник погранзаставы допрашивал нарушителей границы. Но, когда обернулись, вид «начальника» едва не заставил расхохотаться. Перед ними стояло, покачиваясь, пьяное существо с сизым носом, в рваной тельняшке с накинутым на плечи грязным бушлатом. Из оружия у существа имелся дрын, но, поскольку на него приходилось опираться, охранника можно было счесть безоружным.
— Мы на экскурсию, — ухмыляясь, проговорил Пухов. — А вы, наверное, экскурсовод?
— Я капитан-лейтенант Военно-морского флота! — заносчиво ответило существо.
— В отставке, надо полагать?
— Это роли не играет!
В воздухе заплясала бутылка с янтарным напитком.
— А это играет?
Физиономия экс-каплея тут же разгладилась, утратив напускную суровость.
— С этого бы и начинали… — пробурчал он. — Пошли в каптерку!
Каптеркой оказался вагончик, где сбоку от входа была пришпилена табличка с аббревиатурой НИИ «ЭРА». Войдя внутрь, они обнаружили лежанку, стол с грязной посудой, печку-буржуйку и кучу опорожненной стеклотары. Сдвинув посуду к краю стола, каплей выставил эмалированные кружки, но Пухов перевернул свою вверх дном, мол, за рулем.
— Тогда с тобой будем пить, — ткнули в грудь Мятлина. — Капитан-лейтенант Деркач в одиночку не потребляет, запомни!
Приняв на грудь, Деркач тут же разразился потоком матерной брани в адрес руководителей государства. Развалили, суки, отрасль, загубили флот, а ведь хотят иметь оборонный щит! Хотят понтиться перед супостатом, мол, тоже не лыком шиты! А на самом деле — шиты, потому что вместо щита теперь что?!
— Что вместо щита? — спросил Пухов, поскольку хозяин взял паузу.
— Жопа! Раньше тут такие корабли делали, а теперь… Слышали про «Кашалота»?
Мятлин вздрогнул.
— Так, краем уха… — пробормотал.
— Краем уха… Откуда слышать-то мог? Это ж секретный проект! А принимал «Кашалота», между прочим, капитан-лейтенант Деркач! Официальный военпред Министерства обороны! Так, за это нужно по пятьдесят…
Когда еще раз выпили, Мятлин понял: на коньяке для охраны приятель сэкономил. Но ради своего дела он готов был пить даже портвейн «777».
— Тогда был «Кашалот», а теперь что? Один смех! Вон там, за забором, клепают корабли этой серии…
Деркач указал в окошко на забор, отделявший новую заводскую территорию.
— А потом продают — кому бы вы думали? Грекам! Наши летающие корабли — грекам, чтобы они контрабандистов ловили в Эгейском море!
Деркач наклонился ближе, так что стали видны красноватые прожилки в глазах.
— Но это они думают, что корабли — той серии. На самом деле «Кашалот» был уникальным кораблем. У-ни-каль-ным! Такой был сделан в единственном экземпляре!
Мятлин сглотнул комок.
— А где теперь этот уникальный корабль? Где люди, которые его делали?
— Где, где… В Караганде! На базу ушел «Кашалот»! На секретную оборонную базу, что на далеком Севере. А люди… Люди тоже туда ушли — вначале. Но потом разбежались — кто куда. Я вот сюда, например, вернулся. Должен же кто-то охранять это место, правильно? Здесь ведь такие ребята работали… — он обвел рукой занюханную каптерку. — Такие дела делались… Эх, вам этого не понять!
— А Рогов здесь работал, не помните? Всеволод Рогов?
Деркач хмыкнул.
— Как же не помнить? Тоже уникальный был мужик. Электричества не чувствовал, представляете? Его даже 380 вольт не брало, вот такой он был! Ну и дока, конечно… Я их всех подлавливал на халтуре, и только у него система работала, как часы!
— А где он… Ну, сейчас?
— А хрен его знает. Но с такими мозгами и руками, думаю, не пропадет!
Когда добили коньяк, каплей присел у подоконника, взявшись перебирать стеклотару. Он разглядывал бутылки на просвет, встряхивал их, но внутренности были пусты, как пески Сахары.
— Сейчас, сейчас, где-то должно было остаться… — бормотал он. — Есть! Соточка всего, но тут уж извините!
На стол была торжественно водружена залапанная пальцами и обсиженная мухами бутылка, на дне которой плескалась какая-то жидкость.
— Что это? — осторожно поинтересовался Пухов.
— Шило! — был ответ. — Иначе говоря, напиток богов.
— Морских богов? — уточнил приятель.
— А каких еще? Не сухопутных же…
Пока Деркач разливал, тщательно выверяя пропорцию «фифти-фифти», Пухов быстро проговорил на ухо:
— Пить или не пить — дело твое, но мой ЗИМ — не реанимобиль, учти.
Мятлин все-таки решился, получив ожог гортани вместе с ощущением того, что в рот запихали жженую резину.
— А?! — требовал восхищения каплей. — Каково?! На таком горючем можно хоть к черту на рога!
— Можно… — кивал Мятлин, закусывая засохшей коркой. — А еще жертвы кораблю можно приносить, верно?
— Жертвы?!
Благостное выражение лица Деркача вдруг сменилось тревожным.
— Откуда знаешь? — спросил отрывисто.
— Я много чего знаю. Про белого мичмана, например…
— Вон оно как… — покачал тот головой. — А вы мне сразу показались подозрительными. Я как увидел вас, тут же подумал: не наши люди! С каким заданием явились?! Кто послал?! Как проникли на территорию?!
— Ну, понеслось… — протянул Пухов. — Але, гараж! Тебе же объяснили: экскурсанты мы! И ты нам, между прочим, экскурсию обещал провести!
— Молчать!
Кулак военпреда с грохотом опустился на стол. Бутылка с шилом подпрыгнула, но Деркач умело ее поймал, чтобы тут же вылить остатки в рот.
— Сидеть на месте! Я вызываю охрану!
— Может, «скорую» из психушки? — отозвался Пухов.
— Молчать!
Деркач очумело вращал глазами.
— За разглашение государственной тайны — к высшей мере! Оружие на изготовку… Пли!
— Надо же: попал! — потешался приятель. Мятлин же за курьезностью различал что-то жуткое и, как ни странно, связанное с тем, что вылезло из компьютера и начало разрушать жизнь…
Деркач потух так же быстро, как вспыхнул.
— А-а, к хренам все — знаете так знаете! Все равно того корабля уже нет. Ему не жалко было жертвы приносить, ясно вам? За ним такая силища стояла, такая мощь… Только вам, хлюпикам, этого не понять. Да и где теперь «Кашалот»? Был, да весь вышел!
— Не весь, — отозвался Мятлин, вставая. — Не весь вышел, в том-то и дело. Ладно, идем отсюда.
Странное ощущение преследовало потом несколько дней. Детские выдумки резонировали с записками Рогова, а они, в свою очередь, аукались с теми страхами, какие пробуждал неуправляемый компьютерный космос. Из какой зоны этого космоса прилетит зловещая Немезида, звезда смерти? Что за комету она пошлет, и останется ли что-нибудь после последнего удара?
Их разговор с Пуховым тоже был странным. Когда добрались до ЗИМа, он уселся в машину, но мотор заводить не спешил.
— Я, конечно, ничего не понимаю, но вижу: достала тебя жизнь. Чего ты ищешь в таких местах, если не секрет?
— Скелет в шкафу… — через силу усмехнулся Мятлин. — Правда, очень трудно искать скелет в темном шкафу, особенно если там его нет.
— Ну-ну, шутник. Тогда я тебе скажу, что тут ищут мои индастриал-туристы. Я думаю, им приятно видеть поражение цивилизации, в таком лунном пейзаже человеку кажется, что он — главный. Сильный, вечный, всепобеждающий, а тут — фуфло, мертвое железо. Но это иллюзия. Железо давно преобразовалось в такие формы, что нам его уже не понять. Вот мой «членовоз» мне понятен, я его своими руками до последнего винтика перебрал. И моя котельная мне понятна, и зачем она сделана — тоже. Но другие вещи мне совсем непонятны. Ведь этот алкаш в чем-то прав. Мы хлюпики, нам трудно восхититься чем-то нечеловеческим.
— И поэтому ты примкнул к луддитам?
Приятель удивился (а может, сделал вид).
— К каким луддитам?!
— К которым ездили вместе с Башкиром.
Пухов потрогал мятлинский лоб.
— Вроде не температуришь, а несешь такое… Ты поосторожнее с этим наркошей. Он, конечно, в компьютерах сечет, за что его и ценят. Но вообще-то Башкир — человек без башни.
— Хочешь сказать: мы к ним не ездили?!
— Хочу сказать, что курить надо в меру. Ладно, поехали из этих диких мест…
Удалившись из диких мест наяву, Мятлин вернулся к ним в очередном кошмаре.
Он стоял на пустынном скалистом берегу океана, кишевшего морскими хищниками. Кашалоты с косатками курсировали вдоль береговой линии, выпрыгивая из воды в надежде урвать добычу, что сбрасывали сверху. Две фигуры — белая и черная — время от времени швыряли со скалы в океан очередную жертву, делая это известным способом: раскачали за руки, за ноги, и — плюх несчастного в набежавшую волну! Дальше, понятно, начиналось такое, на фоне чего Тузик с грелкой выглядели невинной шалостью.
Приговоренные жались друг к дружке тут же, на скале. И среди них — Лариса! В обвислой балетной пачке, с почерневшим лицом, она умоляюще смотрела на него, мол, спаси! А как спасешь?! Он уже разглядел палачей, Черного мухобоя с Белым мичманом, а с этими ребятами не забалуешь. Чего доброго, и его схватят за руки, за ноги, чтобы бросить на съедение хищникам…
И тут откуда-то сверху, по скальным тропам спускается толпа с гаечными ключами и отвертками в руках. Ура, братья-луддиты! Подбадривая себя криками, они бросаются на черно-белую парочку, ожесточенно с ними дерутся, и тогда Мятлин тоже кидается в бой. Его цель — Лариса, которую надо вывести из пекла сражения любой ценой. Он продирается сквозь толпу, полные мольбы глаза все ближе, и тут ее хватает и утаскивает за собой человек в берете и с костылем!
Ах, вот как?! Вырвавшись из толпы, он преследует хромого, уверенный, что догонит. А тот удаляется! Непонятно, как тому удается так резво скакать по скалам, только расстояние между ними увеличивается, а значит, Ларису уведут навсегда!
— Эй, постойте! — кричит он. Но парочка скрывается за скальной грядой, а он в бессилии опускается на камень. На уступе по-прежнему продолжается тупая бессмысленная драка. Зачем борьба, если нет той, ради кого все затеяно, без кого жизнь утрачивает смысл?
Мятлин смотрит вниз, где в бурлящей воде мельтешат черные глянцевые спины китов. Потом встает, оправляет мятую одежду и приближается к краю обрыва. Обойдемся без Черного и Белого, так сказать, сами с усами. Он поднимает взгляд к небу, на котором ни облачка, и солнце сияет раскаленным медным тазом. Он смотрит, не мигая, на огненное сияние, пока не слепнет, и уже лишенный зрения, делает шаг в бездну…
10
Ответы на мучающие его вопросы были получены на улице Чайковского. Да, есть такой Борисыч из Ларочкиной лаборатории, всегда относившийся к ней по-особому. Возможно, питал чувства, хотя больше хвалил профессиональные достижения, ведь Ларочка была близка к серьезному открытию. К какому? Что-то с клеткой связанное, как она живет, точнее, возникает. В силу известных обстоятельств сенсации не состоялось, но Борисыч не забыл Светлану Никитичну и, несмотря на проблемы со здоровьем, иногда ее навещает.
— Чего же вы раньше об этом не говорили? — с обидой спросил Мятлин.
— А вы спрашивали? Возможно, он прав, вы оба чего-то не поняли. Да и я не сразу… Она тайну жизни хотела разгадать, а мы своим были озабочены, чем-то мелким, ничтожным…
Он не заметил былого радушия, когда его визита ждали, даже не хотели отпускать. А на улице вдруг возникло желание отписать Рогову, мол, зря стараешься, нас отправили в отставку, на посту у мавзолея уже некто третий. Не особо заслуженный, если не сказать — убогий, зато нашедший ключик к сердцу безутешной матери, так что отдыхай, второй Никола Тесла!
Но он ничего не написал. Во-первых, бессмысленно, во-вторых — куда? На деревню Рогоффу? А потом вообще увлекло другое — было получено неожиданное предложение поехать в Иерусалим.
— Надеюсь, на этот раз… — сказал директор.
— На этот раз — со всей душой! — заверил Мятлин. — Тема доклада — та же?
Он с радостью уцепился за предложение съездить туда, где в иссушенной земле пустыни пустили корни три цивилизации. «Приникать к корням» (с его-то мировоззрением!) было смешно, но лучше уж бродить по жаркому Израилю, чем лазить по надоевшей виртуальной вселенной. В первый раз за последние годы он не взял с собой ноутбук. Без него в поездках всегда было как-то неуютно, а тут оставил «ящичек Пандоры» с удовольствием, словно сбросил гору с плеч.
В Бен-Гурионе его встречал Марк, старый знакомый, давно звавший в гости. После объятий и хлопков по плечу приятели вышли к остановке, уселись в желтый автобус с мигалкой и минут десять куда-то ехали.
— Ты же сказал: на машине встретишь? — в недоумении спросил Мятлин. Марк рассмеялся.
— Так до машины еще добраться нужно! Видишь, сколько их?
За окном автобуса тянулись бесконечные ряды колесного железа: казалось, весь моторизованный Израиль выставил тут свои авто. Вот только владельцев видно не было. Отсвечивали на солнце лобовые стекла, сверкали хромированные бамперы, но люди исчезли, будто железные друзья их сожрали, а теперь нагло пялили фары, мол, мы тут главные! Мятлин настолько живо представил автомобиль, который чавкает капотом и урчит от жадности, перемалывая кости хозяина, что на секунду стало дурно.
— Эй, что с тобой?! — обеспокоился Марк. — Не перегрелся часом? У нас тут тридцать пять, не каждый выдерживает…
— Ничего, пройдет… — натянуто усмехнулся Мятлин.
В себя он пришел в старом городе, где поселился в одной из эконом-гостиниц неподалеку от Яффо. Стеснять приятеля не хотелось, да и свободнее одному, поэтому он бросил вещи в номере, переоделся сообразно погоде и вышел на прогулку. С жизнью, как ни странно, примирила грязь, каковую встретил в центре древнего города. Иерусалим явно отличался от вылизанных европейских городов: на тротуарах валялся мусор, помойные баки были переполнены, и по ним шныряли стаи бездомных кошек.
— А что ты хочешь? — растолковал на следующий день Марк. — Это же Азия! В Тель-Авиве, конечно, чище, но здесь азиатская гигиена, точнее, пофигистское к ней отношение.
После чего затащил Мятлина на Махане Иехуда, наверное, чтобы доказать сей тезис. Рынок не был грязным, но и гипермаркетом там не пахло — пахло чем-то другим. В нос бил аромат десятков специй, запах разнообразных фруктов, копченой рыбы, чесночной колбасы, короче, это был удар по обонянию, так что через полчаса нос уже отказывался быть полноценным органом чувств. И уши отказывались, потому что со всех сторон слышались пронзительные выкрики на иврите, арабском, даже русский зазывала прорезался на секунду, чтобы тут же пропасть в многоголосом гвалте. А глаза? Разноцветье даров природы, ярких одежд и лиц — от бледных до иссиня-черных — било по зрению, будто перед твоим взором быстро-быстро крутили калейдоскоп. «Хватит мельтешить, люди!» — хотелось крикнуть многотысячной толпе, что бродила вдоль сотен прилавков, пробовала еду на вкус и темпераментно торговалась. Но Мятлин не кричал, покорно следуя за Марком, который то и дело подтаскивал его к очередной вкусности.
— Вот этих вяленых фруктов попробуй! Попробуй, попробуй, у вас таких нет!
Он запускал руку в лоток, заставляя пробовать что-то, напоминающее красноватый изюм. Из другого лотка изымались на пробу вяленые персики, а спустя минуту перед носом уже маячило нечто оранжевое сверху, а внутри — белое. Называлось лакомство «кнафе», на вкус было приторным, но Мятлин безропотно глотал то, что предлагал Марк. Этот полноватый небритый брюнет всегда отличался неуемным жизнелюбием, местное торжище лишь проявило его исконное качество. Кипа постоянно сползала с чернявой макушки, Марк то и дело водружал ее обратно, глаза же по-прежнему горели нездоровым (или здоровым?) блеском.
— Хумус попробуй, этот хумус — зе бест! А от фалафеля отвернись. Отвернись, тебе говорю! Фалафель будем есть вечером, в одной арабской забегаловке. Там он тоже — зе бест и просто супер!
Откровенный гедонизм Марка, как ни странно, вполне сочетался с докторской диссертацией, защищенной еще в «совке», и с престижной работой в Иерусалимском университете. Еще он сочетался с тремя детьми и двумя женами, с каждой из которых Марк имел нежнейшие отношения. В каком-то смысле он был антиподом Мятлина, они являли собой яркий пример того, как сходятся противоположности.
От солнца, бившего в темечко, перед глазами шли радужные круги. Мятлин поискал глазами тент, и вдруг заметил стройную женщину в светлом брючном костюме — та стояла спиной, выбирая что-то на рыбном прилавке. Звуки и запахи тут же приглушились; и толпа вроде как поредела, осталась лишь незнакомка, что засовывала в пакет большого лосося…
Он устал от игр воображения (дежа вю!), и все же ноги сами зашагали вслед за той, кого видел лишь со спины. Главное, чтобы она не оборачивалась. Пока объект не показывал лица, игрок мог воображать что угодно, но поворот головы моментально все рушил. Забыв про палящее солнце, Мятлин двигался, как привязанный, в сторону Агрипас, пока на выходе с рынка его не нагнал Марк.
— Ты куда сбежал?! Смотрю: почесал куда-то, даже до свиданья не сказал!
Мятлин бросил взгляд в толпу, однако женщина уже исчезла.
— Мне что-то не очень… — облизнул он пересохшие губы. — Я, наверное, дома отдохну.
— Давай, отдохни. Твой симпозиум ведь только завтра начинается? Тогда вечером встретимся на Бецалель, посидим за бутылочкой.
И впрямь сделалось дурно, причем не только от жары. Он быстро наелся жизнью, оказавшейся очень острой и пряной, так что в горло это блюдо уже не лезло. Зачем эта прорва жратвы?! Зачем потная биомасса клубится в поисках хлеба насущного?! Рыночный организм вроде как исторгал из себя Мятлина, и тот заторопился в гостиницу, где полчаса, не меньше, стоял под холодным душем.
Вечером уселись на открытом воздухе. К заказанному фалафелю Марк присовокупил бутылку красного вина, прихваченного с собой. Открывать напиток тоже следовало самим, что для приятеля вроде труда не составляло.
— Ножичек из Углича!
Марк торжественно поднял над головой складной нож.
— Здесь такой штопор, скажу тебе… Сколько я им бутылок откупорил! И на первой родине, и на второй, и в странах, так сказать, третьего мира…
Он вкручивал штопор, готовясь произвести победный «шпок», но прозвучал короткий «хряск», ознаменовав поражение хвастуна.
— Н-да, подвел Углич… — пробормотал Марк, оглядывая торчавший из пробки стальной хвостик. — Теперь что ж? Будем открывать методом проталкивания…
Сходив к арабским хозяевам заведения, он вскоре вернулся с ножом в руке и принялся, пыхтя, заталкивать пробку внутрь бутылки. Однако застрявший штопор распер пробочное тело, и оно не желало даже с места сдвигаться. Марк напрягся до такой степени, что щеки сделались багровыми от напряжения, — и тут взметнулся фонтан! Мятлин успел уклониться от хлестнувшей из горлышка струи, у Марка же и белая рубашка, и кремовые брюки оказались в красных винных потеках.
— Твою маму… — изрек приятель, утирая кипой физиономию. Внезапно оба принялись хохотать. Они раскачивались в плетеных креслах, закатываясь от смеха; и за соседними столиками смеялись; и молодой араб, что принес фалафель, радостно скалил белые зубы, и было почему-то так хорошо, как давно не было.
— Почему мы не живем просто? — вопрошал приятель, разливая остатки. — Все время усложняем себе жизнь, громоздим одну проблему на другую… На тебя, к примеру, без слез не взглянешь, у тебя ж на лбу большими буквами написано: нервное расстройство!
— Ну, прямо…
— Только не спорь, хорошо? Ты вот завтра на своем симпозиуме наверняка будешь делать доклад о том, как левой пяткой чесать правое ухо. Ведь правда? Нынешний спец по изящной словесности — он же слова в простоте не скажет, обязательно кунштюк какой-нибудь придумает. А цена этим кунштюкам — полшекеля в базарный день! Мертвечина все это, понимаешь? Тридцать три фуэте — только не на сцене, а на кладбище! И не для людей, а для трупов, лежащих под могильными камнями!
Когда сбегали за второй, вдруг возникло желание обо всем рассказать. О Рогове, Ларисе, о его «вроде бы романе», где он тоже что-то чем-то чесал, не понимая, ради чего? Но Марк отвлекся на семейство хасидов, что возникло в двух шагах, но в другом кафе. Высоченный глава семейства в шляпе и лапсердаке рассаживал полдюжины детишек, одетых точно так же, даже у самых маленьких имелись и шляпы, и смешные белобрысые пейсы.
— Кошерное хавать пришли… — ухмыльнулся Марк. — Сюда, к арабам, они хрен зайдут — что ты! И обязательно всем кагалом выходят пропитание добывать, чтоб все видели — мы плодимся и размножаемся!
Уже привыкший лицезреть людей в черном, что попадались на каждом шагу, Мятлин пожал плечами.
— Пусть каждый делает, что считает нужным.
— Просто их слишком много стало: возле Яффо целый район появился, где одни эти живут. Если бы они работали — другое дело, но они ведь просто живут! И тупо плодятся! Мы работаем, платим налоги, а они на наши деньги размножаются! Ну, еще молятся, конечно, но профита от их молитв никто не подсчитывал…
Мятлин бросил взгляд туда, где глава семейства водил пальцем по меню и что-то быстро говорил официанту.
— А может… — неуверенно проговорил он. — Они что-то такое знают, чего не знаем мы? Может, их тупое, как ты говоришь, размножение — это голос жизни? Мы о ней забыли, перестали ее слышать, а они живут под ее диктовку?
Марк удивленно на него уставился.
— Тебе в ешиву пора поступать, — пробурчал он. — И пейсы отращивать. Хотя… — он задумался. — Может, ты и прав. Мы же действительно с жизнью давно не на «ты». Мы плохо понимаем: кто мы, откуда, зачем… Протезов себе наизобретали — что железных, что интеллектуальных, и радуемся, мол, очень крутыми стали! А на самом деле как были придурками, так ими и остались… Ладно, ле хаим!
Они опять пили, хасидские детишки испуганно пялились на Марка, чья рубашка алела красными пятнами, а тот оскаливал зубы, изображая вампира. Но даже в такой располагающей обстановке Мятлин не решился рассказать о своих проблемах. Это был его личный крест, который следовало нести до конца.
По дороге к отелю Марк почему-то вспомнил о его способности ассоциировать буквы и цвета.
— Помню, ты в универе хвастался, мол, каждая буква у тебя ассоциируется с цветом. «Ж» была зеленой, «Л» — желтой…
— Было дело. А чего ты об этом заговорил?
— Хочу тебя на другом алфавите проверить.
Подскочив к одной из вывесок, он ткнул в некий знак, напоминающий искаженный икс.
— Вот буква «алеф». Какого она цвета?
— Никакого.
— А вот эта буква — «нун»?
Но перед внутренним взором разворачивалась равномерно-серая панорама.
— У меня с этим проблемы… — запинаясь, проговорил Мятлин. — Раньше действительно была способность, особенно в детстве. А сейчас… Почти ничего не осталось.
Марк только головой крутанул. До гостиницы шли в молчании, лишь перед дверью приятель сказал:
— А мы действительно с жизнью не на «ты». Она нам что-то дает, запрятывает в нас необычное, а мы, бездарные, все профукиваем… Не обижайся только, я ведь и про себя тоже. Спокойной ночи.
Синестезия была забавой, в практической жизни абсолютно бесполезной. Однако утрата способности почему-то обеспокоила. Мятлин вообще побаивался слова утрата, это отзывалось внутри погребальным звоном, пробуждая волну протеста. Не хочу утрат; а если таковые произошли, хочу вернуть то, что потерял! Это детское чувство владело им в гостинице, на людной улице, даже во время симпозиума, где он без всякого энтузиазма отчитал свой доклад. Сославшись на плохое самочувствие, даже на вопросы отвечать не стал, по-тихому сбежав из аудитории.
После чего долго утюжил улицы Иерусалима, будто рассчитывал на помощь древних камней. Почему нет? Здесь произошло много такого, что выходит за рамки обыденности, позволяя даже детские мечты сделать реальностью. Вот утратили, к примеру, Христа, а он воскрес! И этого, как его… Ага, Лазаря — тоже вернули из небытия! Встань, мол, и иди, и ведь пошел! Не то, чтобы Мятлин с бухты-барахты обратился в веру, скорее, он подпитывался от чуждой традиции, чтобы решить свои проблемы. Какие? Он боялся себе в этом признаться, чтобы очередной товарищ не сказал: у тебя, Женя, на лбу большими буквами написано: психоз!
— Ты странный, — говорил Марк, когда на следующий день бродили по Масличной горе. — Тут интересно, конечно, но ты же Старый город еще не посмотрел!
Идею поехать сюда подал Мятлин, что в жару было, наверное, глупостью. Солнце опять нещадно било в темечко, и рубашка Марка, уже отстиранная, темнела пятнами пота.
— Посмотрю, успею… — бормотал Мятлин, останавливаясь у гробниц. Эти параллелепипеды, казалось, были сделаны из песка, ткни рукой — рассыплются. На ощупь, однако, они были очень твердые и прочные, так что у них имелся шанс дожить до Судного дня.
— А правда, что захороненные здесь воскреснут первыми? Ну, в тот самый день?
— Предание говорит так. Поэтому отдельные чудаки, чем-то похожие на тебя, скупают здесь участки для будущего захоронения. Недавно, говорят, одна ваша эстрадная примадонна участочек прикупила. Совсем у людей крышу сносит…
Марк зазывал в кафе, к кондиционеру и холодному пиву, Мятлин же с маниакальным упорством выискивал подтверждения тому, чем давно бредил. Его занятие и было тем самым «Встань и иди!», просто он боялся себе в этом признаться. А тут вдруг перестал бояться; а может, горячие древние камни поддержали, напитав записного скептика энергией заблуждения.
Прощаясь в аэропорту, Марк сказал:
— Похоже, ты не на симпозиум приезжал.
— Да? А куда же?
— Не куда, а для чего. Чтобы мысль разрешить, как писал классик. Сюда многие приезжают за этим, очень уж место располагающее. И тебе, судя по довольному виду, что-то там разрешить удалось. Я прав?
— Возможно, — уклончиво ответил Мятлин. — Ну, я пойду?
— Иди, иди, безумец…
11
Наверное, им и впрямь овладело безумие. Даже не отчитавшись за поездку, он оформил две недели без содержания, заперся в квартире и стал лихорадочно писать. Подробности выскакивали из анналов памяти, как готовые к употреблению полуфабрикаты, и тут же встраивались в текст. То была не работа художника, вдохновенно наносящего мазки на холст; скорее, это напоминало вышивание, когда портрет создается тысячами стежков. В итоге получается не Джоконда и не «Девочка с персиками», но тоже вполне убедительный портрет. Может, еще убедительней Джоконды, потому что соткан из множества деталей, взятых из реальности, а не выдуманных ради смутных целей творца. Какой скелет в шкафу?! Нам не нужны кости и череп, мы нарастим мясо, кожные покровы, сошьем кучу нарядов, и вот, извольте радоваться — перед вами вовсе не скелет! Такого и в шкафу держать совестно, хочется уже представить его Urbi et Orbi и кое-кому утереть нос.
Вынуть преображенный скелет Мятлин решился не сразу. По истечении двух недель он оформил больничный, чтобы дошлифовать внушительный текстовой массив, но пока боялся резать пуповину, зная, что отделившийся от автора текст делается чужим, как выросшее дитя. Ему же хотелось еще понянчиться с вербальным гомункулусом, который он породил. Для себя ведь породил, значит, можно вечно читать и перечитывать, погружаться в словесное море, где можно быть хоть косаткой, хоть осьминогом. Но хозяином-барином он оставался лишь до тех пор, пока созданное не прочтут чужие глаза.
Первым должен был прочесть Бытин, только стоила ли игра свеч? Заключить написанное в обложку, выпустить скромный тираж, устроить презентацию, организовать пару рецензий в СМИ… Подобная суета представлялась пошлой. Не для того он не спал ночами, залезая в потаенные уголки души, в запертые темные чуланы, чтобы вынуть оттуда на свет божий нечто забытое и дать ему вторую жизнь.
Его выход в Сеть напоминал выезд на поле сражения одинокого всадника, перед которым стоит целая рать. То был отчаянный прыжок в неизвестность, ва-банк, выразившийся в размещении на одном из ресурсов части написанного. Мятлин долго выбирал подходящий фрагмент, где имелись бы узнаваемые детали, забил его в буфер отправки и, поколебавшись минуту-другую, кликнул на «Разместить». После чего замер перед экраном, будто ожидал, что оттуда вылетит разряд молнии и его испепелит.
Спустя время пошли комменты, в основном недоуменные, мол, что это такое?! Автор явно профи, только повествование-то рассыпается, его просто нет! Изредка его хвалили, однако ни хула, ни хвала левых читателей Мятлина не волновали — не они были мишенью пущенной стрелы. На всякий случай Мятлин «наследил» на других ресурсах, подавая знак, мол, я здесь! Засек меня? Тогда насылай своих дурацких монстров, только учти — это будет тавтология. Лучше прочти, Рогов-Rogoff, мой месседж, а если уж не проймет, опять становись Тузиком, рвущим на части жесткие диски и прочую железную муру.
Реакции не было долго, Мятлин даже нервничать начал: может, к нему утратили интерес? Поиграли, да и бросили, занявшись чем-то другим? Но вскоре был получен файл под названием «Dance, dance, dance», давший понять: рыбка клюнула. Но как необычно клюнула! Всего Мятлин ожидал, а вот такого — нет!
Для подстраховки он либо убивал приходящие приложения, либо трижды прогонял через антивирус. Понимал, что для визави эти преграды преодолимы, и все же лучше следовать старой истине: береженого бог бережет. Файл со странным названием он тоже проверил на вшивость, после чего открыл, чтобы увидеть движущуюся картинку. Это был женский силуэт, который крутил фуэте. Абсолютно черный, без черт лица, силуэт, тем не менее, был довольно пластичен, а главное, казался на удивление знакомым. То есть не казался — он и был знакомым!
Мятлин долго ломал голову над тем, что же значило сие послание. Он ожидал очередной схватки, военных действий на виртуальном поле, а получил нечто такое, отчего защемило сердце. Ну, не верил он повелителю косаток, считал того холодным и расчетливым лукавцем, способным только сводить счеты и устраивать каверзы. При таком раскладе Мятлин выглядел на порядок благороднее и мог с полным правом начертать на своих знаменах: «Погибаю, но не сдаюсь!» Расклад, однако, оказался другим, и что теперь «чертать» на знаменах — было непонятно…
Второй выложенный фрагмент спровоцировал веер мнений от «Заткните графомана!» до «Аффтор, пиши исчо!» Но Мятлина интересовал личный диалог. Или, если угодно, дуэль, которая закончится непонятно чем.
В ответном послании силуэт сделался расцвеченным. Проявились тронутые загаром руки и шея, синяя майка с глубоким вырезом, короткая белая юбка, черные обтягивающие колготки и атласные балетки. Черты лица даже при увеличении смазывались, были смутными, однако никаких сомнений в том, кто послужил прототипом, не было. Мятлин отлично помнил выступление в Доме культуры ПЭМЗ, когда она танцевала свою балетную партию именно в таком костюме. Больше того — он подробно описал этот наряд, не упустив ни малейшей детали. Неужели Рогов использовал его текст?! Да как он смел, жалкий Самоделкин?!
Пока обдумывал язвительную отповедь, пришло изображение, где уже распознавалось лицо. Черты были взяты с фото школьного выпуска, в этом Мятлин был уверен. На той коллективной фотографии он стоял через две фигуры слева, а его соперник — правее, в верхнем ряду. Исходное изображение, правда, было черно-белым, здесь же лицо Ларисы оказалось приятно-смуглым, как в жизни. Что означало: память Рогова тоже работала идеально, это следовало признать.
А в следующем послании лицо начало жить! То улыбка на нем расцветала, то задумчивость проглядывала, то недовольство, когда брови сводились вместе (ее мимика!). Количество балетных «па» тоже возросло. Кроме фуэте исполнялись батманы, балерина садилась в плие, отводя руку в сторону, после чего усаживалась на пол, чтобы перевязать балетку. Поза была настолько знакомой, что Мятлин вздрогнул.
Сердце учащенно забилось, и он протянул руку за коньяком. Глоток, еще глоток, и вот уже пробуждается дух состязания — как выяснилось, они были даже сейчас готовы меряться, у кого длиннее. Когда Мятлин выложил фрагмент, где живописались интимные подробности, завсегдатаи чата зашевелились: мол, круто! Не сопли надо жевать, а давать клевое порно! Пиши исчо! Ответ Керзону: балерина снимает с себя юбку, колготки, оставаясь, в чем мать родила. Вроде как трехмерная, фигура поворачивалась, так что сзади делалась заметной родинка на пояснице. Это овальное пятнышко Мятлин не раз целовал, но ведь и Рогов, гад такой, наверняка делал то же самое!
Он нутром почуял грань фола: дуэль не предназначалась для других, была их личным делом. И тут (счастье!) — звонок Бытина.
— Привет, старичок. Как ты? На больничном?! Тогда лечись… Вылечишься — неси свой опус, начнем предпечатную подготовку. Только в Инете не выставляй целиком, хорошо?
— А ты откуда знаешь, что я выставляю?
— Так тоже шарю иногда в Сети. Кусочек показать — это вроде реклама. Но если целиком — какой резон дублировать? И так на хит продаж не тянет, а если еще скачать можно будет…
Просьба оказалась кстати. Прервав публикацию, Мятлин и издателю услугу оказывал, и риск скатиться в порнописаки ликвидировал.
Дуэль продолжилась в личном обмене посланиями. Один создавал паутину из слов, живописал предмет средствами языка, другой задействовал программы, позволяющие изображению ожить. Две стихии устремлялись навстречу друг другу, и уже было не разобрать — конкурируют ли они, работают ли в унисон… Дай волю, они бы до бесконечности лили друг на друга слова и компьютерные картинки. Но вот уже отправлен финальный фрагмент и получено встречное послание, где фигура, давно жившая своей жизнью, вдруг заговорила. Сымитированный непонятным способом голос (тембр был резковатый, как в подростковом возрасте) произносил два имени: «Женя» и «Сева», и эта деталь завершила создание образа. Иллюзия жизни получилась полная, так что пора было, наверное, ломать шпагу — проигрывать надо с достоинством.
Только чутье подсказывало: в этой игре победителей нет, любая победа — пиррова. Соперник (собрат по несчастью?) думал, вероятно, схожим образом, иначе имя произносили бы одно, и понятно — чье.
Мятлину вдруг сделалось тоскливо, он бы страшно огорчился, если бы Рогов исчез из сетевого эфира, посчитав, что дело сделано. Или то был испуг? Оставаться один на один с тем, что они натворили — было жутковато: иллюзия начинала казаться чем-то более ужасным, чем сама смерть!
Повисла пауза, вроде как дуэлянты переводили дух, оглядывая поле сражения. Они уже забыли, с чего пошла кутерьма, зачем дрались, а главное — дальше-то что?!
Дальше был вопрос:
«Давно был на ее могиле?»
Ответ:
«Давно».
Вопрос:
«Почему? Ты же близко…»
Ответ:
«Ты тоже близко. Во всяком случае, мне так кажется».
Опять пауза, и вновь реплика:
«Когда пойдешь к ней, отнеси на могилу цветы».
«Конечно, отнесу».
«Только не розы и не гвоздики — нужно достать особенные цветы».
«Я даже помню, как они называются».
«И как же?»
«Орхидея-фаленопсис».
Пауза.
«Я тоже помню».
Впоследствии Мятлин удивлялся абсурдному порыву, когда с обеих сторон прорвало плотины, и в образовавшиеся прорехи устремилось то, что ранее тщательно скрывалось. Рогов действительно едва не погиб на своем корабле, но работать дальше на оборону не стал — как и многие светлые головы, эмигрировал. Теперь работал в известной информационной компании, имел кучу денег и двухэтажный дом, напичканный электроникой до такой степени, что домработница не нужна. И жена не нужна, только по иной причине. Он пробовал жить с одной ирландкой, но не срослось. Попробовал с русской, с которой вместе работали — тоже не получилось, а тогда и стараться нет смысла. Он имеет возможность работать столько, сколько душе угодно и когда угодно — даже ночью. Что они иногда и делают с вьетнамским приятелем Кыонгом. Когда-то судьба свела их в советском Таллине, а спустя годы они встретились в Силиконовой долине, что не удивительно. В свое время, болтаясь в холодном море, они мечтали о некой Базе, где могли бы спокойно, отрешившись от нужд скучной жизни, заниматься созданием невиданных конструкций. Так вот База нашлась, и конструкции здесь создаются просто фантастические. Их создают индусы, русские, китайцы, вьетнамцы, жители Штатов и Старого Света и, похоже, чувствуют себя едва ли не солью земли.
Но почему-то иногда накатывает тоска. И хочется улететь в забытый богом городишко, где был завод, карьер и бронированная машина, что ползла по барханам, чтобы плюхнуться в озеро. Где были поломанные часы, что чинились на раз, и мотоциклы, на которых гонял со страшной силой… Нет, мотоцикл есть и сейчас, чоппер «Suzuki boulevard», на нем 250 выжимаешь за полминуты! Но не хочется выжимать, потому что некого сажать на заднее сиденье. Да и не хочется никого сажать.
Поддавшись наваждению, Мятлин тоже писал о брошенных женах, холостяцкой квартире, надоевших поездках за рубеж, о Пряжске, о Клыпе, о встрече с военпредом Деркачом, даже о тетрадке, которую хитростью выцыганили у матушки Рогова. А в финале пространного пассажа зачем-то написал о том, что утратил способность к синестезии.
«Способность к чему?» — попросили уточнить. В другое время Мятлин съехидничал бы, но тут терпеливо разъяснил особенности феномена.
«Понятно, — откликнулся визави. — Я тоже кое-что утратил».
«Ну да? Судя по твоим картинкам, ты только приобретаешь, а не утрачиваешь!» (не удержался-таки от иронии).
«Я теперь уязвим для электричества. Удивительно: в Штатах даже напряжение в два раза меньше — 110 вольт. Но меня недавно так тряхнуло, когда в блок питания полез… Как думаешь, что это значит?»
Мятлин задумался, отстучал:
«Один мой друг сказал: нас наказывает жизнь. Она что-то нам дает, но мы не можем понять — зачем? А если дар не используют, его лучше забрать назад».
Мировая паутина дрожала от напряжения, связывая миллиарды людей, и одной из бесчисленных связей была нить, соединявшая два одиночества, что неожиданно слиплись и боятся отлипать. На время они забыли о том, что были участниками матча с невероятным количеством раундов, и жажду того, чтобы судья встал между ними и поднял руку победителю. Увы, судьи вообще не было. И зрителей в зале не было, их окружала пустота, и тут, хочешь не хочешь, а приходится наводить мосты.
Их лихорадочное замирение напомнило сцену, когда Мышкин с Рогожиным, наконец, успокаиваются возле тела мертвой Настасьи Филипповны. Только покой был иллюзорным: когда лихорадка прошла, желание общаться испарилось. Вскоре Мятлин даже убил адрес на gmail, дававший возможность мгновенного контакта с бывшим (бывшим ли?) соперником.
Несомненно было одно: ушло что-то важное, придававшее жизни если не смысл, то хотя бы видимость смысла. Так бывает, если вынуть краеугольный камень из строения: оно может простоять какое-то время, но потом непременно обрушится, превратившись в груду битых кирпичей. А поскольку грудой становиться не хотелось, нужно было сделать еще шаг. Вот только какой?
Между тем подкатила зима, закружили вьюги, а свободные дни заканчивались. Не желавший выходить на работу Мятлин тупо глядел в окно, за которым на карнизе скопился небольшой сугроб, и размышлял о смысле слов «дни без содержания». С бюрократической точки зрения все было понятно, а с общечеловеческой? Дни без содержания — это же большинство дней нашего бренного существования! Кажется, еще вчера содержание было, жизнь чем-то наполнялась, и вот — дырка в бурдюке твоего личного бытия, и содержание неумолимо из него утекает…
За пару дней до выхода на службу он оторвал себя от кресла и, тепло одевшись, вышел на холод. Ехать пришлось далековато, на Тихорецкий, где возле трамвайного кольца высился комплекс современных зданий с небольшой пристройкой справа. В пристройку, где располагалась цитологическая лаборатория, он и направился.
Взбежав по ступеням, долго нажимал кнопку звонка, не понимая: звонит ли тот вообще? Но спустя минут пять лязгнула щеколда, большая металлическая дверь приоткрылась, и на пороге возникло существо женского рода, в облезлой шубе и вязаной шапочке.
— Чего надо? — недовольно спросило существо. — Вход в институт — через центральную проходную!
— Извините, я привык здесь…
— Мало ли, к чему вы привыкли!
Когда собрались хлопнуть дверью, Мятлин подставил ногу.
— Мне нужен Вольский, — проговорил он быстро.
— Артем Борисыч, что ли? — пробурчала привратница.
— Именно он. Он сам меня пригласил, и сказал, чтобы я входил через эту дверь!
— Тогда заходи, что ли…
Помещение было поделено на нижнюю часть и что-то типа антресоли, куда вела железная лестница. Он был здесь так давно, что не помнил — была антресоль или появилась годы спустя. Да и не интересовало его тогда устройство лаборатории, где коллектив фанатиков влезал в тайны «ее величества клетки». Так выражалась Лариса, пытавшаяся внедрить в мятлинскую башку азы цитологии, которую она же именовала «виталогией». Дескать, тайна жизни гнездится именно там, в крохотной клетке, в ее загадочной плазме, вот только не дается тайна уму человеческому. Мятлин же скептически усмехался и норовил побыстрее утащить искательницу жизненных тайн на очередную тусовку…
Сняв пальто, он тут же пожалел: в лаборатории царил дубак (потому и шуба с шапкой!).
— Вам туда! — ткнули пальцем на антресоль. Наверху было чуть теплее, но Мятлин все-таки накинул пальто и двинулся вперед, озирая закутки за шкафами. Людей почти не было, похоже, нынешняя коммерческая волна накрыла и похоронила тех, кто докапывался до природных глубин. Главная тайна жизни, по нынешним меркам, это умение извлекать бабло, а такую задачку может решить и тот, кто не отягощен интеллектом.
— Вы?! — возглас издал хромец Вольский, выглянувший из-за очередного шкафа. — А что вы тут… Хотя понятно.
Он нервно натянул куртку с капюшоном и, прихрамывая, зашагал к лестнице, похоже, намереваясь сбежать. Мятлин двинулся следом.
— Что вам понятно?
— Все!
— А мне вот не все, поэтому я и пришел…
— А я ухожу!
Пришлось крепко прихватить его за локоть и даже встряхнуть.
— Хватит ребячиться! Мне действительно надо с вами поговорить.
Спустя час склянка со спиртом, выставленная Вольским, была ополовинена, а они так и не сказали главного. Или главное им было неизвестно?
— Я про вас обоих знал, — говорил хромец. — И обоих не любил. То есть это мягко сказано, я вас просто терпеть не мог! Но она не только вас терпела, а еще и любила!
— Двоих сразу? — усмехался Мятлин.
— Представьте: двоих! Хотя каждый из вас считал, что настоящее чувство подарено только ему, и никому другому! А на самом деле вы оба… Знаете, что такое раковая клетка?
— В общем и целом.
— Такая клетка активна, даже гиперактивна. Несведущий человек, глядя на ее интенсивное деление, подумает: это жизнь! А ведь это смерть, вот в чем дело!
В стаканы очередной раз плеснули ректификата.
— Я не слишком резок? Ну, вы же хотели поговорить — так слушайте правду! В общем, мы тогда работали, как проклятые, нам казалось: еще чуть-чуть, и мы схватим тайну образования живой материи за хвост! Выявим ту витальную энергию, что движет и плесенью, и зябликом каким-нибудь, и хомо сапиенсом. А ближе всех к этой тайне подошла она, это абсолютно точно. Знаете, почему?
— Почему? — с напряжением спросил Мятлин.
— Потому что сама была олицетворением жизни. Она в себе эту тайну воплощала, ясно вам? Только разве вы такое поймете…
Он пропустил мимо ушей обидную реплику. Почему-то перед глазами встали река, пляж и Лариса, купавшаяся с каким-то танцором. Помнилось, она вышла на берег, отжала волосы, встряхнула ими, обдав напарника брызгами, и засмеялась. Она стояла у кромки воды, загорелая, покрытая каплями воды, и смеялась, запрокидывая голову. А затем вдруг встала на полупальцы и крутанула фуэте; и хотя влажный песок под ногами исключал совершенство исполнения, кто-то из пляжников даже зааплодировал. А Мятлин ею залюбовался. Почему-то исчезла ревность к танцору, который терся вокруг нее, осталось лишь чистое наслаждение от того, что она — такая. Можно было вечно смотреть на загорелое тело, мокрые волосы, счастливую улыбку и мечтать о том, чтобы это никогда не исчезало…
— Вы, наверное, правы… — пробормотал он, отгоняя внезапно нахлынувшую грезу. — А есть у вас… Ну, куда диск вставить?
— Диск?!
— Компьютерный.
Мятлин вынул диск из кармана, протянул Вольскому. Тот с недоумением воззрился на непонятный предмет (на фига козе баян!), потом взял его и полез куда-то под стол, где виднелся облезлый системный блок.
Экран вспыхнул, началась загрузка, и вот уже выпрыгнула иконка с подписью: «Песни китов».
— Можно, я включу?
Пожав плечами, Вольский поднялся, уступая место у стола. Мятлин пересел, нашел нужную дорожку, и вскоре своды лаборатории огласили странные звуки. Они выплывали из загадочных океанских глубин, протяжные, мелодичные, говорящие — о чем? Может, так переговаривались отдельные особи, отплыв друг от друга на изрядное расстояние; а может, то давала о себе знать живая первоматерия, зародившаяся именно в океане. Мятлину, во всяком случае, хотелось думать так. Звуки несли какой-то таинственный код, были шифрограммой, и очень удивляло, что вооруженное технологиями и философиями человечество до сих пор не изволило сей шифр разгадать. Вот сидят двое у монитора, слушают с тупым видом, но слышат ли?
Вскоре к двум слушателям присоединилась третья, в лыжной шапочке. Показавшись из-за шкафа, она уселась рядом, толкнула Вольского.
— Борисыч, это ж Ларкины киты! Помнишь?
— Помню… — хрипло произнес хромец.
— Она еще на магнитофонных бобинах приносила эти записи, они у меня в шкафу лежали несколько лет, потом пропали куда-то. Да и Ларочка наша… Сколько времени прошло, а я ее забыть не могу!
В огромные окна лаборатории злая питерская зима пригоршнями швыряла снег. Люди смотрели на стекла, изукрашенные витиеватыми морозными узорами, кутались в пальто и шубы, а звуки баюкали, погружали в задумчивость, наверное, даже примиряли…
И пусть расстались прохладно, Мятлин чувствовал: поездка не напрасна. Прошедший день не был днем без содержания (скорее, наоборот), вот только содержание это пока не формулировалось. Да и нужна ли была формулировка? Мятлин выходил на улицу, слышал скрип снега под ногами, смотрел на замерзшую Неву, и среди этой ледяной реальности выискивал какие-то мелочи: скачущую по снегу синицу, зеленоватую траву на проталине, идущего навстречу холодному ветру человека… Банальные вещи, которые почему-то обретали большой смысл. Будь рядом Лариса, он бы смог рассказать о том, что чувствует; а если не смог бы — его бы все равно поняли.
12
Огромный желтый экскаватор высился посреди площади и медленно вращался. То есть гусеницы стояли на месте — круговое движение совершал корпус с вытянутым вперед железным ковшом. Зубья ковша двигались по окружности, скользя в нескольких метрах от публики, что отодвинулась на безопасное расстояние; лишь один безумец, в джинсах, белой рубашке и босой, находился на линии вращения. Он хватался иногда за ковш, повисал на нем и, замерев в экспрессивной позе, летел по кругу над землей. Менял позу, повисая так, чтобы семенить по брусчатке, потом подпрыгивал и, забравшись в ковш, сворачивался там калачиком. В сущности, это был танец человека и машины. Могучий механизм, который мог бы запросто размозжить стальными зубьями голову безумца, выступал тут партнером в танце. Иногда человек отрывался от ковша, падал на брусчатку, корчился, и вдруг — очередной прыжок, и он опять оседлал машину. Потом делает стойку на руках, и экскаватор несет над толпой вытянутое свечкой тело…
— Симбиоз возможен, — проговорил кто-то над ухом Мятлина.
— Думаете? — усомнился он.
— Уверен. Да ты сейчас в этом убедишься!
С этими словами Мятлина вытолкнули из толпы туда, где мелькали зубья.
— Почему я?! Я не готов к симбиозу!
Но его подталкивали в спину, не пуская обратно, так что ковш с танцором возник прямо перед носом. Мятлин оглянулся и, по счастью, заметил просвет в плотном ряду людей, что с азартом за ним наблюдали. Он юркнул в дыру между человеческими телами, прошил толпу, как иголка ситец, а экскаватор — следом! А это все-таки машина, попробуй погоняйся!
Мятлин мчался во весь дух, только желтый монстр не отставал. Поворот, еще поворот, а экскаватор по-прежнему катит на своих гусеницах с человеком в ковше. Эх ты, человек! Продался машине, подчинился ей, даже собрата готов раздавить-размозжить!
Внезапно Мятлин оказался в тупике. Обернувшись, он прижался спиной к кирпичной стене: что ж, встретим конец достойно, лицом к лицу с монстром. Когда ковш завис почти перед носом, внутри оказался Вольский (ну и ну!), который раскрыл книгу, чтобы прочесть вслух:
— Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я медь звенящая или кимвал звучащий!
— К чему это вы? — нервно спросил Мятлин.
— К тому, что вы оба кое-чего не поняли. А она поняла. Ты хоть сейчас это пойми, ладно? И сопернику своему передай, он ведь такой же упертый, как ты.
Почему-то осознание того, что избежал гибели, не грело. Наоборот, накатывала тоска, а экскаватор таял, растворялся в воздухе, и хромец с книгой растворялся, и расспросить обо всем было некого…
Пробудившись, он не сразу понял, откуда взялось странное видение. Лишь потом вспомнилось: Париж, площадь Ля Конкорд, и безумный француз, что устраивал это магическое шоу с экскаватором. Мятлина тогда поразил танец с машиной, хотя послания к Коринфянам, конечно, никто не цитировал. «Если любви не имею, то я кимвал звучащий…» Он умывался, заваривал кофе, а слова, которые выплыли откуда-то из глубин сознания, все отдавались эхом в голове…
День вообще предстоял странный: нужно было отправиться за город, чтобы обернуться до темноты. Потеплее одевшись, Мятлин вначале заехал в цветочный питомник, где у него был оформлен заказ, потом направился на Финляндский вокзал. Несколько остановок на электричке, заледеневшая платформа, и вот уже ворота Северного кладбища, перед которыми притопывают на морозе торговки искусственными цветами.
— Купи букетик!
Рыжеволосая деваха в красном пуховике протягивала букет искусственных хризантем.
— Спасибо, у меня есть… — пробормотал Мятлин, у которого под пальто согревался прозрачный пластиковый куб с горшочком внутри.
— Да где ж есть?! Без цветов на могилку идти — не по-человечески!
Когда он вынул из-под пальто куб, деваха с удивлением на него воззрилась.
— И что же это такое?!
— Орхидея-фаленопсис, — усмехнулся Мятлин.
— А-а… — она махнула рукой. — Замерзнет твоя орхидея! Через пару часов загнется на таком морозе!
— Зато она живая, — сказал он, пряча цветок.
— Не тот народ сегодня, — отозвалась пожилая торговка, закутанная в пуховую шаль. — Одного окликнула, так он шуганулся от меня, как черт от ладана! В воскресенье нормальная родня приедет, те сразу все раскупят!
Вежливо пожав плечами, Мятлин направился к воротам. Дорога предстояла длинная, это же целый город мертвых, убегающий за горизонт. Мятлин прошел до десятой по счету линейки, свернул и с полкилометра тащился по узкой протоптанной тропке. Иногда он поглядывал влево и вправо, дежурно прочитывая надписи на невысоких серых и черных стелах. «Мы тебя никогда не забудем — среди нас ты остался живым…» «Неизлечима боль разлуки. Разлуки той, что навсегда…» «Когда тело во прах превратится навек…» Эти немудрящие строчки вгоняли в тоску своей банальностью, если не сказать — пошлостью. Мятлин всю жизнь посвятил словесным конструкциям, выискивая подтексты и дешифруя темные места, а итог любой жизни, оказывается — вульгарный слоган, выбитый мастером из бюро ритуальных услуг. Можно, конечно, завещать, чтобы твое надгробие украшал глубокомысленный афоризм, но это выглядело бы не менее пошло…
Вдалеке были заметны движущиеся черные фигурки — по городу мертвых перемещались такие же, как Мятлин, живые. Их было немного (холодно!), когда же в воздухе закружила снежная взвесь, фигурки и вовсе пропали. По счастью, до синего контейнера, служившего ориентиром, было уже рукой подать.
Контейнер оказался наполовину коричневым — краска облупилась, и железная подложка неумолимо ржавела. Теперь направо, пройти две линии, а дальше еще ориентир — памятник военному, чей портрет в форме красовался на черном мраморе. Вот он, полковник Быков Федор Иванович. «Ты родине служил, семью свою любил…» Отметив маршевый ритм, что для военного было нормально, Мятлин двинулся между рядами могил. Снежная пыль вихрилась в воздухе, закрывая окоем белой пеленой. Неподалеку, через одну-две линии, показалась фигура очередного живого, чтобы тут же исчезнуть. Или фигуры не было? Окрестности сделались зыбкими, нечеткими, и кладбище наполнялось странными тенями…
Добравшись до цели, он вытащил орхидею. Снег залепил очки, Мятлин протер их, чтобы оторопеть: надгробие украшал такой же куб! Кто его принес?! И хотя ответов предполагалось множество, верным следовало считать понятно, какой. Поставили куб недавно, его даже не запорошило, и стоило немалых трудов выдержать положенный ритуал: обнажение головы, свечка, замерзшие пальцы, что с трудом справились с зажигалкой и т. д. Выходит, фигура все-таки была, они лишь чудом не столкнулись нос к носу.
Она бы простила его, буквально сбежавшего с могилы: жители города мертвых подождут, а они ждать не могут! Мятлин спешил, проваливаясь в сугробы и с трудом находя ориентиры. Смутный силуэт контейнера, памятники, поменявшие обличье, и те же повороты. Или другие? Он должен отсюда выбраться, должен найти выход!
Входная арка выплыла из пелены белым полукружьем. Под аркой стоял человек в куртке с капюшоном, прикуривал. Чуть в стороне суетились торговки, прикрывали целлофаном товар; кое-кто, собрав цветы в охапку, направлялся к платформе. Человек тоже двинулся туда, затем обернулся — и застыл.
Мятлин остановил бег, чувствуя, как колотится сердце. Снег смазывал черты лица, но сомнений в том, что перед ним Рогов, не осталось. Признал ли его вечный соперник? Неизвестно, он просто стоял и смотрел. И Мятлин смотрел, не решаясь сделать последние шаги. Снег кружил в сером небе, засыпая могильные плиты, дорожки, промерзшие клумбы, лишь два теплых сгустка материи оставались живыми в этом ледяном мире…
Санкт-Петербург 2012-2013
Примечания
1
СНО — студенческое научное общество (примеч. ред.).
(обратно)2
РЛС — радиолокационная станция (примеч. ред.).
(обратно)3
РБУ — ракетно-бомбометная установка.
(обратно)4
Боевая часть.
(обратно)5
Сие романтическое словцо расшифровывалось вполне тривиально: ликер, вино, коньяк.
(обратно)6
Мы погибнем! (англ.).
(обратно)

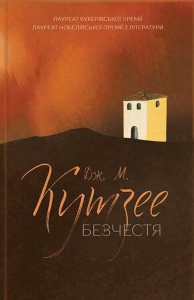

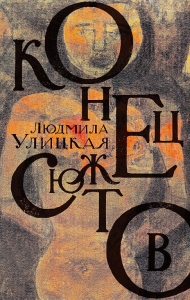



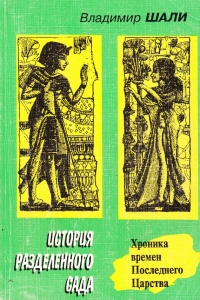



Комментарии к книге «Песни китов», Владимир Михайлович Шпаков
Всего 0 комментариев